Оноре де Бальзак Сочинения
Фачино Кане
Я жил тогда на маленькой улице, вряд ли известной вам, – улице Ледигьер; она начинается от улицы Сент-Антуан, против фонтана, что неподалеку от площади Бастилии, и примыкает к улице Серизе. Любовь к науке загнала меня в мансарду, где я занимался по ночам, – дни я проводил в соседней Королевской библиотеке. Я соблюдал строгую воздержанность; добровольно подчиняясь уставу монашеской жизни, столь необходимой для труженика, я лишь изредка в погожие дни позволял себе недолгую прогулку по бульвару Бурдон. Одна-единственная страсть порою отвлекала меня от усидчивых занятий, но, впрочем, и она была вызвана жаждой познания. Я любил наблюдать жителей предместья, их нравы и характеры. Одетый так же плохо, как и рабочие, равнодушный к внешнему лоску, я не вызывал в них отчужденности; я мог, затесавшись в какую-нибудь кучку людей, следить за тем, как они нанимаются на работу, как они спорят между собой, когда трудовой день кончен. Моя наблюдательность приобрела остроту инстинкта: не пренебрегая телесным обликом, она разгадывала душу – вернее сказать, она так метко схватывала внешность человека, что тотчас проникала и в его внутренний мир; она позволяла мне жить жизнью того, на кого была обращена, ибо наделяла меня способностью отождествлять с ним себя самого, так же как дервиш из «Тысячи и одной ночи» принимал образ и подобие тех, над кем произносил заклинания.
Когда, бывало, в двенадцатом часу ночи мне встречался рабочий, возвращавшийся с женой из «Амбигюкомик», я с увлечением провожал их от бульвара Понт-о-Шу до бульвара Бомарше. Сначала эти простые люди говорили о пьесе, которую только что видели, а затем, постепенно, переходили к своим житейским делам; иногда мать тащила за руку ребенка, не слушая ни его жалоб, ни его просьб; супруги подсчитывали, сколько денег им следует получить на другой день, и заранее – то так, то этак – распределяли их на свои нужды. Все это сопровождалось подробностями домашнего быта, жалобами на непомерную дороговизну картофеля, на то, что зима нынче такая долгая, что торф все дорожает, резкими напоминаниями о том, что столько-то задолжали булочнику; в конце концов разгорался спор – и не на шутку; каждый из супругов проявлял свой характер в красочных выражениях. Слушая этих людей, я приобщался к их жизни; я ощущал их лохмотья на своей спине; я сам шагал в их рваных башмаках; их желания, их потребности – все передавалось моей душе, или, вернее, я проникал душою в их душу. То был сон наяву. Вместе с ними я негодовал против хозяев, которые их угнетали, против бессовестных заказчиков, которые не платили за работу и заставляли понапрасну обивать пороги. Отрешаться от своих привычек, в каком-то душевном опьянении преображаться в других людей, играть в эту игру по своей прихоти было моим единственным развлечением. Откуда у меня такой дар? Что это – ясновидение? Одно их тех свойств, злоупотребление которыми может привести к безумию? Я никогда не пытался определить источник этой способности; я обладаю ею и применяю ее – вот и все. Вам достаточно знать, что уже в ту пору я расчленил многоликую массу, именуемую народом, на составные части и исследовал ее так тщательно, что мог оценить все ее хорошие и дурные свойства. Я уже знал, какие богатые возможности таит в себе это предместье, этот рассадник революций, выращивающий героев, изобретателей-самоучек, мошенников, злодеев, людей добродетельных и людей порочных – и все они принижены бедностью, подавлены нуждой, одурманены пьянством, отравлены крепкими напитками. Вы не можете представить себе, сколько неведомых приключений, сколько забытых драм в этом городе скорби! Сколько страшных и прекрасных событий! Воображение не способно угнаться за той жизненной правдой, которая здесь сокрыта, доискаться ее никому не под силу; ведь нужно спуститься слишком низко, чтобы напасть на эти изумительные сцены, трагические или комические, на эти чудеснейшие творения случая. Право, не знаю, почему я так долго таил про себя историю, которую сейчас изложу вам, – она входит в число диковинных рассказов, хранящихся в том мешке, откуда причуды памяти извлекают их, словно лотерейные номера; у меня еще много таких рассказов, столь же необычайных, как этот, столь же тщательно запрятанных; но, верьте мне, их черед тоже настанет.
Однажды женщина, приходившая ко мне для домашних, услуг, жена рабочего, попросила меня почтить своим присутствием свадьбу ее сестры. Чтобы вы поняли, какова могла быть эта свадьба, нужно вам сказать, что я платил два франка в месяц этой бедняжке, которая приходила каждое утро оправлять мою постель, чистить платье и башмаки, убирать комнату и готовить завтрак; остальную часть дня она вертела рукоять какой-то машины и за эту тяжелую работу получала полфранка в день. Ее муж, столяр-краснодеревщик, зарабатывал в день четыре франка. Но они едва перебивались своим честным трудом, так как у них было трое детей. Я никогда не встречал людей более порядочных, чем эти супруги. Когда я переехал в другую часть города, тетушка Вайян в продолжение пяти лет приходила поздравлять меня с именинами и всякий раз дарила мне букет цветов и апельсины, – а ведь у нее никогда не водилось лишних десяти су! Нужда сблизила нас. Я мог отдарить ее только десятью франками, которые мне иной раз приходилось занимать ради этого случая. Отсюда понятно, почему я обещал прийти на свадьбу, – мне хотелось приобщиться к радости этих бедных людей.
Празднество, ужин – все происходило у трактирщика на улице Шарантон, в просторной комнате второго этажа, освещенной лампами с жестяными рефлекторами, понизу оклеенной до половины человеческого роста засаленными обоями; вдоль стен были расставлены деревянные скамьи. В этой комнате человек восемьдесят, принаряженные по-воскресному, украшенные букетами и лентами, с раскрасневшимися лицами, плясали, одержимые духом народных гуляний, – плясали так, словно наступало светопреставление. Новобрачные, ко всеобщему удовольствию, то и дело целовались под возгласы: «Так, так! Славно, славно!» – возгласы игривые, но, бесспорно, менее непристойные, чем бывает брошенный украдкой взгляд иной благовоспитанной девицы. Весь этот люд выражал грубую радость, обладавшую свойством передаваться другим.
Но ни расположение духа собравшихся, ни само празднество – ничто из всего этого не имеет прямого отношения к моему рассказу. Запомните только причудливую рамку: представьте себе как можно отчетливее плохонькое, выкрашенное в красный цвет помещение, ощутите запах вина, прислушайтесь к этим радостным крикам, сроднитесь с этим предместьем, с этими рабочими, стариками, жалкими женщинами, которые на одну ночь всецело отдались веселью!
Оркестр составляли три слепца из «Приюта трехсот». Первый был скрипач, второй – кларнетист, третий играл на флажолете. За ночь им платили семь франков. За эту ночь они, разумеется, не исполняли ни Россини, ни Бетховена. Они играли что хотели и как умели, и никто не попрекал их – трогательная чуткость! Их музыка так резала слух, что я, окинув взглядом собравшихся, внимательнее присмотрелся к музыкантам и, узнав их форменную одежду, сразу стал снисходителен.
Все трое сидели в оконной нише, и, чтобы различить их лица, нужно было подойти вплотную; я сделал это не сразу, но, как только я приблизился, все изменилось: свадебный пир и музыка исчезли. Я ощутил сильнейшее любопытство, ибо моя душа вселилась в тело кларнетиста. У скрипача и у флажолетиста были самые обыкновенные лица – хорошо знакомые всем лица слепых, настороженные, сосредоточенные, серьезные; но лицо кларнетиста принадлежало к числу тех, которые сразу привлекают внимание художника и философа.
Представьте себе под копной серебристо-белых волос гипсовую маску Данте, озаренную красноватым отблеском масляной лампы. Горькое, скорбное выражение этой могучей головы еще усугублялось слепотой, ибо мертвые глаза оживляла мысль; они как бы струили огненный свет, порожденный желанием – единым, всепоглощающим, резко запечатленным на выпуклом лбу, который бороздили морщины, подобные расселинам древней стены. Старик дул в кларнет наудачу, нимало не считаясь ни с мелодией, ни с ритмом; его пальцы безотчетно скользили вверх и вниз, привычным движением нажимая ветхие клапаны; он, ничуть не стесняясь, то и дело «давал гуся», как говорят музыканты в оркестрах; танцующие так же не замечали этого, как и оба товарища моего итальянца (мне хотелось, чтобы старик был итальянцем, и он был им!). Что-то величественное и деспотически-властное чувствовалось в этом престарелом Гомере, таившем в себе некую «Одиссею», обреченную на забвение. Величие его было столь ощутимо, что заставляло забывать его унижение, властность – столь живуча, что торжествовала над его нищетой. Все бурные страсти, которые приводят человека к злу или к добру, делают из него каторжника или героя, выражались на этом лице, столь благородном по очертаниям, смугловато-бледном, как обычно у итальянцев, – лице, затененном седеющими бровями, которые нависали над глубоко запавшими глазницами, где так же страшно было встретить огонь мысли, как страшно, заглянув в пещеру, обнаружить там разбойников с факелами и кинжалами. В этой клетке из человеческой плоти томился лев, бесполезно растративший свою ярость в борьбе с железной решеткой. Пламя отчаяния угасло под пеплом, лава окаменела; но борозды – застывшие потоки, еще слегка дымящиеся – свидетельствовали о силе извержения и вызванных им бедствиях. Все эти образы, пробужденные во мне наблюдением, были столь же ярки в моей душе, сколь смутно они сквозили в его чертах.
В перерывах между танцами скрипач и флажолетист, весьма заинтересованные угощением, вешали инструменты на пуговицы своих порыжелых сюртуков, протягивали руку к столику с напитками, стоявшему тут же, в нише, и подносили итальянцу полный стакан, который он сам не мог взять, – столик был позади его стула. Каждый раз кларнетист благодарил дружеским кивком. Их движения отличались той точностью, которая всегда поражает в слепых из «Приюта трехсот» и внушает обманчивую мысль, что эти люди – зрячие. Я направился к ним, чтобы подслушать их разговор, но, когда я подошел вплотную, они насторожились, вероятно, угадав, что я не рабочий, и умолкли.
– Откуда вы родом, кларнетист?
– Из Венеции, – ответил слепой с легким итальянским акцентом.
– Вы слепы от рождения или ослепли по…
– По несчастной случайности, – живо продолжил он, – треклятая темная вода…
– Венеция – прекрасный город, я всегда мечтал побывать там…
Лицо старика одушевилось, по морщинам пробежал трепет, он заволновался.
– Если я поеду с вами, вы не потеряете времени понапрасну, – молвил он.
– Не говорите ему о Венеции, – вмешался скрипач, – иначе наш дож опять начнет чудить; а он, заметьте, уже вылакал две бутылки, этот князь.
– Ну, живее! Пора начинать, папаша Фальшино! – воскликнул флажолетист.
Все трое взялись за свои инструменты; пока они играли четыре части контрданса, венецианец старался разгадать меня; он почувствовал, что внушает мне живейший интерес. Его лицо утратило выражение застывшей печали, какая-то надежда прояснила его черты, разлилась легким пламенем по его морщинам; он улыбнулся, отер дерзновенный и грозный лоб – словом, он развеселился, как человек, почуявший возможность оседлать своего конька.
– Сколько вам лет? – спросил я.
– Восемьдесят два года.
– Давно вы ослепли?
– Вот уже скоро пятьдесят лет, – ответил старик; по его голосу чувствовалось, что он скорбит не только о потере зрения, но и о каком-то ином великом даре, которого лишился.
– Почему вас называют дожем? – спросил я.
– О, глупая шутка! – ответил он. – Я венецианский патриций и, как любой из них, мог стать дожем.
– Какое же ваше настоящее имя?
– Здесь меня зовут папаша Канé. Мое имя никак не могли иначе занести в акты гражданского состояния; а по-итальянски я называюсь Марко Фачино Кáне, князь Варезский.
– Как! Вы потомок знаменитого кондотьера Фачино Кане, обширные владения которого перешли к герцогам миланским?
– E vero, – подтвердил слепой. – В те времена сын кондотьера, опасаясь, что Висконти лишат его жизни, бежал в Венецию и был там вписан в Золотую книгу. Но теперь уже нет ни славного рода Кане, ни родословной книги.
Тут слепой сделал движение, ужаснувшее меня, – так резко оно выражало угасший патриотизм и отвращение к людским делам.
– Но если вы были венецианским сенатором, у вас, наверно, было состояние? Как же случилось, что вы его потеряли?
На этот вопрос он повернул ко мне голову поистине трагическим движением, словно намереваясь пристально взглянуть на меня, и ответил:
– В несчастьях!
Ему уже было не до вина; он отвел полный стакан, который ему подал старый флажолетист, затем он поник головой. Все эти мелочи были не такого свойства, чтобы успокоить мое любопытство. Пока эти три автомата исполняли контрданс, я с теми чувствами, что обуревают двадцатилетнего юношу, неотрывно смотрел на престарелого венецианского аристократа. Я видел Адриатику, Венецию – видел в этих дряхлых чертах ее развалины. Я разгуливал по этому городу, столь милому своим обитателям, я шел от Риальто к Большому каналу, от Словенской набережной к Лидо; я возвращался к собору, столь своеобразно величественному; я любовался окнами Casa d'Oro, каждое из которых изукрашено мрамором, – словом, всеми чудесными творениями, которые ученому особенно дороги тем, что он волен расцвечивать их, как ему вздумается, и что его грезы не опошляются зрелищем обыденной действительности. Я мысленно прослеживал жизненный путь этого потомка величайшего из кондотьеров, силясь распознать следы его несчастий и причины того глубокого физического и морального падения, которые придавали еще большую яркость искоркам величия и благородства, вспыхнувшим в нем теперь. Вероятно, наши мысли совпали: ведь слепота, думается мне, не давая вниманию растрачиваться на предметы внешнего мира, тем самым значительно ускоряет духовное общение.
Я немедля получил доказательство взаимности нашей симпатии. Фачино Кане перестал играть, встал, подошел ко мне и так вымолвил: «Пойдемте!» – что голос его подействовал на меня подобно электрическому току. Я подал ему руку, и мы вышли.
Когда мы очутились на улице, он сказал:
– Вы согласны отвезти меня в Венецию, сопровождать меня туда? Согласны поверить мне? Вы будете богаче десяти самых богатых семейств Амстердама или Лондона, богаче Ротшильда – словом, вы будете одним из тех богачей, о которых говорится в «Тысяче и одной ночи».
Я подумал было, что он безумен, но он говорил так властно, что я невольно подпал под его влияние. Я покорно последовал за ним, и он с уверенностью зрячего повел меня ко рвам Бастилии. Он уселся на камень в пустынном уголке, где впоследствии был построен мост, соединяющий набережные Сен-Мартенского канала и Сены. Я сел на другой камень, против старика, седые волосы которого при лунном свете сверкали, словно серебряные нити. Тишина, едва нарушаемая гулом бульваров, смутно доносившимся до нас, ясность ночи – все придавало этой сцене подлинно фантастический характер.
– Вы говорите молодому человеку о миллионах и сомневаетесь в том, согласится ли он претерпеть тысячу мытарств, чтобы получить их! Уж не смеетесь ли вы надо мной!
– Умереть мне без покаяния, если то, что я вам расскажу, неправда, – горячо сказал он. – Мне было двадцать лет, как вам теперь, я был богат, я был знатен, я был красив; я начал с величайшего из безумств – с любви. Я любил, как уже не любят ныне, я доходил до того, что, с опасностью быть обнаруженным и убитым, прятался в сундук, одушевляясь одной лишь надеждой – получить обещанный поцелуй. Умереть ради нее казалось мне заманчивее долгой жизни. В 1760 году я увлекся восемнадцатилетней красавицей из рода Вендрамини, супругой Сагредо – одного из самых богатых сенаторов, человека лет тридцати, который без памяти любил свою жену. И я, и моя возлюбленная были невинны, как херувимы. Sposo застал нас за беседою о любви; я был безоружен, он оскорбил меня; я бросился на него, я задушил его голыми руками, свернул ему шею, как цыпленку. Я хотел уехать с Бьянкой, она не пожелала последовать за мной. Таковы женщины! Я бежал один, был осужден заочно, мое имущество подверглось секвестру в пользу моих наследников; но я увез свои бриллианты, пять полотен Тициана, свернутых трубкой, и все свое золото. Я отправился в Милан, где меня не тревожили: власти моим делом не интересовались.
Прежде чем продолжать рассказ, – сказал он после недолгой паузы, – я замечу следующее: влияют ли, нет ли причуды женщины во время беременности или зачатия на ее ребенка, но, во всяком случае, известно, что моя мать, когда носила меня под сердцем, была одержима страстью к золоту. Я питаю к золоту влечение, род мании, и оно так сильно во мне, что в каком бы я ни был положении, я всегда имею при себе золото; я постоянно перебираю золото, в молодости я всегда носил драгоценности и держал при себе двести – триста дукатов.
С этими словами он вынул из кармана два дуката и показал мне их.
– Я словно по запаху узнаю золото. Хоть я и слеп, но останавливаюсь у лавок ювелиров. Эта страсть погубила меня; я стал картежником, чтобы играть на золото. Я не плутовал в игре, меня же плутовски обыгрывали, и я разорился. Когда я остался без средств, меня обуяло бешеное желание вновь увидеть Бьянку; я тайно вернулся в Венецию и явился к ней; в течение шести месяцев я был счастлив; я скрывался у нее, она кормила меня. Я мечтал, что это блаженство продлится до конца моих дней. Любви Бьянки домогался проведитор. Он понял, что у него есть соперник, – в Италии соперников чуют; он выследил нас, накрыл в постели, подлец! Судите сами, какая произошла жестокая схватка; я не убил его, а только тяжело ранил. Это злоключение разбило мое счастье. Никогда в жизни я уже не встречал существа, подобного Бьянке: я изведал величайшие наслаждения, я жил при дворе Людовика Пятнадцатого, среди наизнаменитейших женщин – ни в одной из них я не нашел достоинств, прелести, страстности милой моей венецианки. Стражи проведитора были поблизости; он кликнул их, они окружили дворец, ворвались в покои; я защищался, чтобы умереть на глазах у Бьянки, она помогала мне, пытаясь убить проведитора. В свое время эта женщина не пожелала сопровождать меня в изгнание, а теперь, после шести месяцев счастья, она хотела умереть одной смертью со мной и получила несколько ран.
Во время борьбы на меня набросили большой плащ, обернули меня им, отнесли в гондолу и ввергли в один из «колодцев». Мне было двадцать два года, я так крепко сжимал обломок шпаги, что завладеть им могли бы, лишь отрубив мне руку. По странной случайности или, вернее, движимый смутной мыслью о бегстве, я спрятал этот кусок стали в углу темницы, словно он мог мне пригодиться. Меня лечили. Ни одна из моих ран не была смертельной. В двадцать два года исцеляешься от чего угодно. Меня должны были обезглавить – я притворился больным, чтобы выиграть время. Я полагал, что моя темница находится поблизости от канала; у меня возникла мысль бежать, продолбив стену, и попытаться переплыть канал, хотя бы с опасностью утонуть.
Мои надежды основывались на следующих соображениях: всякий раз, когда тюремщик приносил мне еду, мне бросались в глаза надписи на стенах с указаниями: сторона дворца, сторона канала, сторона подземелья. В конце концов я отчетливо представил себе этот план, назначение которого меня мало интересовало, но который соответствовал тогдашнему состоянию постройки Дворца дожей, еще не завершенной. Благодаря обострению мысли, порожденному желанием обрести свободу, я, ощупывая кончиками пальцев поверхность одного из камней, постепенно разобрал арабскую надпись, в которой некто, проделавший огромную работу, извещал своих преемников, что он вынул два камня из последнего ряда кладки и проложил подземный ход длиной в одиннадцать футов. Чтобы продолжить его дело, пришлось бы усеять земляной пол «колодца» цементом и осколками камня, которые выбрасывались бы при рытье. Но даже если бы массивность здания, требовавшего только наружной охраны, и не внушала инквизиторам и страже уверенности в том, что побег невозможен, то само расположение «колодцев», куда спускаются по нескольким ступеням, позволяло понемногу повышать уровень почвы незаметно для тюремщиков.
Чудовищная работа – рытье подземного хода – оказалась тщетной, по крайней мере для того, кто ее начал. Ведь то, что она осталась незаконченной, свидетельствовало о смерти неизвестного узника. Чтобы его усердие не пропало даром, должен был найтись заключенный, знающий арабский язык, а я изучил восточные языки в армянском монастыре. Несколько слов, высеченных на другой стороне камня, осведомляли о судьбе этого несчастного, ставшего жертвой своих огромных богатств: они возбудили алчность Венеции, и она завладела ими. Мне потребовался месяц, чтобы достигнуть цели. Во время работы и в те краткие промежутки времени, когда меня подкашивала усталость, я слышал звон золота, я видел перед собой золото, меня слепили бриллианты… О, слушайте дальше! Однажды ночью затупившаяся сталь наткнулась на бревно. Я вновь отточил свой обломок шпаги и начал сверлить отверстие а дереве. Чтобы иметь возможность работать, я, лежа на животе, извивался наподобие змеи, я раздевался донага и рыл, словно крот, вытягивая руки и пользуясь самой кладкой как точкой опоры. За двое суток до того, как я должен был предстать перед судом, поздней ночью, я решил сделать последнее усилие; я просверлил бревно насквозь – и сталь вонзилась в пустоту.
Вообразите мое изумление, когда я приник глазом к отверстию. Я притаился за деревянной обшивкой подземелья, где мерцал слабый свет, позволявший мне различить груды золота. В подземелье находились дож и один из членов Совета Десяти; я слышал их голоса; из их разговора я узнал, что передо мной потайные сокровища Республики, дары дожей и неприкосновенный запас, именуемый «Десятиной Венеции», куда вносилась часть добычи от военных экспедиций. Я был спасен! Когда пришел тюремщик, я предложил ему помочь мне бежать и скрыться со мной вместе, захватив все, что нам удастся взять. Колебания были немыслимы, он тотчас согласился. Нашлось судно, готовое к отплытию в Левант. Были приняты все меры предосторожности. Бьянка участвовала в приготовлениях, которые я поручил моему сообщнику. Чтобы не возбудить подозрений, решено было, что она присоединится к нам в Смирне. За одну ночь отверстие было расширено, и мы спустились в потайную сокровищницу Венеции. Какая ночь! Я видел своими глазами четыре бочонка, доверху наполненные золотом. В первом помещении хранилось серебро, наваленное двумя грудами, между которыми был оставлен узкий проход, а вдоль стен откосом вышиной в пять фунтов громоздились монеты. Мне казалось, что мой тюремщик сойдет с ума; он пел, скакал, хохотал, он плясал по золоту. Я пригрозил, что задушу его, если он будет шуметь или терять время попусту. От радости он не сразу заметил стол, на котором лежали бриллианты. Ловко заслонив их от него, я набил ими свою матросскую куртку и карманы штанов. Великий боже! Это не составило и третьей доли сокровища! Под столом лежали слитки золота. Я убедил своего спутника наполнить золотом столько мешков, сколько мы в силах унести, так как золото, – объяснил я ему, – это единственное богатство, которое за границей не навлечет на нас подозрений.
– Жемчуг, драгоценные украшения, бриллианты выдадут нас с головой, – сказал я.
При всей нашей алчности мы не могли захватить больше двух тысяч фунтов золота. Да и то нам пришлось шесть раз проделывать путь из тюрьмы к гондоле. Часового у дверцы, выходившей на канал, мы подкупили, дав ему мешок с десятью фунтами золота. Что до гондольеров – их было двое, – они воображали, будто исполняют предписания Республики. Мы отчалили на рассвете. Когда мы очутились в открытом море и я припомнил все, что произошло ночью, когда я воскресил в своей памяти все пережитое мною, когда я мысленно вновь увидел эту изумительную сокровищницу, где, по моим подсчетам, я оставил тридцать миллионов серебром, двадцать миллионов золотом и на несколько миллионов бриллиантов, жемчуга и рубинов, я словно обезумел. Меня обуяла золотая лихорадка. Мы высадились в Смирне, а оттуда немедленно отплыли во Францию. Когда мы взбирались на борт французского судна, господь бог, казалось, явил мне милость: он избавил меня от моего сообщника. В ту минуту я не мог предусмотреть последствий этого несчастного случая и очень обрадовался. Оба мы тогда чувствовали себя настолько измученными, что пребывали в каком-то оцепенении; ни слова не говоря друг другу, мы дожидались, пока достигнем надежного убежища и заживем в свое удовольствие. Не удивительно, что у этого проходимца закружилась голова! Что до меня, вы услышите, как меня покарал господь.
Я счел себя в безопасности только после того, как продал в Лондоне и Амстердаме две трети моих бриллиантов, а золотой песок обратил в ценные бумаги. В продолжение пяти лет я скрывался в Мадриде, а затем, в 1770 году, под вымышленным испанским именем переселился в Париж, где жил на самую широкую ногу. Бьянка к тому времени умерла. И среди всех наслаждений жизни меня, обладателя шести миллионов, поразила слепота! Я не сомневаюсь, что это несчастье явилось следствием пребывания в темнице и работы над каменной кладкой, если только сама моя способность мгновенно различать золото не была связана с таким напряжением глаз, которое неминуемо должно было повлечь за собой утрату зрения. В ту пору я любил женщину, с которой намеревался соединить свою судьбу; я открыл ей тайну своего имени; она принадлежала к могущественной семье, я ждал всего от благоволения, которое мне выказывал Людовик Пятнадцатый; я всецело доверился этой женщине, подруге госпожи Дюбарри; моя возлюбленная посоветовала мне обратиться к знаменитому глазному врачу в Лондоне, но после того, как мы прожили там несколько месяцев, она бросила меня в Гайд-парке, разорив дотла и оставив в беспомощном состоянии: ведь я был вынужден скрывать свое настоящее имя, которое предало бы меня мщению Венеции, и я никого не мог просить о заступничестве, ибо страшился Венеции. Моей немощью воспользовались сыщики, подосланные ко мне этой женщиной. Я избавлю вас от рассказа о приключениях, достойных Жиль Бласа. Произошла ваша революция. Я попал в «Приют трехсот». Меня поместила туда эта презренная тварь после того, как по ее проискам меня два года продержали в Бисетре, объявив умалишенным. Сам я не мог ее убить; я ничего не видел, а для того, чтобы прибегнуть к наемному убийце, я был слишком беден. Если бы, прежде чем погиб Бенедетто Карпи, мой тюремщик, я расспросил его о местоположении темницы, я мог бы вновь разыскать сокровищницу, вернувшись в Венецию, когда Наполеон упразднил там Республику… И все же, несмотря на мою слепоту, едемте в Венецию! Я найду ту дверцу, я увижу золото сквозь стену, я почую его под водой, где оно хранится; ведь события, сокрушившие мощь Венеции, таковы, что тайна сокровищницы должна была умереть вместе с Вендрамини, братом Бьянки, дожем, на которого я надеялся, думая о примирении с Советом Десяти. Я посылал докладные записки первому консулу, я предлагал договор австрийскому императору, но всюду и везде мне отвечали отказом, считая меня безумным. Едемте в Венецию – едемте нищими, ведь мы вернемся миллионерами; мы выкупим мои поместья, и вы будете моим наследником, будете князем Варезским.
Ошеломленный этой исповедью, превратившейся в моем воображении в целую поэму, находясь к тому же над черными водами рвов Бастилии, дремотными, как воды венецианских каналов, я глядел на эту убеленную сединой голову и не отвечал. Фачино Кане, вероятно, подумал, что я сужу о нем так же, как все остальные, – с презрительной жалостью; он сделал жест, проникнутый философией отчаяния.
Быть может, этот рассказ вернул его к счастливым дням жизни в Венеции. Он схватил свой кларнет и заиграл печальную венецианскую песенку – баркаролу, для которой вновь обрел талант своей молодости, талант влюбленного патриция. Мне пришло на память «На реках вавилонских», мои глаза наполнились слезами. Если в это время по бульвару Бурдон шли запоздалые прохожие, они, должно быть, остановились, чтобы послушать последнюю молитву изгнанника, последнее сожаление об утраченном имени, с которым переплеталось воспоминание о Бьянке. Но вскоре золото снова взяло верх, и роковая страсть угасила отсвет давней юности.
– Эти сокровища, – молвил он, – непрестанно мерещатся мне во сне и наяву; я хожу среди них, бриллианты сверкают; я не так слеп, как вы думаете. Золото и бриллианты освещают мою ночь – ночь последнего Фачино Кане, ибо мой титул должен перейти к роду Мемми. О боже! Возмездие за убийство наступило так рано. Ave Maria!..
Он вполголоса прочитал несколько молитв, которые я не расслышал.
– Мы поедем в Венецию! – воскликнул я, когда он встал.
– Наконец-то я встретил настоящего человека! – вскричал он, весь вспыхнув.
Я взял его под руку и довел до приюта; когда он прощался со мной у подъезда, мимо нас прошли несколько человек; распевая во все горло, они возвращались со свадьбы на улице Шарантон.
– Мы едем завтра? – спросил старик.
– Нет, ведь надо достать хоть немного денег.
– Мы можем идти пешком! Я буду просить милостыню, я вынослив; а когда впереди виднеется золото, чувствуешь себя молодым.
Фачино Кане умер зимой, проболев два месяца. У бедняги была чахотка.
Париж, март 1832 г.
Банкирский дом Нусингена
ГОСПОЖЕ ЗЮЛЬМЕ КAPPO.
Кому, как не вам, сударыня, чей возвышенный и неподкупный ум – сокровище для друзей, вам, кто для меня – и публика, и самая снисходительная из сестер, должен я посвятить этот труд? Примите же его в знак дружбы, которой я горжусь. Вы и еще несколько человек с душою столь же прекрасной, как ваша, поймете мою мысль, читая «Банкирский дом Нусингена» в сочетании с «Цезарем Бирото». Разве не служит этот контраст поучительным социальным уроком?
Дe Бальзак.Вы знаете, как тонки перегородки между отдельными кабинетами в шикарнейших кабачках Парижа. У Вери, например, самый большой кабинет разделяется надвое перегородкой, которую можно в случае надобности ставить, а затем убирать. Впрочем, дело происходило не у Вери, а в другом приятном местечке, назвать которое я не считаю удобным. Мы были вдвоем, и я скажу, как Прюдом у Анри Монье: «Я не хотел бы ее компрометировать». Мы сидели в маленьком кабинете, смаковали лакомые блюда восхитительного во всех отношениях обеда и, убедившись, что перегородки не слишком плотны, беседовали вполголоса. Мы приступили уже к жаркому, а в соседнем помещении, откуда доносилось до нас лишь потрескивание дров в камине, еще никого не было. Пробило восемь часов. Послышались шаги, обрывки разговора, лакеи внесли свечи: мы поняли, что кабинет рядом с нами занят. По голосам я угадал, кто наши соседи.
Их было четверо – четверо самых дерзких бакланов, рожденных в пене, венчающей гребни изменчивых волн нынешнего поколения; приятные молодые люди, источники существования которых весьма загадочны, ибо ни ренты, ни поместий у них нет, а живут они припеваючи. Эти хитроумные кондотьеры современной коммерции, превратившейся в жесточайшую из войн, оставляют все тревоги своим кредиторам, удовольствия берут себе и заботятся лишь о собственном туалете. Они, впрочем, достаточно смелы, чтобы по примеру Жана Барта выкурить сигару на бочке пороха, – быть может, для того, чтобы выдержать взятую на себя роль. Они насмешливее бульварных листков и готовы потешаться над каждым, не щадя даже самих себя; недоверчивые и проницательные, расточительные и алчные, в вечной погоне за выгодным дельцем, они завидуют другим, но довольны собой; глубокомысленные политики по наитию, все анализирующие и все предугадывающие, они еще не пролезли в высший свет, куда им так хочется попасть. Только одному из четырех удалось пробиться, да и то лишь к нижним ступенькам лестницы. Деньги еще не все, и выскочка, окруженный льстецами, только через полгода почувствует, что ему очень многого недостает. Этот надутый выскочка по имени Андош Фино, человек неразговорчивый, холодный и недалекий, усердно пресмыкался перед теми, кто мог ему пригодиться, и был наглым с теми, в ком нужда прошла. Подобно одному из забавных персонажей балета «Гюстав», сзади он казался маркизом, а спереди – простолюдином. Этот прелат от промышленности содержит при себе в качестве прихвостня журналиста Эмиля Блонде, человека очень умного, но безалаберного, блестящего и талантливого, но лентяя, знающего, что его эксплуатируют, и не препятствующего этому, то коварного, то добродушного – смотря по настроению: таких людей любят, но не уважают. Лукавый, как водевильная субретка, готовый предоставить свое перо кому угодно и отдать сердце кому попало, Эмиль очаровательнейший из тех мужчин-куртизаиок, о которых самый злоязычный из наших остряков сказал: «Они милее мне в атласных башмачках, чем в сапогах». Третий – Кутюр – живет спекуляцией. Затевая дело за делом, он барышами с одного покрывает убытки от другого. Нервное напряжение игры помогает ему держаться на поверхности; решительно и смело рассекая волны, он носится по парижскому морю наживы в поисках незанятого островка, на котором можно было бы осесть. В этой компании он явно не на месте. Что касается последнего, самого язвительного из всех, то достаточно назвать его: Бисиу! Но увы! это уже не Бисиу 1825 года, а Бисиу 1836 года, паясничающий человеконенавистник, язвительный и остроумный, разъяренный, как дьявол, тем, что столько ума потрачено впустую и что в последнюю революцию ему ничем не удалось поживиться; подобно Пьеро из «Фюнамбюля», он направо и налево раздает пинки, знает как свои пять пальцев наше время и его скандальную хронику, приукрашивает ее озорными выдумками, норовит, как клоун, вскочить каждому на плечи и, как палач, поставить свое клеймо.
Утолив голод, наши соседи догнали нас и принялись за десерт; а так как мы сидели тихо, они сочли, что рядом никого нет. И вот в сигарном дыму, под действием шампанского, за изысканным десертом завязалась интимная беседа. Это беседа, проникнутая холодной рассудочностью, от которой каменеют самые стойкие чувства и гаснут самые великодушные порывы, и полная ядовитой иронии, обращающей веселый смех в издевку, изобличала душевную опустошенность людей, поглощенных только собой, не имеющих иных целей, кроме удовлетворения собственного эгоизма, порожденного временем, в которое мы живем. Только «Племянник Рамо» – памфлет на человека, который Дидро не решился опубликовать, книга, умышленно обнажающая людские язвы, может сравниться с этим устным памфлетом, свободным от каких бы то ни было побочных соображений, где словами клеймилось то, что ум еще окончательно не осудил, где все строилось лишь из развалин, все отрицалось и вместе с тем вызывало восхищение то, что признается скептицизмом: всемогущество, всеведение и всеблагость денег. Подвергнув беглому огню круг общих знакомых, злословие приступило к беспощадному обстрелу близких друзей. Когда слово взял Бисиу, я знаком дал понять, что хотел бы остаться и послушать. Мы услышали тогда одну из тех безжалостных импровизаций, за которые ценили этого художника люди с пресыщенным умом; и хотя Бисиу то и дело прерывали, его речь запечатлелась в моей памяти со стенографической точностью. И по идеям и по форме она далека была от литературных канонов: то было нагромождение мрачных картин, рисующих наше время, которому не мешало бы почаще преподносить подобные истории, – ответственность за них я возлагаю, впрочем, на рассказчика. Мимика и жесты Бисиу, голос которого то и дело менялся в зависимости от выводившихся на сцену персонажей, были, видимо, бесподобны, – судя по одобрительным возгласам трех его слушателей.
– И Растиньяк тебе отказал? – спросил Блонде у Фино.
– Наотрез.
– А ты пригрозил ему газетами? – осведомился Бисиу.
– Он только засмеялся, – ответил Фино.
– Растиньяк – прямой наследник покойного де Марсе, он преуспеет в политике, как преуспел в высшем свете, – сказал Блонде.
– Но как ему удалось сколотить себе состояние? – спросил Кутюр. – В 1819 году он ютился вместе со знаменитым Бьяншоном в жалком пансионе Латинского квартала; семья его питалась жареными майскими жуками, запивая это блюдо местным кислым вином, чтобы иметь возможность посылать ему сто франков в месяц; поместье его отца не приносило и тысячи экю; у Растиньяка на руках были брат и две сестры, а теперь…
– А теперь у него сорок тысяч франков годового дохода, – подхватил Фино, – его сестры, получив богатое приданое, удачно выданы замуж; доходы с поместья он предоставил матери.
– Еще в 1827 году у него не было ни гроша, – сказал Блонде.
– Так то было в 1827 году, – возразил Бисиу.
– Ну, а сейчас, – продолжал Фино, – он вот-вот станет министром, пэром Франции и всем, чем захочет. Года три назад он вполне благопристойно порвал с Дельфиной и женится только тогда, когда ему представится выгодная партия. Что ж, теперь-то он может жениться на аристократке! У молодчика хватило смекалки сойтись с богатой женщиной.
– Друзья мои, примите во внимание смягчающие вину обстоятельства, – сказал Блонде. – Вырвавшись из когтей нищеты, он попал в лапы пройдохи.
– Ты хорошо знаешь Нусингена, – начал Бисиу, – представь же себе, что первое время Дельфина и Растиньяк считали его покладистым. Казалось, жена для него – украшение дома, игрушка. И вот что, по-моему, делает этого человека неуязвимым с головы до ног: Нусинген отнюдь не скрывает, что жена – это вывеска для его богатства, вещь необходимая, но второстепенная в напряженной жизни политических деятелей и крупных финансистов. Он как-то сказал при мне, что Бонапарт в своих отношениях с Жозефиной вел себя глупо, по-мещански: смешно было, воспользовавшись ею, как ступенькой, пытаться затем сделать из нее подругу жизни.
– Выдающийся человек должен смотреть на женщину так, как на нее смотрят на Востоке, – заявил Блонде.
– Барон слил восточную мудрость с западной в очаровательную парижскую теорию. Он терпеть не мог строптивого де Марсе, зато Растиньяк пришелся ему по душе, и барон его эксплуатировал, о чем тот и не подозревал: Нусинген взвалил на него всю тяжесть своих супружеских обязанностей. Растиньяк выносил все капризы Дельфины, возил ее в Булонский лес, сопровождал в театр. Наш нынешний великий человечек от политики долгое время проводил свою жизнь за чтением и писанием любовных записок. Сперва Эжена бранили по всякому поводу; он веселился с Дельфиной, когда ей было весело, грустил, когда она грустила, он изнывал под бременем ее мигреней, ее сердечных излияний; он отдавал ей все свое время, убивал драгоценные годы своей молодости, чтобы заполнить пустоту жизни этой праздной парижанки. Дельфина подолгу обсуждала с ним, какие драгоценности ей больше к лицу, на него обрушивались вспышки ее гнева и град ее причуд; с бароном же она в виде компенсации была очаровательно мила. Нусинген только посмеивался; когда же он замечал, что Растиньяк изнемогает под тяжестью непосильного гнета, он делал вид, будто что-то подозревает, и общий страх перед супругом связывал любовников еще крепче.
– Я допускаю, что богатая женщина могла содержать Растиньяка, и содержать его прилично; но откуда у него состояние? – спросил Кутюр. – Такое состояние, как у него сейчас, на улице не валяется, а ведь никто никогда не подозревал Растиньяка в умении изобрести выгодное дело!
– Он получил наследство, – сказал Фино.
– От кого? – спросил Блонде.
– От простаков, попавшихся ему на дороге, – подхватил Кутюр.
– Он не все награбил, дети мои, – возразил Бисиу: -
…Спокойнее. Не надо бить тревогу: Наш век с мошенником на дружескую ногу.Я сейчас вам расскажу, откуда у него состояние. Но сперва воздадим должное таланту! Наш друг отнюдь не «молодчик», как назвал его Фино, а джентльмен, знакомый с правилами игры, разбирающийся в картах и пользующийся уважением публики. В нужный момент Растиньяк сумеет пустить в ход весь свой ум, подобно вояке, который, не растрачивая своей отваги зря, отдает ее внаймы сроком на три месяца, под надежное обеспечение и за тремя подписями. На первый взгляд он может показаться резким, болтливым, непоследовательным в своих убеждениях, непостоянным в своих планах; но если представится серьезное дело, подходящий случай, – он не станет разбрасываться, как сидящий перед вами Блонде, который при подобных обстоятельствах пускается в рассуждения к выгоде соседа, – нет, Растиньяк весь соберется, подтянется, высмотрит место, куда следует направить удар, и ринется во весь опор в атаку. Он врезается с храбростью Мюрата в неприятельское каре, крушит акционеров, учредителей и всю их лавочку, а пробив брешь, возвращается к своей изнеженной и беззаботной жизни, вновь становится сладострастным сыном юга, праздным пустословом Растиньяком, который может вставать теперь в полдень, ибо в дни решающих схваток он не ложился вовсе.
– Вот говорит как пишет! Но откуда все-таки у Растиньяка состояние? – спросил Фино.
– Бисиу нарисует нам карикатуру, – заметил Блонде. – Капитал Растиньяка – это Дельфина де Нусинген, замечательная женщина, которая сочетает смелость с предусмотрительностью.
– Разве она давала тебе деньги взаймы? – осведомился Бисиу.
Раздался взрыв хохота.
– Вы о ней превратного мнения, – заметил Кутюр, обращаясь к Блонде. – Весь ее ум – в умении ввернуть острое словцо, в том, чтобы любить Растиньяка с обременительной для него верностью и слепо ему повиноваться. Настоящая итальянка!
– Если только дело не касается денег, – язвительно вставил Андош Фино.
– Оставьте, господа! – елейным голосом продолжал Бисиу. – Неужели вы решитесь после всего сказанного поставить в вину бедняжке Растиньяку, что он жил на счет банкирского дома Нусингена, что для него, точь-в-точь как это сделал когда-то наш приятель де Люпо для юной Торпиль, обставили квартирку? Это было бы мещанством в духе улицы Сен-Дени. Во-первых, говоря абстрактно, по выражению Ройе-Коллара, вопрос этот может выдержать критику чистого разума, что же касается критики разума нечистого…
– Ну, поехал! – обратился Фино к Блонде.
– Но ведь он прав! – воскликнул Блонде. – Вопрос этот имеет большую давность: подобный случай послужил причиной пресловутой дуэли между Жарнаком и ла Шатеньре, кончившейся смертью последнего. Жарнака обвиняли в слишком нежных отношениях с тещей, дававшей горячо любимому зятю возможность вести роскошную жизнь. Когда такие дела не вызывают сомнений, говорить о них не полагается. Но Генрих Второй позволил себе позлословить на сей счет, и ла Шатеньре, из преданности королю, взял грех сплетни на себя. Вот чем была вызвана дуэль, обогатившая французский язык выражением «удар Жарнака».
– Раз это выражение освящено такой давностью – значит, оно благородно, – сказал Фино.
– В качестве бывшего владельца газет и журналов ты вполне мог этого не знать, – заметил Блонде.
– Бывают женщины, – назидательно продолжал Бисиу, – бывают также и мужчины, которые умеют как-то разделять свое существо и отдавать только часть его (заметьте, я облекаю свою мысль в философскую форму). Эти люди строго разграничивают материальные интересы и чувства; они отдают женщине свою жизнь, время и честь, но считают неподобающим шуршать при этом бумажками, на которых значится: «Подделка преследуется по закону». Да и сами они тоже ничего не примут от женщины. Позор, если наряду со слиянием душ допускается слияние материальных интересов. Эту теорию охотно проповедуют, но применяют редко…
– Какой вздор! – воскликнул Блонде. – Маршал Ришелье – а уж он-то был опытен в любовных делах – назначил госпоже де ла Поплиньер после истории с каминной доской пенсию в тысячу луидоров. Агнесса Сорель в простоте душевной отдала все свое состояние Карлу Седьмому, и король принял дар. Жак Кер взял на содержание французскую корону, которая охотно пошла на это и оказалась затем неблагодарной, как женщина.
– Господа, – сказал Бисиу, – любовь без нерасторжимой дружбы – по-моему, просто мимолетное распутство. Что же это за полное самоотречение, если приберегаешь что-то для себя? Эти две теории, столь противоречивые и глубоко безнравственные, примирить невозможно. Я думаю, что тот, кто боится полного слияния, просто не верит в его прочность, а тогда – прощай иллюзии! Любовь, которая не считает себя вечной, – отвратительна (совсем по Фенелону!). Вот почему люди, знающие свет, холодные наблюдатели, так называемые порядочные люди, мужчины в безукоризненных перчатках и галстуках, которые, не краснея, женятся на деньгах, проповедуют необходимость полной раздельности чувств и состояний. Все прочие – это влюбленные безумцы, считающие, что на свете никого не существует, кроме них и их возлюбленных! Миллионы для них – прах; перчатка или камелия их божества дороже миллионов! Вы никогда не найдете у них презренного металла, – они успели его промотать, – но обнаружите зато на дне красивой кедровой шкатулки остатки засохших цветов! Они не отделяют себя от обожаемого создания. «Я» для них больше не существует. «Ты» – вот их воплотившееся божество. Что поделаешь? Разве излечишь этот тайный сердечный недуг? Бывают глупцы, которые любят без всякого расчета, и бывают мудрецы, которые вносят расчет в любовь.
– Он просто неподражаем, этот Бисиу! – воскликнул Блонде. – А ты что скажешь, Фино?
– В любом другом месте, – с важностью заявил Фино, – я бы ответил как джентльмен, но здесь, я думаю…
– Как презренные шалопаи, среди которых ты имеешь честь находиться, – подхватил Бисиу.
– Совершенно верно! – подтвердил Фино.
– А ты? – спросил Бисиу Кутюра.
– Вздор! – воскликнул Кутюр. – Женщина, не желающая превратить свое тело в ступеньку, помогающую ее избраннику достичь намеченной цели, любит только себя.
– А ты, Блонде?
– Я применяю эту теорию на практике.
– Так вот, – язвительно продолжал Бисиу, – Растиньяк был другого мнения. Брать без отдачи – возмутительно и даже несколько легкомысленно; но брать, чтобы затем, подобно господу богу, воздать сторицей, – это по-рыцарски. Так думал Растиньяк. Он был глубоко унижен общностью материальных интересов с Дельфиной де Нусинген. Я вправе говорить об этом, ибо при мне он со слезами на глазах жаловался на свое положение. Да, он плакал настоящими слезами!.. правда, после ужина. А по-вашему, выходит…
– Да ты издеваешься над нами, – сказал Фино.
– Ничуть. Речь идет о Растиньяке. По-вашему, выходит, что его страдания доказывали его испорченность, ибо свидетельствовали о том, что он недостаточно любил Дельфину! Но что поделаешь? Заноза эта крепко засела в сердце бедняги: ведь он – в корне развращенный дворянин, а мы с вами – добродетельные служители искусства. Итак, Растиньяк задумал обогатить Дельфину – он, бедняк, ее – богачку! И поверите ли?.. ему это удалось. Растиньяк, который мог бы драться на дуэли, как Жарнак, перешел с тех пор на точку зрения Генриха Второго, выраженную в известном изречении: «Абсолютной добродетели не существует, все зависит от обстоятельств». Это имеет прямое отношение к происхождению богатства Растиньяка.
– Приступал бы ты уж лучше к своей истории, чем подстрекать нас к клевете на самих себя, – с очаровательным добродушием сказал Блонде.
– Ну, сынок, – возразил Бисиу, слегка стукнув его по затылку, – ты вознаграждаешь себя шампанским.
– Во имя святого Акционера, – сказал Кутюр, – выкладывай же наконец свою историю!
– Я хотел было рассказывать по порядку, а ты своим заклинанием толкаешь меня прямо к развязке, – возразил Бисиу.
– Значит, в этой истории и впрямь действуют акционеры? – спросил Фино.
– Богатейшие, вроде твоих, – ответил Бисиу.
– Мне кажется, – с важностью заявил Фино, – ты мог бы относиться с большим уважением к приятелю, у которого ты не раз перехватывал в трудную минуту пятьсот франков.
– Человек! – крикнул Бисиу.
– Что ты хочешь заказать? – спросил Блонде.
– Пятьсот франков, чтобы вернуть их Фино, развязать себе язык и покончить с благодарностью.
– Рассказывай же дальше, – с деланным смехом сказал Фино.
– Вы свидетели, – продолжал Бисиу, – что я не продался этому нахалу, который оценивает мое молчание всего лишь в пятьсот франков! Не бывать тебе никогда министром, если ты не научишься как следует расценивать человеческую совесть! Ну ладно, дорогой Фино, – продолжал он вкрадчиво, – я расскажу эту историю без всяких личностей, и мы с тобой будем в расчете.
– Он станет нам сейчас доказывать, – сказал, улыбаясь, Кутюр, – что Нусинген составил состояние Растиньяку.
– Ты не так далек от истины, – сказал Бисиу. – Вы даже не представляете себе, что такое Нусинген как финансист.
– Знаешь ли ты что-нибудь о начале его карьеры? – спросил Блонде.
– Я познакомился с ним у него дома, – ответил Бисиу, – но мы, возможно, встречались когда-нибудь и на большой дороге.
– Успех банкирского дома Нусингена – одно из самых необычайных явлений нашего времени, – продолжал Блонде. – В 1804 году Нусинген был еще мало известен, и тогдашние банкиры содрогнулись бы, узнав, что в обращении имеется на сто тысяч экю акцептированных им векселей. Великий финансист понимал тогда, что он величина небольшая. Как добиться известности? Он прекращает платежи. Отлично! Имя его, которое знали до сих пор только в Страсбурге и в квартале Пуассоньер, прогремело на всех биржах! Он рассчитывается со своими клиентами обесцененными акциями и возобновляет платежи; векселя его тотчас же получают хождение по всей Франции. Нелепый случай пожелал, чтобы акции, которыми он расплачивался, вновь приобрели ценность, пошли в гору и начали приносить доход. Знакомства с Нусингеном стали добиваться. Наступает 1815 год, наш молодчик собирает свои капиталы, покупает государственные бумаги накануне сражения при Ватерлоо, в момент кризиса прекращает платежи и расплачивается акциями Ворчинских копей, скупленными им на двадцать процентов ниже курса, по которому он сам же их выпускал. Да, да, господа! Он забирает в виде обеспечения сто пятьдесят тысяч бутылок шампанского у Гранде, предвидя банкротство этого добродетельного отца нынешнего графа д'Обриона, и столько же бутылок бордо у Дюберга. Эти триста тысяч бутылок, мой дорогой, которые он принял, заметьте, принял в уплату, по полтора франка, Нусинген продает с 1817 по 1819 год союзникам в Пале-Рояле по шести франков за бутылку. Векселя банкирского дома Нусингена и его имя становятся известны всей Европе. Наш знаменитый барон вознесся над бездной, которая поглотила бы всякого другого. Дважды его банкротство принесло огромные барыши кредиторам: он хотел их облапошить, не тут-то было! Он слывет честнейшим человеком в мире. При третьем банкротстве векселя банкирского дома Нусингена получат хождение в Азии, в Мексике, в Австралии, у дикарей. Уврар – единственный, кто разгадал этого эльзасца, сына некоего иудея, крестившегося ради карьеры, – как-то сказал: «Когда Нусинген выпускает из рук золото, знайте – он загребает бриллианты».
– Его приятель дю Тийе – одного с ним поля ягода, – заметил Фино. – Подумать только, что человек без роду и племени, у которого еще в 1814 году гроша за душой не было, стал теперь тем дю Тийе, которого вы знаете; к тому же он умудрился, – чего никто из нас, кроме тебя, Кутюр, сделать не сумел, – приобрести себе не врагов, а друзей. Словом, он так ловко спрятал концы в воду, что пришлось немало покопаться на свалке, чтобы установить, что еще в 1814 году он был приказчиком у одного парфюмера на улице Сент-Оноре.
– Чепуха! – воскликнул Бисиу. – Никогда не сравнивайте с Нусингеном мелкого жулика вроде дю Тийе, шакала, которому помогает только его нюх и который, почуяв запах падали, прибегает первым, чтобы урвать кость послаще. Вы только посмотрите на этих двух людей, один – насторожившийся, как кошка, поджарый и стремительный; другой – коренастый и тучный, грузный, как мешок, невозмутимый, как дипломат. У Нусингена тяжелая рука и холодный взгляд рыси. У него не показная, а глубокая проницательность: он скрытен и нападает врасплох, тогда как хитрость дю Тийе подобна (как сказал, не помню уж о ком, Наполеон) слишком тонкой нити: она рвется.
– Я вижу у Нусингена лишь одно преимущество перед дю Тийе: у него хватило здравого смысла понять, что финансисту следует довольствоваться баронским титулом, тогда как дю Тийе собирается добыть себе в Италии титул графа, – сказал Блонде.
– Блонде, дитя мое, одно только словечко, – перебил Кутюр. – Во-первых, Нусинген имел смелость заявить, что люди бывают честны только с виду; затем, чтобы хорошо его знать, надо принадлежать к деловому миру. Его банк – небольшое министерство; сюда входят государственные поставки, вина, шерсть, индиго – словом, все, на чем можно нажиться. Он – гений всеобъемлющий. Этот финансовый кит готов продать депутатов правительству и греков – туркам. Коммерция для него, сказал бы Кузен, – сумма разновидностей и единство разнообразий. Банк с этой точки зрения – та же политика, он требует хорошей головы и побуждает человека твердого закала стать выше стеснительных для него законов честности.
– Ты прав, сын мой, – сказал Блонде. – Но только мы одни понимаем, что в таком случае – это та же война, перенесенная в мир денег. Банкир – завоеватель, жертвующий тысячами людей для достижения тайных целей, его солдаты – интересы частных лиц. Ему приходится прибегать к военным хитростям, устраивать засады, бросать в бой своих сторонников, брать приступом города. Эти люди так близки обычно к политике, что в конце концов оказываются втянутыми в нее и теряют свое состояние. Банкирский дом Неккера прогорел из-за политики, пресловутого Самюэля Бернара политика почти разорила. В каждом веке бывает какой-нибудь банкир с колоссальным состоянием, после которого не остается ни состояния, ни наследников. Братья Пари, помогшие свалить Лоу, и сам Лоу, рядом с которым все эти господа, организующие акционерные общества, просто пигмеи, Буре, Божон – все они исчезли, не оставив после себя наследников. Банк, подобно Кроносу, пожирает своих детей. Чтобы продлить свое существование, банкир должен сделаться дворянином, основателем династии, как Фуггеры, заимодавцы Карла Пятого, которые стали князьями Бабенгаузен и существуют и поныне… в «Готском альманахе». Банкиры тяготеют к аристократии из чувства самосохранения, быть может, не сознавая этого. Жак Кер стал родоначальником знатного рода Нуармутье, угасшего при Людовике Тринадцатом. Сколько энергии было в этом человеке, пожертвовавшем своим состоянием, чтобы возвести на престол законного монарха! Жак Кер умер властителем одного из островов Эгейского моря; он выстроил там великолепный собор.
– Ну, если вы будете забираться в дебри истории, мы далеко уйдем от современности, когда король не имеет больше права даровать дворянство, когда баронские и графские титулы раздают, увы! при закрытых дверях, – сказал Фино.
– Ты сожалеешь о тех временах, когда дворянское звание можно было купить за деньги, – и ты прав, – сказал Бисиу. – Но вернемся к нашему рассказу. Знаете ли вы Боденора? Нет, нет и нет. Ладно. Видите, как все в мире преходяще! Всего лишь десять лет назад бедняга был образцом дендизма. Но он так основательно забыт, что вы о нем знаете не больше, чем Фино о выражении «удар Жарнака» (говорю это не для того, чтобы тебя подразнить, Фино, а для красного словца!). Он по праву принадлежал к знати Сен-Жерменского предместья. Ну так вот! Боденор – первый простофиля, которого я хочу вам представить. Прежде всего – он именовался Годфруа де Боденор. Ни Фино, ни Блонде, ни Кутюр, ни я не можем не признать, что это – преимущество. Самолюбие славного малого отнюдь не страдало, когда при разъезде с бала в присутствии тридцати укутанных красавиц, дожидавшихся в сопровождении мужей и поклонников своих экипажей, лакей вызывал его карету. Все, что человеку отпущено богом, было у него на месте: он был здрав и невредим – ни бельма на глазу, ни парика, ни ватных подушечек для икр; ноги его не были ни вогнуты внутрь, ни выгнуты наружу, колени не распухали, спина прямая, талия тонкая, руки белые и красивые, волосы черные; лицо не чересчур румяное, как у приказчика из бакалейной лавки, и не слишком смуглое, как у калабрийца. Наконец – существенная подробность! – Боденор не был «красавцем мужчиной», как кое-кто из наших приятелей, которые делают ставку на свою красоту за неимением другого; но не стоит повторяться, мы уже решили, что это гнусно! Он метко стрелял из пистолета, ловко ездил верхом, дрался из-за какой-то безделицы на дуэли и не убил противника. Знаете ли вы, что выяснить, из чего состоит безоблачное, чистопробное и полное счастье в девятнадцатом веке в Париже, да притом еще счастье двадцатишестилетнего молодого человека, можно, лишь войдя во все мелочи его жизни? Сапожник сумел уловить форму ноги Боденора и удачно шил ему сапоги, портному нравилось одевать его. Годфруа не грассировал, он говорил не как гасконец или нормандец, а на чистом и правильном французском языке и отменно завязывал галстук – совсем как Фино. Кузен супруги маркиза д'Эглемона, своего опекуна (он был круглым сиротой – еще одно преимущество), Боденор мог бывать и бывал у банкиров, не навлекая на себя нареканий Сен-Жерменского предместья за то, что якшался с ними, ибо молодой человек, к счастью, вправе думать только о своих удовольствиях, спешить туда, где весело, и избегать мрачных закоулков, где царит печаль. Наконец, он был застрахован от кое-каких болезней (ты меня понимаешь, Блонде!). Но, несмотря на все эти преимущества, он мог бы чувствовать себя очень несчастным. О, счастье, к нашему несчастью, представляется чем-то абсолютным – видимость, побуждающая глупцов вопрошать: «Что есть счастье?» Одна очень умная женщина сказала: «Счастье в том, в чем мы его полагаем».
– Она изрекла прискорбную истину, – заявил Блонде.
– И нравоучительную! – прибавил Фино.
– Архинравоучительную! Счастье, как добродетель, как зло, – понятие относительное, – ответил Блонде. – Поэтому-то Лафонтен и считал, что с течением времени грешники в аду свыкнутся со своим положением и будут чувствовать себя там как рыба в воде.
– Изречения Лафонтена стали мудростью лавочников, – заметил Бисиу.
– Счастье двадцатишестилетнего парижанина – совсем не то, что счастье двадцатишестилетнего жителя Блуа, – сказал Блонде, не обратив внимания на слова Бисиу. – Те, кто на этом основании кричит о неустойчивости взглядов, – обманщики или невежды. Современная медицина, высшая заслуга которой состоит в том, что за время с 1799 по 1837 год она покинула область гаданий и сделалась под влиянием известной парижской аналитической школы наукой позитивной, доказала, что через известные периоды времени организм человека полностью обновляется.
– На манер ножика Жанно хотя его все время считают прежним, – подхватил Бисиу. – Да, костюм арлекина, который именуется у нас счастьем, сшит из разных лоскутов, но на костюме моего Годфруа не было ни пятен, ни дыр. Молодой человек двадцати шести лет, если он счастлив в любви, то есть любим не за свою цветущую молодость, не за ум, не за внешность, даже не потому, что есть потребность в любви, но любим непреодолимой страстью, – хотя бы эта непреодолимая страсть и была, пользуясь выражением Ройе-Коллара, абстрактной, – этот молодой человек прекраснейшим образом может не иметь ни гроша в кошельке, вышитом рукой обожаемого существа, может задолжать домохозяину за квартиру, сапожнику за сапоги, за платье портному, который в конце концов, как Франция, охладеет к нему. Словом, он может быть беден! Но нищета отравляет счастье молодого человека, не обладающего, подобно нам, возвышенными взглядами на слияние интересов. Нет ничего утомительнее, по-моему, чем быть счастливым морально и очень несчастным материально, – вроде того, как я сейчас: одна нога у меня мерзнет, потому что дует из-под двери, а другая поджаривается у камина. Надеюсь, мои слова будут верно поняты; найдут ли они отклик под твоим жилетом, Блонде? Впрочем, оставим сердце в покое, между нами будь сказано, оно лишь вредит уму. Продолжаю! Годфруа де Боденор заслужил уважение своих поставщиков, так как платил им довольно аккуратно. Очень умная женщина, которую я уже упоминал и назвать которую не вполне удобно, ибо благодаря своему бессердечию она еще жива…
– Кто это?
– Маркиза д'Эспар! Она утверждала, что молодой человек должен жить на антресолях, не заводить ничего, напоминающего семейный очаг, – ни кухарки, ни кухни, пользоваться услугами старого слуги и не стремиться к прочно установленному порядку. Всякий другой образ жизни, по ее мнению, – дурной тон. Верный этой программе, Годфруа де Боденор жил на антресолях, на набережной Малакэ; ему, правда, не удалось избежать некоторого сходства с женатыми людьми: в комнате его стояла кровать, но она была столь узка, что он ею мало пользовался. Англичанка, случайно посетившая его жилище, не могла бы обнаружить там ничего неприличного. Фино, ты попросишь кого-нибудь растолковать тебе великий закон неприличного, правящий Англией! Но так как мы связаны с тобой тысячефранковой бумажкой, я вкратце объясню тебе это сам. Мне ведь довелось побывать в Англии! (На ухо Блонде: «Я отпускаю ему мудрости на две тысячи франков».) В Англии, Фино, ночью ты можешь близко познакомиться с женщиной, на балу или в другом месте; но если ты назавтра узнаешь ее на улице – неприлично! За обедом ты обнаруживаешь в своем соседе слева очаровательного человека – остроумие, непринужденность, никакого чванства – ничего английского; следуя правилам старинной французской учтивости, всегда приветливой и любезной, ты заговариваешь с ним – неприлично! На балу вы приглашаете прелестную женщину на вальс – неприлично! Вы горячитесь, спорите, смеетесь, расточаете свой ум, душу и сердце в беседе, выражаете в ней чувства; вы играете во время игры, беседуете, беседуя, едите за едой – неприлично! неприлично! неприлично! Один из самых проницательных и остроумных людей нашего времени – Стендаль прекрасно охарактеризовал это неприлично, рассказав о некоем британском лорде, который, сидя в одиночестве у своего камина, не решается заложить ногу за ногу из страха оказаться неприличным. Английская дама, даже из секты неистовствующих святош (протестантов-фанатиков, готовых уморить свою семью с голоду, если бы она оказалась неприличной), не становится неприличной, беснуясь в своей спальной, но она сочтет себя погибшей, если примет в той же спальной знакомого. По милости этого неприлично Лондон и его обитатели в один прекрасный день обратятся в камень.
– Подумать только, что находятся глупцы, желающие ввезти к нам во Францию тот торжественный вздор, которым англичане со своей пресловутой невозмутимостью занимаются у себя на родине! – воскликнул Блонде. – При одной мысли об этом всякого, кто побывал в Англии и помнит очаровательную непосредственность французских нравов, бросает в дрожь. Недавно Вальтер Скотт, который не решался изображать женщин такими, как они есть, из страха оказаться неприличным, каялся в том, что нарисовал прекрасный образ Эффи в «Эдинбургской темнице» .
– Хочешь не быть неприличным в Англии? – спросил Бисиу у Фино.
– Ну, хочу, – ответил тот.
– Ступай в Тюильри, присмотрись там к мраморному пожарному, которого скульптор нарек почему-то Фемистоклом, старайся ступать, как статуя командора, и ты никогда не будешь неприличным. Именно благодаря неукоснительному применению великого закона неприличного Годфруа достиг полного счастья. Вот как это произошло. У него был «тигр», а не грум, как пишут люди, ничего не смыслящие в светской жизни. Его «тигр» был маленький ирландец по имени Пэдди, Джоби, Тоби (можете выбирать любое), трех футов ростом и двадцати дюймов в плечах, с мордочкой ласки, с проспиртованными джином стальными нервами, с глазами ящерицы, зоркими, как у меня; проворный, как белка, неизменно ловко правивший парой лошадей в Лондоне и в Париже и ездивший верхом, как старик Франкони; белокурый, точно девы на картинах Рубенса, с розовыми щеками, неискренний, как принц, опытный, как удалившийся от дел стряпчий, всего десяти лет от роду и при этом испорчен до мозга костей; сквернослов и игрок, обожавший варенье и пунш, ругавшийся, как фельетонист, вороватый и дерзкий, как парижский уличный мальчишка. Он был гордостью и доходной статьей известного английского лорда, для которого уже выиграл на скачках семьсот тысяч франков. Лорд очень любил малыша: его «тигр» был диковинкой, ни у кого в Лондоне не было такого маленького «тигра». На скаковой лошади Джоби походил на сокола. И все же лорд уволил Тоби – не за обжорство, не за кражу, не за убийство, не за предосудительные разговоры, не за дурные манеры, не за то, что он надерзил миледи, не за то, что он продырявил карманы ее камеристки, не за то, что он продался соперникам милорда на скачках, не за то, что он развлекался в воскресенье, – словом, ни за один из действительных проступков. Если бы Тоби во всем этом провинился, если бы он даже первым заговорил с милордом, – милорд простил бы ему и такое преступление. Милорд многое простил бы Тоби – так он дорожил им. Его «тигр» правил парой лошадей, запряженных цугом в двухколесный кабриолет, сидя верхом на второй из них, не доставая ногами до оглобель и напоминая одного из тех ангелочков, которыми итальянские художники окружают бога-отца. Один английский журналист превосходно описал этого ангелочка, но он нашел его слишком красивым для «тигра» и предлагал пари, что Пэдди – не тигр, а прирученная тигрица. Заметка могла быть истолкована в дурном смысле и стать в высшей степени неприличной. А неприлично в превосходной степени ведет к виселице. Миледи очень хвалила милорда за осмотрительность. Тоби нигде не мог найти себе службы после того, как было подвергнуто сомнению его место в британской зоологии. Годфруа в то время процветал во французском посольстве в Лондоне, где и узнал о происшествии с Тоби-Джоби-Пэдди. Годфруа завладел «тигром»: он застал его в слезах над банкой варенья; мальчуган уже растратил все гинеи, которыми милорд позолотил его горе. Возвратившись на родину, Годфруа де Боденор ввез во Францию прелестнейшего из английских «тигров» и приобрел известность благодаря своему «тигру», подобно тому как Кутюр прославился своими жилетами. И он без всяких затруднений был принят в члены клуба, именующегося ныне клубом де Граммон. Боденор отказался от дипломатической карьеры и не внушал больше тревоги честолюбцам; не отличаясь к тому же опасным складом ума, он встретил повсюду радушный прием. Наше самолюбие было бы уязвлено, если бы мы с вами видели вокруг себя одни лишь улыбки. Нам по сердцу кислая усмешка завистника. Годфруа же не любил быть предметом ненависти. Вкусы бывают разные!
Перейдем, однако, к существенному, к жизни материальной. Достопримечательностью его квартиры, где мне не раз случалось завтракать, была укромная туалетная комната, хорошо обставленная, со множеством удобнейших приспособлений, с камином и ванной; бесшумно закрывающаяся дверь вела на лестницу, не скрипела на петлях и легко отпиралась; на окнах с матовыми стеклами были непроницаемые шторы. И если комната Боденора должна была являть и являла собой самый живописный беспорядок, любезный сердцу взыскательного художника-акварелиста, если все в ней говорило о бесшабашной жизни элегантного молодого человека, то туалетная комната была словно святилище: белизна, чистота, порядок, тепло, из щелей не дует, ковер, как бы специально предназначенный для босых ножек застигнутой в одной сорочке испуганной красавицы. По таким признакам сразу определишь светского щеголя, знающего жизнь! Ибо тут в несколько мгновений он может проявить величие или глупость в тех житейских мелочах, в которых сказывается характер человека. Упомянутая уже маркиза, – впрочем, нет, то была маркиза де Рошфид, – покинула в бешенстве некую туалетную комнату и никогда больше туда не возвращалась, ибо не нашла там ничего неприличного. У Годфруа был там шкафчик, полный…
– Женских кофточек! – сказал Фино.
– Ах, ты толстяк Тюркаре! (Мне, видно, никогда его не обтесать!) Да нет же! Полный пирожных, фруктов, графинчиков с малагой и люнелем – словом, легкое угощенье в духе Людовика Четырнадцатого, все, что может порадовать изнеженные и разборчивые желудки наследниц шестнадцати поколений. Лукавый старик слуга, весьма сведущий в ветеринарном искусстве, прислуживал лошадям и ходил за Годфруа, так как он служил еще покойному господину Боденору и питал к молодому хозяину застарелую привязанность – сердечный недуг, от которого сберегательные кассы излечили в конце концов наших слуг. Всякое материальное счастье покоится на цифрах. Вы, знающие всю подноготную парижской жизни, догадываетесь, конечно, что Годфруа требовалось около семнадцати тысяч франков годового дохода, ибо семнадцать франков уходило у него на налоги и тысячи франков – на прихоти. Ну так вот, дети мои, в день, когда Годфруа проснулся совершеннолетним, маркиз д'Эглемон представил ему отчет по опеке – мы, конечно, не могли бы представить таких отчетов своим племянникам – и вручил ему квитанцию на восемнадцать тысяч франков государственной ренты – все, что осталось Боденору от отцовского богатства, ощипанного финансовыми реформами Республики и подорванного неаккуратными платежами Империи. Сей добродетельный опекун передал также своему питомцу около тридцати тысяч франков сбережений, помещенных в банкирском доме Нусингена, заявив ему с любезностью вельможи и непринужденностью солдата Империи, что сберег эти деньги для его юношеских проказ. «Если хочешь последовать моему совету, Годфруа, – прибавил он, – не сори глупо этими деньгами, как делают многие, а развлекайся с пользой. Стань атташе нашего посольства в Турине, оттуда направься в Неаполь, из Неаполя перекочуй в Лондон, – за свои деньги ты и позабавишься, и многому научишься. А позже, когда ты окончательно решишь избрать карьеру, твое время и деньги не будут потрачены впустую». Покойный д'Эглемон был лучше своей репутации, чего о нас не скажешь.
– Когда юноша двадцати одного года начинает самостоятельную жизнь с доходом в восемнадцать тысяч франков – считайте, что он разорен, – заметил Кутюр.
– Если только он не скряга или не выдающийся человек, – вставил Блонде.
– Годфруа побывал в четырех главных городах Италии, – продолжал Бисиу , – повидал Германию и Англию, был в Санкт-Петербурге, объездил Голландию. Но он так быстро растратил упомянутые тридцать тысяч франков, словно получал тридцать тысяч франков годового дохода. Он везде находил сюпрем-де-воляй, аспик и французские вина, везде слышал французскую речь – будто и не выезжал из Парижа. Ему хотелось бы немного развратить свое сердце, одеть его в броню, утратить свои иллюзии, научиться слушать все, не краснея, болтать, ничего не говоря, проникать в тайные замыслы держав… Куда там! Он лишь овладел, и то с трудом, четырьмя языками, то есть запасся четырьмя словами на каждое понятие. Годфруа вернулся вдовцом нескольких скучных вдов (это называется за границей «иметь успех»); застенчивый, с неустановившимся характером, доверчивый добряк, неспособный дурно отзываться о людях, которые оказывают ему честь, принимая его у себя, слишком чистосердечный, чтобы быть дипломатом, – словом, как говорится, честный малый.
– Короче – желторотый птенец, готовый предоставить свои восемнадцать тысяч франков ренты к услугам первых встречных акционеров, – вставил Кутюр.
– Этот чертов Кутюр так привык авансом тратить свои дивиденды, что хотел бы получить авансом и развязку моего рассказа. На чем же я остановился? На возвращении Боденора. Когда он обосновался на набережной Малакэ, выяснилось, что тысячи франков, остававшейся у него сверх необходимых расходов, не хватает на место в ложе у Итальянцев и в Опере. Если он проигрывал на пари двадцать пять – тридцать луидоров, он их, конечно, платил, а если выигрывал – то тратил, что, несомненно, происходило бы и с нами, будь мы настолько глупы, чтобы биться об заклад. Боденору не хватало его восемнадцати тысяч франков в год, и он почувствовал необходимость создать то, что мы зовем теперь оборотным капиталом. Он считал крайне важным не запутаться в долгах. Годфруа направился за советом к своему опекуну. «Дитя мое, – сказал ему д'Эглемон, – рента котируется сейчас по номиналу. Продай свою. Я уже продал ренту – и мою, и жены. Все наши деньги теперь у Нусингена, он платит мне шесть процентов; поступи так же, будешь получать процентом больше, и этот процент позволит тебе жить в свое удовольствие». И через три дня наш Годфруа зажил в свое удовольствие. Его материальное благополучие стало полным, так как доходов его хватало теперь и на излишества. Если бы можно было окинуть одним взглядом всех парижских молодых людей, – как это будет, говорят, в день Страшного суда с миллиардами поколений, копошившихся в грязи на поверхности всех планет в качестве ли национальных гвардейцев или в качестве дикарей, – и спросить их: не заключается ли счастье двадцатишестилетнего молодого человека в том, чтобы выезжать верхом, в тильбюри или кабриолете с «тигром», который не выше, чем мальчик с пальчик, таким же розовым и свежим, как Тоби-Джоби-Пэдди, а по вечерам пользоваться за двенадцать франков вполне приличной наемной каретой; появляться всегда элегантно одетым согласно законам моды, предписывающей особый наряд для восьми часов утра, полудня, четырех часов дня и для вечера; быть хорошо принятым во всех посольствах и срывать там недолговечные цветы поверхностной дружбы с представителями различных наций; обладать приятной наружностью и носить с достоинством свое имя, свой фрак и свою голову; жить на прелестных маленьких антресолях, обставленных так, как были обставлены описанные мною антресоли на набережной Малакэ; иметь возможность приглашать друзей в «Роше де Канкаль», не ощупывая предварительно свои карманы; не останавливать ни одного из своих разумных порывов словами: «А деньги?»; обновлять, по желанию, розовые кисточки на челках трех своих чистокровных лошадей и всегда иметь свежую подкладку на собственной шляпе, – то все они, и даже такие выдающиеся люди, как мы с вами, сказали бы в один голос, что это – еще неполное счастье, что это – церковь Мадлен без алтаря, что нужно любить и быть любимым, или любить, но не быть любимым, или быть любимым, но не любить, или иметь возможность любить кого угодно и как угодно. Перейдем же к счастью духовному.
Когда в январе 1823 года, прекрасно устроив свои дела, Годфруа освоился и пустил корни в различных кругах парижского общества, которые ему нравилось посещать, он ощутил необходимость найти прибежище под сенью дамского зонтика, иметь право жаловаться на жестокосердие какой-нибудь светской женщины, а не жевать хвостик розы, купленной за десять су у мадам Прево, подобно юнцам, которые пищат в коридорах Оперы, словно цыплята в клетке. Словом, он решил посвятить свои чувства, свои помыслы и стремления женщине. Женщина! Ах! Женщина! Сперва у него явилась нелепая мысль обзавестись несчастной любовью, и он увивался некоторое время вокруг своей прелестной кузины госпожи д'Эглемон, не замечая, что некий дипломат уже протанцевал с ней вальс из «Фауста». 1825 год прошел в поисках, попытках и бесплодном кокетстве. Требуемый предмет любви не находился. Пылкая страсть стала ныне большой редкостью. В то время в области нравов воздвигалось не меньше баррикад, чем на улицах. Воистину, братья мои, неприлично добирается и до нас! Так как нас упрекают в том, что мы вторгаемся в область художников-портретистов, аукционистов и модисток, я избавлю вас от описания особы, в которой Годфруа узнал свою суженую. Возраст – девятнадцать лет; рост – метр пятьдесят сантиметров; волосы – белокурые; брови – idem; глаза – голубые, лоб обыкновенный, нос – с горбинкой, рот – маленький, подбородок – короткий и слегка выдающийся вперед, лицо – овальное; особых примет не имеется. Таков паспорт любимого существа. Не будьте требовательней, чем полиция, господа мэры французских городов и общин, жандармы и прочие власти предержащие. Короче говоря, то был известный вам штамп нынешних Венер Медицейских. В первый же раз, как Годфруа явился к госпоже де Нусинген, пригласившей его на один из своих балов, которыми она без особого труда завоевала себе известность, он увидел во время кадрили существо, достойное любви, и был пленен этой фигуркой в сто пятьдесят сантиметров. Пушистые белокурые волосы ниспадали легкими каскадами, обрамляя личико, наивное и свежее, как у наяды, выставившей носик в хрустальное оконце своего ручья, чтобы полюбоваться весенними цветами. (Это наш новый стиль: фразы тянутся, как макароны, которые нам только что подавали.) Для описания ее бровей – да простит нам префектура полиции – нежному Парни потребовалось бы целых шесть стихов, и сей игривый поэт галантнейшим образом сравнил бы их с луком Купидона, не преминув отметить, что под бровями таились стрелы, хотя и без острых наконечников, ибо и сейчас еще в моде то выражение овечьей кротости, с которым госпожа де Лавальер на каминных экранах свидетельствует свою нежность перед богом, не получив возможности засвидетельствовать ее перед нотариусом. Знаете ли вы, какое действие производят белокурые волосы и голубые глаза в сочетании с томным, полным неги, но благопристойным танцем? Юная блондинка не разит вас дерзко в сердце, подобно брюнеткам, которые своим взглядом, кажется, так и говорят вам на манер испанского нищего: «Кошелек или жизнь! Пять франков или полное презрение!» Эти вызывающие и не совсем безобидные красотки могут нравиться многим мужчинам; но, по-моему, блондинка, наделенная счастливым даром казаться необычайно нежной и снисходительной и не теряющая при этом своих прав на упреки, поддразниванье, болтливость, неосновательную ревность – словом, на все то, что делает ее очаровательной женщиной, имеет больше шансов найти мужа, чем жгучая брюнетка. Рога на лоб? Себе дороже!
Изора, белокурая, как большинство эльзасок (она появилась на свет божий в Страсбурге и говорила по-немецки с легким и очень милым французским акцентом), танцевала бесподобно. Ее ножки, которых не отметил полицейский чиновник, но которые свободно могли быть занесены под рубрикой «особые приметы», отличались миниатюрностью, а по выразительности, называемой старыми учителями танцев тип-топ, могли сравниться с пленительной речью мадмуазель Марс, ибо все музы – сестры, а танцор и поэт – оба стоят ногами на земле. Ножки Изоры изъяснялись с многообещающей для сердечных дел легкостью, четкостью и проворством. «У нее тип-топ!» – было высшей похвалой в устах Марселя, единственного учителя танцев, которого с полным основанием называли «великим». Говорили: «великий Марсель» – совершенно так же, как говорили «Фридрих Великий» в царствование Фридриха!
– Он сочинял балеты? – спросил Фино.
– Да, что-то вроде «Четырех стихий» и «Галантной Европы».
– Ах, какое это было время, – сказал Фино, – когда вельможи одевали балетных танцовщиц!
– Неприлично! – возразил Бисиу. – Изора не поднималась на носках, она не отрывалась от земли, плавно покачивалась, и в движениях ее было как раз столько неги, сколько полагается для молодой девушки. Марсель говорил с глубокомыслием философа, что каждому общественному положению приличествует свой танец: замужняя женщина должна танцевать не так, как молодая девица, судейский крючок не так, как денежный туз, военный не так, как паж; он утверждал даже, будто пехотинец должен танцевать иначе, чем кавалерист, и на этом различии строил весь анализ общества. Как далеко мы ушли от всех этих тонкостей!
– Ах, – сказал Блонде, – ты коснулся открытой раны. Если б Марсель был верно понят, не произошло бы Французской революции.
– Исколесивши Европу, – продолжал Бисиу, – Годфруа, на свою беду, основательно изучил чужеземные танцы. Без этих глубоких познаний в хореографии, которую обычно считают вздором, он, может быть, и не влюбился бы в молодую девушку; но из трехсот приглашенных, толпившихся в красивых залах на улице Сен-Лазар, один только он способен был понять неизданную поэму любви, рассказанную красноречивым танцем. Талант Изоры д'Альдригер отнюдь не остался незамеченным; но в наш век, когда каждый кричит: «Вперед, вперед, не задерживайтесь!» – один из ценителей сказал (это был писец нотариуса): «Ловко отплясывает молодая девица». Другая ценительница (дама в тюрбане): «Она танцует бесподобно». Третья (тридцатилетняя женщина): «Девочка недурно танцует». Вернемся же к великому Марселю и скажем, пародируя знаменитое его изречение: «Сколько смысла заложено в фигуре кадрили!»
– Нельзя ли ближе к делу, – заметил Блонде, – очень уж ты замысловато рассказываешь.
– Изора, – продолжал Бисиу, недовольный тем, что Блонде его прервал, – была в простом платье из белого крепа, отделанном зелеными лентами, с камелией в волосах, камелией у пояса, еще одной камелией на оборке юбки и камелией…
– Ну вот! Теперь пошли триста коз Санчо!
– Но ведь в этом-то и суть литературы, дорогой мой! «Кларисса» – шедевр, и в ней четырнадцать томов, а самый посредственный водевилист изложит тебе сюжет этого романа в одном акте. Если мой рассказ интересен, на что ты жалуешься? Туалет Изоры был очарователен, но, может быть, тебе не нравятся камелии? Ты предпочитаешь георгины? Нет? Тогда получай каштан! – воскликнул Бисиу, очевидно, запустив каштаном в Блонде, ибо мы услышали, как что-то стукнуло о тарелку.
– Я виноват, признаюсь! Рассказывай дальше, – смирился Блонде.
– Продолжаю, – сказал Бисиу. – «Вот на ком бы жениться!» – обратился Растиньяк к Боденору, указывая на малютку с непорочно белыми камелиями. Растиньяк был одним из близких друзей Годфруа. «Я как раз об этом подумал, – ответил ему Годфруа шепотом. – Чем вечно дрожать за свое счастье, выискивать способ шепнуть словечко в рассеянно слушающее тебя ушко, высматривать в Итальянской опере, какой цветок, белый или красный, украшает ее прическу, следить, не высунулась ли из окна кареты в Булонском лесу затянутая в перчатку ручка, как это принято на Корсо в Милане; чем проглатывать наспех за дверью кусочек торта, точно лакей, допивающий вино, оставшееся на донышке бутылки; чем пускать в ход всю изобретательность, чтобы, как почтальон, сунуть записку и получить ответ; чем радоваться двум строчкам нежнейших излияний и быть вынужденным прочесть сегодня пять фолиантов, а завтра строчить послание в два листа, что крайне утомительно; чем спотыкаться на ухабах и пробираться вдоль изгороди, – не лучше ли, спрашиваю я, предаться упоительной страсти, которой так завидовал Жан-Жак Руссо, полюбить попросту молодую девушку, вроде Изоры, и жениться, если, сблизившись с нею, почувствуешь сродство душ, – словом, стать счастливым Вертером!» – «Что ж, решение не хуже всякого другого, – серьезно ответил Растиньяк. – На твоем месте я бы погрузился, пожалуй, в эти безгрешные радости; такой аскетизм нов, оригинален и стоит сравнительно недорого. Твоя Мона Лиза очаровательна, но, предупреждаю тебя, глупа, как балетная музыка».
Тон, которым была произнесена последняя фраза, показался Годфруа подозрительным, он решил, что Растиньяк умышленно старается разочаровать его, и, как бывший дипломат, узрел в нем соперника. Неудавшаяся карьера нередко налагает отпечаток на всю нашу последующую жизнь. Годфруа врезался по уши в мадмуазель Изору д'Альдригер. Растиньяк разыскал рослую девицу, которая беседовала с кем-то в соседней гостиной, где шла игра в карты, и шепнул ей на ухо: «Мальвина, ваша сестра поймала только что в сети рыбку весом в восемнадцать тысяч франков ренты. Он знатен, хорошо воспитан, положение в свете; понаблюдайте-ка за ними, и, если дело пойдет на лад, станьте наперсницей Изоры и не давайте ей сказать ни слова без подсказки». Около двух часов ночи лакей, подойдя к маленькой сорокалетней альпийской пастушке, кокетливой, как Церлина из оперы «Дон-Жуан», возле которой сидела Изора, доложил: «Карета госпожи баронессы подана». И Годфруа увидел, как его красавица из немецкой баллады увлекла свою удивительную мамашу в вестибюль; за ними последовала и Мальвина. Годфруа, сделав вид (какое ребячество!), что идет узнать, к какой банке варенья пристроился его Джоби, имел счастье лицезреть, как Изора и Мальвина укутывали свою резвую маменьку в шубу и помогали друг другу одеться перед ночным путешествием по Парижу. Обе сестры украдкой посмотрели на него, как опытные кошки, которые, не подавая вида, наблюдают за мышью. Годфруа почувствовал некоторое удовлетворение при виде вышколенного и выдержанного долговязого эльзасца в хорошей ливрее и свежих перчатках, принесшего трем своим госпожам меховые сапожки. Никогда еще, пожалуй, две сестры не были столь несхожи, как Изора и Мальвина. Старшая – высокая брюнетка, Изора – маленькая и хрупкая блондинка; у одной черты лица тонкие и нежные, у другой – крупные и резкие; Изора принадлежала к числу женщин, которые покоряют своей слабостью, опекать их считает своим долгом даже школьник; Мальвина походила на героиню поэмы «Видали ль вы в Барселоне?». Рядом с сестрой Изора казалась миниатюрой возле портрета, писанного маслом. «Она богата!» – сказал Годфруа Растиньяку, вернувшись в бальный зал. «Кто?» – «Эта молодая особа», – «А, Изора д'Альдригер! Ну да. Ее мать вдова; Нусинген когда-то служил в Страсбурге у отца Изоры. Если хочешь снова увидеть ее, вверни два-три комплимента госпоже де Ресто: получишь приглашение на бал, который она дает послезавтра, – баронесса с дочерьми будет там». Три дня перед мысленным взором Годфруа стояла его Изора, он отчетливо видел выражение ее лица и белые камелии; так после долгого созерцания какого-нибудь ярко освещенного предмета мы, закрыв глаза, видим его уменьшенным, но в лучезарном блеске и радуге ярких красок – единственной сверкающей точкой среди мрака.
– Бисиу, ты гениален! Набросай нам побольше таких картин, – сказал Кутюр.
– Извольте! – ответил Бисиу, становясь, по-видимому, в позу лакея из ресторана. – Вот картина, которую вы заказывали, господа! Внимание, Фино! Тебя приходится все время дергать за узду, как дергает кучер дилижанса ленивую клячу! Госпожа Теодора-Маргарита-Вильгельмина Адольфус (банкирский дом «Адольфус и компания» в Мангейме), вдова барона д'Альдригера, отнюдь не была толстой и добродушной немкой, рассудительной и солидной, убеленной сединами, с желтоватым, как пивная пена, лицом, наделенной всеми патриархальными добродетелями, которыми, по уверениям романистов, славится Германия. У нее были еще свежие щеки, с ярким, как у нюрнбергской куклы, румянцем, легкомысленные кудряшки, взбитые на висках, на голове ни единого седого волоса, задорный взгляд; ее тонкая талия отличалась стройностью, которая еще более подчеркивалась платьями с корсажем. Вокруг глаз и на лбу у нее появилось, правда, несколько предательских морщинок, которые она, подобно Нинон де Ланкло, охотно переместила бы на пятки, но они упорно держались на самых видных местах. Нос ее тоже потерял свои прежние очертания, и кончик его покраснел, что было особенно неприятно, так как яркостью он мог поспорить с румянцем щек. Единственная наследница, избалованная родителями, а позднее избалованная мужем, избалованная всем Страсбургом и балуемая теперь обожавшими ее дочерьми, баронесса разрешила себе одеваться в розовое, носить короткую юбку и бант на мысике корсажа, обрисовывавшего ее талию. Встретив баронессу на бульваре, парижанин не сможет сдержать улыбки и осудит ее, не приняв во внимание смягчающих вину обстоятельств, в отличие от нынешних присяжных заседателей, которые находят их даже для братоубийцы! Насмешник всегда существо поверхностное, а следовательно, и жестокое; он не задумывается над тем, что значительная доля ответственности за смешное, над которым он потешается, лежит на обществе, ибо природа создает лишь неразумных тварей, глупцами же мы обязаны общественному строю.
– Я особенно ценю в Бисиу то, что он всегда верен себе, – сказал Блонде. – Если он издевается над другими, он смеется и над самим собой.
– Я тебе за это отплачу, Блонде, – пригрозил Бисиу. – Если маленькая баронесса была легкомысленна, беззаботна, эгоистична и нерасчетлива, то виноваты в этом банкирский дом «Адольфус и компания» в Мангейме и слепая любовь барона д'Альдригера. Баронесса, кроткая как овечка, обладала нежным сердцем, способным на лучшие чувства, – правда, чувства эти были непрочны, а потому часто менялись. Когда умер барон, пастушка чуть было за ним не последовала – так искренне и сильно она горевала; но… на другой день ей подали к завтраку зеленый горошек, который она так любила, и это восхитительное блюдо смягчило ее горе. Дочери и слуги слепо любили ее, и все домашние были счастливы, когда удалось избавить ее от тягостного зрелища похорон. В то время как в церкви звучал реквием, Изора и Мальвина, глотая слезы, отвлекали внимание обожаемой матери, выбирая вместе с ней фасоны для ее траурных туалетов. Знаете ли вы, о чем говорят стоящие или сидящие в церкви друзья покойного, облаченные в траурные одежды, когда гроб водружен на большой черно-белый, закапанный воском катафалк, который должен обслужить три тысячи вполне приличных покойников, прежде чем выйдет в отставку, – так, по крайней мере, уверял меня философски настроенный факельщик между двумя стаканчиками белого вина, – и когда равнодушные певчие тянут «Dies irae», а не менее равнодушные священники служат заупокойную мессу. Вот вам картина, которую вы изволили заказывать. Видите вы их?
«Сколько, по-вашему, оставил папаша д'Альдригер?» – спрашивает Дерош у Тайфера, устроившего нам перед смертью такую великолепную оргию…
– Разве Дерош был уже тогда стряпчим?
– Он купил контору в 1822 году, – сказал Кутюр. – Это был смелый шаг со стороны сына мелкого чиновника, никогда не получавшего больше тысячи восьмисот франков в год, и продавщицы гербовой бумаги. Но с 1818 по 1822 год он работал, как каторжный. Ведь он поступил к Дервилю четвертым писцом, а уже в 1819 году стал вторым.
– Дерош?!
– Да! – сказал Бисиу. – Дерош, как и мы с вами, валялся на гноище Иова. Но ему наскучило ходить в узком фраке с чересчур короткими рукавами. Он с отчаянья ушел с головой в изучение права и приобрел звание поверенного. У него не было ни гроша за душой, ни клиентов, ни друзей, кроме нас, а надо было оплатить купленную контору и внести залог.
– Он походил тогда на тигра, сбежавшего из Зоологического сада, – сказал Кутюр. – Рыжий, тощий, с желтым лицом и глазами табачного цвета, холодный и флегматичный с виду, но готовый отнять последний грош у вдовы и обидеть сироту, гроза своих писцов, которые минуты не смели сидеть без дела, и при всем том трудолюбивый, знающий, изворотливый, двуличный, елейно красноречивый, никогда не выходящий из себя и злобный, как настоящий сутяга.
– Но в нем есть и хорошие черты, – воскликнул Фино, – он верен друзьям и начал с того, что взял к себе в старшие письмоводители Годешаля, брата Мариетты.
– В Париже, – заявил Блонде, – имеется только два сорта стряпчих. Есть стряпчий – честный человек, он действует в рамках закона, не гоняется за клиентами, продвигает дела, ничего не упускает, дает доверителям добросовестные советы, а в спорных случаях уговаривает пойти на мировую – словом, такой, как Дервиль. Но есть и другой тип – стряпчий изголодавшийся, готовый взяться за любое дело, если издержки заранее оплачены, готовый не только горы своротить, – их он лучше пустит в оборот, – но даже сдвинуть с места светила небесные; он способен помочь мошеннику против честного человека, если этот честный человек случайно упустит какую-нибудь формальность. Когда такой стряпчий проделывает уж слишком жульнический фокус, суд лишает его права практики. Наш друг Дерош овладел тайнами этого ремесла, которым с грехом пополам промышляли незадачливые горемыки; скупив исковые требования у людей, боявшихся проиграть процессы, он пустился в крючкотворство, твердо решив выбиться из нищеты. Он действовал разумно и свято соблюдал правила своего ремесла. Он нашел покровителей среди политических деятелей, которым помогал выпутаться из затруднительных обстоятельств, как это было с нашим другом де Люпо, когда его положение пошатнулось. Это потребовалось Дерошу потому, что на него все же начали косо поглядывать в суде! На него, который, не щадя трудов, исправлял ошибки своих клиентов!.. Ну ладно, Бисиу, продолжай!.. Почему Дерош присутствовал в церкви?
– «Д'Альдригер оставил семьсот или восемьсот тысяч франков», – ответил Дерошу Тайфер. – «Бросьте, только один человек знает, какое у них состояние», – возразил друг покойного, Вербруст. – «Кто?» – «Толстый плут Нусинген. Он проводит гроб до самого кладбища, д'Альдригер был когда-то его патроном, и Нусинген из благодарности пускал в оборот его капиталы». – «Теперь вдове придется туговато». – «Что вы этим хотите сказать?!» – «Но д'Альдригер так любил жену! Не смейтесь же, на нас смотрят». – «А вот и дю Тийе! Поздненько он явился, прямо к «Посланию апостолов». – «Он, видно, женится на старшей». – «Ну что вы, – возразил Дерош. – Он теперь больше, чем когда-либо, пришит к юбке госпожи Роген». – «Дю Тийе? К юбке?.. Плохо же вы его знаете!» – «Известна ли вам роль Нусингена и дю Тийе в этом деле?» – спросил Дерош. «Вот она какова, – сказал Тайфер, – Нусинген способен прикарманить капитал своего бывшего патрона и вернуть его…» – «Кхе! Кхе! – кашлянул Вербруст. – Чертовски сыро в этих церквах! Кхе! Кхе! То есть как вернуть?» – «Да так: Нусинген знает, что у дю Тийе большое состояние, он хотел бы женить его на Мальвине, но дю Тийе Нусингену не доверяет. Занятно наблюдать за всем этим тому, кто разбирается в игре». – «Неужели Мальвина уже девица на выданье?.. – спросил Вербруст. – Как время-то летит!» – «Мальвине уж больше двадцати лет, дорогой мой! Папаша д'Альдригер женился в 1800 году. Он задавал нам в Страсбурге пиры на славу, сперва по случаю своего бракосочетания, затем по случаю рождения Мальвины. Родилась она в 1801 году, во время подготовки Амьенского мира, дорогой папаша Вербруст, а теперь у нас 1823 год. Тогда в моде был Оссиан, и д'Альдригер назвал дочь Мальвиной. Шесть лет спустя, во времена Империи, в моду вошли рыцарские штучки: «Как в Сирию собрался» и прочая чепуха. А потому вторую дочь он назвал Изорой, ей сейчас семнадцать лет. Две девицы на выданье». – «Через десять лет у этих женщин не будет ни гроша», – доверительно шепнул Вербруст Дерошу. «Видите старика, который плачет-заливается там, в глубине церкви? – сказал Тайфер. – Это камердинер д'Альдригера; обе барышни выросли на его руках, он пойдет на все, чтобы сохранить им средства к жизни». (Певчие: Dies irae! Детский хор: Dies illa!) Тайфер: «До свиданья, Вербруст, когда я слышу Dies irae, я слишком живо вспоминаю своего бедного сына». – «Я тоже ухожу, здесь очень сыро», – сказал Вербруст. (In favilla. Нищие на паперти: «Подайте милостыньку, господа хорошие!» Церковный сторож: «Дзинь! Дзинь! Жертвуйте на нужды храма!» Певчие: «Аминь!» Друг покойного: «Отчего он умер?» Шутник из толпы зевак: «Кровеносный сосуд на пятке лопнул!» Прохожий: «Не знаете ли, кого хоронят?» Один из родственников: «Президента де Монтескье». Ризничий нищим: «Ступайте вон! Довольно попрошайничать, нам уж для вас дали!»)
– Блестяще! – воскликнул Кутюр.
(Нам действительно казалось, что мы слышим то, что происходит в церкви. Бисиу изображал все, вплоть до шума шагов следовавших за гробом людей, – он воспроизводил его, шаркая по полу ногами.)
– Есть романисты, поэты, писатели, которые восхваляют парижские нравы, – продолжал Бисиу. – Но вот вам истинная правда о столичных похоронах: из ста человек, пришедших отдать последний долг бедняге покойнику, девяносто девять говорят во время панихиды о своих делах и развлечениях. Только чудом можно наткнуться хоть на какое-то подобие искренней скорби. Да и бывает ли вообще скорбь без эгоизма?..
– Увы! – сказал Блонде. – Ничто не внушает к себе так мало уважения, как смерть, но, может быть, она и не заслуживает уважения?..
– Да, это такое обыденное явление! – подхватил Бисиу. – После панихиды Нусинген и дю Тийе проводили покойника до кладбища. За гробом шел пешком старый слуга. Экипаж банкира следовал за каретой духовенства.
– «Ну, торокой трук, – обратился Нусинген к дю Тийе. когда они огибали бульвар, – фот утопный слушай шениться на Мальфине: фы путете сашитником этой петной рытающей семьи; у фас путет сфоя семья, семейный ошак, том полная тшаша, а Мальфина – это клат».
– Ну в точности Нусинген, этот старый Робер Макэр! Я прямо слышу его, – воскликнул Фино.
– «Очаровательная девица», – с жаром откликнулся Фердинанд дю Тийе, не теряя, однако, ледяного спокойствия, – продолжал Бисиу.
– Весь дю Тийе в двух словах! – воскликнул Кутюр.
– «С первого взгляда она может показаться дурнушкой; но, должен признаться, в ней много души», – сказал дю Тийе.
– «И сертца, а это клафное, мой торокой, она путет претанной и умной шеной. Ф нашем собашьем ремесле не снаешь, кому ферить. Польшое шастье, если мошно полошиться на сертце сопстфенной супруки. Я охотно променял пы Тельфину, – а она принесла мне польше миллиона пританого, – на Мальфину, у которой пританое меньше». – «А сколько именно?» – «Не снаю тошно, но што-то есть». – «Есть мать, которая обожает розовый цвет», – ответил дю Тийе и этими словами положил конец попыткам Нусингена. После обеда барон сообщил Вильгельмине Адольфус, что у него в банке осталось всего лишь около четырехсот тысяч франков ее денег. Наследница мангеймских Адольфусов, весь доход которой сводился теперь к двадцати четырем тысячам франков в год, запуталась в слишком сложных для ее головы вычислениях… «Как же так, – говорила она Мальвине, – как же так, ведь только на портниху у нас уходило по шести тысяч франков в год. Откуда же твой отец брал эти деньги? На двадцать четыре тысячи франков нам не свести концов с концами, это нищета! О! если б жив был мой покойный отец, он умер бы с горя, увидев, до чего меня довели! Бедняжка Вильгельмина!» И она залилась слезами. Чтобы утешить мать, Мальвина стала доказывать ей, что она еще молода и хороша собой, что розовый цвет ей по-прежнему к лицу, что в Опере и у Итальянцев для нее всегда найдется место в ложе госпожи де Нусинген. Она убаюкала мать, и баронесса, грезя о празднествах, балах, музыке, изящных туалетах, успехе, уснула за голубым шелковым пологом в нарядной спальне – рядом с комнатой, где две ночи назад испустил дух Жан-Батист барон д'Альдригер. Вот в нескольких словах его история.
Этот почтенный эльзасец, страсбургский банкир, сколотил себе при жизни состояние приблизительно в три миллиона. В 1800 году, тридцати шести лет от роду, в апогее своей сделанной во время революции финансовой карьеры он женился по расчету и по сердечной склонности на дочери мангеймских Адольфусов, девушке, обожаемой всей семьей, богатство которой она и унаследовала лет через десять. Так как состояние д'Альдригера удвоилось, он получил от его величества короля и императора титул барона. Он воспылал страстью к великому человеку, наградившему его этим титулом, и в 1814-1815 годах разорился, ибо слишком верил в солнце Аустерлица. Честный эльзасец не прекратил платежей, не пытался всучить своим кредиторам обесцененные бумаги; он расплатился полностью и без всяких задержек, а затем ликвидировал свой банкирский дом, чем и заслужил краткий отзыв своего бывшего старшего служащего Нусингена: «Шестный шелофек, но турак!» У д'Альдригера осталось в конечном счете пятьсот тысяч франков и обязательства Империи, уже переставшей существовать. «Фот к шему прифела слишком польшая фера ф Наполеона!» – воскликнул д'Альдригер, увидев результаты ликвидации. Если кто-нибудь был первым в городе, то как остаться там на второстепенных ролях?.. Эльзасский банкир поступил, как все разорившиеся провинциалы: он перебрался в Париж, храбро носил там трехцветные подтяжки с вышитыми на них императорскими орлами и стал вращаться в бонапартистских кругах. Он поместил свое состояние у Нусингена; тот предложил ему по восьми процентов на круг и принял даже обязательства Империи, на которых д'Альдригер потерял при этом только шестьдесят процентов; по этому случаю он горячо пожал Нусингену руку со словами: «Я пыл тферто уферен, што найту ф тепе сертце эльсасца». А Нусинген с помощью нашего друга де Люпо получил по этим бумагам полностью. Хотя эльзасца здорово пощипали, у него осталось все же сорок четыре тысячи франков годового дохода, но, к довершению беды, на него напал сплин, овладевающий людьми, привыкшими к деловому азарту и оказавшимися не у дел. Банкир (благородная душа!) твердо решил жертвовать собой для жены, состояние которой было поглощено катастрофой, она отдала его с легкостью неопытной девушки, ничего не смыслящей в делах. Баронесса д'Альдригер вновь обрела таким образом привычные радости, а пустота, которую она могла бы почувствовать, лишившись страсбургского общества, была заполнена парижскими развлечениями. Банкирский дом Нусингена уже занимал тогда, как и сейчас, первенствующее место в финансовом мире, и барон ловкий счел своим долгом окружить вниманием барона честного. Добродетель д'Альдригера служила украшением гостиной Нусингена. С каждым годом состояние д'Альдригера таяло; но он не решался сделать ни малейшего упрека жемчужине Адольфусов; его любовь к ней была самой нерасчетливой и самой безрассудной на свете. Хороший человек, но дурак! Умирая, он спрашивал себя: «Что будет с ними без меня?» Оставшись как-то наедине со своим старым камердинером Виртом, он меж двух припадков удушья поручил ему свою жену и двух дочерей, словно этот эльзасский Калеб был единственным разумным существом в доме.
Через три года, в 1826 году, Изоре исполнилось уже двадцать лет, а Мальвина все еще не была замужем. Выезжая в свет, Мальвина поняла в конце концов, как поверхностны там отношения между людьми, как все там рассчитано и взвешено. Подобно большинству так называемых хорошо воспитанных девиц, Мальвина не имела понятия ни о скрытых пружинах, управляющих жизнью, ни о могуществе денег, ни о трудности заработать хотя бы грош, ни о действительной стоимости вещей. И каждый новый опыт в этой области наносил ей рану. Четыреста тысяч франков, оставшиеся после покойного д'Альдригера в банкирском доме Нусингена, целиком значились на счету баронессы, так как она имела право унаследовать после смерти мужа не менее миллиона двухсот тысяч франков; в минуты затруднений альпийская пастушка черпала оттуда, как из неиссякаемого источника. В тот момент, когда наш голубок устремился к своей горлице, Нусинген, который знал характер вдовы своего бывшего патрона, счел нужным посвятить Мальвину в денежные дела баронессы: на ее счету в банке оставалось всего лишь триста тысяч франков, и двадцать четыре тысячи годового дохода сократились теперь до восемнадцати. В течение трех лет Вирт всячески старался спасти положение! После сообщения банкира Мальвина без ведома матери отказалась от собственного выезда, продала лошадей и карету и рассчитала кучера. Обстановку особняка, служившую уже десять лет, обновить не представлялось возможным; но вся она износилась в равной мере, а для любителей гармонии – это уже полбеды. Баронесса – прекрасно сохранившийся цветок – напоминала теперь съежившуюся розу, прихваченную морозом и случайно уцелевшую на кусте до середины ноября. Я собственными глазами мог наблюдать, как мало-помалу, оттенок за оттенком, полутон за полутоном таяло благосостояние этой семьи. Грустное зрелище! Честное слово! Это было мое последнее огорчение. Затем я подумал: «Что за нелепость принимать так близко к сердцу чужие дела!» Во время своей службы в министерстве я имел глупость интересоваться домами, куда бывал зван на обеды, защищал принимавших меня людей, если о них злословили, сам никогда не клеветал на них, никогда не… Словом, я был ребенком!
Когда дочь объяснила баронессе истинное положение вещей, бывшая жемчужина воскликнула: «Бедные мои дети! Кто ж теперь будет шить мне платья? Значит, у меня не будет больше свежих чепчиков! Я не смогу устраивать приемы и выезжать в свет!» – Как, по-вашему, по какому признаку узнается влюбленный мужчина? – вдруг сам себя прервал Бисиу. – Требуется установить, действительно ли Боденор был влюблен в эту блондиночку.
– Влюбленный запускает свои дела, – ответил Кутюр.
– Трижды в день меняет сорочки, – сказал Фино.
– Предварительно один вопрос, – вмешался Блонде, – может и должен ли выдающийся человек влюбляться?
– Друзья мои, – сентиментальным тоном продолжал Бисиу, – как ядовитой гадины, остерегайтесь мужчины, который, почувствовав себя влюбленным, говорит, прищелкнув пальцами или отшвырнув сигарету: «Вот еще! Свет на ней не клином сошелся!» Правительство, впрочем, найдет применение такому гражданину в Министерстве иностранных дел. Заметь, Блонде, что Годфруа оставил дипломатическую службу.
– Значит, он был влюблен по уши. Ведь только любовь может обогатить душу глупца, – отозвался Блонде.
– Блонде, Блонде, почему же мы с тобой так бедны? – воскликнул Бисиу.
– И почему так богат Фино? – подхватил Блонде. – Я объясню тебе это, сынок, ведь мы понимаем друг друга. Смотри, Фино наливает мне столько вина, как будто я принес ему охапку дров. Но в конце обеда вино надо только медленно прихлебывать. Итак, что было дальше?
– Так вот, влюбленный по уши, как ты сказал, Годфруа заводит близкое знакомство с рослой Мальвиной, легкомысленной баронессой и маленькой танцоркой. Он дает обет послушания и строго до мелочей выполняет его. О, его не отпугнули бренные останки былой роскоши! Он даже постепенно привык ко всей этой рухляди. Зеленый китайский шелк с белыми разводами, которым была обита мебель в гостиной, не казался ему ни выцветшим, ни старым и грязным, ни требующим замены. Гардины, чайный столик, китайские безделушки, украшавшие камин, люстра в стиле рококо, вытертый до основы поддельный кашмирский ковер, фортепьяно, чайный сервиз в цветочках, салфетки с бахромой и с дырочками, в испанском вкусе, гостиная в персидском стиле со всем ее убранством, голубая спальня баронессы – все в этом доме казалось ему священным и неприкосновенным. Только женщины недалекие, у которых красота затмевает ум, сердце и душу, могут внушить такую беззаветную страсть, ибо женщина умная никогда не злоупотребит своими преимуществами; нужно быть ничтожной и глупой, чтобы завладеть мужчиной.
Боденору – он сам мне в этом признавался – нравился всегда торжественный Вирт! Старый плут относился к своему будущему хозяину с таким же благоговением, как набожный католик к святому причастию. Честнейший Вирт был одним из тех немецких Гаспаров, любителей пива, которые прячут хитрость под личиной добродушия, подобно тому как средневековый кардинал прятал кинжал в рукаве одежды. Угадав в Годфруа мужа для Изоры, Вирт опутывал его сетью замысловатых слов и словечек с истинно эльзасским добродушием – самым клейким из липких веществ. Госпожа д'Альдригер была глубоко неприлична, она считала любовь самой естественной вещью на свете. Когда Изора и Мальвина отправлялись вдвоем на прогулку в Тюильри или Елисейские поля, где должны были встретиться с молодыми людьми своего круга, мать говорила им: «Хорошенько веселитесь, дорогие мои девочки!» Злословить о них могли только друзья, но они-то как раз и защищали обеих сестер, ибо салон д'Альдригеров был единственным местом в Париже, где царила полная непринужденность. Даже имея миллионы, трудно было бы устраивать такие вечера; здесь велись обо всем остроумные беседы, не обязателен был изысканный туалет, и каждый чувствовал себя до такой степени просто, что мог даже напроситься на ужин. Обе сестры писали, кому вздумается, и преспокойно получали письма под носом у матери; баронессе и в голову не приходило спросить, о чем им пишут. Эта чудесная мать позволяла своим дочерям извлекать выгоды из ее эгоизма – в некотором смысле удобнейшей черты человеческого характера, ибо эгоисты, не желая, чтобы их стесняли, сами никого не стесняют и не осложняют жизнь окружающих терниями советов, шипами укоризны или назойливостью осы, что разрешает себе слишком пылкая дружба, желающая все знать и всюду сующая свой нос…
– Ты растрогал меня до глубины души, – заявил Блонде, – но, друг мой, ведь ты не рассказываешь, а зубоскалишь!..
– Если бы ты не был пьян, Блонде, я огорчился бы! Из нас четверых Блонде единственный по-настоящему смыслит в литературе. Ради него я оказываю вам честь и обращаюсь с вами, как с гурманами, перегоняю и процеживаю свое повествование, а он меня критикует! Друзья мои! Нагромождение фактов – вернейший признак умственного бесплодия. Суть искусства в том, чтобы выстроить дворец на острие иглы, доказательством тому служит великолепная комедия «Мизантроп». Магическая сила моей мысли – в волшебном жезле, который в десять секунд (время, нужное, чтобы осушить этот бокал) может обратить песчаную равнину в Интерлакен. Неужели вы хотели бы, чтоб мой рассказ несся стремительно, как пушечное ядро, или походил на донесение главнокомандующего? Мы болтаем, смеемся, а этот журналист, этот ненасытный книгоненавистник, требует с пьяных глаз, чтобы я втиснул свое живое слово в нелепую книжную форму! (Бисиу притворился, что плачет.) Горе французской фантазии! Хотят притупить острие ее шуток! Dies irae! Оплачем же «Кандида», и да здравствует «Критика чистого разума», символика, все эти теории в пяти томах убористого шрифта, изданных немцами, которые и не подозревали, что уже в 1750 году эти теории были выражены в Париже в немногих остроумных словах, блестках нашего национального гения. Блонде – самоубийца, шествующий во главе процессии на собственных похоронах, – это он-то, сочиняющий для своей газеты последние слова великих людей, которые скончались, ничего не сказав!
– Ну, дальше, дальше! – попросил Фино.
– Я хотел объяснить вам, в чем счастье человека, не являющегося акционером (реверанс в сторону Кутюра!). Так вот, разве вам не ясно теперь, какой ценой Годфруа добился самого полного счастья, о котором только может мечтать молодой человек?.. Он изучал Изору, он хотел быть уверенным, что она поймет его!.. Взаимопонимание бывает лишь там, где есть подобие. А всегда подобны самим себе лишь небытие и бесконечность. Небытие – это глупость, бесконечность – это гений. Влюбленные строчили друг другу глупейшие в мире послания, исписывая надушенную бумагу модными в ту пору словечками: «Ангел! Эолова арфа! Мы с тобой нераздельное целое! Я мужчина, но и в моей груди бьется чувствительное сердце! Слабая женщина! О я, несчастный!» Словом, вся ветошь современной души. Годфруа не мог высидеть больше десяти минут ни в одной гостиной; беседуя с женщинами, не старался им нравиться, – и они решили, что он очень умен. Другого ума, кроме того, что ему приписывали, у него, впрочем, не было. Судите сами о степени его влюбленности: Джоби, лошади, экипажи – все отошло для него на второй план. Он бывал счастлив, лишь сидя в покойном кресле у зеленого мраморного камина, против баронессы, не спуская глаз с Изоры и беседуя за чайным столом в тесном кругу друзей, собиравшихся каждый вечер между одиннадцатью и двенадцатью часами на улице Жубер, где всегда можно было без риска перекинуться в картишки (я там постоянно выигрывал). Когда Изора кокетливо выставляла свою ножку в черном атласном башмачке, Годфруа подолгу любовался ею; потом, пересидев всех гостей, он говорил ей: «Дай мне твой башмачок…» Изора поднимала ножку, ставила ее на кресло, снимала башмачок, протягивала его Годфруа и дарила его при этом взглядом, и каким взглядом… словом, сами понимаете! Годфруа в конце концов заметил, что и у Мальвины есть тайна. Если в дверь стучал дю Тийе, яркий румянец, заливавший ее щеки, докладывал: «Фердинанд!» Когда бедняжка смотрела на этого двуногого тигра, глаза ее загорались, как тлеющий уголь на ветру; Мальвина сияла от счастья, если Фердинанд уединялся с нею в оконной нише или у столика, чтобы поболтать. Какое редкостное и прекрасное зрелище – женщина, так сильно влюбленная, что становится наивной и позволяет читать в своем сердце! Бог мой, это такая же редкость в Париже, как поющий цветок в Индии. Несмотря на эту дружбу, начавшуюся с того самого дня, как д'Альдригеры появились у Нусингенов, Фердинанд не женился на Мальвине. Наш жестокий друг дю Тийе не проявил ни малейшей ревности к Дерошу, усиленно ухаживающему за Мальвиной: ибо для того, чтобы иметь возможность полностью уплатить за приобретенную контору из приданого, которое, по его расчетам, составляло не менее пятидесяти тысяч экю, Дерош – эта судейская крыса – прикинулся влюбленным. Мальвина была до глубины души оскорблена безразличием дю Тийе, но слишком его любила, чтобы закрыть перед ним двери дома. В душе этой порывистой, глубоко чувствующей и пылкой девушки то гордость уступала любви, то оскорбленная любовь позволяла взять верх гордости. Наш друг Фердинанд принимал эту любовь с холодной невозмутимостью, он вдыхал аромат ее, спокойно наслаждаясь, как тигр, облизывающий свою окровавленную пасть; он являлся к Мальвине за все новыми доказательствами ее любви и чуть ли не через день бывал на улице Жубер. У этого негодяя к тому времени было уже около миллиона восьмисот тысяч франков, приданое как будто не должно было играть для него существенной роли, а он устоял не только против Мальвины, но и против баронов де Нусингена и де Растиньяка, которые вдвоем заставляли его проделывать, как на почтовых, по семидесяти пяти лье в день по лабиринтам своей хитрости и даже без путеводной нити. Не выдержав, Годфруа заговорил как-то со своей будущей свояченицей о нелепом положении, в которое она себя ставит. «Вы хотите пожурить меня за Фердинанда и проникнуть в тайну наших отношений? – сказала она с полной откровенностью. – Никогда больше не касайтесь этого вопроса, милый Годфруа. Ни происхождение Фердинанда, ни его прошлое, ни его богатство здесь никакой роли не играют, так что считайте, что это случай исключительный». Впрочем, через несколько дней Мальвина отвела Боденора в сторону и сказала ему: «Господин Дерош не производит на меня впечатление человека порядочного (вот что значит инстинкт в любви), он как будто намерен на мне жениться, а ухаживает между тем за дочерью какого-то лавочника. Мне бы очень хотелось знать, не приберегает ли он меня на крайний случай и не является ли для него брак просто денежной операцией?» При всей своей проницательности Дерош не сумел разгадать дю Тийе и боялся, как бы тот не женился на Мальвине. Предусмотрительный малый оставлял поэтому для себя лазейку, так как положение его становилось невыносимым: за вычетом всех расходов, его заработка едва хватало на уплату процентов по долгу. Женщины ничего не смыслят в подобных делах. Сердце для них – всегда миллионер!
– Но так как ни Дерош, ни дю Тийе не женились на Мальвине, – сказал Фино, – не объяснишь ли ты нам, в чем секрет поведения Фердинанда?
– Его секрет? Извольте, – отвечал Бисиу. – Общее правило: молодая девушка, хоть раз подарившая свой башмачок, хотя бы она десять лет в нем отказывала, никогда не выйдет замуж за того, кто…
– Вздор! – перебил его Блонде. – Любят также и потому, что уже любили. А секрет вот в чем. Общее правило: не женись сержантом, если надеешься стать герцогом Данцигским и маршалом Франции. Посмотрите, какую блестящую партию сделал дю Тийе. Он женился на дочери графа де Гранвиля, представителя одного из старейших семейств французской магистратуры.
– У матери Дероша была приятельница, – продолжал Бисиу, – жена одного москательщика, который, сколотив себе изрядное состояние, отошел от дел. У москательщиков бывают престранные фантазии: чтобы дать дочке блестящее образование, он поместил ее в пансион!.. Матифа рассчитывал на хорошую партию для своей дочери, – он давал за ней двести тысяч франков приданого в звонкой монете, которая, как известно, москательной лавкой не пахнет.
– Какой Матифа? Покровитель Флорины? – спросил Блонде.
– Ну да, Матифа, знакомец Лусто, – словом, наш Матифа! К тому времени уже погибшие для нас, Матифа поселились на улице Шерш-Миди, в квартале, расположенном вдали от Ломбардской улицы, где они нажили свое состояние. Я к ним захаживал, к этим Матифа. Когда я тянул свою лямку в министерстве и по восьми часов в день проводил среди идиотов чистейшей воды, я насмотрелся на чудаков, которые убедили меня, что и во мраке бывают просветы, что и на самой ровной поверхности попадаются бугорки. Да, дорогой мой! Один буржуа по сравнению с другим то же, что Рафаэль по сравнению с Натуаром. Вдова Дерош исподволь подготовляла этот брак, невзирая на серьезное препятствие в лице некоего Кошена, молодого чиновника Министерства финансов, сына компаньона Матифа по москательной торговле. По мнению супругов Матифа, профессия стряпчего представляла достаточную гарантию для счастья женщины. Дерош не возражал против материнских планов, решив сохранить эту лазейку на худой конец, и потому старательно поддерживал знакомство с москательщиками с улицы Шерш-Миди.
Если вы хотите полюбоваться счастьем иного рода, я набросаю вам портреты этих двух торговцев – самого Матифа и его дражайшей половины; они жили в то время на первом этаже, в прелестной квартирке, подолгу наслаждались в своем садике лицезрением фонтана – высокой и тоненькой, как колос, струйки воды, которая непрерывно била из круглой каменной плиты, возвышавшейся в центре бассейна шести футов в диаметре, – вскакивали чуть свет посмотреть, не распустились ли в их садике цветы; праздные, но суетливые, они наряжались, чтоб наряжаться, скучали в театре и всегда находились на полпути между Парижем и Люзаршем, где у них был загородный домик, – я там неоднократно обедал. Знаешь, Блонде, они как-то вздумали щегольнуть мной, и я с девяти часов вечера до полуночи плел им бессвязнейшую историю. Я собирался уже ввести в нее двадцать девятый персонаж (романы-фельетоны меня обокрали!), когда папаша Матифа, крепившийся в качестве хозяина дома дольше других, захрапел по примеру остальных, похлопав предварительно минуть пять глазами. На следующий день все расхваливали развязку моего рассказа. Общество этих лавочников составляли супруги Кошен, их сын Адольф, госпожа Дерош, маленький Попино, торговавший в то время аптекарскими и парфюмерными товарами на Ломбардской улице и приносивший оттуда Матифа все последние новости (твой знакомый, Фино!). Госпожа Матифа, которая слыла ценительницей искусства, скупала литографии, хромолитографии, раскрашенные картинки – словом, все, что подешевле. Сам же достопочтенный Матифа развлекался изучением вновь возникавших предприятий и поигрывал на бирже, чтобы испытать волнение в крови (Флорина навсегда отбила у него охоту к стилю Регентства). Приведу вам одну его фразу, вскрывающую всю сущность моего Матифа. Прощаясь на ночь с племянницами, добряк говорил им: «Спи спокойно, племянницы!» Он признавался, что боится обидеть их, сказав им «вы». Дочь Матифа, довольно неотесанная молодая девица, походившая на горничную из хорошего дома, могла с грехом пополам сыграть сонату, обладала красивым почерком, сносно знала французский язык и орфографию – словом, получила вполне законченное буржуазное воспитание. Ей не терпелось поскорее выскочить замуж, чтобы вырваться из родительского дома, где она томилась, как моряк на ночной вахте, – правда, вахта ее длилась дни и ночи напролет. Дерош или Кошен-сын, нотариус, гвардеец или самозваный английский лорд – для нее всякий муж был хорош. Ее явная неопытность внушила мне состраданье, и я решил посвятить ее в великую тайну жизни. Но не тут-то было! Матифа отказали мне от дома: мы с буржуа никогда не поймем друг друга.
– Она вышла замуж за генерала Гуро, – сказал Фино.
– Как бывший дипломат, Годфруа де Боденор раскусил семейство Матифа и их козни в течение сорока восьми часов, – продолжал Бисиу. – Случайно, когда он докладывал об этом Мальвине, Растиньяк беседовал у камина с ветреной баронессой. Он краем уха уловил несколько слов, догадался, о чем идет речь, а удовлетворенный и негодующий вид Мальвины подкрепил его предположения. Растиньяк остался до двух часов ночи – и его еще называют эгоистом! Боденор откланялся, как только баронесса ушла спать. «Дорогое дитя, – отечески добродушным тоном начал Растиньяк, оказавшись наедине с Мальвиной, – запомните на всю жизнь, как один бедный малый, которому до смерти хотелось спать, пил чай, чтобы не уснуть до двух часов ночи и иметь возможность торжественно сказать вам: «Выходите замуж!» Не привередничайте, не копайтесь в собственных чувствах, забудьте о недостойных расчетах людей, которые ведут двойную игру, бывая у вас и у Матифа, ни о чем не раздумывайте: «Выходите замуж!» Для молодой девушки выйти замуж – значит навязать заботы о себе мужчине, который обязывается создать ей более или менее счастливую жизнь и уж во всяком случае – доставлять ей средства к существованию. Я знаю свет: девицы, их маменьки и бабушки – все лицемерят, разглагольствуя о чувствах, когда речь идет о браке. Все думают лишь о хорошей партии. Удачно выдав дочь замуж, мать заявляет, что «прекрасно ее пристроила». И Растиньяк изложил Мальвине свою теорию брака, который, по его мнению, просто коммерческое сообщество, учреждаемое, чтобы прожить жизнь более или менее сносно. «Я у вас не выпытываю вашей тайны, – сказал он в заключение, – она мне и так известна. Мужчины все рассказывают друг другу, как и вы, женщины, когда покидаете нас после обеда. Так вот вам мое последнее слово: «Выходите замуж». Если вы не последуете моему совету, то запомните по крайней мере, что сегодня вечером я в вашей гостиной умолял вас выйти замуж!» В тоне Растиньяка было нечто, заставлявшее не только прислушаться к его словам, но и задуматься над ними. Его настойчивость наводила на размышления. Мысль Мальвины лихорадочно заработала, чего и добивался Растиньяк; она тщетно старалась понять, чем был вызван столь настойчивый совет, и еще на следующий день продолжала ломать себе голову.
– Все эти побасенки, которыми ты нас развлекаешь, ничуть не объясняют нам, откуда все-таки взялось состояние у Растиньяка. Ты, видно, принимаешь нас за Матифа, помноженных на шесть бутылок шампанского! – воскликнул Кутюр.
– Мы у цели, – возразил Бисиу. – Я дал вам возможность проследить за всеми ручейками, слившимися в сорок тысяч франков ренты Растиньяка – предмет зависти стольких людей. Он дергал тогда за ниточки все эти фигурки.
– Дероша, Матифа, Боденора, д'Альдригеров, д'Эглемона?..
– И сотню других!.. – сказал Бисиу.
– Допустим! Но как? – воскликнул Фино. – Я услышал много нового, а разгадки пока не вижу.
– Блонде рассказал вам в общих чертах о первых двух банкротствах Нусингена; вот вам подробности третьего банкротства, – продолжал Бисиу. – Еще в 1815 году, когда был заключен мир, Нусинген понял то, что нам стало понятным только теперь, а именно: что деньги могучая сила лишь тогда, когда их бесконечно много. В глубине души он завидовал братьям Ротшильдам. У него было пять миллионов, а он жаждал иметь десять! С десятью миллионами он сумел бы заработать тридцать, а с пятью – всего лишь пятнадцать. И он решил в третий раз прибегнуть к ликвидации. Этот великий финансист намеревался расплатиться с кредиторами ничего не стоящими бумажками, а их денежки оставить себе. На бирже такая идея не облекается в столь четкую математическую формулу. Сущность подобной ликвидации состоит в том, что взрослым детям предлагают пирожки по луидору за штуку, а они, словно настоящие дети, – не теперешние, конечно, – предпочитают пирожок золотой монете, не догадываясь, что за свой золотой могли бы получить сотни две пирожков.
– Ну так что ж? – воскликнул Кутюр. – Это вполне законно. Ведь сейчас недели не проходит без того, чтобы публике не предлагали пирожки по луидору за штуку. Разве публика обязана выкладывать свои денежки? Разве она не имеет права наводить необходимые справки?
– Вы предпочли бы, чтоб ее принуждали покупать акции, – заметил Блонде.
– Вовсе нет, – ответил Фино, – что осталось бы тогда на долю таланта?
– Ай да Фино! Здорово сказано! – воскликнул Бисиу.
– Где он только взял это словцо? – отозвался Кутюр.
– Дело в том, – продолжал Бисиу, – что Нусинген дважды, сам того не желая, продавал пирожки, которые, как оказалось, стоили больше, чем он за них получил. Он, не переставая, грыз себя из-за этого злополучного везения. Такое везение может вогнать человека в гроб. И барон десять лет ждал случая, чтобы на сей раз уж наверняка пустить в ход ценности, которые якобы что-то стоят, а на самом деле…
– Ну, – сказал Кутюр, – если так рассматривать банковские операции, всякая деловая жизнь станет невозможной. Многим честным банкирам, с разрешения честных правительств, удавалось уговорить самых ловких биржевиков приобретать бумаги, которые через некоторое время оказывались обесцененными. Больше того! Разве не выпускались в продажу с одобрения и даже при поддержке правительства облигации лишь для того только, чтобы из вырученных сумм оплатить проценты по другим облигациям, поддержать таким образом их курс и под шумок от них отделаться? Операции эти более или менее сходны с банкротством Нусингена.
– Когда цифры ничтожны, – вмешался Блонде, – дело может показаться странным; но когда пахнет миллионами – операция уже достойна высших финансовых кругов. Некоторые самовольные акты считаются преступными, если отдельный человек совершает их в отношении своего ближнего. Но они теряют преступный характер, если направлены против массы людей, подобно тому как капля синильной кислоты становится безвредной в чане воды. Вы убиваете человека – вас гильотинируют. Но если в силу каких-либо соображений государственного порядка убивают пятьсот человек, такое политическое преступление уважают. Вытащите пять тысяч франков из моего стола, и вы пойдете на каторгу. Но если вы, искусно раздразнив аппетиты тысячи биржевиков запахом будущей наживы, заставите их приобрести государственную ренту любой обанкротившейся республики или монархии, хотя новые облигации, как справедливо заметил Кутюр, выпускаются для того, чтобы оплатить проценты по старым облигациям этой же ренты, – никто и пикнуть не посмеет! Таковы истинные принципы золотого века, в который мы живем.
– Чтобы пустить в ход столь сложную машину, – снова заговорил Бисиу, – Нусингену потребовались, конечно, марионетки. Прежде всего банкирский дом Нусингена умышленно и вполне сознательно вложил пять миллионов в одно предприятие в Америке, причем все было рассчитано так, чтобы прибыль начала поступать слишком поздно. Нусинген опустошил свою кассу с заранее обдуманным намерением. Для ликвидации надо подыскать причины. У банкирского дома имелось тогда наличных денег на счетах разных лиц и ценных бумаг около шести миллионов. Среди вкладов были, между прочим, триста тысяч баронессы д'Альдригер, четыреста тысяч Боденора, миллион д'Эглемона, триста тысяч Матифа, полмиллиона Шарля Гранде, мужа мадмуазель д'Обрион, и так далее. Если бы Нусинген сам создал промышленное предприятие, акциями которого собирался рассчитаться с кредиторами, пустив в ход те или иные ловкие маневры, он все же не был бы свободен от подозрений. И он поступил хитрее: заставил другого создать ту машину, которая должна была сыграть для него такую же роль, какую играла «Миссисипи» в системе Лоу. Особенность Нусингена состоит в том, что он умоет принудить самых ловких дельцов служить своим целям, не открывая им своих планов. Нусинген как бы невзначай нарисовал перед дю Тийе грандиозную и соблазнительную картину акционерного общества, обладающего достаточно крупным капиталом, чтобы в первое время выплачивать акционерам весьма солидные дивиденды. Будучи первым примером своего рода, и притом в момент, когда простаков с капиталами имелось сколько угодно, эта комбинация должна была неминуемо повысить курс акций и принести хорошую поживу банкиру, который занимался их выпуском. Помните, что дело происходило в 1826 году. Хотя и увлеченный этой блестящей и многообещающей идеей, дю Тийе сообразил все же, что, если предприятие не будет иметь успеха, оно вызовет нарекания. Он предложил поэтому выдвинуть на первый план какую-нибудь подставную фигуру в качестве директора, заправляющего этой коммерческой машиной. Вы ведь уже знаете секрет банкирского дома Клапарона, основанного дю Тийе. Это – одно из лучших его изобретений!..
– Да, – сказал Блонде, – Клапарон – это своего рода ответственный редактор от финансов, платный агент, козел отпущения. Но теперь мы стали умнее и пишем на бланках: «Обращаться к администрации предприятия, такая-то улица, номер такой-то»; там публика застает служащих с зелеными козырьками, важных, как понятые.
– Нусинген поддержал банкирский дом Шарля Клапарона всем своим кредитом, – продолжал Бисиу, – можно было спокойно выбросить на любую биржу акций Клапарона хоть на миллион. И дю Тийе предложил пустить в ход банкирский дом Клапарона. Принято. В 1825 году акционеры еще слабо разбирались в различных коммерческих ухищрениях. Об оборотном капитале они понятия не имели. Учредители тогда еще не были лишены права пускать в обращение свои учредительские акции, ничего не вносили в банк и ничего не гарантировали. Они не снисходили до того, чтобы объяснять акционерам сущность дела, но лишь советовали им быть благодарными за то, что с них не требуют больше чем тысячу, пятьсот или даже двести пятьдесят франков. Тогда не объявляли, что операции «in aere publico» продлятся не более семи, пяти или даже трех лет и, таким образом, развязка не заставит себя ждать. То были младенческие годы банковского искусства! В те времена не прибегали даже к рекламе в виде грандиозных афиш, разжигающих воображение публики и требующих у всех и каждого деньги…
– Так делают, когда уже никто не хочет их давать, – сказал Кутюр.
– И, наконец, в такого рода делах еще не существовало конкуренции, – продолжал Бисиу. – Фабриканты папье-маше, набивного ситца, владельцы цинкопрокатных заводов, театры и газеты еще не набрасывались на загнанного акционера, как свора псов – на дичь. Крупнейшие дела акционерных обществ, как говорит Кутюр, пользующихся ныне откровенной рекламой и опирающихся на заключение экспертов (светочей науки!..), в те времена стыдливо заключались в укромных уголках биржи, под покровом мрака, в молчании. Хищники исполняли на финансовый лад арию клеветы из «Севильского цирюльника». Они действовали piano, piano, распространяя слухи насчет надежности предприятия. Они обрабатывали страдальца-акционера у него дома, на бирже или в обществе с помощью одних только ловко пущенных слухов, звучавших как tutti, когда курс акций достигал четырехзначной цифры…
– Хотя мы в своей компании и можем болтать, что вздумается, я настаиваю на своем, – сказал Кутюр.
– «Вы ювелир, господин Жосс?» – вставил Фино.
– Фино – неисправимый классик, конституционалист и сторонник старых предрассудков, – заметил Блонде.
– Да, – ответил Кутюр, – я ювелир, из-за которого Серизе был предан суду исправительной полиции. Я утверждаю, что новый метод бесконечно менее коварен, гораздо честнее и не такой грабительский, как прежний. Реклама позволяет подумать и вникнуть в дело. Если какого-нибудь акционера и проглотят, он сам в этом виноват, ему ведь не продавали кота в мешке. Промышленность…
– Ну вот промышленность! – воскликнул Бисиу.
– Промышленность и торговля от этого только выигрывают, – продолжал Кутюр, не обращая внимания на слова Бисиу. – Всякое правительство, как только оно начинает вмешиваться в коммерцию, вместо того чтобы предоставить ей полную свободу, делает глупость, за которую приходится дорого платить: дело неизбежно кончается либо режимом «максимума», либо монополией. По-моему, ничто так не соответствует принципам свободной торговли, как акционерные общества! Посягать на них – значит брать на себя ответственность и за капитал, и за прибыль, а это – бессмыслица. В любом деле прибыль пропорциональна риску. Что государству до того, каким именно образом осуществляется денежное обращение, ему важно лишь, чтобы деньги постоянно находились в обороте! Что ему до того, кто именно богат и кто беден, если всегда остается столько же людей, достаточно богатых, чтобы платить налоги! Вот уже лет двадцать, как различные акционерные общества и товарищества на паях получили широкое распространение в стране с наиболее развитой торговлей – в Англии, где все вызывает споры, где палаты высиживают от тысячи до тысячи двухсот законов в каждую сессию, но еще ни разу ни один член парламента не поднял там голоса против акционерных обществ…
– …этого лечения набитых сундуков новым патентованным средством – очисткой, – вставил Бисиу.
– Послушайте! – распалился Кутюр. – Допустим, у вас десять тысяч франков, вы приобретаете десять акций по тысяче франков каждая, в десяти различных предприятиях. В девяти случаях из десяти вас обкрадывают… (Так, конечно, не бывает: публика не так уж глупа. Но допустим…) Все же одно из предприятий преуспело! (Случайно? Согласен. Нарочно это не делается. Смейтесь, смейтесь!) Так вот, понтер, который достаточно благоразумен, чтобы распределить свои ставки, находит великолепное помещение для своего капитала, подобно тем, кто купил акции Ворчинских копей. Признаемся, господа, что крик поднимают только лицемеры, обозленные тем, что у них нет ни деловых идей, ни возможности протрубить о них, ни уменья пустить их в ход. За доказательствами дело не станет. Вы вскоре увидите, как наши аристократы, придворные, министерские сановники сомкнутыми колоннами ринутся в спекуляцию, вцепятся в добычу мертвой хваткой, изобретут еще более хитроумные идеи, чем наши, хотя они и не столь выдающиеся люди, как мы с вами. Какую нужно иметь голову, чтобы основать предприятие в эпоху, когда алчность акционера равна алчности учредителя? Каким великим магнетизером должен быть человек, создающий Клапарона, человек, который находит новые ходы и выходы? О чем все это говорит? Наше время не лучше нас! Мы живем в эпоху корыстолюбия, когда никто не заботится о действительной ценности вещи, если может на ней заработать, подсунув ее соседу; а соседу ее подсовывают потому, что жадность акционера, стремящегося к наживе, не уступает жадности учредителя, который ему эту наживу сулит!
– Ну, разве он не великолепен, наш Кутюр? – обратился Бисиу к Блонде. – Он того и гляди потребует, чтобы ему воздвигли памятник как благодетелю человечества.
– Он еще заявит, пожалуй, что деньги дураков на основании божественного права – законное достояние людей с головой, – подхватил Блонде.
– Господа, – продолжал Кутюр, – смейтесь сейчас, и прибережем всю нашу серьезность для тех случаев, когда мы будем слушать всеми почитаемую бессмыслицу, освященную наспех созданными законами.
– Он прав, господа, – сказал Блонде. – В какое время мы живем! Стоит только вспыхнуть искорке рассудка, как ее тотчас же гасят на основании соответствующего закона. Законодатели, – почти сплошь выходцы из захолустных округов, где они изучали общество по газетам, – безрассудно усиливают давление в паровом котле. А когда котел взрывается, раздается плач и скрежет зубовный! В наше время издаются одни лишь налоговые и уголовные законы! Хотите знать, в чем разгадка всего, что происходит! Нет больше религии в государстве!
– Браво, Блонде! – воскликнул Бисиу. – Ты вложил перст в зияющую рану Франции, – я говорю о налоговой системе, направленной к увеличению податей и отнявшей у Франции больше завоеваний, чем все превратности войны. В министерстве, где я в одной упряжке с буржуа семь лет тянул лямку, был один чиновник, талантливый человек, который задумал переделать всю нашу финансовую систему… Ну что ж, мы его просто-напросто выжили. Франция стала бы слишком счастливой, она бы развлечения ради вновь завоевала Европу, а мы стремились дать народам покой. Я убил этого чиновника карикатурой: его звали Рабурден (см. «Чиновники»).
– Когда я говорю: религия, – продолжал Блонде, – я не имею в виду ханжество, я подхожу к этому вопросу как политик.
– Объяснись, – попросил Фино.
– Изволь, – ответил Блонде. – У нас много говорилось о событиях в Лионе, о Республике, расстрелянной из пушек на улицах, но истины никто не высказал. Республика схватилась за мятеж, как повстанец хватается за ружье. Я вам открою истину – она куда сложнее и глубже. Лионская промышленность бездушна: лионский фабрикант не согласится соткать ни единого локтя шелка без предварительного заказа и без надежных гарантий платежа. Когда заказы прекращаются, рабочий умирает с голоду, да и работая, он еле сводит концы с концами. Любой каторжник счастливее его. После Июльской революции нищета дошла до таких пределов, что рабочие шелковых фабрик написали на своем знамени: «Хлеб или смерть!» – один из тех лозунгов, над которыми правительству следовало бы призадуматься, ибо он был порожден дороговизной жизни в Лионе. Лион хочет настроить театров и стать столицей, отсюда – чрезмерные местные пошлины на съестные припасы. Республиканцы, предвидя, что может вспыхнуть хлебный бунт, организовали ткачей, которые дрались под двойным лозунгом. Лион пережил знаменитые три дня, но затем порядок был восстановлен, и ткачи вернулись в свои лачуги. Рабочий, который до тех пор добросовестно сдавал в виде ткани весь шелк-сырец, отпускавшийся ему по весу, отбросил теперь честность, поняв, что купцы выжимают из него все соки, и стал макать пальцы в масло: он по-прежнему сдавал фунт за фунт, но теперь это был шелк, пропитанный маслом; французская торговля шелком была таким образом заражена «жирными тканями», что могло повлечь за собой крах Лиона и тем самым одной из отраслей французской промышленности. Фабриканты и правительство, вместо того чтобы устранить корень зла, пошли по стопам некоторых врачей и при помощи сильно действующих наружных средств загнали болезнь внутрь. В Лион следовало послать ловкого человека, одного из тех, кого у нас называют людьми без моральных устоев, кого-нибудь вроде аббата Террея, но там, как мы видели, применили оружие! В результате лионских волнений появился на свет гроденапль по два франка локоть. Гроденапль сейчас уже продан, и об этом деле можно теперь говорить, а фабриканты, надо думать, изобрели какой-нибудь способ контроля. И такая недальновидная система производства должна была возникнуть в стране, где Ришар-Ленуар, один из величайших граждан, которых когда-либо знала Франция, разорился, потому что, не имея заказов, дал возможность шести тысячам ткачей продолжать работу и кормить свои семьи; потом он наткнулся на дураков министров, допустивших, чтобы Ришар-Ленуар в 1814 году пал жертвой резкого колебания цен на ткани. Это – единственный коммерсант, заслуживающий памятника. Что ж, в его пользу открыта подписка – подписка без подписавшихся, тогда как для детей генерала Фуа собрали целый миллион. Лион последователен: он знает Францию, знает, что у нее нет никакого религиозного чувства. История Ришар-Ленуара – одна из тех ошибок, которые, по словам Фуше, хуже преступления.
– Если в теперешнем способе ведения дел, – сказал Кутюр, возобновляя свое прерванное рассуждение, – есть оттенок шарлатанства, – слово это превратилось в клеймо и находится на грани между честным и бесчестным, – то где, я спрашиваю, начинается и где кончается шарлатанство и что, собственно, такое – шарлатанство? Будьте так добры и скажите мне, кто не шарлатан? Ну! проявите немного добросовестности, этой наиболее редкой общественной добродетели! Торговля, которая ищет ночью то, что продается днем, была бы бессмыслицей. У любого продавца спичек есть инстинкт скупщика. Скупить товар – вот о чем мечтает и слывущий добродетельным лавочник с улицы Сен-Дени, и самый отчаянный спекулянт. А когда склады полны – необходимо продавать. Но чтобы продать, нужно заманить покупателя, – отсюда и средневековые вывески, и нынешние проспекты! Зазывать покупателей в лавку или вынуждать их войти – разница небольшая. Может случиться, должно случиться и часто случается, что торговцам попадаются товары с браком, так как продающий постоянно обманывает покупающего. Так вот, расспросите самых честных людей в Париже, скажем – наших виднейших коммерсантов… и все они с торжеством расскажут вам, к каким уловкам они прибегали, чтобы сбыть с рук подпорченный товар. Знаменитый торговый дом Минара начал именно с операций такого рода. На улице Сен-Дени вам продают платье только из «жирного шелка», иначе они не могут. Самые добродетельные коммерсанты с самым простодушным видом провозглашают заповедь самого бесстыдного жульничества: «Каждый выпутывается из беды как умеет». Блонде нарисовал вам картину событий в Лионе, их причины и последствия. Я же иллюстрирую свою теорию анекдотом. Один ремесленник, честолюбивый и обремененный многочисленным семейством, так как он пылко любил свою жену, верит в Республику. Предприимчивый малый накупает красной шерсти и изготовляет каскетки, которые можно было видеть на головах у всех парижских мальчишек, вы сейчас узнаете – почему. Республика побеждена. После событий на улице Сен-Мерри каскетки не имеют никакого сбыта. Когда у человека на руках жена, дети и десять тысяч каскеток из красной шерсти, от которых отказываются все парижские шляпочники, ему приходит в голову не меньше хитроумных планов, чем банкиру, если у того на десять миллионов акций и их предстоит поместить в дело, не внушающее ему доверия. Знаете, что сделал мой ремесленник, этот Лоу из предместья, этот каскеточный Нусинген? Он отыскал какого-то трактирного франта, из породы шутников, которые изводят полицейских на балах под открытым небом у городских застав, и уговорил его разыграть роль американского капитана, скупщика бракованных товаров, остановившегося в гостинице Мерис, и пойти спросить десять тысяч каскеток из красной шерсти у богатого шляпного торговца, в витрине которого случайно завалялась одна такая каскетка. Шляпочник, почуяв крупные дела с Америкой, мчится к ремесленнику, набрасывается на его каскетки и платит ему наличными. Об остальном не трудно догадаться: никакого американского капитана, но множество каскеток. Нападать на свободу торговли из-за подобных фактов – все равно что нападать на правосудие за то, что бывают проступки, которых оно не наказует, или обвинять общество в том, что оно плохо организовано, потому что в его недрах рождаются несчастья. От каскеток и улицы Сен-Дени перейдите сами к акциям и банку!
– Кутюр, венчаю тебя! – воскликнул Блонде, надевая ему на голову скрученную салфетку. – Я, господа, иду дальше. Если в современной теории есть порок, то кто, спрашивается, в этом виноват? Закон! Совокупность законов! Вся система законодательства! Виноваты великие люди из избирательных округов, посылаемые в Париж провинцией и начиненные моральными идеями, необходимыми в обыденной жизни, – дабы не вступать в конфликт с правосудием, – но становящимися нелепыми, когда они мешают человеку подняться на ту высоту, на которой должен стоять законодатель! Пусть законы кладут предел разгулу тех или иных страстей, запрещая азартную игру, лотереи, уличных Нинон, все что хотите, – искоренить страсти они бессильны. Убить страсти – значило бы убить общество, ибо если оно их и не порождает, то, во всяком случае, – выращивает. Наложите путы на страсть к игре, которая живет во всех сердцах, – и в сердце молодой девушки, и в сердце провинциала, и в сердце дипломата, ибо всякому хочется из ничего сделать состояние, – и игра немедленно перекинется в другие сферы. Вы по недомыслию запрещаете лотереи, но кухарки по-прежнему обкрадывают своих хозяев и относят деньги в сберегательные кассы, только ставка в игре поднимается с сорока су до двухсот пятидесяти франков, ибо место лотереи занимают теперь различные акционерные общества, товарищества на паях; игра идет без зеленого сукна, но с невидимой лопаточкой у банкомета и ловким передергиванием. Игорные дома закрыты, лотереи запрещены, и глупцы кричат, что Франция стала теперь более нравственной, как будто они уничтожили азарт! Игра продолжается по-прежнему, только доходы получает уже не государство, которое вынуждено заменить охотно уплачивавшийся налог другим, стеснительным налогом; а число самоубийств не уменьшается, ибо погибает-то не игрок, а его жертвы! Я не говорю уже о капиталах, уплывающих за границу и потерянных для Франции, ни о франкфуртских лотереях; за распространение билетов этих лотерей Конвент грозил смертной казнью, а билеты продавались даже прокурорами-синдиками. Вот к чему приводит неумная филантропия нашего законодательства. Поощрение сберегательных касс – также серьезное политическое недомыслие. Предположите какую-нибудь заминку в делах, и тотчас появятся «хвосты» за деньгами, как во времена революции были «хвосты» за хлебом. Сколько касс – столько очагов беспорядка. Если где-нибудь трое юнцов поднимут одно-единственное знамя, вот вам и революция. Но как бы ни была велика эта опасность, она, по-моему, все же меньшее зло, чем развращение населения; сберегательная касса прививает алчность людям, у которых ни воспитание, ни благоразумие не служат сдерживающим началом для их скрыто преступных махинаций. Вот вам еще результат филантропии. В принципе великий политик должен быть злодеем, иначе он будет плохо управлять обществом. Порядочный человек в роли политика – это все равно что чувствующая паровая машина или кормчий, который объясняется в любви, держа рулевое колесо: корабль идет ко дну. Разве премьер-министр, награбивший сто миллионов, но сделавший Францию великой и счастливой, не лучше премьера, которого приходится хоронить за счет государства, но который разорил свою страну? Разве стали бы вы колебаться в выборе между Ришелье, Мазарини и Потемкиным, каждый из которых имел в свое время миллионов по триста, с одной стороны, и добродетельным Робером Ленде, не сумевшим извлечь для себя никакой выгоды ни из ассигнаций, ни из национальных имуществ, или добродетельными болванами, погубившими Людовика Шестнадцатого, с другой стороны? Продолжай, Бисиу.
– Я не стану вам объяснять, – начал Бисиу, – характер предприятия, порожденного финансовым гением Нусингена; это тем более неудобно, что оно существует и сейчас и акции его котируются на бирже; замысел этот был столь реален, а само предприятие столь живуче, что акции, выпущенные согласно королевскому декрету по номинальной цене в тысячу франков и упавшие затем до трехсот франков, вновь поднялись до семисот франков и, пережив бури 1827, 1830 и 1832 годов, несомненно, достигнут номинального курса. Финансовый кризис 1827 года поколебал их, Июльская революция повлекла за собой падение их курса, но дело чревато действительными возможностями (Нусинген, видно, не в состоянии придумать безнадежное дело). Многие первоклассные банки принимают в нем участие, а потому не стоит входить в дальнейшие подробности. Номинальный капитал составлял десять миллионов, реальный – семь: три миллиона достались учредителям и банкам, взявшим на себя выпуск акций. Расчет строился на том, чтобы в первые же шесть месяцев каждая акция принесла двести франков дохода благодаря распределению мнимого дивиденда. Словом – двадцать процентов с десяти миллионов! Доля дю Тийе составляла пятьсот тысяч франков. На языке банкиров такой куш называется лакомым куском! Нусинген собирался пустить в ход свои миллионы, оттиснутые на дести розовой бумаги с помощью литографского камня, – приятные на вид акции, которые предстояло разместить и которые пока что заботливо хранились в его кабинете. Акции солидные должны были дать средства, чтобы основать дело, купить роскошный особняк и начать операции. Нусинген располагал еще акциями какого-то свинцово-серебряного рудника, каменноугольных копей и двух каналов; это были акции, полученные при пуске в ход всех четырех предприятий, акции, высоко поднявшиеся и пользовавшиеся большим спросом благодаря выдаче дивиденда за счет основного капитала; Нусинген мог бы положить в карман разницу в случае дальнейшего повышения курса этих акций, но барон в своих расчетах пренебрег такой мелочью – он оставил их плавать на поверхности, чтобы приманить рыбку. Он собирал в кулак свои ценности, как Наполеон собирал в кулак своих гренадеров, и решил объявить себя несостоятельным во время кризиса, который уже намечался и в 1826 и 1827 годах потряс до основания все биржи Европы. Если бы у Нусингена был свой князь Ваграмский, банкир мог бы сказать ему, как Наполеон с высот Сантона: «Присмотритесь хорошенько к бирже в такой-то день, в такой-то час – там будут разбросаны ценные бумаги!» Но кому мог он довериться? Дю Тийе и не подозревал, что невольно играет роль адъютанта в этом деле. Две первые ликвидации показали нашему могущественному барону, что ему необходим человек, который служил бы рычагом для воздействия на кредиторов. У Нусингена не было племянников, он не решался довериться первому встречному, ему требовался преданный человек, – своего рода умный Клапарон, – человек с хорошими манерами, настоящий дипломат, достойный министерского портфеля, достойный самого Нусингена. Такие знакомства не завяжешь в один день – даже в один год. Барон к тому времени совсем опутал Растиньяка, который, играя в доме банкира роль принца Годоя, пользовавшегося одинаковой любовью и короля и королевы Испании, думал, что нашел в лице Нусингена необычайно удобного простофилю. Сначала Растиньяк потешался над человеком, чей истинный размах долго оставался для него тайной, но в конце концов стал искренне и серьезно поклоняться ему, признав в нем силу, единственным обладателем которой он почитал до тех пор только себя.
С первых же своих дебютов в Париже Растиньяк научился презирать всех и вся. Начиная с 1820 года он, подобно Нусингену, полагал, что человеческая честность – всего лишь видимость, и усматривал в светском обществе лишь скопище всяческих зол и пороков. Если он и допускал исключения, то обществу в целом выносил беспощадный приговор. Растиньяк верил не в добродетели, а лишь в обстоятельства, при которых человек ведет себя добродетельно. Этот вывод был делом одного мгновенья; Растиньяк пришел к нему на кладбище Пер-Лашез в тот день, когда провожал в последний путь несчастного, но порядочного человека – отца своей Дельфины, ставшего жертвой нашего общества и обманутого в своих лучших чувствах, покинутого дочерьми и зятьями. Он решил провести всех этих господ, драпируясь в тогу добродетели, честности и изысканных манер. Сей юный дворянин заковал себя с ног до головы в броню эгоизма. Когда молодчик обнаружил, что Нусинген одет в те же доспехи, он проникся к нему уважением, подобно тому как средневековый рыцарь в латах с золотыми насечками, верхом на берберийской жеребице, проникся бы на турнире уважением к своему противнику в таких же доспехах и на таком же коне. Правда, наслаждения в Капуе заставили Растиньяка на некоторое время растаять. Дружба такой женщины, как баронесса Нусинген, способна привести к отказу от всякого эгоизма. После того как она обманулась в своей первой привязанности, обнаружив в лице покойного де Марсе бирмингамскую механическую куклу, Дельфина должна была почувствовать безграничную нежность к молодому человеку, преисполненному провинциальных верований. Ее нежность оказала свое воздействие на Растиньяка. Когда Нусинген надел на приятеля своей супруги хомут, который всякий эксплуататор надевает на эксплуатируемого, – произошло это как раз в момент подготовки к третьему банкротству, – он обрисовал Растиньяку свое положение и дал ему понять, что долг дружбы обязывает Эжена в виде возмещения взять на себя и сыграть до конца роль его пособника. Барон счел неосторожным посвящать в свои планы человека, разделявшего с ним его супружеские обязанности. Растиньяк поверил, что стряслась беда; а барон позволил ему утешаться мыслью, что он спасает дело. Но когда в мотке слишком много ниток, в нем образуются узлы. Растиньяк дрожал за состояние Дельфины; он потребовал раздела имущества, стремясь обеспечить Дельфине независимость, и поклялся в душе полностью рассчитаться с нею, утроив ее состояние. Так как для себя Эжен ничего не требовал. Нусинген сам упросил его принять в случае полного успеха двадцать пять тысячефранковых акций свинцово-серебряного рудника. И Растиньяк взял их, чтобы не оскорбить барона! Нусинген обработал Растиньяка накануне того вечера, когда наш приятель уговаривал Мальвину выйти замуж. При виде сотни счастливых семейств, разгуливавших по Парижу и спокойных за свое состояние, всех этих Годфруа де Боденоров, д'Альдригеров, д'Эглемонов и других, Растиньяк почувствовал дрожь, словно молодой генерал, окидывающий взглядом армию перед своим первым сражением. Бедняжка Изора и Годфруа, игравшие в любовь! Как походили они на Ациса и Галатею под скалой, которую циклоп Полифем готовился на них обрушить!..
– Ну и Бисиу! – воскликнул Блонде. – Да у него, мартышки, просто талант!
– Ага, теперь я уж, значит, не увлекаюсь больше цветами красноречия, – сказал Бисиу, наслаждаясь успехом и оглядывая своих затаивших дыхание слушателей. – В течение двух месяцев, – продолжал он, – Годфруа предавался скромным жениховским радостям и восторгам. Когда мужчина готовится вступить в брак, он походит на птицу, которая весною вьет гнездо, снует взад и вперед, подбирает соломинки, приносит их в клюве и выстилает домик для будущих птенцов. Суженый Изоры нанял за тысячу экю на улице Ла-Планш удобный и вполне приличный особняк, не слишком большой и не слишком маленький. Каждое утро он отправлялся посмотреть, как идет внутренняя отделка дома, и следил за ходом работ. Позаботился он и о комфорте – единственно стоящей вещи, которая существует в Англии: завел калорифер, чтобы поддерживать ровную температуру в доме, тщательно выбрал мебель, не слишком кричащую и не чрезмерно роскошную; обивку свежих и приятных для глаза тонов, на все окна – гардины и шторы; серебро, новые экипажи. Он устроил конюшню, чулан для седел и сбруи и каретный сарай, где бесновался и вертелся, как вырвавшийся на волю сурок, Тоби-Джоби-Пэдди, казавшийся очень счастливым оттого, что в доме будут женщины и даже леди! Эта одержимость, с которой человек устраивается, выбирает часы для камина, влетает к своей нареченной с карманами, набитыми образчиками материй, советуется с ней о меблировке спальни, бегает, суетится и носится, – если только он бегает, суетится и носится, одушевляемый искренней любовью, – поистине способна наполнить радостью сердце всякого честного человека, а в особенности – сердца поставщиков. И так как свет чрезвычайно благосклонно относится к браку красивого молодого человека двадцати семи лет с очаровательной и прелестно танцующей двадцатилетней особой, то Годфруа, терзаясь сомнениями насчет свадебного подарка, пригласил Растиньяка и госпожу де Нусинген на завтрак, чтобы посоветоваться с ними по этому важнейшему вопросу. Ему пришла в голову счастливая мысль пригласить также своего кузена д'Эглемона с женой и госпожу де Серизи. Светские дамы любят иной раз поразвлечься за завтраком у холостяка.
– Для них это – все равно что для школьника удрать с уроков: они отдыхают от света, – сказал Блонде.
– Все вместе должны были отправиться на улицу Ла-Планш осмотреть особнячок будущих супругов. Для женщин подобные экскурсии что свежее мясо для людоеда, они как бы освежают свое настоящее при виде юной восторженности, еще не увядшей от пережитых восторгов. Стол был накрыт в маленькой гостиной, которая в знак прощания с холостой жизнью была разукрашена, точно лошадь в похоронной процессии. Меню было составлено из тех лакомых пустячков, которые женщины так любят жевать, грызть и сосать по утрам, когда у них бывает ужасный аппетит, в чем они ни за что не хотят признаться, так как для женщины сказать: «Я голодна!» – видимо, означает уронить себя. «Почему ты один?» – спросил Годфруа, когда появился Растиньяк. «Госпожа де Нусинген не в настроении, – ответил Эжен, на лице которого тоже можно было прочесть огорчение и досаду. – Я тебе расскажу потом». – «Поссорились?..» – воскликнул Годфруа. «Нет», – сказал Растиньяк. В четыре часа дамы упорхнули в Булонский лес; Растиньяк остался в гостиной и меланхолически смотрел в окно на Тоби-Джоби-Пэдди, который отважно стоял возле запряженной в тильбюри лошади, скрестив руки на груди, как Наполеон; он мог сдерживать лошадь только своим пискливым голоском, и она боялась Тоби-Джоби. «Так что же с тобой случилось, друг мой? – спросил Годфруа Растиньяка. – Ты неспокоен, угрюм и только притворяешься веселым. Твою душу терзает неполнота счастья! Как, верно, тяжело, когда человек не может обвенчаться в мэрии и в церкви с любимой женщиной». – «Хватит ли у тебя, мой милый, мужества выслушать то, что я намерен тебе открыть, и сумеешь ли ты понять, какую надо чувствовать привязанность к другу, чтобы совершить нескромность, на которую я сейчас отважусь?» – сказал Растиньяк резким тоном, прозвучавшим, как удар хлыста. «Ты о чем?» – спросил Годфруа, бледнея. «Меня привела в грусть твоя радость, и при виде всех этих приготовлений, этого расцветающего счастья, я не в силах хранить такой секрет». – «Говори же скорей!» – «Поклянись честью, что будешь нем как могила». – «Как могила». – «И если даже кто-либо из твоих близких заинтересован в этом деле, он все равно ничего не узнает», – «Не узнает». – «Ну так вот, Нусинген уехал ночью в Брюссель: раз нельзя прибегнуть к ликвидации, приходится объявить себя несостоятельным. Дельфина сегодня утром отправилась в суд, чтобы просить о разделе имущества. Ты можешь еще спасти свое состояние». – «Как?» – пробормотал Годфруа, чувствуя, что кровь стынет в его жилах. «Напиши барону де Нусингену письмо, пометь его задним числом, – как будто оно написано недели две назад, – и в этом письме поручи ему обратить все твои деньги в акции (тут Растиньяк назвал акционерное общество Клапарона). У тебя останутся еще две недели, месяц, может быть, даже три месяца, чтобы продать их выше теперешней цены; курс этих акций будет еще подниматься». – «А д'Эглемон, который только что завтракал с нами, д'Эглемон, у которого лежит в банке Нусингена миллион!» – «Послушай, я не знаю, найдется ли достаточно этих акций, чтобы хватило для него, кроме того, он мне не близкий друг, я не могу выдавать секреты Нусингена. Ты не должен ему ничего говорить. Если ты скажешь хоть слово, ты отвечаешь передо мной за последствия». Минут десять Годфруа просидел не шевельнувшись. «Согласен ты или нет?» – безжалостно сказал Растиньяк. Годфруа схватил перо и чернильницу и написал письмо, которое ему продиктовал Эжен. «Бедный кузен!» – воскликнул он. «Каждый за себя!» – ответил Растиньяк. «Ну, один готов!» – мысленно добавил он, покидая Годфруа. Пока Растиньяк действовал таким образом в парижских особняках, вот что происходило на бирже. У меня есть приятель – тупоголовый провинциал, который, проходя как-то мимо биржи между четырьмя и пятью часами, спросил меня, почему здесь столько людей, занятых разговорами, о чем они могут говорить друг с другом и зачем они разгуливают тут после того, как уже установлен курс государственных ценных бумаг. «Друг мой, – ответил я, – они пообедали, а теперь переваривают; для пищеварения они распускают сплетни о своих ближних; на этом основана устойчивость парижской коммерции. Здесь зарождаются все дела; есть, например, некий Пальмá, пользующийся на бирже не меньшим авторитетом, чем Синар в Королевской академии наук. Стоит ему сказать, что надо начать спекуляцию, и спекуляция уже началась!»
– Господа, что за человек этот еврей, обладающий если не университетским, то универсальным образованием, – сказал Блонде. – Универсальность его не исключает глубины; то, что Пальма знает, он знает досконально; в делах у него просто гениальная интуиция; это – великий референдарий хищников, царящий на парижской бирже; они не начинают ни одного дела, если Пальма его предварительно не обсудил. Он всегда серьезен, слушает, изучает, обдумывает и говорит своему собеседнику, который, видя его внимание, уже решил, что обвел Пальма вокруг пальца: «Это мне не подходит». Но самое удивительное, по-моему, то, что он десять лет был компаньоном Вербруста, и между ними никогда не происходило недоразумений.
– Так уживаются натуры либо очень сильные, либо очень слабые, а люди дюжинные всегда ссорятся и расходятся врагами, – заметил Кутюр.
– Вы понимаете, конечно, – продолжал Бисиу, – что Нусинген, действуя по всем правилам искусства, ловко швырнул под колонны биржи небольшую бомбу, которая взорвалась около четырех часов. «Слыхали важную новость? – спросил дю Тийе у Вербруста, увлекая его в укромный уголок. – Нусинген в Брюсселе, а жена его подала в суд прошение о разделе имущества». – «Вы что, помогаете ему обанкротиться?» – ухмыльнулся Вербруст. «Без глупостей, Вербруст, – отрезал дю Тийе. – Вы знаете, у кого есть его векселя. Выслушайте меня, здесь можно заработать. Акции нашего нового общества поднялись на двенадцать процентов, а через три месяца они поднимутся на двадцать пять, вам известно – почему: они приносят великолепный дивиденд». – «Хитрец, – ответил Вербруст, – Проваливайте! Вы дьявол с острыми и длинными когтями, и вы запускаете их в масло», – «Дайте же мне договорить, иначе у нас не останется времени для действий. Мне пришла в голову эта мысль, как только я узнал новость; я собственными глазами видел госпожу де Нусинген в слезах: она дрожит за свое состояние». – «Бедная крошка! – насмешливо протянул Вербруст. – Ну и что же?» – добавил этот бывший эльзасский еврей, обращаясь к замолчавшему дю Тийе. «Так вот, у меня есть тысяча акций по тысяче франков, которые Нусинген поручил мне разместить. Понимаете?» – «Вполне». – «Если мы скупим с десяти, с двадцатипроцентной скидкой векселя банкирского дома Нусингена, скажем, на миллион, мы на этот миллион получим неплохую прибыль, так как будем одновременно и кредиторами и должниками: ведь скоро начнется паника! Но надо действовать осторожно, иначе держатели векселей могут заподозрить нас в том, что мы действуем в интересах Нусингена». Вербруст уже все понял и пожал руку дю Тийе, взглянув на него, как женщина, собирающаяся подстроить каверзу своей приятельнице. «Слышали новость? – спросил их Мартен Фалле. – Банк Нусингена приостанавливает платежи». – «Э! – ответил Вербруст. – И охота вам распространять эти слухи! Дайте возможность людям, у которых есть его векселя, как-нибудь их сплавить». – «А вам известна причина краха?..» – вмешался подошедший Клапарон. «Ты ничего не понимаешь, – сказал ему дю Тийе. – Никакого краха не будет, все будет заплачено полностью. Нусинген возобновит дела, и я готов служить ему всеми своими средствами. Я знаю, почему приостановлены платежи; он вложил все свои капиталы в Мексику, которая поставляет ему металлы, испанские пушки, так по-дурацки отлитые, что на них пошло и золото, и колокола, и серебряная церковная утварь – словом, все остатки испанской монархии в Вест-Индии. Доставка этих ценностей задерживается. И наш дорогой барон находится в стесненных обстоятельствах, вот и все». – «Это правда, – подтвердил Вербруст, – я дисконтирую его векселя из двадцати процентов». Новость распространилась с быстротой пламени, охватившего стог сена. Слухи были самые противоречивые. Но банкирский дом Нусингена после двух предшествующих банкротств пользовался таким доверием, что никто не выпускал из рук векселей Нусингена. «Без поддержки Пальма нам не обойтись», – сказал Вербруст. Пальма, как оракула, слушались Келлеры, начиненные бумагами Нусингена. Одного тревожного слова Пальма было достаточно. Вербруст добился, чтобы Пальма ударил в набат. На следующий день биржа была охвачена паникой. Келлеры по совету Пальма продали обязательства Нусингена со скидкой в десять процентов, и это подействовало: на бирже их считали ловкачами. Тайфер тотчас же продал на триста тысяч бумаг со скидкой в двадцать процентов, Мартен Фалле – на двести тысяч, сбросив пятнадцать процентов. Но Жигонне разгадал трюк! Он раздул панику, чтобы скупить векселя Нусингена и заработать несколько процентов, перепродав их затем Вербрусту. Он заметил в уголке беднягу Матифа, который держал на текущем счету у Нусингена триста тысяч франков. Москательщик, бледный как смерть, не без содрогания следил за приближением Жигонне, грозного ростовщика из его прежнего квартала, который направлялся к нему, чтобы вонзить ему нож в сердце. «Неважные дела, надвигается кризис. Нусинген хлопочет о соглашении с кредиторами! Впрочем, вас это не касается, папаша Матифа, вы ведь удалились от дел». – «Вы ошибаетесь, Жигонне, я попался на триста тысяч франков; я хотел их затратить на испанскую ренту». – «Ну, ваши денежки спасены. Испанская рента проглотила бы их без остатка, а я вам могу кое-что дать за ваш счет у Нусингена. Скажем, пятьдесят за сто». – «Я предпочитаю дождаться ликвидации, – ответил Матифа. – Еще не было случая, чтобы банкир платил меньше пятидесяти за сто. Ах, если бы удалось отделаться потерей десяти процентов», – вздохнул бывший москательщик. «Ну ладно, согласны помириться на пятнадцати?» – спросил Жигонне. «Вы что-то больно торопитесь», – сказал Матифа. «Всего хорошего», – отрезал Жигонне. «Хотите двенадцать?» – «Идет», – ответил Жигонне. К вечеру были скуплены обязательства на два миллиона, и дю Тийе внес их в банк Нусингена от имени импровизированной тройки компаньонов, которые назавтра же получили свой куш.
Стареющая красавица, баронесса д'Альдригер, завтракала с двумя дочерьми и Годфруа, когда вошедший Растиньяк с дипломатическим видом завел разговор о финансовом кризисе. «Барон де Нусинген, – сказал он, – питая искреннюю привязанность к семье д'Альдригер, намеревается в случае катастрофы покрыть счет баронессы самыми надежными бумагами – акциями свинцово-серебряного рудника; но для большей верности баронессе следовало бы поручить ему приобрести за ее счет эти акции». – «Бедняга Нусинген, – сказала баронесса, – что с ним, собственно, случилось?» – «Он в Бельгии. Его жена требует раздела имущества. Он поехал искать помощи у банкиров». – «Боже мой, как это напоминает мне моего бедного мужа! Вы, должно быть, сильно огорчены, дорогой господин де Растиньяк, вы ведь так привязаны к их дому». – «Лишь бы не пострадали люди посторонние, а друзья его будут вознаграждены впоследствии; барон выпутается из беды, он человек ловкий». – «И прежде всего честный», – добавила баронесса. Не прошло и месяца, как пассив банкирского дома Нусингена был ликвидирован, и притом без всяких трудностей, – исключительно посредством писем, в которых каждый из вкладчиков просил обратить его деньги в предназначенные для него акции, и без всяких формальностей со стороны банков, которые обменивали обязательства Нусингена на акции, пользующиеся спросом. И в то время как дю Тийе, Вербруст, Клапарон, Жигонне и еще некоторые дельцы, считавшие себя ловкачами, скупали за границей векселя Нусингена, доплачивая их держателям один процент, ибо они при этом зарабатывали, меняя их на идущие в гору акции, слухи на парижской бирже распространялись еще усиленнее, так как большинству уже нечего было бояться. О Нусингене болтали, обсуждали его положение, осуждали его и даже позволяли себе клеветать на него. «Его роскошь, его махинации! Когда человек разрешает себе такое, он неизбежно идет ко дну!» Некоторые деловые люди были очень удивлены, получив как раз в это время, когда весь этот хор звучал особенно громко, письма из Женевы, Базеля, Милана, Неаполя, Генуи, Марселя и Лондона, в которых их корреспонденты, тоже не без удивления, сообщали, что им предлагают доплатной процент за векселя Нусингена, объявленного парижскими биржевиками банкротом. «Тут что-то есть!» – решили хищники. Тем временем суд утвердил постановление о разделе имущества Нусингена и его жены. Положение осложнилось еще больше, когда газеты сообщили о возвращении барона де Нусингена, ездившего заключать соглашение с известным бельгийским промышленником относительно эксплуатации старых угольных шахт в районе леса Боссю, много лет уже заброшенных. Появившись на бирже, барон даже не потрудился опровергнуть ходившие о его банкирском доме клеветнические слухи; он пренебрег возможностью прибегнуть к прессе и купил за два миллиона великолепное поместье в окрестностях Парижа. Прошло шесть недель, и бордосская газета сообщила о прибытии в порт двух судов с грузом металлов общей стоимостью в семь миллионов, предназначавшихся для банкирского дома Нусингена. Пальма, Вербруст и дю Тийе поняли, что дело сделано, но только они одни это и поняли. Они, словно школьники, изучили, как была подстроена эта ловкая финансовая махинация, установили, что она подготовлялась в течение одиннадцати месяцев, и объявили Нусингена величайшим финансистом Европы. Растиньяк ровно ничего не понял, но заработал четыреста тысяч франков, которые Нусинген разрешил ему состричь с парижских овечек; из этих-то денег он и дал приданое сестрам. Д'Эглемон, предупрежденный своим кузеном Боденором, приходил к Растиньяку и умолял его взять десять процентов с миллиона, если тот устроит ему покупку на эту сумму акций канала, который до сих пор еще не прорыт, потому что Нусинген так ловко опутал правительство, что концессионерам на руку не спешить с окончанием работ. Шарль Гранде также обратился к возлюбленному Дельфины с просьбой устроить ему покупку акций. Словом, Растиньяк в течение десяти дней играл роль Лоу: самые очаровательные герцогини выпрашивали у него акции, и сейчас у этого молодца сорок тысяч франков ренты; ее первоначальным источником послужили акции свинцово-серебряного рудника.
– Но если все в выигрыше, то кто же потерял? – спросил Фино.
– Перехожу к заключению, – ответил Бисиу. – Соблазненные псевдодивидендом, который они получали в течение нескольких месяцев после того, как обратили свои деньги в акции, маркиз д'Эглемон и Боденор (я беру их как типичных представителей прочей публики) держались за эти акции: капитал их давал теперь на три процента больше, они превозносили Нусингена и защищали его в то время, когда все считали, что он приостановит платежи. Годфруа женился на своей дорогой Изоре и получил в приданое на сто тысяч акций свинцово-серебряного рудника. По случаю этого бракосочетания Нусингены дали бал, который своей пышностью превзошел все ожидания. Дельфина преподнесла новобрачной очаровательную рубиновую диадему. Изора танцевала уже не как молодая девица, но как счастливая женщина. Маленькая баронесса больше, чем когда-либо, походила на альпийскую пастушку. В самый разгар бала дю Тийе сухо посоветовал Мальвине стать госпожой Дерош. Стряпчий, распаленный Нусингенами и Растиньяком, попробовал было затронуть денежный вопрос; но при первых же словах о приданом в виде акций серебряно-свинцового рудника отступился и бросился к Матифа. Однако и на улице Шерш-Миди он обнаружил проклятые акции каналов, которые Жигонне всучил Матифа вместо денег. Представляешь себе Дероша, когда он увидел, как Нусинген загребает лопаточкой оба приданых, на которые он нацеливался? Катастрофа не заставила себя ждать. Акционерное общество Клапарона захватило слишком много предприятий, они застряли у него в горле, общество перестало платить проценты и выдавать дивиденд, хотя дела его шли прекрасно. Это совпало с событиями 1827 года. А уже в 1829 году все прекрасно знали, что Клапарон – подставная фигура двух финансовых колоссов, и он рухнул со своего пьедестала. С тысячи двухсот пятидесяти франков акции упали до четырехсот, хотя, по существу, они стоили шестьсот. Нусинген, зная их действительную ценность, скупил их. Баронесса д'Альдригер продала в свое время акции свинцово-серебряного рудника, не приносившие ничего; Годфруа по той же причине продал акции жены. Как и баронесса, Боденор заменил их акциями общества Клапарона. Долги вынудили их продать и эти акции в самый разгар понижения: за свои семьсот тысяч франков они выручили двести тридцать тысяч. Подсчитав потери, они благоразумно поместили остаток средств в трехпроцентную ренту, котировавшуюся по семьдесят пять за сто. Годфруа, дотоле счастливый и беззаботный молодой человек, беспечно наслаждавшийся жизнью, обнаружил, что его молодая супруга глупа, как гусыня, и не способна мириться с невзгодами: не прошло и полугода, как он заметил, что предмет его любви превращается в обитательницу птичьего двора, к тому же у него на шее оказалась еще и теща, которая, оставшись почти без средств, все еще мечтала о туалетах. Оба семейства, чтобы как-нибудь просуществовать, поселились вместе. Годфруа пришлось подогревать все остывшие знакомства, чтобы получить в Министерстве финансов место с жалованьем в тысячу экю. Друзья?.. На водах. Родственники?.. Изумлены и обещают: «Ну, конечно, дорогой, можете положиться на меня! Бедный мальчик!» А через четверть часа все забыто. Своим местом Годфруа был обязан протекции Нусингена и Ванденеса. Теперь Боденоры и д'Альдригеры – люди порядочные и достойные сожаления – живут на улице Мон-Табор, на четвертом этаже над антресолями. Внучка Адольфусов, Мальвина, не имеет ни гроша, она дает уроки музыки, чтобы не быть в тягость зятю. Высокая и худая, со смуглым высохшим лицом, она похожа на мумию, сбежавшую от Пассалакка и расхаживающую по Парижу. В 1830 году Боденор потерял место, а жена подарила ему четвертого ребенка. Восемь господ и двое слуг (Вирт и его жена!). Средства: восемь тысяч франков ренты. А свинцово-серебряные рудники дают сейчас такой дивиденд, что акция в тысячу франков приносит тысячу франков дохода. Растиньяк и госпожа де Нусинген приобрели акции, проданные Годфруа и баронессой. Июльская революция возвела Нусингена в пэры Франции и командоры ордена Почетного легиона. Хотя после 1830 года он больше не производил ликвидации, состояние его, как говорят, достигает шестнадцати – восемнадцати миллионов. Учтя последствия июльских ордонансов, барон продал все свои ценности и смело вложил деньги в трехпроцентную ренту, когда она упала со ста до сорока пяти; во дворце поверили, что он сделал это из чистой преданности, а он тем временем в компании с дю Тийе выхватил три миллиона у этого долговязого проходимца Филиппа Бридо! Как-то недавно, отправляясь на прогулку в Булонский лес и проезжая улицей Риволи, наш барон заметил под колоннадой баронессу д'Альдригер. На старушке была зеленая шляпка, подбитая розовым, платье с цветочками и мантилья – словом, она казалась, как всегда, и даже больше чем когда-либо, альпийской пастушкой; она так же мало разбиралась в своих нынешних бедствиях, как и в причинах своего былого благополучия. Баронесса опиралась на руку дочери; бедняжка Мальвина, живой пример героической самоотверженности, была похожа на старуху мать, а ее мамаша выступала с видом юной девицы; за ними шествовал Вирт с зонтиком в руках. «Фот люти, которым я никак не мок стелать состояние, – сказал барон господину Куэнте, министру, вместе с которым он отправлялся на прогулку. – Пуря минофала, тайте ше опять место петняке Потенору». Так Боденор вернулся в Министерство финансов благодаря Нусингену, которого д'Альдригеры прославляют как чудо истинной дружбы, ибо он неизменно приглашает альпийскую пастушку и ее дочерей к себе на балы. Никого на свете не убедишь, что этот человек трижды хотел без взлома обокрасть публику, нажившуюся благодаря ему, хотя и вопреки его желанию. Нусингена ни в чем не упрекнешь. Того, кто осмелился сказать, что всемогущий банк – зачастую просто разбойничий притон, обвинят в злостной клевете. Если курс облигаций поднимается и понижается, если ценные бумаги взлетают вверх и стремительно падают – эти приливы и отливы порождаются стихийными атмосферными явлениями и зависят от влияния луны; великий Араго повинен в том, что до сих пор не дал им научного объяснения! Отсюда вытекает одна финансовая истина, которую я нигде, впрочем, не видел написанной черным по белому…
– Какая?
– Должник сильнее кредитора.
– Ну, во всем, что мы говорили, – воскликнул Блонде, – я вижу лишь вариации на тему той фразы Монтескье, в которой выражен весь смысл «Духа законов».
– А именно? – спросил Фино.
– Законы – это паутина; крупные мухи сквозь нее прорываются, а мелкие – застревают.
– Чего ж ты хочешь? – обратился Фино к Блонде.
– Абсолютистского правительства – единственного, при котором можно обуздать предприятия духа против законов. Да, самовластие спасает народы, приходя на помощь правосудию, ибо право помилования – медаль без оборотной стороны; король может помиловать злостного банкрота, но не возвращает ничего акционеру. Законность убивает современное общество.
– Попробуй убедить в этом избирателей! – сказал Бисиу.
– Кое-кто уж занялся этим.
– Кто же?
– Время. Как сказал епископ Леонский – если свобода стара, то королевская власть извечна: всякая нация, находящаяся в здравом уме, вернется к ней в той или иной форме.
– Смотрите, рядом кто-то был, – сказал Фино, когда мы поднялись, чтобы выйти.
– Рядом всегда кто-то есть, – ответил Бисиу, который был, видимо, навеселе.
Париж, ноябрь 1837 г.
Блеск и нищета куртизанок
Его светлости
князю Альфонсо Серафино ди Порча
Позвольте мне поставить ваше имя в начале произведения истинно Парижского, обдуманного в вашем доме в последние дни. Разве не естественно преподнести вам цветы красноречия, взращенные в вашем саду и орошенные слезами сожалений, давших мне познать тоску по родине, которую утишали вы в те часы, когда я бродил в boschetti и вязы напоминали мне Елисейские поля? Быть может, этим я искуплю свою вину в том, что глядя на Duomo, я мечтал о Париже, что на чистых и красивых плитах Porta Renza я вздыхал о наших грязных улицах. Когда я подготовлю к выходу в свет книги, достойные посвящения миланским дамам, я буду счастлив встретить их имена, уже любезные сердцу ваших старинных итальянских новеллистов, среди имен любимых нами женщин, которым и прошу напомнить
Июль 1838 г.
ЧАСТЬ I. Как любят эти девушки
В 1824 году, на последнем бале в Опере, многие маски восхищались красотою молодого человека, который прогуливался по коридорам и фойе, то ускоряя, то замедляя шаг, как обычно прохаживается мужчина в ожидании женщины, по какой-то причине опоздавшей на свидание. В тайну подобной походки, то степенной, то торопливой, посвящены только старые женщины да некоторые присяжные бездельники. В толпе, где столько условленных встреч, редко кто наблюдает друг за другом: слишком пламенные страсти, самая Праздность слишком занята. Юный денди, поглощенный тревожным ожиданием, не замечал своего успеха: насмешливо – восторженные возгласы некоторых масок, неподдельное восхищение, едкие zazzis, нежнейшие слова – ничто его не трогало, он ничего не видел, ничему не внимал. Хотя по праву красоты он принадлежал к тому особому разряду мужчин, которые посещают балы в Опере ради приключений и ожидают их, как ожидали при жизни Фраскати счастливой ставки в рулетке, все же казалось, что он по-мещански был уверен в счастливом исходе нынешнего вечера; он явился, видимо, героем одной из тех мистерий с тремя лицедеями, в которых заключается весь смысл костюмированного бала в опере и которые представляют интерес лишь для того, кто в них участвует; ибо молодым женщинам, приезжающим сюда только за тем, чтобы потом сказать: «Я там была», провинциалам, неискушенным юношам, а также иностранцам Опера в дни балов должна казаться каким-то чертогом усталости и скуки. Для них эта черная толпа, медлительная и суетливая одновременно, что движется туда и обратно, извивается, кружится, снова начинает свой путь, поднимается, спускается по лестницам, напоминая собою муравейник, столь же непостижима, как Биржа для крестьянина из Нижней Бретани, не подозревающего о существовании Книги государственных долгов. В Париже, за редкими исключениями, мужчины не надевают маскарадных костюмов: мужчина в домино кажется смешным. В этой боязни смешного проявляется дух нации. Люди, желающие скрыть свое счастье, могут пойти на бал в Оперу, но не появиться там, а тот, кто вынужден взойти туда под маской, может тотчас же оттуда удалиться. Занимательнейшее зрелище представляет собою то столпотворение, которое с момента открытия бала образуется у входа в Оперу из-за встречного потока людей, спешащих ускользнуть от тех, кто туда входит. Итак, мужчины в масках – это ревнивые мужья, выслеживающие своих жен, или мужья-волокиты, спасающиеся от преследования жен: положение тех и других достойно осмеяния. Между тем за юным денди, не замечаемый им, следовал, перекатываясь, как бочонок, толстый и коренастый человек в маске разбойника. Завсегдатаи Оперы угадывали в этом домино какого-нибудь чиновника или биржевого маклера, банкира или нотариуса, короче сказать, какого-нибудь буржуа, заподозрившего свою благоверную. И в самом деле, в высшем свете никто не гонится за унизительными доказательствами. Уже несколько масок, смеясь, указывали друг другу на этого зловещего субъекта, кое-кто окликнул его, какие-то юнцы над ним подшучивали; всем своим видом и осанкой этот человек выказывал явное пренебрежение к пустым остротам: он шел вслед юноше, как идет, не замечая ни лая собак, ни свиста пуль вокруг себя, кабан, когда его преследуют. Пусть с первого взгляда забава и тревога облачены в один и тот же наряд – знаменитый черный венецианский плащ – и пусть на маскараде в Опере все условно, однако ж там встречаются, узнают друг друга и взаимно друг за другом наблюдают люди различных слоев парижского общества. Есть приметы, столь точные для посвященных, что эта Черная книга вожделений читается как занимательный роман. Завсегдатаи не могли счесть этого человека за счастливого любовника, потому что он непременно носил бы какой-нибудь особый знак, красный, белый или зеленый, указывающий на заранее условленное свидание. Не шло ли тут дело о мести? Кое-кто из праздношатающихся, заметив маску, что следовала столь неотступно за этим баловнем счастья, снова вглядывался в красивое лицо, на котором наслаждение оставило свой дивный отпечаток. Молодой человек возбуждал интерес: чем дальше, тем больше он подстрекал любопытство. Впрочем, все в нем говорило о привычках светской жизни. Согласно роковому закону нашей эпохи, мало что отличает, как в физическом, так и в нравственном отношении, изысканнейшего и благовоспитаннейшего сына какого-нибудь герцога, или пэра от прекрасного юноши, которого совсем недавно в самом центре Парижа душили железные руки нищеты. Под обличием красоты и юности могли таиться глубочайшие бездны, как и у многих молодых людей, которые желают играть роль в Париже, не обладая средствами, соответствующими их притязаниям, и все ставят на карту, чтобы сорвать банк, каждодневно принося себя в жертву Случаю, наиболее чтимому божеству этого царственного города. Его одежда, движения были безукоризненны, он попирал классический паркет фойе, как завсегдатай Оперы. Кто не примечал, что здесь, как и во всех сферах парижской жизни, принята особая манера держаться, по которой можно узнать, кто вы такой, что вы делаете, откуда прибыли и зачем?
– Как хорош этот молодой человек! Здесь позволительно оглянуться, чтобы на него посмотреть, – сказала маска, в которой завсегдатаям балов легко было признать даму из общества.
– Неужели вы его не помните? – отвечал мужчина, с которым она шла под руку. – Госпожа дю Шатле, однако ж, вам его представила.
– Что вы? Неужели это тот самый аптекарский сынок, в которого она влюбилась? Тот, что стал журналистом, любовник Корали?
– Я думал, он пал чересчур низко, чтобы когда-нибудь встать на ноги, и не понимаю, как он мог опять появиться в парижском свете, – сказал граф Сикст дю Шатле.
– Он похож на принца, – сказала маска, – и едва ли этим манерам его обучила актриса, с которой он жил: моя кузина, которая вывела его в свет, не сумела придать ему лоску; я очень желала бы познакомиться с возлюбленной этого Саржина, расскажите мне что-нибудь из его жизни, я хочу его заинтриговать.
За этой парой, которая перешептываясь, наблюдала за юношей, пристально следила широкоплечая маска.
– Дорогой господин Шардон, – сказал префект Шаранты, взяв денди под руку, – позвольте вам представить даму, пожелавшую возобновить знакомство…
– Дорогой граф Шатле, – отвечал молодой человек, – когда-то эта дама открыла мне, насколько смешно имя, которым вы меня называете. Указом короля мне возвращена фамилия моих предков со стороны матери – Рюбампре. Хотя газеты и оповестили об этом событии, все же оно касается лица столь ничтожного, что я, не краснея, напоминаю об этом моим друзьям, моим недругам и людям ко мне равнодушным; в вашей воле отнести себя к тем или к другим, но я уверен, что вы не осудите поступка, подсказанного мне советами вашей жены, когда она была всего лишь госпожою де Баржетон. (Учтивая колкость, вызвавшая улыбку маркизы, бросила в дрожь префекта Шаранты). Скажите ей, – продолжал Люсьен, – что мой герб: огненнопламенной чéрвлени щит, а в середине щита, поверх той же чéрвлени, на зеленом поле, взъяренный бык из серебра.
– Взъяренный… из серебра?.. – повторил Шатле.
– Госпожа маркиза объяснит вам, если вы того не знаете, почему этот древний гербовый щит стоит больше, чем камергерский ключ и золотые пчелы Империи, изображенные на вашем гербе, к великому огорчению госпожи Шатле, урожденной Негрплелис д'Эспар… – сказал с живостью Люсьен.
– Раз вы меня узнали, я не могу интриговать вас, но не умею выразить, как сильно вы сами меня заинтриговали, – сказала ему шепотом маркиза д'Эспар, крайне удивленная дерзостью и самоуверенностью человека, которым она когда-то пренебрегла.
– Позвольте же мне, сударыня, пребывая по-прежнему в этой таинственной полутени, сохранить единственную возможность присутствовать в ваших мыслях, – сказал он, улыбнувшись, как человек, который не желает рисковать достигнутым успехом.
Маркиза невольным жестом выдала свое недовольство, почувствовав, что Люсьен, как говорят англичане, срезал ее своей прямотой.
– Поздравляю вас с переменой вашего положения, – сказал граф дю Шатле Люсьену.
– Готов принять ваше поздравление с тою же приязнью, с какою вы мне его приносите, – отвечал Люсьен, с отменной учтивостью откланиваясь маркизе.
– Фат! – тихо сказал граф маркизе д'Эспар. – Ему все же удалось приобрести предков.
– Фатовство молодых людей, когда оно задевает нас, говорит почти всегда о большой удаче, меж тем, как у людей вашего возраста оно говорит о неудачной жизни. И я желала бы знать, которая из наших приятельниц взяла эту райскую птицу под свое покровительство, тогда, возможно, мне удалось бы сегодня вечером позабавиться. Анонимная записка, которую я получила, несомненно, злая шалость какой-нибудь соперницы, ведь там идет речь об этом юноше, он дерзил по чьему-то указанию; последите за ним. Я пойду об руку с герцогом де Наварреном, вам будет нетрудно меня найти.
В ту минуту, когда г-жа д'Эспар уже подходила к своему родственнику, таинственная маска встала между нею и герцогом и сказала ей на ухо: «Люсьен вас любит, он автор записки, префект его ярый враг, мог ли он при нем объясниться?»
Незнакомец удалился, оставив г-жу д'Эспар во власти двойного недоумения. Маркиза не знала в свете никого, кто мог бы взять на себя роль этой маски; опасаясь западни, она села поодаль, в укромном уголке. Граф Сикст дю Шатле, фамилию которого Люсьен с показной небрежностью, скрывавшей издавна взлелеянную месть, лишил льстившей тщеславию частицы дю, последовал, держась на расстоянии, за блистательным денди. Вскоре он повстречал молодого человек, с которым счел возможным говорить откровенно.
– Ну что ж, Растиньяк, вы видели Люсьена? Он неузнаваем.
– Будь я хорош, как он, я был бы еще богаче, – отвечал молодой щеголь легкомысленным, но лукавым тоном, в котором сквозила тонкая насмешка.
– Нет, – сказала ему на ухо тучная маска, отвечая на насмешку тысячью насмешек, скрытых в интонации, с которой было произнесено это односложное слово.
Растиньяк отнюдь не принадлежал к породе людей, сносящих оскорбление, но тут он замер, как бы пораженный молнией, и, чувствуя свое бессилие перед железной рукой, упавшей на его плечо, позволил отвести себя в нишу окна.
– Послушайте, вы, петушок из птичника мамаши Воке, у которого не хватило отваги подцепить миллионы папаши Тайфера, когда самое трудное было сделано! Знайте, если вы не станете ради вашей личной безопасности обращаться с Люсьеном, как с любимым братом, вы в наших руках, а мы не в вашей власти. Молчание и покорность, иначе я вступлю в игру, и ваши козыри будут биты. Люсьен де Рюбампре состоит под покровительством церкви, самой могущественной силы наших дней. Выбирайте между жизнью и смертью. Ну, что вы скажете?
На одно мгновение у Растиньяка, точно у человек, задремавшего в лесу и проснувшегося бок о бок с голодной львицей, замутилось сознание. Ему стало страшно, но никто этого не видел; в таких случаях самые отважные люди поддаются чувству страха.
– Он один может знать… и осмелиться… – пробормотал молодой человек.
Маска сжала ему руку, желая помешать окончить фразу.
– Действуйте, как если бы то был он, – сказал неизвестный.
Тогда Растиньяк поступил подобно миллионеру, взятому на мушку разбойником с большой дороги: он сдался.
– Дорогой граф, сказал он, опять подойдя к Шатле, – если вы дорожите вашим положением, обращайтесь с Люсьеном де Рюбампре, как с человеком, которому предстоит подняться гораздо выше вас.
Маска неприметным жестом выразила удовлетворение и опять двинулась вслед за Люсьеном.
– Дорогой мой, вы слишком поспешно переменили мнение на его счет, – отвечал префект, выразив законное удивление.
– Не более поспешно, чем те лица, которые, принадлежа к центру, отдают голос правым, – отвечал Растиньяк этому префекту – депутату, который с недавней поры перестал голосовать за министерство.
– Разве ныне существует мнение? Существует лишь выгода, – заметил де Люпо, слушавший их. – О ком идет речь?
– О господине де Рюбампре. Растиньяк желает преподнести его как важную персону, – сказал депутат генеральному секретарю.
– Милый граф, – отвечал ему де Люпо чрезвычайно серьезно, – господин де Рюбампре весьма достойный молодой человек, состоящий под высоким покровительством, и я почел бы за счастье возобновить с ним знакомство.
– Вот сейчас он попадется в осиное гнездо парижских повес! – воскликнул Растиньяк.
Три собеседника обернулись в ту сторону, где собралось несколько остроумцев, людей более или менее знаменитых и несколько щеголей. Господа эти обменивались наблюдениями, шутками, сплетнями, желая потешиться или ожидая потехи. В этой группе, столь причудливо подобранной, находились люди, с которыми Люсьена когда-то связывали сложные отношения показной благосклонности и тайного недоброжелательства.
– А! Люсьен, дитя мое, ангел мой, вот мы и оперились, приукрасились! Откуда мы? Стало быть, при помощи даров, исходящих из будуара Флорины, мы снова на щите? Браво, мой мальчик! – обратился к нему Блонде, и оставив Фино, он бесцеремонно обнял Люсьена и прижал его к своей груди.
Андош Фино был издателем журнала, в котором Люсьен работал почти даром и который Блонде обогащал своим сотрудничеством, мудростью советов и глубиною взглядов. Фино и Блонде олицетворяли собою Бертрана и Ратона, с тою лишь разницей, что лафонтеновский кот разоблачил наконец обманщиков, а Блонде, зная, что он одурачен, по-прежнему служил Фино. Этот блистательный наемник пера и в самом деле долгое время вынужден был сносить рабство. Фино таил грубую напористость под обличьем увальня, под махровой глупостью наглеца, чуть приправленной остроумием, как хлеб чернорабочего чесноком. Он умел приберечь то, что подбирал на поприще рассеянной жизни, которую ведут люди пера и политические дельцы: мысли и золото. Блонде, на свое несчастье, отдавал свои силы в услужение порокам и праздности. Вечно подстерегаемый нуждою, он принадлежал к злосчастной породе людей, которые способны добиться всего ради пользы ближнего и шагу не сделают ради своей собственной, – к породе Аладинов, отдающих свою лампу взаймы. Эти бесподобные советчики обнаруживают проницательный и ясный ум, когда дело не касается их личных интересов. У них работает голова, а не руки. Отсюда беспорядочность их жизни, отсюда и те упреки, которыми их осыпают люди ограниченные. Блонде делился кошельком с товарищем, которого накануне оскорбил; он обедал, пил, спал с тем, кого завтра мог погубить. Его забавные парадоксы служили всему оправданием. Он все в мире воспринимал, как забаву, и не желал, чтобы его самого воспринимали всерьез. Юный, удачливый, всеми любимый, чуть ли не знаменитый, он не заботился, подобно Фино, о том, чтобы накопить состояние, необходимое для человека в зрелом возрасте. Если бы Люсьен в эту минуту срезал Блонде, как он срезал г-жу д'Эспар и Шатле, быть может, он проявил бы величайшее мужество. Только что его тщеславие восторжествовало: он предстал богатым, счастливым и высокомерным перед двумя особами, которые пренебрегли когда-то бедным и жалким юношей; но мог ли поэт, уподобясь искушенному дипломату, резко порвать с двумя так называемыми друзьями, приголубившими его в пору невзгод, приютившими в бедственные дни? Фино, Блонде и он сам вместе катились по наклонной плоскости, проводя время в кутежах, пожиравших только деньги их заимодавцев. И вот, уподобясь солдату, который не умеет найти достойного применения своему мужеству, Люсьен поступился своим достоинством, ответив на рукопожатие Фино и не отклонив любезностей Блонде. Кто ранее был причастен к журналистике или еще по сию пору к ней причастен, тот вынужден, в силу жестокой необходимости, раскланиваться с теми, кого он презирает, улыбаться злейшему недругу, мириться с любыми низостями, пачкать себе руки, желая воздать обидчикам их же монетой. Привыкают равнодушно смотреть, как творится зло; сначала его приемлют, затем и сами творят его. Со временем душа, непрерывно оскверняемая сделками со совестью, мельчает, пружины благородных мыслей ржавеют, скрепы, сдерживающие пошлость, разбалтываются, и все начинает вращаться само собою, Альцесты становятся Филинтами, воля расслабляется, таланты растлеваются, вера в прекрасное творчество угасает. Тот, кто мечтал о книгах, которыми он мог бы гордиться, растрачивает силы на ничтожные статейки, и рано или поздно совесть упрекнет его за них, как за постыдный поступок. Готовишься, подобно Лусто, подобно Верну, стать великим писателем, а оказываешься жалким писакой. Стало быть, выше всяческих похвал стоят люди, характер которых на высоте их таланта, – д'Артезы, умеющие шагать твердой поступью между рифами литературной жизни. Люсьен не мог противостоять вкрадчивости Блонде, который по самому складу своего ума оказывал на него неодолимое, растлевающее влияние, сохраняя превосходство развратителя над учеником, а к тому же он занимал отличное положение в свете благодаря своей связи с графиней де Монкорне.
– Вы получили наследство от какого-нибудь дядюшки? – насмешливо спросил его Фино.
– Я беру пример с вас: стригу глупцов, – в тон ему отвечал Люсьен.
– Не обзавелся ли случайно господин де Рюбампре каким-нибудь журналом или газетой? – продолжал Андош Фино с наглой самоуверенностью, свойственной эксплуататору в обращении с эксплуатируемым.
– Я приобрел нечто лучшее, – сказал Люсьен, тщеславие которого, уязвленное подчеркнутым самодовольствием главного редактора, напомнило ему о его новом положении.
– Что же вы приобрели, дорогой мой?..
– Я приобрел партию.
– Существует партия Люсьена? – усмехнулся Верну.
– Видишь, Фино, этот юнец обошел тебя, я тебе это предсказывал. Люсьен талантлив, а ты его не берег, помыкал им. Пеняй на себя, дуралей! – воскликнул Блонде.
Хитрый как лиса, Блонде почуял, что немало тайн скрыто в интонациях, движениях, осанке Люсьена; он обольщал его, в то же время крепче натягивая удила своими льстивыми словами. Он желал знать причину возвращения Люсьена в Париж, его намерения, его средства к существованию.
– На колени перед величием, которого тебе никогда не достигнуть, хоть ты и Фино! – продолжал он. – Примем же этого господина, и тотчас же, в компанию сильных мира сего, которым принадлежит будущее: он наш! Он остроумен и прекрасен, кому же еще, как не ему, достигнуть цели твоими же quibuscumque viis. Вот он, в славных миланских доспехах, при нем могучий, полуобнаженный меч и рыцарское знамя! Черт возьми! Люсьен, откуда ты выкрал этот чудесный жилет? Только любовь способна отыскивать подобные ткани. У нас есть дом? В настоящее время мне нужны адреса моих друзей, мне негде ночевать. Фино выгнал меня сегодня под пошлым предлогом любовной удачи.
– Мой дорогой, – отвечал Люсьен, – я применяю на практике аксиому, следуя которой можно с уверенностью прожить спокойно: fuge, late, tace. Я вас покидаю.
– Но я тебя не покину, покуда ты со мною не расчелся. Вспомни-ка один священный долг: обещанный нам скромный ужин! – сказал Блонде, очень любивший вкусно поесть и требовавший, чтобы его угощали, когда у него не было денег.
– Какой ужин? – спросил Люсьен, не скрыв нетерпеливого движения.
– Не помнишь? Вот в чем я вижу признак процветания друга: он утратил память.
– Люсьен знает, что он у нас в долгу; за его совесть я готов поручиться, – заметил Фино, поддерживая шутку Блонде.
– Растиньяк, – сказал Блонде, взяв под руку молодого щеголя в ту минуту, когда тот проходил по фойе, направляясь к колонне, подле которой стояли его так называемые друзья, – речь идет об ужине: вы составите нам компанию… Если только этот господин, продолжал он самым серьезным тоном, указывая на Люсьена, – не станет упорно отрицать долг чести… С него станется!..
– Я ручаюсь, что господин де Рюбампре на это не способен, сказал Растиньяк, менее всего подозревавший о мистификации.
– Вот и Бисиу! – воскликнул Блонде. – Он тоже к нам примкнет: без него нам ничто не мило. Без него и шампанское склеивает язык, и все кажется пресным, даже перец эпиграмм.
– Друзья мои, – начал Бисиу, – я вижу, что вы объединились вокруг чуда нынешнего дня. Наш милый Люсьен воскрешает Метаморфозы Овидия. Подобно тому как боги, ради обольщения женщин превращались в какие-то необыкновенные овощи и во всякую всячину, они превратили Шардона в дворянина, чтобы обольстить… кого? Карла Десятого! Люсьен, голубчик мой, – сказал он, взяв его за пуговицу фрака, – журналист, метящий в вельможи, заслуживает изрядной шумихи. Я бы на их месте, – добавил неумолимый насмешник, указывая на Фино и Верну, – тиснул о тебе статейку в своей газете; ты принес бы им за десять столбцов острот сотню франков.
– Бисиу, – сказал Блонде, – мы чтим Амфитриона целых двадцать четыре часа перед началом пиршества и двенадцать часов после пиршества: наш знаменитый друг дает нам ужин.
– Как? Что? – возразил Бисиу. – Но разве не самое главное спасти от забвения великое имя, подарить бездарной аристократии талантливого человека? Люсьен, ты в почете у прессы, лучшим украшением коей ты был, и мы тебя поддержим. Фино, передовую статью! Блонде, коварную тираду на четвертой странице твоей газеты! Объявим о выходе в свет прекраснейшей книги нашей эпохи Лучник Карла IX! Будем умолять Дориа срочно издать Маргаритки, божественные сонеты французского Петрарки! Поднимем нашего друга на щит из гербовой бумаги, что создает и рушит репутации!
– Если ты хочешь поужинать, – сказал Люсьен, обращаясь к Блонде, ибо он желал избавиться от этой шайки, грозившей увеличиться, – мне кажется, тебе нет нужды прибегать к помощи гиперболы и параболы в разговоре со старым другом, точно он какой-нибудь простак. Завтра вечером у Луантье, – быстро добавил он и поспешил навстречу женщине, шедшей в их сторону.
– О! о! о! – насмешливо протянул Бисиу, меняя тон при каждом восклицании, словно узнавая маску, к которой устремился Люсьен. – Сие заслуживает подтверждения.
И он пошел вслед красивой паре, обогнал ее, оглядел проницательным оком и воротился к большому удовлетворению всех этих завистников, любопытствующих узнать, откуда проистекает перемена в судьбе юноши.
– Друзья мои, предмет счастливой страсти его светлости господина де Рюбампре вам хорошо знаком, – сказал им Бисиу. – Это бывшая «крыса» де Люпо.
Одним из видов разврата, ныне забытым, но распространенным в начале нашего века, было чрезмерное пристрастие к так называемым крысам. «Крысой» – это прозвище ныне устарело – называли девочку десяти – одиннадцати лет, статистку какого-нибудь театра, чаще всего Оперы, которую развратники готовили для порока и бесчестья. «Крыса» была своего рода сатанинским пажем, мальчишкой женского пола, ей прощались любые выходки. Для «крысы» не было ничего запретного, ее надлежало остерегаться, как опасного животного; но она, как некогда Скапен, Сганарель и Фронтен в старинной комедии, вносила в жизнь веселье. «Крыса» обходилась чрезвычайно дорого и не служила ни к чести, ни к выгоде, она не приносила и счастья; мода на крыс настолько забыта, что теперь мало кто знал бы об этой интимной подробности светской жизни в эпоху, предшествующую Реставрации, если бы некоторые писатели не возродили «крысу» в качестве новой темы.
– Как! Люсьен уморив Корали, похитил у нас Торпиль? – воскликнул Блонде.
Услышав это имя, атлет в черном домино невольно сделал движение, хотя и сдержанное, но подмеченное Растиньяком.
– Этого быть не может! – отвечал Фино. – У Торпиль нет ни гроша, ей нечего ему дать; мне сказал Натан, что она заняла тысячу франков у Флорины.
– Ах! Господа, господа!.. – сказал Растиньяк, пытаясь защитить Люсьена от гнусных обвинений.
– Полноте! – вскричал Верну. – Так ли уж щепетилен бывший содержанец Корали?
– О! Эта тысяча франков, – сказал Бисиу, – доказывает мне, что наш друг Люсьен живет с Торпиль…
– Какая невозместимая утрата постигла цвет литературы, науки, искусства и политики! – сказал Блонде. – Торпиль единственная непотребная девка с прекрасными данными для настоящей куртизанки; она не испорчена образованием, она не умеет ни читать, ни писать; она поняла бы нас. Мы одарили бы нашу эпоху одной из тех великолепных фигур в духе Аспазии, без коих нет великого века. Посмотрите, как Дюбарри подходит к восемнадцатому веку, Нинон де Ланкло к семнадцатому, Марион Делорм к шестнадцатому, Империа к пятнадцатому, Флора к римской республике, которую она сделала своей наследницей, – этим наследством был оплачен государственный долг республики! Чем был бы Гораций без Лидии, Тибулл без Делии, Катулл без Лесбии, Проперций без Цинтии, Деметрий без Ламии – которые и поныне создают им славу!
– Блонде, трактующий в фойе Оперы о Деметрии, – сюжет во вкусе Деба, – сказал Бисиу на ухо своему соседу.
– Не будь этих владычиц, что сталось бы с империей Цезарей? – продолжал Блонде. – Лаиса и Родопис – это Греция и Египет. Все они, впрочем, воплощенная поэзия веков, в которые они жили. Этой поэзией, которой пренебрег Наполеон, – ибо вдова его великой армии не более, как казарменная шутка, – Революция не пренебрегла: у нее была госпожа Тальен! Сейчас во Франции, где нет отбоя от претендентов на престол, трон свободен! Мы могли бы создать королеву. Я наградил бы Торпиль какой-нибудь теткой, ибо ее мать, что слишком достоверно, умерла на поле бесчестья, дю Тийе оплатил бы особняк, Лусто карету, Растиньяк слуг, де Люпо повара, Фино шляпы (Фино не мог скрыть невольного движения, получив в упор эту колкость), Верну создал бы ей рекламу, Бисиу придумывал бы для нее остроты! Аристократия наезжала бы к нашей Нинон повеселиться, мы созывали бы к ней артистов под угрозой смертоносных статей. Нинон Вторая славилась бы великолепной дерзостью, ошеломляющей роскошью. У нее были бы свои убеждения. У нее читали бы запрещенные драматические шедевры, их сочиняли бы нарочно, если бы понадобилось. Она не была бы либеральна – куртизанки по природе монархистки. Ах, какая утрата! Она была рождена, чтобы заключить в объятия целый век, а милуется с каким-то юнцом! Люсьен обратит ее в охотничью собаку!
– Ни одна из властительниц, упомянутых тобою, не шаталась по улицам, а эта красивая «крыса» вывалялась в грязи, – заметил Фино.
– Подобно лилии в перегное, – подхватил Верну. – Она в нем выросла, она в нем расцвела. Отсюда ее превосходство. Не надо ли все испытать, чтобы обрести способность смеяться и радоваться по поводу всего?
– Он прав, – сказал Лусто, до той поры хранивший молчание. – Торпиль умеет смеяться и смешить. Это искусство, присущее великим писателям и великим актерам, дается лишь тем, кто изведал все социальные глубины. В восемнадцать лет эта девушка познала вершины богатства, бездны нищеты, людей всех сословий. Она как будто владеет волшебной палочкой, с ее помощью она разнуздывает животные инстинкты, столь подавленные у мужчины, который все еще не остыл сердцем, хотя занимается политикой, наукой, литературой или искусством. В Париже нет женщины, которая осмелилась бы, подобно ей сказать Животному: «Изыди!» И Животное покидает свое логово и предается излишествам. Торпиль насыщает вас по горло, она побуждает вас пить, курить. Словом, эта женщина – соль, воспетая Рабле; брошенная в вещество, она оживляет его, возносит до волшебных областей Искусства. Одежда ее являет небывалое великолепие, ее пальцы, когда это нужно, роняют драгоценные каменья, как уста – улыбки; она умеет каждое явление видеть в свете создавшихся обстоятельств; ее речь искрится острыми словцами, она владеет искусством звукоподражания и создает слова самые красочные и ярко окрашивающие все; она…
– Ты теряешь пять франков за фельетон, – перебил его Бисиу, – Торпиль несравненно лучше. Все вы были более или менее ее любовниками, но никто не может сказать, что она была его любовницей; она всегда вольна обладать вами, но вы ею – никогда. Вы вламываетесь к ней, вы умоляете ее…
– О! Она великодушнее удачливого предводителя разбойничьей шайки и преданнее самого лучшего школьного товарища, – воскликнул Блонде, – ей можно доверить кошелек и тайну! Но вот за что я избрал бы ее королевой: она, подобно Бурбонам, равнодушна к павшему фавориту.
– Она, как и ее мать, чрезвычайно дорога, – сказал де Люпо. – Прекрасная Голландка могла бы расправиться с состоянием толедского архиепископа, она пожрала бы двух нотариусов…
– И кормила Максима де Трай, когда он был пажом, – прибавил Бисиу.
– Торпиль чрезвычайно дорога, так же, как Рафаэль, как Карем, как Тальони, как Лоуренс, как Буль, как были дороги все гениальные художники… – заметил Блонде.
– Но никогда Эстер по своей внешности не походила на порядочную женщину, – сказал Растиньяк, указав на маску, которую Люсьен вел под руку. – Бьюсь об заклад, что это госпожа де Серизи.
– В том нет сомнения, – поддержал его дю Шатле, и удача господина де Рюбампре объяснима.
– Ах! Церковь умеет выбирать своих левитов! Какой из него выйдет очаровательный секретарь посольства! – воскликнул де Люпо.
– Тем более, – продолжал Растиньяк, – что Люсьен талантлив. Эти господа имели тому не одно доказательство, – добавил он, глядя на Блонде, Фино и Лусто.
– Да, наш юнец далеко пойдет, – сказал, Лусто, раздираемый завистью, – тем более что у него есть то, что мы называем независимостью мысли…
– Твое творение, – сказал Верну.
– Так вот, – заключил Бисиу, глядя на де Люпо, – я взываю к воспоминаниям господина генерального секретаря и докладчика Государственного совета; маска – не кто иная, как Торпиль, держу на ужин…
– Принимаю пари, – сказал Шатле, желавший узнать истину.
– Послушайте, де Люпо, – сказал Фино, – попытайтесь признать по ушам вашу бывшую «крысу».
– Нет нужды оскорблять маску, – снова заговорил Бисиу, – Торпиль и Люсьен, возвращаясь в фойе, пройдут мимо нас, и я берусь доказать вам, что это она.
– Стало быть, наш друг Люсьен опять всплыл на поверхность, – сказал Натан, присоединяясь к ним, – а я думал, что он воротился в ангулемские края, чтобы скоротать там свои дни. Не открыл ли он какого-нибудь секретного средства против кредиторов?
– Он сделал то, чего ты так скоро не сделаешь, – отвечал Растиньяк, – он заплатил все долги.
Тучная маска кивнула головой в знак одобрения.
– Когда молодой человек в его возрасте остепеняется, он в какой-то степени обкрадывает себя, утрачивает задор, превращается в рантье, – заметил Натан.
– О! Этот останется вельможей, он никогда не утратит возвышенности мысли. Вот что обеспечит ему превосходство над многими так называемыми возвышенными людьми, – отвечал Растиньяк.
В эту минуту все они – журналисты, денди, бездельники – изучали, как барышники изучают лошадь, обворожительный предмет их пари. Эти судьи, умудренные долгим опытом парижского беспутства, и каждый в своем роде человек недюжинного ума, в равной мере развращенные, в равной мере развратители, посвятившие себя удовлетворению необузданного честолюбия, приученные все предполагать, все угадывать, следили горящими глазами за женщиной в маске – за женщиной, узнать которую могли только они. Только они одни да еще несколько завсегдатаев балов в Опере могли заметить под длинным черным саваном домина, под капюшоном, под ниспадающим воротником, которые до неузнаваемости меняют облик женщины, округлость форм, особенности осанки и поступи, гибкость стана, посадку головы, приметы, наименее уловимые обычным глазом и бесспорные для них. Они могли наблюдать, несмотря на бесформенное одеяние, самое волнующее из зрелищ: женщину, одушевленную истинной любовью. Была ли то Торпиль, герцогиня де Монфриньез или г-жа де Серизи, низшая или высшая ступень социальной лестницы, это создание являлось дивным творением, воплощенной любовной грезой. Юные старцы, как и старые юнцы, поддавшись очарованию, позавидовали высокому дару Люсьена превращать женщину в богиню. Маска держала себя так, словно она была наедине с Люсьеном: для этой женщины не существовало ни десятысячной толпы, ни душного, насыщенного пылью воздуха. Нет, она пребывала под божественным сводом Любви, как мадонна Рафаэля под сенью своего золотого венца. Она не чувствовала толкотни, пламень ее взора, проникая сквозь отверстия маски, сливался со взором Люсьена, и, казалось, по ней пробегал трепет при каждом движении ее друга. Где источник того огня, что окружает сиянием влюбленную женщину, отмечая ее среди всех? Где источник той легкости сильфиды, казалось, опровергавшей законы тяготения? То не душа ли, воспаряющая ввысь? То не было ли счастье, обретающее зримые черты? Девическая наивность, детская прелесть проступали сквозь домино. Эти два существа, пусть они шли только рядом, напоминали изваяния Флоры и Зефира, слившихся в объятии по воле искуснейшего скульптора: но то было нечто большее, нежели скульптура – высшее из искусств; Люсьен и его прелестное домино напоминали ангелов в окружении цветов и птиц, как их запечатлела кисть Джованни Беллини под изображениями Девы-Матери; Люсьен и эта женщина принадлежали миру Воображения, что выше Искусства, как причина выше следствия.
Когда, эта женщина, забывшая обо всем, проходила неподалеку от группы молодежи, Бисиу ее окликнул: «Эстер!». Несчастная живо обернулась на оклик, узнала коварного человека и опустила голову, – она была похоже на умирающую, которая испускает последний вздох. По зале разнесся громкий смех, и молодые люди рассеялись в толпе, как стая вспугнутых полевых мышей, бегущих от обочины дороги в свои норки. Один лишь Растиньяк отошел на такое расстояние, чтобы не дать повода думать, будто он бежит от испепеляющих взоров Люсьена; он мог полюбоваться горем двух существ, пусть скрытым, но равно глубоким: сперва Торпиль, сраженная как бы ударом молнии, затем – непостижимая маска, единственная фигура, не двинувшаяся с места. Эстер в тот миг, когда ее ноги подкосились, успела что-то шепнуть на ухо Люсьену, и Люсьен, поддерживая девушку, скрылся с нею в толпе. Растиньяк проводил взглядом красивую пару и глубоко задумался.
– Откуда у нее прозвище Торпиль? – спросил мрачный голос, потрясший все его существо, ибо на сей раз он не был изменен.
– Значит, он опять бежал… – сказал Растиньяк в сторону.
– Молчи, или я тебя задушу, – отвечала маска уже другим голосом. – Я доволен тобой, ты сдержал слово, стало быть, наша помощь к твоим услугам. Будь отныне нем как могила; но прежде ответь на мой вопрос.
– Ну что ж! Эта девушка так пленительна, что могла бы покорить Наполеона и даже кого-нибудь более стойкого: тебя хотя бы! – отвечал Растиньяк, отходя прочь.
– Постой, – сказала маска. – Я докажу тебе, что ты меня нигде и никогда не видел.
Человек снял маску. Растиньяк одно мгновение колебался, он не находил в нем ничего общего с тем страшным существом, которое когда-то знавал в пансионе Воке.
– Дьявол помог вам преобразить все, кроме глаз, их забыть нельзя, – сказал он ему.
Железная рука сжала ему руку, повелевая хранить вечное молчание.
В три часа утра де Люпо и Фино застали изящного Растиньяка на том же месте, где его оставила страшная маска. Прислонившись к колонне, Растиньяк исповедовался самому себе: он был и духовником и кающимся, и обвинителем и обвиняемым. Они увели его завтракать; домой он вернулся совершенно пьяным, но безмолвный.
Улица Ланглад, так же как соседние с ней улицы, позорит Пале-Рояль и улицу Риволи. На этой части одного из самых блистательных парижских кварталов – наследии холмов, образовавшихся из свалок старого Парижа, где некогда стояли мельницы, – еще долгое время будет лежать постыдное пятно. Узкие, темные и грязные улицы, где процветают не слишком чистоплотные промыслы, ночью приобретают таинственный облик, полный резких противоположностей. Если идти от освещенных участков улицы Сент-Оноре, улицы Нев-де-Пти-Шан и улицы Ришелье, где непрерывно движется толпа, где блистают чудеса Промышленности, Моды и Искусства, то попав в сеть улиц, окружающих этот оазис огней, который бросает свой отблеск в небо, человек, незнакомый с ночным Парижем, будет охвачен унынием и страхом. Непроглядная тьма сменяет потоки света, льющихся от газовых фонарей. Изредка тусклый керосиновый фонарь роняет неверный и туманный луч, не проникающий в темные тупики. Спешат редкие прохожие. Лавки заперты, а те, что отперты, внушают опасение: это или грязный, полутемный кабачок или бельевая лавка, где продают одеколон. Пронизывающая сырость окутывает ваши плечи своим влажным плащом. Лишь изредка проедет карета. Здесь есть зловещие места, и среди них, в особенности, улица Ланглад, а также выход из проезда Сен-Гильом и некоторые повороты других улиц. Муниципальный совет ничего не сделал, чтобы оздоровить этот огромный лепрозорий, ибо проституция с давней поры основала здесь свою главную квартиру. Возможно, большое удобство для парижского высшего общества в том, что эти улицы не утрачивают своего гнусного облика. Но, когда проходишь здесь днем, нельзя вообразить, во что превращаются эти улицы ночью: там блуждают причудливые существа из неправдоподобного мира, полуобнаженные белые фигуры вырисовываются на стенах домов, мрак оживлен. Между стенами и прохожими крадутся разряженные манекены, одушевленные и лепечущие. Из приотворенных дверей слышатся взрывы смеха. До ушей доносятся слова, которые Рабле почитал замороженными, между тем они тают. Им подпевают камни мостовой. То не беспорядочный шум, он что-то означает: если звук сиплый, стало быть – голос, если же он напоминает пение, в нем исчезает все человеческое, он подобен вою. Часто раздаются свистки. Чудится, что даже каблуки башмаков постукивают насмешливо и издевательски. Все в целом вызывает головокружение. Атмосферные условия там необычны: зимой жарко, летом холодно. Но, какова ни была погода, это удивительное место являет собою вечно одно и то же зрелище: фантастический мир берлинца Гофмана. И самый трезвый человек не отыщет в нем самом ни малейшей реальности, когда миновав эти трущобы, он выйдет на приличные улицы, где встречаются прохожие, лавки и фонари. Администрация или современная политика, более высокомерные или более стыдливые, нежели королевы и короли прошедших времен, не опасавшиеся дарить своим вниманием куртизанок, уже не осмеливаются открыто заняться этой язвой столиц. Конечно, меры воздействия со временем видоизменяются, и те, которые касаются личности и ее свободы, следует применять со всей осторожностью, но, может быть, надлежало бы проявить широту и смелость в отношении условий чисто материальных, таких, как воздух, свет, жилища. Блюститель нравственности, художник и мудрый администратор будут сожалеть о старинных Деревянных галереях Пале-Ройяля, где скучивались эти овцы, которые теперь появляются повсюду, где есть гуляющие; и не лучше ли было бы, чтобы гуляющие шли туда, где находятся овцы? Что же случилось? Ныне самые блистательные бульвары, место волшебных прогулок, стали недоступны по вечерам для людей семейных. Полиция, чтобы спасти места общественного гулянья, не сумела воспользоваться теми возможностями, какие в этом отношении представляют собой некоторые пассажи.
Женщина, сраженная возгласом на балу в Опере, жила уже два месяца на улице Ланглад, в доме, с виду весьма невзрачном. Это прилепившееся к стене огромного здания скверно оштукатуренное, узкое и чрезвычайно высокое строение выходило окнами на улицу и весьма напоминало насест попугая. В каждом его этаже было по квартире из двух комнат. Дом обслуживался узкой лестницей, прижатой к самой стене и получавшей причудливое освещение через оконные пролеты, которыми снаружи обозначался марш лестницы; на каждой площадке стоял бак для нечистот – одна из самых омерзительных особенностей Парижа. Лавка и второй этаж принадлежали в то время жестянщику; домовладелец жил в первом этаже, остальные четыре были заняты гризетками, весьма приличными, заслужившими со стороны домовладельца и привратницы уважение и снисходительность тем более оправданные, что сдавать внаем дом, столь своеобразно построенный и дурно расположенный, было чрезвычайно трудно. Назначение этого квартала объясняется достаточно большим количеством домов, подобных этому, отвергаемых Торговлей и пригодных лишь для тех, кто занимается незаконным, ненадежным или бесчестным промыслом.
В три часа дня привратница, видевшая, как в два часа пополуночи какой-то молодой человек привез полуживую мадемуазель Эстер, держала совет с гризеткой, жившей этажом выше; прежде чем сесть в карету и ехать кататься, та поделилась с ней тревогой за Эстер, потому что в ее квартире царила мертвая тишина. Эстер, наверное, еще спала, но этот сон был подозрителен. Привратница, сидя одна в своей каморке, сокрушалась, что не может подняться на четвертый этаж, где помещалась квартира мадемуазель Эстер, и расследовать, что там творится. В то время, когда она уже решилась доверить сыну жестянщика охрану своего помещения – подобия ниши, вделанной в углубление стены во втором этаже, – у подъезда остановился фиакр. Человек, закутавшийся с головы до ног в плащ, с явным намерением скрыть свое одеяние или сан, вышел из экипажа и спросил мадемуазель Эстер. Тогда привратница совершенно успокоилась; тишина и спокойствие в квартире затворницы стали ей совершенно понятны. Когда посетитель поднимался по лестнице, приходившейся как раз над ее каморкой, привратница заметила серебряные пряжки, украшавшие его башмаки, ей показалось также, что она разглядела черную бахрому на поясе сутаны. Она вышла и стала расспрашивать кучера; его молчание было для привратницы красноречивым ответом. Священник постучал, никто не откликнулся; он услышал негромкие стоны и выломал плечом дверь с ловкостью, видимо, ниспосланной ему милосердием, в то время как у всякого другого можно было бы приписать навыку. Он поспешил во вторую комнату, и там, перед святой Девой из раскрашенного гипса, увидел бедную Эстер, стоявшую на коленях, вернее упавшую со сложенными руками. Гризетка умирала. Жаровня с истлевшим углем говорила о событиях этого страшного утра. На полу валялись капюшон и накидка домина. Постель была не тронута. Бедная девушка, раненная в самое сердце, по-видимому, все подготовила по возвращении из Оперы. Фитиль свечи в застывшем воске на розетке подсвечника свидетельствовал, насколько Эстер была поглощена последними размышлениями. Платок, мокрый от слез, доказывал искренность этой Магдалины, распростертой в классической позе нечестивой куртизанки. Это полнота раскаяния вызвала у священника улыбку. Эстер, неопытная в искусстве покончить с собою, оставила дверь открытой, не рассчитав, что воздух двух комнат требовал большего количества угля, чтобы стать смертоносным; угар лишь одурманил ее; свежий воздух, хлынувший с лестницы, постепенно вернул ее к сознанию своих горестей. Священник по-прежнему стоял, погруженный в мрачное раздумье, равнодушный к божественной красоте девушки, и наблюдал, как постепенно приходила она в себя, точно перед ним было какое-нибудь животное. Его взгляд с видимым безразличием переходил от распростертого тела на окружающие предметы. Он рассматривал убранство комнаты с холодным полом, выложенным красными плитками, местами выпавшими, едва прикрытым убогим, вытертым ковром. Старомодная кровать под красное дерево, с пологом из коленкора, желтого с красными розанами, единственное кресло, два стула, также под красное дерево, крытые тем же коленкором, который пошел и на оконные занавеси; серые обои в цветочках, засаленные и потемневшие от времени; рабочий стол красного дерева; камин, заставленный кухонной утварью самого низкого качества, две начатые вязанки дров; на каменном подоконнике, вперемежку со стеклянными бусами и ножницами, небрежно брошенные драгоценные украшения, грязная подушечка для булавок, белые, надушенные перчатки, очаровательная шляпка, оброненная на кувшин с водой, на окне шаль от Терно, затемнявшая свет, нарядное платье, повешенное на гвоздь; жесткая, без подушечек, кушетка; отвратительные, стоптанные деревянные башмаки и изящные ботинки, полусапожки, которым позавидовала бы королева; простые фарфоровые тарелки с отбитыми краями, хранящие остатки еды, под грудой мельхиоровых приборов, этого столового серебра парижской бедноты; корзинка, наполненная картофелем и грязным бельем, а сверху – свежий газовый чепец; дешевый зеркальный шкаф, открытый и пустой, на полках которого можно было заметить ломбардные квитанции, – таково было поражавшее взор содружество всех этих вещей, мрачных и веселых, убогих и великолепных. Не заставила ли задуматься эта необычная картина – эти следы роскоши среди черепков, это хозяйство, столь соответствовавшее беспорядочной жизни девушки, которая лежала на полу в растерзанной одежде, точно лошадь, упавшая во всей сбруе под сломанной оглоблей, запутавшись в вожжах? Признал ли он по крайней мере, что эта падшая девушка была бескорыстна, если мирилась с такой нищетой, имея возлюбленным молодого богача? Приписывал ли он беспорядочность обстановки беспорядочности жизни? Испытывал ли он жалость, ужас? Шевельнулась ли в его сердце чувство сострадания? Тот, кто увидел бы его омраченное чело, сжатый рот, скрещенные на груди руки, кто подметил бы его суровый взгляд, тот решил бы, что этот человек обуреваем темными, злобными чувствами, противоречивыми замыслами. Он был, несомненно, равнодушен к прелестным округлостям груди, почти раздавленной тяжестью поникшего тела, к пленительным формам этой Присевшей Венеры, которые ясно обрисовывались под черным платьем, ибо умирающая буквально сжалась в клубок; ни беспомощно опущенная головка, открывавшая взору белую шею, нежную и гибкую, ни прекрасные, смело изваянные природой плечи – ничто его не волновало. Он не приподнял Эстер, он, казалось, не слышал душераздирающих вздохов, которые выдавали возвращение к жизни, и только когда девушка разрыдалась и устремила на него отчаявшийся взгляд, он соблаговолил поднять ее с полу и отнести на кровать, причем это было сделано с легкостью, которая обнаруживала в нем недюжинную силу.
– Люсьен! – прошептала она.
– Любовь оживает, стало быть, оживает и женщина, – сказал священник с какой-то горечью.
Жертва парижской развращенности заметила наконец одеяние своего спасителя и, улыбаясь, как дитя, получившее желанную игрушку, сказала ему:
– Теперь я умру, примирившись с небом!
– Вы можете искупить свои грехи, – сказал священник, омочив ее лоб водой и дав понюхать уксусу из флакона, найденного им в углу.
– Я чувствую, что жизнь возвращается ко мне, а не уходит, – сказала она в ответ на заботы священника, сопровождая свои слова жестом, исполненным признательности и неподдельной искренности.
Пленительная пантомима, к которой ради соблазна прибегли бы и сами Грации, вполне оправдывали прозвища странной девушки.
– Вам стало легче? – спросил священнослужитель, давая ей выпить стакан воды с сахаром.
Этот человек, казалось, был знаком со своеобразным укладом жизни гризеток, он тут все знал. Он был тут, как у себя дома. Дар быть всюду, как у себя дома, присущ лишь королям, девкам и ворам.
– Когда вы почувствуете себя вполне хорошо, – продолжал странный священник после короткого молчания, – вы мне откроете причины, которые довели вас до вашего последнего преступления, до попытки самоубийства.
– Моя история очень проста, отец мой, отвечала она. – Три месяца назад я еще вела распутную жизнь, с которой свыклась с самого рождения. Я была последняя тварь и самая гнусная: теперь я лишь несчастнейшая из всех несчастных. Позвольте мне не рассказывать о моей несчастной матери, убитой…
– Капитаном в непотребном доме, – сказал священник, прерывая кающуюся. – Мне известно ваше происхождение, и я уверен, что если кто-нибудь из представительниц вашего пола может заслужить прощение за свою постыдную жизнь, так это вы, не ведавшая доброго примера.
– Увы! Я не крещена, и никакая религия меня не наставляла.
– Стало быть, все еще поправимо, – продолжал священник, – лишь бы вера, ваше раскаяние были искренни и не таили какой-нибудь задней мысли.
– Люсьен и бог в моем сердце, – сказала она с трогательной наивностью.
– Вы лучше бы сказали бог и Люсьен, – заметил священник, улыбаясь. – Вы напоминаете мне о цели моего посещения. Не скрывайте ничего, что касается этого молодого человека.
– Вы пришли от него? – спросила она с такой любовью, что растрогала бы всякого другого священника. – Ах! Он предчувствовал несчастье.
– Нет, – отвечал он, – причина тревоги не ваша смерть, а ваша жизнь. Ну, расскажите мне о ваших отношениях с Люсьеном.
– Короче сказать… – начала она.
Резкий тон священнослужителя повергал бедную девушку в трепет, но все же то была женщина, которую грубость давно уже перестала поражать.
– Люсьен – это Люсьен, – продолжала она. – Прекраснейший из юношей и лучший из всех смертных; но если вы его знаете, моя любовь должна казаться вам вполне естественной. Я встретила его случайно, три месяца назад, в театре Порт-Сен-Мартен, в один из моих свободных дней, – ведь в заведении госпожи Менарди, где я жила, у каждой из нас был свободный день в неделю. На другое утро, как вы отлично понимаете, я тайком убежала оттуда. Любовь овладела моим сердцем, и все во мне так изменилось, что, вернувшись из театра, я себя не узнала; я сама себе внушала ужас. Все это осталось неизвестным Люсьену. Вместо того, чтобы рассказать ему всю правду, я дала ему адрес вот этой квартирки, – тогда здесь жила моя приятельница, такая милая, что уступила мне ее. Вот вам мое нерушимое слово…
– Не надо клятв.
– Разве это клятва, когда дают нерушимое слово? Так вот, с того дня я стала работать, как сумасшедшая, в этой комнате: я шила сорочки по двадцать восемь су за штуку, только бы жить честным трудом. Целый месяц я питалась одним картофелем, я хотела быть благоразумной и достойной Люсьена, ведь он любит меня и уважает, как самую добродетельную девушку. Я написала заявление в полицию, чтобы меня восстановили в правах, и теперь нахожусь под надзором сроком на два года. Люди так легко вносят вас в позорные списки и так становятся несговорчивы, когда приходится вас оттуда вычеркивать. Я просила небо помочь мне выполнить мое решение. Мне минет девятнадцать лет в апреле: это возраст, когда еще не все потеряно. Мне кажется, что я родилась всего лишь три месяца назад… Каждое утро я молилась богу и просила его устроить так, чтобы никогда Люсьен не узнал о моей прежней жизни. Я купила вот эту Деву, что вы видите; я молилась ей по-своему, ведь я не знаю никаких молитв; я не умею ни читать, ни писать, я никогда не ходила в церковь; мне случалось видеть господа бога только во время процессий, да и то я ходила туда из одного любопытства.
– Как же обращаетесь к пресвятой Деве?
– Я говорю с ней, как говорю с Люсьеном, от всей души и так горячо, что у него навертываются слезы.
– А-а! Он плачет?
– От радости, – сказала она с живостью. – Бедняжка! Мы живем душа в душу! Он так мил, так ласков, так нежен и сердцем и душой, и в обращении!.. Он говорит, что он поэт, а я говорю, что он бог… Простите, но вы, священники, не понимаете, что такое любовь! Впрочем, никто так не знает мужчин, как знаем их мы, и никто не может достаточно оценить Люсьена. Люсьен, видите ли, такая же редкость, как безгрешная женщина; встретившись с ним, нельзя никого любить, кроме него, вот и все. Но для подобного существа нужна подобная же подруга. Я желала стать достойной любви моего Люсьена. Вот в чем мое несчастье. Вчера в Опере меня узнали молодые люди, а сострадания у них не больше, чем жалости у тигров, – с тигром я еще поладила бы! Покрывало невинности, что я носила, пало; их смех пронзил мой мозг и сердце. Не думайте, что вы спасли меня, я умру от горя.
– Покрывало невинности?.. – переспросил священник. – Стало быть, вы держались с Люсьеном крайне строго?
– О мой отец, как вы зная его, задаете подобный вопрос! – отвечала она с улыбкой превосходства. – Богу не прекословят.
– Не кощунствуйте, – мягким голосом сказал священнослужитель. – Никому не дано быть подобным богу; преувеличение противно истинной любви, вы не любите вашего кумира настоящей, чистой любовью. Если бы вас поистине коснулось перерождение, которым вы хвалитесь, вы обрели бы добродетели, что служат достоянием юности, вы познали бы наслаждение целомудрия, прелесть непорочности – два ореола юной девушки! Нет, вы не любите!
Испуганный жест Эстер, замеченный священником, не поколебал бесстрастия этого духовника.
– Да, вы любите его ради себя, а не ради него самого, ради преходящих утех, что вас пленяют, а не ради любви во имя любви; поскольку вы им овладели греховным путем, вы, стало быть, не испытали священного трепета, внушаемого существом, отмеченным божественной печатью, достойным поклонения; подумали ли вы, что вы его позорите вашим порочным прошлым, что вы готовы развратить это дитя чудовищными наслаждениями, создавшими вам прозвище, прославленное бесчестием? Вы поступили опрометчиво в отношении себя самой и в отношении вашей мимолетней страсти…
– Мимолетной! – повторила она, подняв глаза.
– Как же иначе назвать любовь, если то любовь преходящая, которая в вечной жизни не соединяет нас во Христе с тем, кого мы любим?
– Ах, я хочу стать католичкой! – вскричала она; и звук ее голоса, глухой и страстный, заслужил бы ей прощение Спасителя.
– Возможно ли, чтобы девушка, не удостоенная церковного крещения и не приобщившаяся науке, не обученная ни читать, писать, молиться, не ступившая шагу без того, чтобы камни мостовой не вопияли о ее грехах, отмеченная лишь непрочным даром красоты, которую завтра, быть может, похитит болезнь, – возможно ли, чтобы это презренное, падшее создание, ведающее о своей испорченности (будь вы в неведении и не люби вы так пылко, вы скорей заслужили бы прощение), эта будущая жертва самоубийства и преисподней могла стать женой Люсьена де Рюбампре?
Каждое слово было ударом кинжала, оно ранило в самое сердце. Рыдания, нараставшие с каждой фразой, обильные слезы отчаявшейся девушки свидетельствовали о том, как ярко озарилось светом ее нетронутое, как у дикаря, сознание, ее пробудившаяся наконец душа, все ее существо, на которое разврат наложил грязный слой льда, тающий под солнцем веры.
– Зачем я не умерла! – Вот была единственная высказанная ею мысль среди того водоворота мыслей, что, кружась в ее мозгу, словно опустошали его.
– Дочь моя, – сказал страшный судия, – существует любовь, в которой не открываются перед людьми, но ее признания с ликующей улыбкой приемлют ангелы.
– Что же это за любовь?
– Любовь безнадежная, любовь вдохновенная, любовь жертвенная, облагораживающая все наши действия, все наши помыслы. Да, подобной любви покровительствуют ангелы, она ведет к познанию бога! Совершенствоваться непрестанно, дабы стать достойной того, кого любишь, приносить ему тысячу тайных жертв, обожать издали, отдавать свою кровь капля за каплей, пренебречь самолюбием, не знать ни гордости, ни гнева, таить все, вплоть до жестокой ревности, которую любовь возжигает в вашем сердце, поступаться ради него, пусть в ущерб себе, всем, чего бы он ни пожелал, любить все, что он любит, прилепиться к нему мыслью, чтобы следовать за ним без его ведома, – подобную любовь простила бы религия, ибо она не оскорбляла бы ни законов человеческих, ни законов божеских и вывела бы вас на иной путь, нежели путь вашей мерзостной похоти.
Выслушав этот страшный приговор, выраженный одним словом (и каким словом! И с какой силой оно было сказано!), Эстер почувствовала вполне законное недоверие. Слово было подобно удару грома, предвещавшего надвигающуюся грозу. Она взглянула на священника, и у нее сжалось сердце от страха, который овладевает даже самыми отважными людьми перед нежданной и неотвратимой бедой. Никто по выражению его лица не мог бы прочесть, что творилось тогда с этим человеком, но и наиболее смелые скорее ощутили бы трепет, нежели надежду, увидев эти глаза, когда-то блестящие и желтые, как глаза тигра, а теперь от самоистязаний и лишений подернутые пеленою, подобной дымке, что обволакивает небосклон в разгаре лета, – земля тепла и светозарна, но сквозь туман она представляется сумрачной и мглистой, она почти не видна. Величественность, подлинно испанская, глубокие морщины, казавшиеся еще более безобразными от следов страшной оспы и напоминавшие рытвины на дорогах, избороздили его оливковое лицо, обожженное солнцем. Суровость этого лица еще более подчеркивалась обрамлявшим его гладким париком священника, который не печется более о своей особе, с редкими, искрасна-черными на свету волосами. Торс атлета, руки старого солдата, широкие сильные плечи приличествовали бы кариатидам средневековых зодчих, сохранившихся в некоторых итальянских дворцах, – отдаленное сходство с ними можно найти в кариатидах на здании театра Порт-Сен-Мартен. Люди наименее прозорливые решили бы, что пламенные страсти или необычайные злоключения бросили этого человека в лоно церкви; несомненно, лишь неслыханные удары судьбы могли его изменить, если только подобная натура была способна измениться. Женщины, ведущие образ жизни, столь решительно отвергнутый Эстер, доходят до полного безразличия к внешности человека. Они напоминают современного литературного критика, который в известном отношении может быть с ними сопоставлен, ибо он также доходит до полного безразличия к канонам искусства: он прочел столько произведений, столько их прошло через его руки, он так привык к исписанным страницам, он пережил столько развязок, он видел столько драм, написал столько статей, не высказав того, что думал, он так часто предавал интересы искусства в угоду дружбе и недружелюбию, что чувствует отвращение ко всему и тем не менее, продолжает судить. Только чудом подобный писатель может создать достойное произведение, только чудом чистая и возвышенная любовь может расцвести в сердце куртизанки. Тон и манера священника, казалось, сошедшего с полотен Сурбарана, представились столь враждебными бедной девушке, для которой внешность не имела значения, что она почувствовала себя не предметом заботы, а скорее необходимым участником какого-то замысла. Не умея отличить притворную ласковость из расчета от истинного милосердия, ибо надо быть настороже, чтобы разпознать фальшивую монету, данную другом, она почувствовала себя в когтях хищной, страшной птицы, долго кружившей над ней, прежде чем на нее наброситься, и в ужасе, встревоженным голосом сказала:
– Я думала, что священники должны нас утешать, а вы меня убиваете!
При этом простодушном возгласе священник сделал недовольное движение и умолк; он собирался с мыслями, прежде чем ответить. В продолжение минуты два существа, столь странно соединенные судьбою, украдкой изучали друг друга. Священник понял девушку, меж тем как девушка не могла понять священника. Он, видимо, отказался от какого-то намерения, угрожавшего бедной Эстер, и остался при первоначальном решении.
– Мы врачеватели душ, – сказал он мягким голосом, – и мы знаем, какие нужны средства от их болезней.
– Надобно многое прощать несчастным, – сказала Эстер.
Она усомнилась в правоте своих подозрений, соскользнула с постели, распростерлась у ног этого человека, поцеловала с глубоким смирением его сутану и подняла к нему глаза, полные слез.
– Я думала, что достигла многого, – сказала она.
– Послушайте, дитя мое! Ваша пагубная слава повергла в печаль близких Люсьена: они опасаются, и не без некоторых оснований, как бы вы не вовлекли его в рассеянную жизнь, в бездну безрассудств.
– Правда, это я увлекла Люсьена с собою на бал, чтобы немножко поинтриговать его.
– Вы достаточно хороши, чтобы он пожелал торжествовать свою победу перед лицом света и с гордостью выставлять вас напоказ, как парадный выезд! Если бы он тратил только деньги! Но он тратит время, силы; он утратит вкус к прекрасным возможностям, которые ему желают создать. Вместо того чтобы со временем стать посланником, богачом, предметом восхищения, знаменитостью, он окажется, подобно стольким распутникам, утопившим свои дарования в мерзости парижского разврата, возлюбленным падшей женщины. Что касается вас, то, поднявшись временно в высшие сферы, вы рано или поздно обратитесь к прежней жизни, ибо в вас нет той стойкости, которая дается хорошим воспитанием и помогает противостоять пороку в интересах будущего. Вы так же не порвали бы с вашими товарками, как не порвали с людьми, опозорившими вас этой ночью в Опере. Истинные друзья Люсьена, встревоженные любовью, которую вы ему внушили, последовали за ним и все выведали. Придя в ужас, они направили меня к вам, чтобы узнать ваши намерения и затем решить вашу участь; но, если они достаточно сильны, чтобы убрать препятствия с пути молодого человека, они и милосердны. Знайте, дочь моя: женщина, любимая Люсьеном, вправе рассчитывать на их уважение, – так истинному христианину дорога и грязь, если на нее случайно упадет божественный луч. Я пришел, чтобы исполнить свой долг посредника в благом деле; но ежели бы вы оказались совершенно испорченной, искушенной в коварстве, бесстыдной, развращенной до мозга костей, глухой к голосу раскаяния, я бы не защищал вас от их гнева. Я слышал, как вы, со всем пылом искреннего раскаяния, желали получить восстановление в правах гражданских и политических – это дело трудное, и полиция права, чиня к тому препятствия в интересах самого же общества; но вот оно, это разрешение, – сказал священник, вынимая из-за пояса бумагу казенного образца. – Вас видели вчера, документ помечен нынешним днем; судите сами, как могущественны люди, принимающие участие в Люсьене.
При виде этой бумаги судорожная дрожь, спутница нечаянного счастья, овладела простодушной Эстер, и на ее устах застыла улыбка, напоминавшая улыбку безумной. Священник умолк и взглянул на нее, желая убедиться, вынесет ли столько впечатлений юное создание, лишенное той страшной силы, которую люди порочные черпают в самой порочности, и вновь обретшее свою природную хрупкость и нежность. Куртизанка, лгунья разыграла бы комедию; но обратившись к былой чистоте и искренности, Эстер могла бы умереть – так прозревший после операции слепец может вновь потерять зрение от чересчур яркого света. Перед этим человеком открылись в ту минуту глубины человеческой натуры, но он пребывал в устрашающем, непоколебимом спокойствии: то был холод снежных Альп, соприкасающихся с небом, бесстрастных и угрюмых, с гранитными склонами, и все же благостных. Эти девушки – существа в высшей степени непостоянные, они переходят беспричинно от самой тупой недоверчивости к неограниченному доверию. В этом отношении они ниже животного. Неистовые во всем, в радости, в печали, в вере и в неверии, почти все они были бы обречены на безумие, если бы не высокая смертность, которая опустошала их ряды, и если бы не счастливые случайности, возносившие иных над той грязью, в которой они живут. Достаточно было видеть исступленный восторг Торпиль, упавшей к ногам священника, чтобы измерить всю глубину убожества этой жизни и понять, до какого безумия можно дойти, не потеряв при этом рассудка. Бедная девушка смотрела на спасительный лист бумаги с выражением, которое забыл увековечить Данте и которое превосходило все измышления его Ада. Но вместе со слезами пришло успокоение. Эстер поднялась, охватила руками шею этого человека, склонила голову на его грудь и, рыдая, поцеловала грубую ткань, прикрывавшую стальное сердце, как бы желая в него проникнуть. Она обняла этого человека, покрыла поцелуями его руки; в благовейном порыве благодарности она пустила в ход весь арсенал своих вкрадчивых ласк, она осыпала его самыми трогательными именами, прерывая тысячу и тысячу раз свой нежный лепет словами: «Отдайте мне ее!», – произносимыми с самой различной интонацией; она опутала его своими молящими взорами с такой быстротой, что завладела им без сопротивления. Священник понял, чем эта девушка заслужила свое прозвище; он испытал, как трудно устоять перед этим очаровательным созданием, он вдруг разгадал любовь Люсьена и то, что должно было в ней пленить поэта. Подобная страсть таит, между тысячью приманок, острый крючок, пронзающий глубже всего возвышенную душу художника. Подобные страсти, необъяснимые для толпы, превосходно объяснимы жаждой прекрасного идеала, отличающей того, кто творит. Очистить от скверны подобное существо – не значит ли уподобиться ангелам, которым поручено обращать в веру отступников? Не значит ли это творить? Как приманчиво привести в согласие красоту нравственную с красотой физической! Какое гордое удовлетворение испытывает человек, когда это ему удается! Как прекрасен труд, единственное орудие которого любовь! Такое сочетание, впрочем, прославленное примером Аристотеля, Сократа, Платона, Алкивиада, Цетегуса, Помпея и столь чудовищное в глазах обывателя, порождается чувством, которое вдохновило Людовика XIV построить Версаль, которое бросает людей во всякие разорительные предприятия; оно заставляет их превращать миазмы болот в ароматы парков, омытых проточными водами, поднимать озеро на вершину холма, как то сделал принц де Конти в Нуантеле, либо созидать швейцарские пейзажи в Кассане, подобно откупщику Бержере. Словом, это Искусство, вторгающееся в область Нравственности.
Священник, устыдившийся того, что поддался ее чарам, резко оттолкнул Эстер; она села, тоже устыдившись, ибо, хладнокровно положив бумагу за пояс, он сказал: «Вы все та же куртизанка!» Эстер, как ребенок, у которого на уме одно желание, не отрываясь, смотрела на пояс, хранивший вожделенный документ.
– Дитя мое, – продолжал священник, помолчав, – ваша мать была еврейка, вы не крещены, но вас не водили и в синагогу; вы находитесь в предверии церкви, как и младенцы…
– Младенцы! – повторила она с умилением.
– Так же как в списках полиции вы лишь номер, вне общественного бытия, – бесстрастно продолжал священник. – Если любовь, случайно вас коснувшаяся, заставила вас за три месяца назад поверить, что вы заново родились, то вы с того дня должны и вправду чувствовать себя младенцем. Стало быть, вы нуждаетесь в опеке, как если бы были ребенком, вы должны совершенно перемениться, и я ручаюсь, что сделаю вас неузнаваемой. Прежде всего забудьте Люсьена.
Слова эти разбили сердце бедной девушки: она подняла глаза на священника и сделала движение, означавшее отказ; она лишилась дара слова, вновь обнаружив палача в спасителе.
– По крайней мере откажитесь от встречи с ним, – продолжал он. – Я помещу вас в монастырский пансион, где юные девушки лучших семейств получают воспитание; там вы станете католичкой, там вас наставят на путь христианского долга, просветят в духе религии. Вы выйдете оттуда превосходной молодой девицей, целомудренной, безупречной, хорошо воспитанной, если…
Он поднял палец и помолчал.
– Если, – продолжал он, – вы чувствуете в себе силы расстаться здесь с Торпиль.
– Ах! – воскликнула бедная девушка, ибо каждое слово было для нее подобно музыкальной ноте, под звуки которой медленно приоткрывались ворота рая. – Ах! если бы я могла пролить здесь всю мою кровь и влить в себя новую!..
– Выслушайте меня.
Она замолчала.
– Ваша будущность зависит от того, насколько глубоко вам удастся забыть прошлое. Подумайте о серьезности ваших обязательств: одно слово, одно движение, изобличающее Торпиль, убивает жену Люсьена; возглас, вырвавшийся во сне, невольная мысль, нескромный взгляд, нетерпеливый жест, воспоминания о распутстве, любой промах, какой-нибудь кивок головой, выдающий то, что вы знаете, или то, что познали, к вашему несчастью…
– Продолжайте, продолжайте, отец мой! – воскликнула девушка с исступлением подвижницы. – Ходить в раскаленных докрасна железных башмаках и улыбаться, носить корсет, подбитый шипами, и хранить грацию танцовщицы, есть хлеб, посыпанный пеплом, пить полынь – все будет сладостно, легко!
Она опять упала на колени, она целовала обувь священника и обливала ее слезами, она обнимала его ноги и прижималась к ним, лепеча бессмысленные слова сквозь рыдания, исторгнутые радостью. Белокурые волосы поразительной красоты рассыпались ковром у ног этого посланника небес, который представился ей помрачневшим и еще более суровым, когда, поднявшись, она взглянула на него.
– Чем я вас оскорбила? – спросила она в испуге. – Я слышала, как рассказывали о женщине, подобной мне, умастившей благовониями ноги Иисуса Христа! Увы! Добродетель обратила меня в нищую, и кроме слез, мне нечего вам предложить.
– Разве вы не слышали моих слов? – сказал он жестко. – Я говорю вам: надо так измениться физически и нравственно, чтобы никто из тех, кто вас знал, встретившись с вами, по вашему выходу из пансиона, куда я вас помещу, не осмелился бы окликнуть вас: «Эстер!», и тем принудить вас обернуться. Вчера ваша любовь не помогла вам настолько глубоко схоронить в себе непотребную женщину, чтобы она не выдала себя, и вот снова выдает себя в этом поклонении, подобающем лишь богу.
– Не он ли послал вас ко мне? – сказала она.
– Если Люсьен вас увидит прежде, чем закончится ваше воспитание, все потеряно, – заметил он, – подумайте об этом хорошенько.
– Кто его утешит? – сказала она.
– В чем вы его утешали? – спросил священник, голос которого впервые в продолжение этой сцены дрогнул.
– Не знаю, он часто приходил огорченный.
– Огорченный? – промолвил священник. – Чем? Он вам когда-нибудь об этом говорил?
– Никогда, – отвечала она.
– Он был огорчен тем, что любил такую шлюху, как вы! – вскрикнул он.
– Это, верно, так и было, – продолжала она с глубоким смирение. – Увы! Я самая презренная из женщин, и моим оправданием в его глазах была лишь моя беззаветная любовь к нему.
– Эта любовь должна дать вам мужество слепо мне повиноваться. Если бы я сегодня же поместил вас в пансион, где вас будут обучать, каждый скажет Люсьену, что нынче, в воскресенье, вас увез какой-то священник, и он мог бы напасть на след. Через неделю, если я не буду сюда являться, привратница не узнает меня. Итак, ровно через неделю, тоже вечером, в семь часов, вы украдкой выходите из дому и садитесь в фиакр, который будет вас ожидать в конце улицы Фрондер. Всю эту неделю избегайте встречи с Люсьеном; пользуйтесь любым предлогом и не принимайте его, а если он все же придет, подымитесь к приятельнице; я узнаю, если вы с ним встретитесь, и тогда все кончено, вы меня больше не увидите. За эту неделю вам необходимо сделать приличное приданое и отрешиться от навыков проститутки, – прибавил он, положив кошелек на камин. – В вашем облике, в вашей одежде есть нечто столь знакомое парижанам, что всякий скажет, кто вы такая. Не случалось ли вам встречать на улицах, на бульварах скромную и добродетельную молодую девушку, идущую рядом с матерью?
– О да! К моему несчастью. Для нас видеть мать с дочерью самая тяжкая пытка; пробуждаются угрызения совести, укрытые в тайниках сердца, они пожирают нас!.. Я слишком хорошо знаю, чего мне недостает.
– Стало быть, вы знаете, что от вас потребуется в будущее воскресенье? – сказал священник, вставая.
– О! – воскликнула она. – Научите меня, прежде чем уйти, настоящей молитве, чтобы я могла молиться богу.
Трогательно было видеть священника и эту девушку, повторяющую за ним по-французски Ave Maria и Pater noster.
– Как это прекрасно! – сказала Эстер, сразу же без ошибки повторившая эти великолепные и общеизвестные выражения католической веры.
– Как ваше имя? – спросила она священника, когда тот прощался.
– Карлос Эррера, я испанец, изгнанник моей страны.
Эстер взяла его руку и поцеловала. То была уже не куртизанка, то был падший и раскаявшийся ангел.
В начале марта месяца этого года пансионерки заведения, знаменитого аристократическим и религиозным воспитанием, заметили в понедельник утром, что их общество обогатилось новоприбывшей, которая красотою, бесспорно, затмевала не только всех подруг, но и те отдельные совершенства, которые можно было найти в каждой из них. Во Франции чрезвычайно трудно, чтобы не сказать невозможно, встретить все тридцать совершенств, необходимых для законченной женской красоты и прославленных персидскими стихами, которые высечены, как говорят, на стенах сераля. Во Франции безупречная красота встречается редко, зато как восхитительны отдельные черты! Что касается величавого единства этих черт, которые скульптура пытается передать и передала в немногих избранных изваяниях, как Диана и Калипига, – это достояние Греции и Малой Азии. Эстер вышла из колыбели рода человеческого, родины красоты: ее мать была еврейка. Хотя евреи от смешения с другими народами теряют свои типичные черты, все же среди их многочисленных племен можно встретить в своем роде самородки, сберегшие высокий первообраз азиатской красоты. Если они не отталкивающе безобразны, они являют великолепные особенности армянских лиц. Эстер завоевала бы первенство в серале: она обладала всеми тридцатью совершенствами, гармонично слитыми воедино. Ее своеобразная жизнь, не нарушая законченности форм, свежести оболочки, сообщила ей какую-то особую женственность: то была не гладкая, упругая кожа незрелых плодов и не теплые тона зрелости, то было цветение. Продолжай она свою распутную жизнь, ей угрожала бы дородность. Избыток здоровья, совершенное развитие физических качеств существа, в котором чувственность заменяет разум, несомненно, должен представлять значительный интерес в глаза физиологов. По редкой, чтобы не сказать небывалой для столь юной девушки, случайности руки ее, несравненного благородства, были мягки, прозрачны и белы, как руки женщины после вторых родов. У нее были такие же ноги и волосы, как у герцогини Беррийской, столь ими славившейся, – волосы, непокорные руке парикмахера, такие густые и такие длинные, что падая на землю, они ложились кольцами, ибо Эстер была среднего роста, позволяющего обращать женщину как бы в игрушку, поднимать ее, класть, опять брать и носить на руках, не чувствуя усталости. Кожа, тонкая, как китайская бумага, и теплого цвета амбры, оживленная голубыми жилками, была атласная, но не сухая, нежная, но не влажная. Эстер, до крайности впечатлительная, но внешне сдержанная, сразу привлекала внимание одной особенностью, запечатленной мастерской кистью Рафаэля в его творениях, ибо Рафаэль был художником, наиболее изучившим и лучше других передавшим еврейскую красоту. Эта дивная особенность лица создавалось четкостью рисунка надбровной дуги, напоминавшей арку, под сводом которой жили глаза, как бы независимо от своей оправы. Когда молодость расцвечивает чистыми и прозрачными красками эту великолепную арку, увенчанную крылатыми бровями, когда солнечный луч, скользнув под ее окружие, ложится там розовой тенью, тогда это – источник сокровищ нежности, утоляющей любовника, источник красоты, доводящий до отчаяния живописца. В высшем напряжении создает природа и эти светоносные излучины, где приютилась золотистая тень, и эту ткань, плотную, как нерв, и чувствительную, как самая нежная мембрана. Глаз покоится, подобно волшебному яйцу, в гнезде из шелковых травинок. Но со временем, когда страсти опалят эти столь утонченные черты, когда горести избороздят морщинами нежную ткань, тогда это чудо преисполнится мрачной печали. Происхождение Эстер сказывалось в восточном разрезе глаз с тяжелыми веками; при ярком освещении серый, аспидный цвет этих глаз переходил в синеву воронова крыла. Только поразительная нежность ее взгляда смягчала их блеск. Лишь детям пустынь дано чаровать всех своим взглядом, ибо женщина всегда кого-нибудь чарует. Глаза их, несомненно, хранят в себе что-то от бесконечности, которую они созерцали. Не снабдила ли предусмотрительная природа их сетчатую оболочку каким-то отражающим покровом, чтобы они могли выдержать миражи песков, потоки солнечных лучей и пламенную лазурь эфира? Или они, подобно другим существам человеческим, заимствуют нечто от той среды, в которой развиваются, и приобретенные там свойства проносят сквозь века! Вопрос сам по себе, может быть, заключает в себе великое разрешение расовой проблемы; инстинкты – это живая реальность, в основе их лежит подчинение необходимости. Животные разновидности суть следствие упражнения этих инстинктов. Чтобы убедиться в истине, которой доискиваются с давних пор, достаточно применить к людскому стаду опыт наблюдения над стадами испанских и английских овец; в равнинах, на лугах, изобилующими травами, они пасутся, прижавшись одна к другой, и разбегаются в горах, где скудная растительность. Оторвите этих овец от их родины, перенесите их в Швейцарию или Францию: горная овца и на сочных лугах равнин будет пастись в одиночку; овцы равнин будут пастись прижавшись одна к другой даже в Альпах. Многие поколения с трудом преобразуют приобретенные и унаследованные инстинкты. Спустя сто лет горный дух вновь пробуждается в строптивом ягненке; как через восемнадцать столетий после изгнания Восток заблистал в глазах и облике Эстер. Взгляд ее отнюдь не таил опасного очарования, он излучал нежное тепло, он умилял, а не поражал, и самая твердая воля растворялась в его пламени. Эстер победила ненависть, изумив парижских распутников; но глаза и нежность ее сладостной кожи создали ей ужасное прозвище, которое едва не свело ее в могилу. Все в ней было в гармонии с ее обликом пери знойных пустынь. У нее был высокий лоб благородной формы. Нос был изящный, тонкий как у арабов, с овальными, чуть приподнятыми, четко очерченными ноздрями. Рот – алый и свежий, как роза, не тронутая увяданием, – оргии не оставили на нем никакого следа. Подбородок, словно изваянный влюбленным скульптором, блистал молочной белизною. Одно лишь, чему она не могла помочь, выдавало опустившуюся куртизанку: испорченные ногти, ибо требовалось много времени, чтобы вернуть им изысканную форму, настолько они были обезображены самой грубой домашней работой. Юные пансионерки сначала завидовали этому чуду красоты, затем пленились им. Не минуло и недели, как они привязались к наивной Эстер, проявив участие к тайным горестям восемнадцатилетней девушки, не умевшей ни читать, ни писать, для которой любая наука, любое учение были внове и которой предстояло составить гордость архиепископа, обратившего еврейку в католическую веру, а монастырю дать повод для торжества ее крещения. Они простили ей ее красоту, сочтя себя выше ее по воспитанию. Эстер вскоре усвоила манеру обращения, мягкость интонаций, осанку и движения этих благовоспитанных девиц, словом, она обрела свою истинную природу. Преображение было столь полное, что при первом посещении монастыря Эррера изумился, хотя его ничто в мире, казалось, не должно было изумлять, и воспитательницы поздравили его с такой воспитанницей.
Никогда еще на своем учительском поприще эти женщины не встречал такой милой естественности, такого христианского смирения, такой неподдельной скромности, такого горячего желания учиться. Если девушка перенесла страдания, равные страданиям бедной пансионерки, и ожидает награды, подобной той, что испанец предлагал Эстер, трудно представить, чтобы она не совершила чудес, достойных первых времен существования церкви и повторенных иезуитами в Парагвае.
– Вот назидательный пример, – сказала настоятельница, целуя ее в лоб.
Этим словом, в высшей степени католическим, было все сказано.
Во время перемен Эстер осторожно расспрашивала подруг о самых простых светских вещах, столь же для нее новых, как первые впечатления для ребенка. Когда девушка узнала, что в день своего крещения и первого причастия она будет одета во все белое, что у нее будет повязка из белого атласа, белые ленты, белые башмаки, белые перчатки, что у нее будут белые банты в волосах, она залилась слезами в кругу удивленных подруг. То было полной противоположностью сцене с Иевфаем на горе Хорив. Куртизанка страшилась разоблачений, и эта странная тоска омрачала радость предвкушения таинства. Между нравами, от которых она отказалась, и нравами, к которым она приобщилась, расстояние было не меньшее, нежели между первобытной дикостью и цивилизацией, и своей грацией, наивностью и глубиной она напоминала прелестную героиню американских пуритан. Сама того не ведая, она таила в сердце любовь, подтачивавшую ее силы, любовь женщины, все познавшей, обуреваемой желанием более властным, нежели желание девственницы, ничего не изведавшей, хотя чувства и той и другой имеют один и тот же источник и ведут к одному и тому же концу. В первые месяцы новизна затворнической жизни, удовольствие, доставляемое учением, занятия рукоделием, религиозные обряды, усердное выполнение обета, нежная привязанность подруг, наконец, упражнение способностей пробудившегося ума – все, даже усилия овладеть своей памятью, помогло ей подавить воспоминания, ибо ей нужно было от многого отучиться и многому обучиться заново. Существует несколько видов памяти: память тела и память сердца, а тоска по родине, например, есть болезнь памяти физической. В исходе третьего месяца неистовая сила этой девственной души, на распахнутых крыльях стремящейся в рай, была не то чтобы укрощена, но как бы заторможена тайным чувством сопротивления, причины которому не знала и сама Эстер. Подобно шотландским овцам, она желала пастись в одиночестве, она не могла победить инстинкты, разнузданные развратом. Не грязные ли улицы Парижа, от которых она отреклась, призывали ее к себе? Не разомкнутые ли цепи страшных навыков волочились за нею, держась на позабытых креплениях, и мучили ее, как, по словам врачей, мучают старых солдат раны давно ампутированных конечностей? Не пороки ли, с их излишествами, так пропитали ее до самого мозга костей, что никакая святая вода не могла изгнать притаившегося в ней дьявола? Быть может, та, кому господь бог мог простить слияние любви человеческой и любви божественной, должна была встретиться с тем, ради кого совершались эти ангельские усилия? Ведь одна любовь привела ее к другой. Быть может, в ней совершалось перемещение жизненной энергии, порождающее неизбежные страдания? Все недостоверно и полно мрака в той области, которую наука не пожелала изучить, сочтя подобную тему чересчур безнравственной и чересчур предосудительной, как будто врач, писатель, священник и политик не выше подозрений! Однако ж врач, столкнувшись со смертью, обрел ведь мужество и начал исследования, оставшиеся еще не завершенными. Возможно, мрачное состояние духа, угнетавшее Эстер и нарушавшее ее счастливую жизнь, проистекало от всех этих причин, и она страдала, ничего не ведая о них, как страдают больные, не искушенные в медицине и хирургии. Примечательный случай! Обильная и здоровая пища, сменившая пищу скудную и возбуждающую, не насыщала Эстер. Целомудренная и размеренная жизнь, чередование неутомительной работы и часов досуга вместо прежней рассеянной жизни, полной удовольствий, столь же пагубных, как и огорчения, сокрушали юную пансионерку. Отдых самый живительный, спокойные ночи, пришедшие на смену жесточайшей усталости и страшному возбуждению, породили лихорадку, признаки которой ускользали от внимания монахини, следившей за здоровьем пансионерок. Короче сказать, благополучие и счастье, заступившие место горестей и невзгод, спокойствие взамен вечной тревоги были столь же пагубны для Эстер, как ее былые злоключения были бы пагубны для ее юных подруг. Зачатая в распутстве, она в нем и выросла. Ее адская родина все еще держала девушку в своей власти, вопреки верховным приказаниям ее несокрушимой воли. То, что она ненавидела, было для нее жизнью, то, что она любила, ее убивало. В ней жила вера столь пламенная, что ее благочестие радовало душу. Она полюбила молиться. Она открыла сердце свету истинной религии, она воспринимала ее без всякого усилия над собой, без всяких колебаний. Священник, наставлявший ее, был от нее в восхищении, но ее тело постоянно восставало против души. Из илистого пруда выловили карпов и пустили их в мраморный бассейн с чистой, прозрачной водой ради прихоти г-жи Ментенон, кормившей их крошками с королевского стола. Карпы зачахли. Животным свойственна преданность, но никогда человек не передаст им проказу лести. Один придворный указал на этот немой протест в Версале. «Они, как я, – заметила эта некоронованная королева, – тоскуют по родному болоту». В этих словах вся история Эстер. Порою бедная девушка убегала в великолепный монастырский парк и там металась от дерева к дереву, в отчаянии устремляясь в темную чащу в поисках – чего? Она сама того не знала, но она поддавалась дьявольскому соблазну, она любезничала с деревьями; она расточала им слова, теперь для нее запретные. Вечерами она не раз скользила, подобно ужу, вдоль бесконечной монастырской ограды, без шали, с обнаженными плечами. Нередко в капелле, она стояла всю мессу, вперив взгляд в распятие, и все восхищались ею: из глаз ее лились слезы, но плакала она от бешенства; она желала бы созерцать священные лики, а ей грезились пламенные ночи, когда она управляла пиршеством, как Габенек управляет в Консерватории симфонией Бетховена, – ночи озорные и сладострастные, с разнузданными движениями и безудержным смехом, неистовые, сумасшедшие, скотские. Внешне она была девственницей, прикованной к земле лишь своим женским обликом, внутри же бесновалась своевластная Мессалина. Никто, кроме нее самой, не был посвящен в тайну этой борьбы сатаны с ангелом; случалось, настоятельница журила ее за чересчур кокетливое для монастырского устава убранство головы, и она с очаровательной поспешностью готова была срезать и волосы, если бы наставница того пожелала. Тоска по родине у этой девушки, предпочитавшей погибнуть, нежели воротиться в свою грешную отчизну, была полна трогательной прелести. Она побледнела, осунулась, исхудала. Настоятельница сократила часы обучения и вызвала к себе эту удивительную девушку, желая ее расспросить. Эстер была счастлива, ей нравилось проводить время в кругу подруг; в ней нельзя было заметить ни малейшего ослабления деятельности каких-либо жизненно важных центров, но ее жизнеспособность была существенно ослаблена. Она ни о чем не сожалела, она ничего не желала. Настоятельница была удивлена ответами пансионерки, она видела, что девушка чахнет, и, не находя причины, терялась в догадках. Был призван врач, как только состояние юной воспитанницы показалось серьезным, но врач этот не знал о прежней жизни Эстер и не мог о ней подозревать; он нашел ее вполне здоровой, так как не обнаружил никакой болезни. Девушка давала ответы, опровергавшие все его предположения. Оставался один способ разрешить сомнения ученого, встревоженного страшной мыслью: Эстер упорно отказывалась подвергнуться осмотру врача. Настоятельница, ввиду трудности положения, вызвала аббата Эррера. Испанец явился, понял отчаянное положение Эстер и наедине коротко побеседовал с врачом. После этой дружеской беседы ученый объявил духовнику, что единственным средством спасения было бы путешествие в Италию. Аббат не пожелал на это согласиться, прежде чем Эстер не будет крещена и не примет первое причастие.
– Сколько понадобится еще времени? – спросил врач.
– Месяц, – отвечала настоятельница.
– Она умрет, – возразил врач.
– Да, но осененная благодатью и спасшая душу, – сказал аббат.
Вопрос о религии господствует в Испании над вопросами политическими, гражданскими и житейскими; врач ничего не ответил испанцу и обернулся к настоятельнице, но страшный аббат взял его за руку.
– Ни слова, сударь! – сказал он.
Врач, несмотря на то, что он был человек религиозный и монархист, окинул Эстер взглядом, полным сердечного участия. Девушка была хороша, как поникшая на стебле лилия.
– Да будет над ней милость божия! – воскликнул он уходя.
В тот же день после совещания покровитель Эстер повез ее в «Роше-де-Канкаль», ибо желание спасти девушку внушало священнику самые необычайные поступки; он испробовал две формы излишества: изысканный обед, способный напомнить бедной девушке ее кутежи, и Оперу, представившую ей несколько картин из светской жизни. Потребовалось все его подавляющее влияние, чтобы юная праведница решилась на подобное кощунство. Эррера так отлично перерядился в военного, что Эстер с трудом его узнала: он позаботился набросить на свою спутницу вуаль и усадил ее в глубь ложи, чтобы она была укрыта от нескромных взглядов. Это средство, безвредное для добродетели, столь прочно завоеванной, вскоре утратило свое действие. Воспитанница испытывала отвращение к обедам покровителя, религиозный ужас перед театром и опять впала в задумчивость. «Она умирает от любви к Люсьену», – сказал себе Эррера, желавший проникнуть в недра этой души и выведать, что еще можно от нее потребовать. И вот настал момент, когда бедная девушка могла опереться лишь на свои нравственные силы, ибо тело готово было уступить. Священник рассчитал наступление этой минуты с ужасающей прозорливостью опытного человека, родственной прежнему искусству палачей пытать свою жертву. Он застал свою питомицу в саду, на скамье, возле беседки, под ласковым апрельским солнцем; казалось, ей было холодно, и она тут отогревалась; от наблюдательных подруг не укрылась ее бледность увядающего растения, глаза умирающей газели, вся ее задумчивая поза. Эстер поднялась навстречу испанцу, и ее движения говорили, как мало было в ней жизни и, скажем прямо, как мало желания жить. Бедная дочь богемы, вольная раненая ласточка, она еще раз пробудила жалость в Карлосе Эррера. Мрачный посланец, который, видимо, творил волю господа бога, являясь лишь его карающей десницей, встретил больную улыбкой, в которой крылось столько же горечи, сколько и нежности, столько же мстительности, столько и милосердия. Эстер, приученная за время своей почти монашеской жизни к созерцанию и самоуглублению, вновь испытала чувство недоверия при виде своего покровителя; но, как и в первый раз, она была тотчас же успокоена его речами:
– Ну что ж, милое дитя мое, отчего вы ни словом не обмолвитесь о Люсьене?
– Я вам обещала, – отвечала она, вздрогнув всем телом, – я вам поклялась не произносить этого имени.
– Однако ж вы постоянно о нем думаете.
– В этом моя единственная вина, сударь. Я всегда думаю о нем, и когда вы вошли, я втайне твердила его имя.
– Вас убивает разлука?
В ответ Эстер поникла головой, как больная, которая уже чувствует дыхание могилы.
– Встретиться… – начал он.
– Значит, жить, – отвечала она.
– Вы стремитесь к нему только душой?
– Ах, сударь, любовь едина, она вмещает в себе все.
– Дочь проклятого племени! Я все сделал, чтобы тебя спасти, а теперь возвращаю тебя твоей судьбе: ты его увидишь.
– Отчего вы клянете мое счастье? Разве я не могу любить Люсьена и жить в добродетели, которую я люблю так же сильно, как и его? Разве я не готова умереть здесь ради нее, как я готова была умереть ради него? Разве я не угасаю из-за этой двойной одержимости, из-за добродетели, сделавшей меня достойной его, и из-за него, отдавшего меня в руки добродетели? Скажите, разве я не угасаю, готовая умереть, не встретившись с ним, но готовая жить после встречи с ним? Бог мне судья.
Вновь ожили ее краски, бледные щеки вновь приняли золотистый оттенок. Эстер еще раз обрела былое очарование.
– Вы встретитесь с Люсьеном на следующий же день после того, как вас омоют воды крещения. И если вы, посвятив ему жизнь, сочтете себя способной жить добродетельно, вы больше с ним не расстанетесь.
Священник вынужден был поднять Эстер, у нее подогнулись колени. Бедная девушка упала, словно земля ушла у нее из-под ног; аббат усадил ее на скамью, и когда к ней вернулся дар речи, она вымолвила:
– Отчего же не нынче?
– Не желаете ли вы лишить монсеньера торжества по поводу вашего крещения и обращения в веру? Вы слишком близки к Люсьену, чтобы быть близкой к богу.
– Да, я ни о чем более не думала!
– Вы не созданы для религии, – сказал священник с выражением глубокой иронии.
– Бог милостив, – возразила она, – он читает в моем сердце.
Эррера, побежденный пленительной наивностью голоса, взгляда, движений и поведения Эстер, впервые поцеловал ее в лоб.
– Распутники дали тебе меткое прозвище: ты соблазнила бы даже бога отца. Еще несколько дней, – так надо! – и вы оба свободны.
– Оба свободны! – повторила она восторженно.
Эта сцена, наблюдавшаяся издали, удивила воспитанниц и воспитательниц, решивших по изменившемуся виду Эстер, что они присутствовали при каком-то волшебстве. Преображенное создание было полно жизни. Эстер вновь предстала в своей истинной любовной сущности, милая, обольстительная, волнующая, жизнерадостная, наконец она воскресла!
Эррера жил на улице Кассет, близ церкви Сен-Сюльпис, к приходу которой он принадлежал. Церковь, строгого и сухого стиля подходила испанцу, его религия была сродни уставу ордена доминиканцев. Добровольная жертва коварной политики Фердинанда VII, он вредил делу конституции, твердо зная, что его преданность двору может быть вознаграждена только лишь при восстановлении Rey netto. И Карлос Эррера телом и душой предался camarilla в момент, когда о свержении кортесов не было и речи. В глазах света подобное поведение было признаком возвышенной души. Поход герцога Ангулемского состоялся, и король Фердинанд сидел на престоле, а Карлос Эррера не спешил в Мадрид предъявить счет за свои услуги. Защищенный от любопытства умением молчать, обязательным для дипломата, он объяснял свое пребывание в Париже горячей привязанностью к Люсьену де Рюбампре, и молодой человек уже был обязан ему указом короля о перемене своего имени. Впрочем, Эррера вел замкнутый, традиционный образ жизни священников, облеченных особыми полномочиями. Он посещал службы в церкви Сен-Сюльпис, отлучался из дома лишь по необходимости, всегда вечером и в карете. День заполнялся испанской сиестой – отдыхом между завтраком и обедом, именно в то время, когда Париж шумен и поглощен делами. Курение также играло свою роль в распорядке дня, поглощая столько же времени, сколько и испанского табаку. Праздность столь же хорошая маска, как и важность, которая сродни праздности. Эррера жил во втором этаже одного крыла дома, Люсьен занимал другое крыло. Оба помещения были обособлены и вместе с тем связаны обширными приемными покоями, старинная пышность которых равно приличествовали и степенному служителю культа и юному поэту. Двор этого дома был мрачен. Вековые разросшиеся деревья наполняли тенью весь сад. Тишина и скромность присущи жилищам, облюбованным духовными особами. Помещение Эррера можно описать в трех словах: то была келья. Комнаты Люсьена, блистающие роскошью и изысканным комфортом, соединяли в себе все, чего требует праздная жизнь денди, поэта, писателя, честолюбца, распутника, человека высокомерного и вместе тщеславного, беспорядочного, но жаждущего порядка, – одного из тех неполноценных талантов, которые одарены известной способностью желать и задумывать, что, быть может, одно и то же, но не способны что-либо осуществить. Сочетание Люсьена и Эррера создавало законченного политического деятеля. В этом, несомненно, крылась тайна подобной связи. Старцы, у которых жизненная энергия переместилась в область корыстолюбия, нередко чувствуют потребность в красивой марионетке, в молодом и страстном актере для выполнения своих замыслов. Ришелье чересчур поздно стал искать прекрасное существо, белолицее и усатое, чтобы бросить его на забаву женщинам. Не понятый юными ветрениками, он был вынужден изгнать мать своего властителя и повергнуть в ужас королеву, попытавшись прежде обольстить и ту и другую, хотя не имел никаких данных, чтобы пленять королев. Что станешь делать? В жизни честолюбца неизбежно столкновение с женщинами, и именно в ту минуту, когда менее всего можно ожидать подобной встречи. Как бы ни был могуществен крупный политический деятель, ему нужна женщина, чтобы ее противопоставить женщине, – так голландцы алмаз шлифуют алмазом. Рим во времена своего величия подчинялся этой необходимости. Заметьте также, насколько Мазарини, итальянский кардинал, могущественнее Ришелье, французского кардинала! Ришелье встречает сопротивление знати и пускает в дело топор; он умирает в зените власти, изнуренный поединком, в котором его соратником был один лишь капуцин. Мазарини отвергнут буржуазией и дворянством, объединившимися, вооруженными, порою победоносными и обратившими в бегство королевскую семью; но слуга Анны Австрийской никому не отрубит голову, он сумеет покорить Францию и оказать влияние на Людовика XIV, который завершив дело Ришелье, удушит дворянство золоченым шнуром в великом Версальском серале. Умерла г-жа де Помпадур – погиб Шуазель. Извлек ли Эррера урок из этих знаменитых примеров? Воздал ли он себе должное ранее, нежели то сделал Ришелье? Не избрал ли он в лице Люсьена своего Сен-Мара, но Сен-Мара верного? Никто не мог бы ответить на эти вопросы, никто не мог познать меру честолюбия испанца, как нельзя было предугадать, какой конец его ждет. Подобные вопросы, волновавшие всех, кому довелось наблюдать эту, столь долго скрываемую связь, клонились к тому, чтобы разгадать страшную тайну, в которую Люсьен был посвящен лишь несколько дней назад. Карлос был вдвойне честолюбцем – вот о чем говорило его поведение людям, знавшим его и считавшим Люсьена его незаконным сыном.
Не прошло и полутора лет с того вечера, как Люсьен появился в Опере, слишком рано вступив в свет, куда аббат желал ввести его лишь хорошо подготовив и вооружив против этого света, а у него уже стояли в конюшне три чистокровные лошади, карета для вечерних выездов, кабриолет и тильбюри для утренних. Он обедал в городе. Ожидания Эррера сбылись: его ученик всецело отдался удовольствиям рассеянной жизни, но ведь в расчеты священника входило отвлечь юношу от безрассудной любви, таившейся в его сердце. Однако Люсьен успел уже истратить около сорока тысяч франков, и все же после каждого нового безумства его все неудержимее влекло к Торпиль; он упорно искал ее и не находил, она становилась для него тем же, чем дичь для охотника. Мог ли Эррера понять природу любви поэта? Стоит этому чувству, воспламенив сердце и овладев всем существом такого взрослого младенца, коснуться его сознания, и поэт так же высоко возносится над человечеством силою своей любви, как высоко он вознесен над ним могуществом своего воображения. Отмеченный по прихоти природы духовной своей природы редкой способностью передавать действительность образами, в которых запечатлеваются и чувство и мысль, он дарует любви крылья своего духа: он чувствует и изображает, он действует и размышляет, он мыслью множит ощущения; в своих мечтах о будущем и в воспоминаниях о прошлом он втройне переживает блаженство настоящего: он вносит в него утонченные наслаждения духа, возвышающие его над всеми художниками. Страсть поэта становится тогда величавой поэмой, в которой сила человеческих чувств выходит за пределы возможного. Не ставит ли поэт свою возлюбленную превыше того положения, которым довольствуется женщина? Как благородный Ламанчский рыцарь, он преображает поселянку в принцессу. Он владеет волшебной палочкой, и все, к чему он прикоснется ею, превращается для него в нечто чудесное, и он возвышает сладострастие, перенося его в область идеального. Оттого-то подобная любовь становится образцом страсти: она чрезмерна во всем – в надеждах, в отчаянии, в гневе, в печали, в радости; она царит, она несется вскачь, она пресмыкается, она не схожа ни с одним из бурных чувств, испытываемых заурядными людьми; перед нею мещанская любовь – что ручеек в долине перед бурным потоком в Альпах. Эти прекрасные художники так редко бывают поняты, что обычно расточают себя в обманчивых надеждах; они увядают в поисках идеальных возлюбленных, они почти всегда погибают, как гибнут под ногами прохожих красивые насекомые, щедро изукрашенные по самой поэтической из причуд природы для пиршества любви, но так и не познавшие любовной страсти. Но есть и иная опасность! Когда им случится встретить тип красоты, родственный им по духу, но нередко скрывающий под своей оболочкой какую-нибудь мещанку, они поступают как прекрасное насекомое, они поступают как Рафаэль: они умирают у ног Форнарины. Люсьен был близок к этому. Его поэтическая натура, чрезмерная во всем, как в добре, так и в зле, открыла ангела в девушке, скорее коснувшейся разврата, нежели развращенной: она всегда являлась перед ним лучезарной, окрыленной, невинной и загадочной, какой она стала ради него, угадывая, что именно такой он ее хочет видеть.
В конце мая месяца 1825 года Люсьен утратил всю свою живость: он не выходил из дому, обедал с Эррера, впал в задумчивость, работал, читал собрание дипломатических договоров, сидел по-турецки на диване и три-четыре раза в день курил кальян. Его грум каждодневно прочищал и протирал духами трубки изящного прибора и гораздо реже чистил лошадей и украшал сбрую розами для выезда в Булонский лес. В тот день, когда испанец заметил на побледневшем челе Люсьена следы недуга, вызванного безумствами неудовлетворенной любви, он пожелал постигнуть до конца сердце того человека, на котором он основал благополучие своей жизни.
Однажды вечером Люсьен, откинувшись в кресле, с рассеянным видом созерцал закат солнца сквозь деревья в саду и завесу благоуханного дыма, подымавшегося после каждой его затяжки, равномерной и медлительной, как у всякого погруженного в раздумье курильщика; вдруг чей-то глубокий вздох нарушил его задумчивость. Он обернулся и увидел аббата, который стоял, скрести в на груди руки.
– Ты здесь! – воскликнул поэт.
– И давно, – отвечал священник. – Моя мысль сопутствовала твоей…
Люсьен понял.
– Я никогда не воображал себя железной натурой. Я не ты. Жизнь для меня то рай, то ад попеременно; но если, случайно, она перестает быть тем и другим, она наводит на меня скуку, я скучаю…
– Как можно скучать, когда у тебя столько радужных надежд…
– Если не веришь в эти надежды или если они чересчур туманны, то…
– Полно ребячиться! – прервал его священник. – Гораздо достойней и тебя и меня открыть мне свое сердце. Между нами есть нечто, чего никогда не должно было быть: тайна! Давность тайны – год и четыре месяца. Ты любишь женщину.
– Положим…
– Непотребную девку по прозвищу Торпиль…
– А если и так?
– Дитя мое, я позволил тебе обзавестись любовницей, но эта женщина, представленная ко двору, молодая, прекрасная, влиятельная, более того – графиня. Я избрал для тебя госпожу д'Эспар, чтобы обратить ее, не совестясь в орудие твоего успеха; ведь она никогда не растлила твоего сердца, она не посягала бы на его свободу… Полюбить блудницу самого низкого пошиба, если не обладаешь властью, подобно королям, пожаловать ее титулом, – огромная ошибка.
– Разве я первый пожертвовал честолюбием, чтобы вступить на путь безрассудной любви?
– Хорошо, – сказал священник, подняв bochettino, оброненный Люсьеном, и подавая ему. – Я понял колкость. Но разве нельзя соединить честолюбие и любовь? Дитя, в лице старого Эррера перед тобою мать, преданность которой безгранична…
– Знаю, старина, – сказал Люсьен, беря его руку и пожимая ее.
– Ты пожелал игрушек, роскоши – ты их получил. Ты желаешь блистать – я направляю тебя по пути власти; я лобызаю достаточно грязные руки, чтобы возвысить тебя, и ты возвысишься. Подожди еще немного, и ты не будешь знать недостатка ни в чем, что прельщает мужчин и женщин. Женственный в своих прихотях, ты мужествен умом: я все в тебе понял, я все тебе прощаю. Скажи лишь слово, и все твои мимолетные страсти будут удовлетворены. Я возвеличил твою жизнь, окружив ее ореолом политики и власти – излюбленными кумирами большинства людей. Ты будешь настолько же велик, насколько ты ничтожен сейчас; но не следует разбивать шибало, которым мы чеканим монету. Я разрешаю тебе все, кроме ошибок, пагубных для твоего будущего. Когда я открываю перед тобою салоны Сен-Жерменского предместья, я запрещаю тебе валяться в канавах. Люсьен, ради твоих интересов я буду тверд как железо, я все от тебя вытерплю ради тебя. Поэтому я исправил твой промах в жизненной игре тонким ходом искусного игрока… (Люсьен гневным движением вскинул голову). Я похитил Торпиль!
– Ты? – вскричал Люсьен.
В припадке бешенства поэт вскочил, швырнул золотой, усыпанный драгоценными каменьями bochettino в лицо священнику и толкнул его так сильно, что атлет опрокинулся навзничь.
– Да, я! – поднявшись на ноги, ответил испанец, по-прежнему сохраняя страшную серьезность.
Черный парик свалился. Голый, как у скелета, череп словно обнажил подлинное лицо этого человека, – оно было ужасно. Люсьен сидел в креслах, опустив руки, удрученный, вперив в аббата бессмысленный взгляд.
– Я увез ее, – продолжал священник.
– Что ты сделал с ней? Ты увез ее на другой день после маскарада…
– Да, на другой день после того, как увидел, что существо, принадлежащее тебе, оскорбили бездельники, которым я не подал бы руки…
– Бездельники! – перебил его Люсьен. – Лучше скажи: чудовища, перед которыми те, кого казнят на гильотине, – ангелы. Знаешь ли ты, что сделала бедная Торпиль для трех из них? Один два месяца был ее любовником; она жила в нищете и подбирала крохи на улице – у него не было ни гроша, он дошел до того состояния, в каком находился я, когда ты меня встретил у реки. И вот наш малый вставал ночью, подходил к шкафу, куда эта девушка ставила остатки своего обеда, и съедал их; кончилось тем, что она обнаружила его проделки; почувствовав стыд за него, она решила оставлять побольше пищи и была счастлива. Эту историю она рассказала только мне, в фиакре, возвращаясь из Оперы. Второй совершил кражу, но, прежде чем кража была обнаружена, он успел положить деньги на прежнее место; деньги для него достала она, а он так и забыл вернуть их. Третий? Судьбу третьего она устроила, разыграв комедию с блеском, достойным таланта Фигаро: она представилась его женой и стала любовницей влиятельного человека, считавшего ее самой простодушной мещанкой. Одному – жизнь, другому – честь, а третьему – положение, что всего важнее сейчас! И вот как она была ими вознаграждена.
– Хочешь, они умрут? – спросил Эррера, прослезившись.
– Перестань! Всегда одно и то же! Ты верен себе…
– Нет, узнай все, вспыльчивый поэт, – сказал священник. – Торпиль больше не существует…
Люсьен, вскочив с кресел, так неожиданно бросился к Эррера, пытаясь схватить его за горло, что всякий другой упал бы, но рука испанца удержала поэта.
– Выслушай, – сказал он холодно. – Я сделал ее женщиной целомудренной, безупречной, хорошо воспитанной, религиозной, словом, порядочной женщиной; она на пути просвещения. Она может, она должна стать под влиянием твоей любви какою-нибудь Нинон, Марион Делорм, Дюбарри, как сказал тот журналист в Опере. Ты либо открыто признаешь ее своей возлюбленной, либо укроешься в тени своего творения, что будет благоразумнее! То и другое принесет тебе пользу и славу, наслаждения и успех; но если ты столь же хороший политик, как и поэт, Эстер останется для тебя только любовницей, ведь может случиться, что она выручит нас когда-нибудь из беды, – она ценится на вес золота. Пей, но не опьяняйся! Что стало бы с тобой, если бы я не руководил твоей страстью? Ты погряз бы вместе с Торпиль в скверне нищеты, откуда я тебя вытащил. Вот, прочти, – сказал Эррера так просто, как Тальма в «Манлии», которого он никогда не видел.
Листок бумаги упал на колени поэта и вывел его из того восторженного состояния, в которое его поверг ошеломляющий ответ; он взял листок и прочел первое письмо, написанное мадемуазель Эстер:
«Господину аббату Карлосу Эррера.
Дорогой покровитель, не сочтете ли вы, что чувство благодарности у меня сильнее чувства любви, если я, желая выразить свою признательность, впервые излагаю свои мысли на бумаге, в письме к вам, вместе того чтобы посвятить его излияниям любви, быть может, уже забытой Люсьеном? Но вам, священнослужителю, я скажу то, чего не осмелилась бы сказать ему, на мое счастье еще привязанному к земле. Вчерашний обряд исполнил меня благодати, и я снова вверяю свою судьбу в ваши руки. Если мне и суждено умереть вдали от моего возлюбленного, я умру очищенной, как Магдалина, и моя душа, быть может, станет соперницей его ангела-хранителя. Забуду ли я когда-нибудь вчерашнее торжество? Можно ли отречься от славного престола, на который я вознесена? Вчера я смыла с себя весь мой позор в водах крещения и вкусила святого тела господня; теперь я одна из его дарохранительниц. В ту минуту я услышала хор ангелов, я не была более женщиной, я рождалась к светлой жизни среди земных приветственных кликов, мирского восхищения, духовных песнопений, в облаке фимиама, в праздничных одеждах, как дева, встречающая небесного жениха. Почувствовав себя достойной Люсьена, на что я никогда не надеялась, я отреклась от греховной любви и не желаю иного пути, как путь добродетели. Если тело мое слабее души, пусть оно погибнет. Решайте мою судьбу, и, если я умру, скажите Люсьену, что я умерла для него, возродившись для бога.
Воскресенье, вечером».Люсьен поднял на аббата глаза, затуманенные слезами.
– Ты знаешь квартиру толстухи Каролины Бельфей, что на улице Тетбу? – снова заговорил испанец. – Этой девице, когда ее покинул судейский и она очутилась в крайней нужде, грозил арест; я приказал купить всю ее обстановку, она выехала оттуда с одними тряпками. Эстер, ангел, мечтавший вознестись на небо, снизошла туда и тебя ожидает.
В эту минуту со двора до слуха Люсьена донесся нетерпеливый топот горячившихся лошадей; у него недостало слов выразить восхищение той преданностью, которую он один мог оценить, и, бросившись в объятия оскорбленного им человека, искупив все одним лишь взглядом, безмолвным излиянием чувств, сбежал по ступеням лестницы, шепнул адрес Эстер на ухо груму, и лошади помчались, точно страсть их владельца воодушевляла их бег.
На другой день человек, которого по одежде можно было счесть за переряженного жандарма, прохаживался по улице Тетбу против одного из домов, казалось, ожидая, что кто-то оттуда выйдет; походка этого человека выдавала его волнение. В Париже вы часто можете встретить подобных любителей прогулок: это жандармы, выслеживающие беглеца из национальной гвардии, сыщики, подготовляющие чей-нибудь арест, заимодавцы, измышляющие козни против должника, который заперся у себя в четырех стенах, любовники или ревнивые и подозрительные мужья, друзья, шпионящие по просьбе друга; но редко вы встретите лицо, на котором так ясно читались бы столь дикие и жестокие мысли, как на лице этого мрачного атлета, сосредоточенно и беспокойно, точно медведь в клетке, ходившего взад и вперед под окнами мадемуазель Эстер. В полдень открылось окно, и рука служанки распахнула ставни с мягкой обивкой. Через несколько минут к окну подошла подышать воздухом Эстер в домашнем платье, она опиралась на Люсьена; каждый, взглянув на них, подумал бы, что перед ним подлинная английская статуэтка. Эстер мгновенно узнала испанского священника по его глазам василиска, и в ужасе бедная девушка вскрикнула, точно пронзенная пулей.
– Вот он, страшный священник, – сказала она, указывая на него Люсьену.
– Этот? – спросил Люсьен, улыбнувшись. – Он такой же священник, как ты…
– Но кто же он? – сказала она, трепеща.
– О, это старый мошенник, который верует в одного лишь дьявола, – ответил Люсьен.
Луч света, упавший на тайну лжесвященника, мог навеки погубить Люсьена, если бы на месте Эстер было бы существо менее преданное. Едва любовники отошли от окна спальни и направились в столовую, где их ожидал завтрак, перед ними предстал Карлос Эррера.
– Зачем ты пришел сюда? – резко сказал ему Люсьен.
– Благословить вас, – отвечал этот дерзкий человек, остановив юную чету и принудив ее задержаться в маленькой гостиной. – Послушайте, мои душеньки! Веселитесь, будьте счастливы, я рад. Счастье во что бы то ни стало – вот моя заповедь. Но ты, – сказал он Эстер, – ты, которую я поднял из грязи, ты, душу и тело которой я отмыл дочиста, надеюсь, не станешь поперек дороги Люсьену?.. Что касается до тебя, дружок, – помолчав минуту, продолжал он, глядя на Люсьена, – ты теперь уже не настолько поэт, чтобы пренебречь всем ради какой-нибудь Корали. Мы пишем прозу. Какая будущность у любовника Эстер? Никакой. Может ли Эстер стать госпожою де Рюбампре? Нет. Стало быть, моя милая, – сказал он, опуская свою руку на руку Эстер, содрогнувшейся, точно от прикосновения змеи, – свет не должен знать о существовании Эстер; свет в особенности не должен знать, что какая-то мадемуазель Эстер любит Люсьена и что Люсьен ею увлечен… Этот дом будет вашей тюрьмой, малютка. Если вы пожелаете выйти на воздух и ваше здоровье того потребует, вам придется выезжать ночью, в часы, когда вас никто не встретит, ибо ваша красота, ваша молодость, благовоспитанность, приобретенная вами в монастыре, были бы слишком скоро замечены в Париже. День, когда в свете кто-либо узнает, что Люсьен ваш любовник или что вы его любовница, будет кануном последнего дня вашей жизни, – сказал он зловещим голосом, сопровождая свои слова еще более зловещим взглядом. – Мы добились для этого юнца указа, который позволяет ему носить имя и герб его предков по женской линии. Но это еще не все! Титул маркиза нам пока не возвращен, чтобы его получить, он должен жениться на девице знатного рода, только тогда король окажет нам эту милость. Такой брак введет Люсьена в придворный мир. Младенец, из которого я сумел сделать мужчину, станет сначала секретарем посольства; позже он будет посланником при каком-нибудь дворе в Германии и, с помощью божьей или моей (что вернее), со временем займет свое место на скамье пэров…
– Или на скамье… – сказал Люсьен, прерывая этого человека.
– Замолчи! – вскричал Карлос, прикрыв широкой ладонью рот Люсьена. – Подобную тайну доверить женщине!.. – шепнул он ему на ухо.
– Эстер – женщина! – воскликнул автор Маргариток.
– Снова сонеты! – сказал испанец. – вернее, пустоцветы… Все эти ангелы опять превращаются в женщин рано или поздно, а у любой женщины выпадают минуты, когда она становится похожа на обезьяну и ребенка одновременно! А оба эти существа могут вас убить смеха ради. Эстер, сокровище мое, – обратился он к испуганной пансионерке, – я вам нашел горничную, создание, преданное мне, как дочь. Поварихой у вас будет мулатка, это дает хороший тон дому. С Европой и Азией вы на тысячу франков в месяц, включая все расходы, будете жить как королева… театральных подмостков. Европа была портнихой, модисткой и статисткой. Азия служила у лорда, любителя покушать. В лице этих двух особ вы как бы обретаете двух фей.
Рядом с этим существом, виновным по меньшей мере в кощунстве и обмане, Люсьен казался младенцем, и сердце женщины, освещенной его любовью, сжалось от ужаса. Она молча увлекла Люсьена в спальню и спросила:
– Он дьявол?
– Страшнее дьявола… для меня! – добавил он с горячностью. – Но если ты меня любишь, веди себя так, будто ты предана этому человеку, и повинуйся ему под страхом смерти…
– Смерти? – сказала она, еще сильнее испугавшись.
– Смерти, – повторил Люсьен. – Увы, моя козочка, никакая смерть не может сравниться с тем, что меня ожидает, если…
Эстер побледнела, услыхав эти слова. Она едва не лишилась чувств.
– Ну, где же вы! – крикнул им лжесвященник. – Все еще обрываете лепестки маргариток?
Эстер и Люсьен снова вернулись в комнату, и бедная девушка, не смея взглянуть на таинственного человека, сказала:
– Вам будут повиноваться, как повинуются богу, сударь.
– Отлично! – отвечал он. – Вы можете некоторое время наслаждаться счастьем, а туалеты вам понадобятся только домашние и ночные, что очень экономно.
Любовники направились было в столовую, но покровитель Люсьена жестом вернул прелестную чету; они остановились перед ним.
– Я только что говорил о ваших слугах, дитя мое, – сказал он Эстер, – я должен вам их представить.
Испанец позвонил два раза. Появились две женщины, которых он называл Европой и Азией, и сразу стала понятна причина их кличек.
Азия, по-видимому, уроженка острова Явы, устрашала взор плоским, как доска, лицом медного цвета, присущего малайцам, с вдавленным, словно от сильного удара, носом. Необычная форма нижней челюсти придавала этому лицу сходство с мордой обезьян крупной породы. Лоб, хотя и низкий, свидетельствовал о сообразительности, которую развила привычка хитрить. Блестящие маленькие глаза, бесстрастные, как глаза тигра, смотрели в сторону. Азия точно страшилась ужаснуть окружающих. Синеватые губы приоткрывали ряд ослепительно белых, но неровных зубов. Все черты этой животной физиономии выражали низменность ее натуры. Ее волосы, лоснящиеся и жирные, как и кожа лица, окаймляли двумя черными полосками головную повязку из дорогого шелка. Уши, необыкновенно красивые, были украшены двумя крупными черными жемчужинами. Низенькая, коренастая, Азия напоминала причудливые существа, изображаемые китайцами на своих ширмах, или, точнее, индусских идолов, прообраз которых, казалось бы не существующей в природе, все же удалось встретить путешественникам. При виде этого чудовища, обряженного в белый передник поверх шерстяного платья, Эстер вздрогнула.
– Азия! – сказала испанец, и на его зов женщина покорно подняла голову, как собака, когда ее окликает хозяин. – Вот ваша госпожа…
И он показал на Эстер, одетую в утреннее платье. Азия посмотрела на юную фею почти со скорбью, но тут же ее огненный взгляд, притушенный короткими густыми ресницами, искрой пожара перекинулся на Люсьена; облаченный в великолепный с распахнутыми полами халат, сорочку из тонкого полотна и красные панталоны, в турецкой феске на голове, из-под которой выбивались крупные кольца белокурых волос, он был божественно хорош. Итальянский гений может сочинить легенду об Отелло, гений англичанин может вывести его на сцену, но только природа может в одном-единственном взгляде воплотить ревность с блеском и совершенством, не доступным ни Англии, ни Италии. Этот взгляд, уловленный Эстер, заставил ее схватить испанца за руку и вцепиться в нее ногтями, подобно кошке, повисшей над бездной. Испанец сказал азиатскому чудовищу несколько слов на неизвестном языке, тогда это существо опустилось на колени, подползло к ногам Эстер и поцеловало их.
– Она – не просто кухарка, а повариха, которая самого Карема свела бы с ума от зависти, – сказал испанец Эстер. – Азия в этом деле большая мастерица. Она приготовит простое блюдо из фасоли так, что вы усомнитесь, уж не ангелы ли снизошли с небес, чтобы приправить его райскими травами. Она будет каждое утро ходить на рынок и торговаться, как дьявол – а она и есть дьявол, – лишь бы не переплатить. Любопытным наскучит ее скрытность. Вероятно, вас будут принимать за особу, прибывшую из Индии, и Азия отлично поможет вам придать этой басне правдоподобие, ибо она из тех парижанок, которые по своему вкусу выбирают место рождения. Но я думаю, вам незачем слыть иностранкой… Европа, что ты скажешь?
Европа представляла собою совершенно противоположность Азии: то был тип субретки, столь миловидной, что Монтроз не пожелал бы для себя лучшей партнерши на сцене. Стройная, с виду ветреная, с мордочкой ласки, с острым носиком, Европа являла взору утомленное парижским развратом лицо, бледное от питания картофелем девичье лицо с вялой в прожилках кожей, тонкое и упрямое. Ножка вперед, руки в карманах передника, она, даже храня неподвижность, казалось, не стояла на месте, столько было в ней живости. Гризетка и статистка одновременно, она, несмотря на молодость, перебрала, видимо, немало профессий. Вполне возможно, что, развращенная, как все маделонетки взятые вместе, она, обокрав родных, познакомилась со скамьей подсудимых в исправительной полиции. Азия внушала великий ужас, на вся ее сущность открывалась в одну минуту: она была прямой наследницей Локусты, меж тем как Европа пробуждала тревогу, все возрастающую по мере ее услужливости; распущенности ее, казалось, не было предела; она, как говорят в народе, прошла огонь, и воду, и медные трубы.
– Мадам могут быть родом из Валенсьена, я оттуда, – сказала Европа суховато. – Не соблаговолит ли мосье сообщить, как он желал бы именовать мадам? – спросила она Люсьена с самым педантичным видом.
– Госпожа Ван Богсек, – отвечал испанец, тут же переставив буквы в фамилии Эстер. – Мадам – еврейка, родом из Голландии, вдова негоцианта, страдает болезнью печени, вывезенной с Явы… Состояние небольшое, чтобы не возбуждать любопытства.
– Живет на шесть тысяч франков ренты, и мы будем жаловаться на ее скупость, – сказала Европа.
– Отлично, – сказал испанец, кивнув головой. – Проклятые шутихи! – продолжал он страшным голосом, перехватив взгляд, которым обменялись Азия и Европа, и который ему не понравился. – Помните, что я вам сказал! Вы прислуживаете королеве, вы обязаны оказывать ей уважение, подобающее королеве, вы будете ей преданы, как мне. Ни привратник, ни соседи, ни жильцы, короче говоря, никто на свете не должен знать, что здесь происходит. Вы обязаны пресечь всякое любопытство, если оно будет проявлено. А ваша госпожа, – прибавил он, опуская широкую волосатую руку на руку Эстер, – не должна позволить себе ни малейшей неосмотрительности, вы ее остережете в случае надобности, но… всегда соблюдая почтительность. Вы, Европа, будете сноситься с внешним миром, заботясь о нарядах вашей госпожи, причем старайтесь быть поэкономней. Короче, никто, даже самый безобидный человек, не смеет переступить порог этой квартиры. Вы обе обязаны целиком обслуживать дом. Красавица моя! – сказал он, обращаясь к Эстер, – когда вы пожелаете выехать вечером в карете, вы об этом скажете Европе; она знает, где искать ваших слуг, ибо у вас будет выездной лакей, тоже в моем вкусе, как эти рабыни.
Эстер и Люсьен не находили слов, они молча слушали испанца и смотрели на диковинных особ, которым тот отдавал приказания. Какая тайна обязывала этих женщин к тому подчинению, к той преданности, что была написана на их лицах, – у одной столь злобном и своенравном, у другой столь безгранично жестоком? Он угадал мысли Эстер и Люсьена, казалось, оцепеневших, подобно Павлу и Виргинии, вдруг увидевшим двух ядовитых змей, и добродушно шепнул им:
– Вы можете положиться на них, как на меня; ни единой тайны от них, это им польстит. Азия, подавай к столу, моя милая, – сказал он поварихе. – А ты, душенька, поставь еще прибор, – приказал он Европе. – Во всяком случае папаша заслужил, чтобы детки угостили его завтраком.
Как только дверь за женщинами захлопнулась, испанец, прислушавшись к суетливой беготне Европы, сказал Люсьену и молодой девушке, сжимая свой мощный кулак:
– Я их держу крепко!
Эти слова и жест заставили бы каждого содрогнуться.
– Где ты их нашел? – воскликнул Люсьен.
– Э-э, черт возьми! – Я не искал их у подножия тронов, – отвечал этот человек. – Европа выбралась из грязи и боится вновь туда окунуться… Если они не будут достаточно услужливы, пригрозите господином аббатом, и вы увидите, что они задрожат, точно мыши при слове «кошка»! Я ведь укротитель диких зверей, – добавил он, улыбаясь.
– А мне кажется, что вы демон! – воскликнула Эстер, грациозно прижимаясь к Люсьену.
– Дитя мое, я пытался посвятить вас небу; но раскаявшаяся блудница, даже найдись такая, только вводит в обман церковь: попав в рай, она опять станет куртизанкой… Вы выиграли, заставив забыть о себе и усвоив манеры порядочной женщины; теперь вы обучены всему, чему не могли обучиться в вашей гнусной среде… Вы ничем мне не обязаны, – сказал он, заметив прелестное выражение признательности на лице Эстер, – я все делаю ради него… – И он указал на Люсьена. – Вы девка и останетесь девкой, умрете девкой, потому что, несмотря на заманчивые теории животноводов, нельзя в этом мире быть не кем иным, кроме как самим собою. Знаток по части шишек прав! У вас шишка любви.
Испанец, как видно, был фаталистом, подобно Наполеону, Магомету и многим другим великим политикам. Удивительная вещь! Почти все люди склонны к фатализму, так же как большинство мыслителей склонно верить в провидение!
– Я не знаю, что я такое, – отвечала Эстер с ангельской кротостью, – но люблю Люсьена и умру, обожая его.
– Ступайте завтракать, – грубо сказал испанец, – и молите бога, чтобы Люсьен не слишком скоро женился… Тогда вы его больше не увидите.
– Его женитьба была бы моей смертью, – сказала она.
Она уступила дорогу лжесвященнику, чтобы украдкой шепнуть Люсьену:
– Неужели ты хочешь отдать меня во власть человека, который приставил ко мне этих двух гиен?
Люсьен понурил голову. Бедная девушка затаила печаль и казалась веселой; но она была крайне угнетена. Понадобилось более года неусыпных и самоотверженных забот, чтобы она свыклась наконец с двумя чудовищами, которых Карлос Эррера называл сторожевыми псами.
Со времени своего возвращения в Париж Люсьен вел себя так осмотрительно, что должен был возбудить зависть всех прежних друзей, чего он и добился; хотя единственной его местью были его успехи, бесившие их, а также его безукоризненная внешность и умение держать людей на расстоянии. Поэт, столь общительный, столь непосредственный, стал холоден и замкнут. Де Марсе, служивший образцом для подражания парижской молодежи, и тот не был так сдержан в речах и поступках. Что же касается ума, журналист дал в свое время тому доказательства. Де Марсе, которому многие противопоставляли Люсьена и с готовностью отдавали предпочтение поэту, проявил мелочность характера, озлобившись на него. Люсьен, оказавшийся в милости у людей власть имущих, настолько отрешился от мечтаний о литературной славе, что ничуть не был тронут ни успехом своего романа, переизданного под его настоящим названием Лучник Карла IX, ни шумом вокруг сонетов, вышедших под заглавием Маргаритки и распроданных Дориа в одну неделю. «Посмертный успех!» – смеясь, отвечал он поздравлявшей его мадемуазель де Туш. Страшный испанец направлял свое творение железной рукой на тот путь, который для терпеливого политика завершается победными фанфарами и трофеями. Люсьен снял холостую квартиру Боденора на набережной Малакэ, чтобы быть поближе к улице Тетбу, а его наставник поместился в трех комнатах в четвертом этаже того же дома. Люсьен довольствовался теперь одной верховой лошадью и одной выездкой, лакеем и конюхом. Когда он не обедал в городе, он обедал у Эстер. Карлос Эррера так зорко наблюдал за слугами на набережной Малакэ, что у Люсьена уходило на жизнь меньше десяти тысяч франков в год. Для Эстер десяти тысяч франков было достаточно благодаря неизменной и непостижимой преданности Европы и Азии. Люсьен принимал, впрочем, чрезвычайные меры предосторожности, посещая улицу Тетбу. Он приезжал туда в экипаже с опущенными занавесками, и карета всегда въезжала во двор. Поэтому страсть его к Эстер и существование дома на улице Тетбу, тщательно скрываемого от света, ничуть не повредили ни одному из его начинаний, ни одной из его связей; ни разу не вырвалось у него неосторожного слова на эту щекотливую тему. Ошибки подобного рода, совершенные им при Корали, в пору его первого появления в Париже, послужили ему опытом. Кроме того, жизнь его отличалась той упорядоченностью хорошего тона, которая позволяет скрыть немало тайн: он проводил в свете все вечера до часу ночи; дома его можно было застать от десяти часов утра до часу пополудни; затем он выезжал в Булонский лес и делал визиты до пяти часов дня. Он редко ходил пешком, таким образом избегая своих старых знакомых. Когда его приветствовал кто-нибудь из журналистов или из его прежних друзей, он отвечал поклоном достаточно вежливым, чтобы не вызвать обиды, но говорившем о большом высомерии, которое не допускало французской непринужденности в обращении. Таким образом он живо избавился от лиц, которых более не желал знать. Давняя вражда препятствовала ему сделать визит г-же д'Эспар, которая не однажды выражала желание видеть его у себя; однако, если ему случалось встретиться с нею у герцогини де Монфриньез или у мадемуазель де Туш, у графини де Монкорне или в каком-либо другом месте, он держался с ней чрезвычайно учтиво. Равную ненависть питала к нему и г-жа д'Эспар, тем самым поддерживая в Люсьене неизменную настороженность, ибо в дальнейшем мы увидим, как он разжег эту ненависть, позволив себе однажды отомстить ей, что стоило ему, к слову сказать, строгого выговора Карлоса Эррера. «Ты еще недостаточно силен, чтобы мстить кому тебе вздумается, – сказал ему испанец. – Когда идешь под палящим солнцем, не останавливаешься на пути, чтобы сорвать пусть даже самый красивый цветок…» Перед Люсьеном открывалась слишком блестящее будущее, превосходство его было слишком явным, чтобы молодые люди, встревоженные или уязвленные его возвращением в Париж и его непостижимой удачей, не обрадовались возможности при случае сыграть с ним злую шутку. Люсьен знал, что у него много врагов, но и козни друзей не были для него тайной. К тому же аббат заботливо предостерегал своего приемного сына от предательства света, от безрассудств, столь роковых в юности. Люсьен был обязан рассказывать и каждый вечер рассказывал аббату о самых пустых событиях дня. Благодаря советам своего наставника он обезоруживал наиболее изощренное любопытство – любопытство света. Скрытый под маской английской серьезности, защищенный редутами, которые воздвигает осторожность дипломатов, он никому не предоставлял права или случая ознакомиться со своими делами. Наконец, его юное и прекрасное лицо приучилось хранить в светских гостиных то бесстрастное выражение, которое отличает лица принцесс на официальных приемах. И вот, в середине 1829 года заговорили о его женитьбе на старшей дочери герцогини де Гранлье, которой тогда нужно было пристроить четырех дочерей. Никто не сомневался в том, что король ради этого брака окажет милость Люсьену, вернув ему титул маркиза. Этот брак должен был решить политическую карьеру Люсьена, которого, видимо, прочили в посланники при одном из немецких дворов. Три последних года жизнь Люсьена отличалась особенной безупречностью; недаром де Марсе, подметив эту особенность, сказал: «За спиной этого юноши стоит кто-то из сильных мира сего!» Таким образом, Люсьен стал почти значительным лицом. К тому же и страсть к Эстер очень помогала ему разыгрывать роль серьезного человека. Привычка подобного рода предохраняет честолюбцев от многих глупостей; удовлетворенная любовь ослабляет влияние физиологии на нравственность. Что касается счастья, которым наслаждался Люсьен, то оно было воплощением мечты, которой некогда жил поэт, сидя в своей мансарде на хлебе и воде, без единого су в кармане. Эстер, идеал влюбленной куртизанки, хотя и напоминала Люсьену Корали, актрису, с которой у него была связь, длившаяся один год, однако ж она совершенно затмевала ее. Все любящие и преданные женщины грезят об уединении, таинственности, о жизни жемчужины на дне морском; но у большинства это всего лишь милые причуды, тема для болтовни, мечта доказать свою любовь, никогда ими не осуществляемая; между тем Эстер, для которой все еще внове было ее блаженство, внове пламенный взор Люсьена, ощущаемый ею всякий час, всякое мгновение, ни разу за все четыре года не обнаружила любопытства. Все ее помыслы были направлены на то, чтобы не выходить за пределы программы, начертанной рукой рокового испанца. Более того, среди пьянящих наслаждений она не злоупотребляла неограниченной властью, дарованной любимой женщине неутолимыми желаниями любовника, и не искушала Люсьена вопросами об Эррера, который, впрочем, страшил ее по-прежнему: она не осмеливалась думать о нем. Расчетливые благодеяния этого непостижимого человека, которому, несомненно, Эстер была обязана и прелестью и манерами благовоспитанной женщины и своим духовным перерождением, представлялись бедняжке каким-то задатком, полученным у преисподней. «Я должна буду когда-нибудь расплатиться за все это», – с ужасом говорила она самой себе. Ночью, если была хорошая погода, она выезжала в наемной карете, которая быстро катила по городу, очевидно, по приказу аббата, в чудесные леса в окрестностях Парижа – в Булонский, Венсенский, в Роменвиль или Виль д'Авре, чаще с Люсьеном, реже одна с Европой. Она бесстрашно гуляла в лесу, потому что ее сопровождал, когда ей случалось выезжать одной, великан-гайдук, одетый в самую что ни на есть нарядную ливрею и вооруженный ножом; весь его облик и могучая мускулатура изобличали необыкновенного силача. Этот страж был снабжен, по английской моде, тростью, так называемой боевой дубинкой, известной мастерам палочного удара, с помощью которой один человек может отразить нападение нескольких противников. За все это время Эстер, выполняя волю аббата, не обмолвилась ни единым словом с гайдуком. Если госпожа желала вернуться домой, Европа окликала гайдука; гайдук свистом подзывал кучера, находившегося всегда на приличном расстоянии. Если Эстер гуляла с Люсьеном, за любовниками следовали Европа и гайдук, держась в ста шагах от них, подобно двум пажам из «Тысячи и одной ночи», которых волшебник дарит тем, кому он покровительствует. Парижане, и тем более парижанки, не знают очарования ночных прогулок в лесу. Тишина, лунные блики, одиночество действуют успокоительно, как ванна. Обычно Эстер выезжала в десять часов вечера, гуляла от двенадцати до часу ночи и возвращалась в половине третьего. День ее начинался не ранее одиннадцати часов. Она принимала ванну, потом тщательно совершала обряд туалета, не знакомый большинству парижских женщин, ибо он требует чересчур много времени и соблюдается лишь куртизанками, лоретками или знатными дамами, проводящими свои дни в праздности. Едва Эстер успевала окончить туалет, как являлся Люсьен, и она встречала его свежая, как только что распустившийся цветок. У нее не было другой заботы, как только счастье ее поэта; она была его вещью, иными словами, она предоставляла ему полную свободу. Взор ее никогда не устремлялся за пределы мирка, в котором она царила. Таков был настоятельный совет аббата, ибо в планы прозорливого политика входило, чтобы Люсьен пользовался успехом у женщин. Счастье не имеет истории, и сочинители любой страны так хорошо это знают, что каждое любовное приключение оканчивают словами: «Они были счастливы!» Поэтому нам остается лишь разъяснить, каким образом могло расцвести в центре Парижа это поистине волшебное счастье. То было счастье в своем высшем выражении, поэма, симфония, длившаяся четыре года! Все женщины скажут: «Как долго!» Однако ни Эстер, ни Люсьен не сказали: «Слишком долго!» Да и формула: «Они были счастливы» – находила в их любви более ясное подтверждение, нежели в волшебных сказках, потому что у них не было детей. Итак, Люсьен мог волочиться в свете, удовлетворять свои поэтические причуды и скажем откровенно, выполнять обязательства, налагаемые на него положением. Он медленно продвигался на своем пути и тем временем оказывал тайные услуги некоторым политическим деятелям, принимая участие в их работе. Он умел держать это в глубокой тайне. Он усердно поддерживал знакомство с г-жой Серизи и, как говорили в салонах, был с нею в самых коротких отношениях. Г-жа де Серизи отбила Люсьена у герцогини де Монфриньез, но та, если верить молве, уже им не дорожила, – вот одно из тех словечек, которыми женщины мстят чужому счастью. Люсьен пребывал, так сказать, в лоне придворного дворянства и был близок с некоторыми дамами, приятельницами парижского архиепископа. Скромный и выдержанный, он терпеливо ожидал своего часа. Таким образом, де Марсе, который к тому времени женился и обрек свою жену на жизнь, сходную с жизнью Эстер, сам того не ведая, высказал истину. Но тайные опасности в положении Люсьена будут объяснены дальнейшими событиями нашей истории.
Таковы были обстоятельства, когда в одну прекрасную августовскую ночь барон Нусинген возвращался в Париж из имения одного поселившегося во Франции иностранного банкира, у которого он обедал. Имение это находилось в восьми лье от Парижа, в глуши провинции Бри. Кучер барона хвалился, что отвезет и привезет своего господина на его собственных лошадях, поэтому, как только наступила ночь, он позволил себе ехать шагом. Состояние животных, слуг и господина при въезде в Венсенский лес было таково: кучер, угостившийся на славу в буфетной знаменитого самодержца биржи, пьяный в лоск, спал, однако ж не выпуская из рук вожжей и тем вводя в заблуждение прохожих. Лакей, сидя на запятках кареты, храпел, посвистывая, как волчок, вывезенный из Германии – страны резных деревянных фигурок, крепких рейнских вин и волчков. Барон пытался размышлять, но уже на мосту Гурне сладостная послеобеденная дремота смежила ему глаза. По опущенным вожжам лошади догадались о состоянии кучера, услышали неумолчный бас лакея, доносившийся с вахты в тылу, и, почувствовав себя хозяевами, воспользовались четвертью часа свободы, чтобы насладиться прогулкой по собственной прихоти. Как смышленые рабы, они предоставляли ворам случай ограбить одного из крупнейших капиталистов Франции, ловчайшего из ловкачей, которым в конце концов присвоили выразительное прозвище: Хищники. Итак, оказавшись хозяевами положения и подстрекаемые любопытством, свойственным, как известно, домашним животным, они остановились на скрещении дорог, перед встречными лошадьми, сказав им, конечно, на лошадином языке: «Чьи вы? Что поделываете? Как поживаете?» Когда коляска остановилась, дремавший барон проснулся. Сначала ему показалось, что он все еще в парке своего собрата; вслед за тем его поразило небесное видение, и в такую минуту, когда он не был защищен обычным оружием – расчетом. Луна светила так ярко, что свободно можно было читать даже вечернюю газету. В тишине леса, в призрачном лунном сиянии, барон увидел женщину; она уже садилась в наемную карету, как вдруг ее внимание было привлечено редкой картиной: коляской, погруженной в сон! Все существо барона Нусингена словно озарило внутренним светом, когда он увидел этого ангела. Молодая женщина, заметив, что ею любуются, испуганно опустила вуаль. Гайдук издал хриплый крик и был, по-видимому, прекрасно понят кучером, потому что карета быстро покатилась. Все чувства старого банкира взволновались; кровь отлила от ног, ударила в голову, от головы хлынула к сердцу, горло сжалось. Несчастный уже предвидел несварение желудка, чего он боялся пуще смерти, но все же поднялся с сиденья.
– Пускай гальоп! Болван! Тебе только би спать! – кричал он. – Сто франк! Поймать мне этот карет!
При этих словах сто франков кучер проснулся, лакей зашевелился, расслышав, верно, их сквозь сон. Барон повторил приказание, кучер пустил лошадей вскачь и у Тронной заставы нагнал карету, несколько похожую на ту, в которой Нусинген видел божественную незнакомку; но в ней сидели, развалившись, старший приказчик из какого-то роскошного магазина и порядочная женщина с улицы Вивьен. Барон был сражен неудачей.
– Ви жирни дурак! Шорш (читай Жорж) нашель би этот женшин, – выговаривал он слуге, покуда таможенные служащие осматривали карету.
– Эх, господин барон, видно, не гайдук, а сам дьявол сидел на запятках и подсунул мне эту карету вместо той.
– Тьяволь не существуй, – сказал барон.
Барону Нусингену было, по его словам, шестьдесят лет; женщины стали для него безразличны, и тем более собственная жена. Он хвалился, что никогда не знал любви, доводящей до безрассудства. Он считал подлинным счастьем, что покончил с увлечениями, и без стеснения утверждал, что самая ангелоподобная из женщин не стоит того, во что она обходится, даже если отдается бескорыстно. Он слыл столь пресыщенным, что удовольствие быть обманутым покупал не дороже, чем за два-три тысячи франков в месяц. Из ложи в Опере его холодные глаза бесстрастно изучали кордебалет. Ни один взгляд из этой опасной стаи юных старух и старых дев, избранниц парижских утех, не был украдкой брошен на этого капиталиста. Любовь животную, любовь показную и эгоистическую, любовь пристойную и тщеславную, любовь изощренную, любовь сдержанную и супружескую, любовь взбалмошную – барон все покупал, все изведал, кроме истинной любви. И эта любовь обрушилась на него, как орел на свою жертву, – так обрушилась она и на Генца, наперсника его светлости князя Меттерниха. Известны все глупости, которые натворил этот старый дипломат ради Фанни Эльслер: репетиции актрисы волновали его несравненно больше, нежели вопросы европейской политики. Женщина, поразившая денежный мешок, именуемый Нусингеном, представилась ему единственной в своем роде. Едва ли возлюбленная Тициана, Монна Лиза Леонардо да Винчи, Форнарина Рафаэля были так прекрасны, как божественная Эстер, в которой самый опытный взгляд самого наблюдательного парижанина не мог бы подметить ни малейшей черты куртизанки. Недаром барона совершенно ошеломило величие и благородство облика, столь свойственное Эстер, – тем более Эстер любимой, окруженной изысканной роскошью, обожанием. Счастливая любовь – это святое причастие для женщины: она становится горда, как императрица. Барон восемь ночей сряду выезжал в Венсенский лес, затем в Булонский, затем в леса Виль д'Авре, затем в Медонский лес, наконец, во все окрестности Парижа и нигде не встретил Эстер. Одухотворенное еврейское лицо, как он говорил, пиплейски, неотступно стояло перед его глазами. К концу второй недели он потерял аппетит. Дельфина Нусинген и его дочь Августа, которую баронесса начинала вывозить в свет, не сразу заметили перемену, происшедшую в бароне. Мать и дочь видели барона лишь утром за завтраком и вечером во время обеда, если все обедали дома, что случалось только в приемные дни баронессы. Но к концу второго месяца барон, весь во власти чувства, сходного с тоской по родине, пожираемой лихорадочным нетерпением и удивленный бессилием миллионов, настолько исхудал, настолько казался больным, что Дельфина втайне надеялась стать вдовой. Она лицемерно жалела мужа и заставила дочь сидеть дома. Она засыпала мужа вопросами; он отвечал, как отвечают англичане, страдающие сплином, то есть почти не отвечал. По воскресеньям Дельфина Нусинген давала званый обед. Она избрала этот день для приемов, заметив, что в высшем свете в воскресенье никто не посещает театра, и этот вечер у всех обычно свободен. От наплыва буржуа и мещан воскресный день в Париже стал настолько суетлив, насколько он чопорен в Лондоне. И вот баронесса пригласила к обеду знаменитого Деплена, чтобы посоветоваться с ним против желания больного, ибо Нусинген говорил, что чувствует себя превосходно. Келлер, Растиньяк, де Марсе, дю Тийе, все друзья дома дали понять баронессе, что такой человек, как Нусинген, не должен умереть внезапно: его огромные дела обязывали к особой осторожности, и надо было точно знать, как поступить. Эти господа были приглашены к обеду, так же как граф де Гондревиль, тесть Франсуа Келлера, кавалер д'Эспар, де Люпо, доктор Бьяншон, любимый ученик Деплена, Боденор с супругой, граф и графиня де Монкорне, Блонде, мадемуазель де Туш и Конти, наконец, Люсьен де Рюбампре, к которому Растиньяк в продолжение пяти лет выказывал живейшую дружбу, но согласно приказу, выражаясь казенным языком.
– От него мы легко не отделаемся, – сказал Блонде Растиньяку, увидев входящего в гостиную Люсьена, прекрасного, как никогда, и восхитительно одетого.
– Предпочитаю быть ему другом, ибо он опасен, – сказал Растиньяк.
– Он? – сказал де Марсе. – Опасными, по-моему, могут быть только люди, положение которых ясно, а его положение скорее не атаковано, чем не атакуемо! На какие средства он живет? Откуда вся эта роскошь? У него, я уверен, тысяч шестьдесят долгу.
– Он нашел богатого покровителя, испанского священника, чрезвычайно к нему расположенного, – отвечал Растиньяк.
– Он женится на старшей дочери герцогини де Гранлье, – сказала мадемуазель де Туш.
– Да, – сказал кавалер д'Эспар, – но прежде он должен приобрести землю с доходом в тридцать тысяч франков как твердое обеспечение капитала, которое он предъявит своей нареченной. На это ему нужен миллион, а миллионы не валяются под ногами какого бы то ни было испанца.
– Чересчур много! Ведь Клотильда так дурна собою, – сказала баронесса.
Г-жа Нусинген усвоила манеру называть девицу де Гранлье уменьшительным именем, словно она сама, урожденная Горио, была принята в этом обществе.
– Ну нет, – возразил дю Тийе, – для нас дочь герцогини не бывает дурна собою, особенно если она приносит титул маркиза и дипломатический пост. Но главное препятствие этому браку – страстная любовь госпожи де Серизи к Люсьену: она, вероятно, очень тратится на него.
– Меня не удивляет более, что Люсьен так озабочен; госпожа де Серизи, конечно, не даст ему миллиона для женитьбы на мадемуазель де Гранлье. Он, верно, не знает, как выйти из положения, – заметил де Марсе.
– Да, но мадемуазель де Гранлье его обожает, – сказала де Монкорне, – и с помощью этой молодой особы, возможно, условия будут облегчены.
– А как быть ему с сестрой и зятем из Ангулема? – спросил кавалер д'Эспар.
– Его сестра богата, – отвечал Растиньяк, – и он теперь именует ее госпожою Сешар де Марсак.
– Если и возникнут трудности, так ведь он красавец, – сказал Бьяншон, поднимаясь, чтобы поздороваться с Люсьеном.
– Здравствуйте, дорогой друг, – сказал Растиньяк, обмениваясь с Люсьеном горячим рукопожатием.
Де Марсе поклонился холодно на поклон Люсьена. В ожидании обеда Деплен и Бьяншон, подшучивая над бароном Нусингеном, все же его осмотрели и признали, что заболевание вызвано только душевными переживаниями; но никто не мог отгадать истинной причины, настолько казалось невозможным, чтобы этот прожженный биржевой делец влюбился. Когда Бьяншон, не находя иного объяснения дурному самочувствию банкира, кроме любви, намекнул об этом Дельфине Нусинген, она недоверчиво улыбнулась: ей ли было не знать своего мужа! Однако ж после обеда, как только все вышли в сад, ближайшие друзья, узнав со слов Бьяншона, что Нусинген, видимо, влюблен, окружили барона, желая выведать тайну этого необыкновенного события.
– Знаете, барон, вы заметно похудели, – сказал ему де Марсе. – И подозревают, что вы изменили правилам финансиста.
– Никогта! – сказал барон.
– Но это так, – возразил де Марсе. – Утверждают, что вы влюблены.
– Ферно! – жалобно отвечал Нусинген. – Вздихаю об отна неизфестни.
– Вы влюблены! Вы! Вы рисуетесь! – сказал кавалер д'Эспар.
– Быть влюплен в мой возраст, я знаю карашо, что очен глюпо, но что делать? Шабаш!
– В светскую даму? – спросил Люсьен.
– Но барон может так худеть только от любви безнадежной, – сказал де Марсе. – А у него есть на что купить любую из женщина, которые желают или могут продаться.
– Я не знаю эта женшин, – отвечал барон. – Могу вам это говорить, раз матам Нюсеншан в гостиной. Я не зналь, что такой люпоф!.. Я думаю, потому я и худею.
– Где вы встретили эту юную невинность? – спросил Растиньяк.
– В карет, в полночь, в лесу Венсен.
– Приметы? – сказал де Марсе.
– Жабо белий газ, платье роз, пелерин белий, вуаль белий, лицо чисто пиплейски! Глаза – огонь, цвет кожа восточни…
– Вам пригрезилось! – сказал, улыбаясь, Люсьен.
– Ферно! Я спаль как сундук, сундук полни… И добавил, спохватившись: – Это случилься в обратни путь из деревня, после обет у мой труг…
– Она была одна? – спросил дю Тийе, прерывая банкира.
– Та, – сказал барон сокрушенно, – отна; гайтук зади карет и горнична.
– Глядя на Люсьена, можно подумать, что он ее знает! – вскричал Растиньяк, уловив улыбку любовника Эстер.
– Кто же не знает женщин, способных отправиться в полночь навстречу Нусингену? – сказал Люсьен, увертываясь.
– Стало быть, эта женщина не бывает на свете, – предположил кавалер д'Эспар, – иначе барон узнал бы гайдука.
– Я не видаль нигте эта женшин, – отвечал барон, – и вот уше сорок тней, как я искаль ее с полицай и не нашель.
– Пусть она лучше стоит вам несколько сот тысяч франков, нежели жизни, – сказал Деплен, – в вашем возрасте страсть без удовлетворения опасна, вы можете умереть.
– Та, – сказал барон Деплену, – что кушаю, не идет мне впрок, воздух для меня – смерть! Я пошель в лес Венсен, чтобы видеть тот мест, где ее встретил!.. О, поже мой! Я не занимался последни займ, я просиль мой сопрат, чтобы жалель меня. Мильон даю! Желай знать эта женщин. Я выиграю, потому больше не бываю на биржа… Спросить тю Тиле.
– Да, – отвечал дю Тийе, – у него отвращение к делам, он сам на себя не похож. Это признак смерти!
– Признак люпоф, – продолжал Нусинген. – Для меня это все отно!
Наивность старика, который уже не походил более на хищника и впервые в жизни познал нечто более святое и более сокровенное, нежели золото, тронула эту компанию пресыщенных людей; одни обменялись улыбками, другие наблюдали за Нусингеном, и в глазах читалась мысль: «Такой сильный человек и до чего дошел!..» Затем все вернулись в гостиную, обсуждая этот случай. И точно, то был случай, способный произвести сильнейшее впечатление. Г-жа Нусинген, как только Люсьен открыл ей тайну банкира, рассмеялась, но услышав, что жена смеется над ним, барон взял ее за руку и увел в амбразуру окна.
– Матам, – сказал он ей тихо, – говориль я слючайно слово насмешки на вашу страсть? Почему ви насмехайтесь? Карош жена дольжен помогать мужу спасать положень, а не насмехаться, как ви…
По описанию старого банкира Люсьен узнал в незнакомке свою Эстер. Взбешенный тем, что заметили его улыбку, он, как только был подан кофе и завязался общий разговор, скрылся.
– Куда же исчез господин де Рюбампре? – спросила баронесса Нусинген.
– Он верен своему девизу: «Quid me continebit?» – отвечал Растиньяк.
– Что означает: «Кто меня может удержать?» или «Я неукротим», предоставляю вам выбор, – прибавил де Марсе.
– Люсьен, слушая рассказ барона о незнакомке, невольно улыбнулся; я думаю, что он ее знает, – сказал Орас Бьяншон, не подозревая опасности столь естественного замечания.
«Превосходно!» – сказал про себя банкир. Подобно всем отчаявшимся больным, он прибег к любым средствам, подававшим хотя бы малейшую надежду, и решил установить наблюдение за самым Люсьеном, но поручив это не агентам Лушара, самого ловкого из парижских торговых приставов, к которому обратился недели две назад, а к другим людям.
Прежде чем поехать к Эстер, Люсьен должен был посетить особняк де Гранлье и пробыть там часа два, превращавшие Клотильду Фредерику де Гранлье в счастливейшую девушку Сен-Жерменского предместья. Осторожность, отличающая поведение молодого честолюбца, подсказала ему, что следует немедленно сообщить Карлосу Эррера о том впечатлении, которое произвела его невольная улыбка, когда он, слушая барона Нусингена, в изображении незнакомки узнал портрет Эстер. Любовь барона к Эстер и его намерение направить полицию на поиски неизвестной красавицы были событиями достаточно значительными, чтобы осведомить о них человека, который нашел убежище под покровом сутаны, как некогда преступники обретали его под кровлей храма. С улицы Сен-Лазар, где в то время жил банкир, до улицы Сен-Доминик, где находился особняк де Гранлье, дорога вела Люсьена мимо его дома на набережной Малакэ. Когда Люсьен вошел, его грозный друг дымил своим молитвенником, короче говоря, курил трубку, перед тем как лечь спать. Этот человек, скорее странный, нежели чужестранный, в конце концов отказался от испанских сигарет, находя их недостаточно крепкими.
– Дело принимает серьезный оборот, – заметил испанец, когда Люсьен ему все рассказал. – Барон, в поисках девчурки, прибегнет к услугам Лушара, а тот, конечно, сообразит, что надо пустить ищеек по твоим следам, и тогда все откроется! Мне едва достанет ночи и утра, чтобы подтасовать карты для партии, которую я хочу сыграть с бароном, ибо прежде всего я должен показать ему бессилие полиции. Когда наш хищник потеряет всякую надежду найти свою овечку, я берусь продать ее за столько, во сколько он ее ценит…
– Продать Эстер? – вскричал Люсьен, первый порыв у которого всегда был прекрасен.
– Ты что? Забыл о нашем положении? – вскричал Карлос Эррера.
Люсьен опустил голову.
– Денег нет, – продолжал испанец, – а шестьдесят тысяч франков долга надо платить! Если ты хочешь жениться на Клотильде де Гранлье, ты должен купить землю, чтобы обеспечить эту дурнушку на случай твоей смерти, а на это нужен миллион. Так вот Эстер – та лакомая дичь, за которой я заставлю гоняться этого хищника, покуда не выжму из него миллион. Это моя забота.
– Эстер никогда не согласится.
– Это моя забота.
– Она умрет.
– Это забота похоронной конторы. А если и так? – вскричал этот дикий человек, обрывая по своему обыкновению лирические жалобы Люсьена. Сколько генералов умерло в расцвете лет за императора Наполеона? – спросил он у Люсьена после короткого молчания. – Женщины всегда найдутся! В тысяча восемьсот двадцать первом году Корали тебе казалась несравненной. И все же встретилась Эстер. После этой девицы появится… знаешь кто? Неизвестная женщина! Да, прекраснейшая из женщин, и ты станешь искать ее в столице, где зять герцога де Гранлье будет посланником и представителем короля Франции. Ну, а тогда, скажи-ка, неразумное дитя, умрет ли от этого Эстер? Наконец, разве не может муж мадемуазель де Гранлье сохранить Эстер? Впрочем, предоставь мне действовать; не на тебе лежит скучная обязанность думать обо всем: это моя забота. Однако ж тебе придется недели две обойтись без Эстер и без поездок на улицу Тетбу. Ну-ка, ухватись за свой якорь спасения, поворкуй да получше разыграй роль; подложи тайком Клотильде пламенное послание, которое ты утром сочинил, и принеси мне от нее еще тепленький ответ! Строча письма, она вознаграждает себя за свои лишения: это мне подходит! Ты застанешь Эстер немножко опечаленной, но прикажи ей повиноваться. Дело идет о нашей ливрее добродетели, о наших плащах почтенности, о ширме, за которой великие люди прячут свои гнусности… Дело идет о моем прекрасном, – о тебе, на которого не должна пасть ни малейшая тень. Случай послужил нам скорее, нежели моя мысль: вот уже два месяца, как она работает вхолостую.
Бросая одно за другим эти страшные слова, звучавшие, как пистолетные выстрелы, Карлос Эррера одевался для выхода из дому.
– Ты, как видно, рад! – вскричал Люсьен. – Ты никогда не любил бедную Эстер и страстно ждешь случая отделаться от нее.
– Тебе никогда не надоедало любить ее, не правда ли?.. Ну, а мне никогда не надоедало ее ненавидеть. Но разве я не действовал всегда так, точно был искренне привязан к этой девушке? Между тем я держал ее жизнь в своих руках… с помощью Азии! Несколько ядовитых грибков в рагу, и все было бы кончено… Однако ж мадемуазель Эстер живет!.. Она счастлива!.. Знаешь, почему?.. Потому что ты ее любишь! Не прикидывайся ребенком. Вот уже четыре года, как мы ожидаем такого случая. Как он сейчас обернется? За или против нас?.. Так вот, надобно обнаружить нечто большее, чем талант, чтобы ощипать птицу, посланную нам судьбой: как в любой игре, в этой рулетке есть счастливые и несчастливые ставки. Знаешь, о чем я думал, когда ты вошел?
– Нет…
– Выдать себя, как в Барселоне, за наследника какой-нибудь старухи святоши, при помощи Азии…
– Преступление?
– У меня нет другого средства, чтобы упрочить твое счастье! Кредиторы зашевелились. Что станется с тобой, если ты попадешь в лапы судебного исполнителя и тебя выгонят из дому де Гранлье? Тут-то и настанет час расплаты с дьяволом.
Карлос Эррера изобразил жестом самоубийство человека, бросающегося в воду, и затем остановил на Люсьене пристальный взгляд, подчиняющий слабые души людям сильной воли. Этот завораживающий взгляд, пресекавший всякое сопротивление, обозначал, что Люсьен и его советчик связаны не только тайной жизни и смерти, но и чувствами, которые настолько превосходили обычные чувства, насколько этот человек был выше своего презренного положения.
Принужденный жить вне общества, доступ в которое был навсегда закрыт для него законом, истощенный пороком и ожесточенный лютой борьбой, но одаренный огромной душевной силой, не дававшей ему покоя, низкий и благородный, безвестный и знаменитый одновременно, одержимый лихорадочной жаждой жизни, он возрождался в изящном теле Люсьена, душой которого он овладел. Он сделал его своим представителем в человеческом обществе, передал ему свою стойкость и железную волю. Люсьен был для него больше, чем сын, больше, чем любимая женщина, больше, чем семья, больше, чем жизнь, – он был его местью; и так как сильные души скорее дорожат чувством, чем существованием, он связал себя с ним нерасторжимыми узами.
Встретив Люсьена в минуту, когда поэт в порыве отчаяния был готов на самоубийство, он предложил ему сатанинский договор, в духе тех, что встречаются лишь в романах приключений; однако опасная возможность таких договоров не раз была подтверждена в уголовных судах знаменитыми судебными драмами. Бросив к ногам Люсьена все утехи парижской жизни, уверив юношу, что надежда на блестящую будущность еще не потеряна, он обратил его в свою вещь. Впрочем, никакая жертва не была тяжела для этого загадочного человека, если речь касалась его второго я. Вопреки сильному характеру, он проявлял удивительную слабость к прихотям своего любимца, которому в конце концов доверил и все тайны. Как знать, не послужило ли это духовное сообщество последним связующим их звеном? В тот день, когда была похищена Торпиль, Люсьен узнал, на каком страшном основании покоится его счастье.
Под сутаной испанского священника скрывался Жак Коллен, знаменитый каторжник, который десять лет назад жил под мещанским именем Вотрена в пансионе Воке, где столовались Растиньяк и Бьяншон. Жак Коллен, по прозвищу Обмани-Смерть, сбежавший из Рошфора, как только его туда водворили, последовал примеру пресловутого графа де Сент-Элен, но избежав промахов, допущенных Куаньяром в его смелом поступке. Надеть на себя личину честного человека и продолжать жизнь каторжника – такова была задача, оба условия которой были чересчур противоречивы, чтобы не привести к роковой развязке, тем более в Париже; ибо, поселившись в какой-либо семье, преступник удесятеряет опасность подобного обмана. К тому же, чтобы отвести от себя всякие подозрения, не следует ли поставить себя выше повседневных житейских интересов? Светский человек подвержен многим случайностям, редко угрожающим тому, кто не соприкасается со светом. Поэтому сутана – самая надежная маскировка, когда дополнением к ней служит примерная, уединенная и мирная жизнь. «Итак, я буду священником», – сказал себе этот гражданский мертвец, упорно желавший возродиться в новом социальном обличье и удовлетворить страсти, столь же необычные, как и он сам. Гражданская война, зажженная в Испании конституцией 1812 года – а именно оттуда явился этот человек действия, – доставила ему возможность тайно убить в засаде настоящего Карлоса Эррера. Побочный сын вельможи, брошенный своим отцом еще в детстве, не знавший, кто была та женщина, которой он обязан своим рождением, этот священник имел дипломатическое поручение во Францию от короля Фердинанда VII, будучи ему рекомендован неким епископом. Этот епископ, единственный человек, принимавший участие в Карлосе Эррера, умер во время путешествия этой добровольной жертвы церкви из Кадикса в Мадрид и из Мадрида во Францию. Обрадованный встречей с личностью, столь для него полезной и при столь благоприятных для него условиях, Жак Коллен изранил себе спину, чтобы уничтожить роковое клеймо, и с помощью химических реактивов изменил лицо. Преобразившись таким образом перед трупом священника, прежде чем уничтожить его останки, он сумел придать себе некоторое сходство со своим двойником. Желая завершить это превращение, почти столь же волшебное, как превращение дряхлого дервиша из арабской сказки, который при помощи магических слов мог вселиться в тело юноши, этот каторжник, уже изъяснявшийся по-испански, обучился латыни в той мере, в какой этот язык должен быть известен андалузскому священнику. Казначей трех каторг, Коллен распоряжался вкладами, доверенными его признанной, хотя и вынужденной честности: между такого рода пайщиками за недостачу расплачиваются ударом кинжала. К этому основному капиталу он присоединил деньги, данные епископом Карлосу Эррера. Перед тем как покинуть Испанию, он сумел овладеть сокровищами одной барселонской святоши, покаявшейся в совершенном ею убийстве: он отпустил ей грехи, обещав вернуть по принадлежности деньги, добытые преступным путем и послужившие источником ее благополучия. Став священником, на которого возложено тайное поручение, обещавшее ему самое высокое покровительство в Париже, Жак Коллен решил ничем не опорочить присвоенный им сан и отдался случайностям своего существования; тогда-то, по пути из Ангулема в Париж, он и встретил Люсьена. Юноша показался лжесвященнику превосходным орудием для достижения власти; он спас его от самоубийства, сказал: «Предайтесь священнослужителю, как предаются дьяволу, и у вас будут все условия для лучшей участи. Ваша жизнь потечет как сон, и худшим пробуждением будет смерть, а вы ее искали…» Союз двух существ, которым суждено было слиться воедино, покоился на этой прочной основе, которую, впрочем, Карлос Эррера еще более укрепил, вовлекши Люсьена в сообщничество. Одаренный талантом растления, он развратил совесть Люсьена, то ввергая его в жестокую нужду, то извлекая из нее ценой его молчаливого согласия на совершение дурных или бесчестных дел; однако в глазах света Люсьен всегда оставался незапятнанным, честным, благородным. Люсьен олицетворял все, что есть самого изысканного в высшем обществе, в тени которого хотел жить обманщик. «Я – автор, ты – моя драма; если ты провалишься, освистан буду я», – сказал он ему в тот день, когда счел нужным разоблачить перед ним свой кощунственный маскарад. Карлос шел осторожно от признания к признанию, соразмеряя степень их низости со значением своих удач и нуждами Люсьена. Недаром Обмани-Смерть открыл последнюю свою тайну тогда лишь, когда привычка к парижским удовольствиям, успех и удовлетворенное тщеславие подчинили ему тело и душу слабовольного поэта. Там, где некогда Растиньяк, искушаемый этим демоном, устоял, Люсьен уступил, потому что он был более искусно впутан в игру, а главное, опьянен счастьем от сознания, что завоевал высокое положение в обществе. Зло, поэтический образ которого именуется дьяволом, обратило против этого женственного мужчины свои самые неотразимые соблазны и баловало его своей щедростью, вначале требуя взамен лишь немногого. Главным козырем Карлоса Эррера было сохранение пресловутой вечной тайны, обещанное Тартюфом Эльмире. Повторные доказательства полной преданности, в духе той, что питал Сеид к Магомету, довершили ужасное дело порабощения Люсьена Жаком Колленом. К этому времени Эстер и Люсьен не только поглотили все вклады, доверенные безукоризненной честности этого банкира каторги, который ради них подвергался страшной опасности, ибо у него могли спросить отчет в этих суммах, но денди, обманщик и куртизанка еще больше вошли в долги. И в ту минуту, когда Люсьен был так близок к цели, малый камушек, попавшийся под ногу одному из этих трех существ, мог бы обрушить волшебное здание счастья, столь дерзко воздвигнутое. На бале в Опере Растиньяк узнал Вотрена из пансиона Воке, но понял, что нескромность грозит ему смертью; поэтому-то любовник г-жи Нусинген, как и Люсьен, встречаясь взглядами, таили под видимостью дружбы взаимный страх. В минуту опасности Растиньяк, конечно, с величайшим удовольствием доставил бы повозку, чтобы отправить Обмани-Смерть на эшафот. Каждому теперь понятна мрачная радость Карлоса, когда, он узнал о любви барона Нусингена, мгновенно сообразил, какую выгоду человек его закала может извлечь из бедной Эстер.
– Э-ге-ге! – сказал он Люсьену. – Дьявол покровительствует своему служителю.
– Ты куришь, сидя на бочке с порохом.
– Incedo per ignes! – отвечал Карлос, улыбаясь. – Таково мое ремесло.
К середине прошлого века род де Гранлье распался на две ветви: одна ветвь – герцогский род, обреченный на угасание, поскольку у нынешнего герцога были лишь дочери; вторая – виконты де Гранлье, которым предстояло унаследовать титул и герб старшей ветви. Герцогская ветвь носит на чéрвлени поля три золотых секиры, или боевых топора, поперек щита со знаменитым Caveo non timeo! – девизом, в котором вся история этого рода.
Щит герба виконтов расчленен, как у Наварренов: на чéрвлени поля золотая зубчатая перевязь поперек щита, увенчанного рыцарским шлемом, с девизом: «Великие дела, великий род!» У нынешней виконтессы, вдовствующей с 1813 года, были сын и дочь. Хотя она вернулась из эмиграции почти разоренная, все же, благодаря преданности своего поверенного де Дервиля, она оказалась владетельницей довольно значительного состояния.
Герцог и герцогиня де Гранлье, возвратившиеся во Францию в 1804 году, были осыпаны милостями императора; Наполеон I, при дворе которого они состояли, вернул во владение рода де Гранлье их поместья, числившиеся в палате государственных имуществ, с доходом около десяти тысяч ливров. Из всех вельмож Сен-Жерменского предместья, позволивших Наполеону обольстить себя, только герцог и герцогиня (из старшей ветви Ажуда, состоящей в родстве с Браганцами) не отреклись ни от императора, ни от его благодеяний. Людовик XVIII оценил их верность, тогда как Сен-Жерменское предместье именно ее-то поставило в вину Гранлье; но, может быть, Людовик XVIII желал этим лишь подразнить своего августейшего брата. Говорили о возможности брака молодого виконта де Гранлье и Мари-Атенаис, младшей дочери герцога, которой тогда исполнилось девять лет. Сабина, предпоследняя дочь, после Июльской революции вышла замуж за барона дю Геника. Жозефина, третья дочь, стала г-жою д'Ажуда-Пинто, когда маркиз потерял первую жену, урожденную де Рошфид. Старшая ушла в монастырь в 1882 году. Вторая дочь, Клотильда-Фредерика, в ту пору в возрасте двадцати семи лет, была серьезно увлечена Люсьеном де Рюбампре.
Излишне спрашивать, какими чарами покорял воображение Люсьена особняк герцога де Гранлье, один из лучших особняков на улице Сен-Доминик; всякий раз, когда огромные ворота, покачиваясь на своих петлях, распахивались, чтобы пропустить его кабриолет, он испытывал чувство тщеславного удовлетворения, о котором говорил Мирабо. «Пусть мой отец был простым аптекарем в Умо, я все же здесь принят…» – такова была его мысль. Стало быть, помимо своего союза с лжесвященником, он пошел бы и на многие другие преступления ради того, чтобы слышать, как о нем докладывают: «Господин де Рюбампре!» – в большой гостиной в стиле Людовика XIV, отделанной в ту же эпоху, по образцу гостиных Версаля, где собиралось избранное общество, сливки Парижа, так называемый Малый двор.
Благородная португалка, которая не любила выходить из дому, большую часть времени проводила в обществе Шолье, Наварренов, Ленонкуров, живших неподалеку от нее. Красавица баронесса де Макемюр (урожденная Шолье), герцогиня де Монфриньез, г-жа де Кан, мадемуазель де Туш, находившаяся в родстве с Гранлье, которые были родом из Бретани, часто навещали ее, отправляясь на бал, или возвращаясь из Оперы. Виконт де Гранлье, герцог де Реторе, маркиз де Шолье, который в будущем должен был стать герцогом де Ленонкур-Шолье, его жена Мадлена де Морсоф, внучка герцога де Ленонкура, маркиз д'Ажуда-Пинто, князь де Бламон-Шофри, маркиз де Босеан, видам де Памье, Ванданесы, старый князь де Кадиньян и его сын герцог де Монфриньез были завсегдатаями этого величественного салона, где все дышало воздухом двора, где манеры, тон, остроумие соответствовали благородному происхождению хозяев, широко открытый аристократический дом которых заставил в конце концов забыть об их угодничестве перед Наполеоном.
Старая герцогиня д'Юкзель, мать герцогини де Монфриньез, была оракулом этого салона, куда г-жа де Серизи, хотя и урожденная де Ронкероль, никак не могла проникнуть.
Госпожа де Монфриньез, упросив мать покровительствовать Люсьену, предмету своей необузданной страсти за последние два года, открыла перед ним двери дома де Гранлье, и, обольстительный поэт удержался там благодаря влиянию придворного духовенства и покровительству парижского архиепископа. Все же он удостоился чести быть представленным герцогине лишь после того, как королевским указом ему были возвращены имя и герб рода де Рюбампре. Герцог де Реторе, кавалер д'Эспар и еще некоторые из чувства зависти время от времени настраивали против него герцога де Гранлье, рассказывая анекдоты из прежней жизни Люсьена; но набожная герцогиня, уже окруженная князьями церкви, и Клотильда де Гранлье поддерживали молодого человека. Впрочем, причины неприязни герцога Люсьен отнес на счет своего приключения с г-жою де Баржетон, ставшей графиней Шатле. Чувствуя настоятельную необходимость войти в столь влиятельную семью и следуя внушениям своего домашнего советчика, который рекомендовал обольстить Клотильду, Люсьен выказывал мужество выскочки: он стал появляться там раз пять в неделю, он мило проглатывал колкости завистников, выдерживал презрительные взгляды, остроумно отвечал на злые насмешки. В конце концов его постоянство, его очаровательные манеры, его любезность обезоружили излишнюю щепетильность и ослабили препятствия. По-прежнему сохраняя наилучшие отношения с герцогиней де Монфриньез, пламенные записки которой, писанные ею в разгаре страсти, хранились у Карлоса Эррера, идол г-жи де Серизи, желанный гость мадемуазель де Туш, Люсьен блаженствовал, посещая эти три дома, но он соблюдал величайшую осторожность в своих связях, памятуя о наставлениях испанца.
«Нельзя уделять внимание многим домам одновременно, – говорил его домашний советчик. – Кто бывает всюду, тот нигде не встречает живого интереса к своей особе. Знать покровительствует лишь тому, кто соревнуется с их мебелью, кого они видят каждодневно, кто сумеет стать для них столь же необходимым, как удобный диван».
Люсьен привык рассматривать салон де Гранлье как некое поле битвы, и он приберегал свое остроумие, шутки, светские новости и обходительность салонного любезника для тех вечеров, которые он проводил в этом доме. Вкрадчивый, ласковый, он угождал маленьким слабостям г-на де Гранлье, ибо знал от Клотильды, какие рифы надобно обходить. Клотильда, которая прежде завидовала счастью герцогини де Монфриньез, страстно влюбилась в Люсьена.
Люсьен, оценив все преимущества подобного союза, разыгрывал роль влюбленного, как разыграл бы ее в недавнее время Арман, первый любовник Французской комедии. Он писал Клотильде письма, бесспорно представлявшие собою подлинные образцы высокого стиля, и Клотильда отвечала, состязаясь с ним в мастерстве выражать на бумаге свою неистовую любовь, ибо иначе она любить не могла. По воскресеньям Люсьен слушал мессу у Фомы Аквинского; он выдавал себя за ревностного католика и произносил в защиту монархии и религии прочувствованные речи, вызывавшие восхищение. Сверх того, он писал в газетах, представляющих интересы Конгрегации, превосходные статьи, не желая ничего за них получать и скромно подписывая их буквой Л. Он выпускал политические брошюры, нужные королю Карлу Х или придворному духовенству, не требуя ни малейшего вознаграждения. «Король, – говорил он, – так много для меня сделал, что я ему обязан жизнью». Несколько дней уже шла речь о назначении Люсьена личным секретарем премьер-министра, но г-жа д'Эспар подняла такую кампанию против Люсьена, что фактотум Карла Х колебался произнести решительное слово. Дело было не только в том, что положение Люсьена казалось недостаточно ясным и, по мере того, как поэт возвышался, вопрос: «На какие средства он живет? – все чаще слетал с уст, требуя ответа, но вдобавок и в том, что любопытство благожелательное, как и любопытство враждебное, переходя от расследования к расследованию, открывало все новые уязвимые места в панцире честолюбца. Клотильда де Гранлье служила ему невольным шпионом у отца и матери. За несколько дней до того она увлекла Люсьена в нишу окна, чтобы наедине побеседовать с ним, и, кстати, сообщить, на чем основываются возражения ее семьи против их брака. «Приобретите поместье, оцененное в миллион, и вы получите мою руку, таков был ответ моей матери», – сказала Клотильда. «Потом они спросят тебя, как ты добыл эти деньги», – сказал Карлос Люсьену, когда Люсьен передал ему это якобы последнее слово. «Мой шурин, по-видимому, составил состояние, – заметил Люсьен, – мы будем иметь его в лице ответственного издателя». «Итак, недостает только миллиона! – вскричал Карлос. – Я подумаю об этом».
Чтобы точнее обрисовать положение Люсьена в особняке де Гранлье, достаточно заметить, что он там ни разу не обедал. Ни Клотильда, ни герцогиня д'Юкзель, ни г-жа де Монфриньез, по-прежнему благоволившая к Люсьену, никто из них не мог добиться от герцога этой милости, такое недоверие питал старый вельможа к человеку, которого он называл «господин де Рюбампре». Этот особый оттенок обращения, отмеченный всеми завсегдатаями салона, постоянно ранил самолюбие Люсьена, давая ему понять, что здесь его только терпят. Свет вправе быть требовательным: он так часто бывает обманут! Никакое искусство не в силах упрочить положение человека, который желает быть на виду в Париже, не имея солидного состояния и определенного занятия. Вопрос: «На какие средства он живет?» – приобретал особую силу по мере возвышения Люсьена. Он был вынужден сказать у г-жи де Серизи, при помощи которой он снискал расположение генерального прокурора Гранвиля и одного из министров, графа Октав де Бован, председателя верховного суда: «Я страшно задолжал».
Въезжая во двор особняка, где он надеялся найти узаконенное удовлетворение своему тщеславию, Люсьен, вспоминая слова Обмани-Смерть, говорил себе с горечью: «Чувствую, как все колеблется у меня под ногами!» Он любил Эстер, и он желал назвать мадемуазель де Гранлье своей женой! Удивительное положение! Надо было продать одну, чтобы получить другую. Только один человек мог совершить подобный торг, не затронув чести Люсьена, и этот человек был лжеиспанец: не надлежало ли им, как одному, так и другому, быть поосторожней друг с другом! Подобные договоры, в которых каждая из сторон по очереди то властвует, то подчиняется, дважды не заключают.
Люсьен отогнал сомнения, омрачавшие его лицо, и вошел веселый, блистательный в гостиную особняка де Гранлье. Окна были растворены, благоухание сада наполняло комнату, жардиньерка, занимавшая середину гостиной, казалось прелестной цветочной пирамидой. Герцогиня, сидевшая на софе в уголке комнаты, разговаривала с герцогиней де Шолье. Несколько женщин составляли группу, примечательную тем, что каждая из них по-своему старалась выразить притворное горе. В свете чужое несчастье или страдание не вызывает сочувствия, там все лишь одна видимость. Мужчины прохаживались в гостиной или в саду. Клотильда и Жозефина хлопотали возле чайного стола. Видам де Памье, герцог де Гранлье, маркиз д'Ажуда-Пинто, герцог де Монфриньез играли в вист (sic!) в другом конце комнаты. Люсьен, о котором доложили, войдя в гостиную, направился к герцогине, чтобы поздороваться с ней, и сразу же спросил о причине грусти, читавшейся на ее лице.
– Госпожа де Шолье, получила горестное известие: ее зять барон де Макюмер, в прошлом герцог де Сориа, умер. Молодой герцог де Сориа и его жена, выехавшие в Шантеплер, чтобы ухаживать за братом, написали об этом печальном событии. Луиза в страшном отчаянии.
– Женщина только однажды в жизни бывает любима так, как была любима своим мужем Луиза, – сказала Мадлена де Морсоф.
– Она осталась богатой вдовой, – заметила старая герцогиня д'Юкзель, глядя на Люсьена; но его лицо было непроницаемо.
– Бедная Луиза! – сказала г-жа д'Эспар. – Как я понимаю ее и жалею.
Маркиза д'Эспар приняла задумчивую позу, изображая собой женщину с чувствительной душой. Хотя Сабине де Гранлье было всего десять лет, она понимающе посмотрела на мать, но насмешливый огонек ее глаз был погашен строгим взглядом маркизы. Вот что называется хорошо воспитать детей!
– Если моя дочь и перенесет этот удар, – сказала г-жа де Шолье, выказывая всем своим видом нежную материнскую озабоченность, – я все же не могу быть спокойна за ее будущее. Луиза так романтична.
– Право, я не пойму, – заметила старая герцогиня д'Юкзель, – от кого наши дети унаследовали эту черту?
– Трудно сочетать в наши дни чувства и условности света, – сказал находившийся тут старый кардинал.
Люсьен, которому нечего было сказать, направился к чайному столу обменяться приветствиями с девицами де Гранлье. Когда поэт отошел на несколько шагов, маркиза д'Эспар наклонилась к герцогине де Гранлье и шепнула ей на ухо:
– И вы уверены, что он очень любит вашу милую Клотильду?
Коварство этого вопроса станет очевидным, если несколькими штрихами обрисовать Клотильду. Эта девушка, лет двадцати семи на вид, в эту минуту встала из-за стола, что позволило маркизе д'Эспар насмешливым взглядом окинуть сухую, тонкую фигуру Клотильды, напоминавшую спаржу. Ни одно из вспомогательных средств, вроде излюбленных модистками пышных косынок, не могло послужить к украшению лифа, облекавшего столь плоскую грудь. Впрочем, Клотильда не трудилась скрывать свои недостатки и даже героически подчеркивала их – она была слишком уверена в преимуществах своего имени. Она носила плотно облегающие платья, которые придавали ее фигуре строгость и четкость линий, присущих изваяниям средневековых мастеров, рельефно выступающих из глубины ниш в старинных соборах. Клотильда была ростом в пять футов и четыре дюйма. Если позволено прибегнуть к просторечью, имеющему хотя бы ту заслугу, что оно метко, я сказал бы, что она вся ушла в ноги. Из-за такого нарушения пропорций ее талия казалась безобразно короткой. Смуглостью кожи, черными жесткими волосами, густыми волосами, густыми бровями, глазами пламенными, но уже обведенными коричневой тенью, лицом, которое в профиль напоминало серп месяца, и выпуклым лбом она была похожа на свою мать, одну из красивейших женщин Португалии, но как бывает похожа на оригинал карикатура. Природа любит подобные шутки. Часто в той или иной семье встречаешь девушку удивительной красоты, но те же черты в лице ее брата являют собой законченное уродство, хотя оба похожи друг на друга. Поджатый рот Клотильды хранил привычное презрительное выражение; поэтому ее губы, более чем какая-либо иная черта лица, отражали тайные движения сердца, ибо любовь сообщала им прелестное выражение, тем более привлекательное, что ее лицо, слишком смуглое, чтобы краснеть, и черные суровые глаза никогда не выдавали ее чувств. Несмотря на все эти недостатки, несмотря на плоскую фигуру, у нее был тот величественный вид, та горделивость осанки, короче говоря, то нечто, что дается воспитанием породой, что обличало в ней девушку из хорошего дома и чем, быть может, она была обязана строгости своего наряда. Она так искусно укладывала свои пышные, густые, длинные волосы, что они могли бы украшать красавицу. Ее хорошо поставленный голос звучал чарующе. Она пела восхитительно. Клотильда была из тех женщин, о которых говорят: «У нее чудесные глаза», или: «У нее прекрасный характер!» Когда к ней обращались на английский лад: «Ваша светлость», она отвечала: «Называйте меня: Ваша тонкость».
– Отчего бы не любить мою бедную Клотильду? – отвечала маркизе герцогиня. – Знаете, что она сказала мне вчера? «Если меня любят ради карьеры, я добьюсь, что меня полюбят ради меня самой». Она умна и честолюбива. Некоторым мужчинам нравятся эти качества. Что касается его, моя дорогая, он прекрасен, как мечта. И если он сможет выкупить бывшие владения де Рюбампре, король, из уважения к нам, вернет ему титул маркиза… Наконец, его мать последняя из Рюбампре…
– Бедный мальчик, где ему взять миллион? – сказала маркиза.
– Нас это не касается, – продолжала герцогиня. – Но я уверена, что он не способен его украсть… Впрочем, мы не выдали бы Клотильду ни за интригана, ни за бесчестного человека, будь он даже красавец, будь он поэт и молод, как господин де Рюбампре.
– Как поздно вы пришли, – сказала Клотильда, улыбаясь Люсьену с бесконечной нежностью.
– Да, я обедал в городе.
– Вы с некоторых пор много бываете в свете, – сказала она, скрывая улыбкой ревность и тревогу.
– В свете? – продолжал Люсьен. – О нет! Я всю неделю, по странной случайности, обедал у банкиров. Сегодня у Нусингенов, вчера у дю Тийе, позавчера у Келлеров…
Из этого ответа можно было убедиться, что Люсьен хорошо усвоил пренебрежительный тон знати.
– У вас много врагов, – сказала Клотильда, предлагая ему (и с какой грацией!) чашку чая. – Отцу сказали, что у вас шестьдесят тысяч франков долгу и что вместо загородного замка вы в ближайшее время получите Сент-Пелажи. Если бы вы знали, чего стоят мне все эти наветы… Как все это угнетает меня! Не буду говорить о моих страданиях (взгляды моего отца меня ранят), но как вы сами должны страдать, если есть хоть какая-то доля правды…
– Не волнуйтесь из-за всякого вздора. Любите меня, как я люблю вас, и не откажите мне в доверии на несколько месяцев, – отвечал Люсьен, поставив пустую чашку на поднос чеканного серебра.
– Не показывайтесь на глаза моему отцу, он наговорит вам дерзостей, вы не стерпите, и тогда мы погибли… Эта злюка, маркиза д'Эспар, сказала ему, что ваша мать была повивальной бабкой, а сестра гладильщицей…
– Мы терпели крайнюю нужду, – отвечал Люсьен, у которого на глаза навернулись слезы. – Это не клевета, но удачное злословие. Теперь моя сестра миллионерша, а мать умерла два года назад… Эти сведения берегли на тот случай, если счастье сулит мне…
– Но чем вы досадили госпоже д'Эспар?
– Я имел неосторожность шутя рассказать у госпожи де Серизи, в присутствии господина де Бована и господина Гранвиля, историю процесса, затеянного ею против своего мужа, маркиза д'Эспар, которого она желала взять под опеку; об этом по секрету мне рассказал Бьяншон. Мнение господина де Гранвиля, поддержанное Бованом и Серизи, принудили канцлера изменить свое решение. И тот и другой отступили, испугавшись Судебной газеты, испугавшись скандала, а в постановлении суда, которое положило конец этому страшному делу, маркизе было воздано по заслугам. Если господин де Серизи и нарушил тайну, зато я приобрел покровителей в его лице, в лице генерального прокурора и графа Октава де Бована, которым госпожа де Серизи рассказала, какой опасности они меня подвергли, позволив отгадать источник, откуда черпались их сведения, и тем самым обратив маркизу в моего смертельного врага. К тому же господин маркиз д'Эспар, считая меня виновником благополучного окончания этого гнусного процесса, поступил неосторожно, посетив меня.
– Я освобожу вас от госпожи д'Эспар, – сказала Клотильда.
– Но как? – вскричал Люсьен.
– Моя мать пригласит молодых д'Эспаров, очень милых и уже достаточно взрослых. Отец и оба сына будут превозносить вас. Я уверена, что мы больше не увидим матери…
– О Клотильда, вы восхитительны! Если бы я не любил вас ради вас самой, я полюбил бы вас за ваш ум.
– Причина тому не мой ум, – сказала она, вкладывая в улыбку всю свою любовь. – Прощайте! Не приходите несколько дней. Когда в церкви святого Фомы Аквинского вы увидите на моих плечах розовый шарф, знайте, что настроение моего отца переменилось. Ответное письмо приколото к спинке ваших кресел. Быть может, оно утешит вас в разлуке. Ваше письмо положите в мой платок…
Молодой особе, вне всякого сомнения, было более двадцати семи лет.
Люсьен взял фиакр в улице Планш, вышел из него на Бульварах, нанял другой близ церкви Мадлен и приказал въехать во двор одного дома на улице Тетбу.
В одиннадцать часов, войдя к Эстер, он застал ее в слезах, но нарядно одетую, какой она всегда встречала его. Она ждала своего Люсьена, лежа на белом, затканном желтыми цветами атласном диване, одетая в прелестный пеньюар из индийской кисеи, отделанный вишневыми лентами, без корсета, с небрежно заколотыми волосами, в бархатных туфельках, подбитых вишневым атласом; все свечи в комнате были зажжены, кальян приготовлен. Но она не курила, незажженный прибор стоял перед нею, выдавая ее состояние. Услышав, что дверь отворяется, она отерла слезы, вскочила, подобно газели, и обвила Люсьена руками – так ткань, подхваченная порывом ветра, обвивается вокруг дерева.
– Мы разлучаемся, – сказала она, – неужели это правда?..
– Ба! На несколько дней, – отвечал Люсьен.
Эстер выпустила Люсьена из объятий и упала на диван как подкошенная. В подобных случаях большинство женщин болтают, точно попугаи! Ах, как они вас любят!.. После пяти лет жизни с вами для них все еще длится утро любви; они не в силах расстаться, они великолепны в негодовании, в отчаянии, в страсти, в гневе, в сожалениях, в ужасе, в печали, в предчувствиях! Словом, они прекрасны, как сцена из Шекспира. Но знайте: эти женщины не любят! Когда они на самом деле таковы, какими себя изображают, короче говоря, когда они искренне любят, они поступают как Эстер, как поступают дети, как поступает истинная любовь; Эстер не произнесла ни слова, она лежала лицом в подушках и плакала горькими слезами. Люсьен пытался приподнять Эстер и говорил ей:
– Но, девочка моя, ведь мы не разлучены… Вот так ты принимаешь короткое отсутствие после четырех счастливых лет? – И думал про себя: «Чем я мил этим девушкам?..», вспоминая, что его точно так же любила Корали.
– Ах, мосье, вы такой красавец, – сказала Европа.
Чувства создают свой идеал красоты. Когда эта красота, столь обольстительная, сочетается с мягкостью характера, поэтичностью натуры, отличавшими Люсьена, нетрудно понять безумную страсть этих созданий, в высшей степени чувствительных к внешним дарам природы и столь наивных в своем восхищении. Эстер беззвучно рыдала, распростершись на диване, в позе неутешной скорби.
– Но, глупенькая, – сказал Люсьен, – разве ты не знаешь, что дело идет о моей жизни?
При этих словах, сказанных Люсьеном умышленно, Эстер вскочила, как дикий зверь; распустившиеся волосы окружили подобно листве, ее божественную фигуру. Она вперила в Люсьена пристальный взгляд.
– О твоей жизни! – вскричала она, всплеснув руками, как это делают девушки в минуты опасности. – Верно! Записка этого чудовища говорит о важных вещах.
Она вынула из-за пояса измятый клочок бумаги, но, заметив Европу, сказала ей: «Оставьте нас, моя милая». Когда Европа закрыла за собою дверь, она протянула Люсьену записку, только что присланную Карлосом, со словами: «Посмотри, что он мне пишет!»
И Люсьен прочел вслух:
– «Вы уедете завтра в пять часов утра. Вас отвезут в Сен-Жерменский лес, к одному из лесничих; он предоставит вам комнату во втором этаже своего дома. Не покидайте этой комнаты без моего разрешения; вы не будете ни в чем терпеть нужды. Лесничий и его жена – люди верные. Не пишите Люсьену. Не подходите к окну днем; ночью вы можете гулять в сопровождении лесничего, ежели пожелаете. По пути туда держите занавески в карете опущенными: дело идет о жизни Люсьена.
Люсьен придет вечером проститься с вами. Сожгите записку при нем…»
Люсьен тотчас сжег записку на огне свечи.
– Послушай, Люсьен, – сказала Эстер, выслушав письменный приказ, как преступник выслушивает смертный приговор, – я не стану тебе говорить, что люблю тебя, это было бы глупо… Любить тебя мне кажется столь же естественным, как дышать, жить. Так было все эти четыре года. В первый же день моего счастья, начавшегося с благословения загадочного существа, которое заточило меня в этих стенах, как редкого зверька в клетке, я узнала, что ты должен жениться. Жениться – необходимое условие, чтобы устроить твою судьбу, и сохрани меня бог препятствовать твоему счастью! Твоя женитьба – моя смерть. Но я ничем не досажу тебе; я не поступлю, как поступают гризетки; чтобы умереть, мне не понадобятся жаровня и уголь… Хватит с меня и одного раза. Как выражается Мариетта: «Повторить сие тошно!» Нет, я уйду далеко, за пределы Франции. Азия знает тайны своей родины, она обещала научить меня, как умереть спокойно. Укол, и все кончено! Прошу лишь об одном, мой обожаемый ангел: не обманывай меня. Жизнь предъявляет мне счет – я испытала, начиная со дня первой нашей встречи в тысяча восемьсот двадцать четвертом году и по нынешний день, столько счастья, что его достало бы на десять счастливых женских жизней. Поэтому не бойся за меня, моя сила равна моей слабости. Скажи мне: «Я женюсь». Об одном лишь прошу, будь со мною нежен при прощании, и ты никогда более не услышишь обо мне… – После этого признания в любви, такого же искреннего и простодушного, как жесты и и интонации девушки, наступило короткое молчание. – Речь идет о твоей женитьбе? – спросила она, погружая блестящий, как клинок кинжала, завораживающий взор в голубые глаза Люсьена.
– Вот уже год и шесть месяцев, как мы хлопочем о моей женитьбе, а она все еще не состоялась, – отвечал Люсьен, – и я не знаю, когда она состоится. Но дело не в этом, милая моя девочка… дело в аббате, во мне, в тебе… мы в опасности… тебя видел Нусинген…
– Да, – сказала она, – в Венсенском лесу; он, стало быть, меня узнал?..
– Нет, – отвечал Люсьен, – но он в тебя влюбился без памяти! Когда сегодня после обеда он принялся рассказывать о вашей встрече и описывать твою наружность, я невольно улыбнулся. Такая неосторожность! Ведь в кругу высшего общества я точно дикарь среди ловушек вражеского племени. Карлос избавляет меня от труда обдумывать какие-либо дела, но он находит положение опасным. Он обещает вымотать душу из Нусингена, если Нусингену вздумается за нами шпионить, а барон вполне на это способен: он что-то говорил мне о бессилии полиции. Ты зажгла пожар в этой старой трубе, набитой сажей…
– Что намерен предпринять твой испанец? – спросила Эстер совсем тихо.
– Не знаю. Он велел мне спать спокойно, – отвечал Люсьен, не осмеливаясь взглянуть на Эстер.
– Если так, то я повинуюсь с собачьей покорностью, как мне пристало при моем ремесле, – сказала Эстер и, взяв Люсьена под руку, повела его в спальню, спросив: – Хорошо ли ты пообедал, Люлю, у этого гадкого Нусингена?
– Азия такая мастерица, что за ней не угнаться ни одному повару: но, как всегда, в воскресенье обед готовил Карем.
Люсьен невольно сравнивал Эстер и Клотильду. Любовница была так прекрасна, так неизменно обольстительна, что пресыщение – чудовище, пожирающее самую пламенную любовь, – еще ни разу не дало себя почувствовать. «Какая досада, – думал он, – когда жена в двух изданиях! В одном – поэзия, страсть, любовь, верность, красота, очарование…» Эстер суетилась, как обычно суетятся женщины перед сном, и, напевая, порхала с места на место. Точь-в-точь колибри…» В другом – знатность, порода, почет, положение в обществе, светское воспитание! И никакими судьбами не соединить их воедино!..» – мысленно воскликнул Люсьен.
Поутру, проснувшись в семь часов, поэт увидел, что он один в этой очаровательной розовой с белым комнате. На его звонок вбежала фантастическая Европа.
– Что угодно мосье?
– Эстер?
– Мадам уехала без четверти пять. По приказанию господина аббата мною получено с доставкой на дом новое лицо.
– Женщина?..
– Нет, мосье, англичанка… одна из тех, что заняты на ночной поденщине; нам приказано обращаться с ней, как с нашей госпожой! Что мосье собирается делать с этой клячей?.. Бедная мадам, как она плакала, садясь в карету… «Ну что ж! Так надобно!..» – воскликнула она. – Я покинула моего бедного котеночка, когда он спал, – сказала она, утирая слезы. – Ах, Европа, стоило ему взглянуть на меня или окликнуть, я с места бы не тронулась, пусть нам обоим грозила бы смерть…» Видите ли, мосье, я так люблю мадам, что не показала ей заместительницы. Не всякая горничная уберегла бы ее от такого удара!
– Стало быть, та, другая, здесь?
– Да, мосье, ведь она приехала в карете, в которой увезли мадам; и я спрятала ее в своей комнате, как приказал…
– Хороша собою?
– Как может быть хороша уличная женщина. Но сыграть роль ей не составит труда, ежели мосье сыграет свою, – сказала Европа, покидая комнату, чтобы привести туда мнимую Эстер.
Накануне, перед тем как лечь спать, всемогущий банкир отдал распоряжение лакею, и тот уже в семь часов утра проводил знаменитого Лушара, самого ловкого из торговых приставов, в маленькую гостиную, куда вышел барон в халате и домашних туфлях…
– Ви насмехайтесь, ферно, надо мной! – сказал он в ответ на поклон пристава.
– Но иначе, господин барон, я не мог поступить! Я дорожу своей должностью и, как я имел честь вам докладывать, не могу вмешиваться в дела, не входящие в круг моих обязанностей. Что я вам обещал? Познакомить вас с одним из наших агентов, наиболее, как мне показалось, способным вам услужить. Но господину барону известны границы, которые существуют между людьми разных профессий… Когда строят дом, не возлагают на маляра работу столяра. Так вот, есть две полиции: полиция политическая и полиция уголовная. Агенты уголовной полиции никогда не вмешиваются в дела полиции политической, и vici versa. Ежели вы обратитесь к начальнику политической полиции, ему, чтобы заняться вашим делом, понадобится разрешение министра, а вы не осмелитесь объяснить это начальнику главного полицейского управления. Полицейский агент, который станет работать на стороне, потеряет место. Ведь уголовная полиция не менее осмотрительна, чем полиция политическая. Стало быть, никто в министерстве внутренних дел или в префектуре шагу не сделает иначе, как только в интересах государства либо в интересах правосудия. Когда дело касается заговора или преступления – ах боже мой! – все начальники к вашим услугам. Поймите же, господин барон, что у них есть интересы поважнее, чем полсотни тысяч парижских интрижек. Что касается нашего брата, нам не следует во что либо вмешиваться, кроме ареста должников; мы подвергаемся большой опасности, если нарушаем чей-нибудь покой в связи с любым другим делом. Я послал вам своего человека, но предупредил вас, что я за него не отвечаю. Вы приказали ему отыскать в Париже женщину. А Контансон, не ударив палец о палец, выудил у вас тысячную ассигнацию. В Париже искать женщину, заподозренную в прогулке в Венсенский лес и по приметам похожую на всех красивых парижанок, все равно что искать иголку в сене.
– Гонданзон (Контансон), – сказал барон, – дольжен бил говорить честно, а не виудить у меня билет в тисяча франк, не так ли?
– Послушайте, господин барон, – сказал Лушар, – хотите выложить мне тысячу экю? Я вам дам… продам один совет.
– Стоит ли софет тисяча экю? – спросил Нусинген.
– Меня нельзя обмануть, господин барон, – отвечал Лушар. – Вы влюблены, вы желаете отыскать предмет вашей страсти, вы сохнете по нем, как салат без воды. Вчера – я это знаю от вашего лакея – у вас были два врача, и они нашли, что ваше здоровье в опасности. Один только я могу свести вас с верным человеком… черт возьми! Неужели ваша жизнь не стоит тысячи экю?
– Прошу сказать имя этот челофек и доферять мой щедрость!
Лушар взял шляпу, откланялся и пошел к выходу.
– Шертовски челофек! – вскричал Нусинген. – Вернись!.. Полючай!..
– Примите во внимание, что я продаю вам всего лишь сведения, – сказал Лушар, прежде чем взять деньги. – Я укажу имя и адрес единственного человека, который может быть вам полезен; но это мастер…
– Пошель к шорт! – вскричал Нусинген. – Атин имя Ротшильд стоит тисяча экю, когда он подписан под вексель… Даю тисяча франк!
Лушар, пронырливый человек, однако не сумевший добиться ни должности нотариуса, ни судебного исполнителя, ни казенного защитника, ни стряпчего, многозначительно поглядывал на барона.
– Для вас тысяча экю – пустяк. На бирже вы вернете их в несколько секунд, – сказал он.
– Даю тисяча франк! – повторил барон.
– Предложи вам золотые рудники, вы станете торговаться! – сказал Лушар, откланиваясь.
– Я могу полючать этот адрес за билет в пьятсот франк! – крикнул барон, приказавший лакею позвать секретаря.
Тюркаре не существует более. В наши дни и самый крупный и самый мелкий банкир простирает свои плутни на любую мелочь; искусство, благотворительность, любовь – все это для него лишь предмет торга, он готов торговаться с самым папой за отпущение грехов. Итак, слушая Лушара, Нусинген быстро сообразил, что Контансон, как правая рука торгового пристава, должен был знать адрес этого мастера шпионажа. Лушар требовал за совет тысячу экю, Контансон продаст то же самое за пятьсот франков. Столь быстрая сообразительность доказывает достаточно убедительно, что, если сердце этого человека и поглощено любовью, голова его все же по-прежнему была головой биржевика.
– Ви, сутарь мой, дольжен идти, – сказал барон секретарю, – к Гонданзон, шпион Люшара, торгови пристав. Надо брать экипаж, одшень бистро. И надо привозить его неметленно. Я ожидаю!.. Обратно вам надо пройти садовой калитка, вот клютш, потому никто не дольжен видеть этот персон здесь. Провожайт гость в малый садовый пафильон. Старайтесть делать мой порушень з умом.
К Нусингену приходили деловые люди, но он ожидал Контансона, он мечтал об Эстер, он воображал, что скоро увидит женщину, нечаянно пробудившую в нем чувства, на которые он уже не считал себя способным. И он всех выпроваживал, бормоча нечто невнятное и отделываясь двусмысленными обещаниями. Контансон представлялся ему самым важным существом в Париже, и он поминутно выглядывал в сад. Наконец, распорядившись никого не принимать, он приказал накрыть для себя завтрак в беседке, в одном из укромных уголков сада. Необъяснимое поведение и рассеянность, проявленные самым прожженным, самым хитрым парижским банкиром, вызывали в его конторах удивление.
– Что случилось с патроном? – говорил какой-то биржевой маклер старшему конторщику.
– Никто не понимает, что с ним. Начинают тревожиться, не болен ли он? Баронесса вчера приглашала на консилиум врачей: Деплона и Бьяншона…
Однажды иностранцы пожелали видеть Ньютона, но он в тот момент был занят лечением одной из своих собак по кличке Beauty, которая (Beauty была сука), как известно, погубила огромный труд Ньютона, причем он лишь сказал: «Ах Beauty, если бы ты знала, что ты натворила…» Иностранцы, уважая занятость великого человека, удалились. В жизни всех величайших людей находишь какую-нибудь свою Beauty. Когда маршал Ришелье явился к Людовику XV поздравить его по случаю крупнейшего военного события восемнадцатого века – взятия Магона, – король ему сказал: Вы слышали важную новость?.. Умер бедняго Лансмат!..» Лансмат был привратник, посвященный в похождения короля. Никогда парижские банкиры не узнают, чем они обязаны Контансону. Этот шпион был причиной того, что Нусинген позволил провести одно крупное дело без своего прямого участия, предоставив им всю прибыль. Как крупный хищник, он мог биржевой артиллерией обстрелять любое состояние, но, как человек, он сам зависел от счастья!
Знаменитый банкир пил чай, лениво ел хлеб с маслом, обнаруживая тем самым, что зубы его давно уже не оттачиваются аппетитом, как вдруг послышался стук экипажа, остановившегося у садовой калитки. Спустя некоторое время секретарь Нусингена предстал перед ним вместе с Контансоном, которого после долгих розысков нашел в кафе Сент-Пелажи, где агент завтракал на чаевые, полученные им от должника, заключенного в тюрьму с известными, особо оплачиваемыми послаблениями. Контансон, следует сказать, представлял собою настоящую поэму, парижскую поэму. По его виду вы тотчас догадались бы, что Фигаро Бомарше, Маскариль Мольера, Фронтены Мариво и Лафлеры Данкура, эти великие образы дерзновения в плутовстве, изворотливости в отчаянном положении, хитрости, не складывающей свое оружия при любых неудачах, – все они бледнеют рядом с титаном ума и убожества. Если доведется вам в Париже встретить воплощение типического в живом существе, то это будет уже не человек, а явление! В нем будет запечатлен не отдельный момент жизни, но все его существование в целом, более того – множество существований! Обожгите трижды гипсовый бюст в печи, и вы получите некое подобие флорентийской бронзы. Так вот, неисчислимые удары судьбы, годы жесточайшей нужды, подобно троекратному обжиганию в печи, придали вид бронзы голове Контансона, опалив его лицо. Неизгладимые морщины представляли собою какие-то вековечные борозды, белесые в глубине. Это желтое лицо само было сплошной морщиной. Если бы не пучок волос на затылке, его голый безжизненный череп, напоминавший голову Вольтера, казался бы черепом скелета. Под окостенелым лбом щурились, ничего не выражая, китайские глаза, точно у кукол, выставленных в витринах чайных лавок, – застывшие в вечной улыбке искусственные глаза, притворявшиеся живыми. Нос, провалившийся, как у курносой смерти, бросал вызов Судьбе, а рот с поджатыми, точно у скряги, губами был вечно раскрыт и все же хранил тайны, подобно отверстию почтового ящика. Маленький, сухой и тощий человечек с загорелыми руками, Контансон, невозмутимый, как дикарь, вел себя по-диогеновски; он был настолько беззаботен, что никогда и ни перед кем не заискивал. А какие комментарии к его жизни и нравам были начертаны на его одежде для тех, кто умеет читать эти письмена!.. Чего стоили одни его панталоны!.. Панталоны понятого, черные и блестящие, точно сшитые из так называемого крепа, который идет на адвокатские мантии!.. Жилет, хоть и купленный в Тампле, но с отворотами шалью и расшитый!.. Черный с красноватым отливом фрак!.. Все это тщательно вычищено, имеет почти опрятный вид, украшено часами на цепочке из поддельного золота. Контансон щеголял сорочкой из желтого перкаля, на которой сверкала фальшивым алмазом булавка! Бархатный воротник, напоминавший железный ошейник, подпирал складки багровой, как у караибов, кожи. Цилиндр блестел точно атлас, но в тулье достало бы сала на две плошки, если бы какой-нибудь бакалейщик купил ее для того, чтобы перетопить. Мало перечислить все принадлежности его туалета, надобно изобразить, сколько в них чувствовалось притязаний на франтовство! В воротнике фрака, в свежем глянце башмаков с полуоторванными подметками было нечто столь щегольское, чему во французском языке, несмотря на его гибкость, немыслимо найти определение. Короче, окинув беглым взглядом всю эту смесь различных стилей, умный человек понял бы по внешности Контансона, что будь он вором, а не сыщиком, его отрепья вызывали бы вместо улыбки дрожь ужаса. Судя по одежде, наблюдатель сказал бы: «Это скверный человек, он пьет, он играет, он подвержен порокам; но все же это не пьяница, не плут, не вор, не убийца». И верно, Контансон казался загадочным, покамест на ум не приходило слово: «шпион». Этот человек занимался всеми неведомыми ремеслами, какие только ведомы. Тонкая улыбка его бледного рта, подмигивающие зеленоватые глаза и подергивающийся курносый нос говорили о том, что он не лишен ума. Лицо его было словно из жести, и душа, видимо, был подобна лицу. Недаром его мимику скорее можно было счесть за гримасы вынужденной учтивости, нежели за отражение чувств. Не будь он столь смешон, он наводил бы ужас. Контансон, любопытнейшая разновидность накипи, всплывающей на поверхность бурлящего парижского котла, где все в состоянии брожения, притязал быть философом. Он говорил без горечи: «У меня большие таланты, но пользуются ими даром, точно я идиот!» И он обвинял в этом одного себя, не осуждая другие. Много ли найдется шпионов незлобивее Контансона? «Обстоятельства против нас, – твердил он своим начальникам, – мы могли быть хрусталем, а остались простыми песчинками, вот и все!» Цинизм его в отношении одежды таил глубокий смысл: он заботился о своем парадном костюме не больше, чем актер; он в совершенстве владел искусством переодеваний, гримировки; он мог бы преподавать уроки Фредерику Леметру, ибо, когда это было нужно, умел преобразиться в денди. В дни юности, он, видимо, принадлежал к кругу распущенной молодежи, завсегдатаев притонов разврата. Он выказывал глубокую неприязнь к уголовной полиции, ибо во времена Империи служил в полиции Фуше, которого почитал великим человеком. После упраздения министерства полиции он решил, на худой конец, принять должность судебного исполнителя по торговым делам; но его прославленные способности, его проницательность превращали его в драгоценное орудие, и начальники тайной политической полиции удержали имя Контансона в своих списках. Контансон, как и его соратники, был только статистом в той драме, первые роли в которой принадлежали начальникам, когда дело касалось политической работы.
– Пошель прочь! – сказал Нусинген, движением руки отпуская секретаря.
«Почему этот человек живет в особняке, а я в меблированных комнатах? – сказал про себя Контансон. – Он трижды разорял своих должников, он крал, а я ни разу не взял и медяка… Я более даровит, чем он».
– Гонданзон, голюпчик, – сказал барон, – почему ты виудиль у меня тисяча франк?
– Любовница моя по уши в долгу…
– Ти имей люпофниц? – вскричал Нусинген, с восхищением и завистью глядя на Контансона.
– Мне всего шестьдесят шесть лет, – отвечал Контансон, который являл собою роковой пример вечной молодости, даруемой человеку Пороком.
– Что он делайт?
– Помогает мне, – отвечал Контансон. – Ежели вора любит честная женщина, тогда либо она становится воровкой, либо он – честным человеком. А я как был, так и остался сыщиком.
– Ты фешно нуштайся в теньгах? – спросил Нусинген.
– Вечно, – улыбаясь, отвечал Контансон. – Мое ремесло – желать денег, ваше – наживать их; мы можем договориться: вы их накопите для меня, я берусь их промотать. Будет колодец, ведро отыщется…
– Желаль би ти полючить билет в пьятсот франк?
– Что за вопрос? Но не такой я глупец!.. Вы ведь предлагаете мне эти деньги не затем, чтобы исправить несправедливость судьбы?
– Конечно, нет. Ты виудиль мой тисяча франк. Даю тебе пьятсот франк. Будет тисяча пьятсот франк, котори тебе даю.
– Превосходно! Вы мне даете ту тысячу франков, что я у вас взял, и к ней прибавляете еще пятьсот франков…
– Ферно, – сказал Нусинген, кивнув головой.
– Все же это будет всего пятьсот франков, – сказал Контансон невозмутимо.
– Котори я дам?
– Которые я получу. Пусть так. Но в обмен на какую ценность дает господин барон этот билет?
– В Париш, я узналь, есть челофек, способный нахотить женшин, мой люпоф; и ти знай адрес челофека… Атин слов, мастер шпионаш…
– Правильно…
– Дай адрес и полючай пьятсот франк.
– А где они? – с живостью спросил Контансон.
– Вот он, – сказал барон, вынимая из кармана билет.
– За чем же дело стало? Давайте, – сказал Контансон, протягивая руку.
– Даю, даю! Шелаю видеть этот челофек. Потом уше полючай теньги, потому мошно продавать много адрес такой цена.
Контансон рассмеялся.
– Собственно говоря, вы вправе дурно обо мне думать, – сказал он, притворившись, что бранит самого себя. – Чем пакостнее наше положение, тем больше оно обязывает к безукоризненной честности. Послушайте-ка, господин барон, выложите шестьсот франков, и я дам вам добрый совет…
– Дай и доферяй моя щедрость.
– Я рискую, – сказал Контансон, – но я веду крупную игру. Служа в полиции, видите ли, надо работать тишком. Вы мне скажете: «Идем, едем!..» Вы богаты, и вам кажется, что все подчиняется деньгам. Конечно, деньги кое-что значат. Но, как говорят два или три умных человека из нашей братии, деньгами можно купить только людей. А есть такое, о чем никто не думает и что купить нельзя!.. Случая не купишь… Поэтому у опытных полицейских так не водится. Захотите вы, например, показаться рядом со мной в карете. А нас кто-нибудь встретит. Случай ведь может быть и за нас и против нас.
– Ферно? – спросил барон.
– А как же, сударь! Подкова, найденная на мостовой, навела префекта полиции на след адской машины. Послушайте-ка, ну вот подкатим мы нынешней ночью в фиакре к господину Сен-Жермену, а ему будет так же неприятно увидеть нас у себя в доме, как было бы неприятно вам, если бы вас увидели входящим в его дом.
– Ферно! – сказал барон.
– О! Он лучший из лучших помощников знаменитого Корантена, правой руки Фуше и, как говорят, его побочного сына, которого Фуше будто бы произвел на свет еще будучи священником. Но, разумеется, все это глупости: Фуше умел носить звание священника, как позже звание министра. Так вот! Этого человека, видите ли, вы не заставите работать меньше чем за десять билетов по тысяче франков каждый. Подумайте хорошенько… Но дело будет сделано, и хорошо сделано. Без сучка и задоринки, как говорится. Я предупрежу господина Сен-Жермена, и он назначит вам свидание в каком-нибудь укромном месте, где вас никто не увидит и не услышит, потому что для него опасно заниматься полицейской работой ради частных интересов. Что же вы хотите?.. Он человек отважный, король-человек! Человек, который претерпел большие гонения, и все из-за того, что спас Францию! Так же точно, как я, как все, кто спас Францию!
– Карашо, назначай час люпофни сфитань, – сказал барон, довольный своей неумной шуткой.
– Господин барон, так и не пожелает меня поощрить? – сказал Контансон покорно и вместе с тем угрожающе.
– Шан! – крикнул барон садовнику. – Ступай просить у Шорш тфацать франк и приноси их мне.
– Ежели господин барон не имеет иных сведений, кроме тех, что он мне дал, сомневаюсь, может ли даже такой мастер, как господин Сен-Жермен, быть ему полезен.
– У меня есть тругие! – отвечал барон с хитрым видом.
– Имею честь откланяться, господин барон, – сказал Контансон, получив двадцать франков. – Буду иметь честь доложить Жоржу, где надлежит быть вечером господину барону: хороший агент никогда не посылает записок.
«Удивительно, как эти молодцы догадливы, – сказал про себя барон. – В полиции совсем как в делах!»
Расставшись с бароном, Контансон с улицы Сен-Лазар не спеша отправился на улицу Сент-Оноре, в кафе «Давид»; заглянул в окно кафе, он увидел старика, известного под именем папаши Канкоэля.
Кафе «Давид», находившееся на углу улицы Монэ и Сент-Оноре, пользовалось в тридцатые годы нашего столетия своего рода известностью, которая, впрочем, ограничивалось пределами квартала, называемого Бурдоне. Тут собирались престарелые, ушедшие на покой негоцианты или крупные купцы, еще ворочающие делами: Камюзо, Леба, Пильеро, Попино и кое-кто из домовладельцев, вроде дядюшки Молино. Тут можно было порою встретить престарелого Гильома, приходившего сюда с улицы Коломбье. Тут толковали о политике, но осторожно, в тесном кругу, потому что клиенты кафе «Давид» придерживались либерального направления. Тут обсуждались местные сплетни – так велика у людей потребность высмеивать своего ближнего! В этом кафе, как и в прочих кафе, была своя достопримечательность в лице папаши Канкоэля, завсегдатая кафе с 1811 года и столь явного единомышленника собиравшихся тут честных обывателей, что в его присутствии велись самые откровенные беседы на политические темы. Время от времени этот добродушный старик, простоватость которого служила для посетителей кафе предметом постоянных шуток, вдруг исчезал на месяц, на два; но отсутствие старика никого не удивляло, его приписывали возрасту, ибо еще в 1811 году Канкоэлю было лет за шестьдесят.
– Что случилось с папашей Канкоэлем? – спрашивали, бывало, буфетчицу.
– Я думаю, что в один прекрасный день мы узнаем о его смерти из Птит афиш, – отвечала она.
Папаша Канкоэль своим произношением неуклонно удостоверял, откуда он родом: говорил эстукан вместо истукан, эсобенный вместо особенный, турк вместо турок. Он был из небогатых дворян, владельцев небольшого имения «Канкоэли», что на языке некоторых провинций означает «майский жук», находившегося в департаменте Воклюз, откуда он и приехал. В конце концов его стали называть попросту Канкоэль вместо де Канкоэль, и добряк не обижался, ибо считал, что с дворянством покончено в 1793 году; впрочем, он был младшим отпрыском младшей ветви, и ленное владение принадлежало не ему. В наши дни одеяние папаши Канкоэля показалось бы странным, но в 1811-1820 годах оно никого не удивляло. Старик носил башмаки со стальными гранеными пряжками, шелковые чулки в синюю и белую полоску, короткие панталоны из плотного шелка с овальными пряжками, похожими по форме на пряжки башмаков. Белый расшитый жилет, потертый фрак из зеленовато-коричневого сукна с металлическими пуговицами и сорочка с плиссированной, заглаженной манишкой завершала его наряд. Между складок манишки поблескивал золотой медальон, сквозь стеклышко которого виднелся сплетенный из волос крошечный храм – одна из очаровательных, милых сердцу мелочей, действующих на людей успокоительно по той же причине, по которой огородное чучело наводит ужас на воробьев; большинство людей, подобно животным, пугается и успокаивается из-за пустяков. Панталоны папаши Канкоэля поддерживались поясом, который, согласно моде прошлого века, стягивался пряжкой под грудью. Из-за пояса свисали составленные из нескольких мелких цепочек две стальные цепочки, на конце которых болтался целый пучок брелоков. Белый галстук был застегнут сзади маленькой золотой пряжкой. Наконец, на белоснежных, напудренных волосах еще в 1816 году красовалась муниципальная треуголка, точно такая, как у г-на Три, председателя суда. Этот столь дорогой ему убор папаша Канкоэль заменил недавно (добряк счел себя обязанным принести эту жертву своему времени) отвратительной круглой шляпой, против которого не могло быть никаких возражений. Маленькая косичка, перевязанная лентой, начертала на спине полукруг, присыпав этот жирный след легким слоем пудры. Задержав взгляд на самой приметной черте его лица – багровом и бугристом носе, поистине достойном возлежать на блюде с трюфелями, – вы предположили бы, что у почтенного старца, совершенного простака с виду, покладистый, добродушный характер, и вы были бы одурачены, как и все в кафе «Давид», где никому и на ум не пришло бы исследовать лоб, говорящий о наблюдательности, язвительный рот и холодные глаза этого старика, вскормленного пороками, невозмутимого, как Вителлий, и обладавшего таким же, как у него, словно чудом возродившимся, внушительным чревом. В 1816 году молодой коммивояжер, по имени Годиссар, завсегдатай кафе «Давид», однажды к полуночи напился допьяна в обществе отставного наполеоновского офицера. Он имел неосторожность рассказать ему о тайном заговоре против Бурбонов, довольно опасном и уже близком к цели. В кафе не было никого, кроме папаши Канкоэля, дремавшего за своим столиком, двух сонных лакеев и буфетчицы. На другой день Годиссара арестовали: заговор был раскрыт. Двое погибли на эшафоте. Ни Годиссар, никто иной не заподозрили папашу Канкоэля в доносе. Слуг уволили, посетители в продолжение года следили друг за другом, и все трепетали перед полицией в полном единодушии с папашей Канкоэлем, который поговаривал о бегстве из кафе «Давид», так был велик был его страх перед полицией.
Контансон вошел в кафе, спросил рюмочку водки, не взглянув даже на папашу Канкоэля, поглощенного чтением газет; залпом осушил рюмку, он вынул золотой, полученный от барона, и позвал слугу, три раза коротко постучав по столу. Буфетчица и слуга изучали монету с вниманием, весьма оскорбительным для Контансона; но их подозрительность была оправдана его внешностью, озадачившей всех завсегдатаев кафе. «Кражей или убийством добыто это золото?» – промелькнуло в уме некоторых неглупых и проницательных людей, с виду всецело занятых чтением газеты, но наблюдавших поверх очков за новым посетителем. Контансон, который все видел и ничему не удивлялся, обтер губы платком, заштопанным всего лишь в трех местах, получил сдачу и, не оставив слуге ни сантима, положил все монеты в жилетный карман, подкладка которого, некогда белая, теперь была черной, как сукно на его панталонах.
– Настоящий висельник! – сказал папаша Канкоэль господину Пильеро, своему соседу.
– Полноте! – ответил громко, на все кафе, господин Камюзо, единственный, кто не выказал ни малейшего удивления. – Ведь это Контансон, правая рука Лушара, нашего торгового пристава. Эти шельмы, должно быть, нащупали кого-нибудь в квартале…
Минут через пятнадцать старик Канкоэль поднялся, взял зонтик и не спеша вышел.
Не следует ли объяснить, какой ужасный и темный человек скрывался под одеянием папаши Канкоэля, подобно тому как под сутаной Карлоса таился Вотрен? Этот южанин, родившийся в Канкоэлях, единственном владении его семьи, кстати, довольно почтенной, носил имя Перад. Он действительно принадлежал к младшей ветви рода Ла Перад, старинной, но бедной семьи, владеющей еще и поныне маленьким участком земли Перадов. В 1772 году седьмой ребенок в семье, он, в возрасте 17 лет, пришел пешком в Париж с двумя монетами по шести ливров в кармане, побуждаемый пороками своего необузданного характера и горячим желанием сделать карьеру, которое стольких южан бросает в столицу, едва им становится ясно, что отчий дом никогда не обеспечит их состоянием, достаточным для удовлетворения их страстей. Вся юность Перада станет понятной, если сказать, что в 1782 году он был доверенным лицом, персоной в главном управлении полиции, где его высоко ценили гг. Ленуар и Альбер, два последних ее начальника. Революция упразднила полицию, она в ней не нуждалась. Шпионаж, в те времена почти поголовный, именовался гражданской доблестью. Директория – правительство несколько более упорядоченное, нежели Комитет общественного спасения – была вынуждена восстановить полицию, и первый консул завершил ее созидание, учредив префектуру и министерство полиции. Перад, человек с традициями, подобрал личный состав совместно с неким Корантеном, человеком более молодым, но, кстати сказать, гораздо более искусным, нежели сам Перад, снискавший, впрочем, славу гения лишь в недрах полиции. В 1808 году огромные услуги, оказанные Перадом, были вознаграждены назначением его на высокий пост главного комиссара полиции в Антверпене. По мысли Наполеона, эта своего рода полицейская префектура соответствовала министерству полиции, и ее миссией было наблюдать за Голландией. По возвращении из похода, в 1809 году, приказом императорского кабинета Перад под конвоем двух жандармов был доставлен на почтовых из Антверпена в Париж и брошен в тюрьму Форс. Два месяца спустя он вышел из тюрьмы под поручительство своего друга Корантена, подвергшись предварительно у префекта полиции троекратному допросу, по шести часов каждый. Не была ли опала Перада вызвана тем, что он с поразительной энергией помогал Фуше в обороне берегов Франции, когда она подверглась нападению, вошедшему в историю под именем Вальхернской экспедиции, и герцог Отрантский обнаружил способности, испугавшие императора? Во времена Фуше это было лишь предположением; но теперь, когда всем уже известно, что именно произошло тогда в совете министров, созванном Камбасересом, оно превратилось в уверенность. Сраженные известием о попытке Англии отомстить Наполеону за Булонский поход и застигнутые этим событием врасплох, министры не знали, на что им решиться в отсутствие своего повелителя, который засел тогда на острове Лобау и, отрезанный от Франции, был обречен на гибель, как думала вся Европа. По общему мнению, необходимо было послать к императору курьера, но один лишь Фуше дерзнул предложить план военных действий, кстати, приведенный им в исполнение. «Делайте, что хотите, – сказал ему Камбасерес, – но мне дорога моя голова, поэтому я посылаю донесение императору». Известно, какой нелепый повод был выдвинут императором по его возвращении в Государственном совете, чтобы лишить милости министра и наказать его за спасение Франции в его отсутствие. С того дня император к неприязни князя Талейрана добавил неприязнь к себе герцога Отрантского – двух видных политических деятелей, порожденных Революцией, которые, возможно, спасли бы Наполеона в 1813 году. Чтобы отстранить Перада, было выдвинуто пошлое обвинение во взяточничестве: он якобы поощрял контрабанду, участвуя в дележе прибыли с крупными коммерсантами. Подобное обвинение тяжело отозвалось на человеке, который за важные услуги был пожалован командным жезлом главного комиссара антверпенской полиции. Этот искушенный в своем деле человек владел тайнами всех правительств начиная с 1775 года, первых дней его службы в главном управлении полиции. Император, считавший себя достаточно сильным, чтобы не бояться возвышать полезных людей, однако ж не принял во внимание ходатайство, с которым к нему позже обратились по поводу этого человека, заслужившего репутацию самого верного, самого ловкого и самого хитрого из тех неведомых гениев, на которых возложены заботы о безопасности государства. Он думал, что возможно заменить Перада Контансоном, но Контансон в то время бы всецело поглощен выгодными для себя поручениями Корантена. Распутник и чревоугодник, Перад был тем более жестоко уязвлен, что в отношении женщин он попал в положение пирожника-сластены. Порочные привычки стали его второй натурой: он уже не мог обойтись без хорошего обеда, без азартной игры, – короче, он не мог не жить этой лишенной показного блеска жизнью вельможи, которую ведут все люди, облеченные властью и превратившие в потребность чудовищные свои излишества. Он всегда жил расточительно, ел, как хотел, прямо с блюда, и не стремился блистать в обществе, так как ни с ним, ни с его другом Корантеном совсем не считались. Циник и острослов, он, помимо того, любил свое ремесло: это был философ. Впрочем, шпион, какое бы положение в полицейском механизме он ни занимал, подобно каторжнику, не может вернуться к профессии честной и достойной. Однажды отмеченные, однажды занесенные в особые списки, шпионы и осужденные законом приобретают, как и лица духовного звания, некие неизгладимые черты. Есть люди, на которых лежит печать их роковой судьбы, – ее на них накладывает общественное положение. На свое несчастье, Перад страстно любил очаровательную девочку – он считал ее своей дочерью от одной известной актрисы, которой он оказал услугу, за что целых три месяца она дарила его своей признательностью. И вот Перад, выписавший ребенка из Антверпена, очутился в Париже без всяких средств, получая лишь ежегодное пособие в тысячу двести франков, назначенное полицейской префектуре старому ученику Ленуара. Он поселился на улице Муано, в пятом этаже, в маленькой квартире из пяти комнат, обходившейся в двести пятьдесят франков.
Если человеку суждено когда-нибудь ощутить пользу и сладость дружбы, то кому, как не прокаженному духом, кого общество называет шпионом, народ – шпиком, администрация – агентом? Итак, Перад и Корантен были друзьями, подобно Оресту и Пиладу. Перад создал Корантена, как Вьен создал Давида, но ученик быстро превзошел своего учителя. Они провели сообща не одно дело. (См. Темное дело.) Перад, гордый тем, что открыл таланты Корантена, вывел его в люди, уготовив ему торжество. Он приневолил своего ученика обзавестись, в качестве удочки для уловления мужчин, любовницей, которая презирала его. (См. Шуаны.) А Корантену было тогда всего двадцать пять лет! Корантен, один из тех генералов, чьим главнокомандующим являлся министр полиции, сохранил при герцоге де Ровиго высокий пост, который занимал при герцоге Отрантском. Главное управление полиции действовало тогда так же, как и полиция уголовная. В каждом более или менее крупном деле давали, так сказать, подряд трем, четырем и даже пяти способным агентам. Министр, осведомленный о каком-либо заговоре, кем-то и как-то предупрежденный о готовящемся злодеянии, неизменно говорил одному из начальствующих лиц полиции: «Сколько вам нужно, чтобы добиться такого-то результата?» Корантен или Контансон, по зрелом размышлении, отвечали: «Двадцать, тридцать, сорок тысяч франков». Затем, как только отдавался приказ действовать, все средства и нужные люди предоставляли на выбор и усмотрение Корантена или другого назначенного агента. Уголовная полиция действовала таким же образом, когда в раскрытии преступлений принимал знаменитый Видок.
Полиция политическая, как и полиция уголовная, вербовала людей главным образом среди агентов, внесенных в списки, постоянных, проверенных сотрудников, своего рода солдат этой тайной армии, столь необходимой правительствам, вопреки пышным фразам филантропов или моралистов невысокой морали. Но два или три генерала от полиции того же покроя, что Перад и Корантен, облеченных чрезвычайным доверием, пользовались правом привлекать к делу лиц, неизвестных полиции, однако ж с обязательством отдавать отчет министру отчет в важных случаях. Итак, опытность и проницательность Перада были чрезвычайно ценны для Корантена, и он, после шквала 1810 года, приблизил к себе старого друга, постоянно с ним советовался и охотно шел навстречу его нуждам. Корантен изыскал способ выхлопотать Пераду пособие в размере тысячи франков в месяц. Со своей стороны Перад оказал неоценимые услуги Корантену. В 1816 году Корантен в связи с раскрытием заговора, в котором был замешан бонапартист Годиссар, попытался восстановить Перада в должности чиновника главной полиции королевства, но кандидатура Перада была отклонена неким влиятельным лицом. И вот почему. Стремясь упрочить свое положение, Перад, Корантен и Контансон, подстрекаемые герцогом Отрантским, организовали контрполицию для Людовика XVIII, в которой стали служить Контансон и другие виднейшие агенты. Людовик XVIII умер, а с ним и тайны, оставшиеся не раскрытыми для историков, даже наиболее осведомленных. Борьба главной полиции королевства и контрполиции короля породили страшные деяния, тайну которых хранят несколько эшафотов. Здесь не место углубляться в подробности этих событий, да и нет для этого повода, ибо Сцены парижской жизни, не то, что Сцены политической жизни; достаточно указать, каковы были средства существования человека, которого в кафе «Давид» называли «папашей Канкоэлем», и те нити, которыми он был связан с ужасной и темной властью полиции. С 1817 по 1822 год Корантену, Контансону, Пераду и их агентам часто вменялось в обязанность следить за самим министром. Этим можно объяснить, почему министерство отказалось от услуг Перада и Контансона, на которых Корантен, без их ведома, направил подозрение министров, желая привлечь к работе своего друга, когда ему показалось, что восстановить его в должности невозможно. Тогда министры возымели доверие к Корантену и поручили ему следить за Перадом, вызвав тем улыбку Людовика XVIII. Таким путем Корантен и Перад оказались господами положения. Контансон, с давних пор связанный с Перадом, по-прежнему служил ему. Он предоставлял себя в распоряжение торговых приставов по приказанию Корантена и Перада. В самом деле, оба эти генерала от полиции, побуждаемые тем особым рвением, что внушается ремеслом, которому отдаешься с любовью, предпочитали расставлять на все те места, где можно было почерпнуть богатые сведения, самых искусных солдат. Притом пороки Контансона, его извращенные наклонности, послужившие причиной более низкого служебного положения, чем у двух его друзей, требовали столько денег, что он вынужден был браться за любую работу. Контансон, не нарушая служебной тайны, сказал Лушару, что ему известен лишь один человек, способный угодить банкиру Нусингену. Перад и в самом деле был единственным агентом, который мог невозбранно заниматься сыском в пользу частного лица. Со смертью Людовика XVIII Перад лишился не только всего своего влияния, но и особых преимуществ личного шпиона его величества. Считая себя человеком незаменимым, он по-прежнему вел широкий образ жизни. Женщины, хороший стол, а также Иностранный клуб уничтожали всякую возможность экономии у этого человека, обладавшего, как все порочные, люди железным организмом. Но с 1826 года по 1829 год, в возрасте чуть ли не семидесяти четырех лет, он, по его выражению, уже шел на тормозах. Перад видел, как год от году уменьшается его благополучие. Он присутствовал при похоронах полиции, он с грустью наблюдал, как правительство Карла Х отрекалось от ее старых порядков. Палата депутатов от сессии к сессии урезывала ассигнования, потребные для существования полиции, из ненависти к подобному методу управления и ради желания улучшить нравы этого ведомства. «Похоже на то, что они хотят готовить обед в белых перчатках», – сказал Перад Корантену. В 1822 году Корантен и Перад уже предугадывали события 1830 года. Они знали о тайной ненависти Людовика XVIII к своему преемнику; в этой ненависти, объяснявшей снисходительность короля к младшей ветви, и крылась загадка его царствования.
С годами любовь Перада к побочной дочери возрастала. Ради нее он преобразился в буржуа, ибо желал выдать Лидию за порядочного человека. Недаром он мечтал, особенно в последние три года, получить видное и почетное место в префектуре полиции либо в Управлении главной королевской полиции. Наконец он придумал должность, насущная необходимость в которой, говорил он Корантену, рано или поздно созреет. Он предлагал учредить при префектуре полиции так называемое справочное бюро, как посредствующую инстанцию между собственно парижской полицией, полицией уголовной и полицией королевства, и тем самым предоставить Главному управлению полиции возможность пользоваться всеми этими распыленными силами. Только один Перад в его возрасте, после пятидесяти пяти лет секретной службы, мог быть звеном, связующим три полиции, мог, наконец, стать тем архивариусом, к которому в известных случаях обращались бы за сведениями и Политика и Правосудие. Таким путем Перад надеялся с помощью Корантена при первом удобном случае поймать и мужа и приданое для своей Лидии. Корантен уже говорил по этому поводу с начальником королевской полиции, не упоминая имени Перада, и начальник, южанин, счел нужным внести его предложение на рассмотрение префектуры.
В ту минуту, когда Контансон ударил трижды золотой монетой о стол, что означало: «Мне надо с вами потолковать», патриарх полицейских агентов обдумывал следующую задачу: «При помощи какого человека и чем именно можно заинтересовать нынешнего префекта полиции и заставить его действовать?» А со стороны могло показаться, что он с идиотским видом изучает Курье франсэ.
«Наш бедный Фуше, этот великий человек, умер! – мысленно говорил он, идя вдоль улицы Сент-Оноре. – Бывшие посредники между Людовиком XVIII и нами в опале! К тому же, как вчера сказал Корантен, никто не доверяет ни ловкости, ни уму семидесятилетнего старца… Ах! Зачем я пристрастился к обедам у Вери, к тонким винам… к песенкам вроде «Мамаша Годишон»… к игре, как только я при деньгах! Чтобы завоевать положение, мало одного ума, как говорит Корантен, надобно еще держать себя с умом! Наш дорогой господин Ленуар как будто напророчил мне, когда, выслушав историю с ожерельем и узнав, что я не остался под кроватью девицы Олива, сказал: «Вы никогда ничего не добьетесь!»
Если почтенный папаша Канкоэль (в доме так и звали его: «папаша Канкоэль») обосновался на улице Муано, в пятом этаже, поверьте, что он обнаружил в устройстве и расположении квартиры немало особенностей, которые благоприятствовали его ужасному занятию. Дом стоял на углу улицы Нев-Сен-Рох, и с одной стороны соседей у него не было. Помимо того, что его надвое разделяла лестница таким образом, что в каждом этаже оказались две совершенно уединенные комнаты. Эти две комнаты были расположены в той половине дома, которая выходила на улицу Нев-Сен-Рох. Над пятым этажом помещались мансарды, одна из них служила кухней, а другую занимала единственная служанка папаши Канкоэля, по имени Катт, – фламандка, выкормившая Лидию. Папаша Канкоэль устроил спальню в первой из двух смежных комнат, а во второй кабинет. Задняя, капитальная стена отделяла его от соседнего дома. Из окна, выходившего на улицу Муано, видна была только глухая угловая стена противоположного дома. И так как между кабинетом и лестницей находилась еще спальня Перада, друзья могли, не опасаясь посторонних глаз и ушей, спокойно беседовать в этом кабинете, точно созданном для их страшного ремесла. Из предосторожности Перад устроил в комнате фламандки настил из соломы и, покрыв его толстым сукном, положил сверху чрезвычайно толстый ковер, якобы желая угодить кормилице своего ребенка. Более того, он упразднил в квартире камин и топил печь, труба которой выходила сквозь наружную стену на улицу Сен-Рох. Затем он покрыл коврами паркет в своих комнатах, чтобы жильцы нижнего этажа не могли уловить ни малейшего звука. Знаток в искусстве шпионажа, он раз в неделю обследовал смежную стену, потолок и пол, делая вид, что он ведет борьбу с докучными насекомыми. Будучи уверен, что тут он огражден от соглядатаев и слушателей, Перад предоставлял этот кабинет Корантену в качестве залы совещаний в тех случаях, когда тот не проводил их у себя. Квартира Корантена была известна лишь начальнику королевской полиции и Пераду, и только в особо важных случаях он принимал у себя лиц, представляющих министерство или двор; но ни один агент, ни один подчиненный там не появлялся: дела, связанные с их ремеслом, обсуждались у Перада. В этой неприглядной комнате в полной безопасности составлялись планы действий, принимались решения, которые послужили бы материалом для своеобразных летописей и занимательных драм, если бы стены могли говорить. Тут, с 1816 по 1826 год, обсуждались дела огромной важности. Отсюда тянулись нити тех роковых потрясений, которым суждено было обрушиться на Францию. Тут в 1819 году Перад и Корантен, столь же предусмотрительные, как Беляр, генеральный прокурор, но более осведомленные, говорили между собой: «Если Людовик XVIII не решается нанести такой-то или такой-то удар, если он не желает отделаться от такого-то принца, стало быть, он ненавидит своего брата? Стало быть, он хочет оставить ему в наследство революцию?»
Дверь Перада была снабжена грифельной доской, на которой время от времени появлялись странные знаки и числа, написанные мелом. То был род сатанинской алгебры, смысл которой был совершенно ясен для посвященных. Напротив скромного жилья Перада находилась квартира Лидии, состоявшая из прихожей, маленькой гостиной, спальни и туалетной комнаты. Входная дверь ее, как и у Перада, представляла собою целое сооружение из двойного слоя крепких дубовых досок, между которыми был вставлен железный лист девяти миллиметров толщиной, уснащенное замками и системой крюков, отчего взломать его было бы так же трудно, как взломать двери тюрьмы. И хотя дом этот с темными сенями, с бакалейной лавкой, был из тех домов, где не водится привратника, Лидия могла чувствовать себя тут в полной безопасности. Небольшая гостиная, спальня, с подвесными ящиками для цветов в окнах, были по-фламандски опрятны и обставлены с некоторой роскошью. Кормилица-фламандка находилась безотлучно при Лидии и называла ее дочуркой. Они обе аккуратно посещали церковь, и благочестие их создало прекрасное мнение о папаше Канкоэле у бакалейщика-роялиста, державшего лавку в этом же доме на углу улицы Муано и Нев-Сен-Рох и занимавшего со всем своим семейством, прислугой, приказчиками первый и второй этажи. В третьем этаже жил владелец дома, четвертый – уже лет двадцать снимал шлифовщик драгоценных камней. У каждого из жильцов был ключ от входной двери. Бакалейщица охотно принимала письма и пакеты, адресованные трем мирным семействам, тем более что на двери бакалейной лавки висел почтовый ящик. Без этого подробного описания иностранцы, и даже те из них, которые хорошо знакомы с Парижем, не могли вообразить себе всю полноту покоя, заброшенности и безопасности, преврашавщих этот дом в одну из достопримечательностей Парижа. Папаша Канкоэль мог, начиная с полуночи, измышлять любые козни, принимать шпионов, министров, женщин, девушек, будучи уверен, что никто этого не заметит. Перад слыл превосходным человеком, который «и мухи не обидит!» – как говорила о нем фламандка кухарке бакалейщика. Он ничего не жалел для своей дочери. Лидия, пройдя школу музыки и Шмуке, настолько преуспела в ней, что могла заниматься и композицией. Она умела рисовать сепией, гуашью, акварелью. По воскресеньям Перад обедал с дочерью. В этот день старик всецело был отцом. Набожная, но отнюдь не ханжа, Лидия говела на святой неделе и каждый месяц ходила к исповеди. Однако ж она разрешала себе изредка пойти в театр. В хорошую погоду она гуляла в Тюильри. В этом были все ее развлечения, ибо она вела самую замкнутую жизнь. Лидия, обожавшая отца, совершенно не подозревала о его зловещих талантах и темных занятиях. Ни единое желание не смутило чистой жизни этого невинного существа. Стройная, красивая, как ее мать, с очаровательным голосом, тонким личиком, обрамленным прекрасными белокурыми волосами, она напоминала ангелов, скорее сотканных из воздуха, нежели облеченных плотью, с картин живописцев средневековья, изображавших Святое семейство. Синие глаза ее, казалось, изливали небесное сияние на каждого, кого она удостаивала взглядом. От ее целомудренного наряда, чуждого крайностей моды, веяло духом добропорядочности. Вообразите отцом этого ангела старого сатану, обретающего новые силы в столь божественной близости, и вы получите представление о Пераде и его дочери. Если бы кто-либо осквернил этот алмаз, отец изобрел бы для казни нечестивца одну из тех адских ловушек, какие привели не одного несчастного на эшафот во время Реставрации. Для Лидии и Катт, которую она называла няней, на расходы по хозяйству было достаточно тысячи экю.
Возвращаясь домой, на улице Муано Перад увидел Контансона; он обогнал его, вошел наверх первым и, услышав на лестнице шаги своего агента, впустил его к себе, прежде чем фламандка успела высунуть нос из дверей кухни. Колокольчик, начинавший звонить, как только открывалась решетчатая дверь в четвертом этаже, где жил шлифовщик алмазов, извещал жильцов о том, что к ним кто-то идет. Само собой разумеется, что после полуночи Перад обертывал ватой язычок колокольчика.
– Что за неотложное дело, Философ?
«Философ» было прозвище, данное Перадом Контансону и вполне заслуженное этим Эпиктетом сыщиков. За именем «Контансон» скрывалось, увы! одно из древнейших имен нормадской аристократии.
– А то, что можно заработать тысяч десять.
– О чем идет речь? Политика?
– Нет, сущий вздор! О бароне Нусингене, вы его знаете; этот старый матерый волк совсем взбесился: ему нужна женщина, которую он встретил в Венсенском лесу; надо ее найти, или он умрет от любви… Мне сказал его лакей, что вчера был созван консилиум… Я уже выманил у него тысячу франков на поиски этой принцессы.
И Контансон рассказал о встрече Нусингена и Эстер, прибавив, что барон получил какие-то новые сведения.
– Ладно, – сказал Перад, – мы отыщем его Дульцинею; скажи барону, чтобы он приехал в карете сегодня же вечером в Елисейские поля и ждал на углу авеню Габриель и Мариньи.
Перад выпроводил Контансона и постучался к дочери условленным стуком. Он вошел к ней с веселым видом: случай только что предоставил ему средство получить наконец желанную должность. Поцеловав Лидию в лоб, он опустился в отличное вольтеровское кресло и сказал ей:
– Сыграй мне что-нибудь!..
Лидия исполнила ему пьесу Бетховена для фортепиано.
– Отлично сыграно, моя козочка, – сказал он, притягивая к себе дочь. – Итак, нам двадцать один год? Пора выходить замуж, ведь нашему папаше уже за семьдесят…
– Я счастлива здесь, – отвечала она.
– Ты любишь только меня, такого безобразного, такого старого? – спросил Перад.
– Но кого же мне еще любить?
– Я обедаю с тобой, моя козочка, предупреди Катт. Я думаю, что наши дела наладятся, я получу должность, подыщу тебе достойного мужа… Какого-нибудь славного и даровитого молодого человека, которым в будущем ты могла бы гордиться…
– Мне встретился только один, кого я хотела бы назвать своим мужем…
– Тебе встретился… такой?
– Да, в Тюильри, – отвечала Лидия, – он проходил рука об руку с графиней де Серизи.
– Его имя?
– Люсьен де Рюбампре!.. Мы с Катт сидели под липами, просто так. А рядом со мной две дамы. Одна из них сказала: «Вот госпожа де Серизи и красавец Люсьен де Рюбампре». Я взглянула на проходившую пару, о которой говорили эти дамы. «Ах, милочка, – сказала другая дама, – есть же такие счастливицы!.. Такой вот все прощается, потому что она урожденная де Ронкероль и ее муж пользуется влиянием». «Но, милочка, – отвечала первая дама, – Люсьен ей дорого обходится…» Что она хотела этим сказать, папа?
– Пустая светская болтовня, – отвечал дочери с самым добродушным видом Перад. – Возможно, они намекали на какие-нибудь политические события.
– Так вот! Вы меня спросили, и я отвечаю. Если вы желаете выдать меня замуж, найдите мне мужа, который был бы похож на этого молодого человека.
– Глупенькая, – отвечал отец. – Мужская красота не всегда признак порядочности. Юношам, одаренным привлекательностью, все дается легко в начале их жизненного пути. Они пренебрегают своими дарованиями, поощрение света их развращает, и позже они дорого расплачиваются за это!.. Я хочу дать тебя в мужья такого человека, которому мещане, богачи и глупцы не оказывают ни помощи, ни покровительства…
– Кого же, отец?
– Безвестного гения… Полно же, милая детка, я могу ведь перешарить все парижские чердаки и выполнить твою программу; я найду для тебя человека, столь же прекрасного, как тот бездельник, о котором ты мне говоришь, но человека с будущим, одного из тех, кому уготованы слава и богатство… Ах! Вот о чем я не подумал! У меня должен быть целый выводок племянников, и среди них может оказаться юноша, достойный тебя!.. Я напишу или прикажу написать мне в Прованс!
Странное совпадение! Именно в этот час молодой человек, проделав долгий путь пешком из департамента Воклюз и умирая от голода и усталости, входил через Итальянские ворота в Париж, разыскивая своего дядюшку Перада. В воображении семьи, не знавшей о судьбе этого дядюшки и уверившей себя, что он вернулся миллионером из Индии, папаша Канкоэль являлся оплотом всех ее надежд. Вдохновившись этим романом, сочиненным у камелька, внучатый племянник де Канкоэля, по имени Тоедоз, препринял кругосветное путешествие в поисках сказочного дядюшки.
Насладившись радостями отцовства, которым он отдал несколько часов, Перад, вымыв и выкрасив волосы (пудра была лишь маскировкой), облачившись в добротный синего сукна сюртук, застегнутый до самого подбородка, накинув черный плащ, в высоких сапогах на толстых подошвах, медленно прохаживался, снабженный личным удостоверением полиции, по авеню Габриель, против садов Елисейского дворца Бурбонов, где его и остановил Контансон, переодетый старой торговкой овощами.
– Господин де Сен-Жермен, – сказал ему Контансон, называя своего начальника его боевой кличкой, – вы дали мне возможность заработать пятьсот финажек (франков); но если я вас поджидаю здесь, так только для того, чтобы сказать вам следующее: проклятый барон, прежде чем дать их мне, ездил за справками в заведение (в префектуру).
– Вероятно, ты мне понадобишься, – отвечал Перад. – Повидайся с номерами седьмым, десятым и двадцать первым, мы пустим их в дело так, что ни полиция, ни префектура этого не заметят.
Контансон подошел к ним к карете, в которой господин Нусинген ожидал Перада.
– Я Сен-Жермен, – сказал южанин барону, подтянувшись до дверцы кареты.
– Ну, так садись в карет! – отвечал барон, приказав кучеру ехать к Триумфальной арке на площади Этуаль.
– Вы ездили в префектуру, господин барон? Очень непохвально. Дозвольте узнать, что вы сказали господину префекту и что он вам ответил? – спросил Перад.
– Я хотель дать пьятсот франк такой мошенник, как Гонданзон, и потому желаль знать, какой он имей цена. Я говориль префект полицай, что желаль бы пользоваться агент по фамиль Перат, в атин деликатни порушень, и желаль би иметь безгранишни доферий… Префект говориль, что ти есть сами ловки агент и сами честни… Вот и все.
– Теперь, когда господину барону открыли мое настоящее имя, он, возможно, соблаговолит посвятить меня в суть дела?
Барон, пространно и многословно, с ужасным произношением польского еврея, поведал о своей встрече с Эстер, воспроизвел крик гайдука на запятках кареты и рассказал о тщетных попытках найти незнакомку; в заключение он сообщил о том, что случилось накануне в его доме, о невольной улыбке Люсьена де Рюбампре и об уверенности Бьяншона и некоторых денди, что между и этим молодым человеком и незнакомкой существует близкая связь.
– Послушайте, господин барон, вы должны прежде всего вручить мне десять тысяч франков в счет расходов, потому что для вас эта история – вопрос жизни; но так как ваша жизнь – крупное предприятие, надо испробовать все, чтобы найти эту женщину. Ну и попались же вы!
– Та, я попалься…
– Если понадобится больше, я вам скажу. Барон, доверьтесь мне, – продолжал Перад, – я не шпион, как вы могли бы подумать… В тысяча восемьсот седьмом году я был главным комиссаром полиции в Антверпене, и теперь, когда Людовик Восемнадцатый умер, могу вам открыться: семь лет я руководил его контрполицией. Стало быть, со мной не торгуются. Вы отлично понимаете, господин барон, что нельзя составлять смету на покупку чужой совести, прежде чем изучишь дело. Беспокоиться вам незачем, успех обеспечен. Но не думайте, что меня можно удовлетворить какой-либо суммой, я желаю иного вознаграждения…
– Натеюсь, не королефство? – сказал барон.
– Для вас это сущий пустяк.
– Зогласен!
– Вы знаете Келлеров?
– Одшень…
– Франсуа Келлер – зять графа де Гондревиля, и граф Гондревиль обедал у вас вчера со своим зятем.
– Кой тьяволь вам это сказаль?.. – вскричал барон. – Ферно, набольталь Шорш!
Перад усмехнулся. У барона, уловившего его усмешку, зашевелились подозрения насчет своего слуги.
– Граф де Гондревиль без труда может меня устроить на должность, которую я желаю занять в префектуре; префекту полиции ровно через двое суток будет представлена докладная записка по поводу утверждения этой должности, – сказал Перад. – Похлопочите обо мне, добейтесь, чтобы де Гондревиль тоже вмешался в это дело, и погорячее. Вот ваше вознаграждение за услугу, которую я вам окажу. Для меня достаточно вашего слова, ибо, ежели вы ему измените, вы рано или поздно проклянете день, когда вы родились на свет… Порукой слово Перада…
– Я даю вам честни слоф делайт все, что возмошно…
– Если бы я делал для вас только возможное, этого было бы недостаточно.
– Карашо, я действуй прямотушно!
– Прямодушно… Вот и все, о чем я прошу, – сказал Перад, – и прямодушие – это единственный, хоть и несколько непривычный для нас подарок, которым мы можем обменяться.
– Прямотушно, – повторил барон. – Где ви желайте зойти?
– За мостом Людовика Шестнадцатого.
– За мост! К Законодательни палат, – сказал барон лакею, подошедшему к дверце кареты.
«Теперь-то она уже будет моя!..» – сказал себе барон, отъезжая.
«Какая насмешка судьбы! – думал Перад, идя пешком в Пале-Ройяль, где он хотел попытать счастья в игре, чтобы утроить десять тысяч франков для приданого Лидии. – Я принужден разбираться в делишках молодого человека, с первого же взгляда обворожившего мою дочь. Он, верно, из тех мужчин, у которых сглаз на женщин», – сказал он мысленно, употребляя одно из выражений особого жаргона, который он ввел в обиход и который помогал ему и Корантену подытожить свои наблюдения в форме, пусть нередко насилующей язык, зато тем самым придающей ему силу и красочность.
Когда барон Нусинген воротился домой, его нельзя было узнать; он удивил жену и слуг; он был румян, оживлен, даже весел.
– Берегись, акционеры! – сказал он дю Тийе Растиньяку.
Вернувшись из Оперы, все пили чай в малой гостиной г-жи Дельфины Нусинген.
– Та, – сказал с улыбкой барон, уловив шутку своего собрата, – я чуфстфуй шеланье делайт дела…
– Стало быть, вы виделись с вашей незнакомкой? – спросила г-жа Нусинген.
– Нет, – отвечал он, – только натеюсь видеться.
– Любят ли так когда-нибудь свою жену?.. вскричала г-жа Нусинген, ощутив легкую ревность или притворяясь, что ревнует.
– Когда она будет в ваших руках, – сказал дю Тийе барону, – вы пригласите нас отужинать с нею, ведь любопытно посмотреть на существо, которое могло вернуть вам молодость.
– Лутши шедефр тфорени! – отвечал старый барон.
– Он дает себя поймать, как мальчишка, – шепнул Растиньяк Дельфине.
– Полноте! Он достаточно богат, чтобы…
– Чтобы кое-что промотать, не так ли?.. – сказал дю Тийе, перебивая баронессу.
Нусинген ходил взад и вперед по гостиной, точно у него был зуд в ногах.
– Вот удачный момент обратиться к нему с просьбой заплатить ваши новые долги, – шепнул Растиньяк на ухо баронессе.
В ту же самую минуту Карлос, преподавший последние наставления Европе, которой предстояло сыграть главную роль в комедии, придуманной, чтобы одурачить Нусингена, выходил исполненный надежд из дверей дома на улице Тетбу. До бульвара его сопровождал Люсьен, весьма обеспокоенный видом этого полудемона, настолько изменившего свою внешность, что даже он, Люсьен, узнал его только по голосу.
– Где, черт возьми, ты нашел женщину прекраснее Эстер? – спросил он своего развратителя.
– Милый мой, в Париже такую не найдешь. Подобные краски не вырабатываются во Франции.
– Послушай-ка, я все еще ошеломлен… Венера Калипига сложена не лучше! За нее душу продашь… Но где ты ее достал?
– Она самая красивая девушка в Лондоне. Напившись джина, она в припадке ревности убила любовника. Любовник этот – отъявленный негодяй, от которого лондонская полиция рада была избавиться. А чтобы дело забылось, девицу отослали на некоторое время в Париж… Распутница получила отличное воспитание. Она дочь какого-то министра, по-французски говорит, как парижанка. Она не знает и никогда не узнает, зачем она тут. Ей сказали, что она может тянуть из тебя миллионы, надо только тебе понравиться, но что ты ревнив, как тигр, почему ей и предложили вести образ жизни Эстер. Она не знает твоего имени.
– А вдруг Нусинген предпочтет ее Эстер?
– Ах, вот до чего ты дошел!.. – вскричал Карлос. – Сегодня ты жаждешь того, что тебя ужасало вчера. Будь покоен. У этой белокурой и белотелой девушки голубые глаза, она полная противоположность прекрасной еврейке; но лишь глаза Эстер способны взволновать такого растленного человека, как Нусинген. Ведь не мог же ты скрывать от света дурнушку, черт возьми! Как только эта кукла сыграет свою роль, я отправлю ее под охраной верного человека в Рим или в Мадрид, пусть там разжигает страсти.
– Если она у нас недолгая гостья, – сказал Люсьен, – ворочусь к ней…
– Ступай, сын мой, забавляйся… Завтрашний день тоже в твоем распоряжении. А я подожду одну особу, которой поручил следить за тем, что творится у барона Нусингена.
– Кто эта особа?
– Любовница его лакея; ведь надобно в любую минуту знать, что происходит у неприятеля.
В полночь Паккар, гайдук Эстер, встретился с Карлосом на мосту Искусств, наиболее удобном месте в Париже, чтобы перекинуться словом, которое не должно быть услышано. Разговаривая, гайдук смотрел в одну сторону, его хозяин – в другую.
– Барон ездил сегодня в префектуру, между четырьмя и пятью часами, – сказал гайдук, – а вечером хвалился, что найдет женщину, которую он видел в Венсенском лесу. Ему обещали.
– За нами будут следить! – сказал Карлос. – Но кто?
– Уже обращались к услугам Лушара, торгового пристава.
– Бояться его было бы ребячеством! – отвечал Карлос. – Мы должны опасаться только охранного отделения и уголовного розыска, а раз они бездействуют, мы-то уже можем действовать!..
– Есть еще кое-кто!
– Кто же?
– Дружки с лужка… Вчера я видел Чистюльку… Он затемнил одну семью, и у него на десять тысяч рыжевья, пятифранковиками.
– Его арестуют, – сказал Жак Коллен. – Это убийство на улице Буше.
– Ваш приказ? – спросил Паккар почтительно: так, вероятно, держал себя маршал, явившийся за приказаниями к Людовику XVIII.
– Выезжать каждый вечер в десять часов, – отвечал Карлос. – Рысью ехать в Венсенский лес, в Медонские леса, в Виль д'Авре. Ежели будут следить, преследовать, не мешай, будь податлив, разговорчив, продажен. Болтай про ревность Рюбампре, который без ума от мадам и до смерти боится, как бы не пронюхали важные господа, что любовница у него из тех самых…
– Понятно! Надо вооружиться?..
– Отнюдь нет! – с живостью сказал Карлос. – Оружие?.. А на что оно тебе? Натворить бед? Забудь, что при тебе охотничий нож. Чего бояться, если ударом, который я тебе показал, можно переломить ноги самому крепкому человеку?.. Если можно вступить в драку с тремя вооруженными полицейскими в полной уверенности, что двое будут уложены на месте, прежде чем они вытащат свои тесаки?.. Ведь при тебе твоя палка!
– Правильно! – сказал гайдук.
Паккар, прозванный «старой гвардией», «стреляным воробьем», «молодчиной», – человек с железными икрами, стальными бицепсами, итальянскими баками, артистическим беспорядком волос, маленькой бородкой, с лицом, бесстрастным, как у Контансона, скрывал горячность своего характера и щеголял осанкой полкового барабанщика, отводившей от него все подозрения. Ни один висельник из Пуасси или Мелена не мог бы состязаться с ним в чванстве и самовлюбленности. Джафар этого Гарун-аль-Рашида каторги, он искренне восхищался им, как Перад восхищался Корантеном. Сей долговязый колосс, неширокий в груди, без лишнего мяса на костях, шагал на своих двух ходулях чрезвычайно важно. Никогда правая нога не ступала, покуда правый глаз не исследовал окружающей обстановки спокойно и молниеносно, как свойственно ворам и шпионам. Левый глаз брал пример с правого. Шаг, взгляд, еще шаг, еще взгляд! Поджарый, проворный, готовый на все в любое время, Паккар, умей он только справиться с заклятым врагом своим, под названием напиток храбрецов, был бы, по словам Карлоса, совершенством, в такой степени он обладал талантами, которые необходимы человеку, восставшему против общества; владыке все же удалось убедить своего раба поддаваться вражьей силе только по вечерам. Воротившись домой, Паккар поглощал текучее золото, которое ему подносила маленькими порциями простоватая толстобрюхая девица из Данцига.
– Будем глядеть в оба, – сказал Паккар, попрощавшись с тем, кого он называл своим духовником, и надевая пышную шляпу с перьями.
Таковы были события, столкнувшие людей столь незаурядных, каждого в своей области, как Жак Коллен, Перад и Корантен; им суждено было сразиться на том же поле боя и развернуть свои таланты в борьбе, где каждым руководили его страсти или его интересы. То было одно из безвестных, но грозных сражений, требующих столько искусства, ненависти, гнева, увертливости, коварства, такого напряжения всех сил, что их хватило бы на то, чтобы составить себе огромное состояние. Имена людей и способы борьбы – все осталось тайной Перада и его друга Корантена, помогавшему ему в этом предприятии, которое было для них детской игрой. Поэтому-то история умалчивает о нем, как умалчивает об истинных причинах многих революций. Но вот последствия.
Пять дней спустя после встречи господина Нусингена с Перадом в Елисейских полях, поутру, человек лет пятидесяти, одетый в синий костюм довольно элегатного покроя, с белым, как свинцовые белила, лицом, изобличающим дипломата, который ведет светский образ жизни, вышел из великолепного кабриолета, с важным видом государственного человека бросив вожжи подхватившему их выездному лакею. Он спросил у слуги, стоявшего под перистилем, можно ли видеть барона Нусингена. Лакей почтительно отворил перед ним роскошную зеркальную дверь.
– Как прикажете доложить, сударь?..
– Доложите господину барону, что прибыл человек с авеню Габриель, – отвечал Корантен. – Но остерегайтесь говорить громко в присутствии лиц посторонних: вы рискуете потерять место.
Минутой позже лакей воротился и проводил Корантена в кабинет барона через внутренние покои.
На непроницаемый взгляд Корантена банкир ответил таким же взглядом, после чего они учтиво поздоровались.
– Господин барон, – сказал Корантен, – я прибыл от имени Перада…
– Превосхотно, – сказал барон, поднявшись, чтобы запереть на задвижку обе двери.
– Любовница господина де Рюбампре живет на улице Тетбу, в прежней квартире мадемуазель де Бельфей, бывшей любовницы господина де Гранвиля, генерального прокурора.
– Ах! Так плиско! – вскричал барон. – Фот смешно!
– Нетрудно поверить, что вы без ума от этой обворожительной особы, мне доставило истинное наслаждение на нее полюбоваться, – отвечал Корантен. – Люсьен так ревнует эту девушку, что держит ее взаперти. И он горячо любим, потому что, хотя вот уже четыре года, как она живет в квартире Бельфей, в той же обстановке и в тех условиях, ни соседи, ни привратник, ни жильцы дома – никто ее ни разу не видел. Принцесса совершает свои прогулки только ночью. Когда она выезжает, занавески на окнах кареты опущены и на мадам густая вуаль. Но и помимо ревности, у Люсьена есть причина скрывать эту женщину: он женится на Клотильде де Гранлье, а кроме того, он близкий друг госпожи де Серизи. Натурально, он дорожит и парадной любовницей и невестой. Стало быть, вы господин положения, потому что Люсьен ради выгоды и тщеславия пожертвует своим удовольствием. Вы богаты, речь идет о вашем последнем счастье, так не скупитесь! Действуйте через горничную, вы добьетесь цели. Дайте служанке тысяч десять франков, она укроет вас в спальне госпожи, и ваши расходы окуплены!
Никакая риторическая фигура не может передать отрывистую, четкую, не допускающую возражений речь Корантена. Барон, видимо, уловил тон этой речи, и его бесстрастное лицо выразило удивление.
– Я пришел просить у вас пять тысяч франков для моего друга, обронившего пять ваших банковых билетов… Небольшая неприятность! – продолжал Корантен самым повелительным тоном. – Перад чересчур хорошо знает свой Париж, чтобы тратиться на объявления; он рассчитывает на вас. Но самое важное не это, – небрежно заметил Корантен, как бы не желая придавать особого значения денежной просьбе. – Ежели вы не хотите огорчений на закате ваших дней, добудьте для Перада должность, о которой он вас просил, вам это ничего не стоит. Начальник королевской полиции должен был вчера получить докладную записку по этому поводу. Надо только, чтобы Гондревиль поговорил с префектом полиции. Так вот! Скажите этому умнику, графу де Гондревилю, что он должен оказать услугу одному из тех, кто его избавил от господ де Симез, и он примется действовать…
– Фот, сутарь, полючайт, – сказал барон, вынув пять билетов по тысяче франков и передавая их Корантену.
– У горничной есть дружок, долговязый гайдук, по имени Паккар. Он живет на улице Прованс, у каретника, и обслуживает господ, которые мнят себя вельможами. Верзила Паккар сведет вас с горничной госпожи Ван Богсек. Наш пьемонтец весьма неравнодушен к вермуту, каналья!
Сообщение, не без изящества оброненное, наподобие приписки к письму, видимо, и ценилось в пять тысяч франков. Барон пытался разгадать, к породе каких людей принадлежал Корантен; судя по его умственному развитию, он скорее походил на организатора шпионажа, нежели на шпиона: и все же Корантен остался для него тем, чем для археолога остается надпись, в которой недостает по меньшей мере трех четвертей букв.
– Как сфать горнишна? – спросил он.
– Эжени, – ответил Корантен и вышел, откланявшись барону.
Барон Нусинген, вне себя от радости, бросил дела, контору и воротился к себе в счастливом расположении духа, точно двадцатилетний юноша, предвкушающий радость первого свидания с первой возлюбленной. Барон взял из личной своей кассы все тысячные билеты и положил их в карман фрака. Там было пятьдесят пять тысяч франков, этой суммой он мог осчастливить целую деревню! Но расточительность миллионеров может сравниться лишь с их жадностью к наживе. Как только дело касается их прихотей, страстей, деньги для этих крезов ничто: и верно, им труднее ощутить какое-либо желание, нежели добыть золото. Наслаждение – самая большая редкость в этой жизни, богатой волнениями крупной биржевой игры, пресытившими их черствые сердца. Один из богатейших парижских капиталистов, притом известный своими причудами, встретил однажды на бульварах красивую юную работницу. Гризетка, сопровождаемая матерью, шла, опираясь на руку молодого человека, одетого с сомнительным щегольством и фатовски покачивавшего бедрами. Миллионер с первого взгляда влюбляется в парижанку; он идет за ней следом, входит к ней в дом; он требует, чтобы она рассказала о своей жизни, где балы в Мабиль сменяются днями без куска хлеба, а забавы – тяжким трудом; он принимает в ней участие и под монетой в сто су оставляет пять билетов по тысяче франков – свидетельство щедрости, лишенной чести. На следующий день знаменитый обойщик Брашон является за приказаниями к гризетке, отделывает квартиру, выбранную ею, расходует на это тысяч двадцать франков. Работница предается радужным надеждам: она одевает прилично мать, мечтает устроить своего бывшего возлюбленного в контору страхового общества… Она ждет… день, два дня: потом неделю, две недели… Она считает себя обязанной хранить верность, входит в долги. Капиталист, вызванный в Голландию, забыл о работнице; он ни разу не взошел в рай, куда он вознес ее; и, низвергнувшись оттуда, она пала так низко, как можно пасть только в Париже. Нусинген не играл, Нусинген не покровительствовал искусствам, Нусинген был чужд каких-либо причуд; стало быть, он должен был слепо отдаться страсти к Эстер, на что и рассчитывал Карлос Эррера.
Окончив завтрак, барон послал за Жоржем, своим камердинером, и приказал ему пойти на улицу Тетбу пригласить мадемуазель Эжени, служанку госпожи Ван Богсек, зайти к нему в контору по важному делу.
– Ти провошай этот дефушек, – прибавил он, – и потнимись в мой комнат. Говори, что он делайт себе большой зостоянь.
Жоржу стоило немалых усилий убедить Европу-Эжени пойти к барону. Хозяйка, говорила она, не разрешает куда-либо отлучаться, она может потерять место и т. д. Но Жорж недаром превозносил свои услуги перед бароном, который дал ему сто луидоров.
– Если мадам выедет нынешней ночью без горничной, – доложил Жорж своему господину, у которого глаза сверкали, как карбункулы, – Эжени придет сюда часов в десять.
– Карашо! Ти дольшен начинать одефать меня в тефять час… Причесивать, я шелай бить одшень красиф… Думаю, что увишу моя люпофниц или теньги не есть теньги…
С двенадцати до часу барон красил волосы и бакенбарды. В девять часов барон, принявший ванну перед обедом, занялся туалетом новобрачного, надушился, разрядился в пух. Г-жа Нусинген, предупрежденная об этом превращении, доставила себе удовольствие посмотреть на мужа.
– Боже мой! – сказала она. – Как вы потешны!.. Наденьте хотя бы черный галстук вместо белого; ведь ваши бакенбарды от него кажутся еще жестче; притом, это в стиле Империи, слишком по-стариковски, вы похожи на советника прежней судебной палаты! Снимите алмазные запонки, ведь они по сто тысяч франков каждая; ведь если эта обезьяна прельстится ими, у вас недостанет духа ей отказать, а чем их дарить девке, лучше сделать мне серьги.
Бедный банкир, сраженный справедливостью замечаний жены, угрюмо повиновался.
– Потешни! Потешни!.. Я никогта не говориль потешни, когта фи одевалься зо всех сил тля каспатин те Растиньяк.
– Надеюсь, вы никогда не находили меня потешной? Ну-ка, повернитесь!.. Застегните фрак наглухо, кроме двух верхних пуговиц, как это делает герцог де Монфриньез. Словом, старайтесь казаться моложе.
– Сударь, – сказал Жорж, – вот и мадемуазель Эжени.
– До сфидань, сутаринь, – вскричал барон. Он проводил жену далее границы, разделявшей их личные покои: он хотел быть уверенным, что она не подслушает разговора.
Воротившись, он с иронической почтительностью взял Европу за руку и провел в свою комнату:
– Ну, крошка мой, ви одшень сшастлив, потому услюжайт сами красиф женшин мира… Ваш зостоянь сделан, только надо говорить в мой польз, держать мой интерес.
– Вот чего я не сделаю и за десять тысяч франков! – вскричала Европа. – Поймите, господин барон, я прежде всего честная девушка…
– Та! Я желай карашо оплатить твой честность. Как говорят в коммерс, это редки слючай.
– Но это еще не все, – сказала Европа. – Если мосье придется мадам не по вкусу, что вполне возможно, она разгневается и меня выгонят… А место дает мне тысячу франков в год.
– Даю капиталь тисяча франк и еще тфацать тисяча. Полючай капиталь и ничефо не теряй.
– Коли на то пошло, папаша, – сказала Европа, – это порядком меняет дело. Где деньги?
– Фот, – отвечал барон, вынимая один за другим банковые билеты.
Он примечал каждую искру, загоравшуюся в глазах Европы при виде каждого билета и выдававшую ее алчность, о которой он догадывался.
– Вы оплачиваете место, но честность, совесть?.. – воскликнула Европа, подняв свою лукавую мордочку и кидая на барона взгляд seria-buffa.
– Софесть стоит дешевле места; но прибавим пьят тисяча франк, – сказал барон, вынимая пять тысячефранковых билетов.
– Нет, двадцать тысяч за совесть и пять тысяч за место, если я его потеряю…
– Зогласен… – сказал он, прибавляя еще пять билетов. – Но чтоби заработать билет, надо меня прятать в комнат твой каспаша, ночью, когта он будет атин…
– Если вы мне обещаете никогда не проговориться о том, кто вас туда привел, я согласна! Но предупреждаю: мадам необычайно сильна и любит господина де Рюбампре как сумасшедшая; и дай вы ей миллион банковыми билетами, она ему не изменит… Глупо, но такой уж у нее характер; когда она любит, она неприступнее самой порядочной женщины, вот как! Если она едет кататься вместе с мосье, редко случается, чтобы мосье возвращался обратно; нынче они выехали вместе, стало быть, я могу вас спрятать в своей комнате. Если мадам вернется одна, я приду за вами; вы обождете в гостиной; дверь в спальню я не закрою, а дальше… Черт возьми! Дальше дело ваше… Будьте готовы!
– Оттам тебе тфацать тисяча франк в гостини… из рука в рука!
– А-а! – сказала Европа. – Так-то вы мне доверяете? Маловато…
– Твой будет иметь много слючай виудить у меня теньги… Мы будем знакоми…
– Хорошо, будьте на улице Тетбу в полночь; но в таком случае захватите с собой тридцать тысяч франков. Честность горничной оплачивается, как фиакр, гораздо дороже после полуночи.
– Для осторожность даю тебе чек на банк…
– Нет, нет, – сказала Европа, – только билетиками, или ничего не выйдет…
В час ночи барон Нусинген, спрятанный в мансарде, где спала Европа, терзался всеми тревогами счастливого любовника. Он жил полной жизнью, ему казалось, что кровь его кипела в жилах, а голова было готова лопнуть, как перегретый паровой котел.
«Я наслаждался душевно больше, чем на сто тысяч экю», – говорил он дю Тийе, посвящая его в эту историю. Он прислушивался к малейшим уличным шумам и в два часа ночи услышал, как со стороны бульвара подъезжает карета его любимой. Когда ворота заскрипели на своих петлях, сердце у него стало биться так бурно, что зашевелился шелк жилета: значит, он снова увидит божественное, страстное лицо Эстер!.. В сердце отдался стук откинутой подножки и захлопнутой дверцы. Ожидание блаженной минуты волновало его больше, чем если бы дело шло о потере состояния.
– Ах! – вскричал он. – Фот шизнь! Даже чересчур шизнь! Я не в зостоянь ничефо решительно.
– Мадам одна, спускайтесь вниз, – сказала Европа, показываясь в дверях. – Главное, не шумите, жирный слон!
– Жирни злон! – повторил он, смеясь и ступая словно по раскаленным железным брусьям.
Европа шла впереди с подсвечником в руках.
– Терши, считай, – сказал барон, передавая Европе банковые билеты, как только они вошли в гостиную.
Европа с самым серьезным видом взяла тридцать билетов и вышла, заперев за собой дверь. Нусинген прошел прямо в спальню, где находилась прекрасная англичанка.
– Это ты, Люсьен? – спросила она.
– Нет, прекрасни крошка!.. – вскричал Нусинген и не окончил.
Он остолбенел, увидев женщину, являвшую собою полную противоположность Эстер: белокурую, а он томился по чернокудрой, хрупкую, а он боготворил сильную! Прохладную ночь Британии вместо палящего солнца Аравии.
– Послушайте-ка! Откуда вы взялись? Кто вы? Что вам надо? – крикнула англичанка, напрасно обрывая звонок, не издававший ни единого звука.
– Я замоталь зфонок, но не бойтесь… Я ушель… – сказал он. – Плакаль мои дрицать тисяча франк! – Фи дейстфительно люпофниц каспатин Люсьен те Рюбампре?
– Слегка, мой племянничек, – сказала англичанка, отлично говорившая по-французски. – Но кто фи такая? – сказала она, подражая выговору Нусингена.
– Челофек, котори попалься!.. – отвечал он жалобно.
– Разве полючать красифи женшин это есть попалься? – спросила она, забавляясь.
– Позфольте мне посилать вам зафтра драгоценни украшений на память про барон Нюсеншан.
– Не знай! – сказала она, хохоча как сумасшедшая. – Но драгоценность будет любезно принята, мой толстяк, нарушитель семейного покоя.
– Фи меня будет помнить! До сфитань, сутаринь. Ви лакоми кусок, но я только бедни банкир, которому больше шестесят лет, и ви заставляль меня почуфстфовать, как сильна женшин, которую я люплю, потому ваш сферхчелофечни красота не мог затмевать ее…
– Слюшай, одшень миль, что фи это мне говориль, – отвечала англичанка.
– Не так миль, как та, котори мне это внушаль…
– Вы говорили мне о дрицати тысячах франков… Кому вы их дали?
– Ваш мошенник горнична…
Англичанка позвонила. Европа не замедлила явиться.
– О! – вскричала Европа. – Чужой мужчина в комнате мадам!.. Какой ужас!
– Давал он вам тридцать тысяч франков, чтобы войти сюда?
– Нет, мадам. Мы обе вместе их не стоим…
И Европа принялась звать на помощь так решительно, что испуганный барон мигом очутился у двери. Европа спустила его с лестницы…
– Ах, злодей! – кричала она. – Вы донесли на меня госпоже! Держи вора! Держи вора!
Влюбленный барон, впавший в отчаяние, все же благополучно добрался до кареты, ожидавшей его на бульваре; но он уже не знал, на какого шпиона ему теперь положиться.
– Не собирается ли мадам отнять у меня мои доходы? – вскричала Европа, вбегая фурией в комнату.
– Я не знаю обычаев Франции, – сказала англичанка.
– А вот достаточно мне сказать мосье одно слово, и мадам завтра же выставят за дверь, – дерзко отвечала Европа.
– Этот проклятый горнишна, – сказал барон Жоржу, который, конечно, спросил своего господина, доволен ли он, – стибриль мой дрицать тисяча франк… но это мой вина, мой большой вина!
– Стало быть, туалет вам не помог, мосье? Черт возьми! Не советую, мосье, принимать попусту эти аптечные лепешки.
– Шорш! Я умирай от горя… Чуфстфуй холод… Ледяной сердце… Нет больше Эздер, труг мой!
В трудных случаях Жорж всегда был верным другом своего господина.
Два дня спустя после этой сцены, о которой юная Европа рассказала испанцу, и гораздо забавнее, нежели мы в своем повествовании, потому что рассказ свой она оживила мимикой, Карлос завтракал наедине с Люсьеном.
– Надобно, мой милый, чтобы ни полиция, никто иной не совал носа в наши дела, – тихо сказал он, прикуривая сигару о сигару Люсьена. – Это вредно. Я нашел смелый, но верный способ успокоить нашего барона и его агентов. Ты пойдешь к госпоже де Серизи, будешь с ней очень мил. Скажешь, как бы невзначай, что ты, желая помочь Растиньяку, которому давно уже наскучила госпожа Нусинген, согласился служить ему ширмой и прячешь его любовницу. Господин Нусинген, без памяти влюбленный в женщину, которую прячет Растиньяк (это ее позабавит), вздумал обратиться к услугам полиции, чтобы шпионить за тобой, а это, пусть ты и неповинен в проделках твоего земляка, может отразиться на твоих отношениях с семьей Гранлье. Ты попросишь графиню обещать тебе поддержку министра, ее мужа, когда ты обратишься к префекту полиции. Попав на прием к господину префекту, изложи свою жалобу, но как политический деятель, которому скоро предстоит занять свое место в сложной государственной машине, чтобы стать одной из самых важных ее пружин. Как человек государственный, оправдывай полицию, восхищайся ею, начиная с самого префекта. Самые, мол, отменные механизмы оставляют масляные пятна или осыпают вас искрами. Досадуй, но не чрезмерно. Не ставь ничего в вину господину префекту, но посоветуй следить за подчиненными и вырази сочувствие по поводу его неприятной обязанности побранить своих людей. Чем мягче, чем обходительнее ты будешь, тем жестче поступит префект со своими агентами. Тогда мы заживем спокойно и, наконец, привезем домой Эстер, которая, верно, стенает как лань, в своем лесу.
Должность префекта в ту пору занимал бывший судейский чиновник. Префекты полиции из бывших судейских всегда оказываются чересчур зелены. Будучи насквозь пропитаны Правом и воображая себя блюстителями Законности, они не дают воли Самовластию, зачастую неизбежному в критических обстоятельствах, когда действия префектуры должны сходствовать с действиями пожарного, обязанного тушить пожар. В присутствии вице-президента Государственного совета префект признал за полицией больше оплошностей, чем их было в действительности, он сожалел о злоупотреблениях, припомнил посещение барона Нусингена и его просьбу дать сведения о Пераде. Префект, обещав укротить чересчур предприимчивых агентов, поблагодарил Люсьена за то, что он обратился лично к нему, и уверил в нерушимости тайны с таким видом, будто все для него было понятно в этой альковной истории. Министр и префект обменялись пышными фразами о свободе личности и неприкосновенности жилища, причем г-н де Серизи дал понять префекту, что если высшие интересы королевства и требуют иногда тайного нарушения законности, то применять это государственное средство в частных интересах – преступно. На другой день, когда Перад шел в свое излюбленное кафе «Давид», где он наслаждался созерцанием общества обывателей, как художник наслаждается созерцанием распускающихся цветов, его остановил на улице жандарм, одетый в штатское платье.
– Я шел к вам, – сказал он ему на ухо. – Мне приказано привести вас в префектуру.
Перад взял фиакр и без малейших возражений поехал вместе с жандармом.
Префект полиции, который расхаживал перед зданием префектуры по аллее садика, тянувшегося в те времена вдоль набережной Орфевр, накинулся на Перада, словно тот был каким-нибудь смотрителем каторжной тюрьмы.
– Не без причины, сударь, вы с тысяча восемьсот девятого года отставлены от административной должности… Разве вам неизвестно, какой опасности вы подвергаете нас и себя?..
Выговор завершился громовым ударом. Префект сурово объявил бедному Пераду, что он не только лишен ежегодного пособия, но к тому же будет находиться под особым надзором. Старик принял этот душ с самым спокойным видом. Нет ничего неподвижнее и безучастнее человека, сраженного несчастьем. Перад проиграл все свои деньги. Отец Лидии рассчитывал на должность, а теперь он мог надеяться лишь на подачки своего друга Корантена.
– Я сам был префектом полиции и отлично понимаю вас, – спокойно сказал старик чиновнику, рисовавшемуся своим судейским величием и при этих словах выразительно пожавшему плечами. – Все же дозвольте мне, ни в чем не оправдываясь, заметить вам, что вы меня еще не знаете, – продолжал Перад, бросив острый взгляд на префекта. – Ваши слова либо слишком жестки по отношению к бывшему главному комиссару полиции в Голландии, либо недостаточно суровы по отношению к простому сыщику. Однако ж, господин префект, – прибавил Перад после короткого молчания, видя, что префект не отвечает, – когда-нибудь вы вспомните о том, что я буду иметь честь сейчас вам сказать. Я не стану вмешиваться в дела вашей полиции, не стану обелять себя, ибо в будущем вы сумеете убедиться, кто из нас был в этом деле обманут: сегодня – это ваш покорный слуга; позже вы скажете: «Это был я».
И он откланялся префекту, который стоял с задумчивым видом, скрывая свое удивление. Он воротился домой, обескураженный, полный холодной злобы против барона Нусингена. Только этот наглый делец мог выдать тайну, хранимую Контансоном, Перадом и Корантеном. Старик обвинял банкира в желании, достигнув цели, уклониться от обещанного вознаграждения. Одной встречи для него было достаточно, чтобы разгадать коварство коварнейшего из банкиров. «Он от всех отделается, даже от нас, но я отомщу, – говорил старик про себя. – Я никогда ни о чем не просил Корантена, но я попрошу его помочь мне вытянуть все жилы из этого дурацкого толстосума. Проклятый барон! Ты еще узнаешь, с кем связался, когда в одно прекрасное утро увидишь свою дочь обесчещенной… Но любит ли он свою дочь?..
В этот вечер, после катастрофы, уничтожившей все надежды Перада, он, казалось, постарел лет на десять. Беседуя со своим другом Корантеном, он выложил ему все свои жалобы, обливаясь слезами, исторгнутыми мыслью о печальном будущем, которое он уготовил своей дочери, своему идолу, своей жемчужине, своей жертве вечерней.
– Мы расследуем, в чем тут дело, – сказал Корантен. – Прежде всего надо узнать, правда ли, что донес на тебя барон. Осмотрительно ли мы поступили, понадеявшись на Гондревиля?.. Этот старый умник чересчур многим нам обязан, чтобы не попытаться нас съесть; я прикажу также следить за его зятем Келлером, он невежда в политике и чрезвычайно способен впутаться в какой-нибудь заговор, направленный к свержению старой ветви в пользу младшей… Завтра я узнаю, что творится у Нусингенов, видел ли барон свою возлюбленную и кто так ловко натянул нам нос… Не унывай! Начнем с того, что префект долго не удержится… Время чревато революциями, а революция для нас, что мутная вода, – в ней и рыбку ловить.
С улицы послышался условный свист.
– Вот и Контансон! – сказал Перад, поставив на подоконник свечу. – И дело касается меня лично.
Минутой позже верный Контансон предстал перед двумя карликами от полиции, которых он почитал великанами.
– Что случилось? – спросил Корантен.
– Есть новости! Выхожу я из сто тринадцатого, где проигрался в пух. Кого же я вижу, сойдя в галереи? Жоржа! Барон его прогнал, он подозревает, что Жорж – сыщик.
– Вот действие моей невольной улыбки, – сказал Перад.
– О, сколько я видел несчастий, причиненных улыбками!.. – заметил Корантен.
– Не считая тех, что причиняют ударом хлыста, – сказал Перад, намекая на дело Симеза (См. Темное дело.) – Однако ж, Контансон, что случилось?
– А вот что! – продолжал Контансон. – Я развязал Жоржу язык, позволив угостить себя рюмочками всех цветов, и он охмелел; что касается меня; то я, должно быть, что-то вроде перегонного куба! Итак, наш барон, напичкавшись султанскими лепешками, побывал на улице Тетбу. Он нашел там красавицу, о которой вы знаете. Но его ловко разыграли: эта англичанка вовсе не его неизфестни!.. А он выложил тридцать тысяч франков, чтобы подкупить горничную. Глупец! Воображает себя великим дельцом, потому что малые дела обделывает большими средствами; переверните фразу, и вот вам задача, решение которой находит только умный человек. Барон воротился в жалком состоянии. На следующий день Жорж, разыгрывая из себя добродетель, сказал своему господину: «Зачем мосье прибегает к услугам людей, по которым веревка плачет? Ежели бы мосье пожелал обратиться к моей помощи, я нашел бы его незнакомку, ведь тех примет, которые даны мне господином бароном, вполне для меня достаточно, я обшарю весь Париж». «Ступай, – сказал ему барон. – Я тебя щедро вознагражу!» Жорж мне все это рассказал с самыми потешными подробностями. Но… не знаешь, когда гром грянет! На другой день барон получает анонимное письмо примерно такого содержания: «Господин Нусинген умирает от любви к неизвестной женщине, он уже истратил много денег попусту; ежели он пожелает, то может нынче же увидеть свою любовь… Для этого ему лишь надо к полночи быть в конце моста Нейи и, позволив надеть себе повязку на глаза, сесть в карету с гайдуком из Венсенского леса на запятках. Господин барон богат, он может усомниться в чистоте наших намерений, поэтому мы не возражаем, если он возьмет с собой своего верного Жоржа. Никого, кроме них, в карете не будет». Барон вечером отправляется туда с Жоржем, ни слова Жоржу не говоря. Обоим завязывают глаза и на голову набрасывают покрывало. Барон узнал гайдука. Через два часа карета, которая несется, как карета Людовика XVIII (господь да упокоит его душу! Знал толк в полиции этот король!), останавливается в лесу. С барона снимают покрывало, и он видит в карете, остановившейся тут же, свою незнакомку, которая… фюить!.. и поминай как звали. А карета привозит банкира (с такой же скоростью, как Людовика XVIII) обратно к мосту Нейи, где его ожидает собственная карета. В руках Жоржа оказывается записка, гласящая: «Сколько билетов по тысяче франков господин барон ассигнует на то, чтобы быть представленным незнакомке?» Жорж передает записку барону, а барон, заподозрив Жоржа в сговоре либо со мною, либо с вами, господин Перад, выгоняет Жоржа. Ну и болван банкир! Барону следовало выгнать Жоржа, но только после того, как он сам бы ночеваль с неизфестни.
– Жорж видел женщину?.. – спросил Корантен.
– Да, – сказал Контансон.
– Ну-у! И какова она собой? – вскричал Перад.
– О! Жорж твердил только одно: истинное чудо красоты!..
– Нас разыгрывают плуты хитроумнее нас! – воскликнул Перад. – Эти мошенники дорого продадут барону свою женщину.
– Ja, mein Herre! – отвечал Контансон. Потому-то, узнав, что вам устроили разнос в префектуре, я заставил Жоржа проболтаться.
– Желал бы я узнать, кто меня одурачил, – сказал Перад. – Мы померялись бы с ним оружием!
– Нам надо уподобиться мокрицам, – сказал Контансон.
– Он прав, – сказал Перад, – надо проскользнуть во все щели, подслушивать, выжидать…
– Мы изучим этот способ, – согласился Корантен. – А покуда мне тут делать нечего. Будь благоразумен, Перад! Мы должны по-прежнему повиноваться господину префекту…
– А господину Нусингену полезно отворить кровь, – заметил Контансон. – Слишком много у него тысячных билетов в венах…
– Однако ж в них было приданое Лидии! – шепнул Перад Корантену.
– Контансон, пора спать; пожелаем же нашему Пера… ду… ни пуха ни пера… да!
– Сударь, – сказал Контансон Корантену, едва они переступили порог, – какую забавную разменную операцию учинил бы наш старик!.. Каково! Выдать замуж дочь ценою… Ха-ха-ха! Каков сюжетик для премилой и назидательной пьесы под названием «Приданое девушки»!
– Ах, как здорово все вы созданы, вся ваша братия!.. Какой тонкий слух у тебя! – сказал Корантен Контансону. – Решительно, природа вооружает все виды своих творений качествами, необходимыми для тех услуг, которых она ждет от них! Общество – это вторая Природа!
– Чрезвычайно философское рассуждение, – воскликнул Контансон. – Профессор развил из него целую теорию!
– Будь начеку! – усмехнувшись, продолжал Корантен, шагавший по улице рядом со шпионом. – Примечай, как пойдут дела господина Нусингена с незнакомкой… в общих чертах… мелочами не занимайся…
– Поглядим, не запахнет ли жареным! – сказал Контансон.
– Такой человек, как барон Нусинген, не может быть счастлив incognito, – продолжал Корантен. – К тому же нам, для которых люди – лишь карты, не пристало позволить нас обыграть!
– Черта с два! С таким же успехом может мечтать осужденный отрубить голову палачу! – вскричал Контансон.
– Вечно у тебя на языке шуточка, – отвечал Корантен, не сдержав улыбки, обозначившейся на этой гипсовой маске чуть заметными морщинками.
Дело было чрезвычайно важное само по себе, независимо от последствий. Если не барон предал Перада, кому еще была нужда видеться с префектом полиции? Корантен должен был выяснить, нет ли среди его людей предателей. Ложась спать, он спрашивал себя о том же, о чем думал и передумывал Перад: «Кто ходил жаловаться в префектуру?.. Чья любовница эта женщина?..» Таким образом, Жак Коллен, Перад и Корантен, сами того не зная, шли навстречу друг другу; и несчастная Эстер, Нусинген, Люсьен были обречены вступить в начавшуюся уже борьбу, которой самолюбие, свойственное прислужникам полиции, должно было придать ужасающие формы.
Благодаря ловкости Европы удалось расплатиться с самыми неотложными долгами из тех шестидесяти тысяч долга, который тяготел над Эстер и Люсьеном. Доверие заимодавцев нисколько не было нарушено. Люсьен и его соблазнитель получили некоторую передышку. Как два затравленных хищных зверя, они, полакав воды у края болота, могли опять рыскать дорогой опасностей, по которой сильный вел слабого либо к виселице, либо к славе.
– Нынче, – сказал Карлос своему воспитаннику, – мы идем ва-банк, но, по счастью, карты краплены, а понтеры желторотые!
В последнее время Люсьен, покорный наказу страшного наставника, усердно посещал г-жу де Серизи. Это должно было отвести от Люсьена всякое подозрение в том, что его любовница – продажная девка. Впрочем, в любовных утехах, в увлекательной светской жизни он черпал забвение. Повинуясь мадемуазель Клотильде Гранлье, он встречался с нею лишь в Булонском лесу и Елисейских полях.
На другой день после заключения Эстер в доме лесничего ее посетил ужасный и загадочный человек, угнетавший ее душу, и предложил ей подписать три вексельных бланка, на которых стояли зловещие слова: Обязуюсь уплатить шестьдесят тысяч франков – на первом; обязуюсь уплатить сто двадцать тысяч франков – на втором; обязуюсь уплатить сто двадцать тысяч франков – на третьем. На триста тысяч франков обязательств! Поставив слово расписываюсь, вы даете обычную долговую расписку. Слова обязуюсь уплатить превращают ее в вексель и принуждают подписавшегося к платежу под страхом ареста. Эти слова навлекают на того, кто опрометчиво поставит под ними свою подпись, пять лет тюрьмы – наказание, почти никогда не налагаемое судом исправительной полиции и применяемое уголовным судом лишь к злодеям. Закон об аресте за неуплату долгов – пережиток варварства, сочетающий глупость и драгоценное свойство быть бесполезным, поскольку плуты всегда вне пределов его досягаемости. (См. Утраченные иллюзии.)
– Надо, – сказал испанец Эстер, – помочь Люсьену выпутаться из затруднения. Правда, у нас довольно много долгов, но, может статься, эти триста тысяч нас выручат.
Карлос, пометив векселя задним числом, месяцев на шесть ранее, перевел их на Эстер, как на плательщика, от лица некоего человека, не оцененного по достоинству исправительной полицией, похождения которого, наделавшие в свое время немало шума, скоро забылись, заглушенные бурей великой июльской симфонии 1830 года.
Молодой человек, отважнейший из проходимцев, сын судебного исполнителя в Булони, близ Парижа, носил имя Жорж-Мари Детурни. Отец, вынужденный около 1824 года продать свою должность при малоблагоприятных обстоятельствах, оставил сына без всяких средств, предварительно дав ему блестящее воспитание, на котором помешались мелкие буржуа! В двадцать три года молодой и блестящий питомец юридического факультета уже отрекся от отца, напечатав на визитных карточках свою фамилию следующим образом:
Жорж д'Этурни.
Карточка сообщала его личности аромат аристократизма. Этот денди имел дерзость завести тильбюри, грума и часто посещать клубы. Все объяснялось просто: наперсник содержанок, он играл на бирже, располагая их средствами. В конце концов он предстал пред судом исправительной полиции по обвинению в пользовании чересчур счастливыми картами. Сообщниками его были совращенные им молодые люди, его приверженцы, обязанные ему чем-либо, шалопаи того же разбора. Принужденный бежать, он пренебрег обязательством оплатить разницу на бирже. Весь Париж, Париж биржевых хищников, крупных промышленников, завсегдатаев клубов и бульваров, еще и теперь содрогается при воспоминании об этом двойном мошенничестве.
В дни своего великолепия Жорж д'Этурни, красавец собою и, в общем, славный малый, щедрый, как предводитель воровской шайки, покровительствовал Торпиль в продолжение нескольких месяцев. Лжеиспанец основал свой расчет на коротких отношениях Эстер с прославленным мошенником, что нередко наблюдается среди женщин этого сорта.
Жорж д'Этурни, честолюбец, осмелевший от успехов, взял под свою защиту человека, прибывшего из глубокой провинции обделывать свои дела в Париже и обласканного либеральной партией за то, что мужественно переносил гонения во время борьбы прессы против правительства Карла Х, свирепость которого умерилась при министерстве Мартиньяка. Тогда-то и был помилован г-н Серизе, этот ответственный редактор, прозванный «Отважный Серизе».
И вот Серизе, якобы поддерживаемый верхами левой, основывает торговый дом, объединивший собою и коммерческое агенство, и банк, и комиссионную контору. В торговом мире это то же самое, что прислуга за все, как она именуется в объявлениях Птит афиш. Серизе был чрезвычайно счастлив связаться с Жоржем д'Этурни, который завершил его развитие.
Эстер, на основании анекдота о Нинон, могли считать верной хранительницей части состояния Жоржа д'Этурни. Передаточная надпись на вексельном бланке, сделанная Жоржем д'Этурни, обратила Карлоса Эррера в обладателя ценностей собственного производства. Этот подлог становился совершенно безопасным с той минуты, когда кто-либо, будь то мадемуазель Эстер или кто иной вместе нее, мог или вынужден был заплатить. Собрав сведения о торговом доме Серизе, Карлос признал в его владельце одну из темных личностей, решивших составить себе состояние, но… законно.
Серизе, подлинный хранитель состояния д'Этурни, был обеспечен солидными суммами, вложенными в биржевую игру на повышение и позволявшими ему выдавать себя за банкира. Так ведется в Париже: презирают человека, но не его деньги.
Карлос отправился к Серизе с намерением воспользоваться его услугами, потому что он случайно оказался обладателем всех тайн этого достойного соратника д'Этурни.
Отважный Серизи жил во втором этаже, на улице Гро-Шене, и Карлос, таинственно приказавший доложить, что он пришел от имени Жоржа д'Этурни, войдя в скромный кабинет, увидел мнимого банкира, бледного от страха. Это был низенький человек с белокурыми редкими волосами, в котором Карлос, по описанию Люсьена, узнал того, кто предал Давида Сешара.
– Мы можем тут говорить спокойно? Нас не подслушают? – обратился к нему испанец, теперь превратившийся в англичанина, рыжеволосого, в синих очках, столь же опрятного, столь же пристойного, как пуританин, направляющийся в церковь.
– К чему эти предосторожности, сударь? – спросил Серизе. – Кто вы такой?
– Вильям Баркер, заимодавец господина д'Этурни; но я могу, ежели вы этого желаете, доказать необходимость запереть двери. Мы знаем, сударь, каковы были ваши отношения с Пти-Кло, Куэнте и Сешарами из Ангулема…
Услышав эти слова, Серизе кинулся к двери, притворил ее, подбежал к другой двери, выходившей в спальню, запер ее на засов, бросив незнакомцу: «Тише, сударь!» Затем, пристально вглядываясь в мнимого англичанина, он спросил:
– Что вам от меня нужно?
– Боже мой! – продолжал Вильям Баркер. – Каждый за себя в этом мире. У вас капиталы этого бездельника д'Этурни… Успокойтесь, я пришел не для того, чтобы их у вас требовать; но по моему настоянию этот мошенник, который, между нами говоря, заслуживает веревки, передал мне вот эти ценные бумаги, сказав, что есть кое-какая надежда их реализовать; а так как я не хотел предъявлять иск от своего имени, он сказал, что вы не откажете мне в вашем.
Серизе посмотрел на векселя и сказал:
– Но его уже нет во Франкфурте…
– Я это знаю, – отвечал Баркер, – однако ж он мог еще быть там, когда переводил векселя на меня.
– Но я не желаю нести за них ответственность, – сказал Серизе.
– Я не прошу у вас жертвы, – продолжал Баркер, – вам ведь могут поручить их принять, вы и предъявите векселя к уплате, ну, а я берусь произвести взыскание.
– Я удивлен таким недоверием ко мне со стороны д'Этурни, – продолжал Серизе.
– Зная его положение, – отвечал Баркер, – нельзя его порицать за то, что он припрятал деньги в разных местах.
– Неужто вы думаете?.. – спросил этот мелкий делец, возвращая мнимому англичанину векселя, подписанные им по всем правилам.
– Я думаю, что вы, конечно, сбережете его капиталы! – сказал Баркер. – Уверен в том! Они уже брошены на зеленое сукно биржи.
– Мое личное состояние зависит…
– … от того, удастся ли вам создать видимость их потери, – сказал Баркер.
– Сударь!.. – вскричал Серизе.
– Послушайте, дорогой господин Серизе, – сказал холодно Баркер, перебивая Серизе. – Вы оказали мне услугу, облегчив получение денег у должника. Будьте любезны написать письмо, в котором вы сообщаете, что передаете мне эти ценные бумаги, учтенные в пользу д'Этурни, и что судебный исполнитель при взыскании обязан считать предъявителя письма владельцем этих трех векселей.
– Угодно вам назвать себя?
– Никаких имен! – отвечал английский капиталист. – Пишите: «Предъявитель сего письма и векселей…» Ваша любезность будет хорошо оплачена…
– Каким образом?.. – спросил Серизе.
– Одним-единственным словом. Вы ведь не собираетесь покинуть Францию, не так ли?
– О нет, сударь!
– Так вот, Жорж д'Этурни никогда не воротится во Францию.
– Почему?
– Как мне известно, человек пять собираются его прикончить, и он об этом знает.
– Теперь я понимаю, почему он просит у меня денег на дешевый товар для Индии! – вскричал Серизе. – Но, к несчастью, он надоумил меня вложить все сбережения в государственные процентные бумаги. Мы уже должны разницу банкирскому дому дю Тийе. Я еле перебиваюсь.
– Выходите из игры!
– О! Если бы я знал обо всем этом раньше! – вскричал Серизе. – Я упустил целое состояние…
– Еще одно слово! – сказал Баркер. – Молчание… вы способны его хранить… И – в чем я менее уверен – верность! Мы еще увидимся, и я вам помогу составить состояние.
Заронив надежду в эту грязную душу и тем самым надолго заручившись его молчанием, Карлос, под видом того же Баркера, отправился к судебному исполнителю, человеку надежному, и поручил ему добиться судебного решения против Эстер.
– Вам заплатят, – сказал он исполнителю. – Это дело чести! Мы хотим лишь держаться закона.
В коммерческом суде в качестве представителя мадемуазель Эстер выступал поверенный, приглашенный Баркером, так как он желал, чтобы в решении суда отразились прения сторон. Судебный исполнитель, памятуя о просьбе действовать учтиво, взял дело в свои руки и пришел сам наложить арест на имущество в улице Тетбу, где был встречен Европой. Как только приговор о принудительном взыскании был объявлен, над Эстер нависла реальная угроза в виде трехсот тысяч неоспоримого долга. Вся эта история не потребовала от Карлоса особой изобретательности. Подобный водевиль с мнимыми долгами в Париже разыгрывается чрезвычайно часто. Там существуют подставные Гобсеки, подставные Жигонне; за известное вознаграждение они соглашаются участвовать в таком казусе, потому что их забавляют эти грязные проделки. Во Франции все, что ни делается, делается со смехом, даже преступление. Так совершаются вымогательства, когда строптивые родители или жадная скупость вынуждены уступить перед острой необходимостью или мнимым бесчестием. Максим де Трай весьма часто прибегал к этому средству, заимствованному из старинного репертуара. Однако ж Карлос Эррера, желавший сберечь честь своего сана и честь Люсьена, воспользовался подлогом вполне безопасным и слишком вошедшим в практику, чтобы им заинтересовалось правосудие. Близ Пале-Рояля существует, говорят, биржа, где торгуют поддельными векселями, где за три франка вам продают подпись.
Прежде чем завести речь об этих ста тысячах экю, предназначенных стоять на страже у дверей спальни, Карлос твердо решил принудить господина Нусингена предварительно уплатить еще сто тысяч франков. И вот каким путем.
Азия, разыгрывая, по его приказанию, роль старухи, осведомленной о делах прекрасной незнакомки, явилась к влюбленному барону. И по сей день художники, изображающие нравы, выводят на сцену многих ростовщиков, но они забывают с современной ростовщице, госпоже Сводне, личности чрезвычайно любопытной, именуемой для пристойности торговкой подержанными вещами, роль которой могла сыграть свирепая Азия, владелица двух лавок – одной у Тампля, другой на улице Сен-Марк, которыми управляли две преданные ей женщины. «Ты опять влезаешь в одежку госпожи де Сент-Эстев», – сказал ей Эррера. Он пожелал видеть, как оделась Азия. Мнимая сводня явилась в шелковом, затканном цветами платье, ведущем свое происхождение от занавесок, украденных из какого-нибудь опечатанного будуара, в шали, бывшей когда-то кашемировой, а теперь изношенной, непригодной для продажи и кончающей свое существование на плечах подобных женщин. На ней был воротничок из великолепных, но расползающихся кружев и ужасная шляпа; зато она была обута в туфли из ирландской кожи, из которых ее толстая нога выпирала, точно подушка в наволочке из черного прозрачного шелка.
– А какова пряжка на поясе! – сказала она, указывая на подозрительное ювелирное изделие, украшавшее ее объемистый живот. – Какой вкус! А мой турнюр… Как он мило уродует меня! О, мадам Нуррисон меня лихо одела!
– Будь льстива, для начала, – сказал ей Карлос, – будь настороже, будь недоверчива, как кошка; главная твоя задача – пристыдить барона за то, что он обратился к помощи полиции, но и виду не подавай, что ты боишься их агентов. Короче, дай понять клиенту более или менее ясно, что никакая полиция не пронюхает, где спрятана красавица. Заметай хорошенько следы… А когда барон даст тебе право хлопать его по животу, называть старым греховодником, стань дерзкой, понукай им как лакеем.
Нусинген, испуганный угрозами никогда более не увидеть сводни, если он прибегнет хоть к малейшей слежке, тайком встречался с Азией, посещая по пути на биржу убогую квартиру на втором этаже на улице Нев-Сен-Марк. О, эти грязные тропы, исхоженные, и с каким наслаждением, влюбленными миллионерами! Парижские мостовые знают об том. Г-жа де Сент-Эстев, то обнадеживая барона, то повергая его в отчаяние, достигла того, что он пожелал любой ценой знать все, касающееся незнакомки!..
Тем временем судебный исполнитель действовал, и весьма успешно, ибо со стороны Эстер не встречал никакого противодействия. Он выполнил поручение в законный срок, не опоздав ни на один день.
Люсьен, направляемый своим советчиком, посетил раз пять или шесть сен-жерменскую затворницу. Жестокий исполнитель всех этих коварных умыслов почел свидания необходимыми для Эстер, опасаясь, чтобы не увяла ее красота, ставшая их капиталом. Когда наступило время покинуть дом лесничего, он вывел Люсьена и бедную куртизанку на пустынную дорогу, откуда был виден Париж и где их никто не мог услышать. Они сели на ствол срубленного тополя, и в свете восходящего солнца перед ними открылся великолепнейший в мире пейзаж с водами Сены, Монмартром, Парижем и Сен-Дени на горизонте.
– Дети мои, – сказал Карлос, – ваш сон окончился. Ты, моя крошка, не увидишь более Люсьена; а если и увидишь, помни, что встречалась с ним пять лет назад, и то лишь мимолетно.
– Вот и пришла моя смерть! – сказала она, не уронив ни одной слезы.
– Полно, уже пять лет, как ты больна, – продолжал Эррера. – Вообрази, что у тебя чахотка, и умирай, не докучая нам твоими стенаниями. Но ты убедишься, что еще можешь жить, и даже очень хорошо! Оставь нас, Люсьен, ступай собирать сонеты, – сказал он, указывая на ближайший луг.
Люсьен кинул на Эстер жалобный взгляд, присущий людям безвольным и алчным, с чувствительным сердцем и низкой натурой. Эстер в ответ склонила голову, точно желая сказать: «Я выслушаю палача, чтобы знать, как мне лечь под топор, и у меня достанет мужества достойно умереть». В этом движении было столько изящества и столько отчаяния, что поэт зарыдал; Эстер подбежала к нему, сжала его в объятиях, губами осушила его слезы и сказала: «Будь покоен!», так, как говорят в бреду, с горящими глазами и лихорадочными движениями.
Карлос начал излагать точно, без обиняков, зачастую грубо называя вещи своими именами, безвыходность Люсьена, отношение к нему в доме де Гранлье, стал рисовать картины прекрасной жизни, уготованной ему, если он восторжествует; наконец он поставил Эстер перед необходимостью принести себя в жертву ради этого блистательного будущего.
– Что я должна сделать? – воскликнула она в крайнем возбуждении.
– Слепо повиноваться мне, – сказал Карлос. – Какие причины вам жаловаться? В вашей воле избрать себе завидную участь. Ваш путь – путь Туллии, Флорины, Мариетты и Валь-Нобль, ваших прежних приятельниц; вы станете любовницей богача, не любя его. Если наши замыслы осуществятся, ваш возлюбленный будет достаточно богат, чтобы сделать вас счастливой…
– Счастливой! – повторила она, поднимая глаза к небу.
– Вы провели в раю четыре года, – продолжал он. – Разве нельзя жить воспоминаниями?..
– Повинуюсь вам, – отвечала она, утирая навернувшиеся слезы. – Об остальном не тревожьтесь! Вы сами сказали, что моя любовь – болезнь – болезнь смертельная.
– Это еще не все, – снова заговорил Карлос. – Вы должны сохранить вашу красоту. Вам двадцать два года, ваша красота в расцвете, этим вы обязаны вашему счастью. Короче, превратитесь снова в Торпиль, проказницу, расточительницу, коварную, безжалостную к миллионеру, которого я отдаю на вашу волю. Послушайте! Этот человек – крупный биржевой хищник, он чужд жалости, он разжирел на средства вдов и сирот, будьте мстительницей! Азия приедет за вами в фиакре, и нынче же вечером вы воротитесь в Париж. Дать повод для подозрения, что вы четыре года были в связи с Люсьеном, значит пустить ему пулю в лоб. Если спросят, где же вы были все это время, отвечайте, что вас увез англичанин, чрезвычайно ревнивый, и вы совершили с ним длительное путешествие. Когда-то у вас доставало ума нести всякий вздор, восстановите свои способности…
Случалось ли вам когда-либо видеть сверкающий золотом, парящий в небесах бумажный змей, гигантскую бабочку детства?.. Дети на миг забывают о веревке, прохожий ее обрывает, метеор, как говорят школьники, клюет носом и падает с головокружительной быстротой на землю. Так было с Эстер, когда она слушала слова Карлоса.
ЧАСТЬ II. Во что любовь обходится старикам
Нусинген в продолжение недели приходил почти каждый день в лавку на улице Нев-Сен-Марк, где он вел торг о выкупе той, которую любил. Там, среди вороха ослепительных нарядов, пришедших в состояние, когда платье уже не платье, но еще не рубище, царила Азия, но под именем де Сент-Эстев, то под именем г-жи Нуррисон, своей наперсницы. Обрамление находилось в полном согласии с обличьем, которое придавала себе эта женщина, ибо подобные лавки являются одной из самых мрачных достопримечательностей Парижа. Там видишь отрепья, брошенные костлявой рукой Смерти, там из-под шали слышится чахоточный хрип и под золотым шитьем наряда угадываешь агонию нищеты. Жестокий поединок Роскоши и Голода запечатлен в воздушных кружевах. Там из-под тюрбана с перьями возникает образ королевы, настолько живо убор рисует и почти воссоздает отсутствующее лицо. Уродство в красоте! Бич Ювенала, занесенный равнодушной рукой оценщика, расшвыривает облезшие муфты, потрепанные меха доведенных до крайности жриц веселья. Кладбище цветов, где там и тут алеют розы, срезанные накануне и служившие украшением один лишь день, и где на корточках извечно восседает старуха, сводная сестра Лихоимства, беззубая, лысая Случайность, готовая продать содержимое оболочки, настолько она привыкла покупать самую оболочку; платье без женщины или женщину без платья! Тут точно надсмотрщик на каторге, точно ястреб с окровавленным клювом над падалью, Азия была в своей стихии; она внушала еще больший ужас, чем тот, который овладевает прохожим, когда он вдруг увидит свое самое юное, самое свежее воспоминание выставленным напоказ в грязной витрине, за которой гримасничает настоящая Сент-Эстев, ушедшая на покой.
Распаляясь все более и более, за десятком тысяч франков обещая новые десятки тысяч франков, банкир дошел до того, что предложил шестьдесят тысяч франков г-же Сент-Эстев, которая ответила ему отказом, кривляясь на зависть любой обезьяне. Проведя тревожную ночь в размышлениях о том, какое смятение внесла Эстер в его жизнь, он однажды утром, после неожиданной удачи на бирже, пришел наконец в лавку с намерением выбросить сто тысяч франков, как того требовала Азия, но выманив у нее предварительно всякого рода сведения.
– Все-таки решился, забавник толстопузый? – сказала Азия, хлопнув его по плечу.
Терпимость к самой оскорбительной развязности в обращении – первый налог, который женщины этого сорта взимают с необузданных страстей или с доверившейся им нищеты; никогда не поднимаясь до уровня клиента, они принуждают его сползти вместе с собою в мусорную кучу. Азия, как мы видим, была совершенно послушна своему господину.
– Прихотится, – сказал Нусинген.
– И тебя не обирают, – ответила Азия. – Продавала женщин и дороже, чем ты платишь за эту. Сравнительно, конечно. Женщина женщине рознь! Де Марсе дал за покойницу Корали шестьдесят тысяч франков. Цена твоей красотки было сто тысяч, из первых рук; но для тебя, видишь ли, старый развратник, назначить другую цену неприлично.
– А кто ше он?
– Ну, ты ее еще увидишь! Я, как ты: из рук в руки!.. Ах, драгоценный ты мой, и натворил же глупостей твой предмет! Молодые девушки безрассудны. Наша принцесса сейчас настоящая ночная красавица.
– Красафиц…
– Нашел время разыгрывать простофилю! Ее преследует Лушар. Так я одолжила ей пятьдесят тысяч…
– Сказаль би тфацать пьят! – вскричал барон.
– Черт возьми! Двадцать пять за пятьдесят, само собою, – отвечала Азия. – Эта женщина, надобно отдать ей справедливость, сама честность! Кроме собственной персоны, у ней не осталось ничего. Она мне сказала: «Душенька, госпожа Сент-Эстев, меня преследуют, и только вы могли бы меня выручить: одолжите мне двадцать тысяч франков! В залог отдаю мое сердце…» О! Сердце у нее золотое! И одной только мне известно, где красотка скрывается. Проболтайся я, и плакали бы мои двадцать тысяч франков… Прежде она жила на улице Тетбу. Перед тем как уехать оттуда… (обстановка ведь у ней описана… в возмещение судебных издержек. И негодяи же эти приставы!.. Вам-то это известно, ведь вы биржевой делец!). Так вот, не будь глупа, она отдает внаем на два месяца свою квартиру англичанке, шикарной женщине, у которой любовником был этот фатишка Рюбампре. Он так ее ревновал, что выводил кататься только ночью… Ведь обстановку будут продавать с аукциона, и англичанка оттуда убралась, а впрочем, она была не по карману такому вертопраху, как Люсьен…
– Ви сняли банк, – сказал Нусинген.
– Натурой, – сказал Азия. – Ссужаю красивых женщин. Дело доходное: учитываешь две ценности сразу.
Азия потешалась, переигрывая роль женщины алчной, но более вкрадчивой, более мягкой, чем сама малайка, и оправдывающей свое ремесло лишь благими побуждениями. Азия выдавала себя за женщину, которая разочаровалась в жизни, потеряла детей и пятерых любовников и давала, несмотря на свою опытность, обкрадывать себя всему свету. Время от времени она извлекала на свет божий ломбардные квитанции в доказательство невыгодности своего ремесла. Она жаловалась на недостаток средств, на множество долгов. Короче говоря, она была так откровенно отвратительна, что барон в конце концов поверил в подлинность того лица, которое она изображала.
– Карашо! Но когта би я даваль сто тисяча, я получаль би сфидань? – сказал он, махнув рукой, как человек, решившийся идти на любые жертвы.
– Нынче же вечером, папаша, пожалуешь в своей карете, ну, скажем, к театру Жимназ. Это для начала, – сказала Азия. – Остановишься на углу улицы Сент-Барб. Я буду там сторожить; мы покатим к моему чернокудрому залогу… Уж кудри у моего сокровища, краше их нет! Будто шатер, укрывают они Эстер, стоит ей только вынуть гребень. Но ежели в цифрах ты и смекаешь, во всем прочем ты, по-моему, простофиля; советую тебе хорошенько спрятать девчонку, иначе ее упекут в Сент-Пелажи, и не позже, как завтра, если отыщут… а ее ищут.
– Я мог би викупать вексель? – сказал неисправимый хищник.
– Векселя у судебного пристава… но тут придраться не к чему, да это и бесполезно. Девчонка, видите ли, отделалась от одной страстишки и проела имущество, которое у нее теперь требуют. И то сказать: в двадцать-то два года сердце не прочь пошутить!
– Карашо, карашо! Я должен наводить порядок, – сказал Нусинген с хитрым видом. – Атин слоф, я буду покровитель дефушка.
– Ну и олух же ты! У тебя одна забота – заставить себя полюбить, а монеты у тебя хватит, чтобы купить отличную подделку под настоящую любовь. Передаю принцессу в твои руки, и пусть повинуется тебе! Об остальном я не беспокоюсь… Но она приучена к роскоши, к самому почтительному обращению. Ах, милуша, ведь она женщина порядочная!.. Иначе разве я дала бы ей пятнадцать тысяч франков?
– Ну, карашо, дело решон. До вечер!
Барон снова принялся за туалет новобрачного, однажды уже им совершенный; но на этот раз уверенность в успехе заставила его удвоить дозу султанских пилюль. В девять часов он встретил страшную старуху в условленном месте и посадил ее к себе в карету.
– Кута? – сказал барон.
– Куда? – повторила Азия. – Улица Перль на Болоте; подходящий адресок, ведь твоя жемчужина в грязи, но ты ее отмоешь!
Когда они туда прибыли, мнимая г-жа Сент-Эстев с отвратительной улыбкой сказала Нусингену:
– Пройдемся немного пешком, я не так глупа, чтобы давать настоящий адрес.
– Ти все предусмотрель, – отвечал Нусинген.
– Таково мое ремесло, – заметила она.
Азия привела Нусингена на улицу Барбет, где они вошли в дом, занятый под меблированные комнаты, которые содержал местный обойщик, и поднялись на пятый этаж. Увидев Эстер, склонившуюся над вышиванием, бедно одетую, среди убого обставленной комнаты, миллионер побледнел. Понадобилось четверть часа, – Азия тем временем что-то нашептывала Эстер, – покамест молодящийся старец обрел дар речи.
– Мотмазель, – сказал он наконец бедной девушке, – ви будете так добр, что примете меня как ваш покрофитель?
– Что станешь делать, сударь, – сказала Эстер, и из ее глаз скатились две крупные слезы.
– Не надо плакать. Я делай вас самой сшастливи женшин… Но только посфоляйте любить вас, и ви это увидит!
– Деточка, этот господин – разумный человек, – сказала Азия. – Он так хорошо знает, что ему стукнуло шестьдесят шесть лет, и он будет снисходителен. Одним словом, ангел мой прекрасный, я тебе нашла отца… С ней надо так говорить, – шепнула Азия на ухо обескураженному барону. – Ласточек не ловят, стреляя в них из пистолета. Подите-ка сюда! – сказала Азия, выпроваживая Нусингена в смежную комнату. – Не запамятовали о нашем условьице, ангелок?
Нусинген вынул из кармана фрака бумажник и отсчитал сто тысяч франков, которые кухарка и принесла Карлосу, спрятанному в туалетной и ожидавшему с нетерпением ее прихода.
– Вот сто тысяч франков, помещаемых нашим клиентом в Азии; теперь мы заставим его поместить столько же в Европе, – сказал Карлос своей наперснице, когда она вышла на лестничную площадку.
Он исчез, дав наставления малайке, вернувшейся затем в комнату, где Эстер плакала горючими слезами. Как преступник, присужденный к смерти, это дитя создало роман из надежд, и роковой час пробил.
– Ну, милые детки, – сказала Азия, – куда же вы отправитесь?.. Ведь барон Нусинген…
Эстер взглянула на знаменитого барона, изобразив жестом искусно сыгранное удивление.
– Та, мой дитя, я барон Нюсеншан.
– Барон Нусинген не должен, не может находиться в такой конуре. Послушайте меня! Ваша бывшая горничная, Эжени…
– Эшени? Улица Тетбу? – вскричал барон.
– Ну да, хранительница описанной мебели, – продолжала Азия, – она-то и сдавала квартиру красавице англичанке…
– А-а!.. я понималь, – сказал барон.
– Бывшая горничная мадам, – продолжала Азия почтительно, указывая на Эстер, – прелюбезно примет вас нынче вечерком, ведь торговому приставу на ум не придет искать мадам в квартире, откуда она выехала три месяца назад…
– Превосхотно! – вскричал барон. – Притом я знай торгови пристав и знай слоф, чтоби он исчезаль…
– Тонкая бестия достанется вам в Эжени, – сказала Азия, – это я пристроила ее к мадам…
– Я знай Эшени! – вскричал миллионер, смеясь. – Он стибриль мой дрицать тисяча франк.
Движение ужаса вырвалось у Эстер: ее жест был так убедителен, что благородный человек доверил бы ей свое состояние.
– О! Это мой ошибка, – продолжал барон, – я преследоваль вас… И он рассказал о недоразумении, вызванном сдачей квартиры англичанке.
– Как вам это нравится, мадам? – воскликнула Азия. – Эжени и словом не обмолвилась, плутовка! Но мадам слишком привыкла к этой девушке, – сказала он барону. – Не стоит ее увольнять.
Азия отвела барона в сторону и продолжала:
– От Эжени за пятьсот франков в месяц, – а надо сказать, что она прикапливает деньжонки, – вы узнаете все, что делает мадам; приставьте ее горничной к мадам. Эжени будет вам предана тем более, что она уже вас пообщипала. Ничто так не привязывает женщину, как удовольствие общипать мужчину. Но держите Эжени в узде: она ради денег на все пойдет. Ужас, что за девчонка!
– А ти?
– Я? – сказала Азия. – Я возмещаю свои издержки.
У Нусингена, столь проницательного человека, была точно повязка на глазах: он вел себя, как ребенок. Стоило ему увидеть простодушную и прелестную Эстер, которая, склонясь над рукоделием, отирала слезы, скромная, словно юная девственница, и в этом влюбленном старце ожили все чувства, испытанные им в Венсенском лесу. Он готов был отдать ей ключ от своей кассы. Он снова был молод, сердце преисполнилось обожания, он ожидал ухода Азии, чтобы приникнуть к коленям этой мадонны Рафаэля. Внезапный взрыв юношеских страстей в сердце старого хищника – одно из социальных явлений, легче всего объяснимых физиологией. Подавленная бременем дел, придушенная постоянными расчетами и вечными заботами в погоне за миллионами, молодость, с ее возвышенными мечтаниями, оживает, зреет и расцветает, подобно брошенному зерну, давшему пышное цветение под лаской проглянувшего осеннего солнца, – так давняя причина, повинуясь случайности, приводит к своему следствию. Двенадцати лет поступив на службу в старинную фирму Альдригера в Страсбурге, барон никогда не соприкасался с миром чувств. Вот почему, стоя перед своим идолом и прислушиваясь к тысяче фраз, роившихся в его мозгу, но не находя ни одной из них у себя на устах, он подчинился животному желанию, которое выдало в нем мужчину шестидесяти шести лет.
– Желайте поехать на улиц Тетбу? – спросил он.
– Куда пожелаете, сударь, – отвечала Эстер, вставая.
– Кута пожелайте! – повторил он в восхищении. – Ви анкел, который зошель з небес; я люблю, как молодой челофек, хотя мой волос уше с проседь…
– Ах, вы можете смело сказать: хотя я сед! Чересчур ваши волосы черны, чтобы быть с проседью, – сказала Азия.
– Пошель вон, торгофка человечески тело! Ти полючаль теньги, не пачкай больше цфеток люпфи! – вскричал барон, вознаграждая себя этой грубой выходкой за все наглости, которые он претерпел.
– Ладно, старый повеса! Ты поплатишься за эти слова! – сказала Азия, сопровождая свою угрозу жестом, достойным рыночной торговки, но барон только пожал плечами. – Между рыльцем кувшина и рылом выпивохи достанет места гадюке, тут я есть!.. – сказала она, обозленная презрением Нусингена.
Миллионеры, у которых деньги хранятся во Французском банке, особняки охраняются отрядом лакеев, а их собственная особа на улицах защищена стенками кареты и быстроногими английскими лошадьми, не боятся никакого несчастья; оттого барон так холодно взглянул на Азию, – ведь только что дал ей сто тысяч франков! Его величественный вид оказал свое действие. Азия, что-то ворча себе под нос, предпочла отступить на лестницу, где держала чрезвычайно революционную речь, в которой упоминалось об эшафоте!
– Что вы ей сказали? – спросила дева за пяльцами. – Она добрая женщина.
– Он продаль вас, он вас обокраль…
– Когда мы в нищете, – отвечала она, и выражение ее лица способно было разбить сердце дипломата, – смеем ли мы ожидать помощи и внимания?
– Бедни дитя! – сказал Нусинген. – Ни минута больше не оставайтесь сдесь!
Нусинген подал руку Эстер, он увел ее, в чем она была, и усадил в свою карету с такой почтительностью, какую едва ли оказал бы прекрасной герцогине де Монфриньез.
– Ви будете полючать красифи экипаж, самый красифи в Париш, – говорил Нусинген во время пути. – Весь роскошь, весь преятность роскоши вас будет окружать. Королева не будет затмефать вас богатством. Почет будет окружать вас, как невест в Германии: я делай вас сшастлив. Не надо плакать. Послюшайте, я люблю вас настояще, чиста люпоф, каждой ваш слеза разбивает мой сердец…
– Разве любят продажную женщину? – сказала девушка пленительным голосом.
– Иозиф бил же продан братьями за свою красоту. Так в Пиплии. К тому же на Восток покупают свой законный жена!
Воротившись на улицу Тетбу, где она была так счастлива, Эстер не утаила своих горестных чувств. Неподвижно сидела она на диване, роняя слезы одну за другой, не слыша страстных признаний, которые бормотал на своем варварском жаргоне барон.
Он приник к ее коленям, она не отстраняла его, не отнимала рук, когда он прикасался к ним; она, казалось, не сознавала, какого пола существо обогревает ее ноги, показавшиеся холодными барону Нусингену. Горячие слезы капали на голову барона, а он старался согреть ее ледяные ноги, – эта сцена длилась с двенадцати до двух часов ночи.
– Эшени, – сказал барон, позвав наконец Европу, – добейтесь от ваш госпожа, чтоби он ложилься…
– Нет! – вскричала Эстер, сразу взметнувшись, как испуганная лошадь. – Здесь? Никогда!..
– Извольте сами видеть, мосье! Надо знать мадам, она ласковая и добрая, как овечка, – сказала Европа банкиру, – только не надо идти ей наперекор, а вот обходительностью вы все с ней сделаете! Она была так несчастна тут!.. Поглядите! Мебель-то как потрепана! Оставьте ее в покое. Сняли бы для нее какой-нибудь славный особнячок, куда как хорошо! Как знать, может, и забудет она про старое в новой обстановке, может, вы покажетесь ей лучше, чем вы есть, и она станет нежной, как ангел? О, мадам ни с кем не сравнится! И вы можете себя поздравить с отличным приобретением: доброе сердце, милые манеры, тонкая щиколотка, кожа… ну, право, роза! А как остра на язык! Приговоренного к смерти может рассмешить… А как она привязчива!.. А как умеет одеться! Что ж! Пусть и дорого, но, как говорится, мужчина свои расходы окупит. Тут все ее платья опечатаны; наряды, стало быть, отстали от моды на три месяца. Знайте, мадам так добра, что я ее полюбила, и она моя госпожа! Ну, посудите сами, такая женщина… и вдруг очутиться среди опечатанной обстановки!.. И ради кого? Ради бездельника, который так ловко ее обошел… Бедняжка! Она сама не своя.
– Эздер… Эздер… – говорил барон. – Ложитесь, мой анкел! Ах! Если ви боитесь меня, я побуду тут, на этот диван! – вскричал барон, воспылавший самой чистой любовью, видя, как неутешно плачет Эстер.
– Хорошо, – отвечала Эстер и, взяв руку барона, поцеловала ее в порыве признательности, что вызвало на глазах матерого хищника нечто весьма похожее на слезу, – я очень благодарна вам за это…
И она ускользнула в свою комнату, заперев за собою дверь.
«Тут есть нечто необъяснимое, – сказал про себя Нусинген, возбужденный пилюлями. – Что скажут дома?»
Он встал, посмотрел в окно: «Моя карета еще здесь… А ведь скоро утро…»
Он прошелся по комнате: «Ну, и посмеялась бы мадам Нусинген, если бы узнала, как я провел эту ночь…»
Он приложился ухом к двери спальни, сочтя, что лечь спать было бы чересчур глупо.
– Эздер!..
Никакого ответа.
«Боже мой! Она все еще плачет!.. – сказал он про себя и, отойдя от двери, лег на кушетку.
Минут десять спустя после восхода солнца барон Нусинген, забывшийся тяжелым, вымученным сном, лежа на диване в неудобном положении, был внезапно разбужен Европой, прервавшей одно из тех сновидений, что обычно грезятся в подобных случаях и по своей запутанности и быстрой смене образов представляют одну из неразрешимых задач для врачей-физиологов.
– Ах, боже мой! Мадам! – кричала она. – Мадам!.. Солдаты… Жандармы! Полиция!.. Они хотят вас арестовать…
В ту секунду, когда Эстер, отворив дверь спальни, появилась в небрежно наброшенном пеньюаре, в ночных туфлях на босу ногу, с разметавшимися кудрями, такая прекрасная, что могла бы соблазнить и архангела Рафаила, дверь из прихожей изрыгнула в гостиную поток человеческой грязи, устремившейся на десяти лапах к этой небесной деве, которая застыла в позе ангела на фламандской картине из священной истории. Один человек выступил вперед. Контансон, страшный Контансон, опустил руку на теплое от сна плечо Эстер.
– Вы мадемуазель Эстер Ван?.. – начал он.
Европа наотмашь ударила Контансона по щеке, вслед за тем она заставила его выяснить, сколько ему нужно места, чтобы растянуться во весь рост на ковре, нанеся ему резкий удар по ногам, хорошо известный всем, кто сведущ в искусстве так называемой вольной борьбы.
– Назад! – вскричала она. – Не сметь трогать мою госпожу!
– Она сломала мне ногу! – кричал Контансон, поднимаясь. – Мне за это заплатят…
Среди пяти сыщиков, одетых, как полагается сыщикам, в ужасных шляпах, нахлобученных на еще более ужасные головы, с багровыми, в синих прожилках лицами – у кого с косыми глазами, у кого с кривым ртом, а у кого и без носа, – выделялся Лушар, одетый опрятнее других; но он тоже не снял шляпу, и выражение его лица было вместе и заискивающее и насмешливое.
– Мадемуазель, я вас арестую, – сказал он Эстер. – Что касается вас, дочь моя, – сказал он Европе, – за всякое буйство грозит наказание, и всякое сопротивление напрасно.
Стук оружейных прикладов о пол в столовой и прихожей, возвещал, что охранник снабжен охраной, подкрепил эти слова.
– За что же меня арестуют? – наивно спросила Эстер.
– А ваши должки? – отвечал Лушар.
– Ах, верно! – воскликнула Эстер. – Позвольте мне одеться.
– К сожалению, я должен удостовериться, мадемуазель, нет ли в вашей комнате какой-нибудь лазейки, чтобы вы от нас не убежали, – сказал Лушар.
Все это произошло так быстро, что барон не успел вмешаться.
– Карашо! Так это я торкофка челофечески тело, парон Нюсеншан? – вскричала страшная Азия, проскользнув между сыщиками к дивану и якобы только что обнаружив присутствие барона.
– Мерзки негодниц! – вскричал Нусинген, представ перед нею во всем величии финансиста.
И он бросился к Эстер и Лушару, который снял шляпу, услышав возглас Контансона:
– Господин барон Нусинген!..
По знаку Лушара сыщики покинули квартиру, почтительно обнажив головы, остался один Контансон.
– Господин барон платит? – спросил торговый пристав, держа шляпу в руке.
– Платит, – отвечал он, – но ранше я дольжен знать, в чем тут дело?
– Триста двенадцать тысяч франков с сантимами, включая судебные издержки; расход по аресту сюда не входит.
– Триста тфенадцать тисяча франк! – вскричал барон. – Это слишком дорогой пробушдень для челофека, который проводиль ночь на диван, – шепнул он на ухо Европе.
– Неужто этот человек барон Нусинген? – спросила Европа у Лушара, живописуя свои сомнения жестом, которому позавидовала бы мадемуазель Дюпон, актриса, еще недавно исполнявшая роль субреток во французском театре.
– Да, мадемуазель, – сказал Лушар.
– Да, – отвечал Контансон.
– Я отвечай за ней, – сказал барон, задетый за живое сомнением Европы, – позвольте сказать атин слоф.
Эстер и ее старый обожатель вошли в спальню, причем Лушар почел необходимым приложиться ухом к замочной скважине.
– Я люблю вас больше жизнь, Эздер; но зачем давать кредитор теньги, для которых лутчи место ваш кошелек? Ступайте в тюрьма: я берусь викупать этот сто тисяча экю за сто тисяча франк, и ви будете иметь тфести тисяча франк для сфой карман…
– План не пригоден! – крикнул ему Лушар. – Кредитор не влюблен в мадемуазель!.. Вы поняли? Отдай весь долг, и то ему покажется мало, как только он узнает, что вы увлечены ею.
– Шут горохови! – вскричал Нусинген, отворив дверь и впуская Лушара в спальню. – Ти не знаешь, что говоришь. Ти будешь получать тфацать процент, если проведешь это дело…
– Невозможно, господин барон.
– Как сударь? У вас достанет совести, – сказала Европа, вмешиваясь в разговор, – допустить мою госпожу до тюрьмы!.. Желаете, мадам, взять мое жалованье, мои сбережения? Берите их! У меня есть сорок тысяч франков…
– Ах, бедняжка! А я и не знала, какая ты! – вскричала Эстер, обнимая Европу.
Европа залилась слезами.
– Я шелай платить, – жалостно сказал барон, вынимая памятную книжку, откуда он взял маленький квадратный листок печатной бумаги, какие банки выдают банкирам, – достаточно проставить на нем сумму в цифрах и прописью, и этот листок превращается в вексель, оплачиваемый предъявителю.
– Не стоит труда, господин барон, – сказал Лушар, – мне приказано произвести расчет наличными, золотом или серебром. Но ради вас я удовольствуюсь банковыми билетами.
– Тьяволь! – вскричал барон. – Покаши наконец твой документ!
Контансон предъявил три документа в обложке из синей бумаги; глядя Контансону в глаза, барон взял их и шепнул ему на ухо:
– Ти лутче би предупреждаль меня.
– Но разве я знал, господин барон, что вы здесь? – отвечал шпион, не заботясь о том, слышит ли их Лушар. – Вы многое потеряли, отказав мне в доверии. Вас обирают, – прибавил этот великий философ, пожимая плечами.
– Ферно! – сказал барон. – Ах! Мой дитя! – вскричал он, увидев векселя и обращаясь к Эстер. – Фи шертва мошенник! Фот мерзавец!
– Увы, да! – сказала бедная Эстер. – Но он так меня любил!
– Если би я зналь… я опротестовал би от ваш имени…
– Вы теряете голову, господин барон, – сказал Лушар. – Есть третий предъявитель.
– Та, – продолжал барон, – есть третий предъявитель… Серизе! Челофек, который всегда протестоваль!
– У него мания остроумия, – сказал с усмешкой Контансон, – он каламбурит.
– Не пожелает ли господин барон написать несколько слов своему кассиру? – спросил Лушар, улыбнувшись. – Я пошлю к нему Контансона и отпущу людей. Время уходит, и огласка…
– Ступай, Гонданзон! – вскричал Нусинген. – Мой кассир живет на угол улиц Мадюрен и Аркат. Фот записка, чтоби он пошел к тю Тиле и Келлер. Слючайно мы не держаль дома сто тисяча экю, потому теньги все в банк… Одевайтесь, мой анкел! – сказал он Эстер. – Ви свободен! Старух, – вскричал он, бросив взгляд на Азию, – опасней молодых!..
– Иду потешить кредитора, – сказала ему Азия. – Он-то уж меня не обидит; и попирую же я нынче! Не бутем сердица, каспатин парон… – прибавила Сент-Эстев, отвратительно приседая на прощание.
Лушар взял документы у барона, и они остались наедине в гостиной, куда полчаса спустя пришел кассир, сопровождаемый Контансоном. Тут же появилась Эстер в восхительном наряде, хотя и не обдуманном заранее. Когда Лушар сосчитал деньги, барон пожелал проверить векселя, но Эстер выхватила их кошачьим движением и спрятала в свой письменный столик.
– Сколько же вы пожертвуете на всю братию? – спросил Контансон Нусингена.
– Ви не бил одшень учтив, – сказал барон.
– А моя нога? – вскричал Контансон.
– Люшар, давай сто франк Гонданзон от остаток тисячни билет…
– Очен красифи женшин, – сказал кассир барону Нусингену, покидая улицу Тетбу, – но очень дорог, каспатин парон.
– Сохраняйт секрет, – сказал барон; Контансона и Лушара он также просил держать все в тайне.
Лушар вышел вместе с Контансоном, но Азия, подстерегавшая их на бульваре, остановила торгового пристава.
– Судебный пристав и кредитор тут, в фиакре; от нетерпения они готовы лопнуть, – сказала она. – И здесь можно поживиться!
Покамест Лушар считал капиталы, Контансон успел разглядеть клиентов. Всем своим видом выказывая равнодушие к происходящему, он, тем не менее, запомнил глаза Карлоса, приметил форму лба под париком, и именно парик показался ему подозрительным; он записал номер фиакра, но в особенности занимали его воображение Азия и Европа. Он решил, что барон стал жертвой чрезвычайно ловких людей, тем более, что Лушар, прибегая к его услугам, на этот раз обнаружил удивительную осторожность. Притом подножка, которую дала ему Европа, поразила не только его берцовую кость. «Прием пахнет Сен-Лазаром! – сказал он про себя, подымаясь с полу.
Карлос расстался с судебным приставом, щедро его вознаградив, и сказал кучеру:
– Пале-Ройяль, к подъезду!
«Вот тебе раз! – подумал Контансон, услышав этот адрес. – Тут что-то нечисто!..»
Карлос доехал до Пале-Ройяль с такой быстротою, что мог не опасаться погони. Потом он, по своему обычаю, пересек галереи и на площади Шато-д'О взял другой фиакр, бросив кучеру: «Проезд Оперы! Со стороны улицы Пинон». Четверть часа спустя он был на улице Тетбу.
Увидев его, Эстер сказала:
– Вот эти несчастные документы!
Карлос взял векселя, проверил; затем пошел в кухню и сжег их в печке.
– Шутка сыграна! – вскричал он, показывая триста десять тысяч франков, свернутых в одну пачку, которую он вытащил из кармана сюртука. – Вот это да еще сто тысяч франков, добытых Азией, позволяют нам действовать.
– Боже мой! Боже мой! – воскликнула бедная Эстер.
– Дура! – сказал этот расчетливый человек. – Стань открыто любовницей Нусингена, и ты будешь встречаться с Люсьеном, он друг Нусингена. Я не запрещаю тебе любить его.
Эстер во мраке ее жизни приоткрылся слабый просвет; она вздохнула свободней.
– Европа, дочь моя, – сказал Карлос, уводя эту тварь в угол будуара, где никто не мог подслушать их беседы, – Европа, я доволен тобой.
Европа подняла голову, и взгляд, брошенный ею на этого человека настолько преобразил ее поблекшее лицо, что свидетельница сцены, Азия, сторожившая у двери, задумалась над тем: не крепче ли ее собственных те узы, которые связывают Европу с Карлосом?
– Это еще не все, дочь моя. Четыреста тысяч франков ничто для меня… Паккар вручит тебе опись серебра стоимостью до тридцати тысяч франков, на которые есть пометка о платежах в разные сроки в счет следуемой суммы; но наш ювелир Биден потерпел на этом убыток. Объявление о распродаже обстановки Эстер, на которую он наложил арест, появится, наверно, завтра. Пойди к Бидену, на улицу Арбр-Сэк, он даст тебе ломбардные квитанции на десять тысяч франков. Понимаешь, Эстер заказала серебро, не расплатилась за него, а уже отдала в заклад; ей угрожает обвинение в мошенничестве. Стало быть, надо отнести ювелиру тридцать тысяч франков и в ломбард десять тысяч, чтобы выкупить серебро. Итого, с накладными расходами, сорок три тысячи франков. Столовые приборы из накладного серебра, барон их обновит, а мы по этому случаю выкачаем у него еще несколько билетов по тысяче франков. Вы должны… Сколько за два года вы должны портнихе?
– Да, пожалуй, около шести тысяч франков, – ответила Европа.
– Так вот, если мадам Огюст хочет получить свои деньги и сохранить клиентку, пусть подаст счет на тридцать тысяч франков за четыре года. Тот же уговор с модисткой. Ювелир Самуил Фриш, еврей с улицы Сент-Авуа, даст тебе расписки: мы должны быть ему должны двадцать пять тысяч франков, а мы выкупим драгоценностей на шесть тысяч франков, заложенных нами в ломбарде. Затем вернем эти драгоценности золотых дел мастеру, причем половина камней будет фальшивыми; вероятно, барон на них и не посмотрит. Короче, ты принудишь нашего понтера через недельку поставить еще сто пятьдесят тысяч франков.
– Мадам должна хотя бы чуточку мне помочь, – отвечала Европа. – Поговорите с ней, ведь она ничего не соображает, и мне приходится раскидывать умом за трех авторов одной пьесы.
– Если Эстер вздумает ломаться, дай мне знать, – сказал Карлос. – Нусинген обещал ей экипаж и лошадей, пусть она скажет, что выберет их по своему вкусу. Воспользуйтесь услугами того же каретника и барышника, что обслуживают хозяина Паккара. Мы заведем кровных скакунов, чрезвычайно дорогих; они захромают через месяц, и мы их переменим.
– Можно вытянуть тысяч шесть по дутому счету от парфюмера, – сказала Европа.
– О нет! Уж больно ты тороплива, – сказал он ей, качая головой. – Действуй потихоньку, добивайся уступки за уступкой. Барон всунул в машину только руку, а нам требуется голова. Сверх всего этого мне нужны еще пятьдесят тысяч франков.
– Вы их получите, – отвечала Европа. – Мадам подобреет к этому толстому разине, когда дело дойдет до шестисот тысяч франков, и попросит у него еще четыреста, чтобы слаще любить.
– Послушай, дочь моя, – сказал Карлос. – В тот день, когда я получу последние сто тысяч франков, найдется и для тебя тысяч двадцать.
– К чему они мне? – сказала Европа, махнув рукой, точно дальнейшее существование казалось ей невозможным.
– Ты можешь вернуться в Валансьен, купить хорошее заведение и стать порядочной женщиной, если пожелаешь; бывают всякие вкусы, вот и Паккар об этом подумывает; у него чистые плечи, без клейма, почти чистая совесть, вы бы подошли друг другу, – отвечал Карлос.
– Вернуться в Валансьен!.. Как вы могли подумать, мосье? – вскричала Европа испуганно.
Уроженка Валансьена, дочь бедных ткачей, Европа была послана семи лет на прядильную фабрику, где современная промышленность истощила ее физические силы, а порок преждевременно развратил ее. Обольщенная в двенадцать лет, ставшая матерью в тринадцать, она попала в среду людей глубоко испорченных. В шестнадцать лет она предстала перед уголовным судом по делу об одном убийстве, правда, в качестве свидетельницы. Уступая не совсем еще заглохшей в ней честности и испытывая ужас перед правосудием, она дала показания, в силу которых суд приговорил обвиняемого к двадцати годам каторжных работ. Преступник, уже не раз судившийся и принадлежавший к организации, члены которой связаны страшной порукой мести, сказал во всеуслышание этой девочке: «Через десять лет, день в день, Прюданс (Европу звали Прюданс Сервьен), я ворочусь, чтобы угробить тебя, хотя бы меня за это и скосили». Председатель суда пытался успокоить Прюданс Сервьен, обещая ей поддержку, участие правосудия; но бедная девочка так жестока была потрясена, что от страха заболела и пробыла около года в больнице. Правосудие – это некое отвлеченное существо, представленное собранием личностей, состав которых постоянно обновляется, и их добрые намерения и память, так же, как и они сами, чрезвычайно недолговечны. Суды присяжных, как и трибуналы, бессильны предупредить преступление: они созданы, чтобы расследовать уже совершенное. В этом отношении полиция, предотвращающая преступления, была бы благодеянием для страны; но слово полиция пугает нынешнего законодателя, который не находит более различия между словом править – управлять – отправлять правосудие. Законодатель стремится к тому, чтобы государство брало на себя все фунции, как будто оно способно к действию. А каторжник никогда не забывает о своем враге и мстит ему, ибо правосудие не вспоминает больше о нем. Прюданс, которой чутье подсказало, какая ей грозит опасность, бежала из Валансьена и очутилась с семнадцати лет в Париже, надеясь там скрыться. Она попробовала четыре ремесла; лучшим оказалось ремесло статистки в маленьком театре. Встретившись с Паккаром, она рассказала ему о своих злоключениях. Паккар, правая рука и верный помощник Жака Коллена, рассказал о Прюданс своему господину; господин, когда ему понадобилась рабыня, сказал Прюданс: «Если ты согласна служить мне, как служат дьяволу, я освобожу тебя от Дюрю». Дюрю был тот каторжник, тот дамоклов меч, что висел над головой Прюданс Сервьен. Из этих подробностей многие критики сочли бы привязанность Европы к Карлосу не совсем правдоподобной. К тому же никто не понял бы развязки, которую готовил Карлос.
– Да, дочь моя, ты можешь вернуться в Валансьен… Вот, прочти. – И он протянул ей вечернюю газету, указав пальцем на следующую заметку: «Тулон. Вчера состоялась казнь Жана Франсуа Дюрю… С раннего утра гарнизон…» и т. д.
Газета выпала из рук Прюданс; у нее подкашивались ноги; она опять могла жить, а ведь, по ее словам, ей и хлеб стал горек с того дня, как ей пригрозил Дюрю.
– Ты видишь, я сдержал свое слово. Потребовалось четыре года, чтобы упала голова Дюрю, пойманного в западню… Так вот, выполнив мое поручение, ты можешь стать хозяйкой маленького предприятия у себя на родине, с состоянием в двадцать тысяч франков, и женой Паккара, которому я разрешаю вернуться к добродетели, выйдя в отставку.
Европа схватила газету и с жадностью стала читать сообщение о казни каторжников, описанной со всеми подробностями, на которые последние двадцать лет не скупятся газеты: величественное зрелище, неизменный священник, напутствующий раскаявшегося разбойника, злодей, увещевающий своих бывших товарищей, наведенные дула ружей, коленопреклоненные каторжники; затем пошлые рассуждения, бессильные что-либо изменить в режиме каторжных тюрем, где кишат восемнадцать тысяч преступлений.
– Надобно устроить Азию на старое место… – сказал Карлос.
Азия подошла, ровно ничего не понимая в пантомиме Европы.
– … чтобы она снова стала здесь кухаркой. Вы сперва угостите барона обедом, какого он не едал отроду, – продолжал он, – потом скажите ему, что Азия проиграла все свои деньги и опять пошла в услужение. Гайдук нам не потребуется, и Паккар станет кучером; кучер не покидает козел, он там недосягаем и менее всего привлечет внимание шпионов. Мадам прикажет ему носить пудреный парик, треуголку из толстого фетра, обшитого галуном: наряд его преобразит, к тому же я его загримирую.
– У нас будут и другие слуги? – спросила Азия, поводя раскосыми глазами.
– У нас будут честные люди, – отвечал Карлос.
– Все они слабоумные! – заметила мулатка.
– Если барон снимет особняк, привратником может быть дружок Паккара, – продолжал Карлос. – Нам еще потребуются лишь лакей да судомойка, и вы отлично уследите за этими двумя посторонними.
В ту минуту, когда Карлос хотел уходить, вошел Паккар.
– Оставайтесь тут. На улице народ, – сказал гайдук.
Эти простые слова имели страшный смысл. Карлос поднялся в комнату Европы и пробыл там, покуда за ним не воротился Паккар в наемной карете, въехавшей прямо во двор. Карлос опустил занавески, и карета тронулась со скоростью, которая расстроила бы любую погоню. Прибыв в поместье Сент-Антуан, он вышел из кареты неподалеку от стоянки фиакров, пешком дошел до первого фиакра и воротился на набережную Малакэ, ускользнув таким образом от любопытствующих.
– Послушай-ка, мальчик, – сказал он Люсьену, показывая ему четыреста билетов по тысяче франков, – тут, я надеюсь, хватит на задаток за землю де Рюбампре. Но мы все же рискнем сотней тысяч из этих денег. Собираются пустить по городу омнибусы; парижане увлекаются новинкой, и в три месяца мы утроим наш золотой запас. Я в курсе дела: акционерам дадут на их пай отличные дивиденды, чтобы повысить интерес к акциям. Это затея Нусингена. Восстанавливая владения де Рюбампре, мы не заплатим сразу всей суммы. Повидайся с де Люпо, проси его рекомендовать тебя адвокату по имени Дерош; поезжай к нему в контору и предложи этой продувной бестии поехать в Рюбампре изучить местность. Пообещаещь двадцать тысяч франков, если он сумеет, скупив за восемьсот тысяч франков земли вокруг развалин замка, составить тебе тридцать тысяч ренты.
– Как ты шагаешь!.. Ну и размах у тебя!..
– Такой уж у меня нрав! Полно шутить. Ты обратишь сто тысяч экю в облигации казначейства, чтобы не терять процентов; можешь поручить это Дерошу, он честен, хотя и хитер… Покончив тут, скачи в Ангулем, добейся у сестры и зятя согласие принять на себя невинную ложь. Пусть твои родные, если понадобится, скажут, что дали тебе шестьсот тысяч франков по случаю твоей женитьбы на Клотильде де Гранлье: в том нет бесчестия.
– Мы спасены! – в восхищении вскричал Люсьен.
– Ты – да! – продолжал Карлос. – Но только по выходе из церкви святого Фомы Аквинского с Клотильдой в качестве жены…
– А ты чего опасаешься? – спросил Люсьен, казалось, полный участия к своему советчику.
– Меня выслеживают любопытные… Надо вести себя, как подобает настоящему священнику, а это чрезвычайно скучно! Дьявол откажет мне в покровительстве, увидев меня с требником под мышкой.
В эту минуту барон Нусинген, держа под руку кассира, подошел к двери своего особняка.
– Одшень боюсь, – сказал барон, входя в дом, – что я делаль плохой дело… Ба! Наш свое возмет…
– Очень жалько, что каспатин парон опнарушиль себя, – ответил почтенный немец, озабоченный лишь соблюдением благопристойности.
– Та, мой офисиальни любофниц дольжен полючать положений, достойни мой положень, – отвечал этот Людовик XIV от биржи.
Уверенный в том, что рано или поздно он завладеет Эстер, барон опять превратился в великого финансиста, каким он и был. Он так усердно принялся за управление делами, что кассир, застав его на другой день в шесть часов в кабинете за просмотром ценных бумаг, только потер руки.
– Положительно, каспатин парон делаль экономи этот ночь, – сказал он с чисто с немецкой улыбкой, одновременно хитрой и простодушной.
Если люди богатые, вроде барона Нусингена, чаще других находят случай тратить деньги, все же они чаще других находят и случай наживать их, даже предаваясь безумствам. Хотя финансовая политика знаменитого банкирского дома Нусингена описана в другом месте, небесполезно заметить, что столь крупные состояния не приобретаются, не составляются, не увеличиваются, не сохраняются в пору финансовых, политических и промышленных революций нашей эпохи без огромных потерь капитала или, если угодно, без обложения налогами частных состояний. Чрезвычайно мало новых ценностей вкладывается в общую сокровищницу земного шара. Всякое новое накопление средств в одних руках представляет собою новое неравенство в общем распределении. То, чего требует государство, оно же и возвращает; но то, что захватывает какой-нибудь банкирский дом Нусингена, он оставляет у себя. Подобные махинации ускользают от кары закона, потому что в противном случае Фридрих II мог бы уподобиться какому-нибудь Жаку Коллену или Мандрену, если бы вместо водворения порядка в провинциях при помощи военных действий он занялся бы контрабандой и операциями с ценностями. Понуждать европейские государства заключать займы из двадцати или десяти процентов так, чтобы эти проценты получал частный капитал, разорять дотла промышленность, захватывая сырье, бросать основателю какого-либо дела веревку, чтобы поддержать на поверхности воды, покуда из нее выудят его захлебнувшееся предприятие, – словом, все эти выигранные денежные битвы и составляют высокую финансовую политику. Конечно, банкир, как и завоеватель, порой подвергается опасности; но люди, которые в состоянии давать подобные сражения, так редко встречаются, что баранам там и не место. Великие дела вершатся пастырями. Поскольку банкроты (ходячее выражение на биржевом жаргоне) повинны в желании чересчур много нажить, постольку и несчастья, причиненные махинациями всяких Нусингенов, обычно не очень близко принимаются к сердцу. Спекулянт ли пустит себе пулю в лоб, сбежит ли биржевой маклер, разорит ли нотариус сотню семейств, а это хуже, чем убить человека, прогорит ли банкир – все эти катастрофы, которые забываются в Париже через несколько месяцев, оставляют по себе в этом великом городе, точно в море, лишь легкую зыбь. Громадные состояния Жак Керов, Медичи, Анго из Дьепа, Офреди из Ла-Рошель, Фуггеров, Тьеполо, Корнеров были некогда честно приобретены благодаря преимуществам, возникшим в силу общей неосведомленности о происхождении всякого рода ценных товаров; но в наше время географические познания так прочно проникли в массы, конкуренция так прочно ограничила прибыли, что всякое состояние, быстро составленное, является делом случая, следствием открытия либо узаконенного воровства. Растленная скандальными примерами мелкая торговля, особенно в последние десять лет, отвечала на коварные махинации крупной торговли подлыми покушениями на сырье. Повсюду, где применяется химия, вина более не пьют: таким образом, виноделие падает. Продают искусственную соль, чтобы уклониться от акциза. Суды испуганы этой всеобщей нечестностью. Короче сказать, французская торговля на подозрении у всего мира, и так же развращается Англия. Корень зла лежит у нас в государственном праве. Хартия провозгласила господство денег; преуспеяние тем самым становится верховным законом атеистической эпохи. Поэтому развращенность нравов высших классов общества, несмотря на маску добродетели и мишурную позолоту, много гнуснее, чем та испорченность, якобы присущая низшим классам, особенности которой сообщают страшный, а если угодно, и комический характер этим Сценам парижской жизни. Правительство, пугаясь всякой новой мысли, изгнало из театра комический элемент в изображении современных нравов. Буржуазия, менее либеральная, чем Людовик XIV, дрожит в ожидании своей «Женитьбы Фигаро», запрещает играть «Тартюфа» и, конечно, не разрешила бы теперь ставить «Тюркаре», ибо «Тюркаре» стал властелином. Поэтому комедия передается изустно, и оружием поэтов, пусть не так быстро разящим, зато более надежным, становится книга.
В то утро, в самый разгар всяких деловых визитов, всяких распоряжений и коротких совещаний, превращавших кабинет Нусингена в подобие приемной министерства финансов, один его маклер сообщил об исчезновении наиболее ловкого и богатого из членов торгового товарищества, Жака Фале, брата Мартина Фале и преемника Жюля Демаре. Жак Фале был биржевой маклер банкирского дома Нусингена. В согласии с дю Тийе и Келлерами барон столь хладнокровно подготовил разорение этого человека, точно дело шло о том, чтобы заколоть барашка на пасху.
– Он не мок больше тержаться, – отвечал спокойно барон.
Жак Фале оказал огромные услуги торговцам ценными бумагами. Во время кризиса, несколько месяцев назад, он спас положение смелыми операциями. Но требовать благодарности от биржевых хищников – не то же ли самое, что пытаться разжалобить волков зимой на Украине?
– Бедняга! – сказал биржевой маклер. – Он был так далек от мысли о подобной развязке, что обставил на улице Сен-Жорж особнячок для своей любовницы. Он истратил сто пятьдесят тысяч франков на картины и на мебель. Он так любил госпожу дю Валь-Нобль!.. И вот эта женщина должна все потерять… Там все взято в долг.
«Отлично! Отлично! – сказал про себя Нусинген. – Вот случай вернуть все, что я потерял этой ночью…»
– Он ничефо не платиль? – спросил он у биржевого маклера.
– Эх, – отвечал маклер. – Неужели нашелся бы такой невежа поставщик, который отказал бы в кредите Жаку Фале? Там, кажется, целый погреб отличных вин. Кстати, дом продается. Фале рассчитывал его приобрести. Купчая составлена на его имя. Какая нелепость! Серебро, обстановка, вина, карета, лошади – все пойдет с торгов, а что получат заимодавцы?
– Приходите зафтра, – сказал Нусинген, – я буду осматрифать все и, если будет объявлен банкротство, кончайт дело полюпофно, я буду поручать вам объявлять благоразумни цен на этот обстановка и заключать договор…
– Все может быть устроено как нельзя лучше, – сказал маклер. – Поезжайте туда нынче же; там вы встретите одного из компаньонов Фале с поставщиками, которые хотят получить преимущественное право; у Валь-Нобль есть их накладные на имя Фале.
Барон Нусинген тут же послал одного из конторщиков к своему нотариусу. Жак Фале говорил ему об этом доме, стоившем самое большее шестьдесят тысяч франков, и он желал немедленно стать его владельцем, чтобы закрепить за собой право распоряжаться им.
Кассир (честнейший человек!) пришел узнать, не понесет ли его господин ущерб на банкротстве Фале.
– Напорот, мой добри Вольфган, я буду полючать обратно свой сто тисяча франк.
– Пошему?
– Э-э! Я буду иметь маленьки особняк, который этот бетняк Фале весь год готовиль для свой люпофниц. Я полючу весь обстановка, если предложу пьятдесят тысяч франк кредиторам; я уше дал каспатину Гарто, моему нотариусу, приказ насчет дома, потому хозяйн без теньга… Я это зналь, но не имель голова на плеч!.. Тем лутчи! Мой божественный Эздер будет хозяйка в маленки тфорец! Фале показиваль мне этот дом: что за прелесть!.. И два шага отсюда!.. Не придумать лутчи!
Банкротство Фале принудило барона идти на биржу; но он не мог покинуть улицы Сен-Лазар, не побывав на улице Тетбу; он уже страдал оттого, что несколько часов не видел Эстер; ему хотелось, чтобы она всегда была подле него. Выгода, которую он рассчитывал извлечь из наследства своего маклера, весьма облегчала его скорбь о потере четырехсот тысяч франков, истраченных этой ночью. Восхищенный возможностью сообщить своему анкелу о переезде с улицы Тетбу на улицу Сен-Жорж, где Эстер будет жить в маленки тфорец и где воспоминания не послужат помехой их счастью, он не чувствовал под ногами мостовой, он летел, как юноша, полный радужных грез. На повороте улицы Труа-Фрер погруженный в мечтания барон посреди дороги наткнулся на Европу; на ней лица не было.
– Кута ти пошель? – сказал он.
– Ох, мосье, я шла к вам… Как вы были правы вчера! Теперь я поняла, что бедной мадам лучше было бы сесть в тюрьму на несколько дней. Но разве женщины что-либо смыслят в денежных делах! Как только кредиторы прослышали, что мадам вернулась к себе, все они набросились на нас, как на свою добычу… Вчера, в семь часов вечера, мосье, к нам пришли и приклеили ужасные объявления о распродаже обстановки в эту субботу… Но все это пустяки… Мадам, сама доброта, пожелала, видите ли, оказать однажды услугу этому чудовищному человеку!
– Какой чутовишни?
– Ну, тому, кого она любила, д'Этурни. О! Он был мил. Он играл, вот и все.
– Играль краплени карт…
– Что за беда? А вы, смею спросить?.. – сказала Европа. – Что вы делаете на бирже? Не перебивайте меня. Как-то раз, когда Жорж пригрозил, что он пустит себе пулю в лоб, она снесла в ломбард все свое серебро, драгоценности, а они ведь еще не оплачены! Пронюхав, что мадам выплатила кое-что одному из кредиторов, все прочие пришли к ней и устроили скандал… Угрожают Исправительной… Ваш ангел, и на скамье подсудимых!.. Ведь даже парик на голове и тот станет дыбом!.. Мадам обливается слезами, говорит, что готова в реку броситься… Ох! Она на все пойдет.
– Если би я зашель к Эздер, прощай биржа! – вскричал барон. – А это невозмошно, чтоби я не ходиль на биржа! Потому я дольжен кое-что выиграть для нее… Ступай, успокой ее; я буду платит тольги; приду ровно в четири час. Но, Эшени, скажи, чтоби он чутошка любил меня!..
– Как чуточку? Очень… Знайте, мосье, только щедростью покоряют женское сердце… Конечно, вы, может, и сберегли бы сотню тысяч франков, позволив ей сесть в тюрьму. Но никогда бы вы не завоевали ее сердце… Ведь она мне сказала: «Эжени, он был поистине великодушен, поистине щедр… У него прекрасная душа!»
– Он так сказаль, Эшени? – вскричал барон.
– Да, мосье, своими ушами слышала.
– Тержи, вот десять луитор…
– Благодарю… Но она все еще плачет… она выплакала со вчерашнего дня столько слез, сколько выплакала святая Магдалина за целый месяц… Ваша любимая убивается, и добро бы еще из-за собственных долгов! Ох эти мужчины! Разоряют они женщин, как женщины разоряют стариков… ей-ей!
– Мушчин весь таков! Обешшаль! Эх, только говориль… Пуская он не подписывает ничефо больше. Я буду платить, но если он будет давать ишо подпись… я…
– А что вы сделаете? – сказала Европа, подбоченясь.
– Поже мой! Я не имей никакой власть над ней… Я сам займусь делами Эздер… Ступай! Ступай! Утешай ее, говори, что не пройдет месяц, как он будет полючать маленки тфорец.
– Вы поместили, господин барон, капитал на крупные проценты в сердце женщины! Знаете… я нахожу, что вы помолодели; хоть я только горничная, а часто наблюдала такие чудеса… счастья… У счастья есть какой-то свой отблеск… Если вы потратились, не жалейте… Увидите, какой это принесет доход! Прежде всего, и я сказала это мадам: она будет последней из последних, будет потаскушкой, если вас не полюбит, ведь вы ее вытаскиваете из сущего ада… Вот отойдут от нее заботы, вы ее не узнаете! Между нами, должна вам признаться; ночью она так рыдала – что прикажете делать?.. ведь дорожат все же уважением человека, который готов нас содержать… Она не могла осмелиться сказать вам все это… она хотела убежать…
– Убешать! – вскричал барон, испуганный этой мыслью. – Но биржа, биржа! Ступай, ступай! Я не пойду с тобой… Но прошу, чтоби он подходил к окна, чтоби я видел ее… Это придаст мне бодрость…
Эстер улыбнулась господину Нусингену, когда он проходил мимо ее дома, а он, тяжело ступая, удалился, прошептав про себя: «Ангел!»
При помощи какой же уловки Европа достигла столь непостижимого результата? К половине третьего Эстер закончила свой туалет, словно ожидая прихода Люсьена; она была восхитительна. Заметив это, Европа выглянула в окно и сказала: «А вот и мосье!» Бедная девушка бросилась к окну, надеясь увидеть Люсьена, и увидела Нусингена.
– Ах, какую боль ты мне причиняешь! – воскликнула она.
– Иного средства не было утешить невзначай бедного старика, который заплатит все ваши долги, – отвечала Европа. – Ведь все они будут наконец заплачены!
– Какие долги? – вскричала бедное создание, мечтавшее лишь удержать свою любовь, которую хотели отнять у нее страшные руки.
– Долги, которые господин Карлос устроил мадам.
– Как? Вот уже почти четыреста пятьдесят тысяч франков! – воскликнула Эстер.
– Прибавьте еще сто пятьдесят. Но он отлично принял все это… барон… он вытащит вас отсюда, поселит в маленки тфорец… Право, вы не так уж несчастны!.. На вашем месте, раз уж вы так крепко привязали к себе этого человека, я бы выполнила требования Карлоса, а там заставила бы подарить себе дом и ренту. Мадам, конечно, самая красивая, какую я только видела, и самая привлекательная… Но красота проходит так быстро! Я была свежа и красива, и вот… Мне двадцать три года, почти возраст мадам, а я кажусь старше лет на десять. Достаточно заболеть, и… Ну, а когда имеешь дом в Париже и ренту, не боишься, что умрешь на мостовой…
Эстер не слушала более Европу-Эжени-Прюданс Сервьен. Воля человека, одаренного талантом растления, опять погружала Эстер в грязь с тою же силою, какую этот человек положил, чтобы извлечь ее из грязи. Лишь тот, кто познал любовь во всей ее бесконечности, понимает, что человеку дано вкусить ее блаженства, лишь приобщившись к ее добродетелям. После сцены в конуре на улице Ланглад Эстер совершенно забыла о своей прежней жизни. Она жила с того времени чрезвычайно добродетельно, вся уйдя в чувство любви к Люсьену. Поэтому, желая избежать сопротивления, Карлос так искусно все подготовил, что бедной девушке, движимой преданностью, не оставалось ничего более, как изъявлять свое согласие на мошенничества либо уже совершенные, либо готовые совершиться. Это коварство, говорящее о превосходстве развратителя над своими жертвами, указывает и на те приемы, которыми он подчинил себе Люсьена. Создать роковую неизбежность, устроить подлог, подложить пороху и в решительную минуту сказать сообщнику: «Сделай одно лишь движение, и все взорвется!» Прежде Эстер, проникнутая особой моралью куртизанок, находила все эти шуточки настолько естественными, что достоинства соперницы измеряла лишь расточительностью ее любовника. Разоренные состояния – вот знаки различия этих женщин. Карлос, положившись на воспоминания Эстер, не обманулся. Все эти военные хитрости, все эти уловки, тысячи раз испробованные не только такими женщинами, но и мотами, не смущали Эстер. Несчастная чувствовала только свое унижение. Она любила Люсьена, но она должна была стать признанной любовницей барона Нусингена; в этом заключалось все. Брал ли с барона деньги в задаток мнимый испанец, строил ли свое счастье Люсьен на камнях могилы Эстер, какой ценою куплена ночь блаженства старым бароном, сколько тысячафранковых билетов выманила у него Европа более или менее искусными приемами – ничто не волновало влюбленную девушку, но в сердце ее кровоточила рана! Пять лет жила она, как непорочный ангел. Она любила, она была счастлива, она не изменила даже мыслью. И эта прекрасная, чистая любовь должна быть осквернена! Она не сравнивала своей отрадной уединенной жизни с тем позорным существованием, что ей было уготовано отныне. То не было ни расчетом, ни поэтической экзальтацией, ее переполняло одно лишь неизъяснимое, глубокое чувство: из белой она становилась черной, из чистой – нечистой, из честной – бесчестной. Но, став безупречной по собственной воле, она не могла перенести позора. Недаром она хотела броситься из окна, когда барон стал угрожать ей своей любовью. Короче говоря, Люсьен был любим беззаветно и с такой силой, с какой женщины чрезвычайно редко любят мужчину. Женщина хотя и говорит, что любит, хотя она нередко даже думает, что так, как любит она, никто еще не любил, все же она не прочь попорхать, покружиться в вальсе, полюбезничать, пленить свет своими уборами, пожинать успех во взорах воздыхателей; но Эстер совершала чудеса истинной любви, ничего не принося в жертву. Шесть лет она любила Люсьена, как любят актрисы и куртизанки, когда, вывалявшись в грязи, она томится по чистым чувствам, по самоотверженной чистой любви и преклоняются перед ее исключительностью (не следует ли изобрести новое слово, чтобы выразить понятие, столь редко встречающееся в жизни?). Древние народы Греции, Рима и Востока лишали женщину свободы; любящая женщина должна была бы сама себя лишать свободы. Итак, нетрудно понять, что покидая волшебные чертоги, где происходило это пиршество, где творилась эта поэма, и готовясь вступить в маленки тфорец старца с охладевшей кровью, Эстер испытывала род нравственного недуга. Понуждаемая железной рукой, она совершила много низостей, прежде чем успела о чем-либо подумать; но вот уже два дня сряду она предавалась размышлениям, и смертельный холод охватывал ее сердце.
При словах «Умереть на мостовой» – она резким движением встала, сказав:
– Умереть на мостовой? Нет, лучше уж Сена…
– Сена?.. А мосье Люсьен? – сказала Европа.
Одно это слово принудило Эстер опять опуститься в кресло, и она застыла в этой позе, не отрывая взгляда от розетки на ковре, словно на ней сосредочились все ее мысли. Нусинген, придя в четыре часа, застал своего ангела погруженным в тот океан размышлений и раздумий, по которому носятся женские души, покамест не найдут решения, непостижимого для того, кто не пускался в плавание вместе с ними.
– Не надо хмурить ваш чело… мой красафиц… – сказал барон, усаживаясь подле нее. – Ви не будет иметь больше тольги… Я дам знать Эшени, и ровно через месяц ви покинете этот квартир, чтоби взойти в маленки тфорец… О! прелестни рука! Позфоляйте атин поцалуй… (Эстер позволила взять свою руку, как собака дает лапу). Ах! Фи дали мне свой рука… но не сердец, что я люблю…
Это было сказано так искренне, что несчастная Эстер перевела глаза на старика, и взор ее, исполненный жалости, едва не свел его с ума. Любящие, подобно мученикам, чувствуют себя братьями по страданиям. В мире лишь родственные страдания поистине поймут друг друга.
– Бедный, – сказала она, – он любит!
Услышав эти слова, ошибочно им понятые, барон побледнел, кровь закипела у него в жилах, на него повеяло воздухом рая. В его возрасте миллионеры платят за подобные ощущения столько золота, сколько того женщина пожелает.
– Я люблю вас, как любят свой дочь…– сказал он. – И я чувствуй сдесь, – продолжал он, приложив руку к сердцу, – что не мог би видеть вас нешастлив.
– Если бы вы согласились быть только отцом, как бы я вас любила! Я никогда не покинула бы вас, и вы увидели бы, что не плохая женщина, не продажная, не корыстная, какой кажусь вам сейчас.
– Ви делаль маленки глупость, – продолжал барон, – как всяки красифи женшин, вот и все! Не будем говорить больше на этот тема. Наш дело заработать теньги для вас… Будьте сшастлиф; я зогласен бить ваш отец в течение несколько тней, потому понимаю, что нужно привикнуть к мой бедни фигур.
– Верно!.. – вскричала она.
Вскочив с кресла, она прыгнула на колени Нусингену и прижалась к нему, обвив руками его шею.
– Ферно, – отвечал он, пытаясь изобразить на своем лице улыбку.
Она поцеловала его в лоб, она поверила в невозможную сделку, которая позволит ей остаться чистой и видеть Люсьена… Она так ласкалась к банкиру, что напомнила прежнюю Торпиль. Она обворожила старика, обещавшего питать к ней только отцовские чувства целых сорок дней. Эти сорок дней нужны для покупки и устройства дома на улице Сен-Жорж. Но, выйдя на улицу, на обратном пути к дому барон мысленно говорил себе: «Я простофиля!»
И точно, если вблизи Эстер он становился младенцем, то вдали от нее он опять влезал в свою волчью шкуру, подобно Игроку, который снова влюбляется в Анжелику, как только остается без гроша в кармане.
«Полмиллиона бросить и не знать, какая у нее ножка! Это уже чересчур глупо, но, к счастью, никому об этом не известно», – думал он двадцать дней спустя. И принимал гордое решение порвать с женщиной, за которую заплатил так дорого; но как только барон оказывался подле Эстер, он забывал о своем решении и всем своим поведением старался искупить собственную грубость при их первой встрече. На исходе месяца он ей сказал: «Я не могу быть фечни отец».
В конце декабря 1829 года, накануне переезда Эстер в особняк на улице Сен-Жорж, барон попросил дю Тийе свести туда Флорину, чтобы наконец решить, все ли там находится в соответствии с богатством Нусингена и нашли ли слова маленки тфорец свое подтверждение в искусстве художников, которым было поручено сделать эту клетку достойной птички. Все изощрения роскоши, появившиеся накануне революции 1830 года, были представлены тут, превращая этот дом в образец хорошего вкуса. Архитектор Грендо видел в нем совершенное творение своего декоративного мастерства. Лестницы и стены под мрамор, ткани, строгость позолоты, мельчайшая подробности, как и общее впечатление, затмевали все, что век Людовика XV оставил в этом стиле в наследство Парижу.
– Вот моя мечта: такой дом и добродетель! – сказала Флорина улыбаясь. – И ради кого ты входишь в такие расходы? – спросила она Нусингена. – Не дева ли это, сошедшая с небес?
– Нет, женшин, котори опять туда фознесется, – ответил барон.
– Вот тебе случай изобразить из себя Юпитера, – сказала актриса. – И когда мы ее узрим?
– О! В тот день, когда будут праздновать новоселье, – вскричал дю Тийе.
– Не ранше… – сказал барон.
– Надобно порядком подчиститься, прифрантиться, навести на себя красоту, – продолжала Флорина. – О! Женщины дадут жару своим портнихам и парикмахерам по случаю этого вечера!.. Но когда же?..
– Я не хозяйн.
– Вот так женщина!.. – воскликнула Флорина. – О, как я хочу ее увидеть!..
– И я тоше, – простодушно заметил барон.
– Подумать только! Дом, женщина, мебель – все будет новое!
– Даже банкир, – сказал дю Тийе, – ибо, на мой взгляд, наш друг помолодел.
– Ему и надо вернуть свои двадцать лет, хотя бы на краткий миг, – сказала Флорина.
В первые дни 1830 года весь парижский большой свет говорил о страсти Нусингена и о необузданной роскоши его дома. Бедный барон, выставленный на посмешище, взбешенный, и не без основания, принял однажды решение, в котором расчетливая воля финансиста шла навстречу бешеной страсти, терзавшей его сердце. Он, хотел, празднуя новоселье, отпраздновать и награду, которую он, сбросив тогу благородного отца, вкусит наконец после стольких жертв. Неизменно отступая перед сопротивлением Торпиль, он вздумал вести переговоры о своих брачных делах путем переписки, чтобы получить от нее письменное обязательство. Банкиры доверяют только векселям. Итак, в один из первых дней нового года, встав пораньше, биржевой хищник заперся в кабинете и сочинил следующее письмо на хорошем французском языке, ибо если он и произносил дурно, то писал отлично.
«Милая Эстер, цветок моей души и единственное счастье моей жизни! Когда я говорил, что люблю вас, как свою дочь, я обманывал вас и сам обманывался. Я этим желал лишь выразить святость моих чувств, не похожих ни на одно из тех, что обычно испытывают мужчины: прежде всего, я старик, затем я никогда не любил. Я люблю вас настолько, что если бы вы стоили мне всего моего состояния, я не любил бы вас меньше. Будьте справедливы! Большинство мужчин не увидело бы в вас ангела, как вижу я, – мой взор никогда не обращался к вашему прошлому. Я люблю вас, как люблю мою дочь Августу, мое единственное дитя, и как любил бы свою жену, когда б жена могла меня любить. Если счастье – единственное оправдание для влюбленного старика, согласитесь, что я играю смешную роль. Я сделал вас утешением, радостью моих последних дней. Вы хорошо знаете, что, пока я жив, вы будете счастливы, насколько может быть счастлива женщина; и вы так же хорошо знаете, что после моей смерти вы будете достаточно богаты, чтобы вашей судьбе могли позавидовать многие женщины. Во всех сделках, которые я заключаю с той поры, как я имел счастье заговорить с вами, ваша доля прибыли вычитается предварительно, и на ваше имя открыт счет в банке Нусингена. Через несколько дней вы войдете в дом, который рано или поздно будет вашим, если он вам полюбится. Скажите, вы и там меня встретите, как отца или я буду наконец счастлив?.. Простите, что пишу вам так откровенно; но когда я подле вас, мужество меня покидает, я слишком глубоко чувствую вашу власть надо мной. У меня нет намерения вас обидеть, я хочу лишь сказать вам, как сильно я страдаю и как жестоко в моем возрасте жить ожиданием, зная, что каждый прошедший день уносит с собой мои надежды и мое счастье. Впрочем, скромность моего поведения является порукой искренности моих намерений. Поступал ли я когда-либо как кредитор? Вы точно крепость, а я уже не молод. Отвечая на мои мольбы, вы говорите, что дело идет о вашей жизни, и я вам верю, покуда вас слушаю; но наедине с самим собой я поддаюсь черной тоске, сомнениям, позорящим нас обоих. Вы показались мне настолько же доброй и чистой, насколько и прекрасной; но вам угодно разрушить это мое убеждение. Посудите сами! Вы говорите, что вашим сердцем владеет страсть, мучительная страсть, и вы отказываетесь доверить мне имя того, кого вы любите… Естественно ли это? Человека достаточно сильного вы обратили в человека неслыханно слабого… Видите, до чего я дошел! Я вынужден спросить вас, какое будущее готовите вы моей страсти, на что мне надеяться после пяти месяцев ожидания? Мне надо также знать, какая роль мне предназначена на праздновании новоселья в вашем особняке. Деньги для меня ничто, когда дело касается вас; но я не настолько глуп, чтобы похваляться пренебрежением к деньгам; ибо если моя любовь беспредельна, то мое состояние ограничено, и я им дорожу только ради вас. Ну что ж! Если, отдав вам все, что я имею, я мог бы, нищий удостоиться вашей привязанности, то бедность, скрашенную вашей любовью, я предпочел бы богатству, омраченному вашим презрением. Вы так сильно меня изменили, дорогая Эстер, что никто меня не узнает; я заплатил десять тысяч франков за картину Жозефа Бридо; для этого вам достаточно было сказать, что он даровитый человек и не признан. Наконец, я каждому встречному нищему даю по пяти франков ради вас. Так о чем молит бедный старик, почитающий себя вашим должником, когда вы делаете ему честь что-либо от него принять?.. Он молит подать надежду, и какую надежду, великий боже! Ведь это скорее уверенность, что вы никогда не подарите больше того, что возьмет моя любовь! Но горячность моего сердца поможет вашему жестокому притворству. Вы видите, что я готов принять все условия, поставленные вами моему счастью, моим скромным радостям; но скажите мне хотя бы, что в тот день, когда вы вступите во владение вашим домом, вы примете любовь и преданность того, кто называет себя до конца дней своих
вашим рабомФредериком Нусинген».– Ах, как мне наскучила мне эта кубышка с миллионами! – вскричала Эстер, в которой вновь ожила куртизанка.
Она взяла секретку и написала, во всю ширину листка, знаменитую фразу, ставшую поговоркой к вящей славе Скриба: Возьмите моего медведя.
Четверть часа спустя, почувствовав угрызения совести, Эстер написала такое письмо:
«Господин барон!
Не обращайте никакого внимания на письмо, которое вы получили от меня; то была шалость девчонки; простите же, сударь, бедняжку, которой суждено быть рабыней. Я никогда так ясно не чувствовала низости моего положения, как в тот день, когда меня вручили вам. Вы заплатили, я ваша должница. Нет ничего священней долгов бесчестья. Я не имею права рассчитаться с ними, бросившись в Сену. Долг все же возможно заплатить, и той ужасной монетой, которая способна удовлетворить только одну сторону: стало быть, я к вашим услугам. Я хочу ценою одной ночи заплатить всю сумму, внесенную в счет этого рокового события, и уверена, что один час со мною стоит миллионы, тем более единственный, последний час. Потом я буду в расчете и могу уйти из жизни. У честной женщины есть надежды после падения подняться; мы, куртизанки, падаем слишком низко. Поэтому мое решение твердо, и я прошу вас сохранить это письмо, чтобы засвидетельствовать причину смерти той, что называет себя на один день
вашей служанкойЭстер».Отправив письмо, Эстер пожалела об этом. Десять минут спустя она написала третье письмо. Вот оно:
«Простите, дорогой барон, это опять я. Я не желала ни насмеяться над вами, ни оскорбить вас; я хочу лишь заставить вас задуматься над этим простым рассуждением: если у нас с вами останутся отношения отца и дочери, вы сохраните свои тихие, но надежные радости; если вы потребуете выполнения контракта, вам придется меня оплакивать. Я не хочу более вам докучать. Тот день, когда вы наслаждение предпочтете счастью, будет для меня последним днем.
Ваша дочьЭстер».Когда барон получил первое письмо, с ним случился припадок молчаливого гнева, который способен убить миллионера. Он поглядел на себя в зеркало и позвонил. «Ванна тля ног!..» – крикнул он своему лакею. Пока он принимал ножную ванну, пришло второе письмо; он его прочел и упал без сознания. Миллионера уложили в постель. Когда финансист очнулся, в ногах у него сидела г-жа Нусинген.
– Эта девица права! – сказала она ему. – Что это вам вдруг вздумалось покупать любовь?.. Разве это продается на рынке? Но что же вы писали ей?
Барон дал свои черновые наброски; г-жа Нусинген прочла их, улыбаясь. Пришло третье письмо.
– Занятная девица! – вскричала баронесса, прочтя последнее письмо.
– Что делать, матам? – спросил он жену.
– Ждать.
– Штать! – сказал он. – Ведь природа безжалостна.
– Послушайте, дорогой мой, – сказала баронесса. – Вы в конце концов стали очень милы со мной, и я дам вам добрый совет.
– Ви карош женшин! – сказал он. – Делай тольги, я буду платить…
– То, что случилось с вами после писем этой девицы, трогает женщину больше, чем истраченные миллионы или любые письма, как бы прекрасны они ни были; постарайтесь, чтобы она стороной узнала о вашем состоянии; вы, может быть, и добьетесь своего! И… не беспокойтесь, она от этого не умрет, – сказала она, окинув мужа взглядом с головы до ног.
Госпожа Нусинген не имела ни малейшего представления о природе куртизанки.
«Как умна мадам Нусинген!» – подумал барон, оставшись один. Но чем больше банкир восхищался тонкостью совета, преподанного ему баронессой, тем меньше понимал, каким образом им воспользоваться, и не только называл себя тупицей, но действительно признавал это.
Однако ограниченность богатого человека, почти вошедшая в поговорку, относительна. С нашими умственными способностями происходит то же, что и с нашими физическими возможностями. Сила танцовщика в ногах, сила кузнеца в руках; грузчик упражняется в переноске тяжестей, певец развивает голосовы связки, а пианист укрепляет кисти рук. Банкир привыкает создавать дела, обдумывать их, находить заинтересованных участников, как водевилист научается создавать сюжет, обдумывать положения, находить своих героев. Нельзя требовать от банкира Нусингена остроумного разговора, как не должно ожидать поэтических суждений от математика. Много ли в любую эпоху встречается поэтов, равно известных в качестве прозаиков или прославленных своим остроумием в обществе, подобно г-же Корнюэль? Бюффон был тяжелодум, Ньютон никогда не любил, лорд Байрон любил лишь самого себя, Руссо был мрачен и почти безумен, Лафонтен рассеян. Жизненная сила, равномерно распределенная в человеке, создает глупца или же посредственность; распределенная неравномерно, она порождает некую чрезмерность, именуемого гением и показавшуюся бы нам уродством, будь она зрима и осязаема. Тот же закон управляет телом; совершенная красота почти всегда отмечена холодностью либо глупостью. Пускай великий геометр и одновременно великий писатель, пускай Бомарше великий делец, пускай Заме умнейший царедворец – редкие исключения лишь подтверждают правило о своеобразии человеческого ума. В области коммерческих расчетов банкир выказывает, стало быть, столько же остроумия, ловкости, тонкости, достоинства, сколько выказывает их искусный дипломат в сфере интересов государственных. Банкир, одаренный выдающимися способностями, расстанься он со своей конторой, мог бы оказаться великим человеком. Нусинген, помноженный на князя де Линь, на Мазарини или Дидро, являл бы собою сочетание человеческих свойств почти неправдоподобное, которое, однако ж, именовалось в свое время Периклом, Аристотелем, Вольтером и Наполеоном. Солнце императорской славы не должно затмить собою человека; император был обаятелен, образован и остроумен. Г-н Нусинген, банкир и только банкир, лишенный, как и большинство его собратьев, какой-либо изобретательности вне круга своих расчетов, верил лишь в реальные ценности. У него хватало здравого смысла при помощи золота обращаться к знатокам во всех областях искусства и науки, приглашая лучшего архитектора, лучшего хирурга, самого тонкого ценителя живописи и скульптуры, самого искусного адвоката, как только ему требовалось построить дом, позаботиться о здоровье, приобрести какие-либо редкости или поместья. Но поскольку не существует присяжного искусника в области козней, ни знатока в науке страсти нежной, банкир всегда был неудачлив в любви и неловок в обращении с женщинами. И Нусинген не придумал ничего лучшего, как, прибегнув к испытанному средству, дать денег какому-нибудь Фронтену, мужского или женского пола, чтобы тот действовал или думал вместо него. Одна лишь г-жа Сент-Эстев могла испробовать способ, предложенный баронессой. Банкир горько сожалел, что поссорился с гнусной торговкой нарядами. И все же, уверенный в гипнотической силе своей кассы и в болеутоляющем средстве с подписью Гара, он позвонил слуге и приказал ему наведаться к страшной вдовице на улице Нев-Сен-Марк и просить ее пожаловать к банкиру. В Париже крайности сближаются благодаря страстям. Там порок связывает богача с нищим, величие – с ничтожеством. Там императрица советуется с мадемуазель Ленорман. Там вельможа всегда находит кого-либо Рампоно, и так из века в век.
Часа два спустя новый слуга воротился.
– Господин барон, – сказал он, – госпожа Сент-Эстев совсем разорилась…
– О-о! Тем лутчи! – радостно сказал барон. – Она в мой рука!
– Почтенная женщина, слыхать, большая охотница до карт, – продолжал слуга. – Другая ее слабость – комедиантик из бродячего театра, которого из конфуза она выдает за своего крестника. Она, слыхать, отличная повариха, ищет теперь место.
«Эти дьяволы из второсортных гениев знают десять способов заработать деньги и двадцать, чтобы их промотать», – мысленно сказал барон, не подозревая, что совпадает мыслями с Панургом.
Он опять послал слугу разыскивать г-жу Сент-Эстев, и она появилась, но лишь на другой день. Новый лакей на расспросы Азии не преминул сообщить этому шпиону в юбке о плачевных последствиях, к которым привели письма любовницы г-на барона.
– Мосье должен крепко любить эту женщину, – сказал лакей в заключение, – ведь он чуть не помер. Я ему советовал не возвращаться туда; там ему живо заговорят зубы. Она, слыхать, уже стоит господину барону пятьсот тысяч франков, не считая расходов на особняк на улице Сент-Жорж! Да ведь эта женщина хочет денег, только денег! Выходя от мосье, госпожа баронесса смеялась и говорила: «Если так пойдет дальше, эта девица сделает меня вдовой».
– Черт возьми! – отвечала Азия. – Никогда нельзя убивать курицу, которая несет золотые яйца.
– Господин барон на вас только и надеется, – сказал слуга.
– Ах! Уж мне ли не знать, как подействовать на женщину!
– Пожалуйте в комнату, – сказал лакей, преклоняясь пред этой таинственной властью.
– Вот тебе раз! – сказала мнимая Сент-Эстев, входя к больному с самым скромным видом. – Стало быть, у господина барона случились кое-какие неприятности?.. Что прикажете делать? Каждый расплачивается за свои слабости. Я тоже хлебнула горя. За два месяца колесо фортуны невпопад для меня оборотилось! И вот ищу место!.. Мы были слишком легкомысленны, и вы и я! Ежели бы господин барон пожелал поставить меня кухаркой к мадам Эстер, уж как бы я ему была предана, как бы хорошо следила за Эжени и мадам!
– Не в том дело, – сказал барон. – Я не мог делаться хозяйн, и меня фертят, как…
– … волчок, – подсказала Азия. – Вы потакали своей слабости, папаша, а девчонка держит вас… и дурачит. Господь бог справедлив!
– Спрафедлиф? – сказал барон. – Я не зваль тебя, чтоби слюшить мораль…
– Полно, сынок, немножко морали не повредит! Это соль жизни для нашей братии, как грешок для ханжи. Послушайте, вы были щедры! Заплатили ее долги?
– Та! – жалобно сказал барон.
– Отлично. Выкупили ее вещи? Вот это уже получше. Но все же недостаточно… Посудите сами!.. Ведь на этом далеко не уедешь, а такие девицы любят форснуть…
– Я готовлю ей сурприз на улиц Сен-Шорш… Он знайт… – сказал барон. – Но я не желаю бить простофиль.
– За чем же дело стало? Бросьте ее…
– Боюсь, что он мне позфоляйт это!.. – вскричал барон.
– А-а! Мы хотим оправдать наши денежки, сын мой! – отвечала Азия. – Послушайте! Вы, милушка, выудили у людей не один мильон! Говорят, их у вас двадцать пять. (Барон не мог скрыть улыбки.) Так вот! Надо выпустить из рук один…
– Охотно выпустиль би, – отвечал барон, – но не успей я випустить атин, как спрашифаль второй…
– Мудреного нет, – отвечала Азия, – вы боитесь сказать «А», чтобы не дойти до «Я». Но Эстер честная девушка…
– Одшень честни дефушка! – вскричал барон. – Он одшень желаль би решиться, но только как расплата за тольг…
– Попросту сказать, она не хочет быть вашей любовницей, ей это противно. Понимаю ее! Девка привыкла потакать своим прихотям. А после молодых франтов не очень-то нужен старик… Поглядеть на вас… Куда какой красавчик! И толсты, как Людовик Восемнадцатый, к тому же малость глуповаты, как все, кто гоняется за фортуной, вместо того чтобы ухаживать за женщинами. Ну да ладно, если не пожалеете шестисот тысяч франков, – прибавила Азия, – уж я возьму на себя это дело, и девочка согласится на все, что вы пожелаете.
– Шесот тисяча франк! – вскричал барон, слегка подпрыгнув. – Эздер мне уше стоит мильон!..
– А пожалуй, счастье и стоит мильон шестьсот тысяч франков, брюхастый греховодник! Да вы и сами знаете мужчин, которые проели с любовницами не один и не два мильончика. Я даже знаю женщин, ради которых шли на эшафот… Слыхали про доктора, что отравил своего друга?.. Он польстился на богатство, чтобы составить счастье женщины.
– Та, я знай; но пускай я и влюплен, я не так глюп; сдесь по крайней мере потому, когта я вижу Эздер, я мог бы отдать весь мой бумашник.
– Послушайте, господин барон, – сказала Азия, принимая позу Семирамиды. – Вас достаточно выпотрошили. Я не буду я, если не помогу вам, в переговорах, само собой. Слово Сент-Эстев!
– Карашо!.. Я тебя вознаграшу.
– Надеюсь! Ведь вы могли убедиться, что я умею мстить. Притом знайте, папаша, – сказала она, метнув в него страшный взгляд, – уговорить Эстер для меня просто, как снять нагар со свечи. О! Я знаю эту женщину! Когда плутовка осчастливит вас, вы без нее и вовсе не сможете жить. Вы хорошо мне заплатили; конечно, приходилось из вас вытягивать, но в конце концов вы все же раскошелились. Что до меня, я ведь выполнила свои обязательства, не так ли? Ну вот, послушайте: предлагаю вам сделку.
– Я вас слушиль.
– Вы определите меня поварихой к мадам, нанимаете на десять лет, жалованья вы мне положите тысячу франков и уплатите вперед за пять лет (ну, вроде задатка!). Раз я у мадам, я сумею склонить ее и на дальнейшие уступки. Например, вы преподносите ей хорошенький наряд от мадам Огюст, – она знает вкус мадам и ее капризы; затем к четырем часам приказываете заложить новую карету. Придя после биржи к мадам, вы вместе с ней отправляетесь прогуляться в Булонский лес. Это означает, что она открыто признает себя вашей любовницей, она принимает на себя обязательство на виду у всего Парижа… За это сто тысяч франков… Затем вы у нее обедаете (я мастерица на такие обеды), после чего везете ее на спектакль в Варьете, в ложу авансцены; и весь Париж скажет: «Вот старая шельма Нусинген со своей любовницей…» Лестно, не правда ли? Все эти преимущества входят в счет первой сотни тысяч, я женщина добрая. В неделю, если вы меня послушаетесь, ваше дело далеко продвинется вперед.
– Платиль би сто тисяча франк…
– На вторую неделю, – продолжала Азия, как будто не слыша этой жалкой фразы, – мадам, соблазнившись таким почином, решится бросить свою квартирку и переехать в особняк, который вы ей преподнесете. Ваша Эстер опять выезжает в свет, встречается с прежними подругами, она желает блистать, она задает пиры в своем дворце! Все в порядке… За это еще сто тысяч!.. Вот вы у себя дома… Эстер себя ославила… она ваша. Остается безделица, а вы раздуваете ее невесть во что, старый слон! (Гляди, как он вылупил глаза, чудище этакое!) Так и быть! Беру это на себя. Всего четыреста тысяч… Но не беспокойся, мой толстячок, ты их выложишь только на другой день… Вот где честность, верно? Я тебе больше доверяю, чем ты мне. Ну, а ежели я уговорю мадам признать себя публично вашей любовницей, осрамить себя, принять от вас подарки, которые вы ей преподнесете, может статься, даже сегодня, тогда-то вы уж поверите, что я могу заставить ее сдать вам и Сен-Бернардскую высоту. А это дело трудное, как хотите!.. Тут, чтобы втащить вашу артиллерию, усилий понадобится столько же, сколько первому консулу в Альпах.
– А пошему?
– Сердце ее преисполнено любви, razibus, как говорит ваша братия, знающая латынь, – продолжала Азия. – Она воображает себя царицей Савской, потому что, видите ли, возвеличила себя жертвами, принесенными любовнику… вот какие бредни вбивают себе в голову эти женщины! А все-таки, милуша, надо отдать ей справедливость, ведь это благородно! И если причудница вздумает умереть от огорчения, отдавшись вам, я ничуть не удивлюсь. Но меня одно только успокаивает, – говорю это, чтобы придать вам храбрости, – у нее добротная подоплека продажной девки.
– Ти, – сказал барон, в глубоком, молчаливом восхищении слушавший Азию, – имей талант к растлению, как мой к банкофски дел.
– Так решено, ангелок! – продолжала Азия.
– Полючай пьядесят тисяча франк замен сто тисяча. И я даю ишо пьять сотен на другой тень после мой триумф.
– Ладно! Пойду работать, – ответила Азия. – Ах, запамятовала! Прошу вас пожаловать к нам, – продолжала Азия почтительно. – Мадам встретит мосье ласковая, как кошка, а возможно, и захочет быть вам приятной.
– Ступай, ступай, торогая, – сказал банкир, потирая руки. И, улыбнувшись страшной мулатке, он сказал про себя: «Как умно иметь много денег».
Вскочив с постели, он пошел в контору и с легким сердцем опять занялся своими бесчисленными делами.
Ничто не могло быть пагубнее для Эстер, нежели решение, принятое Нусингеном. Бедная куртизанка отстаивала свою жизнь, отстаивая верность Люсьену. Карлос называл Не-тронь-меня это столь естественное сопротивление. Между тем Азия пошла, не без предосторожности, принятой в подобных случаях, рассказать Карлосу о совещании, состоявшемся между нею и бароном, и о том, какую она из всего извлекла пользу. Гнев этого человека был ужасен, как и он сам; он прискакал тотчас же к Эстер, в карете с опущенными занавесками, приказав кучеру въехать в ворота. Взбежав по леснице, бледный от бешенства, двойной обманщик появился перед бедной девушкой; она стояла, когда он вошел; взглянув на него, она упала в кресла, точно у нее ноги подкосились.
– Что с вами, сударь? – сказала она, дрожа всем телом.
– Оставь нас, Европа, – сказал он горничной.
Эстер посмотрела на эту девушку, точно ребенок на мать, с которой его разлучает разбойник, чтобы покончить с ним.
– Изволите знать, куда вы толкаете Люсьена? – продолжал Карлос, оставшись наедине с Эстер.
– Куда? – спросила она слабым голосом, отважившись взглянуть на своего палача.
– Туда, откуда я пришел, мое сокровище!
Красные круги пошли перед глазами Эстер, когда она увидела лицо этого человека.
– На галеры, – прибавил он шепотом.
Эстер закрыла глаза, ноги у нее вытянулись, руки повисли, она стала белой, как полотно. Карлос позвонил, вошла Прюданс.
– Приведи ее с сознание, – сказал он холодно, – я еще не кончил.
В ожидании он прохаживался по гостиной. Прюданс-Европа вынуждена была просить его перенести Эстер на кровать; он поднял ее с легкостью, выдававшей атлета. Понадобилось прибегнуть к самым сильным лекарственным средствам, чтобы вернуть Эстер способность понять свою беду. Часом позже бедняжка была в состоянии выслушать того, кто живым кошмаром сидел в изножии ее кровати и чей пристальный взгляд ослеплял ее, точно две струи расплавленного свинца.
– Душенька, – продолжал он, – Люсьен на распутье между жизнью, полной достоинства, блеска, почестей, счастья, и грязной, илистой ямой, полной камней, куда он готов был кинуться, когда я повстречался с ним. Семья Гранлье требует от милого мальчика поместья стоимостью в миллион, прежде чем преподнести ему титул маркиза и предоставить ему эту жердь, именуемую Клотильдой, при помощи которой он достигнет власти. Благодаря нам обоим Люсьен приобрел материнскую усадьбу, древний замок де Рюбампре – и не бог весть как дорого: тридцать тысяч франков, всего-навсего! Но адвокату Люсьена посчастливилось, и он к замку пристегнул земельные угодья ценою в миллион, причем заплатил в счет этой суммы лишь триста тысяч. Замок, путевые издержки, наградные посредникам, изловчившимся утаить сделку от местных обитателей, пожрали остатки. Впрочем, сто тысяч помещены нами в одно верное дело, не пройдет и нескольких месяцев, как они превратятся в двести – триста. Через три дня Люсьен воротится из Ангулема. Пришлось ему туда съездить, ведь никто не должен заподозрить, что он составил состояние, пролеживая ваши матрасы…
– О нет! – в благородном порыве сказала Эстер, подняв к нему потупленные глаза.
– Я спрашиваю вас, подходящее ли теперь время отпугивать барона? – сказал он спокойно. – А вы позавчера его чуть не убили! Он упал в обморок, точно женщина, прочтя ваше второе письмо. У вас замечательный стиль, с чем вас и поздравляю! Умри барон, что сталось бы с нами? Когда Люсьен выйдет от святого Фомы Аквинского зятем герцога де Гранлье и вы пожелаете окунуться в Сену… Ну, что ж, душа моя! Я предлагаю вам руку, чтобы нырнуть вместе с вами! Кончают и так. Но все же рассудите прежде! Не лучше ли все-таки жить, повторяя ежечасно: «Какая блестящая судьба, какое счастливое семейство… ведь у него будут дети!» Дети!.. Думали ли вы когда-нибудь о том, какое наслаждение погладить своей рукой голову его ребенка?
Эстер закрыла глаза, едва заметно вздрогнув.
– И, глядя на это счастье, как не сказать себе: «Вот мое творение!»
Он умолк, и несколько мгновений оба они молча смотрели друг на друга.
– Вот во что я пытался претворить отчаяние, от которого бросаются в воду, – заговорил опять Карлос. – Можно ли меня назвать эгоистом? Вот какова любовь! Так преданы бывают лишь королям, но я короновал моего Люсьена! И будь я прикован на остаток моих дней к прежней цепи, мне кажется, что я был бы спокоен, думая: «Он на бале, он при дворе». Душа и мысль мои торжествовали бы, пусть плоть моя была бы во власти тюремных надсмотрщиков! Вы жалкая самка, вы и любите как самка! Но любовь куртизанки, как и у всякой падшей твари, должна была пробудить материнское чувство наперекор природе, обрекающей вас на бесплодие! Если когда-либо под шкурой аббата Карлоса обнаружат бывшего каторжника, знаете, как я поступлю, чтобы не опорочить Люсьена?
Эстер с тревогой ожидала, что он скажет.
– А вот как! – продолжал он после короткого молчания. – Я умру, подобно неграм, проглотив язык. А вы вашим жеманством наводите на мой след. О чем я вас просил?.. Опять надеть юбки Торпиль на шесть месяцев, на шесть недель, чтобы подцепить миллион… Люсьен не забудет вас никогда! Мужчина не забывает существо, которому он, пробуждаясь поутру, обязан наслаждением чувствовать себя богатым. Люсьен лучше вас… Он любил Корали, она умирает, ее не на что похоронить. Что же он делает? Он не падает в обморок, как вы сейчас, хотя он и поэт; он сочиняет шесть веселых песенок и получает за них шестьсот франков; на эти деньги она похоронил Корали. Я берегу эти песенки, я знаю их наизусть. Ну что ж! Сочините и вы ваши песенки: будьте веселой, будьте озорной! Будьте неотразимой… и ненасытной! Вы поняли меня? Не вынуждайте сказать большее… Ну, поцелуйте же вашего папашу. Прощайте…
Когда через полчаса Европа вошла к своей госпоже, она застала ее перед распятием на коленях, в той позе, которую благочестивейший из художников придал Моисею перед неопалимой купиной на горе Хорив, чтобы изобразить всю глубину и полноту его преклонения перед Иеговой. Произнеся последние молитвы, Эстер отреклась от своей прекрасной жизни, от скромности, к которой она себя приучила, от гордости, от добродетели, от любви. Она встала.
– О мадам, такой вы никогда больше не будете! – вскричала Прюданс Сервьен, пораженная божественной красотой своей госпожи.
Она проворно подставила зеркало, чтобы бедняжка могла себя увидеть. Глаза хранили еще частицу души, улетающей на небеса. Кожа еврейки блистала белизною. Ресницы, омытые слезами, которые осушил пламень молитвы, напоминали листву после дождя; солнце чистой любви в последний раз озаряло их своим лучом. На губах как бы дрожал отзвук последней мольбы, обращенной к ангелам, у которых, без сомнения, она позаимствовала пальму мученичества, вверяя им свою незапятнанную жизнь. Наконец, в ней чувствовалось то величие, которое было, верно, у Марии Стюарт, когда она прощалась с короной, землей и любовью.
– Я желала бы, чтобы Люсьен видел меня такой, – сказала она, подавляя невольный вздох. – Ну, а теперь, – продолжала она дрогнувшим голосом, – давай валять дурака…
При этих словах Европа остолбенела, точно услыхав кощунствующего ангела.
– Ну, что ты так смотришь, будто у меня во рту вместо зубов гвоздика? Непотребная, нечистая тварь, воровка, девка – вот что я теперь! И я жду милорда. Так нагрей же ванну и приготовь наряд. Уже полдень, барон придет, конечно, после биржи; я скажу ему, что жду его; и пусть Азия приготовит сногсшибательный обед, я хочу свести с ума этого человека… Ну, ступай, моя милая… Будем веселиться, иначе сказать – работать!
Она села за свой столик и написала такое письмо:
«Друг мой, если бы кухарка, которую вы прислали, никогда не была у меня в услужении, я могла бы подумать, что вашим намерением было известить меня, сколько раз вы падали в обморок, получив позавчера мои записки. (Что поделаешь? Я была очень нервна в тот день, потому что предавалась воспоминаниям о моей горестной жизни). Но я знаю чистосердечие Азии. И не раскаиваюсь, что причинила вам некоторое огорчение, ведь оно доказало мне, как я вам дорога. Таковы мы, жалкие, презренные существа: настоящая привязанность трогает нас гораздо больше, чем сумасшедшие траты на нас. Что касается до меня, я всегда боялась оказаться подобием вешалки, для вашего тщеславия. Я досадовала, что не могу быть для вас чем-либо иным. Ведь, несмотря на ваши торжественные уверения, я думала, что вы принимаете меня за продажную женщину. Так вот, теперь я буду пай-девочкой, но при условии, что вы пообещаете слушаться меня чуточку. Если это письмо покажется вам убедительней, чем предписания врача, докажите это, навестив меня после биржи. Вас будет ожидать, разубранная вашими дарами, та, которая признает себя навеки орудием ваших наслаждений.
Эстер».На бирже барон Нусинген был так оживлен, так доволен, так покладист, он соизволил так шутить, что дю Тийе и Келлеры, находившиеся там, не преминули спросить о причине его веселости.
– Я любим… Мы скоро празнуй новосель, – сказал он дю Тийе.
– А во сколько это вам обходится? – в упор спросил его Франсуа Келлер, которому г-жа Кольвиль стоила, по слухам, двадцать пять тысяч франков в год.
– Никогта этот женшин, котори есть анкел, не спрашифаль ни лиар.
– Так никогда не делается, – отвечал ему дю Тийе. – Для того чтобы им никогда не приходилось о чем-либо просить, они изобретают теток и матерей.
От биржи до улицы Тетбу барон раз семь сказал своему слуге: «Ви не двигайс з мест! Стегайт лошадь».
Он проворно взобрался по лестнице и впервые увидел свою любовницу во всем блеске той холеной красоты, что встречается только у этих девиц, ибо единственным их занятием является забота о нарядах и своей внешности. Выйдя из ванны, цветок был так свеж и благоуханен, что мог бы пробудить желание в самом Роберте д'Арбрисселе. На Эстер было прелестное домашнее платье: длинный жакет из черного репса, отделанный басоном из розового шелка, с расходящимися полями, и серая атласная юбка – этот наряд позаимствовали позже красавица Амиго в I Puritani. Косынка из английских кружев с особой кокетливостью ложилась на плечи. Рукава платья были перехвачены узкой тесьмой, разделяющей буфы, которыми с недавнего времени порядочные женщины заменили расширяющиеся кверху рукава, ставшие до уродливости пышными. Легкий чепец из фландрских кружев держался только на одной булавке и, казалось, говорил: «Эй, улечу!», и не улетал, лишь придавая ее головке с пушистыми волосами, причесанными на пробор, несколько небрежный, легкомысленный вид.
– Разве не ужасно видеть мадам, такую красавицу, в такой выцветшей гостиной? – сказала Европа барону, открывая перед ним дверь в гостиную.
– Ну, так идем на улиц Сен-Шорш, – отвечал барон, делая стойку, точно собака перед куропаткой. – Погода преятни, будем делать прогулка в Елизейски поля, а матам Сент-Эздеф и Эшени отправят весь ваш туалет, белье и наш обет на улица Сен-Шорш.
– Я сделаю все, что вы пожелаете, – сказала Эстер, – если вы сделаете мне удовольствие и будете называть мою повариху Азией, а Эжени – Европой. Я даю эти имена всем женщинам, служащим у меня, начиная с двух первых. Я не люблю перемен…
– Ази… Ироп… – расхохотался барон. – Какой ви забавни!.. Ви имей воображень. Я кушаль би много обетов, прежде чем догадаться назифать айн кухарка Ази.
– Наше ремесло – быть забавными, – сказала Эстер. – Послушайте! Неужели бедная девушка не может заставить Азию кормить себя, а Европу – одевать, тогда как к вашим услугам весь мир? Такова традиция, не больше! Есть женщины, которые бы пожрали всю планету, а мне нужна только половина. Вот и все!
«Что за женщина эта госпожа Сент-Эстев!» – сказал про себя барон, восхищаясь переменой в обращении Эстер.
– Европа, душенька, а где же моя новая шляпа? – сказала Эстер. – Черная атласная шляпка, на розовом шелку и кружевами.
– Мадам Тома еще не прислала ее… Поживей, барон, поживей! Приступайте к обязанностям чернорабочего, иначе сказать, счастливца! Счастье – тяжелый труд!.. Ваш кабриолет ожидает вас, поезжайте к мадам Тома, – сказала Европа барону. – Прикажите вашему слуге просить шляпку госпожи Ван Богсек… А главное, – шепнула она ему на ухо, – привезите ей букет, самый что ни есть красивый в Париже. На дворе зима, постарайтесь достать тропических цветов.
Барон сошел вниз и сказал слугам: «К матам Дома». Слуга доставил господина к знаменитой кондитерше. «Это мотисток, дурак, а не пирошник», – сказал барон, побежав в Пале-Ройяль к мадам Прево, где он приказал составить букет в пять луидоров, покуда слуга ходил к знаменитой шляпнице.
Гуляя по Парижу, поверхностный наблюдатель спрашивает себя: какие безумцы покупают эти сказочные цветы, красующиеся в лавке известной цветочницы, и всякие заморские плоды европейца Шеве, единственного, кто, помимо «Рошеде-Канкаль» предлагает обозрению публики настоящую, прелестную выставку даров природы Старого и Нового света. В Париже каждодневно возникают сотни страстей наподобие страсти Нусенгена, о чем свидетельствуют те редкости, которые не смеют позволить себе королевы, но которые преподносят, да еще на коленях, девицам, любящим, по словам Азии, форснуть. Без этой маленькой подробности честная мещанка не поняла бы, каким образом тает богатство в руках этих созданий, чье общественное назначение, согласно теории фурьеристов, состоит, быть может, в том, чтобы поправлять вред, наносимый Скупостью и Алчностью. Траты эти для общественного организма, без сомнения, то же, что укол ланцета для полнокровного человека. За два месяца Нусинген влил в торговлю более двухсот тысяч франков.
Когда престарелый вздыхатель воротился, наступила ночь, букет был не нужен. Время прогулок на Елисейских полях в зимнюю пору от двух до четырех. Однако карета пригодилась Эстер, чтобы проехать с улицы Тетбу на улицу Сен-Жорж, где она вступила во владение маленьким тфорцом. Никогда еще, скажем прямо, Эстер не случалось быть предметом подобного поклонения, подобной щедрости; она была изумлена, но остерегалась, как и все неблагодарные королевы, выказать малейшее удивление. Когда вы входите в собор святого Петра в Риме, вам, чтобы вы оценили размеры и высоту этого короля кафедральных соборов, указывают на мизинец статуи, невесть какой огромной величины, в то время как вам он кажется обыкновенным мизинцем. Но, поскольку так часто критиковали описания, столь необходимые, впрочем, для истории наших нравов, тут приходится подражать римскому чичероне. Итак, барон, войдя в столовую, не преминул попросить Эстер пощупать ткань оконных занавесок, ниспадавших с царственной пышностью, подбитых белым муаром и отделанных басоном, достойным корсажа португальской принцессы. То была шелковая ткань, на которой китайское терпение изобразила азиатских птиц с тем совершенством, образец которого существует лишь в средневековых пергаментах или в требнике Карла V – гордости императорской библиотеки в Вене.
– Он стоиль две тисяча франк атин локоть для айн милорд, котори привозил эта занафес с Интии…
– Очень хорошо! Прелестно! Какое удовольствие будет здесь пить шампанское! – сказал Эстер. – Пена не будет забрызгивать оконные стекла!
– О мадам! – сказала Европа. – Поглядите только на ковер!
– Ковер нарисофан для герцог Дорлониа, мой труг, но герцог находиль, что одшень дорог, и я тогта взял ковер для вас, как ви есть королев! – сказал Нусинген.
По воле случая этот ковер, работы одного из наших искуснейших рисовальщиков, находился в полном соответствии с причудливой китайской драпировкой. Стены, расписанные Шиннером и Леоном де Лора, представляли взгляду сладострастные сцены, оттененные панно резного черного дерева, поблескивавшего тонкой золотой сеткой, приобретенного на вес золота у Дюсоммерара. Теперь вы можете судить об остальном.
– Вы хорошо сделали, что привезли меня сюда, – сказала Эстер. – Нужна по меньшей мере неделя, чтобы я привыкала к моему дому и не казалась бы какой-то выскочкой…
– Мой том! – радостно повторил барон. – Ви, стало бить, принимайте!
– Ну да, тысячу раз да, глупое животное, – сказала она, улыбаясь.
– Шифотни било би достатошно…
– Глупое – это ласкательное слово, – возразила она, глядя на него.
Бедный биржевой хищник взял руку Эстер и приложил к своему сердцу: он был в достаточной мере животным, чтобы чувствовать, но чересчур глупым, чтобы найти нужное слово.
– Видаль, как он бьется… для маленки ласкови слоф! – сказал он. И повел свою богиню (погинь) в спальню.
– О мадам! – сказала Эжени. – Я лучше уйду отсюда! Так соблазнительно лечь в постель.
– Послушай, мой слоненок! Я хочу с тобой расплатиться за все это сразу… – сказала Эстер. – После обеда мы поедем вместе в театр. Я изголодалась по театру.
Минуло ровно пять лет, как Эстер в последний раз ездила в театр. Весь Париж стекался тогда в Порт-Сен-Мартен смотреть одну из тех пьес, которые благодаря таланту актеров звучат страшной жизненной правдой, – «Ричарда д'Арлингтона». Как все простодушные натуры, Эстер одинаково любила ощущать дрожь ужаса и проливать слезы умиления.
– Мы поедем смотреть Фредерика Леметра, – сказала она. – Я обожаю этого актера!
– Такой кровожадни драм! – сказал Нусинген, увидев, что его в мгновение ока принудили выставить себя напоказ.
Барон послал слугу достать литерную ложу в бельэтаже. Еще одна особенность Парижа! Когда недолговечный Успех собирает зал, всегда найдется литерная ложа, которую можно купить за десять минут до поднятия занавеса: директора оставляют ее за собой, если не представится случай продать ее какому-нибудь влюбленному, вроде Нусингена. Ложа эта, как и изысканные яства от Шеве, – налог, взимаемый с причуд парижского Олимпа.
О сервировке не стоит и говорить, Нусинген взгромоздил на стол три сервиза: малый сервиз, средний сервиз, большой сервиз. Десертная посуда большого сервиза, тарелки, блюда – все было сплошь из чеканного золоченого серебра. Банкир, чтобы не создалось впечатления, будто стол завален золотом и серебром, ко всем этим сервизам присовокупил фарфор очаровательнейшей хрупкости, во вкусе саксонского, и более дорогой, нежели серебряный сервиз. Что касается до столового белья, то камчатные саксонские, английские, фландрские и французские скатерти состязались в красоте вытканного на них узора.
Во времяы обеда пришла очередь барона дивиться, вкушая яства Азии.
– Я теперь понималь, почему ви назифайте кухарка Ази: это айн азиатски кухня.
– Ах! Я начинаю верить, что он меня любит, – сказала Эстер Европе. – Он сказал нечто похожее на остроту.
– Я имей их несколько, – самодовольно сказал он.
– Право, он еще больше Тюркаре, чем говорят! – вскричала насмешливая куртизанка, услышав ответ, достойный тех знаменитых изречений, которыми славился банкир.
Стол, чрезвычайно пряный, был рассчитан на то, чтобы испортить барону желудок и вынудить его уйти домой пораньше, – вот какого рода удовольствием окончилось для барона первое свидание с Эстер! В театре ему пришлось выпить бесчисленное количество стаканов сахарной воды, и он оставлял Эстер одну во время антрактов. По стечению обстоятельств, столь предвиденному, что оно не могло быть названо случаем, Туллия, Мариетта и г-жа дю Валь-Нобль присутствовали в тот день на спектакле. «Ричард д'Арлингтон» пользовался тем сумасшедшим и, кстати, заслуженным успехом, какой можно наблюдать только в Париже. Смотря эту драму, все мужчины понимали, что можно выбросить свою законную жену в окно, а всем женщинам приятно было видеть себя назаслуженно обиженными. Женщины говорили про себя: «Это уж чересчур! Нас понуждают на такие поступки против нашей воли… но это с нами часто случается!» Однако создание, столь прекрасное, как Эстер, разряженное, как Эстер, не могло показаться безнаказанно в литерной ложе театра Порт-Сен-Мартен. Оттого-то, едва лишь начался второй акт, в ложе двух танцовщиц словно разразилась буря: они установили тождество прекрасной незнакомки с Торпиль.
– О-о! Откуда она взялась! – сказала Мариетта г-же дю Валь-Нобль. – Я думала, она утопилась…
– Неужели это она? Она кажется мне раз в тридцать моложе и красивее, нежели шесть лет назад.
– Возможно, она хранилась во льду, как госпожа д'Эспар и госпожа Зайончек, – сказал граф де Брамбур, вывезший этих трех женщин на представление в ложу бенуара. – Неужели эта та самая крыса, которую вы хотели прислать мне, чтобы прибрать к рукам моего дядюшку? – спросил он Туллию.
– Та самая! – отвечала Туллия, раскланиваясь, как на сцене. – Дю Брюэль, ступайте в партер, посмотрите, она ли это в самом деле.
– И как она задирает нос! – вскричала г-жа дю Валь-Нобль, пользуясь чудесным выражением из словаря этих девиц.
– О, она вправе кичиться! – возразил граф де Брамбур. – Ведь она с моим другом, бароном Нусингеном! Пойду туда.
– Ужели это та мнимая Жанна д'Арк, покорившая Нусингена, о которой нам все уши прожужжали последние три месяца? – сказала Мариетта.
– Добрый вечер, дорогой барон, – сказал Филипп Бридо, входя в ложу Нусингена. – Так вы, стало быть, бракосочетались с мадемуазель Эстер?.. Сударыня, я бедный офицер, которого вы когда-то выручили из беды в Иссудене… Филипп Бридо…
– Не помню, – сказала Эстер, наводя бинокль на залу.
– Мотмазель, – отвечла барон, – не назифают больше просто Эздер; он полючаль имя матам те Жампи (Шампи) от атна маленки именьи, что я для он покупаль…
– Если вы ведете себя по-джентльменски в отношении госпожи де Шампи, то сама она, как говорят эти дамы, чересчур задирает нос!.. Сударыня, если вам неугодно вспомнить меня, то не удостоите ли вы признать Мариетту, Туллию, госпожу дю Валь-Нобль? – обратился к Эстер этот выскочка, снискавший благодаря герцогу де Монфриньез благосклонность дофина.
– Если эти дамы будут милы со мной, я расположена быть им приятной, – отвечала сухо г-жа де Шампи.
– Милы! – вскричал Филипп. – Они премилые, они называют вас Жанной д'Арк.
– Но если эти дам желают иметь ваш компани, – сказал Нусинген, – я оставляй вас, потому я много кушаль. Ваш карет и ваш слуг будут вас ожидать. Шертовски Ази!
– Неужели вы оставите меня одну в первый же вечер? – сказала Эстер. – Полноте! Надобно уметь умирать на борту корабля. Мне нужен свой мужчина для выездов. Ну, а если меня оскорбят? Кого мне звать на помощь?..
Эгоизм старого миллионера должен был отступить перед обязанностями любовника. У Эстер были свои причины держать при себе своего мужчину: принимая старых знакомых в его обществе, она рассчитывала уберечь себя от слишком настойчивых вопросов, неизбежных с глазу на глаз. Филипп Бридо поспешил вернуться в ложу танцовщиц и сообщил им о положении вещей.
– А-а! Так вот кто унаследует мой дом на улице Сен-Жорж! – сказала с горечью г-жа дю Валь-Нобль, которая, на языке этого сорта женщин, осталась на бобах.
– Может статься, – отвечал полковник. – Дю Тийе говорил мне, что барон ухлопал на этот дом в три раза больше денег, чем ваш бедняга Фале.
– Пойдем к ней? – сказала Туллия.
– Сказать по чести, нет! – возразила Мариетта. – Она чересчур хороша, я навещу ее на дому.
– Мне кажется, я нынче недурна, могу рискнуть, – отвечала Туллия.
Итак, отважная прима-балерина вошла в ложу Эстер во время антракта; они возобновили старое знакомство, и между ними завязался незначительный разговор.
– Откуда ты появилась, дорогая? – спросила танцовщица, не сдержав любопытства.
– О-о! Я жила пять лет в Альпах, в замке, с одним англичанином, ревнивым, как тигр. Это был настоящий туз. Я называла его: карапуз. Он был маленького роста, как судья Феррет. И вот я попала к банкиру! Как говорит Флорина, «Из Сциллы да в Харибду». А теперь, когда я в Париже, я так хочу веселиться, что сам карнавал мне не брат! У меня будет открытый дом. Ах! Надо встряхнуться после пяти лет затворничества, и я намерена наверстать упущенное. Пять лет с англичанином – это чересчур! Должникам и то дают всего только шесть недель…
– Тебе барон подарил эти кружева?
– Нет, это остатки от моего туза… Мне так не везет, дорогая! Он был полон желчи, как смех друзей при наших успехах; я думала, что он умрет через десять месяцев. Куда там! Он был несокрушим, как Альпы. Не надо доверять тому, кто жалуется на печень. Я слышать больше не хочу о печени… Я чересчур верила… небылицам… Мой туз меня обокрал. Он все же умер, но не оставив завещания, и его семья выставила меня за дверь, точно я какая-нибудь зачумленная. Поэтому я и сказала вот этому толстяку: «Плати за двоих!» Вы правы, называя меня Жанной д'Арк, я обесславила Англию! И я умру, быть может, сожженная…
– Любовью! – сказала Туллия.
– …И заживо! – отвечала Эстер, задумавшись.
Барон смеялся, слушая эти грубоватые шутки, но они не всегда доходили до него сразу, оттого-то его смех напоминал запоздалые вспышки фейерверка.
Каждый из нас живет в какой-то среде, и все мы, в любой среде, равно заражены любопытством. В Опере приключения Эстер на другой же день стали новостью кулис. Уже между двумя и четырьмя часами весь Париж Елисейских полей признал Торпиль и выведал наконец, кто был предметом страсти барона Нусингена.
– Вы, верно, помните, – сказал Блонде, встретившись с де Марсе в фойе Оперы, – что Торпиль исчезла на другой же день после маскарада, когда мы ее признали в любовнице этого мальчишки Рюбампре?
В Париже все становится известным, как в провинции. Полиция с Иерусалимской улицы не так искусна, как полиция большого света, где все, сами того не замечая, следят друг за другом. Поэтому Карлос верно угадал, в чем была опасность положения Люсьена во время эпопеи на улице Тетбу и позже.
Нет ужасней положения, чем то, в котором очутилась г-жа дю Валь-Нобль, и выражение осталась на бобах передает превосходно ее состояние. Беспечность и расточительность таких женщина мешает им заботиться о будущем. В этом особом мире, гораздо более забавном и остроумном, нежели принято думать, только женщины, не обладающие той бесспорной, почти неувядаемой красотой, которая удовлетворяет всем вкусам, короче говоря, только женщины, способные внушать любовь лишь по прихоти чувств, задумываются о старости и составляют состояния. «Ты, стало быть, боишься подурнеть, что так хлопочешь о ренте..? – вот слова Флорины, сказанные Мариетте и объясняющие одну из причин этого разнузданного мотовства. Спекулянт ли покончит с собой, мот ли растрясет свою мошну – во всех подобных случаях эти женщины, привыкшие к бесстыдной роскоши, внезапно впадают в страшную нужду. Они ищут спасения у торговки нарядами, они продают почти даром редкостные драгоценности, они входят в долги, только бы сохранить видимость роскоши, что позволяет им надеяться опять обрести утраченное: кассу, откуда можно черпать. Эти взлеты и падения в жизни куртизанок достаточно объясняют, отчего так дорого обходится связь с ними, на самом деле почти всегда подготовленная по тому самому рецепту, по которому Азия пристегнула (другое слово из их словаря) Нусингена к Эстер. Поэтому каждый, кому хорошо знаком Париж, отлично знает, что ему следует думать, встретив на Елисейских полях, этом суетном и шумном базаре, женщину в наемной карете, тогда как ровно год или полгода назад она появилась там в экипаже умопомрачительной роскоши самого хорошего тона. «Когда окунешься в Сент-Пелажи, надо уметь вынырнуть в Булонском лесу», – говорила Флорина, посмеиваясь вместе с Блонде над невзрачным виконтом де Портандюэр. Иные ловкие женщины никогда не подвергают себя опасности подобного сравнения. Они живут в четырех стенах отвратительных меблированных комнат, где искупают былые излишества тягостными лишениями, известными только путешественникам, заблудившимся в какой-нибудь Сахаре, но не делают ни малейшей попытки экономить свои средства. Они позволяют себе выезжать в маскарад, затевают поездки в провинцию, они появляются в щегольских нарядах на бульварах в солнечные дни. Приятельницы не отказывают им в преданности, ибо это чувство свойственно тем, кто изгнан из общества. Впрочем, женщине счастливой, но которая в глубине души думает: «И со мной это может случиться», – нетрудно оказать им эту помощь. Поддержку более действенную оказывает все же торговка нарядами. Когда эта ростовщица становится заимодавцем, она ворошит и обшаривает все старческие сердца для выкупа заклада, состоящего из полусапожек и шляпок. Г-же дю Валь-Нобль и на ум не приходило, чтобы самый богатый, самый ловкий биржевой маклер мог разориться, и катастрофа настигла ее врасплох. Она тратила деньги Фале на свои прихоти, предоставляя ему заботиться о насущных нуждах и о своем будущем.
«Неужели можно было, – говорила она Мариетте, – вообразить что-либо подобное? Ведь он казался таким славным малым». Почти во всех слоях общества славный малый – это человек, широкий по натуре, который раздает экю направо и налево, не требуя их возвращения, и в своих поступках следует правилам известной щепетильности, чуждой пошлого добронравия, вынужденного и лицемерного. Многие слывут добродетельными и честными, разоряя, подобно Нусингену, своих благодетелей, между тем как нередко люди, выпущенные из исправительной тюрьмы, выказывают безукоризненную честность по отношению к женщине. Добродетель совершенная, мечта Мольера – Альцест – чрезвычайная редкость, однако она встречается везде, даже в Париже. Определение славный малый говорит об известной мягкости характера, ничего, впрочем, не доказывающей. Такова особенность этого человека; ведь и у кошки шелковистая шерсть, а домашние туфли так удобны! Стало быть, Фале, как славный малый, по смыслу, приданному этому прозвищу содержанками, должен был предупредить любовницу о грозящем ему банкротстве и как-то обеспечить ее. Д'Этурни, дамский угодник, был славный малый: он плутовал в игре, но приберег тридцать тысяч франков для любовницы. Поэтому на ужинах во время карнавала женщины отвечали его обвинителям: Все равно!.. Что бы вы ни говорили, а Жорж был славный малый, у него были хорошие манеры, он заслуживал лучшей участи!» Эти девицы издеваются над законами, они обожают известную деликатность; они способны продаться, как Эстер, во имя тайной, прекрасной мечты, их единственной религии. Г-жа дю Валь-Нобль с большим трудом спасла при крушении лишь несколько драгоценностей, тем не менее над ней тяготело тяжкое обвинение: «она разорила Фале». Ей исполнилось тридцать лет, но, хотя красота ее была в расцвете, она могла прослыть старухой, тем более что при подобных катастрофах женщина оказывается лицом к лицу со своими соперницами. Мариетта, Флорина и Туллия охотно приглашали подругу отобедать с ними, оказывали ей некоторую помощь, но, не зная цифры ее долгов, не отваживались исследовать всей глубины пропасти. Промежуток в шесть лет, при кипучести парижского моря, образовал между Торпиль и г-жою дю Валь-Нобль чересчур большое расстояние, чтобы женщина, оставшаяся на бобах, обратилась с просьбой к женщине, задающей тон, но г-жа дю Валь-Нобль слишком хорошо знала великодушие Эстер и была уверена, что ее прежняя подруга вспомнит о той, чье наследство, по выражению самой же Валь-Нобль, переходит к ней, и при встрече, как бы случайной, а в самом деле подстроенной, не отвернется от нее. Чтобы этот случай представился, г-жа дю Валь-Нобль, скромно одетая, как порядочная женщина, каждый день прогуливалась в Елисейских полях рука об руку с Теодором Гайаром, который в конце концов женился на ней, а в ту пору, когда она попала в беду, вел себя безупречно в отношении своей бывшей любовницы, дарил ей ложи в театры, устраивал приглашения на все развлечения. Она льстила себя надеждой, что Эстер в хорошую погоду пожелает прогуляться, и они тогда встретятся лицом к лицу. Кучером у Эстер был Паккар, ибо весь ее домашний уклад в пять дней был устроен Азией, Европой и Паккаром по указаниям Карлоса таким образом, что особняк на улице Сен-Жорж стал неприступной крепостью. Со своей стороны, Перад, побуждаемый глубокой ненавистью, жаждой мести и, более всего, желанием устроить свою ненаглядную Лидию, избрал местом своих прогулок Елисейские поля, как только Контансон сказал ему, что там можно встретить любовницу г-на Нусингена. Перад так хорошо усвоил манеру одеваться на английский лад, так неподражаемо говорил по-французски, с пришепетыванием, которое англичане вносят в нашу речь, так безукоризненно владел английским языком, настолько знал дела этой страны, где ему довелось побывать три раза по поручению парижской полиции в 1779-1786 годах, что, играя роль англичанина при послах, даже в Лондоне, ни в ком не возбуждал подозрений. Перад, во многом похожий на Мюсона, знаменитого мистификатора, умел переряжаться с таким искусством, что Контансон однажды не узнал его. Сопутствуемый Контансоном, изображавшим мулата, Перад изучал Эстер и ее челядь тем рассеянным взглядом, который, однако ж, видит все. И, конечно, в день встречи Эстер с г-жой дю Валь-Нобль он оказался на боковой аллее, где владельцы собственных выездов гуляют в сухую и ясную погоду. Непринужденно, как настоящий набоб, которому ни до кого нет дела, Перад, сопровождаемый мулатом в ливрее, пошел за женщинами на таком расстоянии, чтобы поймать обрывки их разговора.
– Ну что же, душенька, – говорила Эстер г-же дю Валь-Нобль, – приезжайте ко мне. Нусинген сам у себя в долгу: не оставит же он без гроша любовницу своего маклера…
– Тем более, что говорят, будто он его разорил, – сказал Теодор Гайар, – и мы могли бы его шантажировать…
– Он обедает у меня завтра, приезжай, дорогая, – сказала Эстер. И шепнула ей на ухо: – Я делаю с ним, что хочу, а он не имеет еще ни вот столечко! – Она приложила кончик пальца, обтянутого перчаткой, к своим красивым зубам и сделала достаточно известный и выразительный жест, означающий: «Ни-че-го!»
– Ты держишь его в руках…
– Дорогая моя, пока он только заплатил мои долги…
– Ну и мотовка же ты! – вскричала Сюзанна дю Валь-Нобль.
– О-о! Своим мотовством я бы отпугнула от себя самого министра финансов! – отвечала Эстер. – Теперь я желаю получить тридцать тысяч франков ренты, прежде чем пробьет полночь!.. Мой старик очень мил, я не могу жаловаться… Все идет отлично! Через неделю мы празднуем новоселье, ты будешь тоже… Утром он преподнесет мне купчую на дом в улице Сен-Жорж. Не имея тридцати тысяч франков ренты, прилично жить в таком доме невозможно, ведь надо кое-что приберечь и на черный день. Я испытала нужду, и с меня хватит. Есть вещи, которыми сразу сыт по горло.
– А ты говорила: «Богатство – это я!» Как ты переменилась! – воскликнула Сюзанна.
– Таков воздух Швейцарии, там становишься бережливой… Послушай-ка, поезжай туда, дорогая! Обработай швейцарца и, как знать, может, заработаешь себе мужа! Они там еще не знают, чего стоят такие женщины, как мы… Но, как бы там ни было, ты вернешься с любовью к ренте в ценных бумагах, любовью почтенной и нежной! Прощай!
Эстер села в свою прекрасную карету, запряженную серыми в яблоках рысаками, самыми великолепными, каких только можно было сыскать в Париже.
– Женщина, которая села в карету, – сказал тогда Перад по-английски Контансону, – хороша, но я предпочитаю ту, что прогуливается: ты пойдешь следом за ней и узнаешь, кто она такая.
– Хочешь послушать, что сказал этот англичанин? – сказал Теодор Гайар и перевел г-же дю Валь-Нобль слова Перада.
Прежде чем заговорить по-английски, Перад отпустил на этом языке словечко, услышав которое Теодор Гайар поморщился, и Перад понял, что журналист знает английский язык. Г-жа дю Валь-Нобль, искоса поглядывая, не идет ли за ней мулат, чрезвычайно медленно пошла по направлению к улице Луи-де-Гран, где она жила в приличных меблированных комнатах. Предприятие это принадлежало некоей г-же Жерар, которой в дни своего великолепия г-жа дю Валь-Нобль оказала какую-то услугу, за что эта дама теперь выказывала признательность, устроив ее наилучшим образом. Добрая женщина, почтенная мещанка, исполненная добродетелей и даже благочестия, принимала куртизанку, как существо высшего порядка; она все еще помнила ее во всем блеске роскоши, она почитала ее, как низложенную королеву: она поручала ей своих дочерей; и что бы вы думали, куртизанка относилась к своим обязанностям настолько добросовестно, что, сопровождая девушек в театр, вполне заменяла им мать, обе девицы Жерар ее очень любили. Славная и достойная хозяйка гостиницы напоминала благородных священников, для которых эти женщины, поставленные вне закона, – только создания, нуждающиеся в помощи и любви. Госпожа дю Валь-Нобль уважала это воплощение порядочности и, беседуя с ней по вечерам и жалуясь на свои невзгоды, порой завидовала ее судьбе. «Вы еще красивы, вы можете еще кончить хорошо», – утешала ее г-жа Жерар. Впрочем, падение г-жи дю Валь-Нобль было лишь относительным. У этой женщины, такой расточительной и элегантной, было еще достаточно нарядов, и она могла позволить себе при случае появляться во всей своей красе, как то было на представлении «Ричарда д'Арлингтона» в театре Порт-Сен-Мартен. Г-жа Жерар еще достаточно щедро оплачивала наемные кареты, в которых нуждается женщина, оставшаяся на бобах, чтобы выезжать на обеды, в театры и возвращаться оттуда домой.
– Ну что ж, дорогая мадам Жерар, – сказала она честной матери семейства, – как будто в моей судьбе наступает перемена…
– О, мадам, тем лучше! Но впредь будьте умницей, думайте о будущем… Не входите больше в долги. Ведь так трудно выпроваживать всех этих людей, которые вас ищут!..
– Э-э! Не жалейте этих мерзавцев! Все они хорошо поживились на мне. Послушайте! Вот билеты в Варьетэ для ваших девочек; хорошая ложа во втором ярусе. Если вечером меня спросят, а я еще не ворочусь, все же попросите пройти наверх. Адель, моя бывшая горничная, будет там; я вам ее пришлю.
Госпожа дю Валь-Нобль, у которой не было ни тетки, ни матери, принуждена была обратиться к помощи горничной (тоже оставшейся на бобах!) и выпустить ее в роли Сент-Эстев перед незнакомцем, победа над которым позволила бы ей подняться на прежнюю ступень. Она отправилась обедать с Теодором Гайаром, которому в тот вечер предстояло развлечение, короче сказать, званый обед, что давал Натан в ответ на проигранное пари, – один из тех кутежей, когда приглашенных предупреждают: «Будут женщины».
Перад не без особых к тому причин решился самолично принять участие во всей этой истории. Впрочем, любопытство его, как и любопытство Корантена, было так живо задето, что он и без всяких причин охотно бы вмешался в эту драму. В ту пору политика Карла Х завершила последний этап своего развития. Поручив бразды правления министрам, облеченным его доверием, король готовил захват Алжира, чтобы воспользовавшись славой, которую принесет ему эта победа, облегчить задуманный им, как тогда говорили, государственный переворот. Внутри страны никто больше не составлял заговоров. Карл Х полагал, что у него нет противников. Но в политике, как в море, бывает обманчивым затишье. Корантен пребывал, таким образом, в полном бездействии. В подобном положении опытный охотник, чтобы упражнять руку, стреляет, за неимением дичи, по воробьям. Так Домициан, за неимением христиан, убивал мух. Контансон, свидетель ареста Эстер, изощренным чутьем сыщика великолепно оценил значение этого хода. Как мы видели, плут даже не потрудился скрыть свое изумление от барона Нусингена. «В чью же пользу разыгрываются вокруг страсти барона комедия выкупа? – вот первый вопрос, который задали себе оба друга. Признав в Азии действующее лицо этой пьесы, Контансон надеялся через нее дойти до автора; но она выскальзывала из его рук, точно угорь, прячась в парижской тине, и, когда она опять вынырнула в качестве кухарки Эстер, пособничество мулатки показалось ему необъяснимым. Мастера сыска впервые, таким образом, натолкнулись на текст, не поддающийся истолкованию и, однако ж, таивший какой-то темный смысл. Сломать печать молчания не помогли Контансону и три последовательных дерзких набега на дом в улице Тетбу. Пока там жила Эстер, привратник был нем и казалось, перепуган до смерти. Не пообещала ли Азия отравленных клецек всей его семье в случае нескромности? На другой день, как только Эстер съехала с квартиры, Контансон нашел, что привратник в некоторой степени обрел здравый рассудок и весьма сожалел о дамочке, которая, как он выражался, питала его крохами со своего стола. Контансон, одетый торговым агентом, приценивался к квартире и выслушивал сетования привратника, подшучивая над ним и перебивая его вопросами: «Но возможно ли это?» «Да, да, мосье! Пять лет прожила тут взаперти эта дамочка. И ревнивец же был ее любовник, хотя поведения она была самого скромного. А с какими предосторожностями он приезжал к ней! Бывало, и входит в дом и выходит из дому крадучись! Впрочем, этот молодй человек был красавец собою». Люсьен гостил еще в Марсаке, у своей сестры, г-жи Сешар. Как только он вернулся, Контансон послал привратника на набережную Малакэ спросить г-на де Рюбампре, согласен ли он продать мебель в квартире, покинутой г-жою Ван Богсек. Привратник признал в Люсьене таинственного любовника молодой вдовы, а Контансон большего и не желал. Можно судить, как велико было смущение Люсьена и Карлоса, хотя они этого старались не выказать и пробовали убедить привратника, что он сошел с ума.
За сутки Карлос организовал контрполицию, уличившую Контансона в шпионаже, застав его на месте преступления. Контансон, под видом рыночного разносчика, уже два раза приносил провизию, купленную утром Азией, и два раза входил в особняк на улице Сен-Жорж. Корантен, со своей стороны, не дремал; но он стал в тупик, поверив в подлинность особы Карлоса Эррера, после того как выяснил, что этот аббат, тайный посланец Фердинанда VII, приехал в Париж в конце 1823 года. Все же Корантен должен был изучить причины, побудившие этого испанца покровительствовать Люсьену де Рюбампре. Вскоре Корантена осведомили, что Эстер была пять лет любовницей Люсьена. Стало быть, подмена Эстер англичанкой произошла в интересах денди. Средств к существованию у Люсьена не было, ему отказывали в руке мадемуазель де Гранлье, и вместе с тем он только что купил за миллион поместье де Рюбампре. Корантен ловко заставил действовать начальника королевской полиции, и тот, запросив по поводу Перада начальника префектуры, получил сообщение, что в этом деле истцами были не более и не менее, как граф Серизи и Люсьен де Рюбампре. «Все ясно!» – воскликнули разом Перад и Корантен. План двух друзей был начертан в одну минуту. «У этой девицы, – сказал Корантен, – были связи, у нее есть подруги. Не может быть, чтобы среди них не нашлось хотя бы одной в бедственном положении; кто-нибудь из нас должен сыграть роль богатого иностранца, который возьмет ее на содержание; мы заставим их встречаться. Они друг в друге нуждаются, когда им приходится ловить любовников; и мы будем тогда в центре событий». Естественно, роль англичанина Перад прочил для себя. Ему улыбалось вести разгульную жизнь, связанную с раскрытием заговора, жертвой которого он оказался, между тем как Корантен, человек довольно вялый, постаревший на своей работе, нимало не притязал на это. Преобразившись в мулата, Контансон тотчас же ускользнул от контрполиции Карлоса. За три дня до встречи Перада и г-жи дю Валь-Нобль на Елисейских полях бывший агент господ де Сартина и Ленуара, снабженный паспортом по всей форме, остановился в гостинице «Мирабо», что на улице де ла Пэ, прибыв из заморских колоний через Гавр в коляске, настолько забрызганной грязью, точно она и впрямь проделала путь из Гавра, а не прибыла в Париж прямехонько из Сан-Дени.
Карлос Эррера, со своей стороны, отметил паспорт в испанском посольстве и подготовил всю набережную Малакэ к тому, что он отбывает в Мадрид. И вот почему. Еще несколько дней – Эстер станет владелицей особняка на улице Сен-Жорж и получит бумагу на тридцать тысяч франков ренты; Европа и Азия достаточно ловки, чтобы продать эту ренту и тайно передать деньги Люсьену. Люсьен, разбогатевший якобы благодаря щедрости своей сестры, выплатит все, что он остался должен, за поместье де Рюбампре. Никто не нашел бы ничего предосудительного в его поведении. Одна Эстер могла оказаться нескромной, но она скорее умерла бы, чем повела бровью. Клотильда уже нацепила розовый платочек на свою журавлиную шею, значит, в особняке де Гранлье партия была выиграна. Акции парижских омнибусов поднялись втрое. Карлос, исчезая на несколько дней, расстраивал всякие злостные замыслы. Человеческая осторожность предвидела все, промаха быть не могло. Лжеиспанец должен был уехать на другой же день после встречи Перада с г-жою дю Валь-Нобль в Елисейских полях. И вот в ту же ночь, в два часа, Азия приехала в фиакре на набережную Малакэ и увидела, что кочегар всей этой машины покуривает трубку в своей спальне; он еще раз продумывал только что изложенное нами в коротких словах, – так автор перечитывает рукопись, чтобы убедиться, нет ли в ней каких-либо погрешностей. Человек подобного склада не желал дважды попасть впросак, как это случилось при появлении привратника с улицы Тетбу.
– Паккар, – сказала Азия на ухо своему господину, – видел нынче днем, в половине третьего, в Елисейских полях Контансона, переряженного мулатом; он служит лакеем при одном англичанине, который уже три дня сряду прогуливается в Елисейских полях и следит за Эстер. Паккар узнал этого пса по глазам, как и я, когда он втерся к нам под видом рыночного разносчика. Паккар проводил девочку таким манером, чтобы не терять из виду эту шельму. Контансон живет в гостинице «Мирабо»; но он обменялся таким понимающим взглядом с англичанином, что невозможно, говорит Паккар, чтобы этот англичанин был англичанином.
– Напали на наш след, – сказал Карлос. – Я уеду не раньше чем послезавтра. Конечно, это Контансон подослал к нам привратника с улицы Тетбу; надобно узнать, враг ли нам мнимый англичанин.
В полдень мулат г-на Самуэля Джонсона степенно прислуживал своему хозяину, который завтракал, как всегда, с нарочитой прожорливостью. Перад желал изобразить англичанина из пьянчуг – он не выезжал иначе как под хмельком. Он носил черные суконные гетры, доходившие ему до колен и на ватной стеганой подкладке, чтобы ноги казались полнее; панталоны его были подбиты толстейшей бумазеей; жилет застегивался до подбородка; синий галстук окутывал шею до самых щек; рыжий паричок закрывал половину лба; он прибавил себе толщинки дюйма на три, – таким образом, самый давнишний завсегдатай кафе «Давид» не мог бы его узнать. По его широкому в плечах черному фраку, просторному и удобному, как английский фрак, прохожий неминуемо принял бы его за англичанина-миллионера. Контансон выказывал сдержанную наглость лакея, доверенного слуги набоба; он был замкнут, спесив, малообщителен, исполнен презрения к людям, позволял себе резкие выходки и нередко повышал голос. Перад кончал вторую бутылку, когда лакей из гостиницы, вопреки правилам, без стука впустил в комнату человека, в котором Перад безошибочно, как и Контансон признал жандарма в штатской одежде.
– Господин Перад, – шепнул на ухо набобу подошедший к нему жандарм, – мне приказано доставить вас в префектуру.
Перад без малейшего возражения поднялся и взял шляпу.
– У подъезда вас ожидает фиакр, – сказал ему жандарм на лестнице. – Префект хотел вас арестовать, но удовольствовался тем, что послал полицейского надзирателя потребовать от вас объяснений насчет вашего поведения; он ожидает вас в карете.
– Должен ли я сопровождать вас? – спросил жандарм чиновника, когда Перад сел в экипаж.
– Нет, – отвечал чиновник. – Шепните кучеру, чтобы он ехал в префектуру.
Перад и Карлос остались вдвоем в фиакре. Карлос держал наготове стилет. На козлах сидел верный кучер, и, выскочи Карлос из фиакра, он этого бы не заметил, а по приезде на место удивился бы, обнаружив труп в своей карете. За шпиона никогда не вступаются. Правосудие обычно оставляет такие убийства безнаказанными, настолько трудно их расследовать. Перад взглядом сыщика окинул чиновника, которого отрядил к нему префект полиции. Внешний вид Карлоса удовлетворил его: лысая голова со складками на затылке, напудренные волосы, на подслеповатых, нуждающихся в лечении глазах, с красными веками, золотые очки, чересчур нарядные, чересчур бюрократические, с зелеными двойными стеклами. Глаза эти служили свидетельством гнусных болезней. Перкалевая рубашка, с плиссированной, хорошо выутюженной грудью, потертый черный атласный жилет, штаны судейского чиновника, черные шелковые чулки и туфли с бантами, длиннополый черный сюртук, перчатки за сорок су, черные и ношенные уже дней десять, золотая цепочка от часов. Это был всего-навсего нижний чин, именуемый чрезвычайно непоследовательно полицейским надзирателем.
– Любезный господин Перад, я сожалею, что такой человек, как вы, является предметом надзора и даже дает для него повод. Ваше переодевание не по вкусу господину префекту. Если вы думаете ускользнуть таким путем от нашей бдительности, вы заблуждаетесь. Вы, вероятно, приехали из Англии через Бомон на Уазе?..
– Через Бомон на Уазе, – повторил Перад.
– А может быть, через Сен-Дени? – продолжал лжечиновник.
Перад смутился. Новый вопрос требовал ответа. А любой ответ был опасен. Подтверждение звучало бы насмешкой; отрицание, если человек знал истину, губило Перада. «Хитер», – подумал он. Глядя в лицо полицейскому чиновнику, он попробовал улыбнуться, преподнеся ему улыбку вместо ответа. Улыбка была принята благосклонно.
– С какой целью вы перерядились, наняли комнаты в гостинице «Мирабо» и одели Контансона мулатом? – спросил полицейский чиновник.
– Господин префект волен поступать со мной, как он пожелает, но я обязан давать отчет в своих действиях только моим начальникам, – с достоинством сказал Перад.
– Если вы желаете дать мне понять, что вы действуете от имени главной королевской полиции, – сухо сказал мнимый агент, – мы переменим направление и поедем не на Иерусалимскую улицу, а на улицу Гренель. Мне даны самые точные указания относительно вас. Не промахнитесь! На вас разгневаны, но не чересчур, и вы рискуете вмиг спутать собственные карты. Что касается до меня, я не желаю вам зла… Но не мешкайте!.. Скажите мне правду…
– Правду? Вот она… – сказал Перад, бросив лукавый взгляд на красные веки своего цербера.
Лицо мнимого чиновника было замкнуто, бесстрастно, он лишь исполнял свою служебную обязанность и отнесся безразлично к ответу Перада, казалось всем своим видом выражая префекту неодобрение за какой-то его каприз. У префектов бывают свои причуды.
– Я влюбился как сумасшедший в одну женщину, любовницу биржевого маклера, который ныне путешествует ради своего удовольствия, к неудовольствию заимодавцев: в любовницу Фале.
– В госпожу дю Валь-Нобль, – сказал полицейский чиновник.
– Да, – продолжал Перад. – Для того чтобы взять ее на содержание хотя бы на один месяц, что мне станет не дороже тысячи экю, я нарядился набобом и прихватил Контансона в качестве слуги. Сударь, это сущая правда, и, если вы желаете в этом убедиться, позвольте мне остаться в фиакре – клянусь честью бывшего главного комиссара полиции, не сбегу! – а сами подымитесь в гостиницу и расспросите Контансона. И не один Контансон подтвердит то, что я имел честь сказать вам сейчас: там вы встретите и горничную госпожи дю Валь-Нобль, она должна принести согласие на мои предложения либо предъявить условия своей госпожи. Старую лису хитростям не учить: я предложил тысячу франков в месяц и карету, что составляет полторы тысячи; подарки – еще пятьсот франков, столько же на развлечения, на обеды, театр; как видите, я не ошибся ни на один сантим, – тысяча экю, как я и сказал. Мужчина в моем возрасте имеет право истратить тысячу экю на свою последнюю прихоть.
– Эх, папаша Перад, вы все еще так любите женщин, чтобы… Но вы меня надуваете: мне шестьдесят лет, и я отлично обхожусь без этого… Ну, а если дело и вправду обстоит так, как вы рассказываете, я допускаю, что удовлетворить вашу прихоть легче, приняв обличье иностранца.
– Вы понимаете, что ни Перад, ни папаша Канкоэль с улицы Муано…
– Разумеется, ни тот ни другой не подошли бы госпоже дю Валь-Нобль, – подхватил Карлос, обрадовавшись, что ему стал известен адрес папаши Канкоэля. – До революции, – сказал он, – моей любовницей была бывшая содержанка заплечных дел мастера, иными словами, палача. Однажды, будучи в театре, она укололась булавкой и, как водится, вскричала: «Ах, ты кровопийца!» «Невольное воспоминание?» – заметил ее сосед. И что же старина Перад! Ведь она бросила своего любовника из-за одного этого слова. Понимаю, вы не желаете подвергаться подобному оскорблению… Госпожа дю Валь-Нобль – женщина для людей порядочных; я ее однажды видел в Опере, очень красивая женщина… Прикажите кучеру воротиться на улицу де ла Пэ, любезный Перад. Я подымусь вместе с вами в ваши комнаты и сам во всем разберусь. Устный доклад, без сомнения, удовлетворит господина префекта.
Карлос вынул из бокового кармана табакерку из черного картона, отделанную позолоченным серебром, открыл ее и с подкупающим добродушием предложил Пераду понюшку табака. Перад сказал себе: «Вот они, их агенты!.. Боже мой! Воскресни господин Ленуар или господин де Сартин, что бы они сказали?»
– Само собою, тут есть доля истины, но это отнюдь не все, друг мой любезный, – сказал мнимый чиновник, поднеся к носу щепотку табаку. – Вы вмешались в сердечные дела барона Нусингена и, несомненно, пытаетесь накинуть на него какую-то петлю; промахнувшись по нему из пистолета, вы желаете нацелиться в него из пушки. Госпожа дю Валь-Нобль подруга госпожи де Шампи…
«Эх, черт! Как бы мне не попасть в свою же ловушку! – сказал про себя Перад. – Он сильнее, чем я думал. Он меня разыгрывает: поет, что, мол, отпустит подобру-поздорову, а сам вытягивает из меня признания».
– Ну, что же? – сказал Карлос начальственным тоном.
– Сударь, вы правы, я поступил опрометчиво, разыскивая по поручению господина Нусингена женщину, в которую он без памяти влюблен. Вот в чем причина постигшей меня немилости; видимо, я затронул, сам того не ведая, интересы чрезвычайной важности. (Полицейский надзиратель хранил бесстрастие). Но я за пятьдесят лет практики достаточно изучил полицию, – продолжал Перад, – и должен был, получив нагоняй от господина префекта, воздержаться от дальнейших шагов. Он, конечно, прав…
– Могли бы вы поступиться вашей прихотью, ежели бы господин префект этого потребовал? Я уверен, что это было бы лучшим доказательством искренности ваших слов.
«Каков каналья! Каков каналья! – говорил себе Перад. – Эх, черт возьми! Нынешние агенты стоят агентов господина Ленуара».
– Поступиться? – повторил Перад. – Пусть только господин префект прикажет… Но если вам угодно подняться, вот и гостиница.
– Откуда же вы берете средства? – внезапно спросил Карлос, проницательно глядя на него.
– Сударь, у меня есть друг… – начал было Перад.
– Вам угодно рассказать об этом судебному следователю? – сказал Карлос.
Этот смелый шаг был следствием одного из тех необычных по своей простоте расчетов Карлоса, которые могут возникнуть только в голове человека его закала. Рано утром он послал Люсьена к графине де Серизи. Люсьен от имени графа попросил его личного секретаря затребовать у префекта полиции сведения об агенте, обслуживающем барона Нусингена. Секретарь воротился с копией выписки из дела Перада:
«В полиции с 1778 года, прибыл из Авиньона в Париж за два года до того.
Не обладает ни состоянием, ни высокой нравственностью, посвящен в государственные тайны.
Проживает на улице Муано, под именем Канкоэль, по названию небольшого имения, на доходы с которого живет его семья, в департаменте Воклюз, семья, впрочем, почтенная.
Не так давно его разыскивал внучатый племянник, по имени Теодоз де ла Перад. (См. донесение агента, документ № 37.)»
– Он и есть тот англичанин, при котором состоит в мулатах Контансон! – вскричал Карлос, когда Люсьен принес, помимо справки, сведения, данные ему на словах.
Посвятив этому делу три часа, Карлос с энергией, достойной главнокомандующего, нашел через Паккар безобидного сообщника, способного сыграть роль жандарма в штатском, а сам преобразился в полицейского надзирателя. Трижды им овладевало искушение убить Перада тут же в фиакре; но он раз и навсегда запретил себе убивать собственноручно и принял твердое решение отделаться от Перада, натравив на него, как на богача, какого-нибудь бывшего каторжника.
Перад и его суровый спутник услышали голос Контансона, который беседовал с горничной г-жи дю Валь-Нобль. Перад сделал знак Карлосу задержаться в первой комнате, как бы говоря: «Вот вам и случай судить о моей искренности».
– Мадам на все согласна, – говорила Адель. – Мадам сейчас у своей подруги, госпожи де Шампи, у которой на улице Тетбу есть еще одна квартира с полной обстановкой и оплаченная за год вперед; она ее, конечно, нам уступит. Мадам будет удобнее принимать там господина Джонсона; ведь обстановка еще достаточна хороша, и мосье может ее купить для мадам, условившись о цене с госпожою де Шампи.
– Ладно, малютка! Если это и не малина, то ее цветочки, – сказал мулат опешившей девушке, – но мы поладим…
– Вот тебе и чернокожий! – вскричала мадемуазель Адель. – Если ваш набоб и вправду набоб, он отлично может подарить обстановку мадам. Контракт кончается в апреле тысяча восемьсот тридцатого года, и ваш набоб может его возобновить, если ему там понравится.
– Я очин доволн! – ответил Перад, войдя в комнату и потрепав горничную по плечу.
И он сделал знак Карлосу, который кивнул ему утвердительно головой, понимая, что набоб не должен выходить из своей роли. Но сцена вдруг переменилась с появлением личности, перед которой в эту минуту были бессильны и Карлос и префект полиции. В комнату неожиданно вошел Корантен. Проходя мимо дома, он увидел, что дверь отперта, и решил посмотреть, как его старина Перад играет роль набоба.
– Префект по-прежнему сидит у меня в печенках! – сказал Перад на ухо Корантену. – Он признал меня в набобе.
– Мы свалим префекта, – отвечал своему другу Корантен также на ухо.
Потом, холодно поклонившись чиновнику, он стал исподтишка изучать его.
– Оставайтесь тут до моего возвращения, я съезжу в префектуру, – сказал Карлос. – Если же я не ворочусь, можете удовлетворить свою прихоть.
Шепнув последние слова Пераду на ухо, чтобы важная особа не упала в глазах горничной, Карлос вышел, отнюдь не стремясь привлечь к себе внимание новоприбывшего, в котором он признал одного из тех голубоглазых блондинов, что способны нагнать на вас леденящий ужас.
– Это полицейский чиновник, посланный ко мне префектом, – сказал Перад Корантену.
– Вот этот? – отвечал Корантен. – Ты позволил себя провести. У него три колоды карт в башмаках, это видно по положению ноги в обуви; кроме того, полицейскому чиновнику нет нужды переодеваться!
Корантен во весь дух сбежал вниз, чтобы проверить свои подозрения; Карлос садился в фиакр.
– Эй! Господин аббат!.. – вскричал Корантен.
Карлос оглянулся, увидел Корантена и сел в фиакр. Однако Корантен успел сказать через дверцу экипажа: «Вот все, что я желал знать».
– Набережная Малакэ! – крикнул он кучеру с сатанинской издевкой в тоне и взгляде.
«Ну, – сказал про себя Жак Коллен, – я пропал, нужно их опередить и, главное, узнать чего им от нас надобно».
Корантену довелось раз пять-шесть видеть аббата Карлоса Эррера, а взгляд этого человека нельзя было забыть. Корантен с самого начала признал и эту ширину плеч и одутловатость лица, он догадался и о внутренних подкладных каблуках, придававших три дюйма росту.
– Эх, старина, разоблачили тебя! – сказал Корантен, когда убедился, что в спальной нет никого, кроме Перада и Контансона.
– Кто? – воскликнул Перад, и его голос приобрел металлическое звучание. – Я живьем насажу его на вертел и буду поджаривать на медленном огне до конца своих дней!
– Аббат Карлос Эррера – это, видимо, испанский Корантен. Все объясняется! Испанец – развратник высшей марки, он пожелал составить состояние мальчишке, выколачивая монету из постели красивой девки… Тебе лучше знать, захочешь ли ты состязаться с дипломатом, который, по-моему, дьяволски хитер.
– О-о! – вскричал Контансон. – Это он получил триста тысяч франков в день ареста Эстер, он сидел тогда в фиакре! Я запомнил эти глаза, этот лоб, эти щербинки от оспы.
– Ах! Какое приданое было бы у моей бедной Лидии! – вскричал Перад.
– Ты можешь оставаться набобом, – сказал Корантен. – Чтобы иметь свой глаз в доме Эстер, надобно ее связать с Валь-Нобль. Эстер и была настоящей любовницей Люсьена де Рюбампре.
– Они уже ограбили Нусингена больше чем на пятьсот тысяч франков, – сказалал Контансон.
– Им нужно еще столько же, – продолжал Корантен. – Земля де Рюбампре стоит миллион. Папаша, – сказал он, ударяя Перада по плечу, – ты можешь получить больше ста тысяч, чтобы выдать замуж Лидию.
– Не говори так, Корантен. Если твой план провалится, не ручаюсь, на что я буду способен…
– Как знать, не получишь ли ты их завтра! Аббат, дорогой друг, чрезвычайно хитер, мы должны лизать ему копыта, это дьявол высшего чина; но он у меня в руках, он человек умный, он сдастся. Постарайся быть глупым, как набоб, и ничего не бойся.
Вечером в тот же самый день, когда истинные противники встретились лицом к лицу на месте поединка, Люсьен поехал в особняк де Гранлье. Салон был полон гостей. Герцогиня приняла Люсьена чрезвычайно милостиво и на глазах всего общества снизошла до разговора с ним.
– Вы совершили небольшое путешествие? – сказала она.
– Да, сударыня. Моя сестра, желая облегчить мне возможность женитьбы, пошла на большие жертвы, и поэтому я мог купить землю де Рюбампре и восстановить наши былые владения. Мой парижский адвокат оказался ловким человеком, он уберег меня от требований, которые могли бы ко мне предъявить владельцы земель, если бы узнали имя покупателя.
– А есть ли там замок? – сказала Клотильда с радостной улыбкой.
– Там есть нечто похожее на замок, но разумнее было бы воспользоваться им как материалом для постройки нового дома.
Лицо Клотильды сияло от удовольствия, в ее глазах светилась любовь.
– Вы сыграете роббер с моим отцом, – сказала она ему совсем тихо. – Надеюсь, что через две недели вы будете приглашены к обеду.
– Ну что же, любезный господин де Рюбампре, – сказал герцог де Гранлье, – вы, говорят, выкупили ваши родовые земли, поздравляю вас. Вот ответ тем, кто награждал вас долгами! Люди нашего круга могут иметь долги точно так же, как имеют долги Франция или Англия; но, видите ли, люди без состояния, выскочки, не могут позволить себе такой образ действий…
– Ах, господин герцог, я должен еще пятьсот тысяч франков за свою землю!
– Ну что же, надобно жениться на девушке, которая их принесет; но вам трудно будет сделать такую богатую партию в нашем предместье, где дают мало приданого дочерям.
– Вполне достаточно их имени, – отвечал Люсьен.
– Нас только три игрока в вист: Монфриньез, д'Эспар и я: желаете быть четвертым? – сказал герцог, указывая Люсьену на ломберный стол.
Клотильда подошла к столу, чтобы посмотреть, как отец играет в вист.
– Она отдает их в мое распоряжение, – сказал герцог, слегка похлопывая по рукам дочери и глядя в сторону Люсьена, хранившего серьезность.
Люсьен, партнер г-на д'Эспар, проиграл двадцать луидоров.
– Милая мама, – сказала Клотильда, подойдя к герцогине, – он поступил умно, проиграв отцу.
В одиннадцать часов, обменявшись уверениями в любви с мадемуазель де Гранлье, Люсьен вернулся домой и лег в постель с мыслью о полной победе, которую он должен был одержать к концу месяца; он не сомневался, что будет принят в качестве жениха Клотильды и женится перед великим постом 1830 года.
На другой день, когда Люсьен покуривал после завтрака сигареты в обществе Карлоса, имевшего с некоторых пор весьма озабоченный вид, доложили о приходе г-на де Сент-Эстев (какая насмешка!), желавшего говорить с аббатом Карлосом Эррера или г-ном Люсьеном де Рюбампре.
– Сказали там внизу, что я уехал? – вскричал аббат.
– Да, мосье, – отвечал грум.
– Ну что ж, прими этого человека, – сказал он Люсьену, – но будь осторожен, ни слова лишнего, ни жеста: это враг.
– Ты все услышишь, – сказал Люсьен.
Карлос вышел в смежную комнату и через щель в двери видел, как вошел Корантен, которого он узнал только по голосу, настолько этот безвестный гений владел даром превращения! В эту минуту Корантен был похож на престарелого начальника какого-нибудь отдела в министерстве финансов.
– Я не имею чести быть с вами знакомым, сударь, – сказал Корантен, – но…
– Простите, что я вас перебиваю, сударь, – сказал Люсьен, – но…
– Но речь идет о вашей женитьбе на мадемуазель Клотильде де Гранлье, которая не состоится, – сказал тогда Корантен с живостью.
Люсьен сел и ничего не ответил.
– Вы в руках человека, который хочет и может без труда доказать герцогу де Гранлье, что земля де Рюбампре оплачена деньгами, которые один глупец дал вам за вашу любовницу, мадемуазель Эстер, – продолжал Корантен. – Легко найти копию приговора, согласно которому мадемуазель Эстер подверглась судебному преследованию, имеются также способы принудить говорить д'Этурни. Все это чрезвычайно ловкие проделки, направленные против барона, будут разоблачены. Но время еще не упущено. Дайте сто тысяч франков, и вас оставят в покое… Мое дело здесь – сторона. Я только поверенный в делах тех, кто идет на шантаж, вот и все!
Корантен мог говорить целый час. Люсьен курил свою сигарету с самым беспечным видом.
– Сударь, – отвечал он, – я не желаю знать, кто вы такой, ибо люди, которые берут на себя подобные поручения, для меня по крайней мере не имеют имени. Я позволил вам спокойно говорить: я у себя дома. Вы, по-моему, не лишены здравого смысла, выслушайте хорошенько мои соображения.
Наступило молчание. Люсьен не отводил своего ледяного взгляда от устремленных на него кошачьих глаз Корантена.
– Либо вы опираетесь на вымышленные факты, и мне нет нужды беспокоиться, – снова заговорил Люсьен, – либо вы правы, и тогда, дав вам сто тысяч франков, я предоставляю вам право столько раз требовать у меня по сто тысяч франков, сколько ваш доверитель найдет Сент-Эстевов, чтобы посылать ко мне за деньгами… Короче, чтобы сразу покончить с этим, знайте, почтенный посредник, что я, Люсьен де Рюбампре, никого не боюсь. Я не имею отношения к грязным делишкам, о которых вы говорили. Ежели семейство де Гранлье станет капризничать, найдутся другие молодые девушки из высшей знати, на которых можно жениться. Да, в сущности, я ничего не проиграю и оставшись холостым, тем более если я торгую, как вы полагаете, белыми рабынями столь прибыльно.
– Если господин аббат Карлос Эррера…
– Сударь, – сказал Люсьен, перебивая Корантена, – аббат Карлос Эррера сейчас на пути в Испанию; он совершенно непричастен к моей женитьбе, он не входит в мои денежные дела. Этот государственный человек долгое время охотно помогал мне советами, но он должен дать отчет в своих делах его величеству испанскому королю; если вам нужно поговорить с ним, предлагаю вам поехать в Мадрид.
– Сударь, – сказал Корантен, отчеканивая каждое слово, – вы никогда не будете мужем мадемуазель Клотильды де Гранлье.
– Тем хуже для нее, – отвечал Люсьен, нетерпеливо подталкивая Корантена к двери.
– Вы хорошо все обдумали? – холодно сказал Корантен.
– Сударь, я не давал вам права ни вмешиваться в мои дела, ни мешать мне курить, – сказал Люсьен, бросая потухшую сигарету.
– Прощайте, сударь, – сказал Корантен. – Мы больше не увидимся… но наступит, конечно, минута в вашей жизни, когда вы отдали бы половину своего состояния, чтобы сейчас вернуть меня с лестницы.
В ответ на эту угрозу Карлос сделал движение рукой, как будто бы отсекая голову.
– Теперь за работу! – вскричал он, взглянув на Люсьена, мертвенно-бледного после этой страшной беседы.
Если бы в числе читателей, впрочем достаточно ограниченном, которые занимаются нравственной и философической стороной книги, нашелся хотя бы один, способный поверить, что барон Нусинген наконец был счастлив, последний на собственном примере доказал бы ему, как трудно подчинить сердце куртизанки каким-либо законам физиологии. Эстер решила принудить злосчастного миллионера дорогой ценой оплатить то, что миллионер называл своим тнем триумфа. Поэтому новоселье в маленки тфорец не было еще отпраздновано и в первых числах февраля 1830 года.
– Но в день карнавала, – доверительно сказала Эстер своим приятельницам, пересказавшим все это барону, – я открываю свое заведение, и мой хозяин будет у меня кататься как сыр в масле.
Это выражение вошло в поговорку в парижском полусвете. А барон сокрушался. Как все женатые люди, он стал достаточно смешон, начав жаловаться своим близким и позволив им угадать свое недовольство. Однако Эстер по-прежнему играла роль госпожи Помпадур при этом князе Спекуляции. Единственно для того, чтобы пригласить к себе Люсьена, она уже устроила две или три пирушки. Лусто, Растиньяк, дю Тийе, Бисиу, Натан, граф де Брамбур, цвет парижских повес, стали завсегдатаями ее гостиной. Потом Эстер пригласила в качестве актрис в пьесе, которую она разыгрывала, Туллию, Флорентину, Фанни Бопре, Флорину, – двух актрис и двух танцовщиц, – наконец, г-жу дю Валь-Нобль. Нет ничего грустнее дома куртизанки без игры нарядов и пестрой смены лиц, без соли соперничества. В течение шести недель Эстер стала самой остроумной, самой занимательной, самой прекрасной и самой элегантной из парий женского пола, входящих в разряд содержанок. Поставленная на подобающий ей пьедестал, она вкушала все наслаждения тщеславия, которые прельщают обыкновенных женщин, но вкушала, как женщина, вознесенная тайной мечтою над своей кастой. Она хранила в сердце свой собственный образ, составлявший и стыд ее и славу; вот почему и приходилось ей то краснеть за себя, то гордиться собою; час отречения неотступно стоял перед ее совестью, и она жила двойственной жизнью, глубоко жалея себя. Ее злые шутки отражали ее душевное состояние – то чувство глубокого презрения, которое ангел любви, таившейся в куртизанке, питал к гнусной, бесчестной роли, разыгрываемой телом в присутствии души. Зритель и одновременно актер, обвинитель и обвиняемый, она воплощала собою чудесный вымысел арабских сказок, где постоянно встречается возвышенное существо, скрытое под унизительной оболочкой и чей первообраз запечатлен под именем Навуходоносора в книге книг – библии. Пообещав себе жить только один день после измены, жертва имела право слегка поглумиться над палачом. Притом сведения, полученные Эстер о тайных и постыдных способах, которыми барон нажил свое огромное состояние, освобождали ее от угрызений совести; ей полюбилась роль богини Атеи, «богини Мести», как говорил Карлос. Вот отчего она было то обольстительной, то несносной с бароном, который только ею и жил. Когда страдания становились для него так нестерпимы, что он желал бросить Эстер, она возвращала его к себе притворною нежностью.
Эррера, торжественно отбывший в Испанию, доехал только до Тура. Он приказал кучеру продолжать путь до Бордо, поручив слуге, оставшемуся в карете, играть роль хозяина и ждать его возвращения в одной из гостиниц в Бордо. А сам, воротившись с дилижансом в Париж под видом коммивояжера, тайно поселился у Эстер, откуда через Европу, Азию и Паккара руководил своими кознями, неусыпно надзирая за всеми, в особенности за Перадом.
Недели две до знаменательного дня, избранного для празднования новоселья, которое должно было состояться вслед за балом в Опере, открывавшим зимний сезон, куртизанка, своими остротами заслужившая славу опасной женщины, сидела у Итальянцев, в ложе бенуара, достаточно глубокой, чтобы барон мог скрыть там свою любовницу и не выставлять себя с нею напоказ, чуть ли не рядом с г-жой Нусинген. Эстер выбрала эту ложу, потому что из нее могла наблюдать за ложей г-жи де Серизи, которую почти всегда сопровождал Люсьен. Бедной куртизанке казалось счастьем видеть Люсьена по вторникам, четвергам и субботам в обществе г-жи де Серизи. Было около половины десятого, когда Люсьен вошел в ложу графини; Эстер сразу же заметила, что у него бледное, озабоченное, почти искаженное лицо. Эти приметы отчаяния были явны только для Эстер. Любящая женщина знает лицо возлюбленного, как моряк знает открытое море. «Боже мой! Что с ним?.. Что случилось? Не надо ли ему поговорить с этим дьяволом, который для него был ангелом-хранителем и который спрятан сейчас в мансарде, между конурками Европы и Азии?» Погруженная в эти мучительные мысли, Эстер почти не слушала музыку. Нетрудно догадаться, что она и вовсе не слушала барона, державшего обеими руками руку своего анкела и говорившего ей что-то на ломаном наречии польского еврея с нелепыми окончаниями слов, что претит читателю не менее, нежели слушателю.
– Эздер, ви не слушиль меня, – сказал он с досадой, отпуская и слегка отталкивая ее руку.
– Помилуйте, барон, вы коверкаете любовь, как коверкаете французский язык.
– Тьяволь!
– Я здесь не у себя в будуаре, а у Итальянцев. Если бы вы не были денежным ящиком изделия Юрэ или Фише, которого природа каким-то фокусом превратила в человека, вы не производили бы столько шума в ложе женщины, любящей музыку. Конечно, я вас не слушаю! Вы тут шуршите моим платьем, точно майский жук бумагой, и вынуждаете меня смеяться из жалости. Вы мне говорите: «Ви красиф, ви прелестни…» Старый фат! Разве я вам ответила: «Вы мне сегодня менее неприятны, поедемте домой?» Так вот! По тому, как вы вздыхаете (если я вас не слушаю, все же я ощущаю ваше присутствие), я понимаю, что вы чересчур плотно покушали, у вас начинается процесс пищеварения. Послушайте (я вам стою достаточно дорого и должна давать вам время от времени советы за ваши деньги!), послушайте, мой дорогой, когда у человека плохо варит желудок, как у вас, то ему не позволяется после еды твердить равнодушно и в неурочное время любовнице: «Ви красиф…» Блонде рассказывал, что один старый солдат вследствие такого фатовства опочил в лоне церкви… Теперь десять часов, вы в девять кончили обедать у дю Тийе вместе с вашей рохлей графом де Брамбуром, вам надобно переварить миллионы и трюфели. Вы мне все это повторите завтра в десять часов!
– Как ви шесток!.. – вскричал барон, признавший глубокую справедливость этого медицинского довода.
– Жестока? – повторила Эстер, не отводя глаз от Люсьена. – Разве вы не советовались с Бьяншоном, Депленом и старым Одри?.. С той поры, как вы провидите зарю вашего счастья, знаете ли, кого вы напоминаете?..
– Кофо?
– Старичка, закутанного во фланель, которому нужен целый час, чтобы подняться с кресел и подойти к окну, посмотреть, показывает ли градусник температуру, нужную шелковичным червям и рекомендованную ему врачом…
– Как ви неблаготарна! – вскричал барон, в отчаянии слушая эту музыку, которую влюбленные старики слышат, однако ж, достаточно часто в Итальянской опере.
– Неблагодарна! – сказала Эстер, – А что я получила от вас по нынешний день?.. Множество неприятностей. Посудите сами, папаша, могу ли я вами гордиться? А вы? Вы-то мною гордитесь, я с блеском ношу ваши галуны и ливрею! Вы заплатили мои долги?.. Пусть так. Но вы сфороваль достаточно миллионов (Ах, ах! Не надувайте губы, вы согласны со мной…), чтобы смотреть на это сквозь пальцы. Вот что более всего и делает вам честь… Девка и вор – лучшего сочетания не придумать. Вы соорудили роскошную клетку для попугая, который полюбился вам… Ступайте, спросите у бразильского ара, благодарен ли он тому, кто посадил его в золоченую клетку?.. Не глядите на меня так, вы похожи на бонзу… Вы показываете вашего бело-красного ара всему Парижу. Вы говорите: «Найдется ли в Париже еще один такой попугай?.. А как он болтает! Как он боек на язык!.. Дю Тийе входит, а он ему говорит: «Здравствуй, плутишка!..» Но вы счастливы, как голландец, купивший редкостный тюльпан, как в старину бывал счастлив набоб, проживавший в Азии на средства Англии, когда ему случалось купить у коммивояжера музыкальную табакерку, исполнявшую три увертюры! Вы добиваетесь моего сердца! Ну что ж! Я укажу вам средство его завоевать.
– Укажит, укажит!.. Я делай все для вас… Я люблю, когта ви мной шутиль!
– Будьте молоды, будьте красивы, будьте, как Люсьен де Рюбампре, вон там, в ложе вашей жены! И вы получите даром то, чего вам никогда не купить, со всеми вашими миллионами…
– Я оставляй вас… Потому сефодня ви отвратителен… – сказал хищник, и лицо его вытянулось.
– Ну что ж! Доброй ночи, – отвечала Эстер. – Посоветуйте Шоршу положить ваши подушки повыше, а ноги держите пониже, у вас сегодня апоплексический цвет лица… Вы не можете сказать, дорогой мой, что я не забочусь о вашем здоровье.
Барон встал и взялся за ручку двери.
– Сюда, Нусинген!.. – сказала Эстер, подзывая его высокомерным жестом.
Барон наклонился к ней собачьей покорностью.
– Хотите, чтобы я была мила с вами, давала бы вам вечером сладкой воды, нянчилась с вами, толстое чудовище?
– Ви раздирай мене тушу…
– Раздирать тушу? Ведь это значит драть шкуру!.. – продолжала Эстер, насмехаясь над произношением барона. – Послушайте, приведите ко мне Люсьена, я хочу пригласить его на наш Валтасаров пир и должна быть уверена, что он придет. Если вам удастся это посредничество, я так горячо скажу: «Я люблю тебя, мой толстый Фредерик, что ты поверишь…»
– Ви вольшебниц, – сказал барон, целуя перчатку Эстер, – я зогласен слушать айн час ругательств, чтоби полючить ласки в конец…
– Ну, а если меня не послушают, я… – сказала она, погрозив барону пальцем, точно ребенку.
Барон задергал головой, как птица, когда, попав в силки, она взывает к жалости охотника.
«Боже мой! Что случилось с Люсьеном? – говорила Эстер про себя, оставшись одна в ложе и давая волю слезам. – Я никогда не видела его таким грустным!»
Вот что случилось с Люсьеном в этот вечер. В девять часов Люсьен направился, как обычно, в своей двухместной карете к особняку де Гранлье. Пользуясь верховой лошадью и кабриолетом для утренних прогулок, он, подобно всем молодым людям, нанимал зимой для вечерних выездов двухместную карету, выбрав у лучшего каретника самый великолепный экипаж и кровных рысаков. Все улыбалось ему в течение месяца: он обедал три раза в особняке Гранлье, герцог был с ним мил; акции омнибусного предприятия были проданы за триста тысяч франков, что позволило ему уплатить еще треть стоимости земли; Клотильда де Гранлье облекалась в обворожительные одеяния, накладывала на лицо десять банок румян перед каждой встречей с Люсьеном и открыто признавалась в любви к нему. Некоторые особы, достаточно высокопоставленные, говорили о свадьбе Люсьена и мадемуазель де Гранлье как о вещи вполне вероятной. Герцог де Шолье, бывший посол в Испании и какое-то время министр иностранных дел, обещал герцогине де Гранлье испросить у короля титул маркиза для Люсьена. Итак, отобедав у г-жи де Серизи, Люсьен, как это повелось в последнее время, с улицы Шоссе-д'Антен поехал в Сен-Жерменское предместье. Он приезжает, кучер кричит, чтобы открыли ворота, ворота открываются, экипаж останавливается у подъезда. Люсьен, выходя из кареты, видит во дворе еще четыре экипажа. Заметив г-на де Рюбампре, один из лакеев, открывавший и закрывавший двери подъезда, выходит на крыльцо и становится перед дверью, как солдат на часах. «Его милости не дома!» – говорит он. «Но госпожа герцогиня принимает», – говорит Люсьен лакею. «Госпожа герцогиня выехали», – важно отвечает лакей. «А мадемуазель Клотильда…» «Не думаю, чтобы мадемуазель Клотильда приняла мосье в отсутствие герцогини…» «Но в доме гости…» – говорит Люсьен, сраженный. «Не могу знать», – отвечает лакей, пытаясь сохранить видимость глупости и почтительности. Нет ничего страшнее этикета для того, кто возводит его в самый грозный закон высшего общества. Люсьен без труда постиг смысл этой убийственной для него сцены: герцог и герцогиня не желали его принимать. Он почувствовал, как стынет у него в жилах кровь, и капли холодного пота выступили у него на лбу. Разговор произошел в присутствии его собственного лакея, который держал ручку дверцы, не решаясь ее закрыть. Люсьен знаком задержал его, но, садясь в карету, он услышал шум шагов на лестнице и голос выездного лакея, крикнувшего: «Карету господина герцога де Шолье! Карету госпожи виконтессы де Гранлье!» Люсьен едва успел сказать своему слуге: «К Итальянцам! Пошел!» Несмотря на проворство, злополучный денди не избежал встречи с герцогом де Шолье и его сыном герцогом де Реторе, с которыми принужден был раскланяться молча, потому что они не сказали ему ни слова. Крупная придворная катастрофа, падение опасного фаворита часто завершаются на пороге кабинета подобным возгласом привратника с бесстрастной физиономией. «Как известить немедленно об этом несчастье моего советчика? – думал Люсьен по пути к Итальянской опере. – Что произошло?.. Он терялся в догадках. А произошло следующее.
В то утро, в одиннадцать часов, герцог де Гранлье, войдя в малую гостиную, где обычно завтракал в семейном кругу, поцеловав Клотильду, сказал ей: «Дитя мое, впредь до моих на то указаний и не помышляй о господине де Рюбампре». Потом он взял герцогиню за руку и увел ее в оконную нишу, желая наедине сказать ей несколько слов: бедная Клотильда изменилась в лице. Мадемуазель де Гранлье, внимательно наблюдая за своей матерью, слушавшей герцога, прочла в ее глазах живейшее удивление. «Жан, – обратился герцог к одному из слуг, – отнесите эту записку господину герцогу де Шолье, скажите, что я прошу ответа: «Да или нет». – Я пригласил его сегодня к обеду», – сказал он жене.
Завтрак был невеселым. Герцогиня сидела задумавшись, герцог, казалось, сердился на самого себя, а Клотильда с трудом удерживала слезы. «Дитя мое, ваш отец прав, повинуйтесь ему, – мягко сказала мать дочери. – Я не могу, как он, приказать: «Не помышляйте о Люсьене!» Нет, я понимаю твое горе. (Клотильда поцеловала руку матери.) Но я скажу тебе, мой ангел: будь терпелива, не делай никаких попыток, страдай молча, если ты его любишь, и доверься заботам твоих родителей! Величие женщин знатного происхождения и заключается, моя девочка, в том, что они исполняют свой долг во всех случаях и с достоинством». «Но что случилось? – спросила Клотильда, белая, как лилия. «Нечто слишком серьезное, чтобы тебя в это посвящать, моя милая, – отвечала герцогиня. – Если это ложь, тогда незачем тебе грязнить свою душу; если это правда, ты не должна ее знать».
В шесть часов герцог де Шолье прошел в кабинет к герцогу де Гранлье, который его ожидал. «Послушай, Анри… (Эти два герцога были на «ты» и называли друг друга по имени – один из оттенков, изобретенных для того, чтобы подчеркнуть степень близости одних, не допуская излишней французской непринужденности со стороны других и не щадя чужого самолюбия.) Послушай, Анри, я в таком затруднении, что могу просить совета только у старого опытного в делах друга, а у тебя в них большой навык. Как тебе известно, моя дочь любит молодого Рюбампре, которого мне чуть не навязали в зятья. Я всегда был против этого брака; но, видишь ли, герцогиня не могла противостоять любви Клотильды. Когда этот мальчик купил землю, когда он уплатил за нее три четверти всей суммы, я сдался. И вот вчера я получил подметное письмо (ты знаешь, как надобно к ним относиться), в котором меня уверяют, что состояние этого малого почерпнуто из нечистого источника и он лжет, рассказывая нам, будто средства для этой покупки дает ему его сестра. Меня заклинают, чтобы я, во имя счастья дочери и уважения к нашему роду, навел справки, и указывают пути к выяснению истины. Да ты сам прочти сначала». «Я разделяю твое мнение насчет подметных писем, дорогой Фердинанд, – отвечал герцог де Шолье, прочтя письмо. – К ним относишься, как к шпионам: презираешь, но прислушиваешься. Не принимай у себя некоторое время этого мальчика, мы попытаемся навести справки… Да, позволь! Я знаю, что делать! В лице твоего адвоката Дервиля ты имеешь человека, которому мы вполне доверяем; он посвящен в тайны многих семейств, он может хранить и эту. Он человек порядочный, человек солидный, человек честный; он тонкая штучка, хитрец; но тонок он лишь в своей области и нужен тебе лишь для того, чтобы собрать доказательства, которые ты мог бы принять во внимание. У нас в министерстве иностранных дел есть один человек из королевской полиции; ему нет равного, когда дело идет о раскрытии тайн, имеющих государственную важность, мы часто даем ему поручения такого рода. Предупреди Дервиля, что у него в этом деле будет помощник. Наш шпион – настоящий вельможа, он явится украшенный орденом Почетного легиона, и у него будет облик дипломата. Этот пройдоха возьмет на себя роль охотника, а Дервилю придется лишь присутствовать при охоте. Твой адвокат либо скажет тебе, что гора родила мышь, либо, что ты должен порвать с молодым Рюбампре. Через неделю ты будешь знать, как поступить». – «Молодой человек не такая еще важная особа, чтобы обижаться, если не будет заставать меня дома в продолжение недели, – сказал герцог де Гранлье. «В особенности если ты отдаешь ему свою дочь, – отвечал бывший министр. – Окажись автор подметного письма прав, что тебе до Рюбампре? Ты пошлешь Клотильду путешествовать с моей невесткой Мадленой, которая хочет ехать в Италию…» «Ты выручаешь меня из беды! Но я не знаю еще, должен ли я тебя благодарить…» – «Подождем событий». – «Ах, да! – воскликнул герцог де Гранлье. – А имя этого господина? Надо же предупредить о нем Дервиля… Пришли его ко мне завтра к четырем часам, у меня будет Дервиль, я их сведу друг с другом». «Имя настоящее, – сказал бывший министр, – как будто Корантен… (этого имени тебе не надо было бы знать), но сей господин представится тебе под своим министерским именем: он зовется господином де Сен… как бишь его… Ах, да! Сент-Ив… Сен-Валер, что-то в этом роде! Ты можешь ему довериться, Людовик Восемнадцатый вполне ему доверял».
После этого совещания дворецкий получил приказ не принимать г-на де Рюбампре, что и было сделано.
Люсьен прохаживался в фойе Итальянской оперы, шатаясь, как пьяный. Он уже видел себя притчей всего Парижа. В лице герцога де Реторе у него был беспощадный враг, один из тех, которым надо улыбаться, не имея возможности отомстить, ибо они наносят удары в согласии с требованиями света. Герцог де Реторе знал о сцене, происшедшей у подъезда особняка де Гранлье. Люсьену не терпелось известить об этом неожиданном бедствии своего личного-действительного-тайного советника, но он опасался повредить своей репутации, появившись у Эстер, где мог кого-нибудь встретить. Он забывал, что Эстер была тут же, в театре, так путались его мысли; в этом состоянии полной растерянности ему пришлось отвечать Растиньяку, когда, тот, не зная еще новости, поздравил его с предстоящей свадьбой. В это время появился Нусинген и, улыбаясь Люсьену, сказал ему:
– Окажите мне удовольство посетить матам те Жампи, он желаль би сам приглашать вас на наш новозель…
– Охотно, барон, – сказал Люсьен, которому капиталист показался ангелом-спасителем.
– Оставьте нас, – сказала Эстер господину Нусингену, когда он вошел в ложу с Люсьеном. – Ступайте навестить госпожу дю Валь-Нобль, она сидит в ложе третьего яруса со своим набобом… Сколько набобов развелось в Индии! – прибавила она, кинув на Люсьена выразительный взгляд.
– А этот, – сказал Люсьен, усмехнувшись, – удивительно похож на вашего.
– И приведите ее сюда вместе с ее набобом, – сказала Эстер, понимающе глядя на Люсьена, но обращаясь к барону, – ему страстно хочется завязать с вами знакомство; говорят, он баснословно богат. Бедняжка уже напела мне про него не знаю сколько, все жалуется, что этого набоба не раскачать; а если бы вам удалось вытряхнуть из него балласт, быть может, он и встряхнулся бы.
– Ви принимайт нас за вор, – сказал барон.
– Что с тобою, мой Люсьен?.. – шепотом сказала она своему другу, коснувшись губами его уха, как только дверь ложи закрылась.
– Я погиб! Мне только что отказали от дома де Гранлье под предлогом, что господ нет, в то время как герцог и герцогиня были у себя, а во дворе пять упряжек рыли копытами землю…
– Как! Женитьба может расстроиться? – воскликнула Эстер взволнованно, ибо ей уже грезился рай.
– Я не знаю еще, что замышляется против меня…
– Мой Люсьен, – сказала она ему своим чарующим голосом, – зачем грустить? Со временем ты составишь себе еще более удачную партию. Я заработаю тебе два имения…
– Устрой ужин, и нынче же: мне надо поговорить наедине с Карлосом, а главное, пригласи мнимого англичанина и Валь-Нобль. Этот набоб – причина моей гибели, он наш враг, мы его заманим и… – Люсьен не договорил, махнув отчаянно рукой.
– Но что случилось? – спросила бедная девушка, которая чувствовала себя как на раскаленных угольях.
– О боже! Меня заметила госпожа Серизи! – вскричал Люсьен. – И в довершение несчастья, с нею герцог де Реторе, они из свидетелей моей неудачи.
И верно, в эту самую минуту герцог де Реторе разглагольствовал в ложе графини де Серизи, забавляясь ее горем.
– Вы позволяете Люсьену показываться в ложе мадемуазель Эстер? – говорил молодой герцог, указывая на ложу, в которой находился Люсьен. – Принимая в нем участие, вы должны были бы внушить ему, что так вести себя неприлично. Можно ужинать у нее, можно даже там… но, должен сознаться, я не удивляюсь более охлаждению де Гранлье к этому мальчику: я только что видел, выходя из их особняка, как ему отказали от дома.
– Эти девицы очень опасны, – сказала г-жа де Серизи, глядя в бинокль на ложу Эстер.
– Да, – сказал герцог, – и тем, на что они способны, и тем, чего они хотят…
– Они его разорят! – сказала г-жа де Серизи. – Мне говорили, что они одинаково дорого обходятся, когда им платят и когда не платят.
– Но не ему! – отвечал молодой герцог, состроив удивленную мину. – Они ему не стоят ровно ничего, и сами бы в случае надобности дали ему денег. Они все бегают за ним.
Губы графини дрогнули, но едва ли эту нервную гримаску можно было назвать улыбкой.
– Ну что ж! – Приезжай ужинать в двенадцать. Привези Блонде и Растиньяка. Будет хотя бы два забавных человека, а всех нас соберется не более девяти.
– Надо найти повод, чтобы послать барона за Европой; скажи ему, что ты хочешь отдать Азии распоряжения по случаю ужина. А Европе расскажи, что со мной случилось; нужно предупредить Карлоса до того, как набоб попадет в его руки.
– Будет исполнено, – сказала Эстер.
Итак, Перад должен был, видимо, очутиться, не подозревая о том, под одной кровлей со своим противником. Тигр шел в логовище льва, и льва, окруженного телохранителями.
Когда Люсьен воротился в ложу г-жи де Серизи, она не обернулась, не улыбнулась, не подобрала платье, освобождая ему место рядом с собою: она притворилась, что не заметила вошедшего, и не отрывала глаз от бинокля, но по дрожанию ее руки Люсьен понял, что графиня во власти той мучительной душевной тревоги, которой искупается запретное счастье. Он все же прошел вперед и сел в кресла в противоположном углу ложи, оставив между собой и графиней небольшое пустое пространство; потом облокотившись о барьер ложи, оперев подбородок на руку, обтянутую перчаткой, полуобернулся, ожидая хотя бы слова. Действие подходило к середине, а графиня еще ни разу к нему не обратилась, ни разу не взглянула на него.
– Я не знаю, – сказала она наконец, – почему вы здесь; ваше место в ложе мадемуазель Эстер…
– Иду туда, – сказал Люсьен и вышел, не взглянув на графиню.
– Ах, моя дорогая! – сказала г-жа дю Валь-Нобль, входя в ложу Эстер вместе с Перадом, которого барон Нусинген не узнал. – Я очень рада, что могу представить тебе господина Самуэля Джонсона; он поклонник талантов господина Нусингена.
– Правда, сударь? – сказала Эстер, улыбаясь Пераду.
– О, йес, очинь, – сказал Перад.
– Право, барон, этот французский язык очень похож на ваш, как наречие Нижней Бретани похоже на бургундское. Забавно будет послушать вашу беседу о финансах… Знаете, господин набоб, какой платы я хочу потребовать за то, что познакомлю вас с моим бароном? – сказала она смеясь.
– О-о!.. Я буду польщен знакомств сэр баронет.
– Да, да, – продолжала она. – Вы должны доставить мне удовольствие, отужинав у меня… Нет смолы крепче, чем сургуч бутылки с шампанским, чтобы связать людей; он скрепляет все дела, и особенно те, в которых люди запутываются. Прошу пожаловать ко мне нынче же вечером, вы попадете в теплую компанию! А что до тебя касается, мой миленький Фредерик, – сказала она на ухо барону, – ваша карета еще тут, скачите на улицу Сен-Жорж и приведите Европу, мне надо распорядиться насчет ужина… Я пригласила Люсьена, он приведет с собой двух остряков… Мы заставим сдаться англичанина, – сказала он на ухо г-же дю Валь-Нобль.
Перад и барон оставили женщин наедине.
– Ах, дорогая! Какая же умница ты будешь, если заставишь сдаться эту толстую шельму, – сказала Валь-Нобль.
– Если я этого не добьюсь, ты мне одолжишь его на неделю, – отвечала Эстер, улыбаясь.
– Нет, ты бы его не вытерпела и полдня, – возразила г-жа дю Валь-Нобль. – Трудно мне достается хлеб, зубы об него обломаешь. Никогда в жизни больше не соглашусь осчастливить англичанина… Все они холодные себялюбцы, разряженные свиньи…
– Как! Никакого уважения? – сказала Эстер, смеясь.
– Напротив, дорогая, это чудовище еще ни разу не сказало мне «ты».
– Ни при каких условиях? – спросила Эстер.
– Негодяй неукоснительно величает меня сударыней и сохраняет полнейшее хладнокровие даже тогда, когда все мужчины более или менее любезны. Вообрази, любовь для него все равно бритье, честное слово! Он вытирает свои бритвы, кладет их в футляр, смотрится в зеркало, как бы говоря всем своим видом: «Я не порезался». Притом он обходится со мной так почтительно, что можно сойти с ума. И разве этот мерзкий милорд, Разварная говядина, не глумится надо мной, заставляя бедного Теодора полдня торчать в моей туалетной комнате? Наконец, он ухитряется противоречить мне во всем. И скуп… как Гобсек и Жигоне, вместе взятые. Он вывозит меня обедать, но не оплачивает наемной кареты, в которой я возвращаюсь обратно, если случайно не закажу своей…
– И сколько же он дает тебе за такие услуги? – спросила Эстер.
– Ах, дорогая, можно сказать, ничего. Наличными пятьсот франков в месяц и оплачивает выезд. Но что это за выезд!.. Карета вроде тех, что берут напрокат лавочники в день свадьбы, чтобы съездить в мэрию, в церковь, в Кадран бле… Он мне опостылел с этим уважением. Когда я не скрываю от него, что я раздражена, что я не в духе, он не сердится, а говорит мне: «Ай шелау, штоуб миледи имей суой волю, ибо ништо так ненавийстн для джентельмэн, как сказать молодой милой дженшен: ви ейст хлопок, ви ейст тоуар! Хе-хе! Я ейст члейн обчесс тресвуэсе в борбэй оф раубств». И мой изверг по-прежнему бледен, сух и холоден, давая мне этим понять, что уважает меня, как уважал бы негра, и что это исходит не от его сердца, но от его аболиционистских убеждений.
– Гнуснее быть невозможно, – сказала Эстер, – но я разорила бы этого китайца!
– Разорить? – воскликнула г-жа Валь-Нобль. – Для этого надо, чтобы он любил меня!.. Да ты бы сама не пожелала попросить у него и двух лиаров. Он бы тебя важно выслушал и сказал бы в таких британских выражениях, в сравнении с которыми и пощечина кажется любезностью, что он платит тебе достаточно дорого за «такую маленьки вуещь, как любоув в наша джизн».
– Подумать только, что мы, в нашем положении, можем встретить такого мужчину! – вскричала Эстер.
– О, моя милочка, тебе посчастливилось!.. Ухаживай хорошенько за своим Нусингеном.
– У твоего набоба, верно, что-то есть на уме?
– То же самое сказала мне и Адель, – отвечала г-жа дю Валь-Нобль.
– Помилуй, дорогая, этот человек как будто решил внушить женщине ненависть к себе, чтобы в какую-то минуту его прогнали прочь, – сказала Эстер.
– Или хочет вести дела с Нусингеном и взял меня, зная, что мы с тобой дружны; так думает Адель, – отвечала г-жа дю Валь-Нобль. – Вот почему я и представила его тебе сегодня! Ах! Если бы я была уверена в его замыслах, я премило сговорилась бы с тобой и с Нусингеном!
– Не случалось ли тебе вспылить? – сказала Эстер. – Высказать ему все начистоту?
– Попробовала бы сама! Какая хитрая!.. Все равно, как ты ни мила, он убил бы тебя своими ледяными улыбками. Он бы тебе ответил: «Я проутивник оф раубств энд ви суободн…» Ты бы ему говорила препотешные вещи, а он бы глядел на тебя и говорил: very good, и ты бы поняла, что в его глазах ты только кукла.
– А рассердиться?
– Все равно! Для него это лишнее забавное зрелище! Разрежь ему грудь, и ему ничуть не будет больно, у него внутренности не иначе как из жести. Я высказала ему это. Он ответил: «я уошен рад такуой физикаль оусобенность». И всегда учтив. Дорогая моя, у него душа в перчатках… Из любопытства я решила еще несколько дней потерпеть эту пытку. Иначе я уже заставила бы Филиппа, отличного фехтовальщика, отхлестать по щекам милорда, больше ничего не остается…
– Я как раз хотела тебе это посоветовать! – вскричала Эстер. – Но раньше ты должна узнать, обучен ли он боксу; эти старые англичане, моя милая, могут неожиданно сыграть с тобой злую шутку.
– Второго такого не найдешь!.. Ты бы видела, как он испрашивает моих приказаний: и в котором часу ему прийти и застанет ли он меня дома (понятно само собой!) – и все это в такой почтительной, можно сказать джентльменской форме, что ты сказала бы: «Как эту женщину обожают!» И нет женщины, которая не сказала бы того же…
– А нам завидуют, моя милая, – сказала Эстер.
– Ну и отлично!.. – воскликнула г-жа дю Валь-Нобль. Видишь ли, мы все более или менее испытали в нашей жизни, как мало с нами считаются: но, дорогая, я никогда не была так жестоко, так глубоко, так беспощадно унижена грубостью, как я унижена почтительностью этого дурацкого бурдюка, налитого портвейном. Когда он пьян, он уходит, чтобы не бийт противн, как он сказал Адели, и не быть между двух зоул: женщиной и вином. Он злоупотребляет моим фиакром, пользуется им больше, чем я сама… О, если бы нам нынче удалось напоить его до положения риз… но он выдувает десять бутылок и только навеселе: глаза у него мутные, а взгляд зоркий.
– Точно окна, грязные снаружи, – сказала Эстер, – А изнутри отлично видно, что происходит вовне… Я знаю эту особенность мужчин: дю Тийе обладает ею в высокой степени.
– Постарайся залучить к себе вечером дю Тийе. Ах, если бы они вдвоем с Нусингеном впутали его в свои дела, как бы я была отомщена!.. Они довели бы его до нищеты! Увы, дорогая, докатиться до протестантского ханжи, и это после бедняги Фале, такого забавника, такого славного малого, такого зубоскала!.. И нахохотались же мы с ним вдоволь!.. Говорят, все биржевые маклеры глуповаты… Ну, а этот сглупил только один-единственный раз…
– Когда он оставил тебя без сантима, и ты постигла изнанку веселой жизни.
Европа, доставленная бароном Нусингеном, просунула свою змеиную головку в дверь и, выслушав приказание хозяйки, сказанное ей на ухо, исчезла.
В половине двенадцатого пять экипажей стояли на улице Сен-Жорж у дверей знаменитой куртизанки: экипаж Люсьена, приехавшего с Растиньяком, Блонде и Бисиу, экипажи дю Тийе, барона Нусингена, набоба, а также Флорины, завербованной в этот вечер дю Тийе. Трехстворчатые окна были скрыты складками великолепных китайских занавесей. Ужин был назначен на час ночи, свечи пылали, роскошь маленькой гостиной и столовой выступали во всем блеске. Предстояла разгульная ночь, рассчитанная разве что на выносливость этих трех женщин и мужчин. В ожидании ужина, до которого оставалось еще два часа, сели играть в карты.
– Вы играете милорд? – спросил дю Тийе Перада.
– Я играу О'Коннель, Питт, Фокс, Каннинг, лорд Бругем, лорд…
– Огласите уж сразу список всех ваших лордов, – сказал ему Бисиу.
– Лорд Фиц-Вилльям, лорд Элленборо, лорд Эртфорт, лорд…
Бисиу посмотрел на башмаки Перада и наклонился.
– Что ты ищещь? – спросил его Блонде.
– Черт возьми! Пружинку, которую надо нажать, чтобы остановить машину, – сказала Флорина.
– Фишка двадцать франков, играете? – сказал Люсьен.
– Я играу все, штоу ви пожелай проуиграй…
– Каков?.. – сказала Эстер Люсьену. – Они все принимают его за англичанина.
Де Тийе, Нусинген, Перад и Растиньяк сели за ломберный стол. Флорина, г-жа дю Валь-Нобль, Эстер, Бисиу и Блонде расположились около камина. Тем временем Люсьен перелистывал великолепное собрание гравюр.
– Кушать подано, – сказал Паккар, появляясь в пышной ливрее.
Перада усадили слева от Флорины, рядом с Бисиу, которому Эстер поручила, подзадоривая набоба, напоить его допьяна. Бисиу обладал способностью пить без конца. Никогда за всю свою жизнь Перад не видел такого великолепия, не отведывал такой кухни, не встречал таких красивых женщин.
«Я насладился нынешней ночью на всю тысячу экю, что мне стоила дю Валь-Нобль, – подумал он, – к тому же я только что выиграл у них тысячу франков».
– Вот пример, достойный подражания! – крикнула, указывая ему на великолепие столовой, г-жа дю Валь-Нобль, сидевшая рядом с Люсьеном.
Эстер посадила Люсьена подле себя и прижалась ножкой к его ноге.
– Слышите? – сказала дю Валь-Нобль, глядя на Перада, притворявшегося слепым ко всему. – Вот как надобно было вам устроить дом! Когда возвращаются из Индии с миллионами и желают войти в дела с Нусингенами, становятся на их уровень…
– Я уесть оф обчесс тресвуэсе…
– Значит, будете пить лихо! – сказал Бисиу. – Ведь в Индии порядочно жарко, дядюшка?
Во время ужина Бисиу, потешаясь, обращался с Перадом как с дядей, вернувшимся из Индии.
– Мадам ди Валь-Нобль сказаль мне, што ви имейт идей? – спросил Нусинген, разглядывая Перада.
– Вот что я хотел бы послушать! – сказал дю Тийе Растиньяку. – Беседу на двух ломаных языках.
– Вы увидите, что они отлично поймут друг друга, – сказал Бисиу, догадавшись, что сказал дю Тийе Растиньяку.
– Сэр баронет, я думуай один литл спэкулэшен, о! Вери комфортабл… очин мнуого профит энд прибылл…
– Вот увидите, – сказал Блонде дю Тийе, – он и минуты не упустит, чтобы не упомянуть о парламенте и английском правительстве.
– Этоу в Китай… для уопиум…
– Та, я знай, – сказал Нусинген живо, как человек, который знает в совершенстве свой торговый мир. – Но англиски правительств имейт сретстф практиковать опиум, чтоби держать в свой рука Китай, и не посфаляйт нам…
– В отношении правительства Нусинген его опередил, – сказал дю Тийе Блонде.
– Ах, вы торговали опиумом! – вскричала г-жа дю Валь-Нобль. – Теперь я поняла, отчего я от вас одуреваю. Вы пропитались им насквозь.
– Видаль! – крикнул барон мнимому торговцу опиумом, указывая ему на г-жу дю Валь-Нобль. – Ви точно я: никогта мильонер не может заставляйт женщина любит себя!
– О! Миледи очин и часть любил мне… – отвечал Перад.
– За вашу трезвость! – сказал Бисиу, который только что заставил Перада влить в себя третью бутылку бордоского и начать бутылку портвейна.
– О! о! – вскричал Перад. – Это ейст очин хоурош португалск вейн из Англия…
Блонде, дю Тийе и Бисиу переглянулись, улыбнувшись: Перад обладал способностью все в себе перерядить, даже ум. Мало найдется англичан, которые не уверяли бы вас, что золото и серебро в Англии лучше, нежели повсюду. Цыплята и яйца из Нормандии, посланные на рынок в Лондон, дают основание англичанам утверждать, что лондонские цыплята и яйца лучше (very fines) парижских, доставляемых из той же Нормандии. Эстер и Люсьен поражались совершенной законченности его костюма, языка и дерзости. Пили и ели так усердно, разговаривали и смеялись так весело, что засиделись до четырех утра. Бисиу уже собирался торжествовать победу в духе забавных рассказов Брийа-Саварена. Но в ту минуту, когда он, предлагая выпить своему дядюшке, говорил про себя: «Я осилил Англию!», Перад так ответил лютому насмешнику: «Валяй, мой мальчик…», что Бисиу опешил.
– Э-э! Послушайте, он такой же англичанин, как я!.. Мой дядюшка – гасконец! Да у меня и не могло быть другого!
Бисиу и Перад остались одни в комнате, и никто не был свидетелем этого разоблачения. Перад упал со стула на пол. Тотчас же Паккар завладел Перадом и отнес его в мансарду, где тот заснул крепким сном. В шесть часов вечера набоб почувствовал, что его будят, прикладывая к лицу мокрое полотенце; он очнулся на убогой складной кровати, лицом к лицу с Азией, закутанной в черное домино и в маске.
– Ну как, папаша Перад? Не свести ли нам счеты? – сказала она.
– Где я? – спросил он, озираясь.
– Выслушайте меня, это вас отрезвит, – отвечала Азия. – Пусть вы не любите госпожу дю Валь-Нобль, но вы любите свою дочь, не так ли?
– Мою дочь? – крикнул Перад в гневе.
– Да, мадемуазель Лидию…
– Ну и что же?
– Ну, а то, что ее больше нет на улице Муано, она похищена.
У Перада вырвался стон – так стонет солдат, получивший смертельную рану на поле боя.
– Пока вы разыгрывали англичанина, другие разыгрывали Перада. Ваша дочурка Лидия думала, что ее вызвал отец; она в надежном месте… О! Вам ее не отыскать! Разве что исправите зло, которое вы причинили…
– Какое зло?
– Вчера господину Люсьену де Рюбампре отказали в приеме у герцога де Гранлье. Ведь это все твои козни и козни того человека, которого ты туда отрядил! Молчи и слушай! – сказала Азия, увидев, что Перад собирается заговорить. – Ты получишь свою дочь живой и невредимой, – продолжала Азия, подчеркивая свою мысль ударением на каждом слоге, – но только после того, как господин Люсьен де Рюбампре выйдет от святого Фомы Аквинского мужем мадемуазель Клотильды. Если через десять дней Люсьен де Рюбампре не будет принят, как раньше, в доме де Гранлье, знай, что ты сам умрешь насильственной смертью и ничто не спасет тебя от гибели. Но когда удар будет нанесен, тебе дадут время перед смертью сказать себе: «Моя дочь будет проституткой до конца своих дней!» Хотя ты сглупил, оставив в наших руках такую добычу, все же у тебя достанет ума обдумать предложение нашего господина. Не фордыбачь, молчи лучше, ступай-ка к Контансону, переоденься, да иди-ка домой. Катт скажет тебе, что твоя девчурка, когда ее вызвали от твоего имени, сошла вниз… и больше ее не видели. Пожалуешься, станешь искать ее – помни, что я тебе сказала: начнут с того, что покончат с твоей дочерью; она обещана де Марсе. С папашей Канкоэлем можно говорить без обиняков, без всяких там нежностей, не так ли? Ступай-ка вниз да поостерегись впредь совать нос в наши дела.
Азия оставила Перада в жалком состоянии, каждое ее слово было для него ударом дубиной. Слезы, катившиеся из глаз шпиона, образовали на его щеках две мокрые полосы.
– Господина Джонсона просят к столу, – сказала минутой позже Европа, выглянув из-за приоткрытой двери.
Не ответив, Перад спустился вниз, прошел до стоянки фиакров, поспешил переодеться у Контансона, с которым не обмолвился ни словом, опять превратился в папашу Канкоэля и был в восемь часов у себя дома. Он поднялся по лестнице с замиранием сердца. Когда фламандка услыхала голос хозяина, она так простодушно спросила его: «Ну, а где же мадемуазель?.. – что старый шпион вынужден был прислониться к стене. Выдержать этот удар ему было не под силу. Он вошел в квартиру дочери, увидел пустые комнаты, и лишился чувств, выслушав Катт, рассказавшую ему всю историю похищения, так ловко подстроенного, точно он сам все это придумал. Придя в сознание, он сказал себе: «Что ж, надо смириться, я отомщу позже. Пойдем к Корантену… Впервые мы встречаем настоящих противников. Пусть Корантен не мешает этому красавцу жениться хоть на императрицах, ежели ему угодно!.. Ах, теперь я понимаю, почему моя дочь полюбила его с первого взгляда… О, испанский священник знает в них толк!.. Мужайся, папаша Перад, выпускай из рук свою жертву!» Несчастный отец не предчувствовал, какой страшный удар его ожидает.
Когда он пришел к Корантену, Брюно, преданный слуга, знавший Перада, сказал ему: «Господин в отъезде…»
– Надолго?
– На десять дней!..
– Где он?
– Не могу знать!
«О боже мой! Я совсем теряю голову! Я спрашиваю, где он?.. Как будто мы об этом кому-нибудь говорим», – подумал он.
За несколько часов до того, как Перад очнулся в мансарде на улице Сен-Жорж, Корантен, вернувшийся из своего загородного домика в Пасси, явился к герцогу де Гранлье, разодетый как лакей из хорошего дома. В петлице его черного фрака красовалась ленточка ордена Почетного легиона. Свою физиономию он преобразил в бесцветное, сморщенное, старческое личико. Волосы он напудрил, глаза спрятал за роговыми очками. Короче сказать, он был похож на старого столоначальника. Когда он назвала свое имя (господин де Сен-Дени), его проводили в кабинет герцога де Гранлье, где Дервиль читал письмо, лично продиктованное Корантеном одному из своих агентов – номеру, ведающему перепиской. Герцог отвел Корантена в сторону, чтобы объяснить положение вещей, уже достаточно знакомое Корантену. Г-н де Сен-Дени слушал холодно, почтительно, забавляясь изучением вельможи, как бы выворачивая наизнанку этого человека, одетого в бархат, и обнажая эту жизнь, заполненную как в настоящем, так и в будущем игрой в вист и соблюдением чести дома де Гранлье. В деловых отношениях с людьми нижестоящими вельможи настолько наивны, что Корантен, едва успев угодливо предложить г-ну де Гранлье два-три вопроса, уже принял развязный тон.
– Положитесь на меня, сударь, – сказал Корантен Дервилю, как только он был надлежащим образом представлен стряпчему. – Мы выедем нынче же вечером в Ангулем с бордоским дилижансом, который идет так же быстро, как почтовая карета; чтобы получить справки, нужные господину герцогу, нам потребуется не более шести часов. Если я хорошо понял вашу светлость, достаточно, по-видимому, узнать, могли ли сестра и шурин господина де Рюбампре дать ему миллион двести тысяч франков?.. – сказал он, глядя на герцога.
– Совершенно верно, – отвечал пэр Франции.
– Мы будем здесь через четыре дня, – продолжал Корантен, глядя на Дервиля. – Если в связи с отъездом мы и отложим наши дела на такой же срок, они от этого не пострадают.
– Это было единственное мое возражение его светлости, – сказал Дервиль. – Теперь четыре часа, я успею сходить домой, отдать распоряжения старшему клерку, пообедать и, взяв дорожные вещи, быть в восемь часов… Но получим ли мы места? – спросил он г-на Сен-Дени, запнувшись на полуслове.
– За это я отвечаю, – сказал Корантен. – Будьте в восемь часов во дворе главной почтово-пассажирской конторы. Ежели не окажется мест, я прикажу их достать. Вот как надобно служить его милости герцогу де Гранлье…
– Господа, – сказал герцог чрезвычайно любезно, – я еще не благодарю вас…
Корантен и стряпчий, поняв, что аудиенция окончена, откланялись и вышли. В то самое время, когда Перад расспрашивал слугу Корантена, г-н Сен-Дени и Дервиль, сидя на передней скамейке бордоского дилижанса и молча изучая друг друга, отъезжали из Парижа. На второй день пути, утром, между Орлеаном и Туром, Дервиль, соскучившись молчанием, разговорился, и Корантен удостоил его занимательной беседы, отнюдь не допуская короткости отношений; он дал ему понять, что принадлежит дипломатическому миру и ожидает назначения генеральным консулом благодаря покровительству герцога де Гранлье. Два дня спустя после отъезда из Парижа Корантен и Дервиль остановились в Манле, к великому удивлению адвоката, который думал, что едет в Ангулем.
– В этом городке мы получим точные сведения о госпоже Сешар, – сказал Корантен Дервилю.
– Вы, стало быть, знаете ее? – спросил Дервиль, удивившись осведомленности Корантена.
– Я поговорил с кондуктором, услыхав, что он из Ангулема. Он сказал мне, что госпожа Сешар живет в Марсаке, а Марсак всего в одной миле от Манля. Я и подумал, что нам лучше остановиться здесь, нежели в Ангулеме, чтобы выяснить истину.
«В конце концов, – подумал Дервиль, – я всего только, как мне сказал господин герцог, свидетель тех розысков, которые обязано учинить это доверенное лицо…»
Хозяином постоялого двора в Манле, под вывеской Звездное небо, был один из тех заплывших жиром толстяков, которых боишься на возвратном пути не застать в живых и которые еще и десять лет спустя стоят на пороге своих дверей такие же тучные, с тройным подбородком, с засаленными волосами, в том же колпаке, в том же фартуке, с тем же ножом за поясом, как их описывают все романисты, от бессмертного Сервантеса и до бессмертного Вальтера Скотта. Разве не все они притязают на изысканный стол, хвалятся угостить вас на славу, и разве не все они подают вам тощего цыпленка и овощи, приправленные прогорклым маслом? Все они расхваливают свои тонкие вина и вынуждают вас пить местные. Но Корантен с юных лет научился вытягивать из хозяев постоялых дворов кое-что более существенное, чем сомнительные блюда и подозрительные вина. Вот отчего он представился человеком невзыскательным, который вполне полагается на волю лучшего повара в Манле, как сказал он этому толстяку.
– Да мне и нетрудно быть лучшим, ведь я единственный, – отвечал хозяин.
– Накройте нам стол в соседней зале, – сказал Корантен, подмигнув Дервилю, – а главное, не стесняйтесь разжечь огонь в камине, у нас закоченели руки.
– В дилижансе было не слишком жарко, – сказал Дервиль.
– Как далеко отсюда до Марсака? – спросил Корантен жену хозяина постоялого двора, которая спустилась со второго этажа, как только услышала, что дилижанс привез к ней путешественников на ночлег.
– Вы, сударь, едете в Марсак? – спросила хозяйка.
– Не знаю, – отвечал он сухо. – Как далеко отсюда до Марсака? – опять спросил Корантен, предоставив хозяйке время рассмотреть его красную ленточку.
– Если в кабриолете, тут всего дела на каких-нибудь полчаса, – сказала хозяйка.
– Вы уверены, что супруги Сешар живут там и зимой?..
– Конечно, они живут там круглый год…
– Теперь пять часов. В девять мы еще застанем их на ногах.
– О, у них каждый вечер до десяти часов гости: кюре, господин Маррон, доктор.
– Почтенные люди? – спросил Дервиль.
– Ого! Самая что ни есть знать, – отвечала хозяйка. – Люди прямые, честные… и не спесивые, право! Господин Сешар, пусть и живет в довольстве, а все же, по слухам, нажил бы миллионы, если бы не дал украсть свое изобретение по бумажной части, которым теперь пользуются братья Куэнте…
– Вот именно, братья Куэнте! – сказал Корантен.
– Помолчи! – прикрикнул на жену хозяин постоялого двора. – Какое дело господам до того, есть ли у господина Сешара или нет патента на изобретение, чтобы выделывать бумагу? Господа не торговцы бумагой… Ежели вы располагаете провести ночь у меня в «Звездном небе», – обратился хозяин к путешественникам, – вот вам книга, прошу вас вписать в нее ваши имена. Наш жандарм от безделья изводит нас своими придирками…
– Черт возьми! А я думал, что Сешары очень богаты, – сказал Корантен, пока Дервиль вписывал свое имя, фамилию и звание стряпчего при суде первой инстанции департамента Сены.
– Тут кое-кто болтает, – отвечал хозяин, – что Сешары – миллионеры; но помешать кому-либо трепать языком – то же, что помешать реке течь. Говорят, что старик Сешар оставил двести тысяч франков недвижимости, а этого достаточно для человека, который начал простым рабочим. Кто знает, не было ли у него сбережений на такую же сумму… ведь он под конец извлекал из своих угодий от десяти до двенадцати тысяч франков. Предположим, что он был глуп и не давал денег в рост целых десять лет, вот и подсчитайте! Ну, пусть будет еще триста тысяч франков, ежели он давал в рост, как подозревают, и дело с концом! Пятьсот тысяч франков – это еще очень далеко до миллиона. Вот бы мне эту разницу, не сидел бы я в «Звездном небе»!
– Как! – сказал Корантен. – Господин Давид Сешар и его жена не имеют двух-трех миллионов состояния?..
– Помилуйте! – вскричала хозяйка. – Столько сыщется разве что у господ Куэнте, укравших его изобретение, а сам он получил от них не больше двадцати тысяч франков… Ну, посудите сами, откуда бы эти честные люди взяли такие миллионы? Они очень нуждались при жизни отца. Если бы Кольб, их управляющий, да не госпожа Кольб, преданная им, как и ее муж, им пришлось бы очень туго. Что им давало Вербери?.. Тысячу экю дохода!..
Корантен отвел в сторону Дервиля и сказал ему: «In vino veritas», истина – в питейных заведениях. Что до меня, я смотрю на постоялый двор как на подлинную целину записей гражданского состояния обитателей целой местности; о том, что происходит в округе, даже и нотариус осведомлен не больше, чем хозяин постоялого двора. Послушайте! Они уверены, что мы знаем всех этих Куэнте, Кольбов и прочих… Хозяин постоялого двора – это ходячий перечень всех происшествий, он выполняет полицейские обязанности, сам того не подозревая. Государству следовало бы содержать самое большее двести шпионов, ибо в такой стране, как Франция, отыщется десять миллионов честных доносчиков. Но мы не должны слишком доверять этому сообщению, хотя, конечно, в таком городишке знали бы, что отсюда уплыли миллион двести тысяч франков для уплаты за землю де Рюбампре… Мы тут долго не задержимся…
– Надеюсь, – сказал Дервиль.
– И вот почему, – продолжал Корантен. – Я нашел самый естественный способ заставить истину глаголить устами супругов Сешар. Надеюсь, что вы вашим авторитетом стряпчего поддержите невинную уловку, которая поможет мне получить для вас точный и ясный отчет об их состоянии. – После обеда мы поедем к господину Сешару, – сказал Корантен хозяйке. – Позаботьтесь приготовить нам постели, каждому в отдельной комнате. Под Звездным небом, верно, найдется место.
– О сударь, – сказала женщина, – а мы-таки ловко придумали название для вывески.
– Ну, эта игра слов практикуется в любой провинции, – сказал Корантен. – Вы отнюдь не единственные в этом роде.
– Господа, кушать подано, – сказал хозяин постоялого двора.
– Но где, черт возьми, этот молодой человек достал деньги?.. Неужто автор подметного письма прав? Неужто эти деньги красивой девки? – сказал Дервиль Корантену, усаживаясь за стол.
– Ну, это составило бы предмет другого расследования, – сказал Корантен. – Люсьен де Рюбампре живет, как мне говорил господин герцог де Шолье, с крещеной еврейкой, которая выдает себя за голландку, по имени Эстер Ван Богсек.
– Вот удивительное совпадение! – сказал стряпчий. – Я ищу наследницу одного голландца, по имени Гобсек… То же самое имя, только с перестановкой согласных…
– Ежели вам угодно, – сказал Корантен, – я наведу справки о ее происхождении, как только возвращусь в Париж.
Часом позже оба поверенные в делах семьи де Гранлье выехали в Вербери, усадьбу четы Сешар. Никогда Люсьен не испытывал волнения более глубокого, чем то, которое овладело им в Вербери, когда он сравнил свою судьбу с судьбою шурина. Перед взорами парижан должна была предстать та же картина, что несколько дней назад поразила Люсьена. Все в ней дышало покоем и довольством. В час их приезда в Вербери уже собралось общество, состоящее из пяти человек: кюре из Марсака, молодой священник, руководивший по просьбе г-жи Сешар, воспитанием ее сына Люсьена, местный врач, по имени г-н Маррон, мэр общины и старый полковник в отставке, разводивший розы в маленькой усадьбе, расположенной против Вербери, по другую сторону дороги. Зимними вечерами эти люди приходили сюда составить невинную партию в бостон по сантиму за фишку, попросить газету и вернуть прочитанную. Когда Сешары купили Вербери, красивый дом, построенный из белого песчаника и крытый шифером, его усадебная земля состояла из сада в два арпана. Со временем, вкладывая в него свои сбережения, прекрасная Ева Сешар расширила сад вплоть до небольшого ручья, покупая соседние виноградники и безжалостно превращая их в зеленые лужайки и рощицы. В ту пору Вербери, с парком, раскинувшимся вокруг дома примерно арпанов двадцать и обнесенным стеной, считалось самым солидным владением в округе. Дом покойного Сешара с его угодьями служил теперь только для нужд, связанных с возделыванием двадцати с лишним арпанов виноградника, который остался после него, помимо пяти ферм с доходом около шести тысяч франков и десяти арпанов лугов по ту сторону ручья, как раз на границе парка Вербери, – поэтому-то г-жа Сешар и полагала купить эти земли на будущий год. В округе усадьбу Вербери уже именовали замком, а Еву Сешар величали г-жой де Марсак. Льстя своему тщеславию, Люсьен лишь подражал в этом местным крестьянам и виноградарям. Куртуа, владелец мельницы, живописно расположенной на расстоянии нескольких ружейных выстрелов от лугов Вербери, вел, по слухам, переговоры с г-жой Сешар о продаже мельницы. Этой вполне вероятной покупкой завершилось бы превращение Вербери в одно из лучших поместий в департаменте. Г-жа Сешар, которая с присущей ей рассудительностью и благородством делала много добра, пользовалась глубоким уважением и любовью. Ее ослепительная красота достигла полного расцвета. Хотя ей было тогда около двадцати шести лет, она сохранила всю свежесть юности, наслаждаясь покоем и довольством деревенской жизни. По-прежнему влюбленная в своего мужа, она ценила в нем человека одаренного, но достаточно скромного, чтобы отказаться от шума славы; короче, чтобы нарисовать ее портрет, достаточно сказать, быть может, что в течение всей жизни каждое биение ее сердца принадлежало только детям и мужу. Данью, которою эта семья платила несчастью, было, как можно догадаться, то глубокое горе, какое причиняла ему жизнь Люсьена: Ева Сешар чувствовала, что тут кроются тайны, и она страшилась их тем более, что в свой последний приезд Люсьен сухо оборвал расспросы сестры, заявив ей, что честолюбцы обязаны давать отчет в своих поступках только самим себе. За шесть лет Люсьен видел сестру всего три раза и написал ей не более шести писем. Его первое посещение Вербери было связано со смертью матери, второе – с просьбой о подтверждении лжи, необходимой для осуществления его замыслов. Это послужило к весьма тяжелой сцене, разыгравшейся между супругами Сешар и Люсьеном и заронившей страшные сомнения в лоно этого, тихого, достойного семейства.
Внутреннее устройство дома, так же изменившееся к лучшему, как и его внешний вид, отвечало, однако ж, не притязая на роскошь, всем требованиям комфорта. Об этом можно было судить, бросив беглый взгляд на гостиную, где находилось в эту минуту все общество. Красивый обюсонский ковер, обои из серого кретона в мелкую клеточку, отделанные зеленой шелковой тесьмой, роспись под дерево из Спа, мебель красного дерева с резьбой, обитая серым кашемиром, и с зеленым басоном, жардиньерки, несмотря на зимнее время, наполненные цветами, – все в целом ласкало взгляд. Зеленые шелковые занавеси на окнах, отделка камина, оправа зеркал – ничто не отзывалось дурным вкусом, который губит все в провинции. Короче говоря, все это, вплоть до мелочей, изящных и удобных, давало отдых душе и взору благодаря той особой поэзии, которую умная любящая женщина может и должна внести в свой дом.
Госпожа Сешар, еще не снявшая траура по своему свекру, сидела за пяльцами у горящего камина и вышивала по канве под руководством г-жи Кольб, экономки, на которую она полагалась во всех мелочах домашнего обихода. К тому времени, когда кабриолет поравнялся с первыми строениями Марсака, общество завсегдатаев Вербери было уже в полном сборе; как раз пришел Куртуа, мельник-вдовец, желавший удалиться от дел и надеявшийся обделать дельце, выгодно продав свою собственность, которая, видимо, приглянулась Еве, и Куртуа знал почему.
– А сюда кто-то пожаловал! – сказал Куртуа, услышав шум экипажа, въезжавшего в ворота. – Судя по грохоту, надо полагать, что гость из наших мест.
– Должно быть, Постэль с женой вздумали со мной посоветоваться, – сказал доктор.
– Нет, – сказал Куртуа, – экипаж подъехал со стороны Манля.
– Зударынь, – сказал Кольб (рослый, толстый эльзасец), – атфокат ис Париж просит кофорить с каспатин.
– Адвокат!.. – вскричал Сешар. – Это слово вызывает у меня колики.
– Благодарю, – сказал мэр Марсака, по фамилии Кашан, бывший двадцать пять лет адвокатом в Ангулеме; в свое время ему было поручено преследовать судом Сешара.
– Мой бедный Давид неисправим! Он всегда такой рассеянный! – сказала Ева, улыбаясь.
– Адвокат из Парижа? – удивился Куртуа. – Стало быть, у вас есть дела в Париже?
– О нет! – сказала Ева.
– У вас там брат, – улыбнувшись, заметил Куртуа.
– Берегитесь, как бы тут не замешалось наследство папаши Сешара, – сказал Кашан. – Старик не гнушался и темных дел!..
Войдя, Корантен и Дервиль раскланялись с присутствующими и, назвав свои имена, попросили разрешения поговорить наедине с г-жой Сешар и ее мужем.
– Охотно, – сказал Сешар, – Но по какому делу?
– Исключительно по поводу наследства вашего отца, – отвечал Корантен.
– Позвольте тогда господину мэру, бывшему адвокату в Ангулеме, присутствовать при нашей беседе.
– Господин Дервиль?.. – сказал Кашан, глядя на Корантена.
– Нет, сударь, вот он, – отвечал Корантен, указывая на адвоката; тот поклонился.
– Ведь мы в своей семье, – продолжал Сешар, – мы ничего не скрываем от наших соседей, нам нет надобности уединяться в моем кабинете, где к тому же и не топлено… Наша жизнь вся как на ладони.
– Зато в жизни вашего отца, сударь, – сказал Корантен, – были кое-какие тайны; возможно, вы не очень охотно предали бы их огласке.
– Что-нибудь такое, чего мы должны стыдиться?.. – испуганно сказала Ева.
– О нет! Грешки молодости!.. – сказал Корантен, с превеликим хладнокровием расставляя одну из тысячи своих ловушек. – Ваш отец подарил вам старшего брата…
– Ах, старый Медведь! – вскричал Куртуа. – Видно, он вас совсем не любил, господин Сешар, и вот что приберег для вас, притворщик… Э-ге! Я теперь понимаю, что он думал, когда говорил: «Дайте только мне лечь в землю, еще не то увидите!..»
– Не беспокойтесь, сударь, – сказал Корантен Сешару, искоса поглядывая на Еву.
– Брата! – вскричал доктор. – Вот ваше наследство и раскололось надвое!..
Дервиль делал вид, что рассматривает прекрасные гравюры без подписей, вправленные в деревянную обшивку стен гостиной.
– Не беспокойтесь, сударыня, – сказал Корантен, заметив встревоженное выражение красивого лица г-жи Сешар. – Речь идет только о побочном сыне. Права незаконнорожденного отнюдь не равны правам законного наследника. Этот сын господина Сешара находится в крайней нищете, он имеет право на некоторую сумму, ввиду солидности наследства… Миллионы, оставленные вашим отцом…
При слове миллионы в гостиной все так и ахнули. Теперь Дервиль уже не занимался гравюрами.
– Папаша Сешар? Миллионы? – вскрикнул толстяк Куртуа. – Кто вам это сказал? Какой-нибудь крестьянин?
– Сударь, – сказал Кашан, – вы не чиновник казначейства, стало быть, с вами можно говорить откровенно…
– Будьте покойны, – сказал Корантен, – даю вам честное слово, что я не чиновник Палаты государственных имуществ.
Кашан, подав знак, призывающий общество к молчанию, не мог скрыть своего удовлетворения.
– Сударь, – продолжал Корантен, – пусть даже речь идет только об одном миллионе, но и тогда доля, причитающаяся внебрачному ребенку, достаточно велика. Мы приехали не затем, чтобы затевать процесс; напротив, мы хотим покончить дело миром: дайте нам сто тысяч франков – мы этим удовлетворимся…
– Сто тысяч франков! – вскричал Кашан, не дав Корантену договорить. – Ну, сударь, папаша Сешар оставил двадцать арпанов виноградника, пять маленьких ферм, десять арпанов под лугами в Марсаке и ни сантима сверх этого…
– Господин Кашан! – воскликнул Давид Сешар, вмешиваясь в их разговор. – Ни за что на свете я не допущу обмана, и меньше всего в денежных делах… Господа, – сказал он, обращаясь к Корантену и Дервилю, – мой отец, кроме недвижимости, нам оставил… (Куртуа и Кашан, подавая знаки Сешару, трудились напрасно, он их не слушал) триста тысяч франков, что увеличивает наше наследство примерно до пятисот тысяч франков.
– Господин Кашан, – сказала Ева Сешар, – какую часть закон уделяет побочному ребенку?
– Сударыня, – сказал Корантен, – мы не дикари. Единственная наша просьба к вам: поклянитесь в присутствии этих господ в том, что вы не получили более ста тысяч экю серебром по наследству от вашего свекра, и мы отлично сговоримся.
– Дайте прежде честное слово, – сказал бывший ангулемский адвокат Дервилю, – что вы действительно адвокат.
– Вот мое удостоверение, – сказал Дервиль Кашану, протягивая ему сложенную вчетверо бумагу, – а этот господин отнюдь не главный инспектор Палаты государственных имуществ, как вы могли бы подумать. Не беспокойтесь, – прибавил Дервиль, – для нас было чрезвычайно важно узнать правду о наследстве Сешара, и только. Теперь мы ее знаем… – Дервиль весьма учтиво взял Еву под руку и отвел ее в глубину гостиной. – Сударыня, – сказал он ей вполголоса. – ежели бы честь и будущее семьи де Гранлье не имели касательства к этому вопросу, я не пустился бы на подобную хитрость, придуманную вот этим господином с орденом; но вы должны простить его, ведь надобно было открыть обман, при помощи которого ваш брат ввел в заблуждение эту благородную семью. И остерегайтесь впредь давать повод думать, что вы ссудили миллион двести тысяч франков вашему брату для покупки поместья Рюбампре…
– Миллион двести тысяч франков! – воскликнула г-жа Сешар, побледнев. – Но где он их взял, злосчастный?..
– То-то и есть! – сказал Дервиль. – Боюсь, что источник этого состояния весьма нечист.
У Евы на глаза навернулись слезы, замеченные соседями.
– Возможно, мы оказали вам большую услугу, – сказал Дервиль. – помешав принять участие в обмане, чреватом гибельными последствиями.
Дервиль оставил г-жу Сешар в креслах, бледную, всю в слезах, и откланялся обществу.
– В Манль! – сказал Корантен мальчику, сидевшему на козлах кабриолета.
В дилижансе, который шел из Бордо в Париж и проходил через Манль ночью, нашлось только одно свободное место. Дервиль попросил Корантена уступить его, сославшись на дела, но в душе он не доверял своему спутнику, и дипломатическая изворотливость и хладнокровие Корантена казались ему просто навыками проходимца. Корантен пробыл три дня в Манле, а оказии уехать все не представлялась: ему пришлось написать в Бордо и там заказать место в дилижансе, так что в Париж он вернулся только через девять дней, считая со дня отъезда.
Все это время Перад ежедневно ездил то в Пасси, то на парижскую квартиру Корантена, чтобы узнать, не воротился ли он. На восьмой день он и там и тут оставил письма, написанные личным шифром, в которых извещал Корантена о том, какого рода смерть угрожала его другу, о похищении Лидии и об ужасной участи, уготованной ей его врагами. Попав в такую же ловушку, какие он прежде ставил другим, Перад, хотя и лишившись Корантена, но пользуясь помощью Контансона, по-прежнему разыгрывал из себя набоба. Пусть невидимые враги изобличили его, но он все же решил, и достаточно мудро, не покидать поле сражения, чтобы попытаться уловить луч света в этой тьме.
Контансон пустил в ход по следам Лидии все свои знакомства, надеясь обнаружить место, где она спрятана; но невозможность узнать что-либо становилась с каждым днем все более явной, увеличивая с каждым часом отчаяние Перада. Старый шпион окружил себя охраной из двенадцати-пятнадцати самых искусных агентов. Велось наблюдение за окресностями улицы Муано и улицы Тетбу, где он жил под видом набоба у г-жи дю Валь-Нобль. В продолжение трех последних дней роковой отсрочки, дарованной Азией, чтобы восстановить прежнее положение Люсьена в доме де Гранлье, Контансон не покидал ветерана бывшего главного управления полиции. Так поэзия ужаса, порожденная военной хитростью враждующих племен в глубине лесов Америки, которой столь удачно воспользовался Купер, овеяла мельчайшие подробности парижской жизни. Прохожие, лавки, фиакры, человек, стоящий у окна, – буквально все для человека-номера, обязанного охранять жизнь Перада, было так же полно значения, как ствол дерева, домик, скала, шкура бизона, брошенная лодка, листва на поверхности реки в романах Купера.
– Если испанец уехал, вам нечего опасаться, – сказал Контансон, обращая внимание Перада на то, каким полным покоем они наслаждаются.
– А если он не уехал? – спрашивал Перад.
– Он увез одного из моих людей на запятках своей кареты; но в Блуа мой человек был принужден слезть и не мог догнать экипаж.
Однажды утром, дней через пять после возвращения Дервиля в Париж, Люсьена посетил Растиньяк.
– Дорогой мой, я в отчаянии, что должен вести переговоры, порученные мне как твоему короткому знакомому. Твоя женитьба расстроилась, и нет никакой надежды на то, что она когда-либо состоится. Ты должен забыть о доме де Гранлье. Чтобы жениться на Клотильде, надо ждать смерти ее отца, а он стал слишком большим себялюбцем, чтобы умереть так рано. Старые игроки в вист долго держатся… на борту своего… стола. Клотильда скоро уедет в Италию с Мадленой де Ленонкур-Шолье. Бедная девушка так тебя любит, что пришлось за ней присматривать; она хотела прийти к тебе, она составила какой-то план побега… Да послужит это тебе утешением в твоем несчастье.
Люсьен молча глядел на Растиньяка.
– К тому же, и впрямь ли это несчастье?.. – продолжал его земляк. – Ты без труда найдешь другую девушку, такую же знатную и красивее Клотильды!.. Госпожа де Серизи женит тебя из чувства мести, она не выносит де Гранлье, которые ни разу не пожелали принять ее у себя; у нее есть племянница, молоденькая Клеманс дю Рувр…
– Дорогой друг, со времени нашего последнего ужина у нас размолвка с госпожой де Серизи; она видела меня в ложе Эстер, сделала мне сцену, а я не стал ее разуверять.
– Когда женщине за сорок лет, она не ссорится надолго с таким красивым молодым человеком, как ты, – сказал Растиньяк. – Я немного знаком с этими закатами… они длятся десять минут на горизонте и десять лет в сердце женщины.
– Вот уже неделя, как я жду от нее письма.
– Пойди к ней!
– Теперь, конечно, придется.
– Будешь ли ты по крайней мере у Валь-Нобль? Ее набоб дает Нусингену ответный ужин.
– Я знаю и буду, – сказал Люсьен серьезно.
На другой день после того, как он убедился в своем несчастье, о чем было тотчас же доложено Карлосу, Люсьен появился с Растиньяком и Нусингеном у мнимого набоба.
В полночь бывшая столовая Эстер вместила почти всех действующих лиц этой драмы, смысл которой, скрытый в самом русле этих существований, подобных бурным потокам, был известен лишь Эстер, Люсьену, Пераду, мулату Контансону и Паккару, явившемуся прислуживать своей госпоже. Азия была призвана г-жой дю Валь-Нобль, без ведома Перада и Контансона, помогать ее кухарке. Садясь за стол, Перад, давший г-же дю Валь-Нобль пятьсот франков, чтобы ужин вышел на славу, нашел в своей салфетке клочок бумаги, на котором прочел написанные карандашом следующие слова: «Десять минут истекают в ту минуту, когда вы садитесь за стол». Он передал бумажку Контансону, стоявшему за его стулом, сказав по-английски: «Не ты ли это всунул сюда?» Контансон прочел при свете свечей это Мене, Текел, Фарес и положил бумажку в карман, но он знал, как трудно установить автора по почерку, в особенности, если фраза написана карандашом и прописными буквами, то есть начертана, так сказать, геометрически, поскольку прописные буквы состоят лишь из кривых и прямых, по которым невозможно различить навыки руки, столь очевидные в так называемой скорописи.
Ужин проходил невесело. Перад был явно встревожен. Из молодых прожигателей жизни, умевших оживить трапезу, тут находились только Люсьен и Растиньяк. Люсьен был грустен и задумчив. Растиньяк проигравший перед ужином две тысячи франков, пил и ел, думая только о том, чтобы отыграться после ужина. Три женщины, удивленные их необычной сдержанностью, переглядывались. Скука лишила вкуса все яства. Ужины, как театральные пьесы и книги, имеют свои удачи и неудачи. В конце ужина подали мороженое, так называемый пломбир. Все знают, что этот сорт мороженого содержит мелкие, засахаренные плоды, чрезвычайно нежные, расположенные на поверхности мороженого, которое подается в бокале и не притязает на пирамидальную форму. Мороженое было заказано г-жой дю Валь-Нобль у Тортони, знаменитое заведение которого находится на углу улицы Тетбу и бульвара. Кухарка вызвала мулата, чтобы уплатить по счету кондитера. Контансон, которому требование посыльного показалось подозрительным, спустился и озадачил посыльного вопросом: «Вы стало быть, не от Тортони?..» – и тотчас же побежал наверх. Но Паккар уже воспользовался его отсутствием и успел обнести гостей мороженым. Мулат еще не дошел до двери квартиры, как один из агентов, наблюдавший за улицей Муано, крикнул ему снизу: «Номер двадцать семь!»
– Что случилось? – откликнулся Контансон, мигом оказавшийся на нижних ступенях лестницы.
– Скажите папаше, что дочь его вернулась. Но в каком состоянии, милостивый боже! Пусть он спешит, она при смерти.
В ту минуту, когда Контансон входил в столовую, старик Перад, сильно подвыпивший, как раз глотал маленькую вишню из пломбира. Пили за здоровье г-жи дю Валь-Нобль. Набоб наполнил свой стакан вином, так называемым константским, и осушил его. Как ни был взволнован Контансон известием, которое он нес Пераду, все же, войдя в столовую, заметил, с каким глубоким вниманием Паккар глядел на набоба. Глаза лакея г-жи де Шампи походили на два неподвижных огонька. Несмотря на всю важность наблюдения, сделанного мулатом, он не мог медлить и наклонился к своему господину в ту самую минуту, когда Перад ставил пустой стакан на стол.
– Лидия дома, – сказал Контансон, – и в очень тяжелом состоянии.
Перад отпустил самое французское из всех французских ругательств с таким резким южным акцентом, что на лицах гостей выразилось глубокое удивление. Заметив свой промах, Перад признался в своем переодевании, сказав Контансону на чистейшем французском языке: «Найди фиакр!.. Надо убираться отсюда!»
Все встали из-за стола.
– Кто же вы такой? – вскричал Люсьен.
– Та, кто ви такой? – сказал барон.
– Бисиу уверял меня, что вы умеете изображать англичан лучше его, но я не хотел ему верить, – сказал Растиньяк.
– Ну, конечно, какой-нибудь разоблаченный банкрот, – сказал дю Тийе громко, – я так и подозревал!..
– Какой удивительный город этот Париж!.. – сказала г-жа дю Валь-Нобль. – Объявив себя несостоятельным в своем квартале, торговец безнаказанно появляется, переряженный набобом или денди, в Елисейских полях!.. О, я злосчастная! Банкротство – вот мой червь!
– Говорят, у каждого цветка есть свой червь, – сказала Эстер спокойно. – А мой похож на червя Клеопатры, на аспида.
– Кто я такой?.. – сказал Перад у двери. – А-а! Вы это узнаете: и если я умру, я буду каждую ночь выходить из могилы, чтобы стягивать вас за ноги с постели!..
Произнося эти последние слова, он смотрел на Эстер и Люсьена; потом воспользовавшись общим замешательством, поспешно скрылся; он решил бежать домой, не дожидаясь фиакра. На улице Азия, в черном капоре с длинной вуалью, остановила шпиона у самых ворот, схватив его за руку.
– Пошли за святыми дарами, папаша Перад, – сказала она; это был тот самый голос, который однажды уже напророчил ему несчастье.
Возле дома стояла карета, Азия села в нее, карета скрылась, будто ее унесло ветром. Тут было пять карет, и люди Перада ничего подозрительного не заметили.
Вернувшись в свой загородный дом, в одном из самых отдаленных и самых приветливых кварталов маленького предместья Пасси, на улице Винь, Корантен, который слыл там за негоцианта, снедаемым страстью к садоводству, нашел шифрованную записку своего друга Перада. Вместо того, чтобы отдохнуть, он опять сел в фиакр, в котором только что приехал, и приказала себя везти себя на улицу Муано, где застал одну Катт. Он узнал от фламандки об исчезновении Лидии и не мог понять, как Перад, да и он оказались столь непредусмотрительны.
«Обо мне они еще не знают, – сказал он про себя. – Эти люди способны на все; надо выждать, не убьют ли они Перада, ну, а тогда уже я скроюсь…»
Чем постыднее жизнь человека, тем он сильнее за нее цепляется; она становится постоянным протестом, непрерывным мщением. Корантен сошел вниз и, вернувшись к себе домой, преобразился в хилого старичка, надев травяной парик и зеленый сюртучок, затем пешком отправился к Пераду, движимый чувством дружбы. Он хотел отдать приказания своим наиболее испытанным и ловким номерам. Свернув на улицу Сент-Оноре, чтобы от Вандомской площади попасть на улицу Сен-Рох, он нагнал девушку в домашних туфлях, одетую так, словно она готовилась ко сну, – в белой ночной кофте и в ночном чепчике. Время от времени из груди ее вырывалось рыдание и сдержанный стон. Корантен опередил ее на несколько шагов и узнал в ней Лидию.
– Я друг вашего отца, господина Канкоэля, – сказал он, не меняя своего голоса.
– Ах! Наконец нашелся человек, которому я могу довериться!.. – воскликнула она.
– Не подавайте виду, что знаете меня, – продолжал Корантен. – Нас преследуют лютые враги, и мы принуждены скрываться. Но расскажите мне, что с вами случилось…
– О, сударь! Об этом можно сказать, но не рассказывать… – сказала бедная девушка. – Я обесчещена, я погибла, и сама не могу объяснить себе как!..
– Откуда вы идете?..
– Не знаю, сударь! Я так спешила спастись, пробежала столько улиц, столько переулков, боясь погони… И когда встречала человека приличного, спрашивала, как пройти на бульвары и добраться до улицы де ла Пэ! Наконец, пройдя уже… Который теперь час?
– Половина двенадцатого! – сказал Корантен.
– Я убежала с наступлением сумерек, значит, уже пять часов, как я иду! – вскричала Лидия.
– Полно, вы отдохнете, увидите вашу добрую Катт…
– О сударь! Для меня нет больше отдыха! Я не желаю иного отдыха, кроме как в могиле; а до тех пор я уйду в монастырь, если только меня примут туда…
– Бедняжка! Вы защищались?
– Да, сударь. Ах! Если бы вы знали, среди каких гнусных созданий мне пришлось быть…
– Вас верно, усыпили?
– Ах, вот как это было? – сказала бедная Лидия. – Мне только бы дойти до дому… У меня нет больше сил, и мысли мои путаются… Сейчас мне почудилось, что я в саду…
Корантен взял Лидию на руки, и, когда он поднимался с нею по лестнице, она потеряла сознание.
– Катт! – крикнул он.
Катт появилась и радостно вскрикнула.
– Не спешите радоваться! – внушительно сказал Корантен. – Девушка очень больна.
Когда Лидию уложили в постель и она при свете двух свечей, зажженных Катт, узнала свою комнату, у нее начался бред. Она пела отрывки из прелестных арий и тут же выкрикивала гнусные слова, слышанные ею. Ее красивое лицо было все в фиолетовых пятнах. Воспоминания непорочной жизни перемежались с позорными сценами последних десяти дней. Катт плакала. Корантен ходил по комнате, останавливаясь по временам, чтобы взглянуть на Лидию.
– Она расплачивается за своего отца! – сказал он. – Как знать, нет ли в этом руки провидения? О, я был прав, что не имел семьи!.. Как говорит какой-то философ, ребенок – это наш заложник в руках несчастья, честное мое слово!
– Ах, Катт! – сказала бедная девочка, приподнявшись с подушек и не оправляя своих прекрасных разметавшихся волос. – Чем лежать тут, лучше бы мне лежать на песчаном дне Сены…
– Катт, тем, что вы будете плакать и смотреть на вашу девочку, вы ее не исцелите, вместо этого лучше бы вам позвать врача – сперва из мэрии, а потом Деплена и Бьяншона… Надо спасти это невинное создание…
И Корантен написал адреса обоих знаменитых докторов. В это время по лестнице подымался человек, привыкший к ее ступеням; дверь отворилась. Весь в поту, с фиолетовым лицом, с налитыми кровью глазами, Перад, пыхтя, как дельфин, бросился от входной двери к комнате Лидии с воплем: «Где моя дочь?..»
Он заметил печальный жест Корантена; взгляд Перада остановился на Лидии. Сравнить ее можно было только с цветком, любовно взлелеянным ботаником; но вот обломился стебель, цветок раздавлен грубым башмаком крестьянина. Перенесите этот образ в отцовское сердце, и вы поймете, какой удар испытал Перад, из глаз которого полились слезы.
– Кто-то плачет… Это мой отец… – сказала девочка.
Лидия еще могла узнать отца; она поднялась и припала к коленям старика в ту самую минуту, когда он тяжело опустился в кресла.
– Прости, папа!.. – сказала она. Ее голосок пронзил сердце Перада, и тут же он почувствовал точно удар дубиной по голове.
– Умираю… Ах, негодяи! – были его последние слова.
Корантен хотел помочь своему другу, но лишь принял его последний вздох.
«Умер от яда!..» – сказал про себя Корантен. – А вот и врач! – воскликнул он, услышав шум подъезжавшей кареты.
Вошел Контансон, успевший смыть с себя загар мулата, и, услышав голос Лидии, застыл, точно бронзовая статуя. «Ты все еще не прощаешь меня, отец?.. Я не виновата! (Она не замечала, что отец ее мертв.) Ах, какими глазами он глядит на меня!..» – говорила несчастная безумная.
– Надо ему их закрыть, – сказал Контансон, положив умершего на кровать.
– Мы делаем глупость, – сказал Корантен. – Перенесем его на другую половину; обезумевшая дочь совсем потеряет рассудок, когда поймет, что отец умер; она подумает, что убила его.
Лидия тупо смотрела, как уносят отца.
– Вот мой единственный друг!.. – не скрывая волнения, сказал Корантен, когда Перада положили на кровать в спальне. – За всю свою жизнь только однажды заговорила в нем алчность! И то ради дочери… Пусть это послужит тебе уроком, Контансон. В каждом звании есть своя честь. Перад напрасно впутался в частное дела, мы должны заниматься делами государственными. Но, что бы это ни повлекло за собой, – сказал он, и звук его голоса, взгляд и жест навели на Контансона ужас, – даю слово отомстить за моего бедного Перада! Я открою виновников его смерти и бесчестия его дочери!.. Клянусь самим собой и остатком дней моих, которые я ставлю на карту ради мести, что все эти люди, будучи в добром здравии, кончат свои дни наголо обритыми в четыре часа дня на Гревской площади!..
– А я вам в этом помогу, – сказал потрясенный Контансон.
И верно, нет более волнующего зрелища, чем вспышка страсти у человека холодного, сдержанного, точного, в котором за двадцать лет никто не мог заметить и признака чувствительности. Такая страсть – точно раскаленный добела брусок железа, расплавляющий все, что с ним соприкасается. Недаром у Контансона перевернулось все внутри.
– Бедный папаша Канкоэль, – продолжал он, глядя на Корантена. – Он меня частенько угощал… И видите ли… только беспутные люди знают толк в таких вещах… частенько давал мне десять франков на игру…
После такого надгробного слова мстители за Перада, услышав на лестнице голоса Катт и городского врача, пошли к Лидии.
– Ступай за полицейским приставом, – сказал Корантен. – Королевский прокурор не найдет, возможно, повода для следствия, но мы попробуем составить донесение в префектуру; при случае это сослужит нам службу. Вот в этой комнате, – сказал Корантен городскому врачу, – лежит мертвый человек. Я не верю, чтобы его смерть была естественна. Сделайте вскрытие в присутствии полицейского пристава, который сейчас должен прийти по моей просьбе. Попытайтесь обнаружить следы яда; вам помогут в этом Деплен и Бьяншон, мы их ожидаем с минуты на минуту; я их вызвал к дочери моего лучшего друга; она в худшем положении, чем отец, хотя он и умер…
– Мне в них нет нужды, – сказал городской врач, – чтобы выполнить свое дело…
«Ну и ладно!» – подумал Корантен.
– Не будем спорить, – продолжал он. – В коротких словах, вот мое мнение: кто убил отца, те обесчестили и дочь.
Под утро Лидию наконец сломила усталость; когда знаменитый хирург и молодой врач пришли, она спала. Тем временем врач, пришедший установить смертный случай, вскрыл тело Перада и искал причины смерти.
– Пока больную не разбудили, – сказал Корантен двум знаменитостям, – не пожелаете ли помочь вашему собрату определить причину гибели одного человека, что, несомненно, представит для вас некоторый интерес, а кроме того, ваше мнение не будет излишним в протоколе.
– Ваш родственник умер от апоплексического удара, – сказал врач, – есть признаки сильнейшего кровоизлияния в мозг…
– Прошу вас, господа, осмотреть труп, – сказал Корантен, – и вспомнить, не знает ли токсикология ядов, оказывающих такое действие.
– Желудок совершенно переполнен, – сказал врач, – но так, без химического анализа его содержимого, я не вижу никаких следов яда.
– Если признаки кровоизлияния в мозг имеются, то, принимая во внимание возраст, это уже достаточная причина для смерти, – сказал Деплен, указывая на чрезмерное количество пищи.
– Он ужинал дома? – спросил Бьяншон.
– Нет, – ответил Корантен. – Он прибежал с бульваров и нашел изнасилованной свою дочь.
– Вот истинный яд, если он любил ее, – сказал Бьяншон.
– Но все-таки, какой же яд мог бы оказать подобное действие? – спросил Корантен, упорствуя в своей мысли.
– Существует только один, – сказал Деплен после внимательного осмотра. – Этот яд добывается на Явском архипелаге из ореха чилибухи, относящейся к малоизученной разновидности strychnos; им отравляют оружие чрезвычайно опасное… малайский крис… Так по крайней мере говорят…
Пришел полицейский пристав. Корантен высказал ему свои подозрения, попросил его составить протокол, указав, в каком доме и с какими людьми ужинал Перад; он также сообщил ему о заговоре, направленном против жизни Перада, и о причине болезни Лидии. Потом Корантен пошел в комнаты бедной девушки, где Деплен и Бьяншон осматривали больную, но встретился с ними уже в дверях.
– Ну что, господа? – спросил Корантен.
– Поместите эту девушку в дом для умалишенных, и если в случае беременности рассудок не вернется к ней после родов, она окончит свои дни тихим помешательством. Исцелить ее может только одно средство: чувство материнства, если оно в ней проснется…
Корантен дал врачам по сорок франков золотом и обернулся к приставу, потянувшему его за рукав.
– Врач уверяет, что смерть естественна, – сказал чиновник, – и я не могу составить протокол, тем более, что дело касается папаши Канкоэля; он вмешивался во многие дела, и как знать, на кого мы нападем… Эти люди частенько умирают по приказу…
– Я – Корантен, – сказал Корантен на ухо полицейскому приставу.
Тот не мог скрыть своего удивления.
– Итак, составьте докладную записку, – продолжал Корантен, – позже она нам очень пригодится, но только пошлите ее в качестве секретной справки. Отравления нельзя доказать, и я знаю, что следствие было бы прекращено сразу… Но, рано или поздно, я найду виновных, я их выслежу и схвачу на месте преступления.
Полицейский пристав поклонился Корантену и вышел.
– Сударь, – сказала Катт, – девочка все поет и танцует. Как мне быть?
– А что на нее так повлияло?
– Она узнала, что умер ее отец…
– Посадите ее в фиакр и отвезите прямо в Шарантон; я напишу несколько строк главному начальнику королевской полиции, чтобы она была прилично помещена. Дочь в Шарантоне, отец в общей могиле! – сказал Корантен. – Контансон, ступай, закажи похоронные дроги. Теперь мы с вами один на один, дон Карлос Эррера…
– Карлос! – воскликнул Контансон. – Да ведь он в Испании.
– Он в Париже! – твердо сказал Корантен. – От всего этого веет духом эпохи Филиппа Второго испанского, но у меня найдется капканы для всех, даже для королей.
Пять дней спустя после исчезновения набоба г-жа дю Валь-Нобль сидела в девять часов утра у изголовья кровати Эстер и плакала, ибо она чувствовала, что ступила на наклонную плоскость нищеты.
– Будь у меня хотя бы сто луидоров ренты! Тогда, моя дорогая, можно было бы уехать в какой-нибудь маленький городок и там найти случай выйти замуж…
– Я могу тебе их достать, – сказала Эстер.
– Но как? – вскричала госпожа дю Валь-Нобль.
– О, совсем просто! Слушай. Ты будто бы захочешь покончить с собой; сыграй хорошенько эту комедию! Пошлешь за Азией и предложишь ей десять тысяч франков за две черные жемчужины из тонкого стекла, наполненные ядом, который убивает за одну секунду; ты мне их принесешь, и я тебе дам пятьдесять тысяч франков…
– Почему ты не попросишь их сама? – сказала г-жа дю Валь-Нобль.
– Азия мне их не продала бы.
– Неужто это для тебя?.. – сказала г-жа дю Валь-Нобль.
– Может быть.
– Для тебя! Да ведь ты живешь среди роскоши, веселья, в собственном доме! И накануне празднества, о котором будут толковать целых десять лет! Ведь Нусингену этот день обойдется тысяч в двадцать франков. Говорят, будто в феврале к столу подадут клубнику, спаржу, виноград… дыни… Одних цветов в комнатах будет на тысячу экю!
– Ну что ты болтаешь! На тысячу экю одних только роз на лестнице.
– Говорят, твой наряд стоит десять тысяч франков?
– Да, у меня платье из брюссельских кружев, и Дельфина, его жена, в бешенстве. Но мне хотелось быть одетой, как невеста.
– А где эти десять тысяч франков? – спросила г-жа дю Валь-Нобль.
– Это все мои карманные деньги, – сказала Эстер, улыбнувшись. – Открой туалетный столик, деньги под бумагой для папильоток…
– Кто говорит о самоубийстве, тот не кончает с собой, – сказала г-жа дю Валь-Нобль. – Ну, а если яд нужен для того, чтобы совершить…
– Преступление, хочешь ты сказать? – докончила Эстер мысль своей нерешительной подруги. – Можешь быть спокойна, – продолжала Эстер, – я никого не хочу убивать. У меня была подруга, очень счастливая женщина, она умерла, я последую за ней… вот и все…
– Ну и глупа же ты!..
– Что прикажешь делать? Мы дали обещание друг другу.
– Дай опротестовать этот вексель, – сказала подруга, смеясь.
– Делай, что я тебе говорю, и убирайся. Я слышу, подъезжает экипаж. Это Нусинген, человек, который сойдет с ума от счастья! Он-то меня любит… Почему мы не любим тех, кто нас любит, ведь они в конце концов делают все, чтобы вам понравиться?..
– Вот именно! – сказала г-жа дю Валь-Нобль. – Это вроде истории с селедкой, самой злокозненной из рыб.
– Почему она злокозненная?
– Ну, этого никому так и не удалось узнать.
– Ступай, душенька! Надо выпросить для тебя пятьдесят тысяч франков.
– Ну, прощай…
Вот уже три дня, как обращение Эстер с бароном Нусингеном резко переменилось. Обезьянка стала кошечкой, а кошечка становилась женщиной. Эстер одаряла старика сокровищами нежности, она была само очарование. Ее вкрадчиво-нежные речи, лишенные обычной ядовитости и насмешки, вселили уверенность в неповоротливый ум банкира; она называла его Фрицем; он думал, что любим.
– Мой бедный Фриц, я тебя достаточно испытывала, – сказала она, – я тебя достаточно мучила; в твоем терпении было высочайшее благородство, ты любишь меня, я вижу и вознагражу тебя. Ты мне нравишься, и я не знаю, как это случилось, но теперь я предпочла бы тебя молодому человеку. Возможно, опытность тому причина. Со временем замечаешь, что любовь – это дар души, и быть любимым, ради наслаждения ли, ради денег ли, одинаково лестно. Притом молодые люди чересчур большие эгоисты, они думают больше о себе, чем о нас; ты же думаешь только обо мне. Поэтому и я ничего больше не требую от тебя, я хочу доказать тебе, до какой же степени я бескорыстна.
– Я вам ничефо не даваль, – отвечал очарованный барон. – Я думаль подарить зафтра дрицать тисяча франк рента… Это мой сфатебни подарок…
Эстер так мило поцеловала Нусингена, что он побледнел и без пилюль.
– Смотрите, не подумайте, – сказала она, – что все это за ваши тридцать тысяч ренты… нет… а потому что теперь… я люблю тебя, мой толстый Фредерик.
– О, поже мой! Почему меня исфитифал… я бил би так сшастлив три месяц…
– Что это, из трех или из пяти процентов, мой дружок? – сказала Эстер, проводя рукой по волосам Нусингена и укладывая их по своей прихоти.
– Из трех… у меня их осталься от несостоятельни дольжник…
Итак, в это утро барон принес государственное долговое обязательство; он собирался позавтракать со своей дорогой девочкой, получить от нее распоряжения на завтра, на знаменитую субботу, большой день!
– Полючай, мой маленки жена, мой единствен жена, – радостно сказал барон, просияв от счастья. – Будет чем платить расход по кухня на остаток ваш тней…
Эстер без малейшего волнения взяла бумагу, сложила ее и убрала в туалетный столик.
– Ну вот, теперь вы довольны, чудовище несправедливости, – сказала она, потрепав Нусингена по щеке. – Наконец-то я хоть что-то от вас приняла! Теперь я уже не могу высказывать вам всякие истины, ведь я делю с вами плоды ваших, как вы называете, трудов… И это вовсе не подарок, бедный мой мальчик, а просто-напросто моя доля прибыли в деле… Ну, полно, не гляди на меня биржевиком. Ты отлично знаешь, что я тебя люблю.
– Мой прекрасни Эздер, мой анкел люпфи, – сказал барон, – прошу вас не говорить мне так никогта! Пускай говорит весь сфет, что я вор, я был бы равнодушен, лишь бы я был честни челофек для ваши глаз… Я все больше и больше люблю вас…
– Таково мое мнение, – сказала Эстер. – Поэтому я никогда больше не скажу тебе ничего такого, что могло бы тебя огорчить, мой слоненок, ты ведь стал простодушен, как дитя. Черт возьми! Да ты никогда и не знал, толстый греховодник, что такое невинность! Все же какую-то толику ее ты получил, когда появился на свет божий, ведь должна была она когда-нибудь всплыть на поверхность, но у тебя она затонула так глубоко, что потребовалось шестьдесят шесть лет, чтобы извлечь ее… багром любви. Такое чудо случается с глубокими стариками… Вот за что я в конце концов и полюбила тебя: ты молод, очень молод… Никто не знает этого Фредерика… одна я! Ведь уже в пятнадцать лет ты был банкиром… В коллеже, прежде чем давать товарищу игрушечный шарик, ты ставил условием возвратить тебя два… (Она вскочила на колени смеявшегося барона.) Ну что ж! Ты волен делать, что пожелаешь. Э, боже мой! Грабь их… не робей, я тебе в этом помогу. Люди не стоят того, чтобы их любить. Наполеон их убивал, как мух. Французам платить подати тебе или казне – не все ли равно!.. К казне тоже не питают нежных чувств, я, клянусь… Я хорошо все обдумала, ты прав… стриги овец, как сказано в евангелии от Беранже… Поцелуйте вашу Эздер… Ах, кстати! Ты отдашь этой бедной Валь-Нобль всю обстановку на улице Тетбу! И потом завтра же ты преподнесешь ей пятьдесят тысяч франков… Этим ты себя покажешь в выгодном свете… Видишь ли, котик, ты убил Фале, об этом уже кричат… Твой подарок покажется сказочно щедрым… и все женщины заговорят о тебе. О!.. во всем Париже ты один будешь велик и благороден, и – так уж создан свет! – все забудут о Фале. В конце концов ты выгодно поместишь капитал: ты заработаешь на нем уважение!
– Ти прав, мой анкел! Ти знаешь сфет, – сказал он. – Ти будешь мой софетник.
– Вот видишь, – продолжала она, – как я забочусь о делах моего мужа, о его добром имени, чести… Ну, ступай же, поищи для меня пятьдесят тысяч франков…
Она хотела избавиться от Нусингена, чтобы вызвать маклера и в тот же вечер на бирже продать свою ренту.
– А пошему так бистро? – спросил он.
– А как же иначе, котик, надо же их преподнести в атласной коробке, прикрыв веером. Ты скажешь ей: «Вот, сударыня, веер, который, надеюсь, доставит вам удовольствие!» Думают, что ты Тюркаре, а ты прослывешь Божоном!
– Прелестни! Прелестни! – вскричал барон. – Я буду, стало бить, имейт теперь твой ум!.. Та, я буду пофторять ваши слофа…
В тот миг, когда бедная Эстер садилась в кресла, изнемогая от напряжения, которое ей потребовалось, чтобы разыграть свою роль, вошла Европа.
– Сударыня, – сказала она, – там рассыльный с набережной Малакэ, его послал Селестен, слуга господина Люсьена.
– Пусть войдет!.. Нет, лучше я сама выйду в прихожую.
– У него письмо для вас, сударыня.
Эстер бросилась в прихожую, взглянула на рассыльного – самый обыкновенный рассыльный.
– Скажи ему, чтобы сошел вниз! – прочтя письмо, сказала Эстер упавшим голосом и опустилась на стул. – Люсьен хочет покончить с собой… – шепнула она Европе. – Впрочем, отнеси письмо ему.
Карлос Эррера, все в том же обличье коммивояжера, тотчас сошел вниз, но, приметив в прихожей постороннее лицо, впился взглядом в рассыльного. «Ты сказала, что никого нет», – шепнул он на ухо Европе. Из предосторожности он тут же прошел в гостиную, успев, однако, посмотреть посланца. Обмани-Смерть не знал, что с некоторых пор у прославленного начальника тайной полиции, арестовавшего его в доме Воке, появился соперник, которого прочили в его преемники. Этим соперником был рассыльный.
– Ваши предположения правильны, – сказал мнимый рассыльный Контансону, который ожидал его на улице, – тот человек, приметы которого вы мне указали, в доме; но он не испанец, ручаюсь головой, что под этой сутаной – наша дичь.
– Он такой же священник, как испанец, – сказал Контансон.
– Я в том уверен, – сказал агент тайной полиции.
– О, если только мы правы!.. – воскликнул Контансон.
Люсьен действительно два дня был в отсутствии, и этим воспользовались, чтобы расставить сети; но он вернулся в тот же вечер, и тревоги Эстер рассеялись.
На другой день, поутру, когда куртизанка, выйдя из ванны, опять легла в постель, пришла ее подруга.
– Жемчужины у меня! – сказала Валь-Нобль.
– Ну-ка, посмотрим! – сказала Эстер, приподымаясь на локте, утонувшем в кружевах подушки.
Госпожа дю Валь-Нобль протянула подруге нечто похожее на две ягоды черной смородины. Барон подарил Эстер двух левреток редкостной породы, заслужившей носить в будущем носить имя великого поэта, который ввел их в моду, и куртизанка, чрезвычайно польщенная подарком, сохранила для них имена их предков: Ромео и Джульетты. Нет нужды говорить о привлекательности, белизне, изяществе этих, точно созданных для комнатной жизни животных, во всех повадках которых было что-то схожее с английской чопорностью. Эстер позвала Ромео: перебирая своими гибкими, тонкими лапками, такими крепкими и мускулистыми, что вы приняли бы их за стальные прутья, Ромео подбежал и посмотрел на свою хозяйку. Эстер, чтобы привлечь его внимание, размахнулась, будто собираясь что-то бросить.
– Самое имя обрекает его на такую смерть! – сказала Эстер, бросая жемчужину, которую Ромео раздавил зубами.
Не издав ни звука, собака покружилась и упала замертво. Все было кончено, пока Эстер произносила это надгробное слово.
– О боже! – вскрикнула г-жа дю Валь-Нобль.
– Твой фиакр здесь, увези покойника, Ромео, – сказала Эстер: – Его смерть наделала бы тут шуму; скажем, что я тебе подарила, а ты его потеряла; помести в газете объявление. Поспеши, нынче же вечером ты получишь обещанные пятьдесят тысяч франков.
Это было сказано так спокойно и с такой великолепной бесчувственностью истой куртизанки, что дю Валь-Нобль воскликнула: «И верно, ты наша королева!»
– Приходи пораньше и принарядись хорошенько…
В пять часов Эстер принялась за свой свадебный туалет. Она надела кружевное платье поверх белой атласной юбки, застегнула белый атласный пояс, обула ноги в белые атласные туфельки, накинула на свои прекрасные плечи шарф из английских кружев. Она убрала свою головку белыми камелиями, точно девственница. На ее груди переливалось жемчужное ожерелье в тридцать тысяч франков, подаренное Нусингеном. Хотя свой туалет она закончила к шести часам, дверь ее была закрыта для всех, даже для Нусингена. Европа знала, что в спальню должен пройти Люсьен. Он приехал к седьмому часу, и Европа сумела тайком проводить его к своей госпоже; никто не заметил его появления.
Люсьен, увидев Эстер, подумал: «Почему бы не уехать и не жить с нею в Рюбампре, вдали от света, распростившись навсегда с Парижем!.. Я уже отдал пять лет в задаток такой жизни, а моя любимая всегда останется верна себе! Где я найду еще такое чудо?»
– Друг мой, вы были для меня божеством, – сказала Эстер, опустившись на подушку у ног Люсьена и преклонив перед ним колени, – благословите меня…
– К чему эти шутки, любовь моя? – спросил Люсьен, собираясь поднять и поцеловать Эстер. Он попытался взять ее за талию, но она отстранилась движением, исполненным обожания и ужаса.
– Я недостойна тебя, Люсьен, – сказала она, не сдерживая слез. – Умоляю, благослови меня и поклянись сделать вклад в городскую больницу на две кровати… Молитвы за помин души в церкви мне не помогут. Бог может внять лишь моим мольбам… Я слишком любила тебя, мой друг. И еще скажи, что я принесла тебе счастье и что ты изредка ты будешь думать обо мне… Скажи!
Люсьен почувствовал в торжественных словах Эстер глубокую искренность и задумался.
– Ты хочешь убить себя! – сказал он вдруг серьезным тоном.
– Нет, мой друг! Но сегодня, видишь ли, умирает женщина чистая, непорочная, любящая – та, которая принадлежала тебе… И я боюсь, что горе убьет меня.
– Бедная моя девочка, подожди! – сказал Люсьен. – Хоть и с большими усилиями, но все же за эти два дня я сумел установить связь с Клотильдой.
– Опять Клотильда! – воскликнула Эстер, сдерживая гнев.
– Да, – продолжал он, – мы написали друг другу… Во вторник утром она уезжает в Италию, но по дороге я увижусь с ней, в Фонтенебло…
– Послушайте-ка! Кого вы берете себе в жены? Ведь это не женщины, а какие-то жерди!.. – вскричала бедная Эстер. – Скажи, а если бы у меня было семь или восемь миллионов, ты бы на мне женился?
– Детка, я хотел тебе сказать, что, если все для меня кончено, я не хочу другой жены, кроме тебя…
Эстер опустила голову, чтобы скрыть внезапно побледневшее лицо и слезы, которые она украдкой смахнула.
– Ты любишь меня?.. – сказала она, глядя на Люсьена с глубокой скорбью. – Так вот тебе мое благословение… Будь осторожен, выйди через потайную дверь и пройди в гостиную прямо из прихожей. Поцелуй меня в лоб. – Она обняла Люсьена и страстно прижала его к своему сердцу со словами: «Уходи!.. Уходи!.. или я останусь жить».
Когда обрекшая себя на смерть появилась в гостиной, раздались возгласы восхищения. В глазах Эстер отражалась бесконечность, и тот, кто заглядывал в них, тонул в ее глубине. Иссиня-черные мягкие волосы оттеняли белизну камелий. Короче сказать, то впечатление, которого добивалась эта дивная девушка, было создано. Она не имела соперниц. Она появилась тут как олицетворение необузданной роскоши, окружавшей ее. Она блистала остроумием. Она управляла оргией с той сдержанной, спокойной властностью, какую выказывает Габенек в Консерватории в тех концертах, где первоклассные европейские музыканты достигают непостижимых высот в передаче Моцарта и Бетховена. Однако ж она с ужасом следила за Нусингеном, который очень мало ел, почти не пил и держал себя хозяином дома. В полночь уже никто ничего не соображал. Разбили стаканы, чтобы ими никогда больше не пользовались. Две китайские расписные занавеси были разорваны. Бисиу напился впервые в своей жизни. Все буквально валились с ног, женщины спали на диванах, и задуманная гостями шутка не удалась; они хотели проводить Эстер и Нусингена в спальню, выстроившись в два ряда с канделябрами в руках, под пение «Buona sera» из «Севильского цирюльника». Нусинген предложил Эстер руку; Бисиу, хотя и пьяный, заметив, что они уходят, нашел еще силы сказать, как Ривароль по поводу последней женитьбы герцога Ришелье: «Надо предупредить префекта полиции… тут затевается скверное дело…» Шутник думал пошутить, но оказался пророком.
Господин Нусинген появился у себя только в понедельник около полудня; а в час дня биржевой маклер сообщил ему, что мадемуазель Эстер Ван Богсек еще в пятницу приказала продать подаренную ей процентную бумагу на тридцать тысяч франков ренты и уже получила ее стоимость.
– Но, господин барон, – сказал он, – в ту минуту, когда я рассказывал об этой сделке, вошел старший клерк господина Дервиля и, услыхав настоящую фамилию мадемуазель Эстер, сказал, что она получает наследство в семь миллионов.
– Ба!
– Видите ли, она как будто единственная наследница этого старого ростовщика Гобсека… Дервиль проверит, так ли это. Если мать вашей любовницы Прекрасная Голландка, она унаследует…
– Я знай, – сказал банкир. – Он рассказиваль мне своя жизнь… Я буду писать несколько слоф для Дерфиль!..
Барон сел за письменный стол, написал записку Дервилю и послал ее с одним из своих слуг. Потом в третьем часу, после биржи, он вернулся к Эстер.
– Мадам приказала не будить ее, что бы там ни случилось; она в постели, она спит…
– А, шорт! – вскричал барон. – Он не будет браниться, Ироп, когта узнайт, что делался богатейш… Он наследоваль семь мильон. Старик Гобсек помер и оставляль семь мильон, а твой хозяйка есть единствен наследниц; мать Эздер бил собственной племяннис Гобсека, которой он завещаль свой зостоянь. Я не подозреваль, что такой мильонер, как он, оставляль Эздер в нищета…
– Вот как! Значит, ваше царство кончилось, старый шут! – сказала Европа, глядя на барона с наглостью, достойной мольеровской служанки. – У-у, старая эльзасская ворона!.. Она любит вас, вроде как чуму!.. Господи боже! Миллионы!.. Значит, она может теперь выйти за своего любовника! Ну и рада же она будет!
И Прюданс Сервьен удалилась, оставив убитого горем Нусингена одного в комнате; она пошла первой известить об этом повороте судьбы свою госпожу. Старик, еще пьяный от безмерного блаженства и уверовавший в свое счастье, получил холодный душ в ту минуту, когда разгоревшаяся любовь его достигла предела.
– Он меня опманифаль!.. О Эздер… О мой жизнь!.. – вскричал он со слезами на глазах. – Глупец! Подобни цфеток растет ли для старик? Я могу все купить, кроме молодость!.. О поже мой! Что делать? Как бить? Он прав, этот шестоки Ироп! Эздер богатейш, он уйдет от меня… Не повеситься ли! Что жизнь без боджественни пламень наслаждень, котори я вкусил!.. Поже мой…
И биржевой хищник сорвал с себя парик, которым он последние три месяца прикрывал свои седины. Пронзительный крик Европы потряс Нусингена до мозга костей. Бедный банкир встал и пошел, пошатываясь, ибо он только что осушил кубок Разочарования, а ничто так не опьяняет, как горькое вино несчастья. В раскрытой двери он увидел Эстер: она лежала вытянувшись на кровати, посиневшая от яда, мертвая!.. Он подошел к кровати и упал на колени.
– Ти бил прав, Ироп, и он претупрешталь!.. Он помер от меня!..
Появились Паккар, Азия, сбежался весь дом. Но для них это было зрелище, неожиданность, а не скорбь. Среди слуг возникло некоторое замешательство. Барон опять стал банкиром, у него закралось подозрение, и он совершил неосторожность, спросив, где семьсот пятьдесят тысяч франков ренты. Паккар, Азия и Европа так странно переглянулись, что г-н Нусинген тотчас же вышел, заподозрив, что тут произошло ограбление и убийство. Европа, приметив под подушкой госпожи запечатанный пакет, мягкость которого позволила ей предположить, что в нем содержатся банковые билеты, заявила, что будет обряжать покойницу.
– Ступай, предупреди господина, Азия!.. Умереть, не зная, что к ней привалило семь миллионов! Гобсек был родной дядя покойницы!.. – вскричала она.
Уловка Европы была понята Паккаром. Как только Азия показала спину, Европа вскрыла пакет, на котором бедная куртизанка написала: «Передать господину Люсьену де Рюбампре!» Семьсот пятьдесят банковых билетов, по тысяче франков каждый, мелькнули перед глазами Прюданс Сервьен, вскричавшей: «С ними можно стать счастливой и честной до конца своих дней!..»
Паккар молчал, воровская его натура одержала верх над привязанностью к Обмани-Смерть.
– Дюрю умер, – сказал он, беря билеты. – На моем плече еще нет клейма, убежим вместе, поделим деньги, чтобы не все добро спрятать в одном месте, и поженимся.
– Но где укрыться? – сказала Прюданс.
– В Париже, – отвечал Паккар.
Прюданс и Паккар вышли из комнаты с поспешностью добропорядочных людей, вдруг превратившихся в воров.
– Дочь моя, – сказал Обмани-Смерть малайке, едва она успела раскрыть рот, – принеси мне для образца любое письмо Эстер, покуда я буду составлять завещание по всей форме; черновик завещания и письмо отнесешь Жирару, но пусть поторопится: надо подсунуть это завещание под подушку Эстер, прежде чем опечатают имущество.
И он набросал следующий текст завещания:
«Никогда не любя никого в мире, кроме господина Люсьена Шардона де Рюбампре, и решив лучше положить конец своим дням, чем снова впасть в порок и влачить позорное существование, от которого он меня спас из сострадания ко мне, я отдаю и завещаю вышеупомянутому Люсьену Шардону де Рюбампре все, чем я владею к моменту моей смерти, и ставлю условием заказывать ежегодную мессу в приходе Сен-Рох за упокоение той, которая посвятила ему все, даже свою последнюю мысль.
Эстер Гобсек».«Вполне в ее стиле», – сказал про себя Обмани-Смерть.
В семь часов вечера завещание, переписанное и запечатанное, было положено Азией под изголовье Эстер.
– Жак, – сказала Азия, поспешно взбежав наверх, – когда я выходила из комнаты, прибыли судебные власти…
– Ты хочешь сказать, мировой судья…
– Не то, сынок! Судья-то уж само собой, но с ним жандармы, королевский прокурор и судебный следователь тоже там. У дверей поставлена охрана.
– Быстро же эта смерть наделала шуму, – заметил Коллен.
– Что ты скажешь! Европа и Паккар не появлялись; боюсь, уж не они ли свистнули эти семьсот пятьдесят тысяч франков? – сказала Азия.
– Ах, канальи!.. – сказал Обмани-Смерть. – Этой кражей они нас губят!..
Правосудие человеческое и правосудие парижское, то есть самое недоверчивое, самое умное, самое искусное и самое осведомленное из всех правосудий, даже чересчур умное, ибо оно поминутно дает новое толкование закону, налагало, наконец, руку на главарей этого страшного дела. Барон Нусинген, убедившись в отравлении и обнаружив пропажу своих семисот пятидесяти тысяч франков, заподозрил, что виновниками преступления были Паккар либо Европа, гнусные, ненавистные ему существа. В приступе бешенства он сразу же побежал в префектуру. То был удар колокола, собравший все номера Корантена. Префектура, прокурорский надзор, полицейский пристав, мировой судья, судебный следователь – все были на ногах. В девять часов вечера три врача, вызванные сюда же, присутствовали при вскрытии тела бедной Эстер, и началось следствие! Обмани-Смерть, извещенный Азией, вскричал: «Они не знают, что я тут; я успею скрыться!» Он вылез с необыкновенной ловкостью через слуховое окно мансарды и очутился на крыше, откуда стал с хладнокровно изучать окрестность, точно заправский кровельщик. «Отлично, – сказал он про себя, увидев на расстоянии пяти домов сад на улице Прованс, – мое дело в шляпе!..»
– Милости просим, Обмани-Смерть! – сказал ему Контансон, выходя из-за трубы дымохода. – Тебе придется теперь объяснить господину Камюзо, какую мессу ты, господин аббат, выходишь петь на крыши, а главное, по какой причине ты бежал…
– У меня враги в Испании, – сказал Карлос Эррера.
– Поедем-ка в Испанию через твою мансарду, – сказал ему Контансон.
Лжеиспанец сделал вид, что подчиняется, но, нагнувшись было над подоконником слухового окна, он вдруг схватил Контансона и швырнул его вниз с такой силой, что шпион свалился мертвым в сточную канаву улицы Сен-Жорж. Контансон умер на своем «поле чести». Жак Коллен спокойно вернулся в мансарду и лег в постель.
– Дай мне такое снадобье, от которого я слег бы со всеми признаками тяжкой болезни, но без риска для жизни, – сказал он Азии. – Мне нужно быть при смерти, чтобы не отвечать на вопросы любопытных. Не бойся ничего, я священник и останусь священником. Я только что избавился, и очень просто, от одного из тех, кто может меня изобличить.
Накануне, в семь часов вечера, Люсьен выехал в своем кабриолете на почтовых с подорожной, взятой утром, до Фонтенебло, где он переночевал на постоялом дворе, на окраине городка со стороны Немура. Утром, часов около шести, он отправился в путь и в одиночестве прошел лесом до Бурона.
«Вот то роковое место, – сказал он про себя, сидя на одном из утесов, откуда открывался живописный вид на Бурон, – где Наполеон сделал последнее титаническое усилие над собой накануне своего отречения».
Взошло уже солнце, когда он услыхал стук почтовой кареты и увидел проезжавшую бричку, в которой сидели слуги молодой герцогини де Ленонкур-Шолье и горничная Клотильды де Гранлье.
«Вот и они, – сказал себе Люсьен. – Сыграем хорошенько эту комедию, и я спасен: я буду зятем герцога вопреки его воле».
Часом позже мягкий, легко опознаваемый шум изящного дорожного экипажа оповестил о приближении берлины, в которой сидели две женщины. Дамы просили затормозить при спуске к Бурону, и лакей, сидевший на запятках, приказал остановить карету. В эту минуту Люсьен вышел на дорогу.
– Клотильда! – крикнул он, постучав в окно кареты.
– Нет, – сказала молодая герцогиня своей подруге, – он не сядет в карету, и мы не окажемся с ним наедине, дорогая. Поговорите в последний раз, я согласна: но только не в карете, мы пройдемся пешком в сопровождении Баптиста… Погода прекрасная, мы тепло одеты, нам не страшен холод. Карета поедет за нами…
И обе женщины вышли из экипажа.
– Баптист, – сказала молодая герцогиня, – карета поедет потихоньку, мы хотим прогуляться, и вы нас проводите.
Мадлена де Морсоф взяла Клотильду под руку, предоставив Люсьену говорить с девушкой. Так они дошли до деревушки Гре. Было уже восемь часов, и там Клотильда простилась с Люсьеном.
– Так вот, мой друг, – с достоинством сказала она, кончая долгий разговор, – я выйду замуж только за вас. Я предпочитаю верить вам, нежели слушать людей, отца, мать… Никто на свете не давал столь сильных доказательств привязанности, не правда ли?.. Теперь постарайтесь рассеять роковое предубеждение, сложившееся против вас…
В это время послышался конский топот, и их окружили жандармы, в великому удивлению обеих дам.
– Что вам угодно? – сказал Люсьен с высокомерием денди.
– Вы господин Люсьен Шардон де Рюбампре? – спросил его королевский прокурор из Фонтенебло.
– Да, сударь.
– Вы отправитесь ночевать сегодня в Форс, – отвечал он. – У меня есть приказ арестовать вас для предания суду.
– Кто эти дамы?.. – крикнул жандармский офицер.
– Ах, да! Простите, сударыня, ваши паспорта? Господин Люсьен, по сведениям, полученным мною, состоит в тесной связи с женщинами, которые способны на…
– Вы принимаете герцогиню де Ленонкур-Шолье за уличную девку? – сказала Мадлена, кинув на королевского прокурора взгляд, поистине достойный герцогини.
– Вы достаточны хороши для этого, – тонко заметили судейский.
– Баптист, покажите наши паспорта, – приказала молодая герцогиня, улыбнувшись.
– В каком преступлении обвиняется этот господин? – спросила Клотильда, которую герцогиня хотела усадить в карету.
– Соучастие в краже и убийстве, – отвечал жандармский офицер.
Баптист внес в карету мадемуазель Клотильду, потерявшую сознание.
В полночь Люсьен входил в Форс – тюрьму, обращенную одной стороной на улицу Пайен и другой – на улицу Бале; его поместили в одиночной камере. Карлос Эррера находился тут с момента своего ареста.
ЧАСТЬ III. Куда приводят дурные пути
На другой день, в шесть часов утра, две кареты, называемые в народе на образном его языке корзинами для салата, выехали рысью из ворот тюрьмы Форс и покатились по дороге к Дворцу правосудия в Консьержери.
Редко кто из праздношатающихся не встречал эту походную тюрьму, и, хотя большая часть книг пишется только для парижан, чужестранцы, несомненно, будут рады прочесть здесь описание этой страшной колымаги для перевозки наших уголовных преступников. Кто знает, быть может, полиция русская, немецкая либо австрийская, судебные учреждения стран, не знакомых с «корзинами для салата», позаимствуют ее у нас; и во многих чужих краях подражание этому способу передвижения будет, конечно, благодеянием для узников!
Эта омерзительная повозка о двух колесах, с желтым кузовом, окованным железом, состоит из двух отделений. В переднем стоит обитая кожей скамейка, с кожаным фартуком. Эта открытая часть «корзины для салата» предназначается судебному приставу и жандарму. Крепкая железная решетка отделяет во всю ширину и высоту повозки этот своеобразный кабриолет от второго отделения, где находятся две деревянные скамьи, поставленные, как в омнибусах, по обе стороны кузова, – на них садятся заключенные, взобравшись туда по подножке, через глухую дверцу в задней части кузова. Прозвище «корзина для салата» произошло от того, что первоначально это была открытая повозка, огороженная решеткой, поверх которой торчали, покачиваясь от тряски, как салат в корзине, головы узников. Для большей безопасности карету сопровождает конный жандарм, в особенности в тех случаях, когда она везет приговоренных к смерти на место казни. Стало быть, побег невозможен. Окованная железом повозка не поддается никакому инструменту. Узник, которого тщательно обыскивают во время ареста или в момент заключения под стражу, может, самое большее, сохранить при себе пружинку от часов, годную для того, чтобы распилить решетку, но беспомощную перед гладкой поверхностью. Поэтому «корзина для салата», усовершенствованная талантами парижской полиции, послужила в конце концов образцом и для арестантской кареты, в которой теперь перевозят каторжников и которая заменила собою ужасную тележку, являвшуюся позором предшествующих цивилизаций, хотя Манон Леско ее и прославила.
«Корзина для салата» имеет несколько назначений. Сперва в ней перевозят подследственных из разных тюрем столицы во Дворец правосудия для допроса судебным следователем. На тюремном наречии это называется ехать на обучение. Потом привозят подсудимых из тех же тюрем во Дворец правосудия, чтобы осудить их, если вопрос стоит только об исправительной тюрьме; затем, когда речь заходит, на языке судейского сословия, о важном преступлении, из арестных домов их перевозят в Консьержери, тюрьму департамента Сены. Наконец осужденных на смерть везут в «корзине для салата» из Бисетра к заставе Сен-Жак, месту казней со времени Июльской революции. Благодаря человеколюбию эти несчастные не подвергаются более пытке прежнего пути от Консьержери до Гревской площади, совершавшегося в тележке, точь-в-точь похожей на ту, которой пользуются торговцы дровами. Теперь ее употребляют только для перевозки эшафота. Без этого объяснения не были бы понятны слова одного знаменитого осужденного, с которыми он обратился к своему сообщнику, когда они входили в «корзину для салата»: «Теперь дело только за лошадьми!» Нигде не едут на смертную казнь с большими удобствами, чем в нынешнем Париже.
Упомянутые «корзины для салата», выехавшие в столь ранний час, послужили единственно для отправки двух обвиняемых из арестного дома Форс в Консьержери, причем каждый из обвиняемых занимал отдельную «корзину».
Девять десятых читателей этой части романа не знают, конечно, о существенном различии между словами: привлеченный по делу, подследственный, обвиняемый, заключенный, арестный дом, дом предварительного заключения или тюрьма; поэтому все они будут, верно, удивлены, узнав, что речь идет о нашем уголовном праве в целом, разъяснение которого, сжатое и четкое, будет дано тут же как ради того, чтобы ознакомить с ним, так и ради внесения ясности в развязку нашей истории. Притом, когда станет ясно, что в первой «корзине для салата» находился Жак Коллен, а во второй Люсьен, который в течение нескольких часов опустился с высот общественного положения до тюрьмы, любопытство читателя будет уже достаточно возбуждено. Поведение обоих сообщников соответствовало их характеру. Люсьен де Рюбампре прятался, избегая взглядов прохожих, привлекаемых решеткой этой зловещей и роковой повозки по пути ее следования к набережным через улицу Сен-Антуан, улицу Мартруа и аркаду Сен-Жак, под которой тогда проезжали, чтобы пересечь площадь Ратуши, – теперь эта аркада служит входом в помещение префекта департамента Сены, находящееся в обширном дворцовом здании муниципалитета. А бесстрашный каторжник, прижавшись лицом к решетке, глядел на улицу, сидя позади пристава и жандарма, которые вели мирную беседу, не беспокоясь о своей «корзине для салата».
Грозная буря июльских дней 1830 года настолько заглушила своими громовыми раскатами предшествовавшие события, политические интересы за последние шесть месяцев этого года настолько поглотили внимание Франции, что как бы ни были удивительны все эти личные, судебные, финансовые катастрофы, которые составляли годовой рацион парижского любопытства и в которых не было недостатка первые шесть месяцев года, ныне их либо вовсе не помнят, либо едва припоминают. Поэтому необходимо отметить, что пусть на короткое время, но Париж был сильно взбудоражен известием об аресте испанского священника, найденного у куртизанки, и изящного Люсьена де Рюбампре, жениха мадемуазель де Гранлье, захваченного по дороге в Италию, близ деревушки Гре, по обвинению в убийстве с целью завладеть состоянием почти в семь миллионов; скандал, вызванный этим процессом, ослабил на несколько дней живейший интерес к последним выборам при Карле Х.
Прежде всего этот уголовный процесс в некоторой степени затрагивал одного из богатейших банкиров, барона Нусингена. Что до Люсьена, то он принадлежал в высшему парижскому обществу и готовился вступить в должность личного секретаря премьер-министра. В парижских гостиных не один молодой человек вспомнил, как он завидовал Люсьену, когда тот снискал расположение прекрасной герцогини де Монфриньез, а женщины не могли забыть, что тогда же им интересовалась и госпожа де Серизи, жена виднейшего государственного деятеля. Наконец, красота самой жертвы пользовалась широкой известностью в различных кругах парижского общества: в большом свете, в мире финансистов, в мире куртизанок, в кругу молодых людей и среди литераторов. Итак, целых два дня весь Париж говорил об этих двух арестах. Судебный следователь, которому было поручено дела, г-н Камюзо, усмотрел в нем предлог для продвижения по службе и, желая вести следствие со всей возможной скоростью, приказал доставить обоих обвиняемых из Форс в Консьержери, как только Люсьен де Рюбампре прибудет из Фонтенебло. Аббат Карлос и Люсьен провели в тюрьме Форс – первый двенадцать часов, второй всего лишь половину ночи, поэтому нет причины описывать эту тюрьму, с той поры совершенно перестроенную; что касается самого прибытия к месту заключения, это было бы повторением того, что должно произойти в Консьержери.
Но прежде чем углубиться в страшную драму уголовного следствия, необходимо, как было сказано, описать обычный ход судебного дела такого рода: и ради того, чтобы различные стадии были лучше поняты и во Франции и за границей; и ради того, чтобы все, кто не знаком с законами, оценили стройность уголовного права в том виде, в каком оно было изложено законодательством при Наполеоне. Последнее тем более важно, что этому большому и прекрасному труду в настоящее время угрожает уничтожением так называемая исправительная система.
Совершено преступление; если преступники пойманы с поличным, их отправляют в ближайшую караульню и сажают в одиночную камеру, прозванную в народе скрипкой, потому, конечно, что там занимаются музыкой – кричат или плачут. Оттуда задержанных направляют к полицейскому приставу, который опрашивает их и может освободить, если произошла ошибка; наконец, их перевозят в арестный дом при префектуре, где полиция держит их в распоряжении королевского прокурора и судебного следователя, которых в зависимости от характера преступления, более или менее быстро оповещают, и они являются туда для допроса лиц, состоящих под предварительным арестом. Смотря по тому, каково предположительное обвинение, судебный следователь подписывает приказ об аресте и отдает распоряжение заключить задержанных под стражу. В Париже три арестных дома: Сент-Пелажи, Форм и Мадлонет.
Запомните это выражение: привлеченный по делу. Наш кодекс установил три основные стадии уголовного судопроизводства: привлечение по делу, пребывание под следствием, предание суду. Покуда приказ об аресте не подписан, предполагаемые виновники преступления либо тяжкого правонарушения являются привлеченными по делу; в силу постановления об аресте они становятся подследственными и считаются таковыми, пока идет следствие. Но вот следствие закончено, вынесено решение направить дело в суд, и тогда, если Королевский суд, по заключению генерального прокурора решает, что в деле имеются достаточные признаки преступления, чтобы передать его в суд присяжных, – подследственные переходят в положение подсудимых. Таким образом, лица, заподозренные в преступлении, проходят через три различные стадии судопроизводства, просеиваются через три решета, прежде чем предстать перед так называемым местным судом. В первой стадии люди невиновные располагают множеством средств оправдания, при помощи общества, городской стражи, полиции. Во второй стадии она оказываются лицом к лицу с судьей, на очной ставке со свидетелями обвинения, в палате парижского суда или в судах первой инстанции департаментов. В третьей – они предстают перед двенадцатью советниками, и постановление о пересмотре дела судом присяжных, в случае ошибки либо нарушения устава судопроизводства, может быть обжаловано в кассационном суде. Присяжные заседатели не знают, какую пощечину они наносят народным властям, административными и судебным, когда оправдывают обвиняемых. Поэтому, как нам кажется, в Париже (мы не говорим о других округах) очень редко случается, чтобы невиновный сел на скамью суда присяжных.
Заключенный – значит осужденный. Наше уголовное право создало арестные дома, дома предварительного заключения и тюрьмы; все это понятия юридические, соответствующие понятиям: подследственный, обвиняемый, осужденный. Тюрьма предполагает легкую кару, наказание за незначительные правонарушения; но заключение является тяжелой карой, а в иных случаях и позором. Таким образом, нынешние сторонники исправительной системы, отвергая замечательное уголовное право, в котором различные степени наказания были превосходно соблюдены, дойдут до того, что за легкие погрешности будут наказывать столь же сурово, как за тягчайшие преступления. Впрочем, в Сценах политической жизни (см. Темное дело) показано, какие любопытные различия существовали между уголовным правом по кодексу брюмера IV года и заменившим его уголовным правом Наполеоновского кодекса.
В большинстве крупных процессов, как и в настоящем, привлеченные по делу сразу становятся подследственными. Судебные власти тотчас отдают распоряжения взять их под стражу или заключить в тюрьму. И действительно, в большинстве случае привлекаемые по делу, если их не задерживают на месте, скрываются. Поэтому-то, как мы видели, и полиция, которая представляет собою в таких случаях лишь исполнительный орган, и судебные власти с молниеносной быстротой прибыли в дом Эстер. Если бы даже Корантен своими нашептываниями и не подстрекнул к мести уголовную полицию, все равно там уже имелось заявление барона Нусингена о краже семисот пятидесяти тысяч франков.
Когда первая карета, в которой находился Жак Коллен, въехала под аркаду Сен-Жан, в узкий и темный проезд, возница вынужден был задержаться по причине образовавшегося затора. Глаза подсудимого сверкали за решеткой, как два карбункула, несмотря на мертвенную бледность его лица, которая заставила накануне начальника Форс поверить в необходимость врачебной помощи. В минуты, когда ни жандарм, ни пристав не оборачивались, чтобы взглянуть на своего клиента, его пылающие глаза говорили столь ясным языком, что опытный судебный следователь, – скажем, г-н Попино, – сразу признал бы в этом нечестивце каторжника. В самом деле, Жак Коллен, как только «корзина для салата» выехала из ворот Форс, принялся изучать все, что встречалось на его пути. Несмотря на быструю езду, он обшаривал жадным и внимательным взглядом все здания, от верхних до нижних этажей. Он не пропустил ни одного прохожего, он исследовал каждого встречного. Сам господь бог не мог бы так охватить взглядом свои творения в их возможностях и пределах, как улавливал этот человек малейшие оттенки в непрестанной смене вещей и людей. Вооруженный надеждой, как последний из Горациев мечом, он ожидал помощи. Всякий другой, но не этот Макиавелли каторги, счел бы свою надежду несбыточной и невольно впал бы в уныние подобно всем виновным. Никто из них не помышляет о сопротивлении в тех условиях, которые правосудие и парижская полиция создают для подследственных и в особенности для помещаемых в одиночные камеры, как это было с Люсьеном и Жаком Колленом. Нельзя и представить себе всей полноты внезапного разобщения подследственного с внешним миром: жандарм, арестовавший его, полицейский пристав, снимавший дознание, те, что, взяв его под руки, помогают подняться в «корзину для салата», те, что везут его в тюрьму, стража, что заключает его в темницу, поистине отвечающую своему названию, – все существа, которые с момента ареста окружают его, немы и ведут учет каждому его слову, чтобы затем пересказать полиции или следователю. Это глубочайшее одиночество, столь просто достигаемое, является причиной полного расстройства способностей человека, крайне подавленного состояния его духа, особенно если в прошлом он не подвергался преследованию со стороны правосудия. Поэтому поединок между преступником и следователем тем более ужасен, что правосудие располагает такими помощниками, как безмолвие стен и непоколебимое бесстрастие ее чиновников.
Однако Жак Коллен, или Карлос Эррера (приходится, в зависимости от условий, называть его тем либо другим именем), знал издавна приемы полиции, тюремщиков и правосудия. Вот почему этот титан хитроумия и развращенности призвал на помощь всю силу своего ума и своего мимического таланта, чтобы получше изобразить недоумение, оторопь человека невиновного, разыгрывая попутно перед судейскими чиновниками комедию агонии. Как мы видели, Азия, эта искусная Локуста, преподнесла ему яду в такой дозе, чтобы создалось впечатление смертельного недуга. Таким образом, действия г-на Камюзо и полицейского пристава, стремление королевского прокурора ускорить допрос были пресечены картиной внезапного паралича.
– Он отравился! – вскричал г-н Камюзо, пораженный мучениями мнимого священника, которого в жестоких конвульсиях вынесли из мансарды.
Четыре агента с большим трудом препроводили аббата Карлоса в спальню Эстер, где собрались все судебные власти и жандармы.
– Он не мог умнее поступить, если виновен, – сказал королевский прокурор.
– А вы уверены, что он болен? – спросил полицейский пристав.
Полиция вечно сомневается во всем. Три чиновника, разумеется, говорили между собой шепотом, но Жак Коллен угадал по выражению их лиц, о чем они беседовали, и воспользовался их нерешительностью, чтобы доказать невозможность или совершенную бесполезность предварительного допроса, который обычно снимают в момент ареста; он пробормотал несколько фраз, в которых испанские и французские слова сочетались таким образом, что получалась бессмыслица.
В Форс эта комедия сперва имела успех, тем более что начальник сыска (сокращенное: сыскная полиция) Биби-Люпен, некогда арестовавший Жака Коллена в пансионе г-жи Воке, был послан с поручениями в провинцию, и его замещал агент, намеченный в преемники Биби-Люпену и вовсе не знавший каторжника.
Биби-Люпен, бывший каторжник, собрат Жака Коллена по каторге, был его личным врагом. Причина этой неприязни крылась в том, что Жак Коллен одерживал верх во всех ссорах, а также и в неоспоримом превосходстве Обмани-Смерть над товарищами. Наконец, Жак Коллен в продолжение десяти лет был провидением каторжников, отбывавших срок, их парижским вожаком и советчиком, их казначеем и, стало быть, противником Биби-Люпена.
Итак, хотя и посаженный в одиночную камеру, он рассчитывал на сообразительность и беззаветную преданность Азии – своей правой руки, а быть может, и на Паккара – свою левую руку; он надеялся видеть его опять в своем распоряжении, как только этот рачительный помощник спрячет украденные семьсот тысяч франков. Такова была причина того напряженного внимания, с которым он наблюдал за улицей. Как ни удивительно, надежда эта скоро полностью осуществилась.
На массивных стенах аркады Сен-Жан до шести футов в вышину лежал вековой покров грязи, образовавшейся от брызг из сточной канавы. Прохожим, чтобы защитить себя в этом сплошном потоке экипажей и уберечься от «пинков» тележек, как тогда говорили, оставалось только спасаться за каменными тумбами, которые давно уже были пробиты задевавшими их ступицами колес. Нередко тележка зеленщика давила тут рассеянных людей. Такую картину долгое время можно было наблюдать во многих кварталах Парижа. Эта подробность поможет уяснить, насколько узка была аркада Сен-Жан и как легко было забить этот проезд. Стоило фиакру въехать туда с Гревской площади в то время, как с улицы Мартруа торговка-зеленщица вкатывала туда же свою ручную тележку, нагруженную яблоками, как третий экипаж уже вызывал затор. Испуганные прохожие шарахались во все стороны, ища за тумбами спасения от старинных ступиц такой непомерной длины, что понадобилось выпустить закон, предписывающий укоротить их. Когда «корзина для салата» въехала под аркаду, дорога была преграждена какой-то зеленщицей, – эта разновидность торговок тем более любопытна, что образцы ее и поныне существуют в Париже, несмотря на возрастающее число фруктовых лавок. Эта была подлинная уличная торговка, и полицейский, если бы подобная должность тогда существовала, дозволил бы ей разъезжать, не требуя предъявления пропускного свидетельства, вопреки ее зловещему виду, наводившему на мысль о преступлении. Ее всклокоченная голова была прикрыта какой-то клетчатой рванью, из-под которой торчали жесткие волосы, напоминавшие щетину кабана. Красная и сморщенная шея вызывала омерзение, из-под косынки виднелась кожа, выдубленная солнцем, пылью и грязью. Платье напоминало лоскутное одеяло. Дырявые башмаки, казалось, лопнули от смеха, потешаясь над этой физиономией, истрепанной, как и платье. А заплата на животе!.. Пластыть казался бы чище! За десять шагов это ходячее зловонное отребье должно было уже оскорблять обоняние чувствительных людей. А руки, черные от грязи! Эта женщина возвращалась с немецкого шабаша или вышла из ночлежки! Но что за глаза! Какой смелый, живой ум засветился в них, когда магнетический луч ее взгляда встретился со взглядом Жака Коллена, обменявшись с ним затаенной мыслью!
– Уберешься ты наконец с дороги, старая песочница! – крикнул возница хриплым голосом.
– Неужто раздавишь меня, поставщик гильотины? – отвечала она. – Твой товар дешевле моего!
И, пытаясь втиснуться между двух тумб, чтобы освободить проезд, торговка загородила путь как раз на то время, которое требовалось для выполнения ее замысла.
«Эге, Азия! – сказал про себя Жак Коллен, сразу узнавший свою сообщницу. – Значит, дело на мази».
Возница по-прежнему обменивался любезностями с Азией, и экипажи скоплялись в улице Мартруа.
– Ahe!.. pecaire fermati Souni la! Vedrem!.. – выкрикнула старая Азия с интонациями иллинойцев, свойственными уличным торговкам, которые так искусно искажают слова, что они становятся звукоподражанием, понятным только парижанам. В уличном шуме и криках столпившихся возниц никто не мог обратить внимания на этот дикий возглас, так похожий на выкрикивания торговок. Но ухо Жака Коллена различило среди шума эту страшную фразу на причудливом условном языке из смеси испорченного итальянского и провансальского: – Твой бедный мальчуган взят; но я тут, я позабочусь о вас. Ты еще увидишь меня…
В ту самую минуту, когда он торжествовал победу над Правосудием, окрыляясь надеждой установить связь с внешним миром, на него обрушился удар, который мог убить его, не будь он Жаком Колленом.
«Люсьен арестован..! – сказал он про себя. И едва не лишился чувств. Это известие казалось ему страшнее отказа в помиловании, будь он приговорен к смерти.
Теперь, когда обе «корзины для салата» катятся по набережным, следует в интересах этой истории сказать несколько слов о Консьержери, покуда они на пути к ней. Консьержери – историческое название, ужасное слово и еще более ужасная реальность – неотделима от французских революций, и парижских в особенности. Она видела большинство крупных преступников. Если это наиболее интересный из всех парижских памятников, все же он наименее известен людям, принадлежащим к высшим классам общества; однако, несмотря на огромный интерес этого исторического отступления, оно отнимет не больше времени, чем путешествие «корзин для салата».
Какой парижанин, иностранец или провинциал, проведи он хотя бы два дня в Париже, не заметит черных крепостных стен с тремя мощными сторожевыми башнями, – причем две из них почти прижаты одна к другой, – этого мрачного и таинственного украшения набережной, носящей название Люнет? Набережная начинается от моста Шанж и тянется до Нового моста. Квадратная башня, так называемая Часовая, с которой был дан сигнал к Варфоломеевской ночи, почти такая же высокая, как башня Сен-Жак-де-ла-Бушри, служит приметой Дворца правосудия и образует угол набережной. Эти четыре башни, эти стены прикрыты черноватым саваном, в который облекаются в Париже все фасады домов, обращенные к северу. Посредине набережной, у пустынной аркады, начинаются жилые дома, естественным образом возникшие с появлением Нового моста при Генрихе IV. Королевская площадь была точным воспроизведением площади Дофина. Та же архитектура окружающих ее зданий, те же кирпичные стены в раме из тесаного камня. Эта аркада и улица Арле обозначают границу Дворца правосудия с запада. Прежде префектура полиции и помещение первых председателей суда находились в этом же здании… Казенная палата и палата пособий, помещавшиеся там, как бы дополняли высшее правосудие, правосудие монарха. Таким образом, до Революции Дворец правосудия пользовался тем же уединением, какое ныне желают воссоздать.
Этот четырехугольник, этот остров зданий и памятников, где находится Сент-Шапель, самая великолепная драгоценность в сокровищнице Людовика Святого, – святилище Парижа, его святая святых, ковчег завета. А когда-то на этом пространстве умещался весь город, ибо на месте площади Дофина некогда находился Монетный двор. Отсюда название Монетной улицы, что ведет к Новому мосту. Отсюда же и название одной из трех круглых башен, а именно второй, именуемой Серебряной башней, как бы доказывающее, что там первоначально чеканили монеты. Знаменитый Монетный двор, указанный в планах старого Парижа, по-видимому, появился позже того времени, когда занимались чеканкой монет в самом Дворце правосудия, и своим возникновением обязан, безусловно, усовершенствованию этого искусства. Первая башня, почти прикасающаяся к Серебряной, называется башней Монтгомери. Третья, самая малая, но лучше всего сохранившаяся, ибо у нее уцелели зубцы, носит название башни Бонбек. Сент-Шапель и эти четыре башни (считая Часовую) превосходно намечают ограду Дворца правосудия, – его периметр, сказал бы чиновник налогового управления, – со времен Меровингов до старшего рода Валуа; но для нас, наперекор всяким перестройкам, этот дворец олицетворяет именно эпоху Людовика Святого.
Карл V передал дворец Судебной палате, институту правосудия, недавно созданному, и первый перешел под защиту Бастилии, в знаменитый дворец Сен-Поль, к которому позже встал спиной дворец Турнель. Потом, при последних Валуа, короли из Бастилии возвратились в Лувр, свою первую крепость. Первое жилище французских королей, дворец Людовика Святого, называвшийся просто Дворцом, чтобы обозначить собственно дворец, весь целиком скрылся под Дворцом правосудия; он образует ныне его подвалы, ибо был выстроен у самой Сены, как и Сент-Шапель, и выстроен столь основательно, что наиболее высокая вода едва покрывала его первые ступени. Под Часовой набережной погребены, приблизительно на глубине двадцати футов, эти постройки десятивековой давности. Экипажи проезжают на уровне капителей, венчающих мощные колонны трех башен, высота которых некогда находилась, видимо, в согласии с изяществом дворца и его живописным отражением в воде, ибо и поныне эти башни еще соперничают с самыми высокими парижскими зданиями. Если смотреть на широко раскинувшуюся столицу из башенки в куполе Пантеона, Дворец правосудия и Сент-Шапель кажутся и теперь наиболее величественными из стольких величественных зданий. Этот дворец наших королей, над которым вы проходите, когда пересекаете огромную залу Потерянных шагов, был чудом архитектуры; таким он и остается для внимательных глаз поэта, который приходит изучать его, осматривая Консьержери. Увы! Консьержери заполонила дворец королей. Сердце обливается кровью, когда видишь темницы, камеры, коридоры, кабинеты, залы без света и воздуха, насильственно внесенные в эту великолепную архитектурную композицию, где византийское, романское и готическое искусство – три лика старого искусства – были объединены зодчеством ХII века. Этот дворец, как исторический памятник Франции ранних времен, – то же, что замок Блуа, как исторический памятник времен позднейших. Точно так же, как во дворе Блуа (см. Философские повести, Очерк из истории Екатерины Медичи) вы можете одновременно любоваться замком графов Блуа, замком Людовика XII, Франциска I, Гастона, так и в Консьержери вы найдете в той же ограде памятники времен Меровинга, а в Сент-Шапель – архитектуру эпохи Людовика Святого. Члены муниципального совета! Если, затрачивая миллионы, вы желаете спасти колыбель Парижа, колыбель королей, подарив Парижу и верховному суду дворец, достойный Франции, изберите наряду с архитекторами одного или двух поэтов! Этот вопрос требует длительного изучения, прежде нежели начать какую-нибудь перестройку. Стоит соорудить одну-две тюрьмы, вроде Рокет, и дворец Людовика Святого спасен. Ныне страшные язвы обезобразили этот гигантский памятник, погребенный под Дворцом правосудия и набережной точно какое-то допотопное животное в известковых пластах Монмартра; но самая глубокая из них – это Консьержери! Слово говорит за себя! В первые времена монархии высокопоставленные преступники (смерды – надобно придерживаться этимологии, ибо это слово означало: крепостные крестьяне – и мещане подлежали городским либо сеньориальным судам), владельцы больших или малых ленов, препровождались к королю и содержались в Консьержери. Но так как высокопоставленные преступники попадались редко, Консьержери вполне удовлетворяла правосудие короля. Трудно точно определить первоначальное местонахождение Консьержери. Однако ж, поскольку кухни Людовика Святого существуют и поныне и составляют то, что именуется Мышеловкой, можно предполагать, что первоначально Консьержери занимала ту часть здания, где находилась до 1825 года привратницкая судебной палаты, под аркадой, справа от главной наружной лестницы, ведущей в королевский двор. Отсюда до 1825 года выводили приговоренных, чтобы везти их на казнь. Отсюда выходили все крупные уголовные преступники, все жертвы политики: жена маршала д'Анкр и королева Франции, Самблансе и Мальзерб, Дамьени Дантон, Дерю и Кастен. Кабинет Фукье-Тенвиля, тот же, что и нынешнего королевского прокурора, был расположен таким образом, что судья мог видеть, как проезжали в тележках люди, только что осужденные революционным трибуналом. Этот человек, уподобившийся мечу, мог таким образом, кинуть последний взгляд на свою жертву.
С 1825 года, при министерстве де Пейронне, произошла важная перемена во Дворце. Старая калитка Консьержери, за которой совершалась церемония заключения под стражу и переодевания узника, была перенесена туда, где находится и поныне, – между Часовой башней и башней Монтгомери, во внутреннем дворе, за аркадой. Слева помещается Мышеловка, справа – калитка. «Корзины для салата» въезжают в этот двор, довольно нелепый по своему расположению, останавливаются там, могут свободно развернуться, а в случае бунта – задержаться под защитой крепкой решетки аркады; в былое время у них не было ни малейшей возможности повернуться в узком пространстве, отделяющем наружную лестницу от правого крыла Дворца. В наши дни Консьержери едва вмещает обвиняемых (требуется триста мест для мужчин и женщин) и потому туда не принимают больше ни подследственных, ни взятых под стражу, разве лишь в редких случаях, вроде того, который заставил привезти туда Жака Коллена и Люсьена. Все находящиеся там заключенные должны предстать перед судом присяжных. В виде исключения судебное ведомство допускает туда преступников из высшего общества, которые уже достаточно опозорены приговором суда присяжных и понесли бы чрезмерное наказание, отбывая его в Мелене или Пуасси. Уврар предпочел отсиживать свой срок в Консьержери, а не в Сент-Пелажи. В настоящее время, в силу послабления, самовольного, но полного человечности, там отбывают наказание нотариус Леон и князь де Берг.
Обычно подследственные, отправляясь, как говорят в тюрьме, на обучение либо в исправительную полицию, высаживаются из «корзины для салата» прямо в мышеловку. Мышеловка, которая находится напротив калитки, состоит из нескольких камер, устроенных в бывших кухнях Людовика Святого; там подследственные ожидают часа судебного заседания или прихода их судебного следователя. Мышеловка ограничена с севера набережной, с востока – караульней муниципальной гвардии, с запада – двором Консьержери, а с юга – огромной сводчатой залой (очевидно, пиршественной залой в прошлом), еще не имеющей назначения. Над Мышеловкой тянется внутренняя караульня, выходящая окном во двор Консьержери; она занята жандармерией департамента, и там кончается лестница. Когда звонок возвещает начало судебного заседания, приходят судебные приставы для вызова подследственных; тогда же спускаются вниз жандармы в количестве, равном количеству подследственных, и каждый жандарм выводит своего подследственного под руку; так же попарно они снова поднимаются по лестнице, проходят через караульню в коридор и оказываются в помещении, смежном с залой, где заседает знаменитая седьмая судебная палата, на которую возложили и слушание дел исправительной полиции. Этим же путем идут из Консьержери обвиняемые на судебное заседание и обратно.
В зале Потерянных шагов, между дверью первой судебной камеры – первой судебной инстанции – и ступенями лестницы, ведущей в шестую, сразу заметишь, очутившись там в первый раз, открытый вход, без какого-либо архитектурного украшения, квадратную, поистине омерзительную дыру. Через нее судьи и адвокаты попадают в коридоры, в караульню, спускаются в Мышеловку и к калитке Консьержери. Все кабинеты судебных следователей расположены в разных этажах этой части Дворца. Туда добираются по ужасающим лестницам, настоящему лабиринту, где почти всегда плутают люди, незнакомые с этим зданием. Окна кабинетов выходят частью на набережную, частью во двор Консьержери. В 1830 году кабинеты некоторых судебных следователей окнами выходили на улицу Барильери.
Таким образом, когда «корзина для салата», въехав во двор Консьержери, сворачивает налево, она привозит подследственного в Мышеловку, когда поворачивает направо, – она доставляет обвиняемых в Консьержери. В эту именно сторону повернула «корзина для салата» с Жаком Колленом, чтобы высадить его у калитки. Нет ничего страшнее этой калитки. Преступники или посетители видят две решетки кованого железа, разделенные пространством приблизительно в шесть футов и всегда открывающиеся поочередно; именно тут ведется такое неусыпное наблюдение, что лица, получившие пропуск на свидание, должны просунуть его через решетку, прежде чем услышат лязг ключа, открывающего замок. Сами судебные следователи и чины прокурорского надзора должны быть опознаны, прежде чем войти туда. Попробуйте заговорить о возможности сношений с внешним миром или бегства арестованных! У начальника Консьержери промелькнет улыбка, которая охладит пыл самого отважного из сочинителей романов в его попытках выдать за правду неправдоподобное. В летописях Консьержери известно только бегство Лавалета, но уверенность в высочайшем попустительстве, ныне доказанном, уменьшила если не степень самопожертвования его супруги, то по крайней мере опасность неудачи. Даже люди, наиболее склонные верить в чудеса, если они на месте будут судить о природе препятствий, признают, что во все времена эти препятствия как были, так и поныне остались неодолимыми. Никакими словами не изобразить мощности стен и сводов, надобно их видеть. Хотя мостовая двора ниже уровня набережной, все же, когда вы переступаете через калитку, вам приходится, спускаясь, пересчитать еще много ступенек, чтобы попасть в огромную сводчатую залу, массивные стены которой украшены великолепными колоннами; зала эта расположена между башней Монтгомери, представляющей ныне часть квартиры начальника Консьержери, и Серебряной, которая служит общей спальней надзирателей и тюремщиков, или, если вам угодно, ключников. Число этих служащих не столь значительно, как можно было бы вообразить (их двадцать); общая спальня, как и ее обстановка, ничем не отличается от так называемой пистоли. Прозвище это идет, несомненно, от тех времен, когда заключенные платили пистоль в неделю за помещение, напоминавшее своей наготою холодные парижские мансарды, в которых начинали свою деятельность великие люди. С левой стороны этой обширной залы помещается канцелярия Консьержери – подобие конторы, образуемой застекленной перегородкой, за которой сидят начальник тюрьмы и его письмоводитель и где находятся тюремные книги. Тут подследственого и обвиняемого вносят в списки, записывают их приметы и обыскивают; тут обсуждается вопрос о помещении, и решает его кошелек клиента. Сквозь решетчатую калитку в зале видна застекленная дверь, ведущая в приемную, где родственники и адвокаты общаются с обвиняемым через окошечко с двойной деревянной решеткой. Свет в приемную проникает со стороны внутреннего двора, куда заключенных в определенные часы выводят на прогулку.
Эта большая зала, тускло освещенная двумя окошечками в дверях, ибо единственное большое окно, выходящее в первый двор, целиком принадлежит канцелярии и заслонено перегородками, являет взору обстановку и освещение, совершенно соответствующие картине, которую предвосхищает воображение. Это тем страшнее, что наряду с Серебряной башней и Монтгомери вы видите эти, погруженные во мрак, таинственные, внушающие ужас сводчатые склепы, охватывающие кольцом приемную, а также ведущие в одиночную камеру королевы, мадам Елизавет и в камеры, называемые секретными. Этот каменный лабиринт стал подземельем Дворца правосудия, а он видывал королевские празднества! С 1825 по 1832 год в этой огромной зале, между широкой печью и первой из двух решеток, производился обряд туалета приговоренного к смерти. Еще и сейчас нельзя пройти без содрогания по этим плитам, на которые упало столько последних взглядов, таивших в себе последнее признание.
Чтобы выйти из своей ужасной повозки, умирающему понадобилась помощь двух жандармов, которые подхватили его под руки и, поддерживая, словно человека, теряющего сознание, повели в канцелярию. Пока его влекли таким образом, он возводил очи к небу, изображая снятого с креста Спасителя. Конечно, ни на одной картине у Иисуса вы не встретите столь мертвенного, столь искаженного лица, каким оно было у лжеиспанца, – казалось, вот-вот он испустит свой последний вздох. Когда его в канцелярии усадили на стул, он повторил слабым голосом слова, с которыми обращался ко всем после ареста: «Я требую запросить его сиятельство испанского посла…»
– Вы это скажете судебному следователю, сударь, – отвечал начальник тюрьмы.
– О Иисусе! – отвечал Жак Коллен, вздыхая. Не могу ли я получить молитвенник?.. Долго ли мне будут отказывать в помощи врача?.. Жить мне осталось не более двух часов.
Карлоса Эррера, которого должны были заключить в секретную камеру, не стоило спрашивать, потребует ли он преимуществ пистоли, короче говоря, права жить в одной из комнат, где пользуются известными удобствами, дозволенными правосудием. Комнаты эти расположены в глубине внутреннего двора, о котором речь будет позже. Пристав и письмоводитель вяло исполняли формальность, обязательные при тюремном заключении.
– Господин начальник, – сказал Жак Коллен, коверкая французский язык, – я при смерти, вы это видите. Скажите, если можете, и, главное, скажите возможно скорее господину судебному следователю, что я прошу, как милости, того, что всего более пугало бы преступника: пусть он меня вызовет, как только придет, ибо муки мои поистине нестерпимы; стоит мне его увидеть, и ошибка разъяснится…
Это общее правило: все преступники говорят об ошибке. Побывайте в каторге, порасспросите там осужденных, – почти все они жертвы судебной ошибки! Вот почему слово это вызывает едва заметную невольную улыбку у того, кто имеет дело с подследственным, обвиняемым либо осужденным.
– Я могу сообщить о вашем ходатайстве судебному следователю, – сказал начальник.
– Да благословит вас бог, сударь!.. – отвечал испанец, поднимая глаза к небу.
Карлоса Эррера внесли в списки, и два полицейских, взяв его под руки, в сопровождении надзирателя, которому начальник тюрьмы указал, в какую именно из одиночек посадить подследственного, повели по подземному лабиринту Консьержери в камеру довольно приличную, что бы о них ни говорили филантропы, но совершенно отрезанную от внешнего мира.
Когда он удалился, надзиратели, начальник тюрьмы, письмоводитель, даже пристав и жандармы переглянулись, как бы спрашивая друг у друга: «Что ты об этом думаешь?» – и на всех лицах выразилось колебание. Но, увидев второго подследственного, зрители вновь обрели обычную недоверчивость, скрытую под личиной равнодушия. Помимо обстоятельств из ряда вон выходящих, служащие Консьержери мало любопытны, ибо для них преступники то же, что клиенты для парикмахеров. Поэтому все формальности, пугающие воображение, вершатся тут проще, нежели денежные дела у банкира, и часто с большей вежливостью. У Люсьена был подавленный вид уличенного преступника, он подчинялся всему, он безропотно сносил все. После Фонтенебло поэт, размышляя о крушении всех своих надежд, говорил себе, что час искупления пробил. Бледный, растерянный, в неведении о том, что произошло у Эстер в его отсутствие, он чувствовал себя близким товарищем беглого каторжника. Этого было вполне достаточно, чтобы провидеть бедствия худшие, чем смерть. Если в его голове рождалась какая-либо мысль, то лишь о самоубийстве. Он хотел любою ценой избегнуть позора, который он представлял себе и который мучил его, словно кошмар.
Жак Коллен, как более опасный из двух обвиняемых, был посажен в одиночную камеру, находившуюся в том же крыле здания, где и кабинет генерального прокурора, сплошь сложенную из тесаного камня; оконце ее выходило в один из внутренних двориков в ограде здания суда. Этот дворик служил местом прогулки для женского отделения тюрьмы. Люсьен пошел тем же путем, что и Жак Коллен, но так как, согласно полученным приказаниям, начальник тюрьмы был к нему внимательнее, то он был посажен в камеру, смежную с пистолями.
Обычно лицам, которым не доводилось сталкиваться с судебными властями, заключение в одиночную камеру рисуется в самом мрачном свете. Представление об уголовном суде неотделимо от старых представлений о пытках, о нездоровых тюремных условиях, о холодных каменных стенах, источающих слезы, о грубых тюремщиках и скверной пище – от всей этой привычной театральной бутафории; но не бесполезно напомнить, что эти преувеличения существую только на подмостках и вызывают улыбку судей, адвокатов и тех, кто любопытства ради посещает тюрьмы или изучает их быт. В продолжение долгого времени все это действительно было ужасно. Достоверно, что при прежних порядках, в эпоху Людовика XIII и Людовика XIV, обвиняемых бросали вповалку в низкое помещение наподобие антресоли над старой калиткой. Тюрьмы были одним из преступлений революции 1789 года, и достаточно увидеть камеры королевы и мадам Элизавет, чтобы почувствовать глубокий ужас перед старыми формами правосудия. Но в наше время, если филантропия и причинила обществу неисчислимые беды, все же она принесла кое-какое благо отдельным лицам. Мы обязаны Наполеону нашим уголовным кодексом, который в большей степени, нежели кодекс гражданский, требующий в некоторых пунктах преобразования, достоин именоваться одним из величайших памятников этого короткого царствования. Наше уголовное право уничтожило бездну страданий. Поэтому, если не говорить о нравственных муках, жертвой которых являются, попадая в руки правосудия, лица высших классов, можно утверждать, что действия судебных властей в отношении их отличаются мягкостью и простотою, тем более удивительными, что этого не ожидаешь встретить. Подследственный и обвиняемый не живут, конечно, как у себя дома, но все необходимое имеется в парижских тюрьмах. К тому же тяжелые переживания лишают бытовые мелочи их обычного значения. Рассудок столь потрясен, что любые неудобства, грубость, если они даже имеют место, там легко переносятся. Надобно признать, что невиновного, особенно в Париже, незамедлительно отпускают на свободу.
Вот почему камера, в которую вошел Люсьен, показалась ему полным повторением его первой парижской комнаты в гостинице «Клюни». Кровать, в точь-в-точь как в самых скромных меблированных комнатах Латинского квартала, стулья с соломенными сиденьями, стол и необходимая утварь составляли меблировку камеры, куда нередко сажают и двух обвиняемых, если они тихого нрава и преступления их относятся к разряду неопасных, как-то: подлог или банкротство. Это внешнее сходство между началом пути, исполненным такой невинности, и концом, являвшимся последней ступенью позора и унижения, столь верно было схвачено Люсьеном, в котором в последний раз заговорила его поэтическая натура, что он зарыдал. Он плакал часа четыре, наружно бесчувственный, как каменное изваяние, но невыразимо страдая от всех этих разрушенных надежд, уязвленный в своем тщеславии, униженный в своей гордости, во всех своих Я, олицетворяющих честолюбца, любовника, счастливца, денди, парижанина, поэта, сластолюбца, баловня удачи. Все в нем разбилось при этом икаровом падении.
Карлос Эррера, как только он остался один в камере, заметался, точно белый медведь из Ботанического сада в своей клетке. Он тщательно осмотрел дверь и убедился, что, кроме глазка, никакого отверстия в ней не было. Он ощупал стенку, оглядел колпак вытяжной трубы, откуда проникал слабый свет, и сказал про себя: «Я в надежном месте!» Он забился в угол, где был недосягаем для неусыпного ока надзирателя, наблюдавшего за узниками через зарешеченный глазок в двери. Потом снял парик и проворно отодрал бумагу, приклеенную внутри. Бумага был так засалена, что ее можно было счесть за кожаную подкладку парика. Сам Биби-Люпен, вздумай он снять с него парик, чтобы установить тождество испанца и Жака Коллена, и тот не обнаружил бы этой бумаги, настолько она казалась неотъемлемой частью парикмахерского изделия. Оборотная ее сторона была еще достаточно белой и чистой, и на ней можно было написать несколько строк.
Операция отклеивания, трудная и кропотливая, началась еще в Форс, потому что оставшихся ему здесь двух часов было бы недостаточно, половина дня была на это потрачена накануне. Подследственный стал надрывать эту драгоценную бумагу таким образом, чтобы образовалась полоска в восемь-десять миллиметров шириною; затем он разделил ее на несколько частей, после чего опять спрятал в своеобразное хранилище свой бумажный запас, предварительно смочив слюною оставшийся на бумаге слой гуммиарабика, чтобы она по-прежнему пристала к парику. Он нащупал приклеенную к пряди волос тонкую, как булавка, палочку графита – широко известное с давних пор изделие Сюсса – и отломил от нее кусочек, достаточно большой, чтобы им писать, и достаточно маленький, чтобы прятать его в ухе. Закончив всю подготовительную работу с уверенностью бывалого каторжника, ловкого точно обезьяна, Жак Коллен сел на край кровати и стал обдумывать наставления для Азии, ибо он был убежден, что встретит ее на своем пути, настолько он надеялся на сообразительность этой женщины.
«На предварительном допросе, – говорил про себя, – я изображал испанца, с трудом изъясняющегося по-французски, ссылался на испанского посла, на свои дипломатические преимущества и ни слова не понимал из того, о чем меня спрашивали; все это отлично согласовалось с припадками слабости, хрипами, вздохами, короче говоря, со всеми этими выкрутасами умирающего. Будем держаться этой позиции. Мои бумаги в исправности. Мы с Азией без труда справимся с господином Камюзо, не больно-то он силен! Итак, подумаем о Люсьене; надо подбодрить его, надо добраться до этого младенца любой ценой, начертать ему план действий, иначе он предаст себя, предаст меня и все погубит!.. Перед допросом надо его вразумить. Потом мне нужны свидетели, которые подтвердили бы, что я – лицо духовное!»
Таково было душевное и физическое состояние обоих подследственных, судьба которых зависела от г-на Камюзо, следователя суда первой инстанции Сены, верховного судьи их существования во всех его мелочах на все то время, что отпущено следователю уголовным кодексом, ибо он один мог дозволить духовнику, врачу Консьержери или кому бы то ни было общаться с ними.
Никакая власть человеческая, ни король, ни министр юстиции, ни премьер-министр, не может посягнуть на полномочия судебного следователя, ничто его не ограничивает, ничто ему не указ. Это владыка, подчиненный единственно своей совести и закону. В настоящее время, когда философы, филантропы и публицисты непрерывно заняты умалением всякой общественной власти, право, дарованное нашими законами судебным следователям, стало предметом нападок тем более ужасных, что они почти оправданы, скажем прямо, чрезмерностью этого права. Однако ж для всякого разумного человека право это должно быть неприкосновенным; можно в известных случаях смягчать его действие широким применением поруки, но обществу, достаточно уже расшатанному неразумностью и слабостью суда присяжных (установления священного и верховного, которое следовало бы доверить избранным, видным людям), грозила бы гибель, если бы уничтожили этот столп, который поддерживает все наше уголовное право. Предварительный арест, одно из ужасных проявлений этого права, – лишь необходимость, социальная опасность которой уравновешивается самым величием этого права. Притом в недоверии к судьям кроется начало разложения общества. Разрушайте институт уголовного права, перестраивайте его на иных основах, требуйте, как то было до революции, крупных имущественных гарантий от судейских чинов, но доверяйте им! Не уподобляйте их обществу с тем, чтобы оскорблять их. В наши дни судья, оплачиваемый как чиновник, бедствующий в большинстве случаев, променял былое достоинство на спесь, которая претит всем, кого поставили на равную с ним ступень; ибо спесь – качество, не имеющее под собой опоры. Вот в чем кроется порочность нынешнего установления. Будь Франция разделена на десять округов, можно было бы повысить моральный уровень судейского сословия, требуя от него наличия солидных состояний, что становится невозможным при двадцати шести округах. Единственное возможное улучшение, которого следует добиваться от деятельности судебного следователя при помощи доверенной ему власти, – это восстановление доброго имени арестного дома. Пребывание под следствием ничего не должно менять в привычках человека. Арестные дома в Париже надо было бы построить, оборудовать и содержать так, чтобы представление общества о положении подследственных в корне переменилось. Закон хорош, но вершат его дурно, а обычно о законе судят по тому, как он осуществляется. Общественное мнение во Франции обвиняет подследственных и оправдывает обвиняемых по необъяснимой противоречивости своих суждений. Не следствие ли это строптивого духа французов? Непоследовательность парижского общества было одной из причин, способствовавших роковой развязке этой драмы, и, как будет видно далее, одной из решающих причин. Чтобы проникнуть в тайну страшных сцен, разыгрывающихся в кабинете судебного следователя, чтобы лучше понять положение обеих воюющих сторон – подследственного и правосудия, – предметом борьбы которых является тайна, охраняемая подследственным от любопытства следователя, столь метко прозванного на тюремном наречии любопытным, всегда надо твердо помнить, что подследственные будучи заключены в одиночную камеру, не знают ни о том, что говорится в семи либо в восьми кругах, составляющих общество в целом, ни о том, что известны полиции и правосудию, ни о том немногом, что пишут газеты обо всех обстоятельствах преступления. Стало быть, предупредить подследственного, как Азия предупредила Жака Коллена об аресте его любимца, равносильно тому, что бросить веревку утопающему. Дальше будет видно, как рушится по этой причине уловка следователя, которая, конечно, погубила бы каторжника, не получи он такого сообщения. Когда в дальнейшем все, что касается нашей истории, будет должным образом разъяснено, люди, даже не слишком впечатлительные, испугаются действия этих трех источников ужаса: разобщения с людьми, гробовой тишины и угрызений совести.
Господин Камюзо, зять одного из придверников кабинета короля, уже достаточно известный, чтобы рассказывать о его связях и положении, находился в эту минуту в не меньшем замешательстве, чем Карлос Эррера, в связи с предстоящим следствием, которое поручили ему вести. Еще недавно он был лишь председателем суда в округе, и вот уже назначен судьею в Париж на завиднейшее место в судебном мире по ходатайству герцогини де Монфриньез, муж которой был воспитателем дофина, полковником одного из кавалерийских полков королевской гвардии и пользовался таким же расположением короля, какое снискала его супруга у Мадам. В награду за небольшую, но важную для герцогини услугу в деле, возникшем по жалобе одного банкира из Алансона на молодого графа д'Эгриньона, который подделал вексель (см. Сцены провинциальной жизни, Музей древностей), Камюзо из простого провинциального судьи стал председателем суда и из председателя – судебным следователем в Париже. За полтора года, что он подвизался в самом важном судилище королевства, Камюзо, благодаря покровительству герцогини де Монфриньез сумел войти в милость знатной и не менее влиятельной маркизы д'Эспар, но тут-то его и постигла неудача. (См. Дело об опеке.) Люсьен, как было сказано в начале этого повествования, из мстительных чувств к г-же д'Эспар, пожелавшей взять под опеку своего мужа, представил события в их истинном свете генеральному прокурору и графу де Серизи. Оба влиятельных сановника встали на сторону друзей маркиза д'Эспар, и его жена избежала порицания суда только благодаря милосердию супруга. Накануне, узнав об аресте Люсьена, маркиза д'Эспар послала своего деверя, кавалера д'Эспар, к господину Камюзо. Г-жа Камюзо поспешила немедленно навестить знаменитую маркизу. Перед обедом, вернувшись домой, она позвала мужа в свою спальню.
– Если ты посадишь этого вертопраха Люсьена де Рюбампре на скамью суда присяжных и добьешься его осуждения, – шепнула она ему на ухо, – ты будешь советником Королевского суда…
– Каким образом?
– Госпожа д'Эспар спит и видит, как скатится с плеч голова этого бедного молодого человека. Меня в дрожь бросило, когда я наблюдала, как кипит ненавистью эта красивая женщина.
– Не вмешивайся в судебные дела, – отвечал Камюзо жене.
– Я-то вмешиваюсь? – возразила она. – Кто угодно мог бы нас слушать и не понял бы, о чем идет речь. Мы с маркизой так мило лицемерили, ну точь-в-точь, как ты со мной сейчас. Она благодарила меня за твои добрые услуги в ее деле; пусть ее постигла неудача, сказала она, все же она тебе признательна. Она говорила мне о том, как страшна миссия, которая возложена на вас законом: «Ужасно, не правда ли, посылать людей на эшафот, но его..! Это будет только справедливо!», и так далее. Она сокрушалась, что такой красивый молодой человек, вывезенный в Париж ее кузиной, госпожой дю Шатле, вступил на столь скользкий путь. «К этому, – сказала она, – и приводят падшие женщины, как Корали и Эстер, молодых людей, достаточно развращенных, чтобы делить с ними гнусную поживу!» Потом пошли пышные тирады о милосердии, о религии! Госпожа дю Шатле сказала ей, что Люсьен заслужил тысячу смертей за то, что чуть было не убил свою сестру и мать… Она упомянула о свободном месте в Королевском суде, она ведь знакома с министром юстиции. «Вашему мужу, сударыня, представляется прекрасный случай отличиться!» – сказала она на прощание. Вот видишь!
– Мы отличаемся каждодневно, исполняя свой долг, – сказал Камюзо.
– Ты далеко пойдешь, если будешь корчить из себя должностное лицо даже с женой! – вскричала г-жа Камюзо. – Я думала, ты глуп, но нынче я от тебя в восхищении!..
Губы должностного лица сложились в улыбку, свойственную лишь его собратьям, как улыбка танцовщицы свойственна лишь ее товаркам по сцене.
– Мадам, разрешите войти? – спросила горничная.
– Что вам нужно? – сказала хозяйка.
– Тут без вас приходила камеристка герцогини де Монфриньез и от имени своей госпожи просила вас приехать в особняк де Кадиньянов, бросив все дела.
– Пообедаем позже, – сказала жена следователя, вспомнив, что еще не заплатила хозяину фиакра, в котором приехала.
Она снова надела шляпку, снова уселась в фиакр и через двадцать минут была в особняке де Кадиньянов. Г-же Камюзо, которую ввели в дом через боковой вход, пришлось подождать минут десять в будуаре, смежном со спальней герцогини, покуда та не появилась в ослепительном туалете, потому что уезжала в Сен-Клу, по приглашению двора.
– Душенька, мы поймет друг друга с одного слова.
– Да, госпожа герцогиня.
– Люсьен де Рюбампре арестован, ваш муж ведет следствие по этому делу, я ручаюсь, что бедный мальчик невиновен, и пусть его освободят в двадцать четыре часа! Но это еще не все. Люсьена желают видеть, завтра же, тайно, в тюрьме. Ваш муж, если ему будет угодно, может присутствовать при свидании, лишь бы он не был замечен… Я признательна тем, кто мне служит, вы это знаете. Король очень надеется на преданность своих судейских в предвидении серьезных обстоятельств, которые должны скоро возникнуть; я выдвину вашего мужа, я представлю его как человека, преданного королю, готового положить за него голову. Наш Камюзо будет сперва советником, потом председателем… ну, все равно чего… Прощайте! Меня ожидают, вы меня извините, не правда ли? Вы обяжете не только генерального прокурора, который в этом деле не может высказаться: вы еще спасете жизнь умирающей женщине, госпоже де Серизи. Таким образом, вы не окажетесь без поддержки… Ну вот, вы видите, как я вам доверяю, мне нет нужды вас учить… вы сами знаете!..
Она приложила палец к губам и исчезла.
«Не могла же я сказать ей, что маркиза д'Эспар мечтает увидеть Люсьена на эшафоте!.. – думала жена судейского, садясь в фиакр.
Когда она вернулась домой, судья, увиде ее встревоженное лицо, сказал:
– Амели, что с тобой?..
– Мы оказались меж двух огней…
О своем свидании с герцогиней г-жа Камюзо рассказала мужу на ухо, так она боялась, чтобы горничная не подслушала у двери.
– Которая из них влиятельнее? – спросила она в заключение. – Маркиза чуть не погубила твое доброе имя в этой нелепой затее с опекой над ее мужем, а герцогине мы кругом обязаны. Одна обронила туманное обещание, другая сказала: «Быть вам сперва советником, потом председателем». Боже меня сохрани давать тебе советы, и я не подумаю вмешиваться в судебные дела, но я обязана точно передать тебе, что говорят при дворе и что там готовится…
– Ты еще не знаешь, Амели, что сообщил мне нынче утром префект полиции, и через кого! Через одно влиятельное лицо из главного управления королевской полиции, настоящего Биби-Люпена от политики! Он сказал мне, что правительство втайне заинтересовано в этом процессе. Пообедаем и поедем в Варьете… поговорим обо всем ночью, в тиши кабинета; мне нужен твой совет; тут одним умом не обойдешься.
Девять десятых судейских будут в подобных случаях отрицать влияние жены на мужа; однако если здесь имеет место одно из редчайших социальных исключений, то следует заметить, что это случай вполне вероятный, хотя и не часто встречающийся. Судейский подобен священнику, в особенности в Париже, где собран цвет судейского сословия; он редко говорит о служебных делах, разве что только по ним уже вынесен приговор. Жены судейских обычно не только подчеркивают свою полную неосведомленность, но и обладают в достаточной мере чувством благопристойности, чтобы понимать, какой вред они причинили бы мужьям, предав огласке доверенные им тайны. Но в особо важных случаях, когда дело касается повышения по службе, связанного с тем либо иным решением, многие женщины, как и Амели, обсуждают этот вопрос наравне с мужем. Короче говоря, подобные исключения, отрицать которые тем легче, что их всегда тщательно скрывают, находятся в полной зависимости от того, как разрешилась борьба двух характеров в лоне семьи. А г-жа Камюзо всецело господствовала над мужем. Когда все в доме уснули, судейский и его жена сели к письменному столу, на котором судья уже разложил по порядку документы, относящиеся к делу.
– Вот справки, которые префект полиции мне передал, впрочем по моей просьбе, – сказал Камюзо.
АББАТ КАРЛОС ЭРРЕРА
«Эта личность, несомненно, Жак Коллен, по прозвищу Обмани-Смерть, который в последний раз был арестован в 1819 году, в доме некоей госпожи Воке, содержавшей семейный пансион на улице Нев-Сент-Женевьев, где он и проживал под фамилией Вотрена».
На полях можно было прочесть приписку рукой префекта полиции:
«Биби-Люпену, начальнику тайной полиции, передан телеграфом приказ вернуться немедленно, чтобы помочь опознанию оного, ибо он лично знает Жака Коллена, который был арестован в 1819 году при участии некоей мадемуазель Мишоно».
«Нахлебники, жившие в доме Воке, еще находятся в добром здравии и могут быть вызваны, чтобы установить тождество.
Так называемый Карлос Эррера является близким другом и советчиком господина Люсьена де Рюбампре, которому передал за три года значительные суммы, видимо добытые кражами. Эта близость, если будет установлена тождество так называемого испанца и Жака Коллена, приведет к осуждению сира Люсьена де Рюбампре.
Внезапная смерть агента Перада вызвана ядом, которым его отравили Жак Коллен, Рюбампре либо их сообщники. Причиной убийства служит то, что агент давно уже шел по следам этих двух ловких преступников».
Судейский указал на фразу, написанную на полях самим префектом полиции:
«Мне лично известно, и я имею доказательства, что сир Люсьен де Рюбампре сыграл недостойную шутку с его милостью графом де Серизи и господином генеральным прокурором».
– Ну, что скажешь, Амели?
– Просто подумать страшно!.. – отвечала жена судьи. – А ну-ка, читай дальше!
«Превращение каторжника Коллена в испанского священника есть следствие преступления, совершенного более искусно, нежели то, при помощи которого Куаньяр стал графом де Сент-Элен».
ЛЮСЬЕН ДЕ РЮБАМПРЕ
«Люсьен Шардон, сын ангулемского аптекаря и его супруги, урожденной де Рюбампре; правом носить имя де Рюбампре он обязан королевскому указу. Оное право было даровано ему по просьбе герцогини де Монфриньез и господина графа де Серизи.
В 182… году этот молодой человек приехал в Париж без всяких средств к жизни, сопровождая графиню Сикст дю Шатле, в то время г-жу де Баржетон, двоюродную сестру г-жи д'Эспар.
Поступив наблаговидно в отношении г-жи де Баржетон, он жил, как муж, с некоей девицей Корали, актрисой театра Жимназ, ныне умершей, которая ради него бросила господина Камюза, торговца шелками на улице Бурдоне.
Вскоре, впав в нищету по той причине, что помощь, которую ему оказывала оная актриса, была недостаточной, он сильно опорочил доброе имя почтенного зятя, владельца типографии в Ангулеме, подделав его подпись на векселях, за неуплату по которым Давид Сешар был арестован во время последнего наезда упомянутого Люсьена в Ангулем.
Это было причиной бегства из Ангулема де Рюбампре, вдруг снова появившегося в Париже с аббатом Карлосом Эррера.
Не имея определенных средств к существованию, оный Люсьен истратил за три года своего вторичного пребывания в Париже около трехсот тысяч франков, каковые мог получить только от так называемого аббата Карлоса Эррера, но на каком основании?
Помимо того, он израсходовал недавно свыше миллиона на покупку земли де Рюбампре во исполнение условия, поставленного ему как будущему супругу мадемуазель Клотильды де Гранлье. Эта женитьба расстроилась по той причине, что семейство де Гранлье, зная со слов сира Люсьена, что деньги на эту покупку он якобы получил от своего зятя и сестры, рассудило навести справки у почтенных супругов Сешар, через своего поверенного Дервиля; оказалось, что Сешары не только ничего не знали об этих приобретениях, но еще считали Люсьена кругом в долгах.
Притом наследство, полученное супругами Сешар, состоит в недвижимости и, согласно их заявлению, вместе с наличными деньгами насчитывает не более двухсот тысяч франков.
Люсьен находился в тайной связи с Эстер Гобсек; таким образом, не подлежит сомнению, что упомянутый Люсьен пользовался всеми щедротами покровителя этой девицы, барона Нусингена.
Люсьен и его сотоварищ-каторжник могли вращаться в свете дольше Куаньяра только потому, что извлекали средства из промысла, которым жила Эстер, в прошлом продажная девка».
Несмотря на то, что эти заметки представляют собою пересказ событий, уже известных из истории этой драмы, необходимо привести их дословно, чтобы показать роль полиции в Париже. Полиция располагает, как, впрочем, можно было видеть по справке, затребованной о Пераде, сведениями, почти всегда точными, о всех семьях и о всех лицах, жизнь которых не внушает доверия, а действия заслуживают порицания. Она берет на заметку всякое отклонение от нормального. Эта всеобъемлющая записная книжка, представлявшая собой баланс людской совести, содержится в таком же порядке, как книга записи состояний во Французском банке. Подобно тому как банк отмечает малейшие опоздания платежа, взвешивает кредитоспособность клиентов, ведет учет капиталов, следит за финансовыми операциями, точно так же ведет полиция учет добропорядочности всех граждан. Тут, как и в суде, невиновный может не бояться: подобные меры принимаются только в случае проступка. Самые высокопоставленные семьи не ускользнут от этого-ангела-хранителя, опекающего общество. Впрочем, строгость хранения тайны здесь равна широте власти. Великое множество протоколов полицейских приставов, донесений, заметок, дел – весь этот океан сведений дремлет недвижный, глубокий и спокойный, точно море. Случится ли какое-нибудь несчастье, совершат ли проступок или преступление, правосудие обращается к помощи полиции, и тотчас же, если существует дело на обвиняемого, судья с ним знакомится. Эти дела, где исследована вся прежняя жизнь человека, – лишь осведомительный материал, который никогда не выйдет из стен суда; правосудие не может в законном порядке предать его гласности, оно лишь черпает в нем сведения, пользуется им, вот и все! Эти папки являют собою как бы изнанку вышивки по канве преступлений, их первооснову, почти всегда скрытую от общества. Ни один состав суда присяжных не поверил бы этим документам, весь округ поднялся бы от возмущения, если бы вздумали на них сослаться на открытом заседании упомянутого суда. Словом, эта истина, обреченная лежать на дне колодца, как всегда и всюду. В Париже не сыщется судьи, который, если он лет двенадцать занимается своим делом, не знал бы, что суд присяжных, а так же исправительная полиция утаивают половину гнусных поступков, служащих как бы ложем, на котором долгое время пригревалось преступление, и не признал бы, что правосудие оставляет безнаказанными половину совершенных злодеяний. Если бы общество могло знать, как тщательно умеют хранить тайну служащие полиции, которые, однако ж, одарены памятью, оно чтило бы этих славных людей наравне с Шеверюсом. Думают, что полиция хитра, вероломна, а она чрезвычайно добродушна; она лишь наблюдает, как разгораются страсти, она получает донесения и хранит все эти памятки. Страшна она только с одной стороны. То, что она делает для правосудия, она делает и для политики. Но в том, что касается политики, она так же жестока, так же пристрастна, как покойная Инквизиция.
– Довольно, – сказал судья, вкладывая бумаги в дело, – это тайна полиции и правосудия. Судья решит, имеет ли все это какую-либо цену, но господин и госпожа Камюзо не должны знать об их существовании.
– Неужто тебе надо напоминать мне об этом? – сказала г-жа Камюзо.
– Люсьен виновен, – снова заговорил следователь, – но в чем?
– Мужчина, любимый герцогиней де Монфриньез, графиней де Серизи и Клотильдой де Гранлье, невиновен, – отвечала Амели. – Виновен во всем должен быть тот, другой.
– Но Люсьен его сообщник! – вскричал Камюзо.
– Хочешь меня послушать?.. – сказала Амели. – Верни священника дипломатии, он ведь ее лучшее украшение, и оправдай этого гадкого мальчишку, а потом найди других виновных…
– Очень уж ты бойка!.. – отвечал судья, улыбаясь. – Женщины устремляются к цели, не думая о законах, точно птицы в воздухе, где им ничто не ставит преград.
– Но, – возразила Амели, – дипломат он или каторжник, аббат Карлос укажет на кого-нибудь, чтобы выпутаться из дела.
– Я просто колпак, а ты – голова! – сказал Камюзо жене.
– Ну, ладно! Совещание закрыто, поцелуй свою Мели, уже час ночи…
И г-жа Камюзо пошла спать, предоставив мужу привести в порядок бумаги и мысли для предстоящего утром допроса обоих подследственных.
Итак, пока «корзины для салата» везли Жака Коллена и Люсьена в Консьержери, судебный следователь, позавтракав, разумеется, пешком шел по Парижу, что было принято при простоте нравов, существовшей среди парижских судейских, направляясь к себе, в свой кабинет, куда уж успели прибыть все бумаги, относящиеся к делу. И вот каким путем.
У каждого судебного следователя есть писец – некая разновидность присяжного секретаря из той неистребимой породы, что без наградных, без поощрений производит великолепные экземпляры прирожденных молчальников. Во Дворце правосудия не припомнят, со времени основания судебных палат и по нынешний день, ни одного случая нескромности со стороны писца-протоколиста при судебном следствии. Жантиль продал расписку, данную Самблансэ Луизой Савойской, а некий военный агент продал Чернышеву план русской компании, все эти предатели были более или менее богаты. Упование на место в суде, на должность секретаря, профессиональная честность – этого достаточно, чтобы обратить писца-протоколиста при судебном следователе в счастливого соперника могилы, ибо и могила стала нескромной со времени успехов химии. Этот служащий – перо самого следователя. Многие согласятся, что можно быть приводным ремнем механизма. Но быть гайкой? И все же гайка по-своему счастлива, – как знать, не из страха ли перед машиной? Протоколист г-на Камюзо, молодой человек двадцати двух лет, по имени Кокар, пришел рано утром на квартиру к следователю за бумагами и заметками, и в служебном кабинете все было уже приготовлено, пока сам судейский шагал, не спеша по набережной, поглядывая на редкости, выставленные в окнах лавок, и думая: «Как взяться за дело с таким молодчиком, как Жак Коллен, если это он? Начальник тайной полиции должен его признать, я буду делать вид, что исполняю свой долг, хотя бы только для полиции! Я предвижу тут столько всяких тупиков, что лучше, пожалуй, осведомить маркизу и герцогиню, показав им справки полиции. Тем самым я отомщу за отца, у которого Люсьен отбил Корали… Если я разоблачу таких отпетых злодеев, о моей ловкости заговорят, а друзья Люсьена скоро отрекутся от него. Впрочем, все это решит допрос…»
Он вошел к торговцу редкостями, соблазненный стенными часами Буль.
«Не погрешить против совести и оказать услугу двум знатным дамам – вот чудо ловкости!» – думал он.
– Помилуйте, и вы здесь, господин генеральный прокурор! – воскликнул вдруг Камюзо. – В погоне за медалями!.
– Это во вкусе всех судейских, – отвечал, смеясь, граф де Гранвиль, – по причине оборотной стороны медали.
И, постояв несколько минут в лавке, точно заканчивая ее осмотр, он пошел дальше по набережной вместе с Камюзо, который не мог усмотреть в этой встрече ничего иного, кроме случайности.
– Вам предстоит сегодня допросить господина де Рюбампре, – сказал генеральный прокурор. – Бедный молодой человек, я любил его…
– Против него много обвинений, – сказал Камюзо.
– Да, я видел записи полиции, но они основаны на донесениях одного агента, который не подчинен префектуре, – знаменитого Корантена. Вы не пошлете столько преступников на плаху, сколько по его милости скатилось неповинных голов, и… Но этот пройдоха вне нашей досягаемости. Отнюдь не желая оказывать давление на совесть такого следователя, как вы, позволю себе заметить, что, если бы вы могли предоставить доказательства полного неведения Люсьена касательно завещания этой девицы, стало бы ясным, что ее смерть была не в его интересах, ведь она давала ему чрезвычайно много денег!..
– Мы знаем достоверно, что эта самая Эстер была отравлена в его отсутствие, – сказал Камюзо. – Он поджидал в Фонтенебло мадемуазель де Гранлье и герцогиню де Ленонкур.
– О-о! – заметил генеральный прокурор. – Ведь он возлагал на брак с мадемуазель де Гранлье большие надежды (я знаю об этом от самой герцогини де Гранлье), поэтому никак нельзя предположить, чтобы такой умный молодой человек все погубил ненужным преступлением.
– Да, – сказал Камюзо. – В особенности, если эта Эстер отдавала ему все, что зарабатывала…
– Дервиль и Нусинген говорят, что она умерла, не зная о наследстве, выпавшем давным-давно на ее долю, – прибавил генеральный прокурор.
– Что же вы предполагаете в таком случае? – спросил Камюзо. – Ведь тут дело нечисто.
– Преступление совершено слугами, – отвечал генеральный прокурор.
– К несчастью, – заметил Камюзо, – очень уж это в духе Жака Коллена, – ибо испанский священник и есть, конечно, этот беглый каторжник, – взять семьсот пятьдесят тысяч франков, полученных от продажи трехпроцентной ренты, которую Нусинген подарил Эстер.
– Взвесьте все, дорогой мой Камюзо, будьте осмотрительны. Аббат Карлос Эррера причастен к дипломатии… Но и посланник, совершивший преступление, не был бы защищен своим саном. Кто он? Аббат Эррера или нет? Вот самый важный вопрос…
И г-н де Гранвиль поспешил проститься, словно не желая слышать ответ.
«Он, стало быть, тоже хочет спасти Люсьена», – думал Камюзо, шагая по набережной Люнет, между тем как генеральный прокурор входил во Дворец правосудия через двор Арле.
В Консьержери Камюзо зашел прежде к начальнику тюрьмы и увел его подальше от любопытных ушей, на середину двора.
– Сделайте одолжение, сударь, поезжайте в Форс и узнайте у вашего коллеги, не найдется ли у него сейчас, на наше счастье, каторжников, которые отбывали бы с тысяча восемьсот десятого по тысяча восемьсот пятнадцатый год срок на каторге в Тулоне; поглядите, нет ли таких и у вас. Мы переведем их временно из Форс сюда, и вы проследите, признают ли они в мнимом испанском священнике Жака Коллена, по кличке Обмани-Смерть.
– Отлично, господин Камюзо; но Биби-Люпен приехал…
– А-а! Он уже здесь? – вскричал следователь.
– Он был в Мелене. Ему сказали, что дело касается Обмани-Смерть. Он улыбнулся от удовольствия и теперь ждет ваших приказаний.
– Пошлите его ко мне.
Начальник Консьержери воспользовался случаем доложить судебному следователю о просьбе Жака Коллена, обрисовав его плачебное состояние.
– Я полагал допросить его первым, но отнюдь не по причине его нездоровья. Я получил утром донесение от начальника тюрьмы Форс. Наш молодчик утверждает, что вот уже двадцать четыре часа, как он в агонии, а сам так крепко спал, что не слышал, когда в его камеру входил врач, вызванный начальником Форс; врач даже не пощупал у него пульса, чтобы его не разбудить. Это доказывает, что совесть у него, видимо, в таком же порядке, как и здоровье. Я поверю в его болезнь, но ради того только, чтобы изучить игру этого молодца, – сказал, улыбаясь, г-н Камюзо.
– С подследственными и обвиняемыми каждый день чему-нибудь научаешься, – заметил начальник Консьержери.
Префектура полиции сообщается непосредственно с Консьержери, и судейские, как и начальник тюрьмы, зная все подземные ходы, могут прибыть туда с чрезвычайной быстротой. Этим объясняется та удивительная легкость, с которой прокуратура и председатели суда присяжных могут во время заседания получать нужные справки. Вот почему г-н Камюзо, едва успев взойти по лестнице, ведущей в его кабинет, увидел Биби-Люпена, прибежавшего туда через залу Потерянных шагов.
– Какое рвение! – сказал ему следователь, улыбаясь.
– Да, ведь если это он, – отвечал начальник тайной полиции, – вы увидите, какая свистопляска подымется во внутреннем дворе, только бы нашлась там обратная кобылка! (бывшие каторжники, на тюремном наречии).
– Почему?
– Обмани-Смерть свистнул их кассу, и я знаю, что они поклялись сжить его со свету.
Они обозначало каторжников, казна которых, доверенная двадцать лет назад Обмани-Смерть, была истрачена на Люсьена.
– Могли бы вы найти свидетелей его последнего ареста?
– Дайте мне две повестки, и я приведу их вам сегодня же.
– Кокар, – сказал следователь, снимая перчатки, ставя трость в угол и вешая на нее шляпу, – заполните две повестки по указанию господина агента.
Он посмотрелся в зеркало, вделанное в камин, на котором посредине, взамен часов, стояли таз и кувшин, слева от них графин с водой и стакан, а справа лампа. Следователь позвонил. Через несколько минут вошел судебный пристав.
– Меня уже ждут? – спросил он пристава, на обязанности которого лежало принимать свидетелей, проверять их повестки и пропускать в кабинет по очереди.
– Да, сударь.
– Запомните имена этих лиц и принесите мне список.
Судебные следователи, желая сберечь свое время, нередко принуждены вести несколько следствий сразу. В этом причина долгих часов ожидания, на которое обречены свидетели, вызванные в комнату, где находятся пристава и где непрерывно раздаются звонки судебных следователей.
– Вслед за тем, – сказал Камюз приставу, – вы приведете ко мне аббата Карлоса Эррера.
– Вот как! Он стал испанцем? Священником, как мне говорили. Ба! Да это повторение дела Коле, господин Камюзо! – воскликнул начальник тайной полиции.
– Нет ничего нового под луной, – отвечал Камюзо, подписывая две грозные повестки, смущающие даже самых невинных свидетелей, которых правосудие таким путем извещает о необходимости предстать перед судом под угрозой тяжкой кары в случае неповиновения.
К этому времени Жак Коллен, закончивший около получаса назад свои манипуляции с записками, был готов к бою. Ничто не может лучше обрисовать этого простолюдина, восставшего против закона, как те несколько строк, что он начертал на просаленных бумажках.
Смысл первой – ибо текст был написан на условном языке, принятом у него с Азией, шифром, скрывающим мысль, – был таков:
«Ступай к герцогине де Монфриньез или госпоже де Серизи; пусть та или другая увидится с Люсьеном до его допроса и даст ему прочесть бумажку, которая вложена в эту. Отыщи Европу и Паккара, надо, чтобы эти два вора были в моем распоряжении и готовились сыграть роль, которую я им укажу.
Сбегай к Растиньяку, предложи ему от имени того, кого он встретил на балу в Опере, засвидетельствовать, что аббат Карлос Эррера ничуть не похож на Жака Коллена, арестованного в Воке.
Добейся того же от доктора Бьяншона.
Заставь с этой целью работать обеих Люсьеновых женщин».
На другой бумажке написано было уже на чистом французском языке:
«Люсьен, не признавайся ни в чем, что касается меня. Я для тебя аббат Карлос Эррера. В этом не только мое оправдание: немного выдержки – и ты получишь семь миллионов, сохранив незапятнанной свою честь».
Обе бумажки, подклеенные исписанной стороной одна к другой и казавшиеся одним обрывком листка, были скатаны с мастерством, присущим тому, кто мечтал, будучи на каторге, о способах добыть свободу. Все вместе приняло форму и цвет комочка грязи, величиной с восковую головку, которую бережливая женщина приделывает к иголке со сломанным ушком.
«Если я пойду на допрос первым, мы спасены; если же малыш – все погибло», – говорил он про себя тем временем.
То была страшная минута: как ни был крепок этот человек, лицо его покрылось холодным потом. Итак, этот удивительный человек прозревал истину в преступлении, как Кювье прозрел закон строения существ, бесследно исчезнувших. Гений в любой области – это интуиция. Все другие замечательные деяния, обязанные таланту, стоят ниже этого чуда. В том и состоит различие, отделяющее людей высшего порядка от прочих людей. Преступления знают своих гениев. Мысль Жака Коллена, доведенного до крайности, совпала с мыслями честолюбивой г-жи Камюзо и г-жи де Серизи, любовь которой пробудилась под действием страшного удара, поразившего Люсьена. Таково было высшее усилие человеческого разума, направленное против стальной брони Правосудия.
Услыхав лязг старинных тяжелых замков и дверных засовов, Жак Коллен опять принял вид умирающего; ему в этом помогло пьянящее чувство радости, которую доставило ему донесшееся до него из коридора постукивание башмаков надзирателя. Он не знал, каким образом Азия доберется до него, но рассчитывал свидеться с ней по пути на допрос, обнадеженный ее обещанием, брошенным ему под аркадой Сен-Жан.
После этой счастливой встречи Азия спустилась на Гревскую набережную. До 1830 года название Грев имело смысл, ныне утраченный. Вся часть набережной, от Аркольского моста до моста Людовика-Филиппа, была в то время такой, какой ее создала природа, если не считать вымощенной дороги, идущей, впрочем, отлого. Поэтому при высокой воде можно было плыть в лодке вдоль домов и улиц, наклонно спускавшихся к реке. На этой набережной первые этажи почти во всех зданиях были подняты на несколько ступеней. Когда вода плескалась о стены домов, экипажи сворачивали на ужасающую улицу Мортельри, впоследствии целиком снесенную, чтобы расширить площадь Ратуши, и мнимой торговке легко было протолкнуть тележку по спуску к набережной и спрятать ее там, покуда настоящая торговка, пропивавшая выручку от своей продажи оптом в одном из гнусных кабаков на улице Мортельри, не придет взять ее на том самом месте, где условлено было ее оставить. В ту пору заканчивали расширение набережной Пелетье, где вход на стройку охранялся инвалидом, и тележка, порученная его опеке, не была подвержена никаким случайностям.
Тут же, на площади Ратуши, Азия взяла фиакр и сказала кучеру: «В Тампль! Скачи что есть духу, озолочу!»
Женщина, одетая, как Азия, могла, не возбуждая ни малейшего любопытства, затеряться среди обширного рынка, где толчется весь парижский сброд, где кишат тысячи бродячих торговцев, стрекочут сотни перекупщиц. Едва успели обоих подследственных заключить в тюрьму, как она уже переодевалась в крохотном, сыром и низком помещении над одной из тех ужасных лавчонок, в которых торгуют остатками материй, украденных швеями либо портными, и которую держала старая девица, по прозвищу Ромет – сокращенное от Жеромет. Для торговок нарядами Ромет была тем же, чем эти госпожи Подмоги были сами для так называемых порядочных женщин, оказавшихся в стесненных обстоятельствах, – ростовщицей из ста процентов.
– Дочь моя, – сказала Азия, – надо меня зашнуровать. Я должна быть не иначе, как баронессой из Сен-Жерменского предместья. И, смотри, затяни подпругу в минуту! – продолжала она. – А то у меня прямо пятки горят! Ты сама знаешь, какие мне платья к лицу. Дай-ка банку с румянами да отыщи кружева позабористее! И вынь для меня самые что ни есть блестящие побрякушки… Пошли девчонку за фиакром, пусть скажет, чтобы обождал у черного хода.
– Хорошо, мадам, – отвечала старая дева покорно и угодливо, точно служанка своей госпоже.
Любой свидетель этой сцены легко бы заметил, что женщина, скрывавшаяся под именем Азия, была тут у себя дома.
– Предлагают брильянты!.. – сказала Ромет, причесывая Азию.
– Краденые?..
– Ну, уж само собою.
– Как бы это ни было выгодно, голубушка, а придется повременить. Некоторое время нам надо остерегаться любопытных.
Теперь понятно, каким образом Азия могла очутиться во Дворце правосудия, в зале Потерянных шагов, с повесткой в руках, и бродить по коридорам и лестницам, ведущим в кабинеты судебных следователей, спрашивая у всех встречных, как пройти к г-ну Камюзо, за четверть часа до его прихода.
Азию нельзя было узнать. Смыв, как актриса, грим старухи, наложив румяна и белила, она надела дивный белокурый парик. Разряженная точь-в-точь, как дама из Сен-Жерменского предместья, разыскивающая пропавшую собачку, она казалась сорокалетней под великолепной вуалеткой из черных кружев. Жесткий корсет туго стягивал ее талию, достойную кухарки. В прекрасных перчатках, в платье с чересчур, может быть, пышным турнюром, она распространяла вокруг себя благоухание пудры а-ля-марешаль. Помахивая мешочком в золотой оправе, она поглядывала то на стены суда, куда попала, как видно, впервые, то на поводок красивого kings'dog. Эта знатная вдовица была скоро замечена черноризцами, населявшими залу Потерянных шагов.
Помимо адвокатов, не занятых делом, подметающих эту залу своими мантиями и называющих, как водится между вельможами, своих важных коллег просто по имени, из желания показать, что они принадлежат к судейской аристократии, там нередко можно встретить терпеливых молодых людей, состоящих помощниками при поверенных, подолгу выстаивающих на ногах ради какого-нибудь дела, которое назначено к слушанию в последнюю очередь, но может слушаться первым, если адвокаты по делу, поставленному в первую очередь, почему-либо запаздывают. Было бы любопытно обрисовать отличительные черты каждого из этих носителей черных мантий, которые, беседуя, прохаживались по три, по четыре человека в ряд, производя своими голосами сильнейший гул под сводами этой огромной залы, так метко прозванной, ибо хождение попусту истощает силы адвокатов не менее, нежели словесная расточительность, но все это будет описано в нашем очерке, посвященном парижским адвокатам. Азия рассчитывала на праздношатающихся правозаступников и посмеивалась исподтишка, прислушиваясь к шуткам, доносившимся до нее; наконец она привлекла внимание молодого помощника поверенного, занятого более «Судебной газетой», нежели клиентами, и тот с улыбочкой предложил свои услуги женщине, так дивно благоухающей и богато разодетой.
Тоненьким голоском, говоря в нос, Азия объяснила этому учтивому господину, что пришла сюда по повестке одного следователя, фамилия которого Камюзо…
– А-а! По делу Рюбампре?
Процесс уже получил название!
– О нет! Это не я, а моя горничная, девушка по прозвищу Европа, она поступила ко мне только накануне и вот уже сбежала, увидев, что швейцар несет мне казенную бумагу.
Потом, как все стареющие женщины, жизнь которых проходит в болтовне у камелька, подстрекаемая Массолем, она разоткровенничалась и рассказала ему о своих злоключениях с первым мужем, одним из трех директоров Земельного банка. Посоветовалась, кстати, с молодым адвокатом, стоит ли затевать процесс с зятем, графом де Грос-Нарп, который сделал несчастной ее дочь, и дозволяет ли закон располагать дочери его состоянием? Массоль, как ни старался, не мог понять, кому же была вручена повестка – госпоже или горничной? В первую минуту он удовольствовался беглым взглядом, брошенным на этот судебный документ всем известного образца, ибо для удобства и быстроты он печатается заранее, и протоколистам судебных следователей нужно только заполнить пробелы, оставленные для указания имени и адреса свидетеля, часа явки и т. д. Азия расспрашивала о расположении комнат во Дворце, знакомом ей лучше, чем самому адвокату, наконец она осведомилась, в котором часу приходит Камюзо.
– Вообще судебные следователи начинают допросы около десяти часов.
– Теперь без четверти десять, – сказала она, взглянув на красивые часики, настоящее чудо ювелирного искусства, что дало Массолю повод подумать: «Где только, черт возьми, не гнездится богатство!..»
В это время Азия переступала порог той сумрачной залы, выходящей во двор Консьержери, где находятся судебные пристава. Увидев в окно калитку, она вскричала:
– Что там за высокие стены?
– Это Консьержери.
– Ах! Консьержери, где наша бедная королева… О, как бы я хотела видеть ее камеру!..
– Это невозможно, баронесса, – отвечал адвокат, шедший под руку с почтенной вдовой. – Надо иметь разрешение, а его очень трудно получить.
– Мне говорили, – продолжала она, – что Людовик Восемнадцатый сделал своею рукой на стене латинскую надпись, которая сохранилась и посейчас в камере Марии-Антуанетты.
– Да, госпожа баронесса.
– Я хотела бы знать латинский язык, чтобы изучить каждое слово этой надписи! – прибавила она. – А как вы думаете, может господин Камюзо дать мне такое разрешение?..
– Это не по его части; но он может вас проводить…
– А допросы? – сказала она.
– Ну, – отвечал Массоль, – подследственные могут подождать.
– И точно, на то они и подследственные, – наивно заметила Азия. – Но я знакома с господином де Гранвилем, вашим генеральным прокурором…
Эта фраза произвела магическое действие на приставов и на адвоката.
– Ах, вы знакомы с господином генеральным прокурором? – сказал Массоль, подумав, не спросить ли имя и адрес клиентки, посланной ему случаем.
– Я часто встречаю его у господина де Серизи, его друга. Госпожа де Серизи в родстве со мною через Ронкеролей…
– Но если сударыне угодно спуститься в Консьержери, – сказал один из приставов, – она…
– Да, – сказал Массоль.
И приставы дозволили сойти вниз адвокату и баронессе; они скоро очутились в маленькой караульне, где кончается лестница Мышеловки, в помещении, хорошо знакомом Азии и образующем, как известно, между Мышеловкой и Шестой камерой своеобразный наблюдательный пост, которого не мог миновать ни один человек.
– Спросите же у этих господ, пришел ли господин Камюзо! – сказала она, разглядывая жандармов, игравших в карты.
– Да, сударыня, он только что вышел из Мышеловки…
– Мышеловка? – сказала она. – Что это такое?.. Ах, как я сглупила, что не пошла прямо к графу де Гранвилю… Но я так спешу… Проводите меня, сударь, я хочу поговорить с господином Камюзо, покуда он не занят.
– О, сударыня, вы еще успеете поговорить с господином Камюзо, – сказал Массоль. – Когда он получит вашу визитную карточку, он не заставит вас ожидать в приемной, со свидетелями… Во Дворце правосудия внимательны к таким женщинам, как вы… Карточка при вас?
Азия и стряпчий стояли в эту минуту как раз перед окном караульни, откуда жандармы могут наблюдать за калиткой Консьержери. Жандармы, воспитанные в должном уважении к защитникам вдов и сирот, осведомленные притом о преимуществах судейской мантии, терпели несколько секунд присутствие баронессы, сопровождаемой стряпчим. Азия позволила молодому адвокату рассказать о калитке Консьержери все те ужасы, какие только может рассказать молодой адвокат. Она не верила, что туалет приговоренных совершается именно за решетками, на которые ей указали, но жандармский офицер это подтвердил.
– Как бы я хотела бы посмотреть на это! – сказала она.
Она кокетничала с жандармским офицером и адвокатом, пока не увидела входившего через калитку Жака Коллена; его вели под руку два жандарма, которым предшествовала пристав г-на Камюзо.
– А вот и тюремный духовник! Он, конечно, ходил напутствовать какого-нибудь несчастного…
– Нет, нет, госпожа баронесса, – отвечал жандарм, – это подследственный, его ведут на допрос.
– А в чем он обвиняется?
– Он замешан в этом деле, с отравлением…
– Ах!.. Как бы я хотела на него взглянуть…
– Вам нельзя тут оставаться дольше, – сказал жандармский офицер. – Он сидит в секретной и должен пройти через нашу караульню. Вот эта дверь, сударыня, ведет на лестницу.
– Благодарю вас, господин офицер, – сказала баронесса, направляясь к двери, и вдруг, выскочив на лестницу, она закричала:
– Но где же я?
Этот возглас долетел до слуха Жака Коллена, которого она хотела таким путем подготовить к встрече с ней. Жандармский офицер побежал вслед за госпожой баронессой, схватил ее поперек туловища и перенес, как перышко, в круг пяти жандармов, вскочивших с мест как один человек, ибо караульня всегда настороже. То было самоуправство, но самоуправство необходимое. Сам стряпчий испуганно воскликнул: «Сударыня! Сударыня!» – так он боялся подвергнуть себя неприятности.
Аббат Карлос Эррера, почти в обморочном состоянии, опустился на стул в караульне.
– Бедный! – сказала баронесса. – Неужто он виновен?
Слова эти, хотя и сказанные на ухо молодому адвокату, были услышаны всеми, ибо в этой страшной караульне царила мертвая тишина. Случалось, что некоторые особы, располагающие особыми привилегиями, получали разрешение взглянуть на знаменитых преступников, когда те проходят через караульню или по коридорам, поэтому пристав и жандармы из охраны Жака Коллена не обратили на женщину никакого внимания. Впрочем, благодаря самоотверженности жандармского офицера, изловившего баронессу, чтобы устранить всякую возможность общения подследственного из секретной камеры с посторонней, между ними образовалось весьма успокоительное пространство.
– Пойдемте! – сказал Жак Коллен, с трудом подымаясь со стула.
В этот момент у него из рукава выпал шарик, и баронесса, прекрасно видевшая все из-под своей вуали, заметила место, где он упал. Сальный шарик не мог далеко откатиться, ибо все до мелочей, как будто неважных с виду, было предусмотрено Жаком Колленом для достижения полного успеха. Как только подследственный поднялся на верхние ступени лестницы, Азия чрезвычайно естественно уронила свой мешочек и проворно подняла его, но, наклонившись, она успела взять шарик, по своей окраске совершенно не отличимый от пыли и грязи, покрывавшей пол, и потому никем не замеченный.
– Ах! У меня прямо сердце сжалось!.. – сказала она. – Ведь он умирает…
– Или притворяется, – заметил жандармский офицер.
– Сударь, – обратилась Азия к адвокату, – ведите меня поскорее к господину Камюзо, я пришла как раз по этому делу… возможно, он будет очень доволен, если увидит меня прежде, чем начнет допрос бедного аббата…
Стряпчий и баронесса вышли из грязной и прикопченной караульни, но когда они уже поднялись по лестнице, Азия воскликнула: «А моя собака?.. О сударь, где моя бедная собачка!»
И, как сумасшедшая, она кинулась в залу Потерянных шагов, спрашивая у всех о своей собаке. Она добежала до Торговой галереи и помчалась к лестнице, крича: «Вот она!..»
Лестница вела во двор Арле, через который, сыграв свою комедию, она и прошла, чтобы по набережной Орфевр, где находится стоянка фиакров, вскочить в карету и исчезнуть вместе с явочной повесткой, посланной Европе, настоящее имя которой еще не было известно полиции и правосудию.
– Улица Нев-Сен-Марк! – крикнула она кучеру.
Азия могла положиться на неподкупную скромность торговки нарядами, именуемой г-жой Нуррисон, но равно известной и под именем Сент-Эстев, отдававшей в ее распоряжение не только свою персону, но и лавку, где Нусинген выторговал себе Эстер. Тут Азия была у себя дома, потому что занимала комнату в квартире г-жи Нуррисон. Она заплатила за фиакр и прошла к себе, кивком головы дав понять г-же Нуррисон, что разговаривать ей недосуг.
Очутившись вдали от всякой слежки, Азия принялась развертывать бумажки не менее осторожно, чем ученый древнюю рукопись. Прочтя наставления, она сочла полезным переписать на листок почтовой бумаги строки, обращенные к Люсьену; потом она сошла вниз к г-же Нуррисон и побеседовала с ней, пока девочка на побегушках, служившая у лавочницы, ходила на Итальянский бульвар нанимать фиакр. Тут же Азия получила адреса герцогини де Монфриньез и г-жи де Серизи, известные г-же Нуррисон через ее связи с их горничными.
Разъезды и всякие мелкие дела заняли более двух часов. Герцогиня де Монфриньез, которая жила на окраине Сен-Жерменского предместья, заставила г-жу де Сент-Эстев ожидать себя целый час, хотя горничная передала ей через дверь будуара, предварительно постучавшись, визитную карточку г-жи де Сент-Эстев, на которой Азия написала: «Пришла по поводу неотложного дела, касающегося Люсьена».
При первом же взгляде, брошенном на герцогиню, Азия поняла, что ее посещение некстати, и она извинилась, объяснив, что лишь опасность, грозившая Люсьену, заставила ее нарушить покой герцогини…
– Кто вы такая?.. – спросила герцогиня, пренебрегая правилами учтивости и смерив ее взглядом с головы до ног; Азия могла быть принята за баронессу г-ном Массолем в зале Потерянных шагов, но на коврах малой гостиной особняка де Кадиньянов она производила впечатление сального пятна на белом атласном платье.
– Я торговка нарядами, госпожа герцогиня, известно, что в подобных случаях обращаются к женщинам, профессия которых обязывает к полной скромности. Я никогда никого не выдала, и невесть сколько важных дам доверяли мне свои бриллианты на целый месяц, получив от меня взамен фальшивые уборы, точь-в-точь как настоящие…
– У вас есть другое имя? – спросила герцогиня, улыбнувшись при воспоминании, оживленном в ней этим ответом.
– Да, госпожа герцогиня, я именуюсь госпожой Сент-Эстев в особо важных случаях, а в торговых делах меня знают как госпожу Нуррисон.
– Хорошо, хорошо… – живо отвечала герцогиня, меняя тон.
– Я могу, – продолжала Азия, – быть очень полезной, ведь нам известны тайны мужей так же хорошо, как и тайны жен. Я делала большие дела с господином де Марсе, которого госпожа герцогиня должна…
– Довольно! Довольно! – вскричала герцогиня. – Займемся Люсьеном.
– Если госпожа герцогиня пожелает его спасти, пусть не тратит времени на переодевание; да к тому же нельзя, госпожа герцогиня, быть прекраснее, чем вы сейчас! Вы чертовски красивы, помяните слово старухи! Только, сударыня, не приказывайте закладывать карету, а садитесь-ка со мной в фиакр. Поедем к госпоже де Серизи, ежели вы хотите, чтобы не случилось несчастья похуже смерти этого херувима…
– Ну, хорошо! Я поеду с вами, – сказала герцогиня после минутного колебания, – вдвоем мы сумеем подбодрить Леонтину…
Несмотря на расторопность, поистине дьявольскую, этой Дорины от каторги, пробило уже два часа, когда она входила с герцогиней де Монфриньез к г-же де Серизи, жившей на улице Шоссе-д'Антен. Но тут благодаря герцогине они не потеряли ни секунды. Обе были тотчас же приглашены к графине, которую застали лежащей на кушетке в швейцарском домике, среди сада, напоенного благоуханием самых редких цветов.
– Отлично, – сказала Азия, оглядываясь, – тут нас никто не услышит.
– Ах, дорогая моя! Я умираю!.. Скажи, Диана, что тебе удалось сделать?.. – вскричала графиня, вскакивая, как лань, и, схватив герцогиню за плечи, залилась слезами.
– Полно, Леонтина, бывают обстоятельства, при которых женщины, подобно нам, должны действовать, а не плакать, – сказала герцогиня, усаживая графиню подле себя на кушетку.
Азия изучала эту графиню взглядом, присущим старым распутницам и проникающим в женскую душу с быстротою хирургического ножа, который вонзается в рану. Подруга Жака Коллена признала тут проявление чувства, редчайшего у светских женщин, – непритворного горя!.. Горя, оставляющего неизгладимые борозды на лице и в сердце. Ни тени кокетства не было в одежде! Графиня насчитывала тогда уже сорок пять весен, и ее смятый пеньюар из набивного муслина приоткрывал грудь, не стянутую лифом!.. Глаза, обведенные темными кругами, щеки, все в красных пятнах, свидетельствовали о горьких слезах… Пеньюар не был подвязан поясом. Кружева нижней юбки и сорочки измяты. Волосы, собранные под кружевным чепцом, не были тронуты гребнем уже целые сутки; короткая тонкая косичка и жидкие пряди развившихся локонов обнаруживали себя во всем своем убожестве. Леонтнина забыла надеть фальшивые косы.
– Вы любите впервые в жизни… – наставительно сказала ей Азия.
Тут только Леонтина заметила Азию.
– Кто это, дорогая Диана? – испуганно спросила она герцогиню де Монфриньез.
– Кого же я могла к тебе привести, как не женщину, преданную Люсьену и готовую служить нам?
Азия угадала истину. Г-жа де Серизи, слывшая одной из самых легкомысленных светских женщин, десять лет питала привязанность к маркизу д'Эглемону. После отъезда маркиза в колонии она увлеклась Люсьеном и отбила его у герцогини де Монфриньез, не зная, впрочем, как и весь Париж, о любви Люсьена к Эстер. В высшем свете установленная привязанность вредит больше, чем десять любовных приключений, сохраненных в тайне, а тем более две привязанности. Однако историк, коль скоро никто не спрашивал отчета у г-жи де Серизи, не может поручиться за ее добродетель, дважды утраченную. Она была блондинка среднего роста, сохранившаяся, как сохраняются все блондинки, короче говоря, на вид лет тридцати, хрупкая, но отнюдь не худая, с белоснежной кожей и пепельными волосами; руки, ноги, стан у нее были аристократически тонкие; острая на язык, как все Ронкероли, а следственно, ненавистница женщин, она была добра к мужчинам. Большое личное состояние, высокое положение мужа, положение брата, маркиза де Ронкероля, предохраняли ее от треволнений, неминуемых в жизни любой другой женщины. У нее было одно большое достоинство: она не скрывала своего распутства, откровенно подражая нравам времен Регентства. И вот, в сорок два года, эта женщина, до той поры забавлявшаяся мужчинами, как игрушкой, ради которой, – как ни удивительно, – она поступалась многим, хотя не видела в любви ничего, кроме жертв, приносимых из желания властвовать над мужчинами, однажды встретив Люсьена, влюбилась в него без памяти с первого же взгляда, как Нусинген в Эстер. Она полюбила, как сказала ей Азия, первой любовью. Возвраты молодости у парижанок, у знатных дам, встречаются чаще, чем принято думать, и в этом причина необъяснимых падений добродетельности женщин в ту пору, когда они достигают пристани сороколетия. Герцогиня де Монфриньез была единственной наперсницей этой страшной и всепоглощающей страсти, бросавшей Леонтину от младенческих радостей первой любви к чудовищным излишествам сладострастия, лишь разжигая ее неутолимые желания.
Любовь настоящая, как известно, беспощадна. После встречи с Эстер последовала одна из тех бурных сцен разрыва, когда разъяренная женщина способна на убийство; затем наступила период унизительных уступок, столь сладостных для искренней любви. Вот почему графиня уже целый месяц тосковала о Люсьене и была готова за неделю счастья с ним отдать десять лет жизни. Наконец, в непреодолимом порыве нежности к нему, она примирилась с соперничеством Эстер; и вдруг прозвучало, как труба страшного суда, известие об аресте возлюбленного. Графиня чуть не было не умерла, муж бодрствовал у ее постели, чтобы никто не услышал признаний, которые срывались у нее в бреду; и вот уже сутки она жила с кинжалом в сердце. В горячечном бреду она говорила мужу: «Освободи Люсьена, и я буду жить только ради тебя!»
– Не время теперь делать томные глазки, точно издыхающая коза, как правильно сказала госпожа герцогиня! – вскричала страшная Азия, схватив графиню за руку. – Желаете его спасти? Так не теряйте ни минуты. Он невиновен. Не сойти мне с этого места!..
– Да, да! Не правда ли?.. – воскликнула графиня, доверчиво взглянув на ужасную женщину.
– Но, – продолжала Азия, – вздумай только господин Камюзо допрашивать с пристрастием, он в два счета сделает из него преступника; и если в вашей власти попасть в Консьержери и поговорить с малышом, так поезжайте туда сию секунду и отдайте ему вот эту бумажку… Ручаюсь, завтра же он будет на свободе!.. Вытягивайте его оттуда, раз вы сами его туда посадили…
– Я!..
– Да, вы!.. Вы-то, знатные дамы, вечно без денег, даже когда купаетесь в миллионах. А я, когда позволяла себе роскошь иметь мальчишек, сама набивала их карманы золотом! Они развлекались, а меня это забавляло. Ведь так приятно чувствовать себя сразу и матерью и любовницей! А ваша сестра предоставляет умирать от голода своим любимцам и не принимает к сердцу их дела. Вот Эстер, та не говорила жалостливых слов, а погубила свою душу и тело, чтобы доставить мильон, который требовали от вашего Люсьена; из-за этого он и попал в беду.
– Бедняжка! Она так поступила? Я люблю ее!.. – сказала Леонтина.
– А-а! Только теперь… – сказала Азия с леденящей иронией.
– Она была очень красива, но сейчас, мой ангел, ты красивее ее… а женитьба Люсьена на Клотильде окончательно расстроилась, и ничто ее не наладит, – совсем тихо сказала герцогиня Леонтине.
Эти соображения и расчет так подействовали на графиню, что она забыла о своих страданиях; она провела рукой по лбу, она вновь была молода.
– Ну, малютка, марш, и поживей!.. – сказала Азия, наблюдая это превращение и догадываясь о причине.
– Но если самое важное помешать господину Камюзо допросить Люсьена, – сказала герцогиня де Монфриньез, стало быть, нам надо написать ему записку, Леонтина, и пусть твой лакей отнесет ее в суд.
– Так идемте ко мне, – сказала г-жа де Серизи.
А вот что происходило в суде, покуда покровительницы Люсьена выполняли приказ, переданный Жаком Колленом.
Жандармы посадили умирающего на стул против самого окна в кабинете г-на Камюзо, восседавшего в креслах перед письменным столом. Кокар с пером в руке сидел за столиком, неподалеку от следователя.
Отнюдь не лишено значения то, как расположен кабинет следователя, и, если выбор пал на эту комнату случайно, следует признать, что Случай по-братски отнесся к Правосудию. Эти чиновники, подобно художникам, нуждаются в ясном и спокойном свете с северной стороны, ибо лицо преступника является для них картиной, требующей углубленного изучения. Поэтому почти все следователи ставят письменные столы так, как у Камюзо, чтобы самим сидеть спиной к окну, а стало быть, тем, кого они допрашивают, – лицом к свету. Ни один из них, на исходе шестого месяца практики, не преминет, покуда идет допрос, прикинуться человеком рассеянным и равнодушным, если глаза его не скрыты очками. Ведь благодаря внезапной перемене в лице, подмеченной именно этим способом и вызванной вопросом, заданным в упор, было раскрыто преступление, совершенное Кастеном, и как раз в то время, когда после длительного обсуждения с генеральным прокурором, судья чуть было уже не вернул преступника обществу за недостаточностью улик. Эта маленькая подробность поможет людям, лишенным воображения, представить, насколько жива, увлекательна, любопытна, драматична и страшна борьба следователя по уголовным делам с подследственным, борьба без свидетелей, но всегда заносимая в протокол. Бог весть, что остается на бумаге от самой бурной сцены, полной огня, но леденящей кровь, когда глаза, голос, сокращение лицевых мускулов, легкая бледность или краска в лице под влиянием чувства – все грозит гибелью, как у дикарей, подстерегавших один другого, чтобы убить. Таким образом, протокол – не более как груда пепла на пожарище.
– Ваше настоящее имя? – спросил Камюзо Жака Коллена.
– Дон Карлос Эррера, каноник толедского королевского капитула, негласный посланец его величества Фердинанда Седьмого.
Тут следует заметить, что Жак Коллен говорил по-французски не лучше испанской коровы, его ответы больше походили на невразумительное мычание, поэтому следователю приходилось то и дело его переспрашивать. Германизмы г-на Нусингена и так уже чересчур испещрили наши С ц е н ы, чтобы вводить в них новые фразы, трудные для чтения и замедляющие действие.
– Документы, удостоверяющие ваши звания, на которые вы ссылаетесь, при вас? – спросил судья.
– Да, сударь, паспорт, письмо его католического величества, подтверждающие мои полномочия… Наконец, вы можете сейчас же послать в испанское посольство записку, которую я напишу при вас, и обо мне будут ходатайствовать. Затем, если требуются другие доказательства, я напишу его высокопреосвященству, духовнику французского короля, и он не замедлит прислать сюда своего личного секретаря.
– Вы по-прежнему утверждаете, что близки к смерти? – спросил Камюзо. – Но если бы вы действительно испытывали страдания, на которые жалуетесь с момента вашего ареста, вы давно уже должны были бы умереть, – прибавил он с иронией.
– Вы возбуждаете тяжбу против мужества невиновного и крепости его организма! – кротко отвечал подследственный.
– Кокар, позвоните! Прикажите вызвать врача Консьержери и больничного служителя. Нам придется снять с вас сюртук и удостоверить наличие клейма на вашем плече… продолжал Камюзо.
– Ваша воля, сударь.
Подследственный спросил, не будет ли судья столь добр и не объяснит ли он, что это за клеймо и зачем его искать на плече? Следователь ожидал этого вопроса.
– Вас подозревают в том, что вы Жак Коллен, беглый каторжник, который в дерзости своей ни перед чем не останавливается, даже перед кощунством… – резко сказал судья, погружая взгляд в глаза подследственного.
Жак Коллен не дрогнул, не изменился в лице; он был невозмутим по-прежнему и с наивным любопытством глядел на Камюзо.
– Я! Каторжник?.. Орден, к которому я принадлежу, и бог да простят вам, сударь, подобное заблуждение! Скажите, что я должен сделать, чтобы вы не упорствовали в столь тяжком оскорблении международного права, церкви и короля, моего повелителя?
Судья, не ответив на вопрос, объяснил подследственному, что если тот когда-либо подвергался клеймению, к чему закон приговаривает осужденных на каторжные работы, то при ударе по его плечу на нем тотчас же выступят буквы.
– Ах, сударь! – сказал Жак Коллен. – Как это было бы дурно, если бы моя преданность делу короля обратилась в мою погибель!
– Что вы хотите этим сказать? – спросил судья. – Объяснитесь. Именно для того вы здесь и находитесь.
– Так вот, сударь, у меня на спине должно быть немало шрамов. Я был расстрелян в спину конституционалистами как изменник родине, хотя хранил верность моему королю. Они бросили меня, решив, что я мертв.
– Вас расстреляли, и вы живы?.. – сказал Камюзо.
– Я неплохо ладил с солдатами, которым благочестивые люди передали немного денег, и они поставили меня на таком расстоянии, что пули попадали в меня на излете. Солдаты стреляли в спину. Достоверность этого может засвидетельствовать его превосходительство посланник.
«Не человек, а дьявол; у него на все есть ответ. Тем лучше, впрочем», – подумал Камюзо, который напускал на себя суровость лишь в угоду правосудию и полиции.
– Как мог человек вашего звания, – сказал следователь, обращаясь к каторжнику, – оказаться у любовницы барона Нусингена? И какой любовницы! Бывшей девки!..
– Именно поэтому, сударь, меня и застали в доме куртизанки, – отвечал Жак Коллен. – Но, прежде чем объяснить, что привело меня в ее дом, я должен заметить следующее: не успел я подняться на первую ступеньку лестницы, как вдруг начался приступ моей болезни, который помешал мне поговорить мне вовремя с этой девушкой. Я был осведомлен о намерении мадемуазель Эстер покончить с собой, и так как дело касалось молодого Люсьена де Рюбампре, – я питаю к нему особую привязанность, причины которой священны, – я думал предостеречь бедное создание от поступка, на который ее толкало отчаяние; я хотел сказать ей, что последняя попытка Люсьена в отношении мадемуазель Клотильды обречена на неудачу, и я надеялся вернуть ей решимость жить, сообщив, что она унаследовала семь миллионов. Я уверен, господин судья, что стал жертвой тайн, доверенных мне. Судя по признакам моего заболевания, я думаю, что меня отравили; но мое крепкое здоровье меня спасло. Я знаю, что один агент политической полиции уже с давних пор преследует меня и ищет случая впутать какое-нибудь скверное дело… Если бы в момент моего ареста вызвали врача, как я просил, вы имели бы свидетельство о состоянии моего здоровья, подтверждающие мои жалобы. Поверьте, сударь, лица, стоящие выше нас с вами, очень заинтересованы в том, чтобы, отождествив меня с каким-нибудь злодеем, законным образом отделаться от меня. Не всегда выгодно служить королям, у них есть свои слабости; одна только церковь непогрешима.
Невозможно изобразить игру физиономии Жака Коллена, умышленно потратившего минут десять на произнесение – фраза за фразой – этой тирады; все сказанное было так правдоподобно, в особенности намек на Корантена, что следователь поколебался.
– Не сообщите ли вы мне о причине вашей привязанности к господину Люсьену де Рюбампре…
– Неужели вы не догадываетесь?.. Мне шестьдесят лет, сударь… Умоляю вас, не записывайте… Он… но так ли уж это необходимо…
– В ваших интересах, а тем более в интересах Люсьена де Рюбампре, сказать все, – отвечал следователь.
– Ну что ж! Он… о боже мой!.. Он мой сын! – прошептал он едва слышно.
И лишился чувств.
– Не заносите этого в протокол, Кокар, – тихонько сказал Камюзо.
Кокар встал, чтобы достать пузырек с уксусом «Четырех разбойников».
«Если это Жак Коллен, то он великий актер!..» – подумал Камюзо.
Кокар давал старому каторжнику нюхать уксус, а следователь тем временем изучал его с зоркостью рыси и судейского чиновника.
– Надо бы снять с него парик, – сказал Камюзо, пока Жак Коллен приходил в себя.
Старый каторжник, услышав эти слова, задрожал от страха: он знал, как омерзительна его физиономия без парика.
– Если вам самому трудно это сделать… пожалуйста, Кокар, снимите вы его, – сказал следователь секретарю.
Жак Коллен наклонился к секретарю с безропотностью, достойной восхищения, но тут его голова, лишившись привычного убора, обрела все свое природное безобразие. Зрелище это повергло Камюзо в большое замешательство. В ожидании врача и служителя он стал приводить в порядок и просматривать бумаги и вещи, изъятые из квартиры Люсьена. Потрудившись на улице Сен-Жорж у мадемуазель Эстер, судебные власти произвели обыск у Люсьена на набережной Малакэ.
– Вы завладели письмами графини де Серизи, – сказал Карлос Эррера, – но я не пойму, откуда у вас почти все бумаги Люсьена? – прибавил он с улыбкой, полной убийственной иронии по адресу следователя.
Камюзо, увидев эту улыбку, понял все значение слова почти!
– Люсьен де Рюбампре, заподозренный в сообщничестве с вами, арестован, – отвечал следователь, желавший увидеть, какое впечатление произведет эта новость на подследственного.
– Вы впали в величайшее заблуждение! Ибо он невиновен, как и я, – отвечал лжеиспанец, не выказывая ни малейшего волнения.
– Посмотрим! А пока займемся установлением вашей личности, – продолжал Камюзо, удивляясь спокойствию подследственного. – Если будет доказано, что вы действительно Карлос Эррера, это сразу же изменит положение Люсьена Шардона.
– Да, это была в самом деле госпожа Шардон, в девичестве мадемуазель де Рюбампре! – пробормотал Карлос. – Ах! Это одна из самых серьезных ошибок моей жизни!
Он возвел глаза к небу; губы его шевелились, казалось, он горячо молился.
– Но если вы Жак Коллен и если он заведомо был в связи с беглым каторжником, святотатцем, то все преступления, в которых его подозревает полиция, становятся более чем вероятными.
Карлос Эррера, слушая эту фразу, ловко брошенную следователем, хранил неподвижность бронзового изваяния; лишь при словах заведомо и беглый каторжник воздел руки движением, исполненным достоинства и горести.
– Господин аббат, – продолжал следователь чрезвычайно любезно, – если вы в самом деле дон Карлос Эррера, вы нас простите: мы вынуждены действовать в интересах правосудия и истины.
Жак Коллен почувствовал ловушку по одной лишь интонации следователя, с которой тот произнес слова господин аббат, но не подал и виду; Камюзо ожидал проявления радости, что изобличило бы его, выдав неизъяснимое удовлетворение преступника, обманувшего следователя; но он столкнулся с героем каторги, оружием которого было самое коварное притворство.
– Я дипломат и принадлежу к ордену, который налагает на нас весьма строгие обеты, – отвечал Жак Коллен с апостольской кротостью, – я все понимаю и привычен к страданиям. Я был бы уже свободен, если бы вы обнаружили тайник, где хранятся мои бумаги, ибо я вижу, что в ваших руках лишь самые незначительные из них…
То было последним ударом для Камюзо; непринужденность и простота Жака Коллена послужили противовесом подозрениям, возникшим у следователя при виде его головы без парика.
– Где эти бумаги?..
– Я укажу место их хранения, если вы согласитесь, чтобы ваше доверенное лицо сопровождал секретарь испанского посольства, которому они будут вручены и перед которым вы будете за них отвечать, ибо дело касается моего государства, дипломатических документов и тайн, опорочивших покойного короля Людовика Восемнадцатого. Ах, сударь, лучше было бы… Впрочем, вы судейский чиновник!.. К тому же посол, к которому я обращаюсь, рассудит сам…
В это время вошли врач и больничный служитель; об их приходе предварительно доложил пристав.
– Здравствуйте, господин Лебрен, – сказал Камюзо врачу. – Я вас вызвал, чтобы проверить состояние здоровья вот этого подследственного. Он говорит, что был отравлен, и утверждает, будто бы находится при смерти с позапрошлого дня; скажите, не повредит ли ему, если мы его разденем и приступим к установлению клейма…
Врач взял руку Жака Коллена, пощупал пульс, попросил показать язык и осмотрел его очень внимательно. Осмотр длился около десяти минут.
– Подследственный, – ответил врач, – был очень болен, но сейчас он совершенно здоров…
– Мой здоровый вид обманчив, я им обязан лишь нервному возбуждению, которое объясняется моим странным положением, – отвечал Жак Коллен с достоинством, подобающим епископу.
– Вполне возможно, – сказал г-н Лебрен.
По знаку г-на Камюзо, подследственный был раздет, на нем остались только панталоны, все остальное было снято, даже сорочка; и тут восхищенным взорам присутствующих предстал волосатый торс циклопической мощи. То был Геркулес Фарнезский из Неаполитанского музея, только не таких исполинских размеров.
– Для чего предназначает природа людей такого сложения? – сказал врач, обращаясь к Камюзо.
Пристав воротился с неким подобием деревянной колотушки, указывающей с незапамятных времен на его обязанность и именуемый жезлом; он нанес несколько ударов по тому месту, где палач выжигает роковые буквы. Тогда обозначилось семнадцать причудливо разбросанных шрамов; но несмотря на усердное изучение их, уловить очертания букв не удалось. Однако ж пристав заметил, что перекладина буквы Т намечена двумя углублениями, расстояние между которыми равно длине перекладины, с двумя завитками, заканчивающими ее с обоих концов, и третье углубление отмечат конечную точку ствола буквы.
– Но все это очень неотчетливо, – сказал Камюзо, заметив по лицу врача Консьержери, что тот в сомнении.
Карлос попросил произвести подобную операцию на другом плече и на спине. Проступило еще около пятнадцати шрамов и врач, исследовав их по настоянию испанца, заявил, что спина вся изборождена рубцами и невозможно обнаружить клеймо, если даже палач и наложил его.
В эту минуту вошел посыльный из канцелярии полицейской префектуры и, вручив г-ну Камюзо конверт, попросил ответа. Прочтя письмо, следователь подошел к Кокару и стал что-то говорить ему на ухо, но так тихо, что никто не мог услышать. Однако ж, перехватив взгляд Камюзо, Жак Коллен догадался, что префектом полиции присланы какие-то сведения о нем.
«По моим пятам по-прежнему следует друг Перада, – подумал Жак Коллен. – Когда бы я знал, кто он, я избавился бы от него, как от Контансона. Удастся ли мне еще раз увидеть Азию?..»
Когда бумага, составленная Кокаром, была подписана, следователь положил ее в конверт, запечатал его и протянул посыльному из канцелярии особых поручений.
Канцелярия особых поручений – необходимый помощник Правосудия. Эту канцелярию возглавляет полицейский пристав ad hoc, имеющий под началом полицейских надзирателей, которые приводят в исполнение, при помощи приставов соответствующих районов, приказы, касающиеся обыска и даже ареста лиц, подозреваемых в сообщничестве с преступниками либо правонарушителями. Эти уполномоченные судебной власти избавляют, таким образом, судейских чиновников, занятых следствием, от напрасной траты драгоценного времени.
Подследственный, по знаку Камюзо, был одет с помощью г-на Лебрена и больничного служителя, после чего оба они удалились вместе с приставом. Камюзо сел за письменный стол, поигрывая пером.
– У вас есть тетушка, – неожиданно сказал Камюзо Жаку Коллену.
– Тетушка?.. – удивился дон Карлос Эррера. – Но, сударь, у меня нет родственников, я непризнанный сын покойного герцога д'Оссуна.
А сам сказал про себя: «Горячо!», вспомнив игру в прятки, это наивное изображение жестокой борьбы между правосудием и преступником.
– Вздор! – сказал Камюзо. – У вас и доныне есть тетушка, мадемуазель Жакелина Коллен, которую вы поместили под диковинным именем Азии к девице Эстер.
Жак Коллен беззаботно пожал плечами, что было в полном согласии с выражением любопытства, изобразившимся на его лице, когда он услыхал слова следователя, наблюдавшего за ним с насмешливой внимательностью.
– Берегитесь! – продолжал Камюзо. – Слушайте меня хорошенько.
– Я вас слушаю, сударь.
– Ваша тетушка торговка в Тампле; ее лавочкой ведает некая девица Паккар, сестра одного осужденного, впрочем, весьма порядочная девица, по прозвищу Ромет. Правосудие напало на след вашей тетушки, и у нас через несколько часов будут неопровержимые улики. Эта женщина чрезвычайно вам предана…
– Продолжайте, господин следователь, – спокойно сказал Жак Коллен, как только Камюзо оборвал фразу, – я вас слушаю.
– Ваша тетушка, – она старше вас примерно лет на пять, – была любовницей ненавистной памяти Марата. Вот тот кровавый источник, откуда почерпнуто ее состояние… По сведениям, полученным мною, она чрезвычайно ловко умеет прятать концы в воду, ибо против нее нет еще улик. Согласно донесениям, имеющимся в моих руках, после смерти Марата она находилась в связи с неким химиком, который на двенадцатом году Революции был приговорен к смерти как фальшивомонетчик. Она выступала на процессе в качестве свидетельницы. За время этой связи она, по-видимому, приобрела от него познания в токсикологии. Она была торговкой нарядами с двенадцатого года Революции по тысяча восемьсот десятый год. Дважды сидела в тюрьме, в тысяча восемьсот двенадцатом и тысяча восемьсот шестнадцатом годах, за развращение малолетних… Вы тогда привлекались по делу о подлоге, вам пришлось уйти из банкирской конторы, куда ваша тетушка устроила вас в качестве служащего благодаря вашему образованию и покровительству, оказанному вашей тетушке лицами, которым она поставляла жертвы для их распутства… Все это отнюдь не похоже на величие герцогов д'Оссуна… Упорствуете ли вы в вашем запирательстве?
Жак Коллен слушал г-на Камюзо, вспоминая свое счастливое детство и коллеж Ораторианцев, где он учился; его задумчивое лицо, казалось, выражало искреннее недоумение. И как ни изощрялся Камюзо в искусстве допроса, ни один мускул не дрогнул на этом невозмутимо спокойном лице.
– Если вы точно записали объяснения, данные мною вначале, вы можете их перечесть, – отвечал Жак Коллен. – Мне нечего больше сказать… Я не бывал у куртизанки, как же я могу знать, кто у нее служил кухаркой? Мне совершенно неизвестны особы, о которых вы говорите.
– Ну что ж! Вопреки вашему запирательству приступим к очным ставкам, и, как знать, не собьют ли они с вас вашу самоуверенность?
– Человек, однажды стоявший под расстрелом, готов ко всему, – кротко отвечал Жак Коллен.
Камюзо опять уткнулся в бумаги, изъятые при аресте, и ожидал возвращения начальника тайной полиции. Тот оказался весьма проворным: допрос начался около одиннадцати часов, а когда часы показали половину двенадцатого, появился пристав и шепотом доложил следователю, что Биби-Люпен прибыл.
– Пусть войдет! – отвечал г-н Камюзо.
Биби-Люпен вошел, но, против всяких ожиданий, не вскричал: «Это, конечно, он!..», – а остановился удивленный. Он не узнавал своего клиента в этом человеке с лицом, изрытым оспой. Колебание агента озадачило следователя.
– Рост его, дородность его, – сказал Биби-Люпен. – Эге! Да это ты, Жак Коллен! – продолжал он, вглядываясь в его глаза, форму лба, ушей… – Есть в тебе то, чего нельзя перерядить… Конечно, это он, господин Камюзо… У Жака Коллена на левой руке должен быть шрам от ножевой раны; прикажите ему скинуть сюртук, вы увидите.
Жак Коллен был принужден снова снять сюртук. Биби-Люпен засучил рукав его сорочки и показал пресловутый шрам.
– Это след пули, – отвечал дон Карлос Эррера, – вот еще множество таких же шрамов.
– Ну конечно, и голос его! – вскричал Биби-Люпен.
– Ваша уверенность, – сказал следователь, – может быть принята к сведению, но это не доказательство.
– Знаю, – отвечал смиренно Биби-Люпен, – но я найду вам свидетелей. Одна нахлебница пансиона Воке уже здесь… – сказал он, глядя на Коллена.
Маска невозмутимого спокойствия, надетая на себя Колленом, не выразила ничего.
– Введите эту особу, – сказал г-н Камюзо решительно, но под личиной равнодушия в нем чувствовалось недовольство.
Его волнение не ускользнуло от Жака Коллена, мало надеявшегося на благосклонность судебного следователя, и он впал в состояние безразличия после бесплодных усилий понять причину этого недовольства.
Пристав ввел г-жу Пуаре, неожиданное появление которой заставило содрогнуться каторжника, но его испуг не был замечен следователем, казалось, принявшим какое-то решение.
– Как вы прозываетесь? – спросил следователь, приступая к исполнению формальностей, которыми начинаются все показания и допросы.
Г-жа Пуаре, старушонка в темно-синем шелковом платье, белесая и сморщенная, точно телячья грудинка, заявила, что прозывается Кристиной-Мишель-Мишоно, что она супруга сира Пуаре, что ей пятьдесят один год, что она родилась в Париже, проживает на углу улицы Пуль и улицы Пост и по своему положению содержательница меблированных комнат.
– Сударыня, – сказал следователь, – вы жили с тысяча восемьсот восемнадцатого по тысяча восемьсот девятнадцатый в семейном пансионе, который держала некая госпожа Воке?
– Да, сударь. Там я познакомилась с господином Пуаре, чиновником в отставке. Он стал моим мужем, но вот уже год как он прикован к постели… Бедняжка! Он так тяжело болен. Поэтому я не могу надолго отлучаться из дому…
– Не проживал ли там в вашу бытность некий Вотрен? – спросил следователь.
– О сударь, тут целая история! Это был страшный каторжник…
– Вы содействовали его аресту.
– Какая ложь, сударь!..
– Вы перед лицом правосудия, не забывайте этого!.. – сурово сказал г-н Камюзо.
Госпожа Пуаре умолкла.
– Постарайтесь вспомнить! – продолжал Камюзо. – Вы встречали этого человека?.. Узнали бы вы его?
– Ну еще бы!
– Так вот, не он ли это?.. – сказал следователь.
Госпожа Пуаре нацепила очки и воззрилась на аббата Карлоса Эррера.
– Плечист… приземист… но… нет… вот если бы… Господин судья, – продолжала она, – вот если бы мне взглянуть на его грудь, я бы вмиг его узнала. (См. Отец Горио.)
Следователь и протоколист расхохотались, забыв о важности своих обязанностей; Жак Коллен принял участие в их веселье, но в меру. Подследственный еще не успел надеть сюртук, снятый с него Биби-Люпеном, и, по знаку следователя, любезно распахнул сорочку.
– И точно, его шерстка… Но как она поседела, господин Вотрен! – воскликнула г-жа Пуаре.
– Что скажете теперь? – спросил следователь обвиняемого.
– Что это безумная! – отвечал Жак Коллен.
– Ах, боже мой! Да если бы я даже усомнилась, – ведь лицо-то у него было совсем другое, – зато голос тот же. Ну, конечно, это он мне тогда пригрозил… Ах! Это его взгляд!..
– Агент уголовной полиции и эта женщина не сговаривались между собою, а показали одно и то же, – заметил следователь, обращаясь к Жаку Коллену. – Ведь ни он, ни она не видели вас раньше. Как вы это объясните?
– Правосудие совершало ошибки еще более грубые, нежели та, к которой могут привести показания женщины, опознающей мужчину по волосам на его груди, и подозрения агента полиции, – отвечал Жак Коллен. – В моем голосе, взгляде, росте находят сходство с важным преступником… Это звучит неубедительно. Что касается до воспоминаний, которым, не краснея, предается мадам и которые свидетельствуют о ее коротких отношениях с моим двойником… то вы сами над этим посмеялись. Не будет ли вам угодно, сударь, для пользы дела, ради выяснения истины, которую я в моих интересах стремлюсь восстановить с неменьшим рвением, чем вы в интересах правосудия, спросить у этой дамы… у госпожи Фуа…
– Пуаре…
– Поре. Простите! (Ведь я испанец.) Не припомнит ли она, кто тогда жил в этом… Как, бишь, вы назвали этот дом…
– Частный пансион, – сказала г-жа Пуаре.
– Не знаю, что это такое! – отвечал Жак Коллен.
– Дом, где отпускают обеды и завтраки за плату.
– Вы правы! – воскликнул Камюзо, одобрительно кивнув головой Жаку Коллену, так он был поражен, с какой добросовестностью тот предоставлял ему способ добиться истины. – Попытайтесь припомнить столовников, находившихся в пансионе при аресте Жака Коллена.
– Там были господин де Растиньяк, доктор Бьяншон, отец Горио… мадемуазель Тайфер…
– Хорошо, – сказал следователь, неусыпно наблюдавший за Жаком Колленом, но лицо подследственного оставалось спокойным. – Так вот! Этот отец Горио…
– Он умер, – сказала г-жа Пуаре.
– Сударь, – сказал Жак Коллен, – у Люсьена я не однажды встречал некоего господина де Растиньяка. Насколько я помню, он имеет какое-то отношение к госпоже Нусинген. И если речь идет о нем, он никогда не признавал во мне беглого каторжника, за которого меня пытаются выдать.
– Господин де Растиньяк и доктор Бьяншон, – сказал следователь, – занимают такое общественное положение, что их свидетельства, если оно окажется благоприятным для вас, будет достаточно, чтобы вас освободить. Кокар, приготовьте повестки.
Через несколько минут все формальности, связанные с показаниями г-жи Пуаре, были закончены. Кокар прочел ей протокол только что разыгравшейся сцены, и она подписала его; но подследственный подписать отказался, ссылаясь на незнание правил французского судопроизводства…
– Ну и достаточно на сегодняшний день, – сказал г-н Камюзо. – Вы, вероятно, проголодались; я прикажу проводить вас обратно в Консьержери.
– Увы! Я слишком страдаю, я не могу есть, – сказал Жак Коллен.
Камюзо хотел приурочить возвращение Жака Коллена в тюрьму к часу прогулки заключенных во внутреннем дворике, но он ожидал от начальника Консьержери ответа на вопрос, переданный ему утром, и позвонил, чтобы вызвать пристава. Вошел пристав и доложил, что привратница с набережной Малакэ желает вручить ему важную бумагу касательно г-на Люсьена де Рюбампре. Это обстоятельство было столь важным, что Камюзо забыл о своем намерении.
– Пусть войдет! – сказал он.
– Прошу прощенья, – сказала привратница, кланяясь по очереди следователю и аббату Карлосу. – Оба раза, как приходила полиция, у нас с мужем делалось какое-то помрачение рассудка и мы забывали про письмо для господина Люсьена, что лежало на комоде. А ведь мы десять су заплатили за его доставку, такое оно тяжелое, даром что парижское! Не вернете ли мне мои денежки? Бог ведает, когда мы увидим наших квартирантов!
– Письмо вручил вам почтальон? – спросил Камюзо, чрезвычайно внимательно осмотрев конверт.
– Да, сударь.
– Кокар, внесите в протокол это заявление. Ну, тетушка, назовите ваше имя, звание…
Камюзо привел привратницу к присяге, потом продиктовал протокол.
Выполняя эти формальности, он проверял почтовый штемпель с обозначением времени выемки из почтового ящика и разноски, а также и дату. Это письмо, доставленное Люсьену на другой же день после смерти Эстер, было без сомнения написано и отправлено в день роковой развязки.
Можете вообразить теперь, как был изумлен г-н Камюзо, когда он прочитал нижеследующее письмо, написанное и подписанное той, которую правосудие считало жертвой преступления:
«Эстер Люсьену.
Понедельник. 13 мая 1830.(Последний день моей жизни, 10 часов утра.)Мой Люсьен, мне не осталось жить и часа. В одиннадцать я буду мертва, но я умру без страданий. Я заплатила пятьдесят тысяч франков за очаровательную черную ягодку смородины, отравленную ядом, который убивает с молниеносной быстротой. Стало быть, ты можешь сказать себе, дружок: «Моя милая Эстер не страдала…» Я страдаю лишь теперь, пока пишу эти строки.
Нусинген, это чудовище, которое купило меня по такой дорогой цене, зная, что день, когда я увижу себя его собственностью, будет моим последним днем, только что уехал, пьяный, как налакавшийся медведь. Первый и последний раз в моей жизни я могла сравнить свое прежнее ремесло продажной женщины с жизнью в любви; нежность, растворяющуюся в бесконечности, противопоставить ужасу перед гнусной обязанностью, толкающему на самоубийство, только бы избежать поцелуя. Надо было испытать всю полноту отвращения, чтобы смерть показалась желанной… Я приняла ванну; мне хотелось позвать монастырского священника, крестившего меня, чтобы исповедаться и омыть душу. Но довольно этого позора, не надо осквернять таинство; к тому же я чувствую себя омытой в водах искреннего раскаяния. Да будет надо мной воля господня.
Оставим все эти причитания; я хочу быть для тебя до последней минуты твоей Эстер, не докучать тебе моей смертью, страхом будущего, милосердным богом, который не был бы милосерд, если бы стал мучить меня и в загробной жизни, после того как я испытала столько страданий здесь, на земле…
Передо мной твой прелестный портрет на слоновой кости, выполненный госпожой де Мирбель. Этот портрет утешал меня в твое отсутствие, я гляжу на него с упоением, записывая для тебя свои последние мысли, передавая тебе последние биения моего сердца. Вместе с письмом я вложу в конверт и этот портрет; я не хочу, чтобы его украли или продали. Одна мысль о том, что предмет, доставлявший мне такую радость, окажется на витрине в лавке старьевщика, среди изображений дам и офицеров времен Империи либо среди китайских болванчиков, бросает меня в дрожь. Портрет уничтожь, милый мой, не дари его никому… Разве такое подношение вернет тебе сердце этой разодетой ходячей щепки, Клотильды де Гранлье, которая наставит тебя синяков во время сна, такие у ней острые локти…
Пусть! Я согласна на это, я еще тебе пригожусь, как бывало при жизни. Ах, разве не склонилась бы я над жаровней, с яблоком во рту, чтобы его испечь для тебя, лишь бы доставить тебе удовольствие или просто услышать твой смех!.. Быть может, моя смерть еще послужит на пользу тебе… Я расстроила бы твое семейное счастье… О, эта Клотильда, я не понимаю ее! Быть твоей женой, носить твое имя, не разлучаться с тобой ни днем, ни ночью, быть твоей и… жеманиться! Для этого надобно родиться в Сен-Жерменском предместье! И не иметь десяти фунтов мяса на костях…
Бедный Люсьен! Милый мой, незадачливый честолюбец, я думаю о твоей будущности! Слушай, ты не раз пожалеешь о своей бедной, верной собаке, об этой доброй девушке, обратившейся ради тебя в воровку, готовой сесть на скамью подсудимых, чтобы обеспечить твое счастье; о девушке, единственным занятием которой было мечтать о твоих удовольствиях, изобретать их для тебя, о девушке, у которой каждая клеточка тела дышала любовью к тебе; о твоей ballerina, каждым взглядом благословлявшей тебя; о той, которая шесть лет думала об одном тебе и была твоей собственностью настолько, что являлась лишь излучением твоей души, как свет является излучением солнца. Но, увы! У меня нет ни денег, ни титула, я не могу стать твоей женой… Я всегда заботилась о твоем будущем и отдавала тебе все, что у меня было… Приходи тотчас же, как только получишь это письмо, и возьми то, что найдешь под моей подушкой, ибо я не доверяю слугам…
Видишь ли, я хочу быть прекрасной даже мертвая. Я лягу на кровать, вытянусь, словом, приму позу! Потом я прижму ягодку смородины к нёбу, и меня не обезобразят ни судороги, ни нелепое положение тела.
Я знаю, что госпожа де Серизи поссорилась с тобой из-за меня; но, видишь ли, мой мальчик, когда она узнает, что я умерла, она тебя простит, ты ее уговоришь, она тебя превосходно женит, если Гранлье будут упорствовать в своем отказе.
Мой Люлю, я не хочу, чтобы ты отчаивался, узнав о моей смерти. Я должна сказать тебе, что сегодня, в понедельник тринадцатого мая, в одиннадцать часов утра, наступит лишь конец продолжительной болезни, которая началась в тот день, когда с Сен-Жерменских высот вы вернули меня к прежней моей жизни… Душа заболевает, как и тело. Но душа не позволяет себе мучиться так глупо, как мучается тело; тело не поддерживает душу, как душа поддерживает тело – у нее есть возможность излечить себя размышлением, которое приводит нас к жаровне с углями, излюбленному средству швеек. Ты подарил мне целую жизнь, сказав позавчера, что если Клотильда еще раз тебе откажет, ты женишься на мне. Но это было бы великое несчастье для нас обоих! Жизнь моя была бы, как говорят, горше горького, ибо смерть, так или иначе, всегда горька. Никогда свет не признал бы нас.
Вот уже два месяца, как я размышляю, и о многом, знаешь ли! Некая бедная девушка валяется в грязи, как я до моего поступления в монастырь; мужчины находят ее красивой, они принуждают ее служить их утехам и, отнюдь не утруждая себя внимательностью к ней, отсылают ее домой пешком, хотя приезжали с нею на карете; если ей не плюют в лицо, то лишь потому, что от оскорбления ее защищает красота; но в смысле нравственном они поступают хуже. Так вот! Унаследуй эта девушка пять-шесть миллионов, и ее будут домогаться принцы, ей станут почтительно кланяться, когда она проедет мимо в своей карете, она вольна будет выбирать мужа среди стариннейших родов Франции и Наварры. Тот самый свет, который сказал бы нам, двум красивым, любящим и счастливым существам: Рака! – постоянно приветствовал госпожу де Сталь, несмотря на ее похождения, потому что у нее было двести тысяч ливров годового дохода. Свет, склоняющийся перед Деньгами или Славой, не желает склоняться перед Счастьем и Добродетелью; а ведь я творила бы добро… О, сколько слез осушила бы я!.. Столько же, думаю, сколько я их пролила сама! Да, я желала бы жить только ради тебя и дел милосердия.
Вот размышления, после которых смерть кажется мне желанной. Так стоит ли сетовать, мой ласковый мальчик? Говори себе почаще: жили на свете две славные девушки, два красивых существа, которые обожали меня и умерли за меня без единого слова упрека! Храни в сердце память о Корали и Эстер и живи своей жизнью! Помнишь тот день, когда ты указал мне на дряхлую старуху в шляпке цвета незрелой дыни и побуревшем ватном пальтишке в сальных пятнах, то была возлюбленная какого-то дореволюционного поэта: солнце не согревало ее, хотя она сидела на террасе Тюильри, ухаживая за отвратительным мопсом, последним из мопсов! Ты сказал: «Знаешь, у нее когда-то были лакеи, экипажи, особняк!» Я тогда ответила тебе: «Лучше умереть в тридцать лет!» В тот день я была задумчива. Как ты старался разогнать мою печаль! И целуясь с тобой, я еще сказала: «Красивые женщины всегда уходят из театра, не ожидая, пока опустится занавес!..» Ну что ж! Я не захотела ожидать развязки, вот и все…
Ты должен счесть меня болтуньей, но ведь я в последний раз несу вздор! Я пишу так, как говорила с тобой, мне хочется побалагурить. Меня всегда ужасали эти плаксивые швейки; ты знаешь, однажды я уже пробовала красиво умереть, вернувшись после этого рокового бала в Опере, где сказали тебе, что я была девкой!
О, мой Люлю, не дари никому этого портрета! Если бы ты знал, с какой горячей любовью я только что глядела в твои глаза, прервав письмо, с каким опьянением я погружала свой взгляд в их глубину, ты подумал бы, вновь овеянный любовью, которую я стремилась вложить в эту пластинку из слоновой кости, что в ней заключена душа твоей любимой подруги.
Мертвая, и просит милостыни, не забавно ли это?.. Полно! Надобно уметь держать себя пристойно даже в могиле.
Вообрази только, какой героической показалась бы моя смерть глупцам, если бы они знали, что этой ночью Нусинген предлагал мне два миллиона, только бы я полюбила его, как тебя. Барон увидит, как он ловко обворован, когда узнает, что я сдержала свое слово, подохнув из-за него. Я все испробовала, чтобы дышать тем же воздухом, которым дышишь ты. Я говорила этому толстому вору: «Я полюблю вас так, как вам хочется! Я даже пообещаю никогда больше не встречаться с Люсьеном…» «Что надо сделать? – спросил он. «Дадите мне два миллиона для него?» Нет, если бы ты только видел его гримасу! Ах, и посмеялась бы я, не будь это так трагично для меня. «Остерегитесь отказать! – сказала я ему. – Я вижу, вам дороже два миллиона, нежели я. Женщине всегда приятно знать, чего она стоит», – прибавила я, повернувшись к нему спиной.
Через несколько часов старый мошенник узнает, что я не шутила.
Кто тебе сделает пробор так же хорошо, как я? Ба! Не желаю больше думать о житейских делах, времени у меня всего пять минут, посвящу их богу; не ревнуй, мой милый ангел, я поговорю с ним о тебе, вымолю у него счастье для тебя ценой моей смерти и вечных мук на том свете. А ведь досадно попасть в ад: мне так хотелось бы увидеть ангелов, чтобы узнать, похожи ли они на тебя…
Прощай, мой Люлю, прощай! Благословляю тебя от всей глубины моего несчастья. До могилы
Твоя Эстер…Бьет одиннадцать. Я помолилась, ложусь, чтобы умереть. Прощай! Я хочу, чтобы моя душа теплом моей руки перешла в этот листок, который передает тебе мой последний поцелуй: и я хочу еще раз назвать тебя моим милым мальчиком, хотя ты и причина смерти твоей
Эстер».Чувство зависти стеснило сердце следователя, когда он прочел это письмо самоубийцы, написанное с такой живостью, пусть лихорадочной, в последнем усилии слепой любви.
«Чем он примечателен, что его так любят?» – подумал он, повторяя то, что говорят все мужчины, не обладающие даром нравиться женщинам.
– Если вам удастся доказать, что вы не Жак Коллен, бывший каторжник, а действительно дон Карлос Эррера, каноник из Толедо, негласный посланник его величества Фердинанда Седьмого, – сказал следователь Жаку Коллену, – вы будете освобождены, ибо беспристрастие, к которому обязывает моя должность, заставляет меня сказать вам, что я только что получил письмо девицы Эстер Гобсек, где она признается в намерении наложить на себя руки и высказывает сомнение в честности слуг; по-видимому, они-то и виновны в похищении семисот пятидесяти тысяч франков.
Держа свою речь, г-н Камюзо одновременно сличал почерки письма с почерком завещания; письмо бесспорно было написано одной и той же рукой.
– Вы чересчур поспешно, сударь, поверили в убийство, не будьте чересчур поспешны, поверив в кражу.
– А-а!.. – протянул Камюзо, окинув подследственного взглядом следователя.
– Не подумайте, что я набрасываю не себя тень, сказав вам, что эти деньги, возможно, будут найдены, – продолжал Жак Коллен, давая понять следователю, что он предвосхищает его подозрения. – Слуги любили бедную девушку; и, будь я на свободе, я занялся бы розысками этих денег, которые принадлежат теперь Люсьену, существу, любимому мною больше всего на свете. Не соблаговолите ли вы дать мне прочесть письмо? Это дело минуты… Ведь в нем доказательство невиновности моего дорогого мальчика… Вам нечего опасаться, что я его уничтожу… или сообщу о нем, ведь я в одиночной камере.
– В одиночной!.. – вскричал судейский чиновник. – Вы туда больше не вернетесь. Теперь уже я вас прошу установить с наивозможной быстротой ваше звание; обратитесь к вашему послу, ежели угодно…
И он протянул письмо Жаку Коллену. Камюзо был счастлив, почувствовав, что он может выпутаться из затруднительного положения, удовлетворив генерального прокурора, г-жу де Монфриньез и г-жу де Серизи. Однако ж он изучал холодно и с любопытством лицо своего подследственного, пока тот читал письмо куртизанки; и, хотя на этом лице были отражены самые искренние чувства, он говорил себе: «А все же это физиономия каторжника».
– Вот как его любят!.. – сказал Жак Коллен, возвращая письмо; и когда он поднял лицо, Камюзо увидел, что оно облито слезами. – Если бы вы знали его, – продолжал он. – Какая это юная, какая чистая душа, а какая блистательная красота! Дитя, поэт… невольно чувствуешь желание пожертвовать собою ради него, удовлетворить его малейшие прихоти. Милый Люсьен, как он очарователен, когда ласков!..
– Послушайте, – сказал судейский чиновник, делая еще одно усилие обнаружить истину, – не может быть, вы не Жак Коллен…
– Нет, сударь, – отвечал каторжник.
И в эту минуту Жак Коллен, как никогда, был доном Карлосом Эррера. Желая завершить свой подвиг, он подошел к следователю, увел его в нишу окна и, подражая манерам князей церкви, принял доверительный тон.
– Я так люблю этого мальчика, сударь, что если бы понадобилось объявить себя преступником, за которого вы принимаете меня, ради того, чтоб избавить от неприятностей кумира моей души, я принял бы на себя вину, – сказал он, понизив голос. – Я поступил бы по примеру бедной девушки, убившей себя ради него. Потому-то я и умоляю вас, сударь, оказать мне милость и немедленно освободить Люсьена.
– Мой долг не позволяет мне этого, – сказал Камюзо добродушно, – но раз это в согласии с велениями неба, правосудие умеет быть обходительным, и если вы представите веские доказательства… Говорите откровенно, записывать не будем…
– Так вот, – продолжал Как Коллен, обманутый добродушием Камюзо, – я знаю, как страдает бедный мальчик в эту минуту; он способен покончить с собой, оказавшись в тюрьме…
– О, что касается до этого!.. – сказал Камюзо, пожимая плечами.
– Вы не знаете, кого вы обязываете, обязывая меня, – прибавил Жак Коллен, желавший тронуть другие струны. – Вы оказываете услугу Ордену более могущественному, нежели какие-то графини де Серизи, герцогини де Монфриньез… да, кстати, они-то и не простят вам, что их письма очутились в вашем кабинете… сказал он, указывая на две раздушенные пачки их посланий. – Мой Орден памятлив…
– Сударь, – сказал Камюзо, – довольно! Поищите другие доводы для меня. Я несу мой долг столько же перед подследственным, сколько и перед общественным обвинением.
– Ну, так поверьте мне, я знаю Люсьена, у него душа женщины, поэта и южанина, переменчивая и безвольная, – продолжал Жак Коллен, утвердившийся в своей догадке, что следователь склоняется в его сторону. – Вы убедились в невиновности молодого человека, так не мучайте же его, не подвергайте допросу; покажите ему это письмо, скажите, что он наследник Эстер, и отпустите его на волю… Если вы поступите иначе, вы раскаетесь; а если просто без оговорок, возвратите ему свободу, я сам вам объясню (оставьте меня в секретной) завтра или нынче вечером все, что могло вам показаться загадочным в этом деле, а также причины ожесточенного преследования моей особы; но я рискую жизнью, ведь моей головы домогаются уже пять лет… Если Люсьен будет свободен, богат, женат на Клотильде де Гранлье, моя земная миссия окончена, я не буду больше спасать свою шкуру… Мой преследователь – шпион вашего последнего короля…
– А-а! Корантен!
– Ах, его имя Корантен?.. Благодарю вас… Итак, сударь, обещаете ли вы исполнить мою просьбу?..
– Следователь не может и должен ничего обещать… Кокар, распорядитесь, чтобы пристав и жандармы препроводили подследственного в Консьержери!.. Я прикажу, чтобы нынче же вечером вы уже были в пистоли, – прибавил он мягко, кивнув головой подследственному.
Пораженный просьбой Жака Коллена, только что им выслушанной, и вспоминая, с какой настойчивостью, ссылаясь на свое болезненное состояние, он добивался, чтобы его допросили первым, Камюзо вновь почувствовал недоверие к нему. Охваченный смутными подозрениями, он увидел, что мнимый умирающий шагает, как Геркулес, бросив все свои так отлично разыгранные приемы, ознаменовавшие его появление.
– Сударь!..
Жак Коллен обернулся.
– Вопреки вашему отказу подписать протокол допроса, секретарь все же прочтет вам его.
Подследственный удивительно хорошо себя чувствовал; живость его движений, когда он подошел к столу и сел подле протоколиста, явилась последним лучом света для судебного следователя.
– Вы так быстро выздоровели? – сказал Камюзо.
«Я засыпался», – подумал Жак Коллен. Потом он сказал вслух:
– Радость, сударь, единственное лекарство против всех зол… Это письмо – доказательство невиновности человека, в которой я и не сомневался… вот великое целебное средство.
Следователь провожал своего подследственного задумчивым взглядом, пока пристав и жандармы уводили его; потом он потянулся, как просыпающийся человек, и бросил письмо Эстер на стол протоколиста:
– Кокар, снимите копию с этого письма!..
Если человеку вообще свойственно настораживаться, когда его умоляют сделать что-нибудь противное его интересам или его долгу, а зачастую даже что-либо и вовсе для него безразличное, то у следователя это свойство – закон. Чем настойчивее подследственный, личность которого не была еще установлена, намекал на громы небесные, в случае, если Люсьен будет допрошен, тем более этот допрос казался необходимым Камюзо.
Формальность эта, согласно судебному уставу и обычаям, не являлась необходимой, если бы вопрос не шел об опознании аббата Карлоса. На любом поприще существует своя профессиональная совесть. Не будучи подстрекаем любопытством, Камюзо допрашивал бы Люсьена, выполняя свой служебный долг, как он только что допрашивал Жака Коллена, и прибегая к уловкам, которые дозволяет себе самый честный следователь. Оказать услугу, выдвинуться – все это для Камюзо отступало на второй план перед желанием узнать истину, угадать правду, хотя бы ее не пришлось оглашать. Он барабанил пальцем по стеклу, отдаваясь потоку нахлынувших догадок, ибо в таких случаях мысль подобна реке, пробегающей по тысяче стран. Любовник истины, судья подобен ревнивой женщине; он строит множество предположений и исследует их кинжалом недоверия, как древний жрец вскрывал брюхо жертвы; потом он останавливается, но еще не на истине, а на вероятности, пока, наконец, не различит истину. Женщина допрашивает возлюбленного, как следователь преступника. И тут достаточно малейшего проблеска, слова, перемены в голосе, колебания, чтобы угадать скрываемый проступок, предательство, преступление.
«По тому, как он только что описывал свою преданность сыну (если это его сын), мне начинает казаться, что он торчал в доме этой девки, сторожа добычу; и, не зная, что под подушкой умершей спрятано завещание, он взял для своего сына эти семьсот пятьдесят тысяч в счет аванса!.. Вот причина его обещания разыскать эти деньги. Господин де Рюбампре обязан выяснить, ради себя самого себя и правосудия, гражданское состояние своего отца… А обещать мне покровительство своего Ордена (своего Ордена!), если я не буду допрашивать Люсьена!..»
И он остановился на этой мысли.
Как мы уже видели, судебный следователь направляет допрос по своему усмотрению. Он волен прибегнуть к хитрости либо обойтись без нее. Допрос – это ничто и это все. В нем таится возможность благополучного исхода. Камюзо позвонил, снова вошел пристав. Следователь велел привести к нему Люсьена де Рюбампре, строго наказав, чтобы тот во время пути ни с кем не общался. Было около двух часов пополудни.
«Тут кроется тайна, – сказал сам себе следователь, и тайна, видимо, важная. Разглагольствования этой амфибии, ибо он не священник, не мирянин, не каторжник, не испанец, свидетельствуют о том, что он боится, как бы из уст его воспитанника не вырвалось какое-то страшное признание; суть его слов такова: «Поэт слаб, как женщина; он не то, что я – Геркулес дипломатии, и вы легко вырвете у него нашу тайну! Ну что ж! Мы узнаем все от невиновного».
И он принялся постукивать по столу ножом из слоновой кости, пока протоколист переписывал письмо Эстер. Сколько странностей таят в себе наши дарования! Камюзо предполагал все возможные преступления и проходил мимо того единственного, что совершил подследственный, – мимо подложного завещания в пользу Люсьена. Пусть тот, кто завидует положению судейских, крепко призадумается над этой жизнью, протекающей в вечных подозрениях, в вечных пытках, которым эти люди подвергают свой мозг, ибо дела гражданские не менее запутаны, чем уголовные, и тогда, как знать, не согласятся ли они, что священник и судейский чиновник несут на себе равно тяжелое ярмо, изнутри усеянное шипами. Впрочем, во всякой профессии есть своя власяница и свои китайские головоломки.
Около двух часов Люсьен де Рюбампре вошел к г-ну Камюзо. Он был бледен, расстроен, глаза покраснели и распухли от слез – словом, он дошел до полного изнеможения, и это позволило следователю сличить природу с искусством – подлинную агонию с игрой актера. Путь, пройденный им от Консьержери до кабинета следователя под охраной двух жандармов, с приставом во главе, довел отчаяние Люсьена до предела. Предпочесть пытку допросу – в духе поэта. Наблюдая эту натуру, совершенно лишенную нравственного мужества, которое лежит в основе характера судьи и которое только что проявилось во всей своей силе у другого подследственного, г-н Камюзо даже пожалел, что так легко достанется ему победа, но презрение позволило ему нанести решительные удары, дав ему ту страшную свободу духа, что отличает стрелка, готовящегося сбить гипсовую мишень в тире.
– Успокойтесь, господин де Рюбампре, вы находитесь в присутствии судьи, готового исправить зло, невольно причиняемое правосудием, когда оно налагает предварительный арест без достаточного к тому основания. Я полагаю, что вы невиновны, вас освободят незамедлительно. Вот письмо, доказательство вашей невиновности; оно хранилось у вашей привратницы, покамест вы отсутствовали; она только что его принесла. Встревоженная обыском и известием о вашем аресте в Фонтенебло, женщина эта забыла о письме, написанном мадемуазель Эстер Гобсек… Читайте!
Люсьен взял письмо, прочел и залился слезами. Он так рыдал, что не мог произнести ни слова. Четверть часа позже, когда Люсьен немного пришел в себя, протоколист подал ему копию письма, попросив поставить подпись под словами: «С подлинным верно. Подлинник представляется по первому требованию в продолжение следствия», и предложил сличить, но Люсьен, разумеется, положился на заверение Кокара, что копия верна.
– Однако ж, сударь, – сказал следователь с самым добродушным видом, – трудно освободить вас, не выполнив наших обычных формальностей и не задав вам некоторых вопросов. Я обращаюсь к вам почти как к свидетелю. Такому человеку, как вы, я не счел бы нужным напоминать, что клятва, обязывающая говорить всю правду, является здесь не только призывом к вашей совести: к ней обязывает и ваше положение, пусть временно, но все еще двусмысленное. Истина, какова бы она ни была, ничуть вам не повредит; но ложь поставила бы вас перед судом присяжных, а меня вынудила бы отправить вас обратно в Консьержери, тогда как, ответив откровенно на мои вопросы, вы нынче же будете ночевать дома и ваше доброе имя будет восстановлено следующим сообщением, опубликованным в газетах: «Господин де Рюбампре, арестованный вчера в Фонтенебло, тотчас же освобожден после краткого допроса».
Речи эти произвели сильное впечатление на Люсьена, и следователь, заметив перемену в настроении своего подследственного, прибавил:
– Повторяю, вас подозревали как сообщника в убийстве путем отравления девицы Эстер; но имеется доказательство самоубийства, этим все сказано. Вместе с тем похищена сумма в семьсот пятьдесят тысяч франков, составляющая часть наследства, а вы – наследник; тут, к несчастью, наличие преступления. Это преступление совершено прежде, чем было обнаружено завещание. Правосудие имеет свои причины полагать, что на это преступление в вашу пользу решилось лицо, любящее вас, как любила вас эта девица Эстер… Не перебивайте меня, – сказал Камюзо, жестом приказывая молчать Люсьену, когда тот хотел что-то возразить, – я вас еще не допрашиваю. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько важно в интересах вашей чести разрешить этот вопрос. Откажитесь от лжи, от этой жалкой круговой поруки, связывающей сообщников, и скажите всю правду.
Читатель должен был уже заметить чрезвычайную несоразмерность оружия в этой борьбе между подследственным и следователем. Конечно, запирательство, искусно примененное, находит опору в категоричности формы самого отрицания и, как средство самозащиты преступника, себя оправдывает: но эти своего рода доспехи не спасут его, едва лишь стилет вопроса попадет в незащищенное место. Запирательство подследственного бессильно против уличающих фактов, и подследственный всецело оказывается во власти следователя. Вообразите теперь полупреступника, вроде Люсьена, который, спасшись при первом крушении своей добродетели, мог бы исправиться и быть полезным своей стране: он неминуемо запутается в сетях допроса. Следователь составляет весьма сухой протокол, точный перечень вопросов и ответов, в котором от его слащавых отеческих речей, от его от его коварных увещеваний в духе вышеописанных не остается и следа. Судьи высших судебных инстанций и присяжные получают лишь результаты, не зная, какими средствами они добыты. Потому суд присяжных, по мнению некоторых разумных людей, превосходно годился бы для ведения следствия, как это принято в Англии. Франция некоторое время пользовалась этим правилом судопроизводства. По кодексу брюмера IV года это установление именовалось обвинительным судом присяжных, в противоположность суду присяжных, выносящих приговор. Что же касается окончательного решения дела, если бы вернулись к обвинительному суду присяжных, то его надлежало бы передать коронным судам без участия присяжных.
– А теперь, – сказал Камюзо, помолчав, – как вас зовут? Господин Кокар, внимание!.. – сказал он протоколисту.
– Люсьен Шардон де Рюбампре.
– Родились?
– В Ангулеме…
И Люсьен указал день, месяц, год.
– У вас не было родового поместья?
– Никакого.
– Вы, однако ж, позволяли себе, когда приехали в Париж впервые, значительные траты при вашем скромном состоянии?
– Да, сударь; но в ту пору у меня был глубоко преданный мне друг мадемуазель Корали; к несчастью, я ее потерял. Горе, причиненное мне этой утратой, привело меня тогда обратно на родину.
– Хорошо, сударь, – сказал Камюзо. – Хвалю за прямоту, она будет оценена по достоинству.
Люсьен явно вступал на путь полного признания.
– Вы позволяли себе траты еще более значительные по возвращении из Ангулема в Париж, – продолжал Камюзо, – вы жили, как человек, располагающий годовой рентой примерно тысяч в шестьдесят франков.
– Да, сударь.
– Кто снабжал вас такими деньгами?
– Мой покровитель, аббат Карлос Эррера.
– Где вы с ним познакомились?
– Я встретил его на проезжей дороге, в минуту, когда я хотел покончить жизнь самоубийством…
– Вам не доводилось слышать о нем в вашей семье, от вашей матери?..
– Никогда.
– Ваша мать никогда не говорила вам, что встречалась с каким-либо испанцем?
– Никогда…
– Не припомните ли месяц и год, когда вы познакомились с девицей Эстер?
– В исходе тысяча восемьсот двадцать третьего года, в маленьком театре на Бульварах.
– Вы сперва платили ей?
– Да, сударь.
– Недавно, желая жениться на мадемуазель де Гранлье, вы купили развалины замка де Рюбампре, присоединили к нему на миллион земельных угодий, затем сказали семье де Гранлье, что ваша сестра и ваш зять только что получили крупное наследство и что вы обязаны этими суммами их щедрости… Говорили вы это семье де Гранвиль?
– Да, сударь.
– Известна ли вам причина расстройства вашей женитьбы?
– Совершенно неизвестна, сударь.
– Так вот! Семейство де Гранлье послало к вашему зятю одного из самых уважаемых парижских адвокатов, чтобы навести справки. В Ангулеме этот адвокат из собственных признаний вашей сестры и вашего зятя выяснил, что они одолжили вам сущие пустяки и что наследство их заключалось в недвижимости, правда достаточно крупной, но денежный их капитал едва достигает двухсот тысяч франков. Нет ничего удивительного, что такая семья, как де Гранлье, отступает перед состоянием, законное происхождение которого не доказано… Вот, сударь, куда вас завела ложь…
Люсьен похолодел при этом разоблачении и окончательно потерял присутствие духа.
– Полиция и судебные власти знают все, что они хотят знать, – сказал Камюзо, – призадумайтесь над этим. А теперь скажите, – продолжал он, имея в виду самозванное отцовство Жака Коллена, – знаете ли вы, кто он, так называемый Карлос Эррера?
– Да, сударь, но я узнал об этом чересчур поздно…
– Как чересчур поздно? Объяснитесь!
– Он не священник, он не испанец, он…
– Беглый каторжник? – с живостью сказал следователь.
– Да, – отвечал Люсьен. – Когда роковая тайна была мне открыта, я уже был его должником. Я думал, что связал себя с уважаемым служителем церкви…
– Жак Коллен… – начал было следователь.
– Да, Жак Коллен, – повторил Люсьен, – таково его имя.
– Отлично! Жак Коллен, – продолжал г-н Камюзо, – только что был опознан одной особой, и если он еще упорствует, то я думаю, лишь оберегая ваши интересы. Но, спросив вас, знаете ли вы, кто этот человек, я имел в виду разоблачить другой обман Жака Коллена.
Точно раскаленным железом обожгло Люсьена, когда он услышал это убийственное замечание.
– Знаете ли вы, – снова спросил следователь, – что он выдает себя за вашего отца для оправдания своей страстной привязанности к вам?
– Он мой отец!.. О сударь!.. Он сказал это?
– Догадываетесь ли вы об источнике, откуда он черпает те суммы, которые вручал вам? Ведь если верить письму, которое вы держите в руках, девица Эстер, эта бедная девушка, позже оказывала вам те же услуги, что и девица Корали; но вы, по вашим словам, жили в продолжение нескольких лет, и чрезвычайно роскошно, ничего от нее не получая.
– Это я должен у вас спросить, сударь, – вскричал Люсьен, – откуда каторжники получают деньги!.. Какой-то Жак Коллен мой отец! О бедная матушка!..
И он залился слезами.
– Кокар, прочтите подследственному ту часть допроса так называемого Карлоса Эррера, где он называет себя отцом Люсьена де Рюбампре…
Поэт слушал чтение молча и с таким самообладанием, что на него было больно смотреть.
– Я погиб! – воскликнул он.
– На пути чести и истины не погибают, – сказал следователь.
– Но вы предадите Жака Коллена суду присяжных? – спросил Люсьен.
– Конечно, – отвечал Камюзо, подстрекая Люсьена на новые признания. – Закончите же вашу мысль.
Но, несмотря на все усилия и увещания следователя, Люсьен больше не отвечал на его вопросы. Способность размышлять вернулась к нему чересчур поздно, как свойственно тем людям, которые являются рабами своих чувств. В этом различие между поэтом и человеком действия: один отдается чувству, чтобы потом воссоздать его в живых образах, и судит о нем лишь позднее, тогда как другой судит и чувствует одновременно. Люсьен помрачнел, побледнел, он чувствовал себя сброшенным в пропасть, куда его столкнул судебный следователь, обманувший поэта своим добродушием. Он предал не только своего благодетеля, но и сообщника, защищавшего его интересы с яростью льва, с поразительной отвагой, с поразительной ловкостью. Там, где Жак Коллен все спас своей отвагой, Люсьен, человек высокого ума, погубил все своей несообразительностью и отсутствием выдержки. Гнусная ложь, возмущавшая его, служила ширмой еще более гнусной правде. Смущенный проницательностью следователя, устрашенный его жестоким мастерством, быстротою ударов, которые он нанес ему, чтобы пробудить в нем совесть, воспользовавшись ошибками его жизни, разоблаченной, как бы вспоротой клыками, Люсьен напоминал животное, избегнувшее руки мясника. Свободный и неповинный, каким он входил в этот кабинет, он мгновенно стал преступником в силу своих признаний. Наконец, последняя убийственная насмешка судьбы: следователь спокойно и холодно сказал Люсьену, что его открытия были плодом недоразумения, ибо он, Камюзо, задавая вопрос, думал об отцовстве, которое присвоил себе Жак Коллен, а Люсьен, испугавшись, что его связь с каторжником получит огласку, повторил знаменитую оплошность убийц Ивика.
Одна из заслуг Руайе-Коллара в том, что он провозгласил превосходство естественных чувств над чувствами навязанными, отстаивал неоспоримость старых обычаев, утверждая, например, что закон гостеприимства обязывает пренебречь даже судебной присягой. Он исповедовал эту теорию перед лицом всего света, с французской трибуны; он мужественно восхвалял заговорщиков, он показал, что человечнее повиноваться законам дружбы, чем законам тираническим, извлеченным из общественного арсенала применительно к тем или иным обстоятельствам. Наконец, естественное право имеет свои законы, не опубликованные, но более действенные и более известные, нежели те, что выкованы обществом. Люсьен только что отрекся себе во вред от закона круговой поруки, обязывавшей его молчать, предоставляя Жаку Коллену защищаться; больше того, он его обвинил! А этот человек должен был, к его же выгоде, навсегда остаться для него Карлосом Эррера.
Господин Камюзо наслаждался победой; он разоблачил двух преступников: он сразил рукою правосудия одного из баловней моды и поймал неуловимого Жака Коллена. Он воображал, что будет провозглашен одним из искуснейших судебных следователей. Поэтому он не тревожил своего подследственного; но он изучал этот безмолвный ужас, он видел, как капли пота выступали на этом искаженном лице и струились по нему, смешиваясь со слезами.
– Зачем плакать, господин де Рюбампре? Вы, как я вам сказал, наследник мадемуазель Эстер, у которой нет других наследников, ни побочных, ни прямых; а ее богатство достигает восьми миллионов, если отыщутся эти семьсот пятьдесят тысяч франков.
То был последний удар. Десять минут выдержки, как говорил ему Жак Коллен в своей записке, и Люсьен достиг бы цели всех своих желаний! Он расквитался бы с Жаком Колленом, расстался бы с ним, стал бы богатым, женился бы на мадемуазель де Гранлье. Ничто не может красноречивее этой сцены доказать могущество судебных следователей, вооруженных такими средствами, как одиночное заключение или разобщение подследственных, и цену такого сообщения, какое Азия передала Жаку Коллену.
– Ах, сударь, – отвечал Люсьен с горькой усмешкой человека, который воздвигает себе подмостки из совершившегося несчастья, – как справедливо говорят на вашем языке: подвергаться допросу!.. Если выбирать между телесной пыткой прошлого и нравственной пыткой наших дней, я не колеблясь предпочел бы страдания, на которые некогда обрекал людей палач. Чего еще вам надобно от меня? – прибавил он надменно.
– Тут, сударь, – сказал судейский чиновник насмешливо и резко в ответ на высокомерие поэта, – я один имею право задавать вопросы.
– Я имел право не отвечать, – пробормотал бедный Люсьен, обретая прежнюю ясность мысли.
– Кокар, огласите подследственному протокол его допроса…
«Я опять подследственный! – сказал про себя Люсьен.
Покамест протоколист читал, Люсьен принял решение, принуждавшее его польстить г-ну Камюзо. Когда бормотание Кокара прекратилось, поэт вздрогнул, – так человек, привыкший к шуму, внезапно просыпается, едва только наступает тишина.
– Вам надобно подписать протокол допроса, – сказал следователь.
– А вы меня освободите? – спросил в свою очередь Люсьен насмешливо.
– Нет еще, – отвечал Камюзо, – но завтра, после очной ставки с Жаком Колленом, вы, конечно, будете освобождены. Судебная власть должна теперь знать, не сообщник ли вы в преступлениях, которые мог совершить этот человек со времени его бегства в тысяча восемьсот двадцатом году. Впрочем, вы уже не будете в секретной. Я напишу начальнику, чтобы он поместил вас в лучшую комнату пистоли.
– Получу ли я там все необходимое, чтобы писать?..
– Вам доставят все, что вы попросите; я передам распоряжение об этом через пристава, который проводит вас туда.
Люсьен машинально подписал протокол и примечания, повинуясь указаниям Кокара с кротостью безответной жертвы. Одна подробность скажет больше о его душевном состоянии, чем самый точный отчет. Весть о том, что ему предстоит очная ставка с Жаком Колленом, осушила на его лице капельки пота, сухие глаза зажглись нестерпимым блеском. В одно мгновение, промелькнувшее быстрее молнии, он стал таким, каким был Жак Коллен, – тверже бронзы.
У людей, схожих по характеру с Люсьеном, чью натуру так хорошо изучил Жак Коллен, эти внезапные переходы от полного упадка духа к душевной стойкости, сравнимой лишь со стойкостью металла, – так напряжены все силы человека, представляют собою наиболее разительный пример живучести мысли. Как вода иссякшего источника возвращается в свое русло, так же возвращается и воля, проникая в сосуд, предназначенный для деятельности неведомой определяющей его субстанции; и тогда труп превращается в человека, и человек, исполненный сил, бросается в последний бой.
Люсьен положил на сердце письмо Эстер вместе с портретом, который она вернула ему. Потом он пренебрежительно кивнул г-ну Камюзо и твердым шагом направился по коридору под охраной двух жандармов.
– Отъявленный негодяй, – сказал следователь протоколисту в отместку за уничтожающее презрение, только что выказанное поэтом. – Он воображал, что выдав сообщника, спасется!
– Из этих двух, – сказал Кокар с запинкой, – каторжник крепче…
– Вы можете идти домой, Кокар, – сказал следователь. – На сегодня вполне достаточно. Отпустите ожидающих, скажите, чтобы явились завтра. Ах, да!.. Ступайте тотчас же и узнайте, у себя ли еще в кабинете господин генеральный прокурор; если он там, спросите, может ли он принять меня на одну минуту. О да, он еще наверное там! – продолжал он, посмотрев на дешевые стенные часы в деревянном зеленом футляре в золотую полоску. – Всего четверть четвертого…
Протоколы допросов читаются очень быстро, но точная запись вопросов и ответов отнимает чрезвычайно много времени. Это одна из причин, почему так долго тянется уголовное следствие и так долог срок предварительного заключения. Бедняков это разоряет, а богачей позорит, ибо немедленное освобождение смягчает, насколько возможно смягчить, несчастье ареста. Вот почему обе только что воспроизведенные сцены заняли столько же времени, сколько потратила Азия на то, чтобы расшифровать приказы своего господина, вывести герцогиню из ее будуара и придать бодрости г-же де Серизи.
Тем временем Камюзо, думавший извлечь выгоду из своей ловкости, взял протоколы обоих допросов и перечитал их, намереваясь показать генеральному прокурору, чтобы узнать его мнение. Пока он раздумывал, вернулся пристав и доложил, что лакей графини де Серизи хочет непременно говорить с ним. По знаку Камюзо, он впустил этого лакея, разодетого барином. Оглядев поочередно пристава и судейского чиновника, лакей спросил: – Точно ли с господином Камюзо я имею честь…
– Да, – отвечали следователь и пристав.
Камюзо взял письмо, поданное ему слугой, и прочел:
«Во имя общего блага, что вы поймете позже, дорогой мой Камюзо, не допрашивайте господина де Рюбампре; мы привезем вам доказательства его невиновности, чтобы он мог быть немедленно отпущен на свободу.
Д. де Монфриньез, Л. де Серизи.Р.S. Сожгите это письмо».
Камюзо понял, что сделал огромную оплошность, расставляя сети Люсьену, и поспешил исполнить приказание знатных дам. Он зажег свечу и уничтожил письмо, написанное герцогиней. Лакей почтительно поклонился.
– Стало быть, приедет госпожа де Серизи? – спросил Камюзо.
– Закладывали карету, – отвечал лакей.
В эту минуту Кокар пришел сообщить г-ну Камюзо, что генеральный прокурор его ожидает.
Сознавая всю серьезность ошибки, совершенной им, вопреки своему честолюбию, в пользу правосудия, следователь, у которого семь лет служебной практики изощрили хитрость, приобретаемую всяким, кто мерялся ею в юности с гризетками, пока изучал Право, решил заручиться оружием на случай злопамятства двух знатных дам. Свеча, на которой он сжег письмо, еще не была погашена, и он воспользовался ею, чтобы опечатать тридцать записок герцогини де Монфриньез к Люсьену и довольно объемистую переписку г-жи де Серизи. Затем он отправился к генеральному прокурору.
Дворец правосудия представляет собой беспорядочное скопление построек, нагроможденных одна на другую, то величественных, то жалких, что нарушает стиль здания в целом. Зала Потерянных шагов – самая большая из всех известных зал, но оголенность ее внушает ужас и удручает взор. Этот просторный храм крючкотворства подавляет собою коронный суд. Наконец Торговая галерея ведет к двойной клоаке. В этой галерее можно заметить лестницу в два марша, несколько более широкую, чем в помещении исправительной полиции, а под ней видна широкая двустворчатая дверь. Лестница эта ведет в одну, а нижняя дверь – в другую залу суда присяжных. Бывают годы, когда преступления, совершенные в департаменте Сены, требуют двух сессий. В этом же здании помещается прокуратура, комната адвокатов, их библиотека, кабинеты товарищей прокурора и заместителей генерального прокурора. Все эти помещения – ибо приходится пользоваться общим термином – связаны между собою винтовыми лестницами, темными коридорами – подлинным позором для архитектуры, для Парижа и всей Франции. По омерзительности внутренних своих помещений наше верховное судилище превосходит самые скверные тюрьмы. Бытописатель отступил бы перед необходимостью изобразить ужасный коридор в верхнем помещении суда присяжных, в метр шириною, где дожидаются свидетели. Что же касается печи, отапливающей зал заседаний, она осрамила бы любое кафе на бульваре Монпарнас.
Кабинет генерального прокурора расположен в той восьмиугольной пристройке, которая прикрывает сбоку корпус Торговой галереи, вклинившись не так давно, по сравнению с возрастом дворца, во внутренний дворик, примыкающий к женскому отделению. Всю эту часть Дворца правосудия осеняет высокое и великолепное здание Сент-Шапель. Поэтому тут темно и тихо.
Господин де Гранвиль, достойный преемник видных деятелей старой судебной палаты, не пожелал покинуть здание суда до выяснения дела Люсьена. Он ожидал известий от Камюзо, и мысль о том, как тяжела обязанность судьи, повергла его в невольную задумчивость, которую ожидание навевает на людей самого твердого характера. Он сидел в нише окна, в своем кабинете, потом встал и принялся ходить взад и вперед по комнате: Камюзо, которого он подстерег утром на пути в суд, оказался несообразительным, и он был раздосадован; смутные опасения тревожили генерального прокурора, он страдал. И вот почему. Его служебное положение запрещало ему посягать на независимость подчиненного ему судебного следователя, а в этом процессе дело шло о чести и достоинстве его лучшего друга, одного из его наиболее горячих покровителей, графа де Серизи, министра, члена тайного совета, вице-президента Государственно совета, будущего канцлера Франции в случае, если благородный старец, исполняющий эту высочайшую обязанность, вдруг умрет. К несчастью, г-н де Серизи обожал свою жену, несмотря ни на что. Он всегда брал ее под свою защиту, и генеральный прокурора отлично понимал, какой страшный шум подымется в свете и при дворе по поводу преступления, совершенного человеком, имя которого так часто и так язвительно сочеталось с именем графини…
«Ах, – подумал он, скрестив руки, – когда-то властью короля можно было передать дело в высшую инстанцию… Наша мания равенства (он не осмелился сказать «законность», как об этом отважно заявил недавно в палате один поэт) погубит нашу эпоху».
Достойный судебный деятель изведал утехи и горести запретных привязанностей. Эстер и Люсьен занимали, как было сказано, квартиру, где некогда де Гранвиль жил в тайном супружестве с мадемуазель де Бельфей и откуда она однажды убежала, соблазненная каким-то проходимцем. (См. Сцены частной жизни, Побочная семья.)
В ту минуту, когда генеральный прокурор говорил себя: «Камюзо, наверно, сделал какую-нибудь глупость», – судебный следователь постучал два раза в дверь кабинета.
– Ну, мой дорогой Камюзо, как идет дело, о котором я говорил с вами сегодня утром?
– Плохо, господин граф, прочтите и судите сами…
Он протянул оба протокола г-ну де Гранвилю, который вынул свой монокль и отправился читать в нишу окна. Чтение было непродолжительным.
– Вы исполнили свой долг, – сказал генеральный прокурор взволнованным голосом. – Все сказано. Дело пойдет своим порядком. Вы слишком блестяще проявили свои способности, чтобы можно было отказаться когда-нибудь от такого судебного следователя, как вы…
Сказав Камюзо: «Вы останетесь на всю жизнь судебным следователем!..», г-н де Гранвиль не выразился бы точнее, чем обронив эту похвалу. Камюзо похолодел.
– Госпожа герцогиня де Монфриньез, которой я многим обязан, просила меня…
– А-а! Герцогиня де Монфриньез!.. – сказал Гранвиль, перебивая следователя. – Это верно, она приятельница госпожи де Серизи, но вы, я вижу, не уступили никакому влиянию. Вы хорошо сделали, сударь, вы будете великим судебным следователем.
В это время граф Октав де Бован открыл дверь, не постучав, и сказал графу де Гранвилю: «Дорогой мой, я привел к тебе хорошенькую женщину, не знавшую, куда ей идти, она чуть не заблудилась в наших лабиринтах…»
Граф Октав держал за руку графиню де Серизи, которая вот уже четверть часа бродила по коридорам суда.
– Вы здесь, сударыня! – вскричал генеральный прокурор, предлагая ей свое собственное кресло. – И в какую минуту! Вот господин Камюзо, сударыня, – сказал он, указывая на следователя. – Бован, – продолжал он, обращаясь к знаменитому министерскому оратору времен Реставрации, – подожди меня у первого председателя, он еще у себя. Я приду туда.
Граф Октав де Бован понял, что не только он был тут лишним, но и генеральный прокурор искал повода покинуть свой кабинет.
Госпожа де Серизи не совершила ошибки, она не отправилась во Дворец правосудия в своей великолепной двухместной карете с синим верхом, украшенным ее гербом, с кучером в галунах и двумя лакеями в коротких штанах и белых шелковых чулках. Перед тем как выехать, Азия убедила обеих знатных дам в необходимости воспользоваться фиакром, в котором она приехала с герцогиней; она также потребовала, чтобы любовница Люсьена надела наряд, который для женщин стал тем же, чем был когда-то серый плащ для мужчин. На графине было коричневое пальто, старая черная шаль и бархатная шляпка с очень густой черной кружевной вуалью взамен оборванных цветов.
– Вы получили наше письмо?.. – обратилась она к Камюзо, замешательство которого она приняла за почтительное удивление.
– Увы! Чересчур поздно, графиня, – отвечал следователь, у которого ума и такта доставало лишь в стенах его кабинета и лишь в отношении подследственных.
– Как чересчур поздно?
Она посмотрела на г-на де Гранвиля: на его лице было написано крайнее смущение.
– Не может быть чересчур поздно, – прибавила она повелительно.
Женщины, красивые женщины, поставленные так высоко, как г-жа де Серизи, – это баловни французской цивилизации. Если бы женщины других стран знали, что такое в Париже модная женщина, богатая и титулованная, они все мечтали бы приехать туда, чтобы наслаждаться этой великолепной, царственной властью. Женщины, целиком посвятившие себя соблюдению правил приличия, этой коллекции мелочных законов, уже не раз упомянутой в Человеческой комедии под названием Женского кодекса, смеются над законами, которые созданы мужчинами. Они говорят все, что им вздумается, они не страшатся никаких ошибок, никакого безрассудства, ибо они отлично поняли, что не ответственны ни за что, помимо своей женской чести и детей. Они, смеясь, говорят самые чудовищные вещи. Они по всякому поводу повторяют слова красавицы г-жи Бован, сказанные в первую пору ее замужества своему мужу, за которым она явилась в Дворец правосудия: «Суди скорее, и поедем!»
– Сударыня, – сказал генеральный прокурор, – господин Люсьен де Рюбампре не повинен ни в краже, ни в отравлении; но господин Камюзо принудил его сознаться в преступлении более серьезном!..
– В чем же? – спросила она.
– Он признал себя, – сказал ей на ухо генеральный прокурор, – другом и воспитанником беглого каторжника. Аббат Карлос Эррера, этот испанец, живший около семи лет вместе с ним, видимо, наш знаменитый Жак Коллен…
Каждое слово судейского было для г-жи де Серизи ударом железной дубинки; но это громкое имя добило ее.
– И что же теперь? – спросила она чуть слышно.
– То, – отвечал шепотом г-н де Гранвиль, заканчивая фразу графини, – что каторжник будет предан суду присяжных, а Люсьен, если и не предстанет перед судьями рядом с ним как заведомо извлекавший выгоду из преступлений этого человека, то явится туда как свидетель, с весьма испорченной репутацией…
– О нет! Никогда этого не будет!.. – воскликнула она с необыкновенной уверенностью. – что касается меня, я не поколеблюсь в выборе между смертью и перспективой услышать, что человека, которого свет знал как моего близкого друга, объявят в судебном порядке приятелем каторжника… Король благоволит к моему мужу.
– Сударыня, – улыбаясь, сказал громко генеральный прокурор, – король не вправе оказать влияние даже на самого ничтожного судебного следователя в своем королевстве, как на ход прений в суде присяжных. В этом величие наших новых установлений. Я сам поздравил сейчас господина Камюзо, ведь он так ловко…
– Так неловко! – живо возразила графиня, которую близость Люсьена с бандитом тревожила гораздо меньше, чем его связь с Эстер.
– Если бы вы прочли допрос, который учинил господин Камюзо обоим подследственным, вы увидели бы, что все зависит от него…
Бросив эту фразу и взгляд, по-женски или, если угодно, по-прокурорски хитрый – единственно, что генеральный прокурор мог себе позволить, – он направился к двери кабинета. У самого порога он обернулся и прибавил:
– Сударыня, прошу прощения. Мне надо сказать два слова Бовану…
На светском языке для графини это означало: «Я не могу быть свидетелем того, что произойдет между вами и Камюзо».
– Что это за допросы? – спокойно спросила Леонтина, обращаясь к Камюзо, совершенно оробевшему перед женой одного из самых высокопоставленных лиц государства.
– Сударыня, – отвечал Камюзо, – протоколист записывает вопросы следователя и ответы подследственных; протокол подписывают протоколист, следователь и подследственные. Протоколы – это составные элементы судебной процедуры, они устанавливают обвинение и предают обвиняемых суду присяжных.
– Ну, а если уничтожить эти допросы?.. – продолжала она.
– О сударыня, это было бы преступлением, которого не может совершить ни один судейский, – преступлением против общества.
– Еще большим преступлением против меня было их писать; но сейчас это единственная улика против Люсьена. Послушайте, прочтите мне его допрос, чтобы я могла понять, осталось ли какая-нибудь возможность спасти нас всех. Боже мой, ведь речь идет не только обо мне, ибо я спокойно покончила бы с собою, речь идет также о благополучии господина де Серизи.
– Сударыня, – сказал Камюзо, – не подумайте, что я забыл о почтении, которое обязан питать к вам. Если бы следствие вел другой, допустим, господин Попино, это бы было гораздо большим несчастьем для вас, ибо он не пришел бы просить совета у генерального прокурора. Кстати, сударыня, у господина Люсьена захватили все, даже ваши письма…
– О, мои письма!
– Вот они, опечатанные! – сказал судейский.
Графиня в полном смятении, позвонила, как если б она была у себя дома; вошел служитель канцелярии генерального прокурора.
– Свечу! – приказала она.
Служитель зажег свечу и поставил на камин; тем временем графиня просматривала письма, перечитывала, комкала их и бросала в камин. Вскоре графиня подожгла эту кучу бумаги, пользуясь последним скрученным письмом как факелом. Камюзо, держа в руке оба протокола, с глупым видом смотрел на пылавшую бумагу. Графиня, казалось, всецело поглощенная уничтожением доказательств своей нежности, исподтишка наблюдала за следователем. Улучив момент и рассчитав движения, она с ловкостью кошки выхватила у него оба протокола и бросила их в огонь; Камюзо вытащил их оттуда, но графиня кинулась на следователя и вцепилась в горящие бумаги. Последовала борьба, Камюзо восклицал: «Сударыня! Сударыня! Вы покушаетесь на… Сударыня…»
В кабинет кто-то вбежал, и графиня невольно вскрикнула, узнав графа де Серизи, вслед за которым входили де Гранвиль и Бован. Однако ж Леонтина, желавшая любой ценой спасти Люсьена, не выпускала из рук эти страшные листы гербовой бумаги, впившись в них словно клещами, хотя пламя обжигало ее нежную кожу. Наконец Камюзо, у которого пальцы тоже были обожжены, видимо, устыдился подобного положения и выпустил бумаги; от них остались только обрывки, зажатые в руках противника и потому уцелевшие от огня. Сцена эта разыгралась столь быстро, что больше тратишь времени, читая ее описание.
– Что могло произойти между вами и госпожой де Серизи? – спросил министр у Камюзо.
Прежде чем следователь успел ответить, графиня поднесла клочки бумаги к свече и бросила их на останки своих писем, еще не успевших превратиться в пепел.
– Я вынужден подать жалобу на графиню, – сказал Камюзо.
– А что она сделала? – спросил генеральный прокурор, глядя поочередно на графиню и на следователя.
– Я сожгла допросы, – отвечала, смеясь, модная женщина, столь упоенная своим безрассудством, что еще не чувствовала ожогов. – Если это преступление, ну что ж! Господин следователь может начать сызнова свою отвратительную пачкотню.
– Совершенно верно, – отвечал Камюзо, пытаясь держать себя с прежним достоинством.
– Ну, стало быть, все к лучшему, – сказал генеральный прокурор. – Но дорогая графиня, не следует часто позволять себе подобные вольности с судебной властью. Она, пожалуй, перестанет считаться с тем, кто вы.
– Господин Камюзо мужественно сопротивлялся женщине, которой ничто не сопротивляется. Честь судейской мантии спасена! – сказал, смеясь, граф де Бован.
– Ах, господин Камюзо сопротивлялся?.. – сказал, улыбнувшись, генеральный прокурор. – Он очень храбр, я бы не осмелился сопротивляться графине.
И сразу это серьезное преступление стало шуткой красивой женщины; даже сам Камюзо рассмеялся.
Но тут генеральный прокурор увидел человека, который не смеялся. Испуганный позой и выражением лица графа де Серизи, г-н де Гранвиль отвел его в сторону.
– Друг мой, – сказал он ему на ухо, – твоя скорбь побуждает меня поступиться долгом первый и единственный раз в жизни.
Судья позвонил, вошел служитель его канцелярии.
– Скажите господину де Шаржбеф, чтобы он зашел ко мне.
Господин де Шаржбеф, молодой адвокат, был секретарем генерального прокурора.
– Дорогой мой мэтр, – продолжал генеральный прокурор, отойдя с Камюзо в нишу окна, – идите в ваш кабинет и восстановите с вашим помощником протокол допроса аббата Карлоса Эррера; поскольку он не подписан, допрос можно начать сначала без затруднения. Устройте завтра же очную ставку этого испанского дипломата с господином Растиньяком и Бьяншоном, которые будут отрицать, что это наш Жак Коллен. Будучи уверен в своем освобождении, этот человек подпишет протокол. А Люсьена де Рюбампре отпустите сегодня же вечером на свободу. Конечно, он не станет рассказывать о допросе, раз протокол его уничтожен, и в особенности после того внушения, которое я ему намерен сделать. Судебная газета объявит завтра, что этот молодой человек был немедленно же освобожден. Теперь подумаем, пострадает ли правосудие от этих мер? Если испанец – каторжник, у нас тысяча способов снова взять его, снова начать его процесс, ибо мы дипломатическим путем выясним его поведение в Испании; Корантен, начальник контрполиции, не будет спускать с него глаз – мы сами будем следить за ним; поэтому обращайтесь с ним хорошо и никаких одиночек! Распорядитесь на эту ночь поместить его в пистоли… Можем ли мы убить графа, графиню де Серизи, Люсьена из-за кражи семисот пятидесяти тысяч франков, еще гадательной и совершенной к тому же в ущерб Люсьену? Не лучше ли нам пренебречь утратой этой суммы, нежели утратой его репутации?.. В особенности, если он, в своем падении, увлечет за собой министра, его жену и герцогиню де Монфриньез?.. Этот молодой человек подобен апельсину, тронутому гниением; не дайте ему сгнить… Тут дело получаса. Ступайте, мы вас ждем. Сейчас половина четвертого, вы застанете еще судей; уведомите меня, если сумеете получить от них составленный по форме приказ об освобождении за недостатком улик… А не то, пусть Люсьен потерпит до завтрашнего утра.
Камюзо вышел, откланявшись; но г-жа де Серизи, только теперь почувствовавшая боль от ожогов, не ответила на его поклон. Г-н де Серизи, который вдруг выбежал из кабинета, пока генеральный прокурор говорил со следователем, вернулся с горшочком чистого воска и перевязал руки жены, сказав ей на ухо: «Леонтина, зачем было приезжать сюда, не предупредив меня?»
– Бедный друг! – отвечала она шепотом. – Простите меня, я кажусь сумасшедшей; но дело касалось столько же и вас, сколько меня.
– Любите этого молодого человека, если так велит рок, но не показывайте столь явно вашу страсть. – отвечал бедный муж.
– Ну, дорогая графиня, – сказал г-н де Гранвиль после короткой беседы с графом Октавом, – надеюсь, что нынче же вечером вы увезете господина де Рюбампре к себе обедать.
Это прозвучало почти как обещание и произвело такое действие на г-жу де Серизи, что она расплакалась.
– Я думала, что уже выплакала все слезы, – сказала она, улыбаясь. – А не могли бы вы, – продолжала она, – разрешить господину де Рюбампре подождать здесь своего освобождения?
– Постараюсь найти приставов, чтобы они проводили его к нам, избавив его от присутствия жандармов, – отвечал г-н де Гранвиль.
– Вы добры, как сам господь бог! – отвечала она генеральному прокурору с горячностью, придавшей ее голосу дивную музыкальность.
«Вот они, эти прелестные, неотразимые женщины!..» – сказал про себя граф де Бован.
И он печально задумался, вспомнив свою жену. (См. Сцены частной жизни, Онорина.)
Когда г-н де Гранвиль выходил из кабинета, к нему подошел молодой Шаржбеф, которому он тут же дал поручение переговорить с Массолем, одним из редакторов «Судейской газеты».
Пока красавицы, министры и судебные чиновники вступали в заговор, чтобы спасти Люсьена, вот что происходило с ним в Консьержери. Прежде чем переступить порог решетчатой калитки, Люсьен сказал в канцелярии, что г-н Камюзо разрешил ему писать, и спросил перьев, чернил и бумаги; начальник тюрьмы, которому пристав г-на Камюзо что-то шепнул, отдал тотчас же надзирателю соответствующий приказ. В то короткое время, какое потребовалось надзирателю, чтобы разыскать и принести Люсьену то, что он требовал, бедный молодой человек, которому было невыносимо воспоминание о предстоящей очной ставке с Жаком Колленом, погрузился в одно из тех роковых раздумий, когда мысль о самоубийстве, однажды уже овладевшая им, но по его малодушию не осуществленная, доводит человека до помешательства. По мнению некоторых крупных врачей-психиатров, самоубийство у известных натур является завершением душевного заболевания; так и у Люсьена, со времени его ареста, мысль о самоубийстве превратилась в навязчивую идею. Письмо Эстер, перечитанное несколько раз, еще усилило его желание умереть, вызывая в памяти развязку драмы Ромео, последовавшего за Джульеттой. Вот что он написал:
«Мое завещание
Консьержери, 15 мая 1830.Я, нижеподписавшийся, дарю и завещаю детям моей сестры, госпожи Евы Шардон, состоящей в браке с господином Давидом Сешаром, бывшим владельцем типографии в Ангулеме, все наличное имущество, движимое и недвижимое, принадлежащее мне в день моей смерти, изъяв из него нужную сумму на уплату долгов, а также имущество, завещанное другим лицам и учреждениям, что я и прошу моего душеприказчика произвести.
Умоляю господина де Серизи принять на себя обязанности моего душеприказчика.
Прошу выплатить: 1) господину аббату Карлосу Эррера триста тысяч франков; 2) господину барону Нусингену один миллион четыреста тысяч франков, за вычетом семисот тысяч пятидесяти франков, если эти деньги, похищенные у мадемуазель Эстер, будут найдены.
Дарю и завещаю, как наследник мадемуазель Эстер Гобсек, семьсот тысяч шестьдесят тысяч франков благотворительным учреждениям Парижа на основание убежища, предназначенные для публичных женщин, пожелавших покинуть пагубное поприще порока.
Помимо того, завещаю благотворительным учреждениям сумму, необходимую для покупки пятипроцентной ренты в тридцать тысяч франков. Годовая прибыль должна расходоваться каждое полугодие на освобождение заключенных за долги, обязательства по которым не будут превышать двух тысяч франков. Администрация благотворительных учреждений обязана выбирать для этого из числа лиц, арестованных за долги, людей наиболее достойных.
Прошу господина де Серизи выделить сумму в сорок тысяч франков для сооружения памятника на могиле мадемуазель Эстер на Восточном кладбище и прошу похоронить меня рядом с нею. Я хотел бы, чтобы могила представляла собою подобие старинной гробницы: плита должна быть квадратной, наши две статуи из белого мрамора должны лежать на этом надгробии; пусть их головы покоятся на подушках, ладони будут сложены и воздеты к небу. На могиле не должно быть никакой надписи.
Прошу господина графа де Серизи передать господину Эжену де Растиньяку на память обо мне мой золотой туалетный прибор.
Наконец, с той же целью прошу моего душеприказчика принять от меня в дар мою библиотеку.
Люсьен Шардон де Рюбампре».Завещание было вложено в письмо, адресованное графу де Гранвилю, генеральному прокурору Королевского суда в Париже. Вот его содержание:
«Господин граф,
Доверяю вам мое завещание. Когда вы получите это письмо, меня уже не будет в живых. Из желания возвратить себе свободу я отвечал столь малодушно на коварные вопросы господина Камюзо, что, несмотря на мою невиновность, я могу быть замешан в позорном процессе. Пусть даже я буду обелен совершенно, жизнь для меня теперь невозможна, ведь свет так взыскателен.
Передайте, прошу вас, вложенное сюда письмо, не вскрывая его, аббату Карлосу Эррера и вручите господину Камюзо формальный отказ от показаний, который я прилагаю.
Не думаю, чтобы кто-либо дерзнул посягнуть на печать пакета, вам предназначенного. В надежде на это, я прощаюсь с вами, выражая вам в последний раз свое уважение, и прошу верить, что это письмо к вам является свидетельством моей признательности за доброе отношение, которым вы всегда дарили вашего покойного слугу
Люсьена де Р.»«Аббату Карлосу Эррера.
Дорогой аббат, вы оказывали мне одни лишь благодеяния, а я вас предал. Эта невольная неблагодарность меня убивает, и, когда вы будете читать эти строки, я уже уйду из жизни; вас не будет тут более, чтобы меня спасти.
Вы дали мне полное право, если я найду для себя полезным, погубить вас, отбросив от себя, как окурок сигары; но я глупо воспользовался этим правом. Чтобы выйти из затруднения, обманутый лукавыми вопросами судебного следователя, ваш духовный сын, тот, кого вы усыновили, примкнул к вашим врагам, желавшим погубить вас любою ценой, пытавшимся установить тождество, разумеется, немыслимое, между вами и каким-то французским злодеем. Этим все сказано.
Между человеком вашего могущества и мною, из которого вы мечтали сделать личность более значительную, чем мне надлежало быть, не место глупым объяснениям в минуту вечной разлуки. Вы хотели сделать меня могущественным и знаменитым, – вы низвергли меня в бездну самоубийства, вот и все! Давно уже слышу над собою шум крыльев надвигающегося безумия.
Есть потомство Каина и потомство Авеля, как вы говорили порою. В великой драме человечества Каин – это противоборство. Вы ведете свое происхождение от Адама по линии Каина, в чьих потомках дьявол продолжал раздувать тот огонь, первую искру которого он заронил в Еву. Среди демонов с такой родословной встречаются от времени до времени страшные существа, одаренные разносторонним умом, воплощающие в себе всю силу человеческого духа и похожие на тех хищных зверей пустыни, жизнь которых требует бескрайних пространств, только там и возможных. Люди эти опасны в обществе, как были бы опасны львы в равнинах Нормандии: им потребен корм, они пожирают мелкую человечину и поедают золото глупцов; игры их смертоносны, они кончаются гибелью смиренного пса, которого они взяли в товарищи и сделали своим кумиром. Когда бог того пожелает, эти таинственные существа становятся Моисеем, Аттилой, Карлом Великим, Магометом или Наполеоном; но когда он оставляет ржаветь на дне человеческого океана эти исполинские орудия своей воли, то в каком-то поколении рождаются Пугачев, Робеспьер, Лувель или аббат Карлос Эррера. Одаренные безмерной властью над нежными душами, они притягивают их к себе и губят их. В своем роде это величественно, это прекрасно! Это ядовитое растение великолепной окраски, прельщающее в лесах детей. Поэзия зла. Люди вашего склада должны обитать в пещерах и не выходить оттуда, Ты мне дал пожить этой жизнью гигантов, и с меня довольно моего существования. Теперь я могу высвободить голову из гордиева узла твоих хитросплетений, чтобы вложить ее в петлю моего галстука.
Чтобы исправить свою ошибку, я передаю генеральному прокурору отказ от моих показаний. Вы сумеете воспользоваться этим документом.
Согласно моему завещанию, составленному по всей форме, вам вернут, господин аббат, суммы, принадлежащие вашему Ордену, которыми вы весьма неблагоразумно распорядились, движимые отеческой нежностью ко мне.
Прощайте же, прощайте, величественная статуя Зла и Порока! Прощайте, вы, кому на ином пути, быть может, суждено было стать более великим, чем Хименес, чем Ришелье! Вы сдержали ваши обещания; а я все тот же, что был на берегу Шаранты, только вкусив благодаря вам чарующий сон. Но, к несчастью, это уже не река моей родины, в которой я хотел утопить грехи моей юности, это Сена, и могилою мне – каземат Консьержери.
Не сожалейте обо мне: мое восхищение вами было равно моему презрению.
Люсьен».«Заявление.
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что полностью отрекаюсь от всего сказанного мною при допросе, которому сегодня подверг меня господин Камюзо.
Аббат Карлос Эррера называл себя обычно моим духовным отцом, и я был введен в заблуждение следователем, употребившим это слово в другом смысле, конечно, по недоразумению.
Я знаю, что в целях политических, а также стремясь уничтожить секретные документы, касающиеся правительств Испании и Тюильри, тайные агенты дипломатии пытаются отождествить аббата Карлоса Эррера с каторжником, именуемом Жаком Колленом; но от аббата Карлоса Эррера я никогда не слышал других признаний, кроме одного, касающегося усилий получить доказательства смерти или существования Жака Коллена.
Консьержери, 15 мая 1830 г.
Люсьен де Рюбампре».Лихорадочное состояние Люсьена перед самоубийством сообщало ему замечательную ясность мысли и живость пера, знакомую авторам, одержимым лихорадкой творчества. Возбуждение было столь сильным, что эти четыре документа были написаны им в продолжение получаса; он сделал из них пакет, заклеил его облатками, приложил к нему с силой, какую придает исступление, печатку со своим гербом, вправленную в перстень, и бросил пакет посередине камеры на плиты пола. Конечно, трудно было внести больше достоинства в то ложное положение, в которое поставило Люсьена множество совершенных им низостей; он спасал свое имя от позора и исправлял зло, причиненное своему сообщнику, в той мере, в какой остроумие денди могло изгладить последствия доверчивости поэта.
Если бы Люсьен был помещен в одну из одиночных камер, он бы отступил перед невозможностью выполнить свой замысел, ибо эти коробки из тесаного камня заключают в себе в качестве мебели только некое подобие походной кровати и лохань для неотложных нужд. Там нет ни одного гвоздя, ни одного стула, нет даже скамьи. Железная койка так прочно укреплена, что требуются большие усилия, чтобы сдвинуть ее с места, а это неминуемо привлекло бы внимание надзирателя, ибо дверной глазок всегда открыт. Наконец, если подследственный внушает опасения, за ним наблюдает жандарм ил полицейский агент. Но в комнатах пистоли, следовательно и в той, куда Люсьен был помещен по распоряжению следователя, желавшего проявить внимание к молодому человеку из высшего парижского общества, стояли кровать, стол и стул, которые могут, конечно, помочь осуществить самоубийство, отнюдь не избавляя от трудностей. На Люсьене был длинный шелковый синий галстук, и возвращаясь с допроса, он уже обдумывал тот способ, при помощи которого Пишегрю, более или менее добровольно покончил с жизнью. Но повеситься можно, лишь найдя точку опоры, притом на достаточной высоте, чтобы ноги не доставали до пола. Окно камеры, обращенное во внутренний дворик, было без задвижки, а железная решетка, вделанная в стену снаружи, не могла послужить этой точкой опоры, ибо была для Люсьена недосягаема из-за глубины оконной ниши.
Вот план самоубийства, быстро подсказанный изобретательным умом Люсьена. Если щит, приложенный к пролету окна, заслонял Люсьену свет, падавший с внутреннего дворика, то этот же щит равно мешал и надзирателям видеть, что творится в полутемной камере; и если нижняя часть оконницы была взамен стекол забита двумя толстыми досками, зато верхняя часть оконной рамы с частым переплетом была застеклена. Встав на стол, Люсьен мог до нее дотянуться и вынуть или разбить два стекла таким образом, чтобы первая перекладина над щитом могла послужить ему точкой опоры. Он намеревался просунуть сквозь разбитые стекла галстук и, перекинув его через переплет рамы, обвязать вокруг шеи, затем, сделав оборот вокруг себя, чтобы затянуть его покрепче, ногой оттолкнуть стол.
Итак, он бесшумно придвинул стол к окну, сбросил сюртук и жилет и без малейшего колебания встал на стол, чтобы разбить стекла в двух квадратах по обеим сторонам первой перекладины. Когда он очутился на столе, он мог окинуть взглядом внутренний дворик: впервые предстало его глазам это волшебное зрелище. Начальник Консьержери, получив от г-на Камюзо наказ окружить Люсьена всяческим вниманием, как мы видели, распорядился проводить его обратно с допроса внутренними проходами Консьержери, куда попадали через темное подземелье, находившееся против Серебряной башни, и тем самым не выставлять напоказ изящного молодого человека перед толпою заключенных, которые прогуливаются по внутреннему дворику. Далее можно судить, способен ли вид этого места прогулок не задеть за живое душу поэта.
Внутренний двор Консьержери ограничен со стороны набережной Серебряной башней и башней Бонбек, расстояние между которыми точно обозначает ширину двора. Галерея, так называемая галерея Людовика Святого, ведущая от Торговой галереи в кассационный суд и башню Бонбек, где еще, говорят, сохранился кабинет Людовика Святого, может дать людям любознательным представление о длине двора, точно совпадающей с размерами этой галереи. Одиночки и пистоли находятся, стало быть, под Торговой галереей. Поэтому королева Мария-Антуанетта, камера которой была расположена под теперешними одиночками, должна была проходить в революционный трибунал, заседавший в парадном присутственном зале кассационного суда, по страшной лестнице, выдолбленной в толще стен, которые поддерживают Торговую галерею, и ныне заделанной. Одна из сторон внутреннего двора, а именно та, где во втором этаже здания находится галерея Людовика Святого, являет взору ряд готических колонн, между которыми архитекторы какой-то эпохи вделали двухэтажное строение с камерами ради возможно большего количества заключенных, обезобразив побелкой, решетками и штукатурными заплатами капители, стрельчатые арки и колонны этой великолепной галереи. Под кабинетом, носящим имя Людовика Святого, в башне Бонбек, вьется винтовая лестница, которая ведет к этим камерам. Подобное надругательство над самыми великими воспоминаниями Франции производит омерзительное впечатление.
С той высоты, где находился Люсьен, наискось от него, взгляду открывалась эта галерея и часть главного корпуса, связывающего Серебряную башню с башней Бонбек; он видел островерхие крыши обеих башен. Он замер, ошеломленный; его восхищение было отсрочкой самоубийства. В наши дни явления галлюцинации настолько признаны медициной, что этот обман наших чувств, это странное свойство нашего ума более не оспаривается. Человек под воздействием чувства, напряженность которого превращает это чувство в манию, часто приходит в то состояние, какое вызывает опиум, гашиш и веселящий газ. Тогда появляются привидения, призраки, тогда воплощаются сны и погибшее оживает, не тронутое тлением. То, что было мыслью, становится одушевленным существом или художественным творением, полным жизни. Современная наука полагает, что мозг под влиянием страсти, достигшей высшего предела, наполняется кровью, и этот прилив крови вызывает ужасающую игру воображения, сны наяву! Настолько этой науке претит понимание мысли как действенной животворящей силы (См. Философские этюды, Луи Ламбер.) Люсьен увидел Дворец во всей его первозданной красоте. Колоннада была стройна, нетронута, свежа. Жилище Людовика Святого являлось его взору таким, каким оно некогда было; Люсьен восхитился его вавилонскими пропорциями и восточной причудливостью. Он воспринял этот дивный обаз как поэтический прощальный привет творения высокого искусства. Готовясь к смерти, он спрашивал себя, как могло случиться, чтобы Париж не знал об этом чуде? И было два Люсьена: Люсьен – поэт, совершающий прогулку в средние века под аркадами и башнями Людовика Святого, и Люсьен, замышлящий самоубийство.
В ту минуту, когда г-н де Гранвиль отдал все распоряжения своему молодому секретарю, появился начальник Консьержери; выражение его лица было таково, что генерального прокурора сразу охватило предчувствие несчастья.
– Вы видели господина Камюзо? – спросил он.
– Нет, – отвечал начальник тюрьмы. – Его протоколист Кокар мне передал, что надо перевести из секретной аббата Карлоса и освободить господина де Рюбампре; но было уже поздно.
– Боже мой! Что случилось?
– Вот пакет с письмами для вас, – сказал начальник тюрьмы, – в них объяснение этого ужасного случая. Надзиратель, бывший во дворе, услышал звон разбитых стекол в пистоли, а сосед г-на Люсьена дико закричал, когда до него донесся предсмертный хрип бедного молодого человека. Надзиратель весь побелел, когда, войдя в его камеру, увидел, что подследственный повесился на своем галстуке, зацепив его за перекладину оконной рамы…
Хотя начальник тюрьмы говорил тихо, страшный крик г-жи де Серизи доказал, что в крайних обстоятельствах наши органы чувств приобретают невообразимую чувствительность. Графиня услышала либо угадала его слова, но прежде чем г-н де Гранвиль успел обернуться, а г-н де Серизи и г-н де Бован помешать ей, она стрелой вылетела в дверь, очутилась в Торговой галерее и добежала по ней до лестницы, спускающейся на улицу Барильери.
Какой-то адвокат снимал мантию у дверей одной из лавок, столь долгое время загромождавших собою эту галерею: в них торговали обувью, давали напрокат адвокатские мантии и шапочки. Графиня спросила у него, как пройти в Консьержери.
– Спуститесь вниз и поверните налево, вход с Часовой набережной, первая аркада.
– Это сумасшедшая! – сказал торговка. – Надо бы пойти за ней следом.
Никто не мог бы нагнать Леонтину, она буквально летела. Врач объяснил бы, откуда в решительные минуты жизни у бездеятельных светских женщин берутся такие силы. Она бросилась через аркаду к калитке с такой стремительностью, что караульный жандарм не видел, как она вошла. Она припала, точно перышко, гонимое ветром к решетке, она сотрясала железные прутья с такой яростью, что сломала тот, за который ухватилась. Сломанные ею концы вонзились ей в грудь, брызнула кровь, и она упала, крича: «Отоприте! Отоприте!» От этих криков кровь стыла у надзирателей.
Прибежал привратник.
– Отоприте! Я послана генеральным прокурором спасти мертвого!
Покамест графиня бежала окольным путем через улицу Барильери и Часовую набережную, г-н де Гранвиль и г-н де Серизи спускались в Консьержери внутренними ходами Дворца, предугадывая намерение графини; но как они ни торопились, они подоспели лишь к тому времени, когда ее, упавшую без чувств у первой решетки, поднимали с земли жандармы, прибежавшие из караульни. При появлении начальника Консьержери калитку отперли и графиню перенесли в канцелярию. Но она вскочила на ноги, потом, сложив руки, опустилась на колени.
– Видеть его!.. Видеть!.. О господи, я не сделала ничего дурного! Но если вы не хотите, чтобы я умерла тут же… позвольте мне взглянуть на Люсьена, мертвого или живого… Ах, ты здесь, мой друг, так выбирай между моей смертью… или… Она упала наземь. – Ты добрый. – лепетала она. – Я буду любить тебя!..
– Унесем ее отсюда!.. – сказал г-н де Бован.
– Нет, пойдем в камеру к Люсьену! – возразил г-н де Гранвиль, читая в блуждающем взгляде г-на де Серизи его намерение.
И он поднял графиню, поставил ее на ноги, взял под руку, а г-н де Бован поддерживал ее с другой стороны.
– Сударь, – сказал г-н де Серизи начальнику тюрьмы, – мертвое молчание обо всем этом.
– Будьте спокойны, – отвечал начальник. – Вы приняли правильное решение. Эта дама…
– Это моя жена…
– Ах, простите, граф! Так вот, увидев молодого человека, она, конечно, лишится чувств, и тогда ее можно будет перенести в карету.
– Я так и думал сделать, – сказал граф. – Пошлите кого-нибудь во двор Арле сказать моим людям, чтобы подали экипаж к решетке; там только моя карета…
– Мы можем его спасти, – твердила графиня, ступавшая, к удивлению своих телохранителей чрезвычайно уверенно и бодро. – Ведь есть средства, которые возвращают к жизни… – И она увлекала за собою двух сановников; крича смотрителю: – Скорей, скорей же!.. Одна секунда стоит жизни трех человек!
Когда двери камеры отперли и графиня увидела Люсьена, который висел, как висело бы на вешалке его платье, она кинулась к нему, хотела обнять его, но упала ничком на плиты камеры, с глухим криком, похожим на хрипение.
Пять минут спустя карета графа увозила ее в их особняк; она лежала, вытянувшись на подушках, граф стоял подле нее на коленях. Граф де Бован отправился за врачом, чтобы тот оказал графине первую помощь.
Начальник Консьержери осматривал наружную решетку калитки и говорил писарю: «Тут все было предусмотрено! Прутья железные, кованые… Ведь они были испробованы, немало денег на это ухлопали, а прут оказался с окалиной!..»
Генеральный прокурор, вернувшись к себе в кабинет, был вынужден дать своему секретарю новые распоряжения.
К счастью, Массоль еще не пришел.
Несколько мгновений спустя после отъезда г-на Гранвиля, поспешившего отправиться к г-ну де Серизи, Массоль явился к своему собрату Шаржбефу в канцелярию генерального прокурора.
– Любезный друг, – сказал ему молодой секретарь, – сделайте одолжение, поместите то, что я вам сейчас продиктую, в завтрашнем номере вашей газеты, в отделе судебной хроники. Заголовок придумайте сами. Записывайте!
И он продиктовал:
«Установлено, что девица Эстер добровольно покончила с собою.
Полное алиби господина Люсьена де Рюбампре, его невиновность заставляют сожалеть об его аресте, тем более что в то самое время, когда судебный следователь отдавал приказ о его освобождении, молодой человек скоропостижно скончался».
– Излишне напоминать вам, сударь, – сказал молодой адвокат Массолю, – что вы должны хранить в строжайшей тайне эту маленькую услугу, о которой вас просят.
– Раз вы оказываете мне честь своим доверием, – отвечал Массоль, – я позволю себе сделать одно замечание. Заметка вызовет толки, оскорбительные для правосудия…
– Правосудие сумеет этим пренебречь, – возразил молодой атташе прокуратуры с высокомерием будущего судьи, получившего воспитание у г-на де Гранвиля.
– Простите, дорогой мэтр, но ведь можно двумя фразами избегнуть беды.
И адвокат написал следующее:
«Судебные мероприятия не имеют никакого касательства к этому прискорбному событию. Вскрытие, произведенное немедленно, показало, что смерть вызвана болезнью сердца в последней стадии. Нет причины предполагать, что господин Люсьен де Рюбампре был потрясен своим арестом, ибо смерть тогда наступила бы гораздо раньше. Мы считаем себя вправе утверждать, что этот достойный сожаления молодой человек не только не был огорчен своим арестом, но даже шутил по этому поводу, уверяя лиц, сопровождавших его из Фонтенебло в Париж, что, как только он предстанет перед судебными властями, сразу же будет установлена его невиновность».
– Не означает ли это спасти все?.. – спросил адвокат-журналист.
– Вы правы.
– Завтра генеральный прокурор выразит вам за это свою признательность, – тонко заметил Массоль.
Итак, как мы видим, величайшие события жизни излагаются в парижской хронике происшествий более или менее правдоподобно. Это касается и множества других фактов, гораздо более значительных, чем этот.
Быть может, большинство читателей, как люди взыскательные, не сочтут смерть Эстер и Люсьена завершением этого очерка; быть может, судьба Жака Коллена, Азии, Европы и Паккара, несмотря на мерзость их жизни, возбудила достаточный интерес к себе, чтобы читатель желал узнать, каков был их конец. Поэтому следующее, последнее, действие нашей драмы дополнит картину нравов, изображенную в этом очерке, и приведет к развязке этот запутанный клубок интриг, переплетенных с жизнью Люсьена, выведя на сцену рядом с самыми высокопоставленными особами несколько гнусных героев каторги.
ЧАСТЬ IV. Последнее воплощение Вотрена
– Что случилось, Мадлен? – спросила г-жа Камюзо, взглянув на служанку, вошедшую в комнату с тем таинственным видом, который слуги умеют принять в особо важных случаях.
– Мадам, – отвечала Мадлен, – мосье только что вернулся из суда; на нем лица нет, и он в таком состоянии, что лучше бы мадам пройти к нему в кабинет.
– Он что-нибудь сказал? – спросила г-жа Камюзо.
– Нет, мадам, но мы еще никогда не видели такого лица у мосье: уж не заболел ли он? Он весь пожелтел и как будто не в себе, а…
Не ожидая окончания фразы, г-жа Камюзо выбежала из комнаты и поспешила к мужу. Следователь сидел в кресле, вытянув ноги, с запрокинутой головой; руки у него повисли, лицо побледнело, глаза помутились, казалось, он был близок к обмороку.
– Что с тобою, мой друг? – испуганно спросила молодая женщина.
– Ах, моя бедняжка Амели! Произошло прискорбнейшее событие… Я все еще дрожу. Вообрази себе, что генеральный прокурор… Нет… что госпожа де Серизи… что… Я не знаю, с чего начать.
– Начни с конца!.. – сказала г-жа Камюзо.
– Так вот! В ту минуту, когда в совещательной комнате первого суда присяжных господин Попино поставил последнюю необходимую подпись на решение освободить Люсьена де Рюбампре, вытекающем из моего доклада, который устанавливает его невиновность… Короче говоря, когда все было кончено, когда протоколист убирал черновик, а я избавлялся от этого дела… вдруг входит председатель суда и смотрит постановление.
«Вы освобождаете мертвого, – говорит он мне с холодной насмешкой. – Молодой человек, по выражению господина Бональда предстал перед вечным судией. Он скончался от апоплексического удара…»
Я перевел дух, предполагая несчастный случай.
«Если я верно понимаю, господин председатель, – сказал г-н Попино, – дело идет об апоплексии, как у Пишегрю…»
«Господа, – продолжал председатель весьма торжественным тоном, – помните, что в глазах всех молодой Люсьен де Рюбампре умер от разрыва сердца».
Мы все переглянулись.
«В этом прискорбном деле замешаны важные особы, – сказал председатель. – Хотя вы только исполняли свой долг, дай бог, чтобы госпожа де Серизи не сошла с ума от такого удара! Ее унесли замертво. Я только что встретил генерального прокурора, он в таком отчаянии, что смотреть на него больно. Вы чересчур перегнули палку, мой любезный Камюзо! – шепнул он мне на ухо.
Да, моя милая, я еле мог встать. Ноги так дрожали, что я побоялся выйти на улицу и пошел передохнуть в кабинет. Кокар приводил в порядок бумаги этого злосчастного следствия и рассказал мне, как одна красивая дама взяла приступом Консьержери, чтобы спасти Люсьена, от которого она без ума, и как упала в обморок, когда увидела, что он повесился на галстуке, перекинув его через оконную раму пистоли. Мысль, что характер допроса, которому я подверг несчастного молодого человека, впрочем, бесспорно виновного, говоря между нами, мог послужить причиной его самоубийства, преследует меня с тех пор, как я вышел из суда, и я все так же близок к обмороку…
– Помилуй! Уж не воображаешь ли ты себя убийцей, потому что какой-то подследственный вешается в тюрьме в ту самую минуту, когда ты хочешь его освободить? – вскричала г-жа Камюзо. – Ведь судебного следователя здесь можно уподобить генералу, в котором в бою убили лошадь. Вот и все.
– Подобные сравнения, моя дорогая, пригодны разве что для шутки, но теперь не до шуток. Это тот случай, когда мертвец тянет за собой живого. Люсьен уносит с собою в гроб наши надежды.
– Неужели?.. – сказала г-жа Камюзо с глубочайшей иронией.
– Да. Моя карьера кончена. Я останусь на всю жизнь простым следователем суда департамента Сены. Господин де Гранвиль еще до рокового события был сильно недоволен тем оборотом, который приняло следствие, и слова, сказанные им председателю, ясно доказывают, что, пока господин де Гранвиль будет генеральным прокурором, о повышении мне нечего и думать!
Повышение в должности! Вот ужасное слово, которое в наши дни превращает судью в чиновника.
Прежде судебный деятель сразу становился тем, чем ему надлежало быть. Трех-четырех председательских мест было достаточно для честолюбцев любого суда. Должность советника удовлетворяла де Брюса, как и Моле, в Дижоне так же, как и в Париже. Должность эта, сама по себе являвшаяся уже состоянием, требовала еше большего состояния, чтобы с честью ее занимать. В Париже, помимо парламента, судейские могли рассчитывать только на три высшие должности: главного инспектора, министра юстиции или хранителя печати. Вне парламента, в низших судейских сферах, заместитель председателя какого-нибудь областного суда считал себя особой достаточно важной, чтобы быть счастливым, сидя всю жизнь на своем месте. Сравните положение советника Королевского суда в 1829 году, все состояние которого заключается лишь в его окладе, с положением советника парламента в 1729 году. Какое огромное различие! В наши время, когда деньги превращены в универсальное общественное обеспечение, судебные деятели избавлены от необходимости владеть, как прежде, крупными состояниями: поэтому их видишь депутатами, пэрами Франции, замещающими несколько должностей, судьями и законодателями одновременно, которые добиваются влияния не только на тех поприщах, где им положено блистать.
Короче, судебные деятели желают отличиться, чтобы повыситься в должности, как это принято в армии или министерствах.
Но, если бы это весьма естественное, знакомое многим желание и не ограничивало независимости судьи, все же последствия его чересчур очевидны, чтобы величие судейского сословия не пострадало в общественном мнении. Жалованье, выплачиваемое государством, обращает священника и судью в простого чиновника. Погоня за чинами развивает честолюбие; честолюбие порождает угодливость перед властью; притом современное равенство ставит подсудимого и судью на одну ступень перед лицом общественного правосудия. Итак, оба столпа общественного порядка, Религия и Правосудие, умалены в XIX веке, притязающем на прогресс во всех отношениях.
– А почему бы тебе не повыситься в должности? – спросила Амели Камюзо.
Она насмешливо посмотрела на мужа, чувствуя, что необходимо придать бодрости мужчине, который являлся в руках супруги следователя орудием ее честолюбивых замыслов.
– Зачем отчаиваться? – продолжала она, сопровождая свои слова движением, изобличавшим ее глубокое равнодушие к смерти подследственного. – Это самоубийство осчастливит обеих недоброжелательниц Люсьена: госпожу д'Эспар и ее кузину, графиню дю Шатле. Госпожа д'Эспар хороша с министром юстиции, через нее ты можешь получить аудиенцию у его превосходительства и раскроешь тайну этого дела. А если министр юстиции на твоей стороне, чего тебе бояться председателя и генерального прокурора.
– Но господин и госпожа де Серизи! – вскричал бедный следователь. – Госпожа де Серизи, повторяю тебе, сошла с ума! И, как говорят, по моей вине!
– Ну, а если она сошла с ума, нерассудительный судья, значит, она не может вредить тебе! – смеясь, воскликнула г-жа Камюзо. – Послушай, расскажи мне все, как было.
– О господи боже! – отвечал Камюзо. – Да ведь как раз в ту минуту, когда я допрашивал несчастного юношу и он заявил, что так называемый священник не кто иной, как Жак Коллен, от герцогини де Монфриньез и госпожи де Серизе пришел лакей с запиской, в которой они просили, чтобы я его не допрашивал. Но все уже было сделано…
– Ну, стало быть, ты совсем потерял голову! – сказала Амели. – Ведь ты совершенно уверен в своем секретаре и мог бы тут же вернуть Люсьена, умело успокоить его и исправить протокол своего допроса!
– Ты в точь-в-точь как госпожа де Серизи, насмехаешься над правосудием! – возразил Камюзо, который был неспособен шутить над своей профессией. – Госпожа де Серизи схватила мои протоколы и бросила их в огонь!
– Вот так женщина! Браво! – вскричала г-жа Камюзо.
– Госпожа де Серизи заявила мне, что она лучше взорвет суд, чем позволит молодому человеку, снискавшему благосклонность герцогини де Монфриньез и ее самой, сесть на скамью подсудимых в обществе каторжника!
– Ах, Камюзо, – сказала Амели, не в силах подавить усмешку превосходства, – да ведь у тебя великолепное положение!
– Ну и великолепное!
– Ты исполнил свой долг…
– Да, на свое горе и наперекор коварным намекам господина де Гранвиля. Повстречавшегося со мной на набережной Малакэ…
– Поутру?
– Поутру.
– В котором часу?
– В девять часов.
– О Камюзо! – сказала Амели, ломая руки. – Сколько раз я твердила тебе: будь настороже! О боже мой, это не мужчина, а просто воз щебня, который я тащу на себе! Ах, Камюзо, ведь генеральный прокурор поджидал тебя на пути, и он, верно, давал тебе советы…
– Пожалуй…
– И ты ничего не понял! Если ты туг на ухо, так всю жизнь просидишь на месте следователя, без каких бы то ни было иных последствий! Потрудись-ка выслушать меня! – сказала она, знаком останавливая мужа, когда тот хотел ей ответить. – Значит, ты воображаешь, что дело кончено? – сказала Амели.
Камюзо смотрел на жену взглядом, каким крестьянин смотрит на ярмарочного фокусника.
– Если герцогиня де Монфриньез и графиня де Серизи опорочили свое имя, ты должен добиться покровительства их обеих, – продолжала Амели. – Послушай-ка! Госпожа д'Эспар выхлопочет для тебя аудиенцию у министра юстиции, и ты ему откроешь тайну дела, а он позабавит этой историей короля, ведь все монархи любят видеть оборотную сторону медали и знать истинные причины событий, перед которыми публика останавливается с разинутым ртом. Тут тебе уже не будут страшны ни генеральный прокурор, ни господин де Серизи…
– Ну, не сокровище ли такая жена, как ты! – вскричал следователь, воспрянув духом. – Все же я выбил из седла Жака Коллена, я пошлю его отчитываться перед судом присяжных, я разоблачу его преступления. Подобный процесс – это победа на поприще судебного следователя…
– Камюзо, – сказала Амели, с удовольствием замечая, что ее муж оправился от нравственной и физической апатии, вызванной самоубийством Люсьена де Рюбампре, – председатель только что сказал тебе, что ты перегнул палку, а теперь ты ее перегибаешь в другую сторону… Ты все еще плутаешь, мой друг!
Судебный следователь в молчаливом изумлении уставился на жену.
– Король и министр юстиции, возможно, будут весьма рады узнать тайны этого дела, но вместе с тем им придется не по нраву, когда стряпчие либеральных убеждений начнут трепать перед общественным мнением и судом присяжных в защитительных речах имена столь важных особ, как Серизи, Монфриньезы и Гранлье, короче, имена всех, кто прямо или косвенно замешан в этом процессе.
– Они все тут запутаны!.. Они у меня в руках! – вскричал Камюзо.
Судья зашагал по кабинету, словно Сганарель на сцене, когда он ищет выхода из трудного положения…
– Послушай, Амели! – продолжал он, остановившись перед женой. – Мне приходит на ум одно обстоятельство, как будто ничтожное, но в моем положении оно представляется мне весьма значительным. Вообрази себе, мой милый друг, что этот Жак Коллен – титан хитроумия, притворства, наглости… человек большого ума… О-о! это… как бишь его… Кромвель каторги!.. Я никогда не встречал подобного мошенника, он меня чуть-чуть не провел!.. Но в уголовном следствии, поймав кончик нити, распутываешь клубок, с помощью которого мы углубляемся в самые мрачные лабиринты человеской совести и темных деяний. Когда Жак Коллен увидел, что я просматриваю письма, взятые при аресте у Люсьена де Рюбампре, каналья окинул их таким взглядом, точно искал, нет ли тут еще какой-то важной связки писем, и когда убедился, что ее нет, то не мог скрыть своего удовлетворения! Этот взгляд вора, оценивающего сокровище, эта радость подследственного, означавшая: «Оружие при мне!», открыли мне очень многое. Только вы, женщины способны, как мы и подследственные, обменявшись взглядом, воссоздать целую сцену, которая раскрывает систему обмана не менее сложную, чем механизм секретного замка. Видишь ли, в них прочитываешь целые тома подозрений, и все это в одну лишь секунду! Ужасно!.. Жизнь или смерть в мимолетном взгляде! «У молодца в руках еще есть другие письма!» – подумал я. Потом тысяча других подробностей дела отвлекла меня, и я пренебрег этим случаем: ведь я думал поставить подследственных на очную ставку и тем самым осветить этот пункт следствия. Но допустим, что Жак Коллен, как водится у этих негодяев, спрятал в надежном месте самые порочащие письма из переписки молодого красавца, обожаемого столькими…
– И ты еще дрожишь, Камюзо! Ты будешь председателем палаты в Королевском суде гораздо раньше, чем я думала!.. – вскричала г-жа Камюзо, просияв. – Послушай, веди себя так, чтобы всем угодить; ведь дело приобретает такую важность, что у нас могут и отнять его… Разве не вырвали из рук Попино дело об опеке, затеянное госпожой д'Эспар против ее мужа, и разве тебе не поручили его вести? – сказала она в ответ на удивленный жест Камюзо. – И разве генеральный прокурор, принимающий так близко к сердцу все, что касается господина и госпожи де Серизи, не может перенести дело в Королевский суд и поручить его своему советнику заново его расследовать?
– Ах, душенька! Где же ты изучила уголовное право? – воскликнул Камюзо. – Ты все знаешь, ты мой наставник…
– Ну, а как же!.. Ты думаешь, господин де Гранвиль не испугается, представив себе завтра же утром, что может в защитительной речи сказать либеральный адвокат, которого Жак Коллен, конечно, сумеет найти; ведь будут считать за честь состоять его защитником!.. Эти дамы хорошо знают, пожалуй, еще лучше тебя, об опасности, которая им грозит; они просветят генерального прокурора, а тот и сам уже видит, что эти семейства вот-вот попадут на скамью подсудимых, потому что каторжник был связан с Люсьеном де Рюбампре, женихом мадемуазель де Гранлье, любовником Эстер, бывшим любовником герцогини де Монфриньез, возлюбленным госпожи де Серизи. Ты должен, стало быть, действовать так, чтобы снискать расположение генерального прокурора, признательность господина де Серизи, маркизы д'Эспар, графини дю Шатле, подкрепить покровительство госпожи де Монфриньез покровительством дома де Гранлье и получить поздравления от твоего председателя. Что до меня касается, я беру на себя всех этих дам: д'Эспар, де Монфриньез и де Гранлье. А ты должен пойти завтра утром к генеральному прокурору. Господин де Гранвиль не живет со своей женой; у него лет десять была любовница, какая-то мадемуазель де Бельфей, от которой у него были внебрачные дети, не так ли? Ну, так вот! Этот судейский не святой, он такой же человек, как и все смертные: значит, его можно соблазнить; у тебя превосходство в этом отношении, надо нащупать его слабое место, польстить ему; проси у него советов, изобрази опасность положения, словом, постарайся впутать его вместе с собой в это дело, и ты будешь…
– Право, я должен целовать следы твоих ног! – перебил Камюзо жену и, обняв ее, крепко прижал к груди. – Амели, ты спасаешь меня!
– А кто, как не я, вытащила тебя из Алансона в Мант, а из Мант в суд департамента Сены? – отвечала Амели. – Будь спокоен!.. Я желаю, чтобы меня лет через пять величали госпожой председательшей. Но впредь, мой котик, не принимай решения, не обдумав его хорошенько. Ремесло следователя – не то что ремесло пожарного: бумаги ваши не горят, у вас всегда есть время подумать; поэтому творить глупости на вашем посту непростительно…
– Крепость моей позиции заключается в тождестве испанского лжесвященника с Жаком Колленом, – продолжал следователь после долгого молчания. – Как только это тождество будет установлено, пусть даже суд припишет себе разбор этого дела, факт останется фактом, его не скинет со счетов ни один судейский, будь то судья или советник. Я поступлю, как дети, привязавшие железку к хвосту кошки: где бы дело ни разбиралось, всюду зазвенят кандалы Жака Коллена.
– Браво! – сказала Амели.
– И генеральный прокурор предпочтет сговориться со мной, единственным человеком, кто может отвести этот дамоклов меч, нависший над сердцем Сен-Жерменского предместья, нежели с кем-либо иным!.. Но ты не знаешь, как трудно достигнуть столь блестящего результата!.. Только что мы с генеральным прокурором, сидя в его кабинете, условились принять Жака Коллена за того, за кого он себя выдает: за каноника толедского капитула, Карлоса Эррера; мы условились признать его дипломатическим посланцем и предоставить испанскому посольству право требовать его выдачи. Как следствие этого плана, я составил приказ об освобождении Люсьена де Рюбампре, заново пересмотрев запись допроса моих подследственных и обелив их начисто. Завтра господа де Растиньяк, Бьяншон и еще кто-нибудь будут приведены на очную ставку с так называемым каноником королевского толедского капитула, причем никто из них не признает в нем Жака Коллена, арестованного лет десять назад в их присутствии в частном пансионе, где он был им известен под именем Вотрена.
На минуту воцарилось молчание; г-жа Камюзо размышляла.
– Ты убежден, что твой подследственный действительно Жак Коллен? – спросила она.
– Убежден, – отвечал следователь, – и генеральный прокурор тоже.
– Ну, а коли так, постарайся, не выпуская своих кошачьих коготков, вызвать скандал во Дворце правосудия! Если твой молодчик еще в секретной, ступай тотчас же к начальнику Консьержери и устрой так, чтобы каторжник был опознан на глазах у всех. Вместо того, чтобы подражать сановникам полиции в странах неограниченной монархии, которые устраивают заговоры против самодержавия, чтобы потом приписать заслугу их раскрытия и убедить в своей незаменимости, поставь под угрозу честь трех семейств и заслужи славу их спасителя.
– Какое счастье! – вскричал Камюзо. – Ведь я совсем забыл об одном обстоятельстве, такая неразбериха у меня в голове… Как только Кокар вручил господину Го, начальнику Консьержери, приказ перевести Жака Коллена в пистоль, Биби-Люпен, враг Жака Коллена, поспешил доставить из Форс в Консьержери трех преступников, знавших каторжника. Когда его завтра выведут в тюремный двор на прогулку, там может произойти ужасная сцена…
– Почему?
– Жак Коллен, душенька, хранитель вкладов, принадлежащих каторжникам, и суммы эти весьма значительны; а он, говорят, их растратил на поддержание роскошного образа жизни покойного Люсьена. От него потребуют отчета. Тут, по словам Биби-Люпена, не миновать побоища; вмешаются, конечно, надзиратели, и тайна будет открыта. Дело пойдет о жизни Жака Коллена. Если я приду в суд пораньше, то успею составить протокол опознания.
– Ах, если бы его вкладчики избавили тебя от него! Ты прослыл бы чрезвычайно толковым человеком. Не ходи к господину де Гранвилю, жди его в канцелярии прокурорского надзора с грозным оружием в руках! Ведь это пушка, наведенная на три семейства, самые влиятельные при дворе и среди пэров Франции. Действуй смелее, предложи господину де Гранвилю избавиться от Жака Коллена, переведя его в Форс, а там уже каторжники сами сумеют избавиться от предателя. Что касается до меня, я поеду к герцогине де Монфриньез, а она отвезет меня к де Гранлье. Как знать, может, мне удастся повидать и господина де Серизи… Положись на меня, я повсюду забью тревогу. Главное, черкни мне условную записку, чтобы я знала, установлено ли судебным порядком тождество испанского священника и Жака Коллена. Постарайся освободиться к двум часам, я добьюсь для тебя личного свидания с министром юстиции; возможно, он будет у маркизы д'Эспар.
Камюзо замер на месте от восхищения, вызвав этим улыбку лукавой Амели.
– Ну, а теперь пойдем обедать, и гляди веселее! – сказала она в заключение. – Подумай только! Не прошло и двух лет, как мы в Париже, а ты вот-вот выскочишь в советники еще до конца года. А оттуда, мой котик, до председателя палаты Королевского суда один лишь шаг: услуга, оказанная тобой в каком-нибудь политическом деле…
Это тайное совещание показывает, до какой степени любой поступок и малейшее слово Жака Коллена, последнего действующего лица нашего очерка, затрагивали честь семейств, в лоно которых он поместил своего погибшего любимца.
Смерть Люсьена и вторжение в Консьержери графини де Серизи произвели такой беспорядок в механизме всей этой машины, что начальник тюрьмы забыл освободить из секретной самозваного испанского священника.
Хотя тому имеется и не один пример в судебных летописях, все же смерть подследственного во время производства следствия – событие достаточно редкое, чтобы не нарушить спокойствие, которым отличаются надзиратели, секретари и начальники тюрьмы. Однако ж наиболее важным событием для них было не то, что молодой красавец столь быстро превратился в труп, а то, что нежные руки светской женщины переломили железный кованый прут в решетке калитки. Как только генеральный прокурор и граф де Бован уехали в карете графа де Серизи, увозившего свою жену, которая лежала в глубоком обмороке, начальник тюрьмы, секретарь и надзиратели собрались у калитки, провожая господина Лебрена, тюремного врача, вызванного установить смерть Люсьена и снестись с врачом покойников того квартала, где жил злополучный молодой человек.
В Париже врачом покойников называют доктора из мэрии, в обязанность которого входит установление смертного случая и его причины.
Господин де Гранвиль, со свойственной ему проницательностью, мгновенно оценив положение, почел за благо для чести опороченных семейств составить акт о кончине Люсьена в мэрии, ведению которой подлежала набережная Малакэ, где жил покойный, и из его квартиры перенести тело в церковь Сен-Жермен-де-Пре, где была заказана панихида. Г-н де Шаржбеф, секретарь г-на де Гранвиля, срочно им вызванный, получил приказания на этот счет. Вывезти тело Люсьена из тюрьмы должны были ночью. Молодому секретарю поручено было немедленно снестись с мэрией, с приходской церковью и похоронным бюро. Следовательно, для света Люсьен умер своей свободным и у себя дома, куда и были приглашены его друзья, чтобы присутствовать при выносе тела и принять участие в похоронной процессии.
Итак, в то время, когда Камюзо с легким сердцем садился за стол со своей честолюбивой половиной, начальник Консьержери и тюремный врач, господин Лебрен, стояли у калитки, сетуя на хрупкость прутьев и силу влюбленных женщин.
– Никто не знает, – говорил врач г-ну Го, прощаясь с ним, – какую силу придает человеку нервное возбуждение, вызванное страстью! Физика и математика еще не нашли обозначения и расчета для определения этой силы. Кстати, мне вчера довелось быть свидетелем опыта, заставившего меня содрогнуться, но вполне объясняющего происхождение дьявольской мощи, выказанной только что этой дамочкой.
– Расскажите мне об этом, – сказал г-н Го. – У меня есть одна слабость: я интересуюсь магнетизмом; не то чтобы я верил в него, а просто из любопытства.
– Один врач, магнетизер, ибо среди нас есть верящие в магнетизм, – продолжал доктор Лебрер, – предложил мне проверить на себе самом одно явление, которое он мне описал, но не убедил в его вероятности. Мне хотелось увидеть один из тех странных нервных припадков, которые служат доказательством существования магнетизма, и я согласился. Я бы очень желал знать, что скажет наша Медицинская академия, будь ее члены подвергнуты один за другим воздействию магнетизма, не оставляющему никакой лазейки для недоверия. Вот как было дело. Мой старый друг… Здесь Лебрен сделал небольшое отступление, – это врач, старик, за свои убеждения преследуемый медицинским факультетом со времени Месмера; ему лет семьдесят, если не семьдесят два, и зовут его Буваром. Ныне он патриарх теории животного магнетизма. Добряк относился ко мне, как к сыну, я обязан ему своими знаниями. Итак, почтенный старик Бувар предлагал доказать мне, что нервная сила, пробужденная магнетизмом, хоть и не беспредельна, ибо человек подчинен определенным законам, но она действует подобно силам природы, первоисточники коих ускользают от наших исчислений. «Стало быть, – сказал он мне, – если ты пожелаешь вложить свою руку в руку сомнамбулы, которая в бодрствующем состоянии сожмет твою руку, не проявляя особой силы, ты должен будешь признать, что в состоянии сомнамбулизма – вот глупейшее наименование! – ее пальцы приобретают способность действовать, как клещи в руках слесаря!»
И вот сударь, когда я вложил свое запястье в руку женщины, не усыпленной, – Бувар отвергает это выражение, – но разобщенной с внешним миром, и когда старик приказал этой женщине сжать мою руку изо всей силы, я взмолился, чтобы он прекратил опыт, – еще одна минута, и кровь брызнула бы из моих пальцев. Поглядите! Вы видите, какой браслет я буду носить более трех месяцев!
– Вот чертовщина! – сказал г-н Го, рассматривая кольцеобразный кровоподтек, напоминавший след от ожога.
– Мой дорогой Го, – продолжал врач, – будь мое тело охвачено железным обручем, который стянул бы слесарь, завинтив гайкой, и то я не ощущал бы этот металлический наручник так мучительно, как пальцы этой женщины; кисть ее руки уподобилась негнущейся стали, и я уверен, что она могла бы раздробить мои кости, отделить кисть от запястья. Давление, сперва нечувствительное, увеличивалось со все возрастающей силой; словом, винтовой зажим не действовал бы лучше этой руки, превращенной в орудие пытки. Итак, мне представляется доказанным, что под влиянием страсти, иначе говоря, воли, сосредоточенной в одной точке и по степени напряжения равной животной силе, возможности которой не поддаются учету, подобно различным видам электрической энергии, – человек может сосредочить всю свою жизнеспособность как для нападения, так и для сопротивления в том или ином из своих органов… Эта дамочка, под гнетом несчастья, направила свою жизненную силу в кисти рук.
– Дьявольская должна быть сила, чтобы сломать прут из кованого железа… – сказал старший надзиратель, качая головой.
– Там была окалина! – заметил г-н Го.
– Что до меня, – продолжал врач, – я не берусь более определять границы нервной силы. Впрочем, матери, ради спасения детей, магнетизируют львов, спускаются во время пожара по карнизам, где даже кошке трудно удержаться, и переносят муки родов, – все это из той же области. Вот в чем тайна попыток пленных и каторжников вырваться на свободу. Предел жизненных сил человека еще не исследован, они сродни могуществу самой природы, и мы их черпаем из неведомых хранилищ!
– Сударь, – шепотом сказал надзиратель, подойдя к начальнику тюрьмы, провожавшему доктора Лебрена к наружной решетке Консьержери, – секретный номер два говорит, что он болен, и требует врача; он утверждает, что находится при смерти, – прибавил надзиратель.
– И вправду? – спросил начальник тюрьмы.
– Да он хрипит уже! – отвечал надзиратель.
– Пять часов, – сказал доктор, – а я еще не обедал… Но что поделаешь, такова моя судьба, пойдем…
– Секретный номер два – это и есть испанский священник, подозреваемый в том, что он Жак Коллен, – сказал г-н Го врачу, – и подследственный по делу, в котором был замешан бедный молодой человек…
– Я уже видел его нынче утром, – отвечал доктор. – Господин Камюзо вызывал меня, чтобы установить состояние здоровья этого молодца; а он, между нами будь сказано, чувствует себя великолепно и мог бы даже составить себе капитал, изображая Геркулеса в труппе бродячих скоморохов.
– Не хочет ли он, чего доброго, тоже покончить с собой! – сказал г-н Го. – Забежим-ка в секретные; мне надо побывать там хотя бы для того, чтобы перевести его в пистоль. Господин Камюзо освободил из секретной эту загадочную особу…
С той минуты, как Жак Коллен, по кличке Обмани-Смерть, присвоенной ему в преступном мире, и не нуждающийся более в другом имени, кроме собственного, снова очутился по распоряжению Камюзо в секретной, он, дважды осужденный судом присяжных и трижды бежавший из каторги, испытывал тоску, какой еще не знавал в своей жизни, отмеченной столькими преступлениями. Разве это чудовищное воплощение жизни, силы, ума и страстей каторги в их высшем выражении, разве этот человек не прекрасен в своей поистине собачьей привязанности к тому, кого он избрал своим другом? Достойный осуждения, бесчестный и омерзительный во всех отношениях, он вызывает слепой преданностью своему идолу настолько живой интерес, что наш очерк, без того уже пространный, все же покажется неоконченным, если повествование об этой преступной жизни оборвется со смертью Люсьена де Рюбампре. Маленький спаниель погиб, но что же станется с его страшным спутником? Переживет ли его лев?
В жизни человеческой, в общественной жизни, события сцепляются столь роковым образом, что их не отделить друг от друга. Воды потока образуют собою некий текучий путь; как бы мятежна ни была волна, как бы высоко ни взлетал ее гребень, могучий вал исчезает в водной стихии, подавляющей своим стремительным бегом бунт собственных пучин. И подобно тому как, склоняясь над быстротечной струей, ловишь в ней зыбкие образы, не пожелаешь ли ты уловить этот смерч, именуемый Вотреном? Узнать, о какой вал разобьется мятежная волна, чем завершится судьба этого подлинного исчадия ада, лишь любовью приобщенного к человечеству? Ибо это божественное начало с великим трудом отмирает даже в самых развращенных сердцах.
Гнусный каторжник, воплощая поэму, взлелеянную столькими поэтами: Муром, лордом Байроном, Матюреном, Каналисом (сатана, соблазнивший ангела, чтобы росой, похищенной из рая, освежить преисподнюю), Жак Коллен, если заглянуть поглубже в это каменное сердце, отрекся от самого себя уже семь лет назад. Его огромные способности, поглощенные чувством к Люсьену, служили одному только Люсьену; он наслаждался его успехами, его любовью, его честолюбием. Люсьен был живым воплощением его души.
Обмани-Смерть обедал у Гранлье, прокрадывался в будуары знатных дам, по доверенности любил Эстер. Короче, он в Люсьене видел юного Жака Коллена, красавца, аристократа, будущего посла.
Обмани-Смерть осуществил немецкое поверье о двойнике, являя собой редкий пример нравственного отцовства – чувства, которое хорошо знакомо женщинам, любившим истинной любовью, испытавшим в своей жизни то особое ощущение, когда твоя душа сливается с душой любимого и ты живешь его жизнью, благородной или бесчестной, счастливой ли злосчастной, тусклой или блестящей, когда, несмотря на расстояние, ощущаешь боль в ноге, если у него ранена нога, чутьем угадываешь, что вот он сейчас дерется на дуэли, – словом, когда нет нужды в доказательствах, чтобы знать об измене.
Возвратившись в свою камеру, Жак Коллен говорил себе: «Сейчас допрашивают малыша!»
И он содрогался, – он, кому убить было так же просто, как мастеровому выпить.
«Удалось ли ему повидать своих любовниц? – спрашивал он себя. – Разыскала ли моя тетка этих проклятых самок? Сделали ли что-нибудь эти герцогини и графини, помешали ли они допросу?.. Получил ли Люсьен мои наставления?.. И если року угодно, чтобы его допросили, как он будет держаться? Бедный малыш, до чего я тебя довел! Разбойник Паккар и пройдоха Европа развели всю эту канитель, свистнув семьсот пятьдесят тысяч ренты, которые Нусинген дал Эстер. По вине этих мошенников мы оступились на последнем шаге; но они дорого заплатят за свою шутку! Еще день, и Люсьен был бы богат! Он женился бы на своей Клотильде де Гранлье. И Эстер не связывала бы мне руки. Люсьен чересчур любил ее, а Клотильду, эту спасательную доску, он никогда не полюбил бы… Ах! Малыш был бы моим безраздельно! Подумать только, что наша судьба зависит от одного взгляда, от того, смутится или нет Люсьен, оказавшись перед Камюзо, который все видит, от которого ничто не ускользает; этот следователь не лишен судейской проницательности! Когда он показал мне письма, мы обменялись взглядами, проникавшими в самые глубины наших душ, и он понял, что я могу заставить поплясать любовниц Люсьена!..
Этот разговор с самим собою длился три часа. Тревога его возрастала, пока, наконец, не взяла верх над этой натурой, в которой сочетались железо и серная кислота. Жак Коллен страдал от неутолимой жажды, мозг его горел, точно сжигаемый безумием, и, сам того не замечая, он осушил весь запас воды в лохани, составлявшей вместе с другой лоханью и кроватью, всю обстановку секретной.
«Если он потеряет голову, что станется с ним?.. Милый мальчик не так вынослив, как Теодор!» – думал он, ложась на походную кровать, похожую на койку в караульне.
Скажем кратко о Теодоре, о котором вспомнил Жак Коллен в эту решительную минуту. Теодор Кальви, молодой корсиканец, осужденный пожизненно на галеры за одиннадцать убийств, которые он совершил в восемнадцатилетнем возрасте, оказался благодаря послаблениям, купленным за золото, товарищем Жака Коллена по цепи. Это было в 1819 – 1820 годах. Последний побег Жака Коллена, блистательнейшая из его проделок (он ушел, переодетый жандармом, как бы сопровождая к начальнику полиции Теодора Кальви, шагавшего рядом с ним в арестантской одежде), – этот великолепный побег был совершен в порту Рошфор, где каторжники мрут почти поголовно, на что и надеялись, отправляя туда эти две опасные личности. Они бежали вместе, но в пути по каким-то причинам им пришлось разлучиться. Теодора поймали и водворили на галеры. А Жак Коллен, пробравшись в Испанию и преобразившись там в Карлоса Эррера, уже направился было обратно в Рошфор на поиски своего корсиканца, когда на берегах Шаранты встретил Люсьена. Герой бандитов и корсиканских маки, обучивший Обмани-Смерть итальянскому языку, был, естественно, принесен в жертву новому кумиру.
Жизнь с Люсьеном, юношей, не запятнанным никакими судебными приговорами и ставившим себе в упрек лишь небольшие погрешности, открывалась перед ним, как солнечный летний день, сияющий и прекрасный, тогда как с Теодором Жак Коллен не видел иной развязки, кроме эшафота, после цепи неизбежных преступлений.
Несчастье, которое может навлечь на себя безвольный Люсьен, вероятно, совсем потерявший голову в своей одиночке, принимало чудовищные размеры в воображении Жака Коллена, и предвидя катастрофу, несчастный чувствовал, как слезы застилают ему глаза, чего с ним не случалось со времен детства.
«Очевидно, у меня сильнейшая лихорадка! – сказал он себе. – Быть может, если я вызову врача и предложу ему изрядный куш, он свяжет меня с Люсьеном».
В это время надзиратель принес подследственному обед.
– Бесполезно, друг мой, я не могу есть. Скажите господину начальнику этой тюрьмы, что я прошу прислать ко мне врача; я чувствую себя очень плохо. Верно, пришел мой последний час!
Услышав хрипение, прервавшее речь каторжника, надзиратель кивнул головой и ушел. Жак Коллен страстно ухватился за эту надежду; но, увидев, что вместе с доктором в его камеру входит и начальник тюрьмы, он счел свою попытку неудавшейся и холодно ожидал последствий посещения, предоставив врачу щупать свой пульс.
– Этого господина, видимо, лихорадит, – сказал доктор г-ну Го, – но такую лихорадку мы наблюдаем у всех подследственных, и по-моему, – шепнул он на ухо лжеиспанцу, – она всегда служит доказательством виновности.
В эту минуту начальник тюрьмы, оставив доктора и подследственного под охраной надзирателя, пошел за письмом Люсьена, которое генеральный прокурор дал для передачи Жаку Коллену.
– Сударь, – обратился Жак Коллен, озадаченный уходом начальника и видя, что надзиратель остался у двери, – я не постою за тридцатью тысячами франков, чтобы только черкнуть пять строк Люсьену де Рюбампре.
– Не хочу обкрадывать вас, – сказал доктор Лебрен, – никто в мире не может более общаться с ним…
– Никто? – сказал Жак Коллен, ошеломленный. – Но почему?
– Да ведь он повесился…
Никогда тигр, обнаружив, что у него похитили детеныша, не оглушал джунгли Индии ревом, столь ужасным, как вопль Жака Коллена, вскочившего на ноги, точно зверь, поднявшийся на задние лапы; он кинул на врача взгляд, разящий, как молния, потом опустился на койку со словами: «О, мой сын!..»
– Бедняга! – воскликнул врач, взволнованный этим страшным взрывом отцовского чувства.
В самом деле, за этой вспышкой последовал такой упадок сил, что слова: «О, мой сын!» – он прошептал едва внятно.
– Неужто и этот кончится на наших руках? – спросил надзиратель.
– Нет, не может быть! – снова заговорил Жак Коллен, приподымаясь и устремив на свидетелей этой сцены тусклый, померкший взгляд. – Вы ошибаетесь, это не он! Вы не разглядели. Нельзя повеситься в секретной. Ну, посудите сами, как бы я мог здесь повеситься? Весь Париж отвечает мне за эту жизнь! За нее обязан сам бог.
Надзиратель и врач, которых уж давно ничто не удивляло, были в свою очередь потрясены. Вошел г-н Го, держа в руках письмо Люсьена. При виде начальника тюрьмы Жак Коллен, обессиленный бурным проявлением своего горя, как будто успокоился.
– Вот письмо. Господин генеральный прокурор позволил передать его вам нераспечатанным, – заметил г-н Го.
– От Люсьена?.. – сказал Жак Коллен.
– Да, сударь.
– Неужели этот молодой человек…
– Умер, – сказал начальник тюрьмы. – Если бы даже тут оказался врач, он все же опоздал бы, к несчастью… Молодой человек умер там… в одной из пистолей…
– Могу я увидеть его своими глазами? – робко спросил Жак Коллен. – Позволите ли вы отцу пойти оплакать своего сына?
– Если вам угодно, можете занять его камеру. Мне приказано перевести вас в пистоль. Вы освобождены от заключения в секретной, сударь.
Безжизненный взор заключенного медленно переходил с начальника тюрьмы на врача, останавливаясь на них с немым вопросом: Жак Коллен подозревал западню и боялся выйти из камеры.
– Если вы хотите увидеть покойного, – сказал врач, – не теряйте времени, потому что этой ночью его увезут отсюда…
– Вы поймете мою растерянность, господа, если у вас есть дети, – сказал Жак Коллен. – Свет померк в моих глазах… Такой удар для меня страшнее смерти… Но вы не поймете меня… Если только вы отцы, этого мало… Я и отец и мать ему!.. Я… я сошел с ума… Я это чувствую.
Внутренние переходы, куда ведут неприступные двери, распахивающиеся только перед начальником тюрьмы, дают возможность быстро дойти от секретных камер до пистолей. Эти два ряда темниц разделены подземным коридором, меж двух массивных стен, поддерживающих свод, на котором покоится галерея здания суда, называемая Торговой галереей. Поэтому Жак Коллен с надзирателем, взявшим его под руку, предшествуемый начальником тюрьмы и сопровождаемый доктором, дошел за несколько минут до камеры, где на койке лежал Люсьен.
Увидев, что юноша мертв, Коллен упал на бесчувственное тело, сжав его в объятиях с таким отчаянием и страстью, что три свидетеля содрогнулись.
– Вот пример того, о чем я вам говорил, – сказал доктор начальнику тюрьмы. – Посмотрите!.. Этот человек будет мять тело, как глину, а знаете ли вы что такое труп?.. Это камень…
– Оставьте меня тут! – сказал Жак Коллен угасшим голосом. – Дайте мне наглядеться на него, скоро его отнимут у меня, чтобы…
Он запнулся на слове похоронить.
– Позвольте мне сохранить хоть что-нибудь от моего милого мальчика… Прошу вас, сударь, – сказал он доктору Лебрену, – отрежьте мне прядь его волос, сам я не могу…
– А ведь и вправду это его сын! – сказал врач.
– Вы в том уверены? – спросил тюремный начальник с многозначительным видом, что заставило врача на мгновение призадуматься.
Начальник тюрьмы приказал надзирателю оставить подследственного в камере и отрезать для самозваного отца несколько прядей волос с головы сына, до того как придут за телом.
В Консьержери в мае месяце, даже в шестом часу вечера, легко прочесть письмо, хотя прутья решетки и проволочная сетка на окнах затемняют свет. И Жак Коллен разобрал строчки этого страшного письма, не выпуская руки Люсьена.
Нет человека, который мог бы удержать в руке долее десяти минут кусок льда, тем более крепко сжимая его. Холод передается источникам жизни со смертоносной быстротой. Но влияние этого ужасного холода, действующего как яд, едва ли сравнимо с тем ощущением, что производит на душу окоченелая, ледяная рука мертвеца, если ее держать и так сжимать. Это Смерть говорит с Жизнью, она открывает темные тайны, убивающие многие чувства. А измениться для чувства – не значит ли это умереть?
Когда мы вместе с Жаком Колленом будем читать письмо Люсьена, то и нам его последнее послание покажется тем же, чем оно было для этого человека: чашей яда.
«Аббату Карлосу Эррера.
Дорогой аббат, вы оказывали мне одни лишь благодеяния, а я вас предал. Эта невольная неблагодарность меня убивает, и, когда вы будете читать эти строки, я уже уйду из жизни; вас не будет тут более, чтобы меня спасти.
Вы дали мне полное право, если я найду для себя полезным, погубить вас, отбросив от себя, как окурок сигары; но я глупо воспользовался этим правом. Чтобы выйти из затруднения, обманутый лукавыми вопросами судебного следователя, ваш духовный сын, тот, кого вы усыновили, примкнул к вашим врагам, желавшим погубить вас любою ценой, пытавшимся установить какое-то тождество, разумеется немыслимое, между вами и каким-то французским злодеем. Этим все сказано.
Между человеком вашего могущества и мною, из которого вы мечтали создать личность более значительную, чем мне надлежало быть, не место глупым объяснениям в минуту вечной разлуки. Вы хотели сделать меня могущественным и знаменитым, – вы низвергли меня в бездну самоубийства, вот и все! Давно уже я слышу над собою шум крыльев надвигающегося безумия.
Есть потомство Каина и потомство Авеля, как вы говорили порою. В великой драме человечества Каин – это противоборство. Вы ведете свое происхождение от Адама по линии Каина, в чьих потомках дьявол продолжал раздувать тот огонь, первую искру которого он заронил в Еву. Среди демонов с такой родословной встречаются от времени до времени страшные существа, одаренные разносторонним умом, воплощающие в себе всю силу человеческого духа и похожие на тех хищных зверей пустыни, жизнь которых требует бескрайних пространств, только там и возможных. Люди эти опасны в обществе, как были бы опасны львы в равнинах Нормандии; им потребен корм, они пожирают мелкую человечину и поедают золото глупцов; игры их смертоносны, они кончаются гибелью смиренного пса, которого они взяли себе в товарищи и сделали своим кумиром. Когда бог того пожелает, эти таинственные существа становятся Моисеем, Аттилой, Карлом Великим, Магометом или Наполеоном; но когда он оставляет ржаветь на дне человеческого океана эти исполинские орудия своей воли, то в каком-то поколении рождается Пугачев, Робеспьер, Лувель или аббат Карлос Эррера. Одаренные безмерной властью над нежными душами, они притягивают их к себе и губят их. В своем роде это величественно, это прекрасно! Это ядовитое растение великолепной окраски, прельщающие в лесах детей. Поэзия зла. Люди вашего склада должны обитать в пещерах и не выходить оттуда. Ты дал мне пожить этой жизнью гигантов, и с меня довольно моего существования. Теперь я могу высвободить голову из гордиева узла твоих хитросплетений, чтобы вложить ее в петлю моего галстука.
Чтобы исправить свою ошибку, я передаю генеральному прокурору отказ от моих показаний. Вы сумеете воспользоваться этим документом.
Согласно моему завещанию, составленному по всей форме, вам вернут, господин аббат, суммы, принадлежащие вашему Ордену, которыми вы весьма неблагоразумно распорядились, движимые отеческой нежностью ко мне.
Прощайте же, прощайте, величественная статуя Зла и Порока! Прощайте, вы, кому на ином пути, быть может, суждено было стать более великим, чем Хименес, чем Ришелье! Вы сдержали свое обещание; а я все тот же, что был на берегу Шаранты, только вкусив благодаря вам чарующий сон. Но, к несчастью, это уже не река моей юности, это Сена, и могилою мне – каземат Консьержери.
Не сожалейте обо мне: мое восхищение вами было равно моему презрению.
Люсьен».Когда около часу ночи пришли за телом, Жак Коллен стоял на коленях перед кроватью, письмо самоубийцы лежало на полу, – вероятно, он его выронил, как самоубийца пистолет; однако несчастный все еще сжимал руку Люсьена в своих руках и молился.
Носильщики минуту постояли, глядя на этого человека, ибо он напоминал те каменные фигуры, что по воле творческого гения ваятелей, преклонив колена, застыли навеки на могилах средневековья. Светлые, как у тигра, глаза мнимого священника и его сверхестественная неподвижность внушали такое почтение этим людям, что они обратились к нему чрезвычайно мягко, когда просили его подняться.
– Зачем? – спросил он робко.
Смельчак Обмани-Смерть стал боязлив, как ребенок.
Начальник тюрьмы обратил на это внимание г-на де Шаржбефа, и тот, из чувства уважения перед таким горем и принимая на веру отцовство Жака Коллена, изложил ему распоряжения г-на де Гранвиля, касавшиеся отпевания и похорон Люсьена и сообщил, что в бывшей квартире Люсьена на набережной Малакэ духовенство ожидает прибытия тела, чтобы читать над ним молитвы весь остаток ночи.
– Узнаю благородную душу этого судьи! – скорбным голосом воскликнул каторжник. – Скажите ему, сударь, что он может рассчитывать на мою благодарность… Да, я могу оказать ему большие услуги… Запомните эти слова, они для него крайне важны. Ах, сударь, странные перемены происходят в сердце человеческом, когда семь часов сряду оплакиваешь свое дитя… И вот я не увижу его больше!..
Он устремил на Люсьена взгляд, каким мать смотрит на тело сына, которое отнимают у нее, и весь поник. Когда он увидел, что Люсьена выносят, у него вырвался стон, заставивший носильщиков ускорить шаг.
Секретарь генерального прокурора и начальник тюрьмы еще раньше поспешили избавить себя от этого зрелища.
Что сталось с этим железным человеком, у которого быстрота решения состязалась с зоркостью глаз, у которого мысль и действие возникали одновременно, стремительные, как молния, а нервы, испытанные в трех побегах и троекратном пребывании в каторге, достигли крепости металла, отличающей нервы дикаря?
Железо поддается при усиленной ковке либо повторном давлении; его непроницаемые молекулы, очищенные человеком и ставшие однородными, разъединяются, и металл, даже без плавки, в какой-то мере утрачивает свою сопротивляемость. Кузнец, слесарь, любой рабочий, постоянно имеющий дело с этим металлом, передает его состояние определенным техническим термином. «Железо моченое!» – говорит он, применяя выражение, относящееся только к конопле, распад которого достигается при помощи вымачивания. Так и душа человеческая, или, если угодно, тройная энергия тела, души и разума, в силу известных повторных потрясений, приходит в состояние, сходное с состоянием моченого железа. С людьми тогда происходит то же, что с коноплей и железом: они становятся мочеными. И наука, и правосудие, и публика ищут тысячи причина для объяснения ужасных железнодорожных катастроф, происшедших при разрыве рельсов, – крушение в Бельвю может служить тому страшным примером, – но никто не советовался с настоящими знатоками этого дела, кузнецами, которые все в один голос сказали бы: «Железо было моченое!» Эту опасность предвидеть невозможно. Металл, ставший ломким, и металл, сохранивший сопротивляемость, внешне одинаковы.
Пользуясь именно таким состоянием человека, духовники и судебные следователи нередко разоблачают крупных преступников. Тягостные переживания в суде присяжных и во время последнего туалета приговоренного вызывают почти всегда, даже у натур самых крепких, подобное расстройство нервной системы. Признания вырываются тогда из уст наиболее замкнутых; тогда разбиваются самые суровые сердца; и – что удивительно! – именно в ту минуту, когда признания не нужны, эта крайняя расслабленность срывает с человека маску невинности, тревожившую правосудие, которое всякий раз испытывает тревогу, если осужденный умирает, не признавшись в преступлении.
Наполеон пережил подобный упадок всех жизненных сил на поле битвы под Ватерлоо!
Утром, в восемь часов, смотритель, войдя в камеру пистоли, где находился Жак Коллен, увидел, что арестант бледен, но спокоен, – так собирается с силами человек, принявший трудное решение.
– Вам время выйти во двор, – сказал тюремщик, – вы взаперти уже три дня. Если хотите подышать воздухом и пройтись, пожалуйста!
Жак Коллен весь ушел в свои думы, ему было не до забот о себе, он глядел на себя, как на отрепья, бездушную оболочку, и не подозревал ни западни, приготовленной для его Биби-Люпеном, ни важности своего появления во дворе. Несчастный вышел с безучастным видом и направился по коридору, что тянется вдоль камер, устроенных в великолепных аркадах дворца французских королей и служащих опорою галерее Людовика Святого, через которую теперь проходят в различные отделения кассационного суда. Коридор этот соединен с коридором пистолей; небезынтересно отметить, что в том месте, где оба коридора, встретившись, образуют колено, в правом углу расположена камера, где был заключен Лувель, знаменитейший из цареубийц. Под очаровательным кабинетом, занимающим башню Бонбек, в самом конце этого темного коридора, находится винтовая лестница, которой пользуются заключенные из одиночных камер и пистолей, чтобы попасть во двор.
Все заключенные – обвиняемые, которые должны предстать перед судом присяжных, и те, которые уже перед ним предстали, подследственные, переведенные из секретных, короче, все узники Консьержери, – прогуливаются по этому узкому, сплошь вымощенному пространству по несколько часов в сутки, особенно же ранним утром в летние дни. Этот двор, предверие эшафота или каторги, соприкасается с ними одной стороной, а другой – с обществом через жандарма, кабинет судебного следователя или суд присяжных. Вид его леденит более, нежели вид эшафота. Эшафот может стать подножием, чтобы вознестись на небо; но тюремный двор! – в нем воплощениа вся мерзость человеческая, вся безысходность!
Будет ли то двор тюрьмы Форс или Пуасси, дворы Мелена или Сент-Пелажи, тюремный двор есть тюремный двор. В них все тождественно, начиная с окраски и высоты стен и кончая величиной. Поэтому История нравов изменила бы своему заголовку, если бы здесь было упущено точнейшее описание этого парижского пандемониума.
Под мощными сводами, что поддерживают залу заседаний кассационного суда, существует, подле четвертой аркады, камень, который, по преданию служил Людовику Святому столом при раздаче милостыни, а в наше время служит прилавком для продажи разной снеди заключенным. Вот почему, как только двор открывается для узников, все они спешат к этому камню, уставленному арестантскими лакомствами: водкой, ромом т.п.
Две первые аркады с этой стороны тюремного двора, расположенного против великолепной византийской галереи, единственного памятника, по которому можно судить об изяществе дворца Людовика Святого, заняты приемной, где адвокаты беседуют с обвиняемыми и куда заключенные попадают через ужасающий проход, который представляет собою две параллельные дорожки, обозначенные внушительными брусьями, укрепленными в пролете третьей аркады. Этот двойной путь напоминает те временные барьеры, которые устанавливают у входа в театр, чтобы сдержать напор толпы в дни, когда идет пьеса, пользующаяся успехом.
Приемная расположена в конце огромной залы, к которой ныне ведет решетка Консьержери и которая освещается со стороны двора через отдушины, а со стороны решетки через окна, – сквозь них она видна как на ладони, – таким образом можно наблюдать за адвокатами, когда они беседут с клиентами. Эти новшества потребовались для того, чтобы предотвратить искушение, которому красивые женщины подвергали своих защитников. Никто ведь не знает, как долго может устоять нравственность… Предосторожности эти напоминают заранее подготовленные вопросы исповедника, которые развращают чистую душу верущего, заставляя его останавливаться на неведомых ему пороках. В приемной происходят также свидания с родными и друзьями, если полиция разрешает им видеться с узниками, обвиняемыми или осужденными.
Теперь можно понять, что такое тюремный двор для двухсот заключенных в Консьержери: это их сад, сад без деревьев, без земли, без цветов, – словом тюремный двор! Приемная и камень Людовика Святого, на котором выставляется для продажи снедь и дозволенные напитки, служат единственным связующим звеном с внешним миром.
Только в часы, проводимые в тюремном дворе, заключенный находится на воздухе и среди людей; в других тюрьмах заключенные встречаются и в мастерских, но в Консьержери, разве что только находясь в пистоли, можно чем-нибудь заняться. Впрочем, все умы поглощены здесь драмой суда присяжных, потому что сюда попадают лишь подследственные до окончания следствия или обвиняемые в ожидании суда! Это внутренний двор представляет собою страшное зрелище; вообразить его невозможно, надо его видеть хотя бы раз.
Перед вами пространство длиною в сорок метров, шириною в тридцать, где собираются до сотни обвиняемых или подследственных, отнюдь не принадлежащие к избранному обществу. Эти отверженные, в большинстве из низших классов, плохо одеты; физиономии у них гнусные или зверские; преступник из высших слоев общества, к счастью, редкое явление. Растрата, подлог или злостное банкротство – вот единственные преступления, которые приводят сюда состоятельных людей; впрочем, они пользуются преимуществом занимать пистоли и, попав туда, почти никогда не выходят из своей камеры.
Это место прогулки, обнесенное грозными замшелыми стенами, с башенными укреплениями со стороны набережной, с колоннадой, вмещающей тюремные кельи, с зарешеченными окнами пистолей с северной стороны, охраняемое зоркими надсмотрщиками, запруженное стадом гнусных злодеев, не доверяющих друг другу, нагоняет тоску уже одним своим расположением; но оно и устрашает, как только вы почувствуете себя средоточием всех этих взглядов, полных ненависти, любопытства, отчаяния, очутившись лицом к лицу с этими опозоренными существами. Здесь не увидеть проблеска радости! Все мрачно – и место и люди. Все немо – и стены и совесть. Все грозит гибелью этим несчастным; они боятся друг друга, разве что завяжется между ними дружба, мрачная, как породившая ее каторга. Полиция, чье неусыпное око следит за ними, отравляет им воздух и загрязняет все, вплоть до рукопожатия закадычных друзей. Преступник, встретившись тут со своим лучшим товарищем, не уверен, что тот не раскаялся и не признался во всем, спасая свою жизнь. Неуверенность в безопасности, боязнь наседки омрачает радость свободы в тюремном дворе, и без того обманчивой. На тюремном наречии наседка – это шпион, который прикидывается замешанным в темное дело, и вся его прославленная ловкость заключается в том, чтобы умело выдать себя за маза. Слово маз на языке каторги обозначает завзятого вора, мастера своего дела, издавно порвавшего с обществом, решившего жизнь прожить вором, твердо соблюдать, несмотря ни на что, законы Высокой хевры.
Преступление и безумие несколько сходны. Что заключенные во дворе Консьержери, что сумасшедшие в саду дома умалишенных – картина одна и та же. Те и другие гуляют, дичась один другого, обмениваясь взглядами, по меньшей мере странными, если не ужасными, в зависимости от направления их мыслей, но никогда их взгляд не бывает веселым или серьезным, ибо они или знают друг друга, или боятся. Ожидание обвинительного приговора, угрызения совести, тоска придают гуляющим во дворе беспокойный и растерянный вид, свойственный умалишенным. Лишь закоренелые преступники исполнены уверенности, столь напоминающей спокойствие честной жизни, прямодушие чистой совести.
Человек средних классов тут редкая случайность, стыд удерживает в камерах тех, кого привело сюда преступление, поэтому завсегдатаи двора в большинстве своем одеты, как чернорабочие. Преобладает блуза, рубашка, бархатная куртка. Грубая и грязная одежда находится в согласии с пошлыми либо зловещими физиономиями, с дикими повадками, которые, впрочем, слегка укрощены печальными мыслями, что гнетут заключенных; словом, все, вплоть до тишины этих мест, внушает ужас или отвращение случайному посетителю, которому высокие покровители предоставили редкое преимущество: возможность изучать Консьержери.
Как вид анатомического кабинета, где позорные болезни, изображенные в воске, способствуют сохранению целомудрия посетившего его юноши и внушают ему желание святой и благородной любви, точно так же посещение Консьержери и картина тюремного двора, где толчется этот люд, обреченный на каторгу, эшафот или какое-нибудь позорное наказание, вызывает страх перед человеческим правосудием у тех, кто не убоялся суда всевышнего, чей голос столь явно звучит в глубине нашей совести; и они выходят оттуда честными людьми на долгое время.
Заключенные, бывшие во дворе в то время, когда спустился туда Жак Коллен, должны стать действующими лицами решающей сцены в жизни Обмани-Смерть, поэтому нелишне будет обрисовать некоторые главные фигуры этого страшного сборища.
Тут происходит то же, что и повсюду, где собираются люди, тут, как и в коллеже, царствуют сила физическая и сила нравственная. Аристократия – это уголовники. Кто рискует головой, тот и первенствует над всеми. Тюремный двор, как можно себе представить, – школа уголовного права; тут его преподают бесконечно лучше, нежели на площади Пантеона. Обычная забава состоит в воспроизведении драмы суда присяжных: в назначении председателя, присяжных заседателей, прокурорского надзора, защитника, в ведении процесса. Этот чудовищный фарс разыгрывается почти всегда по случаю какого-нибудь нашумевшего преступления. В то время в суде присяжных стояло на очереди крупное уголовное дело: зверское убийство супругов Кротта, бывших фермеров, родителей нотариуса, хранивших у себя, что открылось благодаря этому злосчастному делу, восемьсот тысяч франков золотом. Одним из виновников этого двойного злодеяния был известный Данпон, по прозвищу Чистюлька, отбывший срок каторжник, который в течение пяти лет ускользал от самых деятельных розысков полиции, меняя семь или восемь раз свое имя. Злодей так искусно всякий раз принимал другое обличье, что даже отбыл два года тюрьмы под именем Дельсука, одного из своих учеников, знаменитого вора, действия которого всегда оставались в пределах подсудности трибуналу исправительной полиции. Это было третье по счету убийство со времени возвращения Чистюльки с каторги. Неизбежность смертного приговора создавала этому обвиняемому не менее, чем его предполагаемое богатство, страшную и волнующую славу среди заключенных, потому что ни единого лира из украденных денег не было найдено. И поныне помнят, несмотря на июльские события 1830 года, как был взволнован Париж этим дерзким грабежом, сравнимым по своей значительности лишь с кражей медалей из Национальной библиотеки, потому что несчастная склонность нашего времени все переводить на цифры обеспечивает тем больший интерес к убийству, чем солиднее похищенная сумма.
Чистюлька, сухощавый, тощий человечек лет сорока пяти, с лисьей мордочкой, – одна из знаменитостей трех каторг, где он последовательно побывал, начиная с девятнадцатилетнего возраста, – близко знал Жака Коллена, и дальше будет видно, как и почему. Два каторжника, переведенные вместе с Чистюлькой из Форс в Консьержери ровно сутки назад, сразу узнали и расславили по всему двору, кто этот по-царски зловещий маз, обреченный эшафоту. Один из двух каторжников, отбывший срок, Селерье, по кличке Овернец, Папаша Хрипун и Тряпичник, был известен в том обществе, которое каторга величает Высокой хеврой, под прозвищем Шелковинка, – им он был обязан той ловкости, с какой он скользил среди опасностей своего ремесла, – и состоял в свое время одним из доверенных лиц Обмани-Смерть.
Обмани-Смерть сильно подозревал, что Шелковинка играет двойную роль, состоя одновременно среди аристократии Высокой хевры и на содержании полиции, и приписывал ему свой арест в доме Воке в 1819 году. (См. Отец Горио.) Селерье, которого мы будем называть Шелковинкой, как Данпон у нас будет именоваться Чистюлькой, уже будучи в бегах, попался по соучастию в крупных кражах, но без пролития крови, и ему грозило по меньшей мере лет двадцать каторжных работ. Другой каторжник, по имени Ригансон, составлял со своей сожительницей, по кличке Паук, одно из опаснейших семейств Высокой хевры. Ригансон, с самого юного возраста находившийся в щекотливых отношениях с правосудием, был известен под кличкой Паучиха. Паучиха был самцом Паука, ибо нет ничего святого для Высокой хевры. Эти дикари не признают ни закона, ни религии, ни даже естественной истории, над священными установлениями которой, как это видно, они издеваются.
Тут необходимо отступление, ибо выход Жака Коллена во двор, его появление среди воров, так искусно подстроенное Биби-Люпеном и судебным следователем, любопытные сцены, которые должны были разыграться, – все было бы неправдоподобно и непонятно без некоторых пояснений, касающихся воровского мира и мира каторги, его законов, нравов и особенно его наречия, ужасающая поэзия которого должна быть воспроизведена в этой части нашего повествования. Итак, скажем кратко о языке шулеров, жуликов, воров и убийц, о так называемом воровском жаргоне: литература в последнее время пользовалась им с таким успехом, что многие слова этого удивительного лексикона слетали с розовых уст молодых женщин, звучали под раззолоченными сводами, развлекали принцев, из которых не один мог выдать себя за мазурика! Скажем прямо, быть может, к удивлению многих, что нет языка более крепкого, более красочного, нежели язык этого подземного мира, копошащегося, с той поры как возникли империи и столицы, в подвалах и вертепах, в третьем трюме общества, если позволено заимствовать у театрального искусства это живое и яркое выражение. Мир – не тот же театр? Третий трюм – подвал под зданием Оперы, предназначенный для машин, машинистов, освещения рампы, привидений, чертей, изрыгаемых преисподней, и т. д.
Каждое слово этого языка – образ, грубый, замысловатый или жуткий. Штаны – подымалки; не будем объяснять. На языке каторжников не спят, а чуркают. Заметьте, с какой силой этот глагол передает сон затравленного, голодного и настороженного зверя, именуемого вором, который, стоит ему очутиться в безопасном месте, буквально падает, погружаясь в провалы глубокого сна, столь необходимого тому, кто вечно чувствует взмахи могучих крыл Подозрения, парящего над ним. Это страшный сон, он напоминает сон дикого зверя, который спит, даже похрапывает и, однако ж, держит ухо востро!
Какой дикостью веет от этого причудливого говора! Слог, которым начинается или кончается слово, поражает терпкостью и неожиданностью. Женщина – маруха. И какая поэзия! Солома – гагачий пух. Слово «полночь» передается в таком изложении: ударило двенадцать стуканцев! Разве от этого не бросает в дрожь? Прополоскать домовуху – значит дочиста обобрать квартиру. А чего стоит выражение «лечь спать» в сравнении со словцом слинять, сменить шкуру? Какая живость образов? Хрястать означает есть, – не так ли едят люди преследуемые?
Впрочем, язык каторги все время развивается! Он не отстает от цивилизации, он следует за ней по пятам, при каждом новом открытии он обогащается новым выражением. Картофель, открытый и пущенный в ход Людовиком XVI и Пармантье, сразу же приветствуется на воровском языке словцом свинячий апельсин. Выдумают ли банковые билеты, каторга назовет их гарачьи шуршики, по имени Гара, кассира, который их подписывал. Шуршики! Разве не слышите вы шелеста шелковистой бумаги! Билет в тысячу франков – шуршень, билет в пятьсот фанков – шуршеница. Каторжники окрестят, так и знайте, каким-нибудь затейливым именем билет и в сто и в двести франков.
В 1790 Гильотен изобретает во имя любви к человечеству быстродействующее приспособление, якобы разрешающее все вопросы, поставленные смертной казнью. Тотчас же каторжники, отбывающие свой срок, а также бывшие каторжники исследуют этот механизм, водруженный на рубеже старой монархической системы и на границах нового правосудия, и сразу же окрестят его Обителью «Утоли мои печали!» Они изучают угол, образуемый ножом гильотины, и применяют, чтобы изобразить его действие, глагол косить! Когда подумаешь, что каторга называет лужком, право, тот, кто занимается языкознанием, должен восхищаться словотворчеством этих чудовищных вокабулистов, как сказал бы Шарль Нодье.
Признаем, кстати, глубокую древность воровского жаргона! Во Франции он содержит одну десятую романских слов и одну десятую из старого гальского языка Рабле. Покрушить (взломать), перехрюкаться (понять друг друга, условиться), домушничать (красть в квартире), сарга (деньги), жиронда (красавица, название реки на лангедокском наречии), ширман (карман) принадлежат языку XIV и XV веков! Слово живот, означающий жизнь, восходит к самой глубокой древности. Отсюда наше понятие животный мир, то есть мир живых существ; отсюда животный ужас – страх перед тем, что угрожает жизни этих существ.
По меньшей мере сто слов этого языка принадлежат языку Панурга, символизирующего в творчестве Рабле народ, ибо это имя, составленное из двух греческих слов, означает: тот, кто делает все. Наука изменяет лик цивилизации железной дорогой, и дорога уже названа чугункой.
Сорбонна – название головы, пока она еще на плечах, указывает на древний источник этого языка, о котором упоминается у самых старинных повествователей, как Сервантес, как итальянские новеллисты и Аретино.
Во все времена продажная девка, героиня стольких старых романов, была покровительницей, подругой, утешением шулера, вора, налетчика, жулика, мошенника.
Проституция и воровство – живой протест, мужской и женский, состояния естественного против состояния общественного. Поэтому философы, современные приверженцы новшеств, и гуманисты, за которыми следуют коммунисты и фурьеристы, занимаясь этим вопросом, приходят, сами того не подозревая, к тому же выводу: проституция и воровство. Вор не ставит в софистических книгах вопроса о собственности, наследственности, общественных гарантиях: он их начисто отвергает. Для него воровать значит снова вступать во владение своим добром. Он не обсуждает проблемы брака, не требует в утопических трактатах взаимного согласия, тесного союза душ – того, что не может стать общеобязательным законом: он овладевает насильственно, и цепь этой связи все больше крепнет под молотом необходимости. Современные проводники новшеств сочиняют напыщенные, пустопорожние, туманные теории или чувствительные романы, а вор действует! Он ясен, как факт, он логичен как удар молотка. Каков стиль!..
Еще одно замечание! Мир девок, воров и убийц, каторга и тюрьмы насчитывают приблизительно от шестидесяти до восьмидесяти тысяч населения мужского и женского пола. Миром этим нельзя пренебречь в нашем описании нравов, в точном воспроизведении нашего общественного состояния. Правосудие, жандармерия и полиция состоят почти из такого же количества служащих. Не удивительно ли это! Соперничество людей, ищущих друг друга и взаимно друг друга избегающих, образуют грандиозный, в высшей степени драматический поединок, который изображен в нашем очерке. Вопрос стоит тут о воровстве и промысле публичной женщины, о театре, полиции, жандармерии, о духовенстве. Шесть этих состояний налагают на человека неистребимые черты. Человек этот не может быть иным, чем он есть. Печать духовного сана, как и отпечаток военного звания, неизгладима. Так же обстоит дело и с теми общественными состояниями, которые образуют сильное противодействие обществу и находятся в противоречии с цивилизацией. Внешние признаки их столь явственны, причудливы, sui generis, столь легко позволяют отличить публичную женщину и вора, убийцу и бывшего каторжника, что для их врагов, сыщиков и жандармов, эти люди – что дичь для охотника: у них своя повадка, обращение, цвет лица, взгляд, свое обличие, свой душок, – короче особенности, в которых обмануться нельзя. Отсюда глубокие познания в искусстве маскировки у знаменитостей каторги.
Еще одно слово об устройстве этого мира, который вследствие отмены клеймения, смягчения судебной кары, а также нелепой снисходительности суда присяжных становится столь угрожающим. И в самом деле, лет через двадцать Париж будет окружен сорокатысячной армией преступников, отбывших наказание, ибо департамент Сены с его полутарамиллионным населением – единственное место во Франции, где эти несчастные могут укрыться. Париж для них то же, что девственные леса для хищных зверей.
Высокая хевра – своего рода Сен-Жерменское предместье этого мира, его аристократия – в 1816 году, когда мирный договор поставил под угрозу столько существований, объединилась в так называемое общество Посвященных или Великое братство, которое включило в себя самых знаменитых вожаков шаек и некоторое количество смельчаков, оказавшихся тогда без всяких средств к жизни. Посвященный означает одновременно: брат, друг, товарищ. Все воры, каторжники, заключенные – братья. А Великие братья, отборная часть Высокой хевры, были в продолжение двадцати с лишним лет кассационным судом, академией, палатой пэров для этого люда. Великие братья имели свое личное состояние, долю в общих капиталах и совсем особый быт. Они обязаны были оказывать помощь друг другу и поддержку в затруднительном положении, они знали друг друга. Притом, стоя выше всех соблазнов и уловок полиции, они учредили свою особую хартию, свои пропуска и пароли.
Эти герцоги и пэры каторги составляли в 1815 – 1819 годах пресловутое общество Десяти тысяч, названное так в силу уговора не начинать дела, если оно не сулит десяти тысяч поживы. Как раз в 1829 – 1830 годах издавались мемуары одной знаменитости уголовной полиции, в которых указано было расположение сил этого общества, имена его членов. И ко всеобщему ужасу обнаружилось, что это – настоящая армия из мужчин и женщин, и армия столь грозная, столь искусная, столь удачливая, что, как сказано там, такие воры, как Леви, Пастурель, Колонж, Шимо, все в возрасте пятидесяти-шестидесяти лет, оказывается, бунтуют против общества с самого детства!.. Каким ярким доказательством бессилия правосудия являются эти престарелые воры!
Жак Коллен был казначеем не только общества Десяти тысяч, но и великого братства, героев каторги. По признанию сведущих и влиятельных лиц, каторга всегда владела капиталами. Странность эта объяснима. Украденное никогда не находится, не считая редких случаев. Осужденные, не имея возможности взять добычу с собой на каторгу, вынуждены прибегать к помощи надежных и ловких людей, вверяя им свои сбережения, как в обществе вверяют их банкирскому дому.
Биби-Люпен, вот уже десять лет состоящий начальником сыскной полиции, прежде принадлежал к аристократии Великого братства. Причиной его предательства было уязвленное самолюбие: недюжинный ум и чрезвычайная физическая сила Обмани-Смерть постоянно оттесняли его на второе место, и Биби-Люпен не мог этого не видеть. Отсюда вечное ожесточение знаменитого начальника сыскной полиции против Жака Коллена. Отсюда же и сговоры между Биби-Люпеном и его бывшими товарищами, начинавшие беспокоить судебные власти.
Итак, движимый чувством мести, к тому же подстрекаемый судебным следователем, который любой ценой желал опознать Жака Коллена, начальник сыскной полиции чрезвычайно искусно выбрал себе помощников, натравив на лжеиспанца Чистюльку, Шелковинку и Паучиху, ибо Чистюлька принадлежал к обществу Десяти тысяч, как и Шелковинка, а Паучиха к великому братству.
Паук, эта страшная маруха Паучихи, до сих пор ловко выпутывалась из тенет уголовного розыска, разыгрывая порядочную женщину, и была на свободе. Эта женщина, мастерски изображавшая маркиз, баронесс, графинь, держала карету и слуг. Лишь она одна, являясь разновидностью Жака Коллена в юбке, могла соперничать с Азией – правой рукой Жака Коллена. И в самом деле, за спиной любого героя каторги стоит преданная ему маруха. Судебные летописи, тайные хроники суда подтвердят вам это: никакая страсть честной женщины, даже страсть святоши к своему духовнику, не превзойдет привязанности любовницы, разделяющей опасности жизни крупного преступника.
Страсть этих людей почти всегда является основной причиной их дерзких покушений и убийств. Повышенная чувственность, органически, как говорят врачи, влекущая их к женщине, поглощает все нравственные и физические силы этих деятельных людей. Отсюда праздная жизнь, потому что излишества в любви для восстановления сил требует питания и покоя. Отсюда отвращение к любой работе, вынуждающее этих людей искать легкого способа добывать деньги. Однако желание жить, и жить хорошо, чувство само по себе сильное, ничто по сравнении со страстью к мотовству, внушаемой женщиной, ибо эти щедрые Медоры любят одаривать своих любовниц драгоценностями, нарядами, а эти лакомки любят хорошо поесть! Захочет девка иметь шаль, любовник крадет ее, и женщина видит в этом залог любви! Так втягиваются в воровство, и, если рассматривать сердце человеческое под лупой, придется признать, что почти всегда в основе преступления лежит чисто человеческое чувство. Воровство ведет к убийству, а убийство, со ступени на ступень, доводит любовника до эшафота.
Плотская, разнузданная любовь этих людей, если верить медицинскому факультету, первопричина семи десятых преступлений. Впрочем, поразительное и наглядное доказательство тому находят при вскрытии казненного человека. Стало быть, вполне объяснимо, почему этих страшилищ, пугающих общество, обожают их любовницы. Именно женская преданность, что терпеливо высиживает у ворот тюрьмы, вечно хлопочет, как бы обмануть хитрого следователя, эта неподкупная хранительница самых темных тайн, повинна в том, что столько темного и неясного остается во многих процессах. Тут и сила и слабость преступника. На языке девок безупречная честность означает: не погрешить против законов привязанности, отдавать последние гроши любовнику, который засыпался, заботиться о нем, хранить ему верность, пойти ради него на все. Самое жестокое оскорбление, которое только девка может бросить в лицо другой девке, это обвинить ее в неверности зажатому (заключенному в тюрьму) любовнику. В этом случае девка считается бессердечной женщиной!..
Чистюлька, как далее будет видно, страстно любил одну женщину. Шелковинка, философ-себялюб, воровавший, чтобы обеспечить себе будущее, чрезвычайно напоминал Паккара, этого Сеида Жака Коллена, удравшего с Прюданс Сервьен и завладевшего капиталом в семьсот пятьдесят тысяч франков на двоих. Он ни к кому не был привязан, он презирал женщин и любил только себя – Шелковинку. Что касается Паучихи, он, как уже известно, получил свое прозвище потому, что любил Паука. Все три знаменитости Высокой хевры собирались свести свои счеты с Жаком Колленом, и счеты достаточно путаные.
Один казначей знал, сколько членов общества осталось в живых и как велико состояние каждого. Частая смертность среди его доверителей входила в расчеты Обмани-Смерть, когда он решил открыть копилку в пользу Люсьена. Жак Коллен был почти уверен, что по уставу хартии Великого братства он унаследует деньги двух третей доверителей – ведь он целых десять лет прятался от товарищей и полиции. Разве не мог он сослаться на выплату вкладов скошенной братии? Не было никакой возможности проверить этого главаря Великого братства. Необходимость понуждала доверять ему безоговорочно, ибо звериная жизнь каторжников предписывает аристократии этого дикого мира относиться друг к другу с величайшей деликатностью. Из ста тысяч экю, вырученных преступлением, Жак Коллен мог дать отчет разве что в какой-нибудь сотне тысяч франков. В то время Чистюльке, одному из заимодавцев Жака Коллена, оставалось жить, как известно, всего лишь три месяца. Притом состояние, оказавшееся в его руках, безусловно, превышало сумму вклада, хранившегося у предводителя, и следовало полагать, что он будет достаточно покладистым.
Есть один безошибочный признак, по которому начальники тюрем, их агенты, полиция и ее помощники и даже судебные следователи узнают обратную кобылку, иначе говоря, того, кто похлебал тюремной баланды, – это его привычка к тюрьме: естественно, что рецидивисты знают тюремные обычаи, тут они у себя дома, их ничто не может удивить.
Поэтому Жак Коллен, опасаясь выдать себя, превосходно разыгрывал до сей поры простака и чужестранца; так было в Форс, так было и в Консьержери. Но, сломленный горем, испытавший двойную смерть, ибо в эту роковую ночь он умирал дважды, Жак Коллен опять стал самим собой. Надзиратель удивлялся, что испанскому священнику не требуется указывать дорогу в тюремный двор. Замечательный актер вдруг забыл свою роль: он сошел по винтовой лестнице башни Бонбек, как завсегдатай Консьержери.
«Биби-Люпен прав, – сказал себе тюремный смотритель, – это обратная кобылка, это Жак Коллен».
В тот момент, когда Обмани-Смерть показался, как в раме, в дверях башенки, заключенные, накупив снеди у так называемого каменного стола Людовика Святого, разбрелись по чересчур тесному для них двору; таким образом, новоприбывший был сразу же замечен, ибо ничто не может сравниться с зоркостью пленников, которые, скучившись в тюремном дворике, напоминают паука, копошащегося в центре своей паутины. Сравнение математически точное, потому что взгляд, ограниченный со всех сторон высокими, темными стенами, безотчетно устремляется на дверь, откуда появляются тюремные надзиратели, на окна приемной и лестницу башни Бонбек – единственные выходы из этого дворика. Полное разобщение узника с внешним миром обращает любую мелочь в происшествие, все занимает его; тоска, сходная с тоской тигра в клетке зоологического сада, удесятеряет напряженность внимания. Следует заметить, что Жак Коллен в качестве священнослужителя, не пекущегося о своей одежде, носил черные панталоны, черные чулки, башмаки с серебряными пряжками, черный жилет и темно-коричневый сюртук, покроем своим выдававший священника, в каком бы положении он ни находился, тем более когда эти признаки дополнены особой стрижкой волос. Жак Коллен носил парик, полагающийся священнику, который притом вполне можно было счесть за собственные его волосы.
– Гляди-ка! Гляди! – сказал Чистюлька Паучихе. – Дурная примета!.. Кабан (священник)! Как он попал сюда?
– Очередная их штучка! Сука (шпион) новой породы, – отвечал Шелковинка. – Какой-нибудь переодетый шнурочник (жандарм) пришел сюда вынюхивать.
Язык каторги имеет для жандарма много прозвищ: когда он выслеживает вора, он шнурочник; когда его сопровождает, он гревская ласточка; когда ведет на эшафот – гусар гильотины.
Необходимо, пожалуй, чтобы закончить описание тюремного двора, обрисовать в нескольких словах двух других братьев. Селерье, по прозвищу Овернец, он же Папаша Хрипун, он же Тряпичник и, наконец, Шелковинка (у него было тридцать имен и столько же паспортов) теперь будет выступать под этой последней кличкой, которую ему дала Высокая хевра. Этот глубокий философ, признавший в лжесвященнике жандарма, был детина пяти футов и четырех дюймов роста, с необычайно развитыми мускулами. Под огромным лбом сверкали маленькие глазки, полуприкрытые серыми, матовыми, как у хищных птиц, твердыми веками. С первого взгляда он напоминал волка, так широки были его выступающие, резко очерченные челюсти; но жестокость, даже лютость – все то, о чем говорило такое сходство, уравновешивалось хитростью и живостью лица, изрытого оспой. Каждая щербинка, четко обозначенная, была одухотворена, – столько в этом лице чувствовалось озорства. Преступная жизнь с ее спутниками – голодом и жаждой, ночлегами на набережных, на береговых откосах, на мостовых и под мостами, с оргиями, когда удачу вспрыскивают разного рода крепкими напитками, наложила на это лицо как бы слой лака. Появись Шелковинка в своем натуральном виде, полицейский агент и жандарм разпознали бы свою дичь на расстоянии тридцати шагов; но он не уступал Жаку Коллену в мастерстве грима и переодевания. Однако сейчас Шелковинка, как и все крупные актеры, которые заботятся о своей внешности только на сцене, был одет небрежно: он щеголял в какой-то охотничьей куртке с оборванными пуговицами, протертыми петлями, откуда сквозила белая подкладка, в зеленых изношенных туфлях, выцветших нанковых панталонах и в фуражке без козырька – его заменяли спускавшиеся на лоб бахромчатые концы старого, застиранного и посекшегося шелкового платка.
Паучиха представлял собой резкую противоположность Шелковинке. Знаменитый вор – подвижной кривоногий толстяк, низкорослый и пузатый, мертвенно-бледный, с черными ввалившимися глазами, в поварском колпаке – пугал своей физиномией, явно изобличавшей в нем натуру, родственную плотоядным животным.
Шелковинка и Паучиха ухаживали за Чистюлькой, не питавшим уже никакой надежды на спасение. Не пройдет и четырех месяцев, как этот убийца-рецидивист будет судим, осужден и казнен. Поэтому Шелковинка и Паучиха, дружки Чистюльки, называли его не иначе, как Каноником, понимай каноником Обители «Утоли мои печали». Можно понять, почему Шелковинка и Паучиха нежничали с Чистюлькой. Чистюлька зарыл в землю двести пятьдесят тысяч франков золотом, свою долю добычи, захваченной у супругов Кротта, выражаясь стилем обвинительного акта. Какое великолепное наследство для двух дружков, хотя оба эти старых каторжника должны были через несколько дней вернуться на каторгу! Паучиха и Шелковинка знали, что за квалифицированные кражи (то есть кражи с отягчающими обстоятельствами) они будут приговорены к пятнадцати годам, не считая десяти лет по предыдущему приговору, прерванных побегом. И хотя им надлежало отбыть одному двадцать два года, другому двадцать шесть лет каторжных работ, они оба надеялись сбежать и разыскать золотой запас Чистюльки. Но член общества Десяти тысяч хранил тайну, рассудив, что, пока он не осужден, незачем ее открывать. Принадлежа к высшей аристократии каторги, он не выдал своих сообщников. Нрав его был известен: г-н Попино, следователь по этому чудовищному делу, не мог ничего от него добиться.
Этот страшный триумвират заседал в глубине двора, то есть под пистолями. Шелковинка оканчивал обучение молодого человека, который попался по первому делу, и, не сомневаясь, что ему дадут десять лет каторжных работ, наводил справки о различных лужках.
– Так вот, малыш, – наставительно говорил ему Шелковинка как раз в то время, когда показался Жак Коллен, – отличие между Брестом, Тулоном и Рошфором таково…
– Ну, ну, старина! – торопил его молодой человек с любопытством новичка.
Этот юноша обвинялся в подлоге и сидел в пистоли, соседней с той, где был Люсьен.
– Так вот, сынок, – продолжал Шелковинка. – в Бресте, будь уверен, выловишь бобов, коли третий раз ты зачерпнешь ложкой баланды из лохани; В Тулоне подцепишь их только на пятый, а в Рошфоре и вовсе не выловишь, разве что ты обратник.
Сказав это, глубокий философ опять присоединился к Чистюльке и Паучихе, чрезвычайно заинтересованным кабаном, и все трое зашагали по дворику навстречу подавленному своим горем Жаку Коллену. Обмани-Смерть весь ушел в свои мрачные думы, думы свергнутого императора, и не замечал, что привлекает к себе все взгляды, что стал центром всеобщего внимания; он шел медленно, не отрывая глаз от рокового окна, где повесился Люсьен де Рюбампре. Заключенные не знали об этом происшествии, потому что сосед Люсьена, молодой подделыватель документов, по причинам, которые вскоре станут известны, умолчал о случившемся. Итак, три дружка приготовились преградить дорогу священнику.
– Нет, это не кабан, – сказал Чистюлька Шелковинке, – это обратная кобылка. Гляди, как он тянет правую!
Тут необходимо пояснить, ибо не всем читателям приходила фантазия почтить своим посещением каторжную тюрьму, что каждый каторжник прикован к другому цепью и, как правило, – старый с молодым. Тяжесть этой цепи, приклепанной к кольцу выше лодыжки, такова, что к концу первого года у человека навсегда изменяется походка. Осужденный, будучи вынужден напрягать одну ногу сильнее другой, чтобы тянуть ручку, – так называют в каторге оковы, – неизбежно усваивает эту привычку. Потом, когда он расстается с цепью, кандалы, как ампутированная нога, оставляют след на всю жизнь: каторжник всегда чувствует ручку, ему никогда не выправить окончательно свою походку. На языке полицейских, он тянет правую. Эта примета, знакомая всем каторжникам, как и агентам полиции, если и не прямо приводит к опознанию товарища по несчастью, то все же этому способствует.
Обмани-Смерть, бежавший с каторги восемь лет назад, почти преодолел эту привычку, но, погруженный в глубокое раздумье, он замедлил шаг, и былой недостаток, как ни мало он был заметен, не мог при такой размеренной поступи ускользнуть от опытного глаза Чистюльки. Впрочем, весьма понятно, что каторжники, находясь всегда вместе и наблюдая только друг друга, настолько изучают своих товарищей, что им часто известны привычки, ускользающие от их постоянных врагов: сыщиков, жандармов и полицейских приставов. Так, по судорожному подергиванию мускулов левой щеки был опознан неким каторжником на параде Сенского легиона подполковник этого корпуса, знаменитый Куаньяр, которого до той поры полиция не решалась арестовать, несмотря на настояния Биби-Люпена, потому что не осмеливалась поверить в тождество графа Понтис де Сент-Элен и Куаньяра.
– Это наш даб (учитель), – сказал Шелковинка, перехватив рассеянный взгляд Жака Коллена – рассеянный, вернее отсутствующий, взгляд человека, впавшего в отчаяние.
– Ей-богу, верно! Это Обмани-Смерть, – сказал, потирая руки, Паучиха. – Ну, конечно. Тот же рост, такие же широкие плечи; но что это он с собой сделал? Сразу и не признаешь его.
– Те-те-те!.. Я понял, – сказал Шелковинка. – Он тут неспроста! Он хочет повидаться со своей теткой, ведь ее скоро должны казнить.
Чтобы дать некоторое понятие о личностях, которых заключенные, надсмотрщики и надзиратели называют тетками, достаточно привести великолепное определение, какое дал им начальник одной из центральных тюрем, сопровождая лорда Дэрхема, посетившего во время своего пребывания в Париже все дома заключения. Этот любознательный лорд, желая изучить французское правосудие во всех его подробностях, даже попросил палача, покойного Сансона, установить свой механизм и пустить его в ход, казнив живого теленка, чтобы иметь понятие о действии машины, прославленной Французской революцией.
Начальник, ознакомив его с тюрьмой, тюремными дворами, мастерскими, темницами и прочим, указал на одну камеру.
«Я не поведу туда вашу милость, – сказал он с отвращением, – там сидят тетки». «Ао! – произнес лорд Дэрхем. – А что же это такое?» «Средний пол, милорд».
– Теодора вот-вот скосят (гильотинируют)! – сказал Чистюлька. – А мальчишка фартовый! Что за граблюха (рука)! Какая утрата для хевры!
– Да, Теодор Кальви хрястает свой последний кусок, – сказал Паучиха. – О! его марухи будут порядком моргать глазами (плакать), ведь его любили, этого бездельника!
– Вот и ты, старина! – сказал Чистюлька Жаку Коллену.
И вместе со своими приспешниками, держа их под руку, он преградил дорогу новоприбывшему.
– Ого, даб, ты, значит, сделался кабаном? – прибавил Чистюлька.
– Говорят, ты проюрдонил наше рыжевье (растратил наше золото)? – продолжал Паучиха с угрожающей миной.
– Воротишь ли ты нам наши рыжики (деньги)? – спросил Шелковинка.
Эти три вопроса раздались, как три пистолетных выстрела.
– Не подшучивайте над бедным священником, попавшим сюда по ошибке, – отвечал машинально Жак Коллен, сразу же узнав своих трех товарищей.
– Ну, коли рожа не его, так его бубенчик, – сказал Чистюлька, опустив руку на плечо Жака Коллена.
Ухватки и облик трех товарищей быстро вывели даба из его апатии и вернули к ощущению действительности, ибо всю эту роковую ночь он блуждал в бесконечных просторах идеальных чувств, ища там нового пути.
– Не засыпьте даба, чужие зеньки заухлят (чужие глаза заметят) – тихо сказал Жак Коллен низким и угрожающим голосом, напомившим глухое львиное рычание. – Лягавые бзырят (шныряют); поводим их за нос. Я ломаю комедию ради дружка в тонкой хеврени (в крайней опасности).
Это было сказано елейным тоном священника, увещевающего несчастных; потом окинув взглядом дворик, Жак Коллен увидел под аркадами надсмотрщиков и насмешливо указал на них на них своим трем спутникам.
– Вот они, шестиглазые (тюремные смотрители). Запалите-ка зеньки и ухляйте (будьте бдительны)! Вкручивайте баки комарщикам (дурачьте сторожей), не выдавайте кабана, а не то я вас порешу, ваших марух и ваше рыжевье.
– Неужто, по-твоему, осучились нашенские (оказались предателями)? – сказал Шелковинка. – Ты пришел выудить свою тетку (спасти своего друга)?
– Мадлена обряжен под ольховую перекладину (готов для Гревской площади), – сказал Чистюлька.
– Теодор! – вымолвил Жак Коллен, подавив крик и чуть не бросившись вперед.
То было последним ударом в пытке, сразившей колосса.
– Его пришьют, – повторил Чистюлька. – Уже два месяца, как он связан для лузки (приговорен к смерти).
Жак Коллен почувствовал внезапную слабость, ноги у него подкосились, и он упал бы, если бы товарищи его не поддержали, но у него нашлось достаточно присутствия духа, чтобы сложить руки с сокрушенным видом. Чистюлька и Паучиха почтительно поддерживали святотатца Обмани-Смерть, покамест Шелковинка бегал к надзирателю, дежурившему у двери решетки, ведущей в приемную.
– Почтенный священник желает присесть, дайте для него стул.
Итак, удар, приготовленный Биби-Люпеном, миновал Обмани-Смерть. Жак Коллен, как и Наполеон, опознанный своими солдатами, добился подчинения и уважения трех каторжников. Двух слов было достаточно. Эти два слова были: ваши марухи и ваше рыжевье; ваши женщины и ваши деньги – вот краткий итог истинных пристрастий мужчины. Угроза эта была для трех каторжников знаком верховной власти; даб по-прежнему держал их сокровища в своих руках. Он был всемогущ на воле, и он не предал их, как говорили лжебратья. Притом ловкость и изобретательность их предводителя, завоевавшие ему широкую славу, подстрекали любопытство трех каторжников, ибо в тюрьме одно только любопытство оживляет эти опустошенные души. Наконец, преступников потряс смелый маскарад Жака Коллена, продолжавшийся даже за решетками Консьержери.
– Четверо суток я просидел в секретной и не знал, что Теодор так близок к обители… – сказал Жак Коллен. – Я пришел, чтобы спасти одного бедного мальчика, а он повесился тут вчера, в четыре часа… и вот другое несчастье! Нет у меня больше козырей в игре!..
– Бедняга даб! – сказал Шелковинка.
– Ах, пекарь (дьявол) отказывается от меня! – вскричал Жак Коллен, вырываясь из рук двух своих товарищей и выпрямляясь с грозным видом. – Приходит час, когда общество оказывается сильнее нашего брата! Аист (Дворец правосудия) в конце концов проглатывает нас.
Начальник Консьержери, узнав, что испанскому священнику стало дурно, явился во двор лично наблюдать за ним; он усадил его на стул лицом к солнцу и принялся изучать его физиономию во всех подробностях, с той опасной проницательностью, что возрастает со дня на день при исполнении подобных обязанностей, скрываясь под наружным безразличием.
– О боже! – сказал Жак Коллен. – Попасть на одну ступень с этими людьми, отбросами общества, преступниками, убийцами!.. Но господь не оставит своего слугу. Уважаемый господин начальник, мое пребывание здесь я отмечу делами милосердия, память о коих сохранится! Я обращу этих заблудших, они поймут, что у них есть душа, что их ожидает жизнь вечная. И пусть на земле все погибло для них, они могут заслужить царство небесное, путь к которому лежит через истинное, от всей души, раскаяние.
Сбежалось десятка два-три заключенных; свирепые взгляды трех каторжников остановили любопытных на расстоянии трех футов от себя, однако краткая речь, произнесенная с елейной евангельской кротостью была ими прослушана.
– Ну что ж! Вот такого, господин Го, – сказал страшный Чистюлька, – мы послушали бы!..
– Мне сказали, – перебил Жак Коллен, подле которого стоял г-н Го, – что в этой тюрьме есть приговоренный к смерти.
– Сейчас ему читают отказ в его кассационной жалобе, – сказал г-н Го.
– Не пойму, что это означает? – наивно спросил Жак Коллен, глядя на окружающих.
– Господи, ну и фофан! – сказал юнец, разузнавший только что у Шелковинки, на каких лужках растут лучшие бобы.
– А то самое, что не нынче-завтра его скосят! – сказал одни из заключенных.
– Скосят? – спросил Жак Коллен, вызвав своим наивным и недоумевающим видом восхищение его трех сотоварищей.
– На их языке, – отвечал начальник тюрьмы, – это означает смертную казнь. Если писарь читает отказ в помиловании, значит, скоро палач получит приказ привести приговор в исполнение. Бедняга упорно отказывается от последнего напутствия…
– О господин начальник, вот душа, которую надобно спасти!.. – вскричал Жак Коллен.
Святотатец сложил руки с горячностью отчаявшегося любовника, а внимательно следивший за ним начальник тюрьмы принял это за религиозное рвение.
– Ах, сударь, – продолжал Обмани-Смерть, – позвольте мне доказать вам, кто я таков и какова моя сила; разрешите мне привести к раскаянию ожесточившееся сердце! Бог дал мне дар слова, и я делаю с людьми чудеса. Я потрясаю сердца, отверзаю их… Чего вы опасаетесь? Прикажите сопровождать меня жандармам, сторожам, кому угодно.
– Посмотрим, если только тюремный священник разрешит вам заменить его, – сказал г-н Го.
И начальник тюрьмы ушел, поражаясь, с каким полным равнодушием, хотя и не без любопытства, каторжники и другие заключенные смотрели на священника, апостольский тон которого придавал обаяние его ломаному языку, наполовину французскому, наполовину испанскому.
– Как вы очутились тут, господин аббат? – спросил Жака Коллена молодой собеседник Шелковинки.
– О, по ошибке! – отвечал Жак Коллен, смерив юношу взглядом с головы до ног. – Меня застали у одной куртизанки, которую обокрали после ее смерти. Признали, что она покончила с собой; но виновники кражи, видимо, слуги, еще не задержаны.
– Из-за этой самой кражи и повесился тот молодой человек?
– Вероятно, бедный мальчик не перенес позора несправедливого заточения… – отвечал Обмани-Смерть, поднимая глаза к небу.
– Да, – сказал молодой человек, – его должны были освободить, а он покончил с собой. Вот так история!
– Только воображение невинного может быть так потрясено, – сказал Жак Коллен. – Заметьте, что кража была совершена ему в ущерб.
– Много ли было украдено? – спросил глубокомысленный и хитрый Шелковинка.
– Семьсот пятьдесят тысяч франков, – отвечал чуть слышно Жак Коллен.
Трое каторжников переглянулись и вышли из кучки арестантов, столпившихся вокруг мнимого священника.
– Это он прополоскал ширман девки! – сказал Шелковинка на ухо Паучихе. – Хотели взять нас на храпок (испугать), когда назвонили, что он сфендрил наши рыжики.
– Он был и останется дабом Великой хевры, – отвечал Чистюлька. – Наши сары никуда не денутся.
Чистюлька искал человека, которому мог бы довериться; поэтому счесть Жака Коллена честным человекам было в его интересах. А в тюрьме особенно верят тому, на что надеются!
– Бьюсь об заклад, что он околпачит даба из Аиста (генерального прокурора) и выудит свою тетку, – сказал Шелковинка.
– Коли он своего добьется, – сказал Паучиха, – я не назову его мегом (богом), но что он подымил с пекарем (выкурил трубку с дьяволом) – так я теперь этому поверю!
– Слыхал, как он крикнул: «Пекарь меня покидает!» – заметил Шелковинка.
– Эх, – вскричал Чистюлька, – кабы он захотел выудить мою сорбонну! Ну и поюрдонил бы я! На весь мой слам, на все мое затыненное рыжевье (покутил бы на всю мою добычу, на все мое спрятанное золото)!
– Не горлопань! Слушайся даба, – сказал Шелковинка.
– Ты что, смеешься надо мной? – сказал Чистюлька, глядя на своего дружка.
– Ну, и проздок же ты! Ведь тебя уже связали для лузки. Тебе уже тяжкой не потянуть (с тобой все кончено). Надо подставить ему свою спину, чтобы самому устоять на бабках (ногах), чтобы хрястать и ходить по музыке (воровать)! – возразил ему Паучиха.
– Правильно сказано! – продолжал Чистюлька. – Ни один из нас не продаст даба, а если кто попробует, пошлю его туда, куда сам иду…
– У него что ни слово, то и дело! – вскричал Шелковинка.
Даже люди, менее всего расположенные сочувствовать этому удивительному миру, могут представить себе состояние духа Жака Коллена, который, проведя пять долгих ночных часов у трупа своего кумира, узнал теперь о близкой смерти товарища по цепи, корсиканца Теодора. Но если для того, чтобы увидеть юношу, требовалась необычайная изобретательность, то для того, чтобы спасти его, нужно было сотворить чудо! А он уже думал об этом.
Чтобы понять, на что рассчитывал Жак Коллен, необходимо указать здесь, что убийцы, воры, короче говоря, все обитатели каторжных тюрем не так опасны, как считают. За некоторыми, чрезвычайно редкими исключениями, люди эти чрезвычайно трусливы, вероятно, причиною тому вечный страх, сжимающий им сердце. Способности их пригодны лишь для воровства, а так как это ремесло требует, в ущерб нравственности, применения всех жизненных сил, гибкости ума, равной ловкости их тела и напряжения внимания, то вне этих бешеных усилий воли они становятся тупыми по той же причине, по какой певица или танцовщик падают в изнеможении после утомительного па или одного из тех чудовищных дуэтов, какие навязывают публике современные композиторы. В обыденной жизни злодеи до такой степени лишены здравого смысла либо настолько угнетены тревогой, что буквально напоминают детей. В высшей степени легковерные, они попадаются на самую нехитрую приманку. После удачного дела они впадают в состояние такой расслабленности, что им необходим разгул: они опьяняются винами, ликерами, они с какой-то яростью бросаются в обьятия женщин, расточают свои последние силы и стремятся найти забвение совершенного злодейства в забвении рассудка. В таком состоянии они являются легкой добычей для полиции. Стоит их арестовать, и они, словно слепцы, теряют голову; они так цепляются за малейшую надежду, что верят всему, поэтому нет такой нелепости, которую нельзя было бы им внушить. Покажем на примере, до каких пределов доходит глупость попавшегося преступника. Биби-Люпен вырвал недавно признание у одного убийцы девятнадцати лет, убедив его, что несовершеннолетних не казнят. Когда мальчугана после отказа в помиловании перевезли в Консьержери для исполнения приговора в исполнение, этот страшный агент пришел к нему.
– Ты уверен, что тебе не исполнилось двадцати лет? – спросил он его.
– Да, мне всего только девятнадцать с половиной, – сказал убийца совершенно спокойно.
– Ну что ж, – отвечал Биби-Люпен. – Можешь не беспокоиться, тебе никогда не будет двадцати лет…
– Почему?
– Э! Да тебя скосят через три дня, – заметил начальник тайной полиции.
Убийца, твердо убежденный, несмотря на приговор, что несовершеннолетних не казнят, при этих словах опал, как взбитая яичница.
Эти люди столь жестокие в силу необходимости, уничтожают свидетельства преступления, ибо они вынуждены убивать, чтобы избавиться от улик (один из доводов, приводимых сторонниками отмены смертной казни), эти титаны изобретательности, у которых ловкость руки, острота взгляда и чувств развиты, как у дикарей, являются героями злодейства лишь на театре их подвига. Когда преступление совершено, тут-то и возникают трудности, потому что необходимость укрыть краденое угнетает преступников в не меньшей степени, чем сама нищета: помимо того, они чувствуют полный упадок сил, точно женщина после родов. Решительные до безрассудства в своих замыслах, они становятся детьми после удачи. Словом, по своей природе это дикие звери: их легко убить, когда они сыты. В тюрьме эти своеобразные существа прикидываются людьми из чувства страха и из осторожности, которая изменяет им только в последнюю минуту, когда они обессилены и сломлены длительным заключением.
Отсюда можно понять, почему три каторжника, вместо того, чтобы погубить своего предводителя, пожелали служить ему: решив, что он украл эти семьсот пятьдесят тысяч франков, они преисполнились почтительного удивления перед ним, а видя, с каким спокойствием он держится в стенах Консьержери, сочли его способным оказать им покровительство.
Господин Го, покинув лжеиспанца, вернулся через приемную в свою канцелярию и пошел разыскивать Биби-Люпена, который, притаившись у одного из окон, выходивших в тюремный двор, с той минуты, как Жак Коллен вышел из камеры, наблюдал за всем, что происходило снаружи.
– Никто из них не признал его, – сказал г-н Го. – Наполитас следит за всеми, но ровно ничего не услышал. Бедный священник, при всем расстройстве своих чувств, не обмолвился этой ночью ни одним словом, которое позволило бы думать, что под сутаной скрывается Жак Коллен.
– Это доказывает, что ему хорошо знакомы тюрьмы, – отвечал начальник тайной полиции.
Наполитас, писарь Биби-Люпена, не известный еще в то время никому из заключенных Консьержери, играл там роль юноши из хорошей семьи, обвиняемого в подлоге.
– Словом, он просит разрешения напутствовать приговоренного к смерти! – продолжал начальник тюрьмы.
– Вот наше последнее средство! – вскричал Биби-Люпен. – Как это я не подумал об этом! Теодор Кальви, корсиканец, товарищ Жака Коллена по цепи. Мне говорили, что Жак Коллен делал ему на лужке отличные конопатки…
Чтобы ослабить тяжесть давления ручки на подъем ноги и лодыжку, каторжники мастерят некое подобие прокладки, которую они просовывают между железным браслетом и ногой. Эти прокладки из пакли и тряпья называют на каторге конопатками.
– Кто охраняет осужденного? – спросил Биби-Люпен г-на Го.
– Червонное колечко!
– Отлично! Преображусь в жандарма, пойду туда и разберусь во всем, ручаюсь вам.
– А если это действительно Жак Коллен, вы не боитесь, как бы он вас не узнал и не задушил? – спросил начальник Консьержери Биби-Люпена.
– Я ведь буду жандармом, значит, с саблей, – отвечал начальник тайной полиции. – Впрочем, если это Жак Коллен, он никогда не сделает такого, что его связало бы для лузки; а если это священник, то я в безопасности.
– Нельзя терять времени, – сказал тогда г-н Го. – Сейчас половина девятого. Папаша Сотлу только что прочел отказ в просьбе о помиловании, и Сансон ожидает в зале приказаний прокурора.
– Да уже заказаны гусары вдовы (другое и какое ужасное название гильотины!), – отвечал Биби-Люпен. – Однако ж я не понимаю, отчего генеральный прокурор колеблется; мальчуган упорно твердит, что он невиновен; и, по моему мнению, против него нет достаточных улик.
– Это настоящий корсиканец, – заметил г-н Го. – Он не сказал ни слова и отрицает все.
Последние слова начальника Консьержери, сказанные начальнику тайной полиции, заключали в себе мрачную историю человека, присужденного к смерти. Тот, кого правосудие вычеркнуло из списка живых, подлежит прокурорскому надзору. Прокурорский надзор самодержавен: он никому не подвластен, он отвечает лишь перед своей совестью. Тюрьма принадлежит прокурорскому надзору, тут он полный хозяин. Поэзия завладела этой общественной темой, в высшей степени способной поражать воображение: приговоренный к смерти! Поэзия возвышенна, а проза живет лишь действительностью, но действительность сама по себе настолько страшна, что в ней есть пафос, пафос ужаса. Жизнь приговоренного к смерти, не сознавшегося в своих преступлениях, не выдавшего сообщников, обречена на адские мучения. Дело тут не в испанских сапогах, дробящих кости ног, не в воде, которую вводят в желудок, не в растягивании конечностей при помощи чудовищных машин, но в пытке скрытой, так сказать, негативной. Прокурорский надзор предоставляет осужденного самому себе, окружает его тишиной и тьмой в обществе наседки, которой он должен остерегаться.
Наши славные современные филантропы полагают, что они постигли всю жестокость пытки одиночеством; они ошибаются. Прокурорский надзор после отмены пыток, желая, вполне естественно, успокоить совесть судей, и без того чересчур чувствительную, отыскал для них противоядие, дав правосудию такое страшное средство, как одиночество! Одиночество – это пустота, а природа духовная не терпит пустоты, как и природа физическая. Одиночество терпимо лишь для гения, который наполняет его своими мыслями, дочерьми духовного мира, либо для созерцателя божественных творений, в глазах которого оно озарено райским светом, оживлено дыханием и голосом самого творца. Не считая этих людей, стоящих столь близко к небесам, для всех других соотношение между одиночеством и пыткой то же, что между душевным состоянием человека и его состоянием физическим. Различие между одиночеством и пыткой такое же, как между заболеваниями нервного и хирургического характера. Это страдание, умноженное на бесконечность. Тело соприкасается с бесконечностью при посредстве нервной системы, точно так же, как разум проникает в нее при помощи мысли. Поэтому в летописях парижской прокуратуры преступники, не признавшие своей вины, наперечет.
Опасность этого положения, которая в некоторых случаях принимает огромные размеры, например в политике, когда дело касается какой-либо династии или государства, послужит темой особого повествования и займет свое место в «Человеческой комедии». Здесь же мы ограничимся описанием каменного ящика, где в Париже, при Реставрации, прокурорский надзор держал приговоренного к смерти: этого будет достаточно, чтобы ясно представить себе весь ужас последних дней смертника.
Накануне Июльской революции в Консьержени существовала, а впрочем, существует и теперь, камера приговоренного к смерти. Камера эта примыкает к канцелярии и отделена от нее массивной стеной из тесаного камня, с противоположной стороны она ограничена стеной, в семь или восемь футов толщины, подпирающей часть свода обширной залы Потерянных шагов. В эту камеру входят через первую дверь в длинном темном коридоре, где тонет взгляд, если туда смотреть через дверной глазок из этой огромной сводчатой залы. Роковая камера освещается через отдушину, заделанную тяжелой решеткой и почти незаметную, когда входишь в Консьержери, ибо она проделана в узком простенке между окном канцелярии, рядом с наружной решеткой, и помещением секретаря Консьержери, которое архитектор втиснул, точно шкаф, в глубь главного двора. Расположение камеры объясняет, почему эта клетушка, заключенная меж четырех толстых стен, получила в ту пору, когда перестраивалась Консьержери, такое мрачное и зловещее назначение. Побег оттуда невозможен. Выход из коридора, ведущего в секретные камеры и женское отделение, приходится как раз против печи, возле которой всегда толкутся жандармы и смотрители. Отдушина, единственное отверстие наружу, устроена на девять футов выше пола и выходит на главный двор, охраняемый жандармским постом у наружных ворот Консьержери. Никакая человеческая сила не одолеет этих мощных стен. Кроме того, преступника, приговоренного сразу же одевают в смирительную рубаху, которая, как известно, стесняет движение рук; одну ногу приковывают цепью к койке; наконец, к нему для услуг и охраны приставляют наседку. Пол камеры выложен толстыми плитами, а свет туда проникает так слабо, что почти ничего не различить.
Нельзя не почувствовать холода, леденящего до мозга костей, когда входишь туда даже теперь, хотя уже шестнадцать лет эта камера пустует, ибо ныне судебные приговоры в Париже приводятся в исполнение иным путем. Вообразите же в этом каземате преступника, наедине с угрызениями совести, среди безмолвия и тьмы, двух источников ужаса, и вы спросите себя: неужто возможно не сойти тут с ума? Каков же организм и каков его закал, если он выдерживает режим, тяжесть которого усугубляет смирительная рубашка, обрекающая на неподвижность, бездействие!
Теодор Кальви, корсиканец двадцати семи лет, умело запираясь, сопротивлялся, однако ж, целых два месяца действию этой темницы и коварной болтовне наседки!.. Редкостный уголовный процесс, в котором корсиканец заработал себе смертный приговор, заключался в нижеследующем. Изложение этого дела, хотя и чрезвычайно любопытного, будет весьма кратким.
Немыслимо пускаться в пространные отступления при развязке действия, и без того затянувшегося, а кроме того, представляющего интерес лишь поскольку оно касается Жака Коллена, этой своеобразной оси, вокруг которой разворачиваются как бы связанные между собой его страшным влиянием сцены «Отца Горио», «Утраченных иллюзий» и данного очерка. Впрочем, воображение читателя разовьет эту мрачную тему, причинявшую в то время немалое беспокойство суду присяжных, перед которым предстал Теодор Кальви. Поэтому вот уже целую неделю, с того дня, как кассационный суд отклонил просьбу преступника о помиловании, г-н де Гранвиль сам занимался этим делом и откладывал приказ о казни со дня на день, так ему хотелось успокоить присяжных, известив их, что осужденный на пороге смерти признался в преступлении.
Бедная вдова из Нантера, жившая в домике, который находился в окрестностях этого городка, расположенного, как известно, среди бесплодной равнины, раскинувшейся между Мон-Валерьеном, Сен-Жерменом, холмами Сартрувиля и Аржантейля, был убита и ограблена через несколько дней после того, как получила свою долю неожиданного наследства. Эта доля состояла из трех тысяч франков, дюжины серебряных столовых приборов, золотых часов с цепочкой и белья. Вместо того, чтобы поместить эти три тысячи франков в Париже, как ей советовал нотариус покойного виноторговца, которому она наследовала, старуха пожелала хранить все эти ценности у себя. Прежде всего она отроду не держала в руках столько денег, а вдобавок она никому не доверяла в каких бы то ни было делах, подобно большинству простолюдинов или крестьян. После долгих обсуждений с виноторговцем из Нантера, ее родственником и родственником покойного виноторговца, вдова решила вложить капитал в пожизненную ренту, продать дом в Нантере и, переехав в Сен-Жермер, зажить там по-господски.
К дому, где она жила, прилегал довольно большой сад, обнесенный жалкой изгородью; да и сам домишко бы неказистый, как все жилища мелких землевладельцев в окрестностях Парижа. Гипс и гравий, которыми изобилует эта местность, сплошь изрытая каменоломнями с открытыми разработками, были, как водится в парижских пригородах, пущены в дело наспех, без какого-нибудь архитектурного замысла. Это почти всегда хижина цивилизованного дикаря. Дом вдовы был двухэтажный, с чердачными помещениями.
Муж этой женщины, владелец каменоломни и строитель жилища, вделал весьма солидные решетки во все окна. Входная дверь была замечательной прочности. Покойник знал, что он один в открытом поле, и каком поле! Клиентура его состояла главным образом из парижских подрядчиков по строительным работам, и материал для стройки своего дома, стоявшего в шагах пятистах от его каменоломни, он перевозил на собственных повозках, возвращавшихся из Парижа порожняком. Он выбирал среди хлама, остававшегося после сноса домов в Париже, нужные ему части, и притом по очень низкой цене. Таким образом, оконные рамы, решетки, двери, ставни, вся столярная часть были плодом дозволенных хищений, подарками клиентов – хорошими подарками, к тому же умело выбранными. Из двух предложенных ему рам он увозил лучшую. Перед домом был довольно большой двор, где помещались конюшни, а от проезжей дороги его отделяла каменная ограда. Крепкая решетка служила воротами. В конюшне держали также и сторожевых псов, а на ночь в доме запирали комнатную собаку. Сад, приблизительно в один гектар величиной, находился позади дома.
Овдовев, бездетная жена каменолома жила в доме одна со служанкой. Стоимость проданной каменоломни покрыла долги каменолома, умершего два года назад. Этот пустынный дом был единственным имуществом вдовы; она разводила кур, держала коров и продавала яйца и молоко в Нантере. Отпустив конюха, возчика и рабочих каменоломни, попутно выполнявших при покойном всякие хозяйственные работы, она запустила сад, он одичал и давал ей теперь лишь немножко травы и овощей, какие могли взрасти на этой каменистой почве.
Стоимость дома и деньги, полученные по наследству, обещали составить капитал в семь-восемь тысяч франков, и вдова рассудила, что она может преспокойно жить в Сен-Жермене на семьсот-восемьсот франков пожизненной ренты, которые она думала получить со своих восьми тысяч. Она уже не однажды держала совет с нотариусом из Сен-Жермена, ибо она отказывалась дать пожизненно деньги на проценты нантерскому виноторговцу, который ее об этом просил. Таковы были обстоятельства, когда вдова Пижо и ее служанка вдруг исчезли. Решетчатые ворота, входная дверь, ставни – все было заперто. Прошло три дня, пока судебные власти, извещенные о положении вещей, произвели там обыск. Г-н Попино, судебный следователь, прибыл из Парижа вместе с королевским прокурором, и вот что было установлено.
Ни на решетчатых воротах, ни на входной двери не было никаких следов взлома. Ключ от входной двери находился в замке изнутри. В оконной решетке не был вынут ни один железный прут. Замки, ставни – словом, все запоры были целы.
На стене ограды не обнаружили никаких признаков, по которым можно было заключить, что через нее перебирались злоумышленники. Глиняные трубки дымохода не представляли собою пригодной лазейки, и возможность проникнуть в дом таким способом была исключена. Притом конек кровли, целый и невредимый, не подтверждал этого предположения. Когда судебные власти, жандармы и Биби-Люпен вошли в комнаты нижнего этажа, они увидели, что вдова Пижо и ее служанка задушены их же ночными косынками в их собственных постелях. Три тысячи франков, столовые приборы и ценности исчезли. Трупы женщин разлагались, как и трупы собак, дворовой и комнатной. Обследовали изгородь вокруг сада, нигде ничего не было сломано. В саду на дорожках не обнаружили никаких следов. Судебный следователь предположил, что убийца шел по траве, чтобы не оставить на песке следов, если он вошел отсюда; но как он проник в дом? Со стороны сада дверь была защищена тремя толстыми железными перекладинами, все они были целы. И тут ключ находился изнутри, как и в парадной двери со стороны двора.
Когда г-н Попино и Биби-Люпен, который пробыл здесь весь день и все обследовал в присутствии королевского прокурора и офицера нантерского караульного отряда, твердо установили, что в дом проникнуть было невозможно, убийство стало зловещей загадкой, столкнувшись с которой политика и правосудие должны были потерпеть поражение.
Эта драма, опубликованная «Судебной газетой», произошла в зиму 1828-1829 года. Одному богу известно, какое любопытство было возбуждено в ту пору в Париже этим страшным происшествием; но Париж, каждодневно переваривающий все новые и новые драмы, все забывает. Полиция – та ничего не забывает. Прошло три месяца со времени тщетных розысков, и вот однажды какая-то проститутка, своим мотовством обратившая на себя внимание агентов Биби-Люпена, которые взяли ее под наблюдение по причине ее короткого знакомства с некоторыми ворами, вздумала обратиться к подруге с просьбой помочь ей заложить дюжину столовых приборов, золотые часы и цепочку. Подруга отказалась. Об этом случае услыхал Биби-Люпен и сразу же вспомнил о дюжине столовых приборов, золотых часах и цепочке, похищенных в Нантере. Тотчас же комиссионеры ломбарда, как и все парижские скупщики краденого были предупреждены, а за Манон-Блондинкой Биби-Люпен установил строжайшую слежку.
Вскоре узнали, что Манон-Блондинка влюблена до сумасшествия в какого-то молодого человека, которого никто не видел, и что он будто бы глух ко всем доказательствам любви белокурой Манон. Тайна за тайной. Этот молодой человек, на которого обратили внимание сыщики, был скоро ими выслежен, а затем признан беглым каторжником, пресловутым героем корсиканских вендетт, красавцем Теодором Кальви, по кличке Мадлена.
На Теодора выпустили одного из скупщиков, занимавшихся двойным ремеслом, ибо он служил одновременно и ворам и полиции; он пообещал Теодору купить у него столовые приборы, золотые часы и цепочку. Вечером, в половине одиннадцатого, когда старьевщик на площади Сень-Гильом отсчитывал деньги Теодору, переодетому женщиной, туда нагрянула полиция; Теодора арестовали и захватили вещи.
Сразу же началось следствие. На основании столь слабых улик нельзя было, выражаясь слогом судейских, подвести человека под смертный приговор. Кальви ни разу не изменил себе. Он ни разу не сбился: он сказал, что какая-то деревенская женщина продала ему эти вещи в Аржантейле и что только позже, когда до него дошел слух об убийстве в Нантере, он понял, как опасно держать у себя эти приборы, часы и цепочку – все эти ценности, которые были занесены в опись, составленную после смерти парижского виноторговца, дядюшки вдовы Пижо, и оказались крадеными. Короче, сказал он, нужда и желание избавиться от этих вещей заставила его продать их при помощи человека, ничем не запятнанного.
Добиться чего-либо большего было невозможно от беглого каторжника, сумевшего своим запирательством и своей выдержкой убедить судебные власти в том, что преступление совершил нантерский виноторговец и что женщина, у которой он приобрел краденые вещи, была женой этого торговца. Злополучный родственник вдовы Пижо и его жена были арестованы; но через неделю, после тщательного расследования, было установлено, что в момент убийства ни муж, ни жена не покидали своего дома. Впрочем, Кальви не признал в жене виноторговца женщину, продавшую ему, по его словам, серебро и ценности.
Было выяснено, что любовница Кальви, привлеченная к делу, со времени преступления и по тот день, когда Кальви пытался заложить серебро и ценности, истратила около тысячи франков: улика оказалась достаточной, чтобы предать суду присяжных каторжника и его любовницу. А так как это убийство было по счету восемнадцатым в списке Теодора, то его сочли виновником преступления, столь искусно совершенного, и он был приговорен к смерти. Но если он и не опознал нантерскую торговку винами, то виноторговец и его жена опознали Теодора. Следствие установило путем многих свидетельских показаний, что Теодор жил в Нантере приблизительно около месяца; он работал там каменщиком, ходил весь перепачканный известкой, в рваной одежде. В Нантере никто не давал более восемнадцати лет этому мальчугану, который в течение месяца нахлил такое посое дело (подготовил преступление).
Прокуратура искала сообщников. Измерили ширину труб, сравнили ее с объемами Манон-Блондинки, чтобы убедиться, не могла ли она проникнуть через камин; но даже шестилетний ребенок не мог бы пролезть через глиняные трубы дымохода, которыми современная архитектура заменила старинные широкие трубы. Не будь этой загадочной и волнующей тайны, Теодора казнили бы уже неделю назад. Тюремный духовник потерпел, как мы видели, полную неудачу.
Дело это, как и имя Кальви, ускользнуло, очевидно, от внимания Жака Коллена, озабоченного своим поединком с Контансоном, Корантеном и Перадом. Обмани-Смерть пытался к тому же забыть, насколько это было возможно, своих сотоварищей и все, что имел отношение к Дворцу правосудия. Он страшился встретиться лицом к лицу с кем-либо из дружков, ведь тот мог бы потребовать от даба отчета, а разве он мог отчитаться?
Начальник Консьержери пошел сразу же в канцелярию генерального прокурора и застал там товарища прокурора, который беседовал с г-ном де Гранвилем, держа в руках приказ о казни. Г-н де Гранвиль провел ночь в особняке де Серизи, но хотя его одолевали усталость и тревога, ибо врачи не ручались еще за рассудок графини, он принужден был по случаю столь важной казни посвятить несколько часов делам прокуратуры. После краткого разговора с начальником тюрьмы г-н де Гранвиль взял у товарища прокурора приказ и передал его г-ну Го.
– Приговор привести в исполнение, – сказал он, – если не возникнет каких-либо чрезвычайных обстоятельств: надеюсь на вашу осмотрительность. Эшафот можно установить позже, в половине одиннадцатого; итак, в вашем распоряжении целый час. В такое утро час равен столетию, а в столетии мало ли может произойти событий! Не подавайте повода надеяться на отсрочку. Пускай совершают туалет приговоренного, если нужно; и, если ничего нового не обнаружится, передайте приказ Сансону в половине девятого. Пусть подождет!
Выходя из кабины генерального прокурора, начальник тюрьмы встретил в сводчатом проходе, ведущем в галерею, г-на Камюзо, направлявшегося к генеральному прокурору. Тут у г-на Го состоялся короткий разговор со следователем; сообщив ему о том, как обстояло дело с Жаком Колленом в Консьержери, начальник тюрьмы сошел вниз, чтобы устроить очную ставку Обмани-Смерть и Мадлены; но мнимого священнослужителя он впустил в камеру осужденного лишь после того, как Биби-Люпен, искусно переряженный жандармом, сменил там наседку, наблюдавшую за молодым корсиканцем.
Невозможно изобразить удивление трех каторжников, когда они увидели, что надзиратель пришел за Жаком Колленом и собирается отвести его в камеру смертника. Одним прыжком они очутились около стула, на котором сидел Жак Коллен.
– Стало быть, нынче ему амба, господин Жюльен? – обратился Шелковинка к надзирателю.
– Ну, конечно, ведь Шарло уже тут, – отвечал равнодушно надзиратель.
В народе и в уголовном мире так называют парижского палача. Это прозвище ведет свое происхождение со времен революции 1789 года. Имя это произвело глубокое впечатление. Заключенные переглянулись.
– Кончено! – сказал надзиратель. – Приказ о казни в руках у господина Го, и приговор только что прочитан.
– Выходит, – заметил Чистюлька, – что красотка Мадлена приобщился святых тайн?.. Напоследок дыхалом (ртом) дохнул воздуха.
– Бедненький Теодор! – вскричал Паучиха. – А какой он пригожий! Обидно в его-то годы протянуть ноги…
Смотритель направился к калитке, думая, что Жак Коллен идет за ним; но испанец двигался медленно, а когда оказался в десяти шагах от Жюльена, он вдруг как бы ослабел и знаком попросил Чистюльку поддержать его.
– Это убийца! – сказал Наполитас священнику, указывая на Чистюльку и предлагая ему опереться на свою руку.
– Нет, для меня это несчастный!.. – отвечал Обмани-Смерть, сохраняя присутствие духа и христианскую кротость архиепископа Камбрэйского.
И он отошел от Наполитаса, ибо этот юнец с первого взгляда показался ему чрезвычайно подозрительным.
– Он уже поднялся на первую ступеньку Обители «Утоли мои печали», но я ее игумен! – сказал он тихо каторжникам. – Вы увидите, как я раздербеню этого Аиста! Я выужу эту сорбонну из его лап.
– Из-за его подымалки? – сказал, смеясь, Шелковинка.
– Я хочу даровать эту душу небу! – отвечал сокрушенно Жак Коллен, заметив, что вокруг них собираются заключенные.
И он нагнал смотрителя, подошедшего к калитке.
– Он пришел спасти Мадлену, – сказал Шелковинка. – Мы верно отгадали, в чем тут дело. Каков даб!
– Ты шутишь?.. Гусары гильотины уже тут! Он его даже не увидит, – возразил Паучиха.
– Пекарь за него! – вскричал Чистюлька. – Неужто он мог бы прилобанить наши лобанчики?.. Он крепко любит своих дружков! Он крепко в нас нуждается! Думали, шут их дери, заставить нас засыпать даба! Мы не какие-нибудь язычники (доносчики)! Пусть только выудит свою Мадлену, я скажу ему, где мой слам (краденое добро)!
Последние слова еще усилили преданность трех каторжников их божеству, ибо с этой минуты знаменитый даб стал для них воплощением всех их надежд.
Жак Коллен, несмотря на опасность, угрожавшую Мадлене, не изменил своей роли. Этот человек, знавший Консьержери так же хорошо, как он знал три каторги, ошибался столь натурально, что надзиратель должен был поминутно указывать ему: «Сюда! Туда!» – покуда они не пришли в канцелярию. Тут же Жак Коллен сразу заметил прислонившегося к печи высокого и толстого мужчину, с длинным красным лицом, не лишенным, однако ж благородства, и узнал в нем Сансона.
– Сударь, вы духовник? – сказал он, подойдя к нему с самым простодушным видом.
Недоразумение было так ужасно, что присутствующие похолодели.
– Нет, сударь, – отвечал Сансон, – у меня другие обязанности.
Сансон, отец последнего палача, носившего это имя и недавно отрешенного от должности, был сыном палача, казнившего Людовика XIV.
Четыреста лет несли Сансоны эту обязанность, и вот наследник стольких палачей попытался избавиться от бремени своего наследства. Сансоны, руанские палачи, в продолжение двух столетий, до того еще, как заняли эту высокую должность в королевстве, исполняли, начиная с XIII века, от отца к сыну, приговоры судебной власти. Многие ли семейства могут явить пример верной службы или знатности, передававшейся от отца к сыну в течение шести столетий? Молодым человеком достигнув чина капитана кавалерии, Сансон мечтал уже о блестящих успехах на военном поприще, и вдруг отец приказывает ему явиться, чтобы принять участие в казни короля. Позже он сделал сына своим бессменным помощником, когда в 1793 году были установлены два постоянных эшафота: у Тронной заставы и на Гревской площади. Теперь этому страшному должностному лицу было около шестидесяти лет; он отличался превосходной выправкой, мягкостью и степенностью в обращении с людьми и великим презрением к Биби-Люпену и его приспешникам, поставщикам гильотины. Единственно, что выдавало этого человека, в жилах которого текла кровь средневековых палачей, его чудовищно толстые и широкие в кистях руки. Он был достаточно образован, дорожил званием гражданина и избирателя, увлекался, как говорили, садоводством – короче говоря, этот крупный и толстый человек с тихим голосом, спокойными манерами, чрезвычайно молчаливый, с большим облысевшим лбом, походил гораздо больше на английского аристократа, нежели на заплечных дел мастера. Поэтому испанский священник мог бы вполне впасть в заблуждение, что умышленно и сделал Жак Коллен.
– Нет, это не каторжник, – сказал старший смотритель начальнику тюрьмы.
«Начинаю верить этому», – подумал г-н Го, кивнув головой подчиненному.
Жака Коллена ввели в камеру, напоминавшую склеп, где юный Теодор в смирительной рубашке сидел на краю жалкой тюремный койки. При свете, проникшем на минуту из коридора, Обмани-Смерть сразу признал в жандарме, опершемся на саблю, Биби-Люпена.
– Io sono Gada-Morto! Parla nostro itaiano, – живо сказал Жак Коллен. – Venda ti salvar. (Я Обмани-Смерть, будем говорить по-итальянски, я пришел тебя спасти.)
Все, о чем беседовали два друга, осталось тайной для мнимого жандарма, а так как Биби-Люпен должен был охранять заключенного, то он и не мог покинуть свой пост. Возможно ли описать ярость начальника тайной полиции?
Теодор Кальви, молодой человек с бледным лицом оливкового цвета, белокурыми волосами, мутно-голубыми и глубоко запавшими глазами, впрочем, отлично сложенный, с чрезвычайно развитой мускулатурой, не бросающейся в глаза благодаря вялому его виду, что нередко встречается у южан, был бы очень хорош собою, если бы дугообразные брови и низкий лоб не сообщали его лицу зловещего выражения, а красные, лютой жестокости губы и игра лицевых мускулов не выдавали повышенной возбудимости истого корсиканца, столь скорого на руку в минуту гнева.
Пораженный звуком этого голоса, Теодор резким движением вскинул голову и подумал, что у него начинается галлюцинация; но, разглядев лжесвященника, так как глаза его за два месяца приспособились к мраку каменной клетки, он глубоко вздохнул. Он не узнал Жака Коллена, ибо эта рябая, изъеденная кислотами физиономия отнюдь не походила на лицо его даба.
– Да, это я, твой Жак; под видом священника я пришел тебя спасти. Смотри, не будь глуп, не выдай меня, притворись, что исповедуешься.
Все это было сказано скороговоркой.
– Молодой человек совсем подавлен, смерть пугает его, он во всем сознается, – сказал Жак Коллен, обращаясь к жандармам.
– Скажи мне что-нибудь такое, чтобы я знал, что ты – он, ведь у тебя только голос его, – сказал Теодор.
– Видите ли, несчастный говорит мне, что он невиновен, – продолжал Жак Коллен, обращаясь к жандарму.
Биби-Люпен не отвечал, боясь быть узнанным.
– Sempre mi! – сказал Жак Коллен, подойдя к Теодору и шепнув это условное выражение ему на ухо.
– Sempre ti! – ответил юноша на пароль. – Да, ты мой даб.
– Дело твоих рук?
– Да.
– Расскажи мне все без утайки. Я должен сообразить, как мне действовать, чтобы тебя спасти; время на исходе, Шарло здесь.
Корсиканец тотчас опустился на колени, как бы желая исповедаться. Биби-Люпен не знал, что ему делать, ибо разговор занял меньше времени, нежели чтение этой сцены. Теодор в кратких словах рассказал, при каких обстоятельствах было совершено преступление, о чем не знал Жак Коллен.
– Меня осудили, не имея улик, – сказал он в заключение.
– Дитя, ты занимаешься разговорами, когда тебе собираются снять голову…
– Обвинить меня можно было только в закладе ценностей. Вот как судят, да еще в Париже!
– Но все же как было дело? – спросил Обмани-Смерть.
– А вот как! За то время, что я тебя не видел, я свел знакомство с одной девчонкой, корсиканкой; я встретил ее, как приехал в Пантен (Париж).
– Глупцы, любящие женщин, вечно из-за них погибают!.. – вскричал Жак Коллен. – Это тигрицы на воле, тигрицы, которые болтают да глядятся в зеркала!.. Ты был неблагоразумен.
– Но…
– Поглядим, на что она тебе пригодилась, твоя проклятая маруха!..
– Вот эта красотка! Тонка, как прут, увертлива, как уж, ловка, как обязьяна! Она пролезла в трубу и отперла мне дверь. Собаки, нажравшись шариков, издохли. Я накрыл в темную обеих женщин. Когда деньги были взяты, Джинета опять заперла дверь и вылезла в трубу.
– Выдумка хороша! Стоит жизни… – сказал Жак Коллен, восхищаясь выполнением злодеяния, как чеканщик восхищается моделью статуэтки.
– Я сглупил, развернув весь свой талант ради тысячи экю!..
– Нет, ради женщины! – возразил Жак Коллен. – Я всегда говорил тебе, что мы из-за них теряем голову!..
Жак Коллен бросил на Теодора взгляд, полный презрения.
– Тебя ведь не было! – отвечал корсиканец. – Я был одинок.
– Ты любишь эту девчонку? – спросил Жак Коллен, почувствовав скрытый упрек.
– Ах, если я хочу жить, то теперь больше ради тебя, чем ради нее.
– Будь спокоен! Недаром я зовусь Обмани-Смерть! Я позабочусь о тебе!
– Неужто жизнь? – вскричал молодой корсиканец, поднимая связанные руки к сырому своду каземата.
– Моя Маделеночка, готовься воротиться на лужок, – продолжал Жак Коллен. – Ты должен этого ожидать, хотя тебя и не увенчают розами, как пасхального барашка!.. Уж если они нас однажды подковали для Рошфора, стало быть, хотят от нас избавиться! Но я сделаю так, что тебя пошлют в Тулон, ты сбежишь оттуда, воротишься в Пантен, а тут уж я устрою тебе жизнь поприятнее.
Вздох, который редко можно было услышать под этими несокрушимыми сводами, вздох, вызванный радостью избавления, звук, которому нет равного в музыке, отраженный камнем, отдался в ушах изумленного Биби-Люпена.
– Вот что значит отпущение грехов, обещанное мною в награду за чистосердечное признание! – сказал Жак Коллен начальнику тайной полиции. – Эти корсиканцы, видите ли, господин жандарм, люди глубоко верующие! Но он невиновен, как младенец Иисус, и я попытаюсь его спасти…
– Да благословит вас бог, господин аббат!.. – сказал Теодор по-французски.
Обмани-Смерть, чувствуя себя больше чем когда-либо каноником Карлосом Эррера, вышел из каземата, быстро прошел по коридору и, явившись к г-ну Го, разыграл душераздирающую сцену.
– Господин начальник, этот юноша невиновен, он указал мне виновного!.. Он едва не умер из-за ложно понятого чувства чести… Ведь он корсиканец! Сделайте одолжение, попросите генерального прокурора принять меня, я не задержу его более пяти минут. Господин де Гранвиль не откажется выслушать испанского священника, столь пострадавшего по вине французского правосудия!
– Иду к нему! – отвечал г-н Го, к великому удивлению зрителей этой необычной сцены.
– А покуда, – продолжал Жак Коллен, – прикажите вывести меня во двор, ибо я хочу закончить обращение одного преступника, которого уже коснулась благодать… О-о! У этих людей есть сердце!
Это краткое слово вызвало движение среди присутствующих. Жандармы, тюремный писарь, Сансон, смотрители, помощник палача, ожидавшие приказа «закладывать машину», выражаясь тюремным языком, – весь этот мирок, не так легко поддающийся волнению, загорелся вполне понятным любопытством.
В эту минуту с набережной послышался грохот, и экипаж в щегольской упряжке остановился у наружной решетки Консьержери, что явно было неспроста. Дверца открылась, быстро откинулась подножка; все подумали, что приехала важная особа. Вскоре у решетки появилась, размахивая синей бумагой, дама, сопутствуемая выездным лакеем и гайдуком. Богато одетая, вся в черном, в шляпе с опущенной вуалью, она утирала слезы большим вышитым платком.
Жак Коллен сразу узнал Азию, или, возвращая этой женщине ее настоящее имя, Жакелину Коллен, свою тетку. Свирепая старуха, достойная своего плямянника, сосредоточившего все помыслы на узнике, которого он защищал с умом и проницательностью, по меньшей мере равными уму и проницательности судейских властей, получила разрешение, с отметкой начальника всех парижских тюрем, выданное накануне по совету г-на де Серизи на имя горничной герцогини де Монфриньез, увидеться с Люсьеном и аббатом Карлосом Эррера, как только последнего переведут из секретной. Самый цвет бумаги уже говорил о влиятельной рекомендации, так как эти разрешения, подобно пригласительным билетам на спектакль, отличаются особой формой и видом.
Поэтому привратник отворил калитку, тем более узрев гайдука с плюмажем, в зеленом, шитом золотом камзоле, сиявшем, точно мундир русского генерала, – все это возвещало аристократическую посетительницу, чуть ли не королевского происхождения.
– Ах, дорогой аббат! – вскричала, увидя священника, мнимая аристократка, проливая потоки слез. – Как можно было заключить сюда хотя бы на минуту этого святого человека!
Начальник взял разрешение и прочел: «По рекомендации его сиятельства графа де Серизи».
– Ах, госпожа де Сен-Эстебан, госпожа маркиза! – сказал Карлос Эррера. – Какая высокая самоотверженность!
– Сударыня, здесь не разрешается разговаривать, – сказал старый добряк Го.
И он собственной особой преградил путь этой груде черного шелка и кружев.
– Но на таком расстоянии! – возразил Жак Коллен. – И при вас?.. – прибавил он, обводя взглядом окружающих.
От тетки, наряд которой должен был ошеломить писаря, начальника, смотрителей и жандармов, разило мускусом. Кроме кружев, стоимостью в тысячу экю, на ней была черная кашемировая шаль в шесть тысяч франков. Наконец, гайдук ее важно расхаживал по двору Консьержери с наглостью лакея, который знает, что он необходим взыскательной принцессе. Он не снисходил до беседы с выездным слугой, стоявшим у наружной решетки, которую днем всегда держали открытой.
– Что тебе надобно? Что я должна сделать? – сказала г-жа де Сен-Эстебан на условном языке, принятом между теткой и племянником.
Секрет этого условного языка заключался в том, чтобы удлиняя слова окончаниями на ар и ор, на аль или и, таким образом искажать их, будь то слова чисто французского или из воровского жаргона. То был своего рода дипломатический шифр, применяемый в разговорном языке.
– Спрячь все письма этих дам в надежное место, возьми самые опорочивающие каждую из них, возвращайся под видом торговки в залу Потерянных шагов и жди там моих приказаний.
Азия или Жакелина, преклонила колени, как бы ожидая благословления, и мнимый аббат благословил свою тетку с чисто евангельской проникновенностью.
– Addio! Marchesa! – сказал он громко. И на условном языке прибавил: – Разыщи Европу и Паккара и украденные семьсот пятьдесят тысяч франков, они нам будут нужны.
– Паккар здесь, – отвечала благочестивая маркиза, со слезами на глазах указывая на гайдука.
Столь быстрая сообразительность вызвала не только улыбку, но и удивление этого человека, что удавалось разве только его тетке. Мнимая маркиза обратилась к свидетелям этой сцены, как женщина, привыкшая свободно себя чувствовать в обществе.
– Он в отчаянии, что не может быть на погребении своего сына, – сказала она на дурном французском языке. – Ужасная ошибка судебных властей открыла тайну этого святого человека!.. Я буду присутствовать на заупокойной мессе. Вот сударь, – сказала она г-ну Го, протягивая ему кошелек, набитый золотом, – подаяние для бедных узников…
– Какой шик-мар! – сказал ей на ухо удовлетворенный племянник.
Жак Коллен последовал за смотрителем, который повел его в тюремный двор.
Биби-Люпен, доведенный до отчаяния, в конце концов привлек к себе внимание настоящего жандарма, поглядывая на него после ухода Жака Коллена и многозначительно произнося: «Гм!.. Гм!», – пока тот не сменил его на посту в камере смертника. Но этот враг Обмани-Смерть не успел прийти вовремя и не увидел знатной дамы, скрывшейся в своем щегольском экипаже; до него донеслись лишь сиплые звуки ее голоса, который, как она ни старалась, совсем изменить не могла.
– Триста паховирок для арестантов!.. – сказал старший смотритель, показывая Биби-Люпену кошелек, который г-н Го передал писарю.
– Покажите-ка, господин Жакомети, – сказал Биби-Люпен.
Начальник тайной полиции взял кошелек, высыпал золото в ладонь и внимательно осмотрел его.
– Настоящее золото!.. – сказал он. – И кошелек с гербом! Ах, и умен же каналья!.. Ну и мошенник! Он всех нас дурачит на каждом шагу. Пристрелить бы его как собаку!..
– Что ж тут такого? – спросил писарь, взяв обратно кошелек.
– А то что эта краля, конечно, шильница!.. – вскричал Биби-Люпен в бешенстве, топнув ногой о каменный порог выходной двери.
Слова его произвели живейшее впечатление на зрителей, столпившихся на почтительном расстоянии от г-на Сансона, который по-прежнему стоял, прислонившись к печи, посреди обширной сводчатой залы, в ожидании приказа приступить к туалету преступника и установить эшафот на Гревской площади.
Очутившись опять на дворе, Жак Коллен направился к своим дружкам походкою завсегдатая каторги.
– На каком деле ты зашухеровался? – спросил он Чистюльку.
– Мое дело кончено, – отвечал убийца, когда Жак Коллен отошел с ним в сторону. – Теперь мне нужен верный дружок.
– На что он тебе?
Чистюлька на воровском жаргоне рассказал коноводу о своих преступлениях, подробно описав историю убийства и кражи, совершенных им в доме супругов Кротта.
– Уважаю тебя, – сказал ему Жак Коллен. – Чисто сработано; но ты, по-моему, сплоховал в одном.
– В чем?
– Как только ты закончил дело, сразу должен был добыть русский паспорт, преобразиться в русского князя, купить щегольскую карету с гербами, смело поместить свое золото у какого-нибудь банкира, взять аккредитив на Гамбург, сесть в почтовую карету вместе со своей свитой: лакеем, горничной и любовницей, разряженной, как принцесса, а потом, в Гамбурге, погрузиться на корабль, идущий в Мексику. Когда в кармане двести восемьдесят тысяч франков золотом, толковый парень может делать все, что ему вздумается, и ехать, куда ему вздумается, проздок ты этакий!
– Ты ладно шевелишь мозгами, на то ты и даб!.. У тебя-то на плечах сорбонна!.. А у меня…
– Короче, добрый совет в твоем положении, что крепкий бульон для мертвеца, – продолжал Жак Коллен, бросая на каторжника гипнотизирующий взгляд.
– И то правда! – сказал Чистюлька с недоверчивым видом. Все равно, угости меня твоим бульоном; если он меня не насытит, я сделаю себе ножную ванну…
– Ты в граблюхах у Аиста, у тебя пять квалифицированных краж, три убийства… Последнее – убийство двух богатых буржуа. Судьи не любят, чтобы убивали буржуа… Тебя свяжут для лузки, и нет тебе никакой надежды!
– Все это я уже от них слышал, – отвечал жалобно Чистюлька.
– Ты знаешь мою тетку Жакелину, ведь она настоящая мать нашей братии!.. Так вот, я только что с ней побеседовал на глазах у всей канцелярии, и она сказал мне, что Аист хочет от тебя отделаться, так он тебя боится.
– Но, – сказал Чистюлька, и наивность его вопроса свидетельствовала о том, как сильно развито у воров чувство естественного права воровать, – теперь я богат, чего ж им бояться?
– Нам недосуг разводить философию, – сказал Жак Коллен, – Лучше поговорим о тебе.
– Что ты хочешь со мной сделать? – спросил Чистюлька, перебивая своего даба.
– Увидишь! И дохлый пес может на что-то пригодиться.
– Для других! – сказал Чистюлька.
– Я ввожу тебя в свою игру! – возразил Жак Коллен.
– Это уже кое-что! – сказал убийца. – Ну, а дальше?
– Я не спрашиваю, где твои деньги, я хочу знать, что ты думаешь с ними делать…
Чистюлька следил за непроницаемым взглядом своего даба; тот холодно продолжал:
– Есть у тебя какая-нибудь маруха, которую ты любишь, ребенок или дружок, нуждающийся в помощи? Я буду на воле через час, я могу помочь, если ты кому-нибудь хочешь добра.
Чистюлька колебался, им владела нерешительность. Тогда Жак Коллен выдвинул последний довод.
– Твоя доля в нашей кассе тридцать тысяч франков; оставляешь ты ее товарищам или отдаешь кому другому? Твоя доля в сохранности, могу ее передать нынче же вечером тому, кому ты захочешь ее отказать.
Лицо убийцы выдало его удовлетворение.
«Он в моих руках!» – сказал про себя Жак Коллен.
– Но не зевай, решай скорее!.. – шепнул он на ухо Чистюльке. – Старина, у нас нет и десяти минут… Генеральный прокурор вызовет меня, и у нас с ним будет деловой разговор. Он у меня в руках, этот человек. Я могу свернуть шею Аисту! Уверен, что я спасу Мадлену.
– Если ты спасешь Мадлену, добрый мой даб, то ты можешь и меня…
– Полно распускать нюни, – отрывисто сказал Жак Коллен. – Делай завещание.
– Ну, так и быть! Я хотел бы деньги отдать Гоноре, – отвечал Чистюлька жалобным голосом.
– Вот оно что!.. Ты живешь с вдовой Моисея, того самого еврея, что хороводился с южными Тряпичниками? – спросил Жак Коллен.
Подобно великим полководцам, Обмани-Смерть превосходно знал личный состав всех шаек.
– С той самой! – сказал Чистюлька, чрезвычайно польщенный.
– Красивая женщина! – сказал Жак Коллен, умевший отлично управлять этими страшными человекоподобными машинами. – Маруха ладная! У нее большие знакомства и отменная честность! Настоящая шильница. А-а! Ты все таки спутался с Гонорой! Разве не стыдно было тебе угробить себя с какой-то марухой? Малява! Зачем не завел честную торговлишку, мог бы перебиваться!.. А она работает?
– Она устроилась, у нее заведение на улице Сент-Барб…
– Стало быть, ты делаешь ее твоей наследницей? Вот до чего доводят нас эти негодницы, когда мы, по глупости, любим их…
– Да, но не давай ей ни каньки (ни гроша), покуда я не сковырнусь!
– Твоя воля священна, – сказал Жак Коллен серьезным тоном. – А дружкам ни гроша?
– Ни гроша! Они меня продали, – отвечал Чистюлька злобно.
– Кто тебя выдал? Хочешь, я отомщу за тебя? – с живостью сказал Жак Коллен, пытаясь вызвать в нем чувство, способное еще взволновать такие сердца в подобные минуты. – Кто знает, старый мой друг, не удастся ли мне ценою этой мести помирить тебя с Аистом?
Тут убийца, ошалевший от счастья, бессмысленно уставился на своего даба.
– Но, – сказал даб в ответ на это красноречивое выражение, которое приняла физиономия каторжника, – я теперь ломаю комедию только ради Теодора. Ежели водевиль увенчается успехом, старина, то для одного из моих дружков, а ты из их числа, я способен на многое…
– Если ты только расстроишь сегодняшнюю церемонию с бедняжкой Теодором, я сделаю все, что ты захочешь.
– Да она уже расстроена. Уверен, что выужу его сорбонну из когтей Аиста. Видишь ли, Чистюлька, коли ты не хочешь сгореть, надо протянуть друг дружке руку… Один ни черта не сделаешь…
– Твоя правда! – вскричал убийца.
Согласие между ними так прочно восстановилось и вера его в даба была столь фанатична, что Чистюлька не колебался больше.
Он открыл тайну своих сообщников, тайну, так крепко хранимую до сих пор. А Жак Коллен этого только и желал.
– Так вот! В мокром деле Рюфар, агент Биби-Люпена, был в одной трети со мной и с Годе…
– Вырви-Шерсть?.. – вскричал Жак Коллен, называя Рюфара его воровской кличкой.
– Он самый! Канальи продали меня, потому что я знаю их тайник, а они моего не знают…
– Э! Да это мне на руку, ангел мой! – сказал Жак Коллен.
– Как это так?
– Да ты погляди, – отвечал даб, – как выгодно человеку довериться мне безоговорочно! Ведь теперь твоя месть – козырь в моей игре! Я не спрашиваю тебя, где твой тайник. Ты скажешь мне о нем в последнюю минуту; но сейчас скажи мне все, что касается Рюфара и Годе.
– Ты был нашим дабом, ты им навсегда и останешься! У меня не будет тайн от тебя, – отвечал Чистюлька. – Мое золото в погребе у Гоноры.
– А не продаст тебя твоя маруха?
– Дудки! Она и знать не знает о моем рукоделии! – продолжал Чистюлька. – Я напоил Гонору, хотя эта женщина и на духу у кармана ничего не вызвонит (и на допросе у полицейского комиссара не проболтается). Только уж очень много золота!
– Да, тут может скиснуть самая чистая совесть! – заметил Жак Коллен.
– Стало быть, зеньки пялить на меня было некому… Вся живность спала в курятнике. Золото на три фута под землей, за бутылями с вином. А сверху я насыпал щебня и известки.
– Ладно! – сказал Жак Коллен. – А другие тайники?
– Рюфар пристроил свой слам у Гоноры, в комнате бедняжки… Она у него в руках, – боится, чтобы ее не обвинили как сообщницу в укрывательстве краденого и чтобы не пришлось ей кончить дни в Сен-Лазаре.
– Ах, ракалья! Вот как фараоново племя (полиция) заканчивает воспитание воров! – сказал Коллен.
– Годе стащил свой слам к сестре, прачке, честной девушке. А девчонка и не подозревает, что может заработать пять лет голодной! Парень поднял половицы, положил их обратно и задал винта!
– Знаешь, на что ты мне нужен? – сказал тогда Жак Коллен, вперив в Чистюльку свой властный взгляд.
– На что?
– Чтобы ты взял на себя дело Мадлены…
Чистюлька отпрянул было назад, но под пристальным взглядом даба тут же снова принял позу, выражающую покорность.
– Э-ге! Ты уже отлыниваешь! Путаешь мне карты! Да ты пойми, четыре убийства или три, не все ли равно?
– Может и так…
– Клянусь мегом Великого братства, нет у тебя сиропа в вермишелях (крови в жилах). А я-то думал тебя спасти!..
– А как?
– Малява! Обещай вернуть золото семье, вот ты и в расчете! И закатишься на лужок пожизненно. Я ни гроша не дал бы за твою сорбонну, будь у них деньги в кармане, но сейчас ты стоишь семьсот тысяч, дурень!
– Даб! Даб! – вскричал Чистюлька на верху блаженства.
– И кроме того, – продолжал Жак Коллен, – мы свалим убийство на Рюфара… Тут-то Биби-Люпену конец… Он у меня в руках!
Чистюлька остолбенел, пораженный этой мыслью, глаза его расширились, он стоял точно изваяние. После трех месяцев тюрьмы и долгих совещаний с дружками, которым он не назвал своих сообщников, готовясь предстать перед судом присяжных и осознав содеянные им преступления, он впал в крайнее отчаяние, потеряв всякую надежду, так как подобный план не пришел никому в голову из его погоревших советчиков. Поэтому, увидев проблеск такой надежды, он просто поглупел от счастья.
– Неужто Рюфар и Годе успели вспрыснуть свой слам (добычу)? – спросил Жак Коллен.
– Разве они осмелятся? – отвечал Чистюлька. – Канальи ждут, когда меня скосят. Так приказала сказать мне моя маруха через Паука, когда та приходила на свиданье с Паучихой.
– Ладно! Мы приберем к рукам их слам в двадцать четыре часа! – вскричал Жак Коллен. – Канальи уже не оправятся, как, например, ты! Тебя обелят начисто, а молодчики выкрасятся в крови! Дельце твое я оборудую так, что ты выйдешь из него чистым, как младенец. А они окажутся кругом виноватыми. Я пущу твои деньги на то, чтобы установить твою невиновность в других делах. Ну, а раз ты попадешь на лужок, – ведь тебя этого не миновать, – ты оттуда постараешься сбежать… Дрянцо жизнь, но как-никак жизнь!
Глаза Чистюльки сияли от восторга.
– Эх, старина, на семьсот тысяч франков не одну судейскую шляпу купишь! – говорил Жак Коллен, обольщая надеждой каторжника.
– Даб! Даб!
– Я поражу министра юстиции… О-о! Рюфар у меня попляшет! Я разгромлю фараоново племя. Биби-Люпен испекся.
– Ладно! Решено! – вскричал Чистюлька со свирепой радостью. – Приказывай, я повинуюсь.
И он сжал Жака Коллена в объятиях, не скрывая радостных слез, настолько он поверил в возможность спасти свою голову.
– Но это еще не все, – сказал Жак Коллен. – Аист переваривает с трудом, а ведь новый гусь – новый пух (новые улики). Надобно крепко засыпать маруху.
– Как это? С какой стати? – спросил убийца.
– Помоги мне, увидишь!.. – отвечал Обмани-Смерть.
Жак Коллен в кратких словах раскрыл Чистюльке тайну преступления, совершенного в Нантере, и дал ему понять, что необходимо найти женщину, которая согласилась бы принять на себя роль Джинеты. Потом он отправился к Паучихе вместе с Чистюлькой, который теперь совсем повеселел.
– Я знаю, как ты любишь Паука… – сказал Жак Коллен Паучихе.
Взгляд, брошенный Паучихой, был целой поэмой ужаса.
– Что она станет делать, покуда ты будешь на лужке?
Слезы навернулись на свирепые глаза Паучихи.
– Ладно! А что, ежели я ее закатаю на год в голодную для марух (в женскую уголовную тюрьму – в Форс, Маделонет или Сен-Лазар), покуда ты будешь потеть на правилке, отбывать наказание и готовиться к побегу?
– Разве ты мег, чтобы творить такие чудеса? Она не хороводная (не принадлежит к мошеннической шайке), – отвечал возлюбленный Паука.
– Эх, Паучиха! – сказал Чистюлька. – Наш даб почище мега!..
– Скажи, какой у тебя с ней условный знак? – спросил Жак Коллен Паучиху властным тоном, который не допускает возможности отказа.
– Мга в Пантене (ночь в Париже). Только скажи это, и она поймет, что пришли от меня, а хочешь, чтобы она тебя слушалась, покажи ей рыжую сару (золотую монету в пять франков) и скажи: «Вьюгавей».
– Ее осудят в правилке по делу Чистюльки и за чистосердечное признание помилуют после года в голодной! – сказал наставительно Жак Коллен, глядя на Чистюльку.
Чистюлька понял замысел даба и взглядом обещал убедить Паучиху помочь им, добившись от Паука согласия принять на себя роль сообщницы в преступлении, которое он готовился взвалить на свои плечи.
– Прощайте, чада мои! Вы скоро услышите, что я вырвал моего мальчугана из рук Шарло, – сказал Обмани-Смерть. – Да!.. Шарло ожидает в канцелярии со своими горняшками, чтобы заняться туалетом Мадлены! Поглядите-ка, – добавил он, – за мной идут посланцы от даба Аиста (генерального прокурора)!
В самом деле, показавшись в калитке, надзиратель знаком подозвал к себе этого необыкновенного человека, которому беда, нависшая над молодым корсиканцем, вернула ту дикую силу, с какой он, бывало, боролся с обществом.
Не лишено интереса заметить, что Жак Коллен в ту минуту, когда от него уносили тело Люсьена, дал себе клятву сделать попытку последнего своего воплощения, но уже не в живое существо, а в орудие. Короче говоря, он принял роковое решение, как Наполеон, сидя в шлюпке, подвозившей его к «Беллерофону». По странному стечению обстоятельств все благоприятствовало этому гению зла и порока в его замысле.
Вот отчего, даже рискуя несколько ослабить впечатление чего-то необычайного, которое должна произвести неожиданная развязка этой преступной жизни, ибо в наше время подобный эффект достигается лишь тем, что лишено и тени правдоподобия, не уместно ли нам, прежде чем проникнуть с Жаком Колленом в кабинет генерального прокурора, последовать за г-жой Камюзо в салоны особ, у которых она побывала, пока происходили все эти события в Консьержери? Одна из обязанностей, которою не должен пренебрегать историк нравов, – это держаться истины, не искажать ее внешне драматическими положениями, особенно тогда, когда истина сама потрудилась принять романтический облик. Природа общества, парижского в особенности, допускает такие случайности, путаницу домыслов столь причудливую, что зачастую она превосходит воображение сочинителя. Смелость истины доходит до сочетания событий, запретного для искусства, столь оно неправдоподобно либо столь мало пристойно, разве только писатель смягчит, подчистит, выхолостит их смысл.
Госпожа Камюзо попыталась сочинить себе утренний наряд почти хорошего вкуса – затея, достаточно мудреная для жены следователя, прожившей в провинции безвыездно в продолжение шести лет. Дело шло о том, чтобы не дать повода для критики ни у маркизы д'Эспар, ни у герцогини де Монфриньез, появившись у них между восемью и девятью часами утра. Амели-Сесиль Камюзо, хотя и урожденная Тирион, поспешим это сказать, достигла успеха лишь наполовину. Добиться такого результата в нарядах – не значит ли ошибиться вдвойне?..
Трудно вообразить себе, в какой степени полезны парижанки честолюбцам всех видов: они так же необходимы в большом свете, как и в воровском мире, где, как было показано, они играют огромную роль. Итак, предположим, что в определенное время человек, под страхом оказаться позади всех на своем поприще, должен говорить с важной особой – крупнейшей фигурой при Реставрации, именуемой и по сию пору хранителем печати. Возьмите случай самый благоприятный: пусть этим человеком будет судья, короче говоря, свой человек в этом ведомстве. Сей судья обязан сначала обратиться или к начальнику отделения, или к заведующему канцелярией и доказать им неотложную необходимость быть принятым. Но так ли просто попасть сразу к хранителю печати? Среди дня если он не в законодательной палате, то в совете министров, или подписывает бумаги, или принимает посетителей. Где он почивает – неизвестно. Вечером он несет обязанности общественные и личные. Если бы все судьи стали срочно требовать аудиенции, каков бы ни был предлог, глава министерства юстиции оказался бы в положении осажденного. Поэтому необходимость личного неотложного свидания контролируется одной из этих промежуточных властей, являющихся серьезным препятствием, запертой дверью, которую нужно открыть, если за дверную ручку уже не взялся какой-либо соперник. А женщина! Та идет к другой женщине; она может войти прямо в спальню, играя на любопытстве госпожи или служанки, в особенности, если госпожа заинтересована или остро нуждается в ее помощи. Возьмите хотя бы такое воплощенное женское могущество, как г-жа д'Эспар, с которой должен был считаться сам министр: эта женщина пишет надушенную амброй записочку, которую ее лакей несет лакею министра. Министр застигнут еще в постели, он тут же читает записку. Пусть министра требуют его дела, но ведь он мужчина и он восхищен возможностью посетить одну из парижских королев, одну из владычиц Сен-Жерменского предместья, любимицу Мадам, или супруги дофина, или короля. Казимир Перье, единственный настоящий премьер-министр времени Июльской революции, бросал все дела, чтобы скакать к бывшему первому камер-юнкеру короля Карла Х.
Теория эта вполне объясняет всю власть слов, сказанных маркизе д'Эспар ее горничной, полагавшей, что она уже пробудилась ото сна: «Госпожа Камюзо по чрезвычайно спешному делу, известному мадам!»
Вот почему маркиза приказала, чтобы Амели впустили к ней немедленно. Жена следователя была внимательно выслушана, начиная с первых же ее слов:
– Маркиза, мы погибли, отомстив за вас…
– В чем дело, душенька?.. – отвечала маркиза, разглядывая г-жу Камюзо при слабом свете из полуоткрытой двери. – Вы сегодня божественны! Как вам к лицу эта шляпка! Где вы нашли этот фасон?
– Сударыня, вы чересчур добры… Но вы знаете, что Камюзо, когда допрашивал Люсьена де Рюбампре, довел его до отчаяния, и молодой человек повесился в тюрьме?
– Что станется с госпожой де Серизи? – воскликнула маркиза, разыгрывая полное неведение из желания, чтобы ей все рассказали сначала.
– Увы! Она, говорят, лишилась рассудка… – отвечала Амели. – Ах, если бы вы пожелали попросить его высокопревосходительство вызвать тотчас же эстафетой моего мужа из Дворца правосудия, министр узнал бы диковинные тайны, и он, конечно, сообщил бы о них королю. Враги Камюзо закроют тогда свой рот!
– Кто же эти враги Камюзо? – спросила маркиза.
– Генеральный прокурор, а теперь и господин де Серизи…
– Хорошо, душенька, – отвечала г-жа д'Эспар, обязанная господам де Гранвилю и де Серизи своим поражением в гнусном деле, затеянном ею с целью взять под опеку своего мужа, – я беру вас под свою защиту. Я не забываю ни друзей, ни врагов.
Она позвонила, приказала раздвинуть занавеси, и дневной свет потоком ворвался в комнату; она потребовала пюпитр, горничная подала его. Маркиза быстро набросала маленькую записку.
– Пускай Годар верхом отвезет эту записку в канцелярию, ответа не нужно, – сказала она горничной.
Горничная тотчас же вышла, но, вопреки приказанию, постояла несколько минут у двери.
– Стало быть, раскрыты важные тайны? – спросила г-жа д'Эспар. – Ну, рассказывайте же, душенька! И Клотильда де Гранлье замешана в этом деле?
– Маркиза узнает все от его высокопревосходительства. Муж ничего мне не рассказал, он лишь предупредил меня о грозящей ему опасности. Для нас было бы лучше, если бы госпожа де Серизи умерла, чем лишилась рассудка!
– Бедная женщина! – сказала маркиза. – Но как знать, не лишилась ли она рассудка гораздо ранее?..
Светские женщины, произнося на различный манер одну и ту же фразу, предлагают слуху внимательного наблюдателя богатейшую гамму музыкальных оттенков. Они вкладывают всю свою душу в голос и во взгляд, запечатлевая ее в свете и в воздухе, в двух сферах действия глаз и гортани. По интонации, с какою были сказаны эти слова: «Бедная женщина!», – можно было заметить торжество удовлетворенной ненависти, радость победы. О, каких только несчастий не пожелала она покровительнице Люсьена! Жажда мести, не иссякающая и со смертью предмета ненависти, жажда, которую нельзя уже утолить, внушает мрачный ужас… Даже сама г-жа Камюзо, жестокая, злобная и вздорная по природе, была ошеломлена. Она не нашлась, что ответить, и примолкла.
– И в самом деле, Диана мне говорила, что Леонтина ездила в тюрьму, – продолжала г-жа д'Эспар. – Милая герцогиня в отчаянии от такого скандала: ведь она питает большую слабость к госпоже де Серизи; да это и понятно, они обе, почти одновременно, обожали этого глупого мальчишку Люсьена; а ничто так не связывает и не разъединяет женщин, как преклонение перед одним алтарем! И верная подруга провела вчера часа два в спальне Леонтины. Кажется, несчастная графиня говорила ужасные вещи! Мне передавали, что просто омерзительно было слушать! Порядочная женщина должна сдерживать подобные порывы!.. Фи! Ведь это любовь была чисто физическая! Герцогиня заезжала ко мне; она была бледна как смерть, но держалась мужественно! В этой истории есть чудовищные вещи…
– Мой муж в свое оправдание расскажет все до тонкости министру юстиции, ведь всем им хотелось спасти Люсьена, а господин Камюзо, маркиза, исполнил свой долг. Судебный следователь обязан допросить человека, заключенного в секретную, в срок, положенный законом!.. Надо же было о чем-то спросить несчастного мальчика, а он не понял, что его допрашивают только для формы, и сразу же признался.
– Он был глуп и неучтив! – сухо сказала г-жа д'Эспар.
Жена следователя умолкла, услыхав этот приговор.
– Не вина Камюзо, что мы потерпели неудачу в деле об опеке над господином д'Эспаром, я всегда буду это помнить! – продолжала маркиза после короткого молчания. – Люсьен, господин де Серизи, Бован и де Гранвиль – вот кто повинен в нашей неудаче. Когда-нибудь бог отомстит за меня! Не видать счастья этим людям. Будьте покойны, я сейчас пошлю кавалера д'Эспара к министру юстиции, чтобы тот поспешил вызвать вашего мужа, если это нужно…
– Ах, сударыня…
– Послушайте! – сказала маркиза. – Я обещаю вам орден Почетного легиона, и немедленно, завтра же! Вот блестящее свидетельство, что вашим поведением в этом деле удовлетворены. Да, да! Это будет лишним порицанием Люсьену, подтверждением его виновности! Редко кто вешается ради своего удовольствия… А теперь прощайте, душенька!
Десять минут позже г-жа Камюзо входила в спальню прекрасной Дианы де Монфриньез, которая легла в час, но не уснула еще и в девять.
Как бы мало чувствительны ни были герцогини, женщины с каменными сердцами, им невыносимо видеть своих приятельниц во власти безумия, это зрелище производит на них глубокое впечатление.
Притом связь Дианы с Люсьеном, пускай и оборванная года полтора назад, оставила в памяти герцогини достаточно воспоминаний, и роковая смерть этого юноши была для нее страшным ударом. Этот молодой красавец, такой очаровательный, такой поэтичный, так умевший любить, всю ночь мерещился ей с петлей на шее, точь-в-точь как изображала его Леонтина в своем горячечном бреду. Она хранила красноречивые, упоительные письма Люсьена, сравнимые лишь с письмами Мирабо к Софи, но более литературные, более изысканные, ибо эти письма были продиктованы самой неистовой страстью – тщеславием! Счастье обладать очаровательнейшей герцогиней, готовой для него на любые безумства, пусть даже тайные, вскружило Люсьену голову. Гордость любовника вдохновила поэта. И герцогиня хранила эти волнующие письма, как иные старцы хранят непристойные гравюры, ради неумеренных похвал, воздаваемых тому, что менее всего было в ней от герцогини.
– И он умер в темнице! – говорила она себе, испуганно пряча письма, потому что послышался осторожный стук в дверь.
– Госпожа Камюзо по крайне важному делу, касающемуся герцогини, – сказала горничная.
Диана вскочила в полном смятении.
– О! – сказала она, глядя на Амели, лицо которой приняло выражение, соответствующее обстоятельствам. – Я обо всем догадываюсь! Дело касается моих писем… Ах, мои письма!.. Ах, мои письма!.. – И она упала на кушетку. Она вспомнила, что в упоении страсти отвечала Люсьену в том же тоне, прославляя поэтический дар мужчины, в каком он воспевал славу женщины. И какие это были дифирамбы!
– Увы! Да, мадам, я пришла, чтобы спасти нечто большее, чем вашу жизнь! Дело касается вашей чести… Придите в себя, оденьтесь, поедемте к герцогине де Гранлье, ведь, к счастью, опорочены не только вы.
– Но мне говорили, что Леонтина сожгла вчера в суде все письма, захваченные у нашего бедного Люсьена?
– Ах, мадам! У Люсьена был двойник в лице Жака Коллена! – воскликнула жена следователя. – Вы забываете об этом страшном содружестве! Оно-то, конечно, и есть единственная причина смерти этого прелестного и достойного сожаления юноши! Ну, а тот, каторжный Макиавелли, никогда не теряет головы! Господин Камюзо уверен, что это чудовище спрятало в надежном месте письма, чересчур уже опорочивающие любовниц своего…
– Своего друга, – живо сказала герцогиня. – Вы правы, душенька, надобно поехать посоветоваться к де Гранлье. Нас всех касается это дело, но к счастью, Серизи поддержит нас…
Крайняя опасность оказывает на душу, как то было видно из сцен в Консьержери, такое же страшное воздействие, как некоторые сильные реактивы на тело человека. Это нравственная вольтова дуга. Как знать, не близок ли тот день, когда откроют способ при помощи химии превращать чувство в особый ток, сходный с электрическим?
И каторжник и герцогиня одинаково ответили на удар. Эта женщина, разбитая, полуживая, утратившая сон, эта герцогиня, столь взыскательная в выборе наряда, обрела силу затравленной львицы и присутствие духа, достойное генерала на поле боя. Диана сама отыскала все принадлежности туалета и смастерила наряд с быстротою гризетки, которая сама себе горничная. Это было настолько необычно, что с минуту служанка стояла как вкопанная, так ее поразила госпожа, которая, красуясь в одной сорочке перед женой следователя, возможно, не без удовольствия позволяла угадывать этой женщине сквозь легкое облако льняной ткани свое белоснежное тело, совершенное, как у Венеры, изваянной Кановой. Она напоминала драгоценность, обернутую в шелковую бумагу. Диана сразу догадалась, где лежит ее корсет для любовных похождений – корсет, застегивающийся спереди и тем избавлявший женщину от лишней траты времени и сил при шнуровке. Она уже оправила кружева рубашки и должным образом расположила прелести корсажа, когда горничная принесла нижнюю юбку и закончила обряд туалета, набросив на госпожу платье. Покамест Амели, по знаку горничной, застегивала платье сзади, помогая герцогине, субретка сбегала за фильдекосовыми чулками, бархатными ботинками со шнуровкой, шалью и шляпой. Амели и горничная обули герцогиню.
– Вы самая красивая женщина, какую мне довелось видеть, – ловко ввернула Амели, поцеловав в страстном порыве точеное атласное колено Дианы.
– Мадам не имеет себе равной, – сказала горничная.
– Полно, Жозетта, замолчите, – прервала ее герцогиня. – Вас, конечно, ожидает карета? – обратилась она к г-же Камюзо. – Поедемте, душенька, мы поговорим в пути. – И герцогиня, на ходу надевая перчатки, сбежала вниз по парадноой лестнице особняка Кадиньянов, чего с ней никогда еще не случалось.
– В особняк де Гранлье, и поживей! – сказала она одному из своих слуг, знаком приказав ему стать на запятки.
Лакей повиновался с неохотой, ибо карета была наемная.
– Ах, герцогиня, вы не сказали мне, что у молодого человека были ваши письма! Знай это Камюзо, он действовал бы по-иному…
– Я была так озабочена состоянием Леонтины, что совсем забыла о себе, – сказала она. – Бедняжка почти обезумела третьего дня… Посудите сами, в какое смятение привело ее это роковое событие! Ах, если бы вы знали, душенька, какое утро мы пережили вчера… Нет, право, откажешься от любви! Вчера нас обоих – Леонтину и меня – какая-то страшная старуха, торговка нарядами, настоящая бой-баба, потащила в этот смрадный, кровавый вертеп, именуемый судом… сопровождая Леонтину во Дворец правосудия, я ей говорила: «Не правда ли, тут можно упасть на колени и кричать: «Боже, спаси меня, я больше не буду!» – как госпожа Нусинген, когда на пути в Неаполь их корабль застигла в Средиземном море страшная буря… Конечно, эти два дня не забудешь всю жизнь! Ну, не глупы ли мы, что пишем письма? Но ведь любишь! Получаешь эти строки, пробегаешь их глазами, они жгут сердце, и вся загораешься! И забываешь осторожность… и отвечаешь…
– Зачем отвечать, если можно действовать? – сказала г-жа Камюзо.
– Губить себя так возвышенно! – гордо отвечала герцогиня. – В этом сладострастие души.
– Красивым женщинам, – скромно заметила г-жа Камюзо, – все простительно, ведь у них случаев для этого гораздо больше, нежели у нас!
Герцогиня улыбнулась.
– Мы чересчур щедры, – продолжала Диана де Монфриньез, – я буду поступать теперь, как эта жестокая госпожа д'Эспар.
– А как она поступает? – с любопытством спросила жена следователя.
– Она написала тысячу любовных записок…
– Так много?.. – вскричала г-жа Камюзо, перебивая герцогиню.
– И подумайте, дорогая, там не найти ни одной фразы, которая бы ее опорочила…
– Вы были бы неспособны соблюсти такое хладнокровие, такую осторожность, – отвечала г-жа Камюзо. – Вы настоящая женщина, один из тех ангелов, что не могут устоять перед дьявольским…
– Я поклялась никогда более не прикасаться к перу. Во всю мою жизнь я писала только лишь несчастному Люсьену… Я буду хранить его письма до самой смерти! Душенька, это огонь, а мы в нем порою нуждаемся…
– А если их найдут? – сказала Камюзо, чуть жеманясь.
– О, я скажу, что это переписка из начатого романа! Ведь я сняла с них копии, дорогая, а подлинники сожгла!
– О, мадам! В награду позвольте мне их прочесть…
– Возможно, – сказала герцогиня. – И тогда вы, дорогая, убедитесь, что Леонтине он не писал таких писем!
В этих словах сказалась вся женщина, женщина всех времен и всех стран.
Подобно лягушке из басни Лафонтена, г-жа Камюзо пыжилась от гордости, предвкушая удовольствие войти к де Гранлье вместе с Дианой де Монфриньез. Нынче утром она завяжет знакомство, столь лестное для ее тщеславия. Ей уже грезилось, что ее величают госпожой председательшей. Она испытывала неизъяснимое наслаждение, предвкушая победу наперекор всем преградам, из которых главной была бездарность ее мужа, еще скрытая от других, но ей хорошо известная. Выдвинуть человека заурядного – какой соблазн для женщин и королей! Сколько великих артистов, поддавшись подобному искушению, выступали сотни раз в плохой пьесе! О, это опьянение себялюбием! Это своего рода разгул власти. Власть доказывает самому себе свою силу своеобразным превышением своих прав, увенчивая какое-нибудь ничтожество пальмами успеха, оскорбляя гения, единственную силу, не подвластную деспотам. Возведение в сенаторы лошади Калигулы, этот императорский фарс никогда не сходил и не сойдет со сцены.
Несколько минут спустя Диана и Амели от элегантного беспорядка, царившего в спальне прекрасной Дианы, перешли к чинной роскоши, величественной и строгой, которой отличался дом герцогини де Гранлье.
Эта португалка, чрезвычайно набожная, вставала всегда в восемь часов утра и отправлялась слушать мессу в часовне Сент-Валер, в приходе св. Фомы Аквинского, стоявшей в ту пору на площади Инвалидов. Эта часовня, ныне разрушенная, была в свое время перенесена на Бургундскую улицу, где позже предполагалось построить в готическом стиле храм, как говорят, в честь святой Клотильды.
Выслушав Диану де Монфриньез, шепнувшую ей на ухо лишь несколько слов, благочестивая дама направилась к г-ну де Гранлье и тотчас же воротилась с ним. Герцог окинул г-жу Камюзо тем беглым взглядом, которым вельможи определяют всю вашу сущность, а подчас и самую душу. Наряд Амели сильно помог герцогу разгадать эту мещанскую жизнь от Алансона до Манта и от Манта до Парижа.
Ах, если бы жена следователя подозревала об этом даре герцогов, она не могла бы так мило выдержать учтиво-насмешливый взгляд, в котором она приметила лишь учтивость. Невежество обладает теми же преимуществами, что и хитрость.
– Госпожа Камюзо, дочь Тириона, королевского придверника, – сказала герцогиня мужу.
Герцог с преувеличенной любезностью отдал поклон судейской даме, и лицо его утратило долю своей важности. Вошел слуга герцога, которого господин вызвал звонком.
– Возьмите карету, поезжайте на улицу Оноре-Шевалье. Там у двери дома номер десять позвоните. Вам откроет слуга, скажите ему, что я прошу его хозяина приехать ко мне. Вы привезете сюда этого господина, если он окажется дома. Действуйте от моего имени, это устранит все препятствия. Постарайтесь все сделать в четверть часа.
Как только ушел слуга герцога, появился слуга герцогини.
– Поезжайте от моего имени к герцогу де Шолье, передайте ему вот эту карточку.
Герцог вручил ему визитную карточку, сложенную особым образом. Когда эти два близких друга испытывали необходимость срочно увидеться по неотложному и тайному делу, о котором писать было нельзя, они таким способом предупреждали об этом один другого.
Видимо, во всех слоях общества обычаи сходны, они отличаются лишь манерой, формой, оттенком. Высший свет пользуется своим жаргоном, но этот жаргон именуется стилем.
– Уверены ли вы, сударыня, в существовании писем, якобы писанных мадемуазель Клотильдой де Гранлье этому молодому человеку? – спросил де Гранлье. И он бросил на г-жу Камюзо взгляд, как моряк бросает лот, измеряя глубину.
– Я их не видела, но этого надобно опасаться, – отвечала она, трепеща.
– Моя дочь не могла написать ничего такого, в чем нельзя было бы признаться! – вскричала герцогиня.
«Бедная герцогиня!» – подумала Диана, в свою очередь кинув да герцога взгляд, заставивший его вздрогнуть.
– Что скажешь, душа моя Диана? – сказал герцог на ухо герцогине де Монфриньез, уводя ее в нишу окна.
– Клотильда без ума от Люсьена, дорогой герцог, она назначила ему свидание перед своим отъездом. Не будь молодой Ленонкур, она, возможно, убежала бы с ним в лесу Фонтенебло! Я знаю, что Люсьен писал Клотильде письма, способные вскружить голову даже святой. Все мы трое, дочери Евы, опутаны змием переписки…
Герцог и Диана вышли из ниши и присоединились к герцогине и г-же Камюзо, которые вели тихую беседу. Амели, следуя наказам герцогини де Монфриньез, притворялась святошей, чтобы расположить к себе сердце гордой португалки.
– Мы в руках гнусного беглого каторжника! – сказал герцог, пожимая плечами. – Вот что значит принимать у себя людей, в которых не вполне уверен! Прежде чем допускать кого-либо в свой дом, надобно хорошенько разузнать, кто его родители, каково его состояние, какова его прошлая жизнь.
В этой фразе и заключена с аристократической точки зрения вся мораль нашей истории.
– Об этом поздно говорить, – сказала герцогиня де Монфриньез. – Подумаем, как спасти бедную госпожу де Серизи, Клотильду и меня…
– Нам остается лишь подождать Анри, я его вызвал; но все зависит от того лица, за которым послан Жантиль. Дай бог, чтобы этот человек был в Париже! Сударыня, – сказал он, относясь к г-же Камюзо, – благодарствую за ваши заботы…
То был намек г-же Камюзо. Дочь королевского придверника была достаточно умна, чтобы понять герцога, она встала; но герцогиня де Монфриньез с той очаровательной грацией, которая завоевала ей доверие и дружбу стольких людей, взяла Амели за руку и особо представила ее вниманию герцога и герцогини.
– Ради меня лично, если бы она даже и не поднялась с зарей, чтобы спасти нас всех, я прошу вас не забывать о моей милой госпоже Камюзо. Ведь она уже оказала мне услуги, которые не забываются, потом она всецело нам предана, – она и ее муж. Я обещала продвинуть Камюзо и прошу вас покровительствовать ему прежде всего из любви ко мне.
– Вы не нуждаетесь в этом похвальном отзыве, – сказал герцог г-же Камюзо. – Гранлье никогда не забывают оказанных им услуг. Приверженцам короля представится в недалеком будущем случай отличиться; от них потребуется преданность, ваш муж будет выдвинут на боевой пост…
Госпожа Камюзо удалилась гордая, счастливая, задыхаясь от распиравшего ее чувства самодовольства. Она вернулась домой торжествующая, она восхищалась собою, она насмехалась над неприязнью генерального прокурора. Она говорила про себя: «А что, если бы мы сбросили господина де Гранвиля?»
Госпожа Камюзо ушла вовремя. Герцог де Шолье, один из любимцев короля, встретился в подъезде с этой мещанкой.
– Анри! – воскликнул герцог де Гранлье, как только доложили о прибытии его друга. – Скачи, прошу тебя во дворец, постарайся поговорить с королем, ведь речь идет… – И он увлек герцога в оконную нишу, где только что беседовал с легкомысленной и обворожительной Дианой.
Время от времени герцог де Шолье поглядывал украдкой на сумасбродную герцогиню, которая, разговаривая с благочестивой герцогиней и выслушивая ее наставления, отвечала на взгляды де Шолье.
– Милое дитя, – сказал наконец герцог де Гранлье, закончив секретную беседу, – будьте же благоразумны! Послушайте, – прибавил он, взяв руку Дианы, – соблюдайте приличия, не вредите себе в мнении общества, никогда более не пишите! Письма, дорогая моя, причинили столько же личных несчастий, сколько и несчастий общественных… Что было бы простительно молодой девушке, как Клотильда, полюбившей впервые, нельзя извинить…
– Старому гренадеру, видавшему виды! – надув губки, сказала герцогиня. Эта гримаса и шутка вызвали улыбку на озабоченных лицах обоих герцогов и даже у благочестивой герцогини. – Вот уже четыре года, как я не написала ни одной любовной записки!.. Ну, мы спасены? – спросила Диана, которая ребячилась, чтобы скрыть тревогу.
– Нет еще! – сказал герцог де Шолье. – Вы не знаете, как трудно для власти разрешить себе произвольные действия. Для конституционного монарха это то же самое, что неверность для замужней женщины. Прелюбодеяние.
– Скорей грешок! – сказал герцог де Гранлье.
– Запретный плод! – продолжала Диана, улыбаясь. – О, как бы я желала быть правительством, ведь у меня не водится более этих плодов, я все их съела.
– О дорогая, дорогая! – сказала благочестивая герцогиня. – Вы заходите чересчур далеко.
Оба герцога, услыхав, что к подъезду подкатила карета с тем особым грохотом, какой производят рысаки, осаженные на полном галопе, откланялись дамам и, оставив их наедине, пошли в кабинет герцога де Гранлье, куда в ту минуту входил обитатель улицы Оноре-Шевалье: то был не кто иной, как начальник дворцовой контрполиции, полиции политической, – таинственный и всесильный Корантен.
– Проходите, – сказал герцог де Гранлье, – проходите, господин де Сен-Дени.
Корантен, изумленный памятью герцога, прошел первым, отдав глубокий поклон обоим герцогам.
– Я по поводу того же лица, или по причине, с ним связанной, сударь мой, – сказал герцог де Гранлье.
– Но он умер, – сказал Корантен.
– Остался его друг, – заметил герцог де Шолье, – опасный друг.
– Каторжник Жак Коллен! – отвечал Корантен.
– Говори, Фердинанд, – сказал герцог де Шолье бывшему послу.
– Этого проходимца следует опасаться, – снова заговорил герцог де Гранлье, – он завладел письмами госпожи де Серизи и госпожи де Монфриньез, писанными Люсьену Шардону, его любимцу, чтобы потребовать за них выкуп. По-видимому, молодой человек ввел в систему выманивать любовные письма в обмен на свои: говорят, мадемуазель де Гранлье написала их несколько; этого по крайней мере опасаются, а мы не можем ничего узнать, она в отъезде…
– Мальчуган, – отвечал Корантен, – был неспособен предпринимать такого рода меры!.. Это предосторожность аббата Карлоса Эррера! – Корантен оперся о локотники кресел, в которые он сел, и, подперев рукою голову, погрузился в размышления. – Деньги!.. У этого человека их больше, чем у нас с вами, – сказал он. – Эстер Гобсек служила ему приманкой, чтобы выудить около двух миллионов из этого пруда, полного золотых монет, который именуется Нусингеном… Господа, прикажите кому следует дать мне полную власть, и я избавлю вас от этого человека!..
– А… письма? – спросил Корантена герцог де Гранлье.
– Послушайте, господа, – продолжал Корантен, вставая и обращая к ним свою лисью мордочку, изобличавшую крайнее волнение. Он сунул руки в карманы длинных черных фланелевых панталон. Этот великий актер исторической драмы нашего времени, надев жилет и сюртук, не сменил утренних панталон: он слишком хорошо знал, как благодарны сильные мира сего за быстроту в известных обстоятельствах. Он непринужденно прохаживался по кабинету, рассуждая вслух, точно был один в комнате: – Ведь это каторжник! Можно и без суда бросить его в секретную камеру в Бисетре, отрезать всякую возможность общаться с кем-либо, и пусть он там подыхает… Но он мог дать распоряжение своим подручным, предвидя такой случай!
– Да ведь он был посажен в секретную сразу же, как только его захватили у этой женщины, совершенно неожиданно для него, – сказал герцог де Гранлье.
– Разве существуют секретные для такого молодца? – отвечал Корантен. – Он так же силен, как… как я!
«Что же делать?» – спросили друг друга взглядом оба герцога.
– Мы можем немедленно препроводить мошенника на галеры… в Рошфор, он там издохнет через полгода! О! Никакого преступления! – сказал он в ответ на жест герцога де Гранлье. – Что вы хотите! Человек не выдерживает более шести месяцев изнурительно тяжелых каторжных работ, в знойную пору, среди ядовитых испарений Шаранты. Но это хорошо лишь в том случае, если наш молодчик никаких мер предосторожности не принял. Если же этот негодяй обезопасил себя от своих противников, а это вполне вероятно, тогда надо раскрыть, каковы эти предосторожности. Ежели нынешний держатель писем беден, можно его подкупить… Дело, стало быть, в том, чтобы заставить проговориться Жака Коллена! Вот так поединок! Я буду побежден в нем. Было бы лучше выкупить эти бумаги ценою других бумаг… бумагой о помиловании, и отдать этого человека в мое заведение. Жак Коллен – вот единственный человек, способный быть моим преемником, раз бедняга Контансон и мой дорогой Перад умерли! Жак Коллен убил двух несравненных шпионов, точно он желал очистить себе место. Надо, как вы изволите видеть, господа, дать мне полную свободу действий. Жак Коллен в Консьержери. Я поеду к господину Гранвилю в прокуратуру. Итак, пошлите туда какое-нибудь доверенное лицо, которое меня там встретит, ибо мне надобно иметь при себе либо рекомендательное письма к господину де Гранвилю, который меня не знает, – кстати письмо это я вручу председателю совета, – либо чрезвычайно внушительного сопровождающего… В вашем распоряжении полчаса времени, так как мне потребуется приблизительно полчаса, чтобы переодеться, то есть стать тем, кем я должен быть в глазах генерального прокурора.
– Сударь, – сказал герцог де Шолье, – мне известны ваши необычайные таланты, я прошу вас лишь сказать: да или нет. Отвечаете ли вы за успех?..
– Да, но заручившись самыми широкими полномочиями и вашим обещанием никогда не расспрашивать меня об этом. Мой план готов.
Мрачный его ответ вызвал у вельмож легкий озноб.
– Действуйте, сударь, – сказал герцог де Шолье. – Считайте это дело одним из тех, что вам обычно поручаются.
Корантен откланялся вельможам и ушел.
Анри де Ленонкур, для которого Фердинанд де Гранлье приказал заложить карету, тотчас же поехал к королю, так как он мог войти к нему в любое время по праву, присвоенному его должностью.
Таким образом, различные, но связанные между собой интересы низших и высших классов общества должны были волею необходимости столкнуться в кабинете генерального прокурора, будучи представлены тремя лицами: правосудие – г-ном де Гранвилем, семья – Корантеном и общественное зло – живым олицетворением необузданной силы, их грозным противником, Жаком Колленом.
Как страшен поединок правосудия и произвола, заключивших союз против каторги и ее уловок! Каторга – вот символ дерзновения, которое попирает всяческий расчет и всяческое благоразумие, не разбирает средств, не прикрывает произвол личиной лицемерия, являя собою гнусный образ вожделеющего голодного брюха – кровавый, скорый на руку бунт голода! Разве не столкнулись здесь нападающий и обороняющийся? Кража и собственность? Грозный вопрос состояния общественного и состояния естественного, разрешенный в самых узких рамках? Короче говоря, то была грозная, живая картина губительных для общества соглашений, в которые безвольные носители власти вступают с мятежной вольницей.
Когда генеральному прокурору доложили о г-не Камюзо, он сделал знак впустить его. Г-н де Гранвиль, предвидя это посещение, желал условиться со следователем о том, каким путем закончить дело Люсьена. Заключение, составленное им вместе с Камюзо накануне смерти бедного поэта, утратило весь смысл.
– Садитесь, пожалуйста, господин Камюзо, – сказал г-н де Гранвиль, опускаясь в кресло.
Прокурор, оставшись наедине со следователем, не скрывал от него своего угнетенного состояния. Взглянув на г-на де Гранвиля, Камюзо заметил на этом обычно замкнутом лице бледность почти мертвенную, крайнее утомление, полный упадок сил – все это говорило о страданиях, более жестоких, возможно, чем страдания приговоренного к смерти, которому писарь только что прочел отказ о помиловании. А между тем оглашение этого отказа на языке правосудия обозначает: «Готовься, настал твой последний час!»
– Я зайду позже, господин граф, – сказал Камюзо, – хотя дело безотлагательное…
– Останьтесь, – отвечал генеральный прокурор с достоинством. – Истинные судебные деятели должны мириться со всеми своими треволнениями и уметь таить их про себя. Моя вина, если вы заметили мое беспокойство.
Камюзо сделал неопределенный жест.
– Храни вас бог, господин Камюзо, от чрезвычайных трудностей нашей жизни! Не выдерживаешь и меньшего! Я провел ночь у моего ближайшего друга; у меня только двое друзей: граф Октав де Бован и граф де Серизи. Мы просидели, господин де Серизи, граф Октав и я, от шести часов вечера до шести часов утра в гостиной, по очереди сменяя друг друга у постели госпожи де Серизи. Всякий раз, входя в спальню, мы боялись, не умерла ли она или, быть может, лишилась рассудка окончательно! Деплен, Бьяншон, Синар и две сиделки не выходили из спальни. Граф обожает свою жену. Вообразите, какова была ночь! Я провел ее между женщиной, обезумевшей от любви, и другом, обезумевшем от отчаяния! Государственный человек не выказывает отчаяния, словно какой-нибудь глупец! Серизи сидел в креслах, сдержанный, точно в Государственном совете, желая обмануть нас наружным спокойствием. Но капли пота выступили на этом лбу, склонившемся под тяжестью такого усилия. Побежденный сном, я задремал и проспал от пяти до половины восьмого, а в половине девятого я уже должен был явиться сюда, чтобы отдать приказ о казни. Поверьте, господин Камюзо, когда судья блуждает всю ночь в безднах страдания, чувствуя на делах человеческих тяжесть десницы господней, разящей самые благородные сердца, наутро ему чрезвычайно трудно сесть за этот вот стол и хладнокровно сказать: «В четыре часа отсеките этому человеку голову! Уничтожьте божье создание, полное жизни, силы, здоровья!» А меж тем такова моя обязанность!.. Раздавленный горем, я должен отдать приказ установить эшафот. Осужденный не знает, что и судью гнетет смертная тоска. В это мгновение, связанные листком бумаги, я – общество, которое мстит, он – преступление, которое несет возмездие, мы оба являем собою два лика одного и того же долга, два существования, соединенные на миг мечом закона. Но глубочайшая скорбь судьи… кого она печалит? И кто ее утешит?.. Доблесть наша в том, чтобы похоронить ее глубоко в сердце! Священник, посвятивший жизнь богу, солдат, тысячу раз умирающий за отечество, по моему мнению, счастливее судьи с его вечными сомнениями, опасениями, с его страшной ответственностью.
– Вам известно, кто должен быть казнен? – продолжал генеральный прокурор. – Молодой человек двадцати семи лет, красавец собою, как и наш вчерашний самоубийца, белокурый, как он; нам отдали эту голову вопреки нашим ожиданиям, ибо он был уличен только в укрывательстве! Мальчуган не сознался, даже будучи осужден! Он более двух месяцев упорно утверждает, что невиновен, несмотря ни на какие испытания. Вот уже два месяца, как у меня на плечах две головы! О, за его признание я отдал бы год жизни, ибо надо успокоить присяжных! Посудите, какой это будет удар по правосудию, если когда-либо откроется, что преступление, которое будет стоит жизни, совершено другим! В Париже все приобретает страшную серьезность, и самые ничтожные судебные происшествия становятся политическими. Суд присяжных – установление, которое революционные законодатели считали таким надежным оплотом общества, – это элемент общественного разрушения, ибо он не отвечает своей цели: он недостаточно защищает общество. Суд присяжных играет своими обязанностями. Присяжные делятся на два лагеря, один из которых не желает более смертной казни, а отсюда следует полное нарушение равенства перед законом. За такое страшное преступление, как отцеубийство, выносят в одном департаменте оправдательный приговор, в то время как в другом – заурядное, так сказать, преступление карается смертью! Что было бы, если бы в нашем округе, в Париже, казнили невиновного?
– Это беглый каторжник, – робко заметил г-н Камюзо.
– Он стал бы в руках оппозиции и печати пасхальным агнцем! – воскликнул г-н де Гранвиль. – Это было бы для оппозиции главным козырем, чтобы обелить его! Скажут, что он корсиканец, фанатик обычаев своей страны, и его преступление лишь следствие вендетты!.. На этом острове принято убивать врага, и сам убийца, как и все окружающие, считают себя человеком безукоризненной чести.
Ах, истинные судьи чрезвычайно несчастны! Помилуйте! Они должны бы жить обособленно от общества, как некогда жрецы. Свет видел бы их только в определенные часы, когда они выходят из своих келий, престарелые, почтенные, творить суд на манер первосвященников древности, объединявших собою власть судебную и власть жреческую! Нас лицезрели бы только в наших судейских креслах!.. А сейчас нас видят, когда мы страдаем или веселимся, как простые смертные! Нас видят в гостиных, в семье, рядовыми гражданами со всеми человеческими страстями, и мы можем возбудить смех вместо ужаса.
Этот крик души, сопровождаемый минутами молчания, восклицаниями, жестами, придававшими ему особую выразительность, которую трудно передать словами, заставил Камюзо вздрогнуть.
– Господин граф, – сказал Камюзо, – я со вчерашнего дня также прохожу школу страданий, связанных с нашим делом!.. Я сам чуть было не умер, узнав о смерти этого молодого человека!.. Он не понял моего сочувствия к нему; несчастный сам себя погубил…
– Да не нужно было его допрашивать! – вскричал г-н Гранвиль. – Так просто оказать услугу, воздержавшись от…
– А закон? – возразил Камюзо. – Ведь он был под арестом уже двое суток!..
– Несчастье свершилось, – продолжал генеральный прокурор. – Я по мере сил исправил то, что, конечно, непоправимо. Моя карета и мои люди будут следовать за гробом этого бедного малодушного поэта. Серизи поступает, как я; более того, он принимает на себя поручение, данное ему несчастным юношей; он будет его душеприказчиком. Этим обещанием он добился от жены взгляда, говорившего, что рассудок не вполне ее покинул. Наконец граф Октав лично присутствует на похоронах.
– Тогда, господин граф, – сказал Камюзо, – закончим наше дело! У нас остался подследственный, чрезвычайно опасный. Вы его знаете так же хорошо, как и я: это Жак Коллен. Негодяй будет изобличен…
– Мы погибли! – вскричал г-н де Гранвиль.
– В настоящую минуту он в камере вашего осужденного. Когда-то на галерах этот юноша был для него тем же, чем Люсьен в Париже… его любимцем! Биби-Люпен перерядился жандармом, чтобы присутствовать при свидании.
– Во что только не вмешивается уголовная полиция! – сказал генеральный прокурор. – Она должна действовать лишь по моим приказаниям.
– Вся Консьержери узнает, что мы поймали Жака Коллена… Так вот, я пришел вам сказать, что этот крупный и дерзкий преступник владеет, по-видимому, письмами госпожи де Серизи, герцогини де Монфриньез и мадемуазель Клотильды де Гранлье.
– Вы в этом уверены? – спросил г-н де Гранвиль, лицо которого выдало боль, причиненную ему этим сообщением.
– Судите сами, граф, прав ли я, что опасаюсь такого несчастья. Когда я развернул связку писем, захваченных у этого несчастного молодого человека, Жак Коллен бросил на них проницательный взгляд и самодовольно улыбнулся; в значении этой улыбки судебный следователь ошибиться не может. Такой закоренелый злодей, как Жак Коллен никогда не выпустит из рук подобное оружие. Что вы скажете, если эти документы очутятся в руках защитника, которого мошенник выберет среди врагов правительства и аристократии? Моя жена пользуется благосклонностью госпожи де Монфриньез, она поехала предупредить герцогиню, и сейчас они должны быть у де Гранлье, чтобы держать совет…
– Привлекать к суду такого человека немыслимо! – воскликнул генеральный прокурор, вставая и прохаживаясь по кабинету большими шагами… – Он, конечно, спрятал бумаги в надежном месте…
– Я знаю где, – сказал Камюзо. Этими словами следователь изгладил все предубеждения, которые возникли против него у генерального прокурора.
– Вот как! – сказал г-н де Гранвиль, садясь.
– Идя в суд, я много размышлял об этом прискорбном деле. У Жака Коллена есть тетка, тетка родная, а не подставная; насчет этой женщины политическая полиция дала сведения в префектуру. Он ученик и кумир этой женщины, сестры его отца; ее зовут Жакелина Коллен. У мошенницы свое заведение, она торговка подержанным платьем, и благодаря своему занятию она проникает во многие семейные тайны. Если Жак Коллен кому-либо и доверил спасительные для него бумаги, так только этой твари; арестуем ее…
Генеральный прокурор бросил на Камюзо острый взгляд, как бы желая сказать: «Он не так глуп, как я думал вчера; однако ж еще молод и зелен, чтобы взять в свои руки бразды правления».
– Но, чтобы добиться успеха, – продолжал Камюзо, развивая свою мысль, – надо отменить меры, принятые нами вчера, и я пришел просить ваших советов, ваших приказаний.
Генеральный прокурор взял нож для разрезания бумаги и стал постукивать им по краю стола, что свойственно всем людям, погруженным в глубокое раздумье.
– Три знатных семьи в опасности! – вскричал он. – Нельзя допустить ни одного промаха!.. Вы правы. Прежде всего последуем аксиоме Фуше: арестуем! Надо сейчас же перевести Жака Коллена обратно в секретную.
– Стало быть, мы признаем в нем каторжника! Это значит опозорить память Люсьена…
– Какое ужасное дело! – сказал де Гранвиль. – Все тут опасно.
В это время вошел начальник Консьержери, разумеется, постучавшись прежде; но кабинет генерального прокурора охраняется столь бдительно, что только лицо, близко стоящее к прокуратуре, может постучать в его дверь.
– Господин граф, – сказал г-н Го, – подследственный, который именует себя Карлосом Эррера, желает с вами говорить.
– Он общался с кем-нибудь? – спросил генеральный прокурор.
– С заключенными. Он пробыл во дворе приблизительно с половины восьмого. Он виделся с приговоренным к смерти, и тот как будто с ним беседовал.
Одна фраза Камюзо, вдруг возникшая в памяти, лучом света озарила г-на де Гранвиля; он понял, как можно воспользоваться близостью Жака Коллена с Теодором Кальви, чтобы добиться выдачи писем. Обрадовавшись, что теперь у него есть повод отложить казнь, генеральный прокурор жестом подозвал к себе г-на Го.
– Мое намерение, – сказал он ему, – отложить казнь до завтрашнего утра; но в Консьержери никто не должен и подозревать об отсрочке. Молчание! Пускай думают, что палач ушел присмотреть за приготовлениями. Приведите сюда под надежной охраной испанского священника, его требует у нас испанское посольство. Пусть жандармы проводят аббата Карлоса по вашей лестнице, чтобы его никто не видел. Предупредите конвоиров, чтобы они вели его под руки и освободили только у дверей моего кабинета. Твердо ли вы уверены, господин Го, что этот опасный чужестранец не общался ни с кем, помимо заключенных?
– Ах, да!.. В тот момент, когда он выходил из камеры смертников, явилась дама, желавшая его видеть…
Тут оба судейских обменялись взглядом и каким взглядом!
– Какая дама? – спросил Камюзо.
– Одна из духовных его дочерей… маркиза, – отвечал г-н Го.
– Час от часу не легче! – воскликнул г-н де Гранвиль, глядя на Камюзо.
– И наделала же она хлопот жандармам и надзирателям! – продолжал озадаченный г-н Го.
– Любая мелочь приобретает значение в вашей работе, – строго сказал генеральный прокурор, – Консьержери недаром обнесена каменной стеною. Каким образом эта дама вошла туда?
– У нее было самое настоящее разрешение, – возразил тюремный начальник. – Эта прекрасно одетая дама, в полном параде, с гайдуком и выездным лакеем, приехала повидать своего духовника, перед тем как отправиться на похороны этого несчастного молодого человека, тело которого вы приказали…
– Покажите мне разрешение префектуры, – сказал г-н де Гранвиль.
– Оно выдано по ходатайству его сиятельства графа де Серизи.
– Какова собою эта женщина? – спросил генеральный прокурор.
– Нам всем показалось, что эта женщина порядочная.
– Вы видели ее лицо?
– На ней была черная вуаль.
– О чем они говорили?
– Ну, ханжа с молитвенником в руках… что она могла сказать? Просила благословления аббата, стала на колени…
– И долго они беседовали? – спросил судья.
– Меньше пяти минут; но никто ни слова не понял из их беседы, они, как видно, говорили по-испански.
– Расскажите нам все, сударь, – продолжал генеральный прокурор. – Повторяю, мельчайшая подробность имеет для нас существенный интерес. Да послужит это вам уроком.
– Она плакала, господин граф.
– Она в самом деле плакала?
– Видеть этого мы не могли, она закрыла лицо носовым платком. Она оставила триста франков золотом для заключенных.
– Это не она! – вскричал Камюзо.
– А Биби-Люпен, – продолжал г-н Го, – закричал: «Это шильница!»
– Он знает в этом толк! – сказал г-н де Гранвиль. – Отдайте приказ об аресте, – прибавил он, глядя на Камюзо, – тотчас же опечатайте у нее все! Но как она добилась рекомендации у господина де Серизи?.. Принесите мне разрешение префектуры… Ступайте, господин Го! Пришлите сюда, да поскорей, этого аббата. Пока он тут, опасность не возрастает. Ну, а за два часа беседы можно найти путь к душе человеческой.
– В особенности такому генеральному прокурору, как вы, – тонко заметил Камюзо.
– Нас будет двое, – учтиво отвечал генеральный прокурор.
И он снова погрузился в размышления.
– Следовало бы, – сказал он после долгого молчания, – учредить во всех приемных Консьержери должность надзирателя с хорошим окладом, в виде пенсии для самых опытных и преданных полицейских агентов, уходящих в отставку. Хорошо бы Биби-Люпену окончить там свои дни. У нас был бы свой глаз и ухо там, где требуется наблюдение более искусное, чем сейчас. Господин Го не мог рассказать нам ничего определенного.
– Он чересчур занят, – сказал Камюзо, – но в системе сообщения между секретными и нашими кабинетами существует большой недостаток. Чтобы попасть из Консьержери к нам, надо пройти коридорами, дворами, лестницами. Бдительность наших агентов ослабевает, тогда как заключенный постоянно думает о своем деле. Мне говорили, что какая-то дама уже очутилась однажды на пути Жака Коллена, когда его вели из секретной на допрос. Женщина добралась до жандармского поста, что наверху лесенки Мышеловки. Приставы мне об этом доложили, и я по этому случаю выбранил жандармов.
– О, здание суда нужно полностью перестроить, – сказал г-н де Гранвиль, – но на это потребуется двадцать – тридцать миллионов!.. Подите-ка попросите тридцать миллионов у палаты депутатов для нужд юстиции!
Послышались шаги нескольких человек и лязг оружия. По-видимому, привели Жака Коллена.
Генеральный прокурор надел на себя маску важности, под которой скрылись все человеческие чувства; Камюзо последовал примеру главы прокуратуры.
Когда служитель отпер дверь, вошел Жак Коллен; он был спокоен.
– Вы желали говорить со мною, – сказал судья, – я вас слушаю!
– Господин граф, я Жак Коллен, я сдаюсь!
Камюзо вздрогнул, генеральный прокурор был невозмутим.
– Вы, верно, понимаете, что у меня есть причины поступить так, – продолжал Жак Коллен, окидывая обоих судейских насмешливым взглядом. – Я, видимо, доставляю вам много хлопот: ибо останься я испанским священником, вы прикажете жандармерии довезти меня до Байонны, а там на границе испанские штыки избавят вас от меня!
Судьи хранили спокойствие и молчали.
– Господин граф, – продолжал каторжник, – причины, побуждающие меня действовать так, гораздо важнее тех, что я указал, хотя они сугубо личные; но я могу их открыть только вам… Ежели бы вы не побоялись…
– Кого бояться? Чего? – сказал граф де Гранвиль. Осанка, лицо, манера держать голову, движения, взгляд этого благородного генерального прокурора являли живой образ судьи, обязанного подавать собою прекраснейший пример гражданского мужества. В этот миг он был на высоте своего положения, достойный старых судей прежнего парламента, времен гражданских войн, когда они, сталкиваясь лицом к лицу со смертью, уподоблялись изваяниям из камня, воздвигнутым позднее в их честь.
– …Остаться наедине с беглым каторжником.
– Оставьте нас одних, господин Камюзо, – с живостью сказал генеральный прокурор.
– Я хотел предложить вам связать мне руки и ноги, – продолжал холодно Жак Коллен, обводя судей ужасающим взглядом. Помолчав, он продолжал серьезно: – Господин граф, я вас уважал, но сейчас я восхищаюсь вами…
– Стало быть, вы считаете себя страшным? – спросил судейский с презрительным видом.
– Считаю?.. – сказал каторжник. – Зачем? Я страшен, и я знаю это. – И Жак Коллен, взяв стул, уверенно сел, как человек, сознающий себя равным своему противнику в беседе, где одна сила вступает в полюбовную сделку с другой силой.
В это время Камюзо, уже переступивший порог и собиравшийся закрыть за собою дверь, воротился, подошел к г-ну де Гранвилю и передал ему две сложенные бумаги.
– Вот, пожалуйста, – сказал следователь генеральному прокурору, показывая ему одну из этих бумаг.
– Верните господина Го! – крикнул граф де Гранвиль, как только прочел знакомое ему имя горничной г-жи де Монфриньез.
Вошел начальник Консьержери.
– Опишите, – сказал ему вполголоса генеральный прокурор, – женщину, получившую свидание с подследственным.
– Малого роста, пухлая, дородная, коренастая, – отвечал г-н Го.
– Особа, которой выдано разрешение, высокая и сухощавая, – заметил г-н де Гранвиль. – Ну, а возраст?
– Лет шестьдесят.
– Дело касается меня, господа? – сказал Жак Коллен. – Знаете ли, – продолжал он добродушно, – не трудитесь понапрасну. Эта особа – моя тетка, родная тетка, женщина, старуха. Я могу избавить вас от лишних хлопот… Вы отыщете мою тетку только тогда, когда я этого захочу… Если мы будем так колесить, мы далеко не уедем.
– Господин аббат изъясняется по-французски уже не как испанец, – сказал г-н Го, – он больше не путается в словах…
– Потому что положение и так достаточно запутано, дорогой господин Го! – отвечал Жак Коллен с горькой усмешкой, называя тюремного начальника по имени.
В эту минуту г-н Го стремительно бросился к генеральному прокурору и шепнул ему:
– Берегитесь, господин граф, этот человек в ярости!
Господин де Гранвиль внимательно посмотрел на Жака Коллена, и ему показалось, что тот спокоен; но вскоре он признал справедливость слов начальника. Под этой обманчивой внешностью таилось холодное, внушающее страх раздражение дикаря. Глаза Жака Коллена говорили об угрозе вулканического извержения, кулаки были сжаты. Это был настоящий тигр, весь подобравшийся, чтобы кинуться на свою жертву.
– Оставьте нас одних, – серьезным тоном сказал генеральный прокурор, обращаясь к тюремному начальнику и следователю.
– Вы хорошо сделали, что отослали убийцу Люсьена!.. – сказал Жак Коллен, не заботясь, слышит его Камюзо или нет. – Я не совладал бы с собою, я бы его задушил…
Господин Гранвиль вздрогнул. Никогда он не видел таких налитых кровью человеческих глаз, такой бледности лица, такого обильного пота на лбу, такого напряжения мускулов.
– Какой смысл имело бы для вас это убийство? – спокойно спросил генеральный прокурор преступника.
– Каждый день вы мстите или думаете, что мстите за общество, господин граф, и спрашиваете меня, в чем смысл мести? Вы, стало быть, никогда не ощущали в своих жилах буйства крови, жаждущей мести… Разве вы не знаете, что этот болван следователь погубил его; ведь вы любили его, моего Люсьена, и он любил вас! Я знаю вас наизусть. Мой милый мальчик рассказывал мне обо всем вечерами, возвратясь домой; я укладывал его спать, как нянька укладывает малыша, и заставлял рассказывать… Он доверял мне все, до мельчайших ощущений… Ах, никогда самая добрая мать не любила так нежно своего единственного сына, как я любил этого ангела! Если бы вы знали! Добро расцветало в этом сердце, как распускаются цветы на лугах. Он был слабоволен – вот его единственный недостаток! Слаб, как струна лиры, такая звучная, когда она натянута… Это прекраснейшие натуры, их слабость не что иное, как нежность, восторженность, способность расцветать под солнцем искусства, любви, красоты, всего того, что в тысячах форм создано творцом для человека!.. Короче, Люсьен, так сказать, был неудавшейся женщиной. О, зачем я не сказал этого, пока был тут этот грубый скот… Ах, сударь, я совершил в моем положении подследственного перед лицом судьи то, что бог должен был сделать, чтобы спасти своего сына, если бы, пожелав его спасти, он предстал вместе с ним перед Пилатом!
Поток слез пролился из светло-желтых глаз каторжника, что еще недавно горели, как глаза волка, изголодавшегося за шесть месяцев в снежных просторах Украины. Он продолжал:
– Этот болван ничего не хотел слушать и погубил мальчугана!.. Сударь, я омыл труп мальчика своими слезами, взывая к тому, кого я не ведаю, но кто превыше нас! Это сделал я, не верующий в бога!.. (Не будь я материалистом, я не был бы самим собой!..) Этим я сказал все! Вы не знаете, ни один человек не знает, что такое горе, я один познал его. Скорбь иссушила мои слезы, и этой ночью я уже не мог плакать… А теперь я плачу, ибо я чувствую, что вы меня понимаете. Я увидел в вас, вот тут, сейчас, образ Правосудия… Ах, сударь… храни вас бог (я начинаю верить в него!), храни вас бог от того, что я испытываю… Проклятый следователь отнял у меня душу. Ах, сударь, сударь! В эту минуту хоронят мою жизнь, мою красоту, мою добродетель, мою совесть, все мои душевные силы! Вообразите себе собаку, из которой химик выпускает кровь… таков я! Я – это собака. Вот почему я пришел вам сказать: «Я Жак Коллен, я сдаюсь!..» Я это решил нынешним утром, когда пришли вырвать у меня это тело, которое я целовал, как безумец, как мать, как, верно, Дева целовала Иисуса в гробнице… Я хотел отдать себя в распоряжение правосудия без всяких условий… Теперь я вынужден поставить условия; вы сейчас узнаете, почему…
– Вы говорите с де Гранвилем или с генеральным прокурором? – сказал судья.
Два человека, имя которым преступление и правосудие, смотрели друг на друга. Каторжник глубоко взволновал судью, поддавшегося чувству божественного сострадания к этому отверженному. Он разгадал его жизнь и его чувства. Короче сказать, судья (судья всегда остается судьею), которому жизнь Жака Коллена со времени его побега была неизвестна, подумал, что можно овладеть этим преступником, виновным в конце концов лишь в подлоге. И он пожелал воздействовать великодушием на эту натуру, которая представляла собою, подобно бронзе, являющейся сплавом различных металлов, сочетание добра и зла. Притом г-н де Гранвиль, доживший до пятидесяти трех лет и не сумевший внушить к себе любовь, восхищался чувствительными натурами, подобно всем мужчинам, которые никогда не были любимы. Как знать, не отчаяние ли – удел многих мужчин, которым женщины дарят лишь уважение и дружбу, – составляло основу глубокой близости де Бована, де Гранвиля и де Серизи? Ибо общее несчастье, как и взаимное счастье, заставляет души настраиваться созвучно.
– У вас есть будущее! – сказал генеральный прокурор, бросая испытующий взгляд на угнетенного злодея.
Человек махнул рукой с глубоким равнодушием к своей судьбе.
– Люсьен оставил завещание, по которому вы получите триста тысяч франков…
– Бедный! Бедный мальчик! Бедный мальчик! – вскричал Жак Коллен. – Он был слишком честен! Что до меня, я воплощение всех дурных чувств; а он олицетворял собою добро, красоту, благородство, все возвышенное! Такие прекрасные души не изменяются! Он брал от меня только деньги, сударь!
Отречение, столь глубокое, столь полное, от собственной личности, в которую судья не мог вдохнуть жизнь, подтверждало так убедительно страшные признания этого человека, что г-н де Гранвиль стал на сторону преступника. Но оставался генеральный прокурор!
– Ежели ничто более вам не дорого, – спросил г-н де Гранвиль, – что же вы желали мне сказать?
– Разве недостаточно того, что я сдался вам? Вы, правда, напали на след, но ведь вы не держали меня еще в руках? В противном случае я причинил бы вам чересчур большие хлопоты.
«Вот так противник!» – подумал генеральный прокурор.
– Вы собираетесь, господин генеральный прокурор, отрубить голову невинному, а я нашел виновного, – продолжал серьезным тоном Жак Коллен, осушая слезы. – Я пришел сюда не ради них, а ради вас. Я пришел, чтобы избавить вас от угрызений совести, ведь я люблю всех, кто оказывал какое-либо внимание моему Люсьену, и я буду преследовать своей ненавистью всех, кто помешал ему жить… Какое мне дело до каторжника? – продолжал он после короткого молчания. – Каторжник в моих глазах почти то же, что для вас муравей. Я похож на итальянских разбойников, этих смельчаков! Если ценность путника выше ценности пули, они уложат его на месте! Я думал только о вас. Я поговорил по душам с этим молодым человеком, который мог довериться только мне, он мой товарищ по цепи! У Теодора доброе сердце; он хотел услужить любовнице, взяв на себя продажу или залого краденых вещей; но в нантерском деле он повинен не более, чем вы. Он корсиканец, а в их нравах – мстить, убивать друг друга, как мух. В Италии и в Испании жизнь человеческая не пользуется уважением, и все это там просто. Там думают, что у нас есть душа, нечто, созданное по образу и подобию нашему, то, что переживет нас, что будет жить вечно. Попробуйте-ка рассказать этот вздор нашим летописцам! В странах атеистических и философских за жизнь человека заставляют расплачиваться того, кто посягает на нее, и они правы, ведь там признают лишь материю, настоящее! Ежели бы Кальви указал вам женщину, передавшую ему краденые вещи, вы бы нашли не настоящего преступника, ибо он уже в ваших когтях, а сообщника, которого бедный Теодор не хочет погубить, потому что это женщина… Что вы хотите? В каждой среде есть своя честь, есть она и на каторге, есть и у жуликов! Теперь мне известен и убийца двух женщин и виновники этого преступления, дерзкого, беспримерного, загадочного; мне рассказали об этом во всех подробностях. Отложите казнь Кальви, вы все узнаете; но дайте мне слово, послав его снова на каторгу, смягчить наказание… Разве мыслимо в моем горе утруждать себя ложью? Вы это знаете. То, что я вам говорю, сущая правда…
– Для вас, Жак Коллен, хотя бы я этим умалил правосудие, ибо оно не должно вступать в подобные соглашения, я считаю возможным смягчить суровость моих обязанностей и снестись по этому делу с кем следует.
– Дарите ли вы мне эту жизнь?
– Возможно.
– Умоляю вас, сударь, дайте мне ваше слово, этого мне достаточно.
Чувство оскорбленной гордости заставило вздрогнуть г-на де Гранвиля.
– В моих руках честь трех знатных семейств, а в ваших – только жизнь трех каторжников, – продолжал Жак Коллен, – я сильнее вас.
– Вы можете опять очутиться в секретной; что вы тогда сделаете?.. – спросил генеральный прокурор.
– Э-э! Значит, игра продолжается, – сказал Жак Коллен, – Я-то говорил начистоту! Я говорил с господином де Гранвилем; но ежели тут генеральный прокурор, я опять беру свои карты и иду с козырей… А я уже было собрался отдать вам письма, посланные Люсьену мадемуазель Клотильдой де Гранлье!
Это было сказано таким тоном, с таким хладнокровием и сопровождалось таким взглядом, что г-н де Гранвиль понял: перед ним противник, с которым малейшая ошибка опасна.
– И это все, что вы просите? – спросил генеральный прокурор.
– Сейчас я буду говорить и о себе, – ответил Жак Коллен. – Честь семьи Гранлье оплачивается смягчением наказания Теодора: это называется много дать и мало получить. Что такое каторжник, осужденный пожизненно?.. Если он убежит, вы можете легко отделаться от него! Это вексель, выданный гильотине! Но однажды его уже запрятали в Рошфор с малоприятными намерениями, поэтому теперь вы должны дать мне обещание направить его в Тулон, приказав, чтобы там с ним хорошо обращались. Что касается до меня, я желаю большего. В моих руках письма к Люсьену госпожи де Серизи и герцогини де Монфриньез, и что за письма! Знаете, господин граф, публичные женщины, взявшись за перо, упражняются в хорошем слоге и возвышенных чувствах, ну а знатные дамы, что всю свою жизнь упражняются в хорошем слоге и возвышенных чувствах, пишут точь-в-точь так, как девки действуют. Философы найдут причину этой кадрили, я же не собираюсь ее искать. Женщина – низшее существо, она слишком подчинена своим чувствам. По мне, женщина хороша, когда она похожа на мужчину. Потому-то и письма этих милых герцогинь, обладающих мужским складом ума, верх искусства… О! Они превосходны от начала до конца, как знаменитая ода Пирона…
– В самом деле?
– Желаете поинтересоваться? – сказал Жак Коллен, улыбаясь.
Судье стало стыдно.
– Я могу дать вам их прочесть… Но довольно шутить! Ведь мы играем в открытую?.. Вы потом вернете мне письма и запретите шпионить за лицом, которое их принесет, следовать за ним и опознавать его.
– Это отнимет много времени? – спросил генеральный прокурор.
– Нет, сейчас половина десятого… – ответил Жак Коллен, посмотрев на стенные часы. – Ну что же! Через четыре минуты мы получим по одному письму каждой дамы; прочтя их, вы отмените гильотину! Окажись они иными, я не был бы так спокоен. К тому же дамы предупреждены…
Господин де Гранвиль жестом выразил удивление.
– Они теперь, верно, в больших хлопотах; они подымут на ноги министра юстиции, дойдут, до чего доброго, и до короля… Послушайте, даете мне слово не узнавать, кто принесет письма, не следить за этим лицом и не преследовать его в течение часа?
– Обещаю!
– Хорошо! Вы-то не пожелаете обмануть беглого каторжника. Вы из породы Тюреннов и верны своему слову, даже если дали его ворам. Ну, так вот! В настоящую минуту посреди залы Потерянных шагов стоит одетая в лохмотья старуха нищенка. Она, верно, беседует с одним из писцов о какой-нибудь тяжбе из-за смежной стены; пошлите за ней служителя, пускай он скажет так: «Dabor ti mandana». Она придет… Но не будьте жестоки понапрасну!.. Либо вы принимаете мои предложения, либо вы не желаете связываться с каторжником… Я повинен лишь в подлоге, имейте в виду!.. Так вот! Избавьте Кальви от страшной пытки туалета…
– Казнь уже отложена… – сказал г-н де Гранвиль Жаку Коллену. – Я не хочу, чтобы правосудие оказалось в долгу у вас!
Жак Коллен посмотрел на генерального прокурора с некоторым удивлением и увидел, что тот дернул шнурок звонка.
– Вам не вздумается сбежать?.. Дайте мне слово, я этим удовольствуюсь. Ступайте за этой женщиной…
Вошел канцелярский служитель.
– Феликс, отошлите жандармов, – сказал г-н де Гранвиль.
Жак Коллен был побежден.
В этом поединке с судьею он хотел поразить его своим величием, мужеством, великодушием, но судья его превзошел. И все же каторжник чувствовал немалое превосходство в том, что он разыграл правосудие, убедив его в невиновности преступника, и победоносно оспаривает человеческую голову; но то было превосходство немое, тайное, скрытое, тогда как Аист посрамлял его открыто, величественно!
В эту самую минуту, когда Жак Коллен выходил из кабинета г-на де Гранвиля, генеральный секретарь совета, депутат граф де Люпо, входил туда с каким-то болезненным на вид старичком. Этот старичок с пудреными волосами, холодным, мертвенным лицом, одетый в красновато-коричневое ватное пальто, как будто еще на дворе стояла зима, шел, точно подагрик, не доверяя собственным ногам, в непомерно больших башмаках из орлеанской кожи, опираясь на трость с золотым набалдашником; шляпу он держал в руке, в петлице сюртука красовалось семь орденских ленточек.
– Что случилось, мой дорогой Люпо? – спросил генеральный прокурор.
– Я послан принцем, – сказал он на ухо г-ну де Гранвилю, – Вам предоставляются неограниченные полномочия для изъятия писем госпожи де Серизи и госпожи де Монфриньез, а также мадемуазель Клотильды де Гранлье. Вы можете условиться с этим господином…
– Кто это? – шепотом спросил генеральный прокурор графа де Люпо.
– От вас, мой дорогой прокурор, у меня нет тайн! Это знаменитый Корантен. Его величество поручает вам лично изложить ему все обстоятельства этого дела и указать ему путь к успешному его завершению.
– Не откажите в услуге, – отвечал все так же тихо генеральный прокурор, – доложить принцу, что все закончено, что мне уже не понадобился этот господин, – прибавил он, указывая на Корантена. – Я буду просить у его величества указаний по поводу завершения этого дела, подлежащего ведению министра юстиции, ибо речь идет о двух помилованиях.
– Вы поступили мудро, предупредив события, – сказал де Люпо, пожимая руку генеральному прокурору, – король не желает накануне подготовляющихся больших перемен видеть пэрство и знатные фамилии ославленными, замаранными; это уже не просто уголовный процесс, это дело государственной важности…
– Но не забудьте сказать принцу, что, когда вы пришли, все уже было закончено!
– В самом деле?
– Полагаю.
– Ну, быть вам министром юстиции, когда теперешний министр юстиции станет канцлером, мой дорогой…
– Я не честолюбив, – отвечал генеральный прокурор.
Де Люпо, улыбаясь, направился к выходу.
– Попросите принца исходатайствовать для меня аудиенцию у короля минут на десять, так около половины третьего, – прибавил г-н де Гранвиль, провожая графа де Люпо.
– И вы не честолюбивы! – сказал де Люпо, бросив на г-на де Гранвиля лукавый взгляд. – Полноте, у вас двое детей, вы желаете быть по крайней мере пэром Франции…
– Если письма находятся у вас, господин генеральный прокурор, мое вмешательство излишне, – заметил Корантен, оставшись наедине с г-ном де Гранвилем, который разглядывал его с весьма понятным любопытством.
– Такой человек, как вы, никогда не может быть лишним в столь щекотливом деле, – отвечал генеральный прокурор, рассудив, что Корантен либо все понял, либо все слышал.
Корантен кивнул головой почти покровительственно.
– Известна ли вам, сударь, личность, о которой идет речь?
– Да, господин граф, это Жак Коллен, главарь общества Десяти тысяч, казначей трех каторг, беглый каторжник, скрывавшийся пять лет под сутаной аббата Карлоса Эррера. Как могли ему дать поручение от испанского короля к нашему покойному королю? Мы все здесь запутались в поисках истины! Я ожидаю ответа из Мадрида, куда я послал с доверенным лицом запрос. Этот каторжник владеет тайнами двух королей…
– Да, он человек крепкого закала! У нас может быть только два решения: либо привязать его к себе, либо избавиться от него, – сказал генеральный прокурор.
– Наши мысли совпали, это большая честь для меня, – отвечал Корантен. – Я вынужден обдумывать столько вещей и для стольких людей, что я не могу не натолкнуться в конце концов на умного человека.
Это было сказано так сухо и таким ледяным тоном, что генеральный прокурор промолчал и стал просматривать папки с какими-то неотложными делами.
Трудно себе вообразить удивление мадемуазель Жакелины Коллен, когда Жак Коллен появился в зале Потерянных шагов. Она стояла как вкопанная, упершись руками в бока, наряженная торговкой овощами. Как ни привыкала она к проделкам своего племянника, последняя превосходила все.
– Ну, долго ли ты будешь еще смотреть на меня, как на какое-то музейное чучело? – сказал Жак Коллен, взяв тетку за руку и выходя с ней из залы Потерянных шагов. – Нас примут за какую-то диковинку, того и гляди, остановят, и мы потеряем время.
И он спустился с лестницы Торговой галереи, что ведет на улицу Барильери.
– Где Паккар?
– Он ожидает меня у Рыжей и прогуливается по Цветочной набережной.
– А Прюданс?
– Она там же, в качестве моей крестницы.
– Идем туда…
– Смотри, не следят ли за нами…
Рыжая торговка скобяным товаром на Цветочной набережной была вдовой известного убийцы, одного из общества Десяти тысяч. В 1819 году Жак Коллен честно передал этой девушке двадцать с лишним тысяч франков от имени любовника после его казни. Обмани-Смерть один знал о близости девушки, модистки в ту пору, с его товарищем.
– Я даб твоего парня, – сказал тогдашний жилец г-жи Воке этой модистке, вызвав ее в Ботанический сад. – Он, вероятно, говорил с тобою обо мне, моя крошка? Кто меня выдаст, тот умрет в тот же год! Кто верен мне, тому нечего опасаться меня. Я из тех дружков, которые умрут, но словом не обмолвятся во вред тому, кому желают добра. Предайся мне, как иная душа предается дьяволу, и ты на этом выгадаешь. Я обещал твоему бедняге Огюсту, что ты будешь счастливой… он так мечтал окружить тебя роскошью! И дал себя скосить из-за тебя. Не плачь! Слушай, никто в мире не знает, что ты была любовницей убийцы, которого охладили в субботу; никогда и никому я не скажу об этом. Тебе двадцать два года, ты красотка, в кармане у тебя двадцать шесть тысяч франков; забудь Огюста, выходи замуж, будь честной женщиной, если можешь. В награду за это мирное житье я прошу тебя служить мне и тому, кого я к тебе буду посылать, но служить слепо. Никогда я не попрошу от тебя ничего такого, что опорочило бы тебя, или твоих детей, или твоего мужа, ежели он у тебя будет, или твою родню. В моем ремесле часто встречается надобность в надежном месте, где можно побеседовать, спрятаться. Мне нужна верная женщина, чтобы отнести письмо, взять на себя поручение. Ты будешь всего только моим почтовым ящиком, моей сторожкой, моим посланцем. Ты больно белокурая; мы с Огюстом прозвали тебя Рыжей, так ты и будешь называться. Моя тетка, торговка в Тампле, с которой я тебя познакомлю, единственный в мире человек, которому ты должна повиноваться; говори ей все, что бы с тобой ни случилось; она выдаст тебя замуж, она будет тебя очень полезна.
Так был заключен один из дьявольских договоров, в духе того, которым Жак Коллен на долгое время привязал к себе Прюданс Сервьен и которые этот человек всегда старался закрепить, ибо у него, как и у дьявола, был страсть вербовать приверженцев.
Около 1821 года Жакелина Коллен выдала Рыжую замуж за старшего приказчика владельца оптовой торговли скобяным товаром. Приказчик заканчивал в этот момент переговоры о покупке торгового дома своего хозяина, дела его процветали, у него было двое детей, и он являлся помощником мэра в своем районе. Никогда Рыжая, став г-жой Прелар, не могла пожаловаться на Жака Коллена и на его тетку, но всякий раз, когда к ней обращались с просьбой об услуге, г-жа Прелар дрожала с головы до ног. Вот почему вся краска сбежала у нее с лица, когда на пороге ее лавки появились эти две страшные личности.
– Мы пришли к вам по делу, сударыня, – сказал Жак Коллен.
– Мой муж здесь, – отвечала она.
– Ну что ж! Пока мы обойдемся и без вас; я никогда не беспокою людей понапрасну.
– Пошлите за фиакром, крошка, – сказала Жакелина Коллен, – и попросите мою крестницу. Я надеюсь устроить ее горничной к одной знатной даме, которая прислала за ней своего домоуправителя.
Тем временем Паккар, похожий на жандарма, одетого зажиточным горожанином, беседовал с г-ном Преларом о крупном заказе на проволоку для какого-то моста.
Приказчик пошел за фиакром; и спустя несколько минут Европа, или, чтобы не называть ее именем, под которым она служила у Эстер, Прюданс Сервьен, а также Паккар, Жак Коллен и его тетка, – все, к великой радости Рыжей, уселись в фиакр, и Обмани-Смерть приказал кучеру ехать к заставе Иври.
Прюданс Сервьен и Паккар, трепещущие от страха перед дабом, напоминали души грешников перед лицом бога.
– Где семьсот пятьдесят тысяч франков? – спросил даб, вперяя в них свой пристальный и ясный взгляд, до такой степени волновавший кровь этих погибших душ, когда они чувствовали за собою вину, что им казалось, будто им в мозг вонзается столько булавок, сколько волос на их голове.
– Семьсот тридцать тысяч франков, – отвечала Жакелина Коллен своему племяннику, – в надежном месте, я поутру передала их Ромет в запечатанном пакете…
– Ваше счастье, что вы передали деньги Жакелине, – сказал Обмани-Смерть, – иначе отправились бы прямо туда… – прибавил он, указывая на Гревскую площадь, мимо которой проезжал фиакр.
Прюданс Сервьен, по обычаю своей родины, перекрестилась, точно над нею грянул гром.
– Прощаю вас, – продолжал даб, – но впредь остерегайтесь подобных ошибок и служите мне, как служат эти два пальца, – сказал он, показывая на указательный и средний палец правой руки. – Большой палец – это она, моя добрая маруха! – И он похлопал по плечу свою тетку. – Слушайте! – продолжал он. – Отныне ты, Паккар, можешь ничего не бояться, шатайся по Пантену, сколько твоя душа пожелает. Я разрешаю тебе жениться на Прюданс.
Паккар схватил руку Жака Коллена и почтительно ее поцеловал.
– А что я должен делать? – спросил он.
– Ничего! У тебя будет рента и женщины, кроме собственной жены, ведь у тебя вкусы в духе Регенства, старина!.. Вот что значит быть чересчур красивым мужчиной!
Паккар покраснел, получив эту насмешливую похвалу от своего султана.
– А тебе, Прюданс, – продолжал Жак, – нужно иметь свое дело, хорошее положение, нужно обеспечить будущее и по-прежнему служить мне. Слушай меня хорошенько. На улице Сент-Барб существует отличное заведение, принадлежащее той самой госпоже Сент-Эстев, у которой моя тетка при случае заимствует фамилию… Отличное заведение, с хорошей клиетурой; оно приносит годового дохода тысяч пятнадцать – двадцать… Сент-Эстев поручила управление этим заведением…
– Гоноре, – сказала Жакелина.
– Марухе бедного Чистюльки, – сказал Паккар, – мы с Европой улизнули туда в день смерти бедной госпожи Ван Богсек, нашей хозяйки…
– Болтать, когда я говорю? – гневно сказал Жак Коллен.
Глубокое молчание воцарилось в фиакре, Прюданс и Паккар не осмеливались более взглянуть друг на друга.
– Итак, дом управляется Гонорой, – продолжал Жак Коллен. – Ежели ты с Прюданс укрывался там, я вижу, Паккар, что ты достаточно умен, чтобы вкручивать баки фараонам (проводить полицию), но недостаточно хитер, чтобы втереть очки подручной даба… – продолжал он, потрепав свою тетушку за подбородок. – Теперь я догадываюсь, как она тебя нашла… Это получилось очень кстати! Вы вернетесь опять к Гоноре… Продолжаю. Жакелина вступит с госпожой Нуррисон в переговоры о покупке ее заведения на улице Сент-Барб; будешь умненько себя вести, составишь себе там состояние, крошка, – сказал он, глядя на Прюданс. – В твои-то годы и уже игуменья! Это бывает лишь с дочерьми французского короля, – прибавил он ядовитым тоном.
Прюданс бросилась на шею Обмани-Смерть и поцеловала его; но резким ударом, обнаружившим его недюжинную силу, даб так сильно оттолкнул ее, что, не будь тут Паккара, девушка угодила бы головой в окно и разбила бы стекло.
– Руки прочь! Не люблю я этих манер! – сухо сказал даб. – Это значит не оказывать мне должного уважения.
– Он прав, малютка, – сказал Паккар. – Понимаешь, ведь выходит, что даб дарит тебе сто тысяч франков. Лавка стоит того. Это на бульваре, напротив театра Жимназ, с той стороны, где бывает театральный разъезд…
– Я сделаю больше: куплю и дом, – сказал Обмани-Смерть.
– И вот через шесть лет мы миллионеры! – вскричал Паккар.
Раздосадованный тем, что его перебивают, Обмани-Смерть изо всех сил ударил Паккара ногой по голени; но у Паккара были стальные нервы и резиновые мускулы.
– Довольно, даб! Мы молчим, – отвечал он.
– Уж не думаете ли вы, что я мелю вздор? – продолжал Обмани-Смерть, тут только заметивший, что Паккар хлебнул несколько лишних стаканчиков. – Слушайте! В этом доме, в погребе, зарыты двести пятьдесят тысяч франков золотом…
В фиакре снова воцарилось глубочайшее молчание.
– Золото лежит в каменной кладке, очень крепкой. Надо его извлечь оттуда. А в нашем распоряжении только три ночи. Жакелина нам поможет… Сто тысяч пойдут на покупку заведения, остальное пусть лежит на месте.
– Где? – спросил Паккар.
– В погребе? – воскликнула Прюданс.
– Молчите! – сказала Жакелина.
– Да, но для такой поклажи при перевозке потребуется разрешение от фараонова племени, – заметил Паккар.
– Получим, – сказал сухо Обмани-Смерть. – Чего ты вечно суешься не в свое дело?
Жакелина взглянула на племянника и была поражена, как исказилось его лицо, несмотря на бесстрастную маску, под которой этот человек, столь владевший собой, скрывал обычно свое волнение.
– Дочь моя, – сказал Жак Коллен, обращаясь к Прюданс Сервьен, – моя тетка передаст тебе семьсот пятьдесят тысяч франков.
– Семьсот тридцать, – сказал Паккар.
– Добро! Семьсот тридцать, – продолжал Жак Коллен. – Сегодня же ночью надо во что бы то ни стало попасть в дом госпожи Эстер. Ты влезешь через слуховое окно на крышу, спустишься по трубе в спальню твоей покойной госпожи и положишь в матрац на ее постели приготовленный ею пакет…
– А почему не через дверь? – сказала Прюданс Сервьен.
– Дура, ведь на ней печати! – возразил Жак Коллен. – Через несколько дней там произведут опись имущества, и вы окажетесь неповинными в краже…
– Да здравствует даб! – вскричал Паккар. – Что за доброта!
– Стой!.. – крикнул кучеру своим могучим голосом Жак Коллен.
Карета остановилась против стоянки фиакров возле Ботанического сада.
– Ну, а теперь удирайте, ребята! – сказал Жак Коллен. – И не делайте глупостей! Вечером, в пять часов, приходите на мост Искусств, и там моя тетка скажет вам, не отменяется ли приказ. Надо предвидеть все, – шепнул он своей тетке. – Жакелина объяснит вам завтра, – продолжал он, – как безопаснее извлечь золото из погреба. Это дело тонкое.
Прюданс и Паккар соскочили на мостовую, счастливые, как помилованные воры.
– И какой же молодчина наш даб! – сказал Паккар.
– Это был бы король среди мужчин, если бы он не презирал так женщин!
– Ну, он очень обходителен! – вскричал Паккар. – Ты видела, как он меня хватил ногой! Мы заслужили, чтобы нас отправили на ad patres; ведь в конце концов это мы поставили его в затруднительное положение…
– Лишь бы он не впутал нас в какое-нибудь дело, – сказала умная и хитрая Прюданс, – чтобы отправиться на лужок…
– Он-то! Да если бы ему пришла в голову такая фантазия, он бы сказал бы нам все начистоту, ты его не знаешь! Какую расчудесную жизнь он тебе устроит! Вот мы и буржуа. Какая удача! Уж если этот человек кого полюбит, не найдешь равного ему по доброте…
– Голубушка! – сказал Жак Коллен своей тетке. – Позаботься о Гоноре, нужно будет усыпить ее; через пять дней ее арестуют и найдут в ее комнате сто пятьдесят тысяч франков золотом; эти деньги сочтут за остаток суммы, украденной при убийстве стариков Кротта, родителей нотариуса.
– Она угодит за это на пять годков в Мадлонет, – заметила Жакелина.
– Похоже на то, – отвечал Жак Коллен. – И это будет причиной того, что Нуррисонша захочет избавиться от дома; она не может сама управлять им, а управляющих по своему вкусу найти не так-то легко. Таким образом, ты отлично сумеешь оборудовать это дельце. У нас будет там свой глаз. Но все эти три операции зависят от начатых мною переговоров по поводу писем. Ну-ка, распарывай свой мундир и давай мне образчики товаров. А где находятся наши три пакета?
– У Рыжей, шут их дери!
– Эй, кучер! – крикнул Жак Коллен. – Поезжай обратно к Дворцу правосудия, и во весь опор!.. Я похвалился быстротой действия, а вот уже полчаса, как отсутствую, это слишком долго! Жди у Рыжей и, когда служитель из прокуратуры спросит госпожу де Сент-Эстев, отдай ему запечатанные пакеты. Частица де будет служить условным знаком, и он должен тебя сказать: «Сударыня, я послан господином генеральным прокурором, а зачем, вы знаете». Дежурь у дверей Рыжей и глазей на цветочный рынок, чтобы не привлечь внимание Прелара. Как только ты передашь письма, займись Паккаром и Прюданс.
– Я вижу тебя насквозь, – сказала Жакелина, – ты хочешь занять место Биби-Люпена. У тебя ум за разум зашел после смерти малыша!
– А Теодор? Ведь ему уже собирались сбрить волосы, чтобы скосить его сегодня в четыре часа дня! – вскричал Жак Коллен.
– Впрочем, это разумно! Мы кончим жизнь честными людьми, как настоящие буржуа, в красивом поместье, в прекрасном климате, в Турени.
– А что мне оставалось? Люсьен унес с собой мою душу, все счастье моей жизни; впереди еще лет тридцать скуки и пустое сердце. Вместо того чтобы быть дабом каторги, я стану Фигаро правосудия и отомщу за Люсьена. Ведь только в шкуре лягавого я могу безопасно уничтожить Корантена. А когда тебе предстоит слопать человека, значит, жизнь еще не кончена. Всякое положение в этом мире лишь видимость; и единственная реальность – это мысль! – прибавил он, ударяя себя по лбу. – Много ли еще добра в нашем казначействе?
– Пусто, – сказала тетка, испуганная тоном и манерами племянника. – Я все отдала тебе для твоего малыша. У Ромет в ее торговле не более двадцати тысяч. У госпожи Нуррисон я взяла все; у нее было около шестидесяти тысяч франков собственных денег… Да, влипли мы в грязную историю, и вот уже целый год прошел, а никак не отмоемся. Малыш проел весь слам дружков, наше добро и все, что было у Нуррисон…
– Это составляет…
– Пятьсот шестьдесят тысяч…
– Сто пятьдесят тысяч золотом должны Паккар и Прюданс. Сейчас я скажу тебе, где взять остальные двести тысяч. Мы их получим из наследства Эстер. Надобно вознаградить Нуррисоншу! С Теодором, Паккаром, Прюданс, Нуррисоншей и тобой я живо создам священный отряд, который мне нужен… Послушай, мы подъезжаем…
– Вот эти три письма, – сказала Жакелина, сделав последний надрез ножницами в подкладке своего платья.
– Добро! – отвечал Жак Коллен, получив три драгоценных автографа, три веленевых бумажки, сохранившие еще аромат духов. – Случай в Нантере – дело рук Теодора.
– Так это он!..
– Молчи, время дорого! Ему нужно было подкормить корсиканскую птичку по имени Джинета… Поручи Нуррисонше разыскать ее, а я дам тебе нужные сведения в письме, которое передаст тебе Го. Подойди к калитке Консьержери через два часа. Задача в том, чтобы подбросить эту девчонку одной прачке, сестре Годе, и чтобы она пришлась там ко двору… Годе и Рюфар-сообщники Чистюльки в краже и убийстве, совершенных у Кротта. Четыреста тысяч пятьдесят франков в целости; треть их в погребе Гоноры, это доля Чистюльки; другая треть в спальне Гоноры, это доля Рюфара; третья часть спрятана у сестры Годе. Мы начнем с того, что изымем сто пятьдесят тысяч франков из копилки Чистюльки, потом сто из копилки Годе и сто из копилки Рюфара. Если Рюфар и Годе погорят, пусть сами отвечают за то, что не хватает в их ширмане. Я сумею убедить Годе в том, что мы бережем для него сто тысяч, а Рюфара и Чистюльку в том, что Гонора спасла эти деньги для них!.. Прюданс и Паккар будут работать у Гоноры. Ты и Джинета, а она мне кажется продувной бестией, начнете орудовать у сестры Годе. Ради моего первого выступления в комических ролях я дам Аисту возможность отыскать четыреста пятьдесят тысяч франков, украденных у Кротта, и найти виновников. Я делаю вид, что раскрываю убийство в Нантере. Мы получим обратно наше рыжевье и попадем в самое логово лягавых! Мы были дичью, а становимся охотниками, вот и все! Дай три франка кучеру.
Фиакр остановился перед Дворцом правосудия. Жакелина, совершенно ошеломленная, заплатила. Обмани-Смерть стал подниматься по лестнице, в кабинет генерального прокурора.
Крутой перелом в жизни – это момент настолько острый, что, несмотря на свою решимость, Жак Коллен медленно подымался по ступеням, ведущим с улицы Барильери к Торговой галерее, где под перистилем суда присяжных находится мрачный вход в прокуратуру. Какой-то политический процесс собрал целое скопище людей возле двойной лестницы, ведущей в суд присяжных, и каторжник, ушедший в свои думы, был на некоторое время задержан толпой. Налево от этой двойной лестницы стоит, напоминая массивный столб, один из контрфорсов дворца, в этой громаде можно заметить маленькую дверь. Она выходит на винтовую лестницу, которая ведет к Консьержери. Через нее проходят генеральный прокурор, начальник Консьержери, председатели суда присяжных, товарищи прокурора и начальник тайной полиции. По одному из этих разветвлений этой лестницы, ныне замурованному, прошла Мария-Антуанетта, королева Франции, в Революционный трибунал, заседавший, как известно, в большой зале торжественных заседаний кассационного суда.
Сердце сжимается, когда увидишь эту страшную лестницу и вспомнишь о том, что тут проходила дочь Марии-Терезии, для которой, с ее прической, фижмами и пышной свитой, была тесна парадная лестница в Версале! Быть может, она искупала преступление своей матери – возмутительный раздел Польши? Монархи, совершая подобные преступления, не думают, очевидно, о возмездии, которое готовит им судьба.
В ту минуту, когда Жак Коллен вступил под перистиль главного входа, направляясь к генеральному прокурору, Биби-Люпен выходил из потайной двери в колонне.
Начальник тайной полиции шел из Консьержери и также направлялся к генеральному прокурору. Легко понять удивление Биби-Люпена, когда он признал сюртук Карлоса Эррера, который он поутру так внимательно изучал. Он ускорил шаг, желая его обогнать. Жак Коллен обернулся. Враги очутились лицом к лицу. Оба они застыли на месте, и их столь непохожие глаза метнули одинаковый взгляд, подобно двум дуэльным пистолетам, разряженным одновременно.
– Ну, теперь-то я тебя поймал, мошенник! – сказал начальник тайной полиции.
– Валяй!.. – отвечал Жак Коллен с насмешливой улыбкой. У него мелькнула мысль, что г-н де Гранвиль приказал следить за ним, – и удивительная вещь! – он огорчился, решив, что этот человек не так великодушен, как ему казалось.
Биби-Люпен храбро схватил за горло Жака Коллена, а тот, глядя в глаза своего противника, резким ударом так отшвырнул его, что Биби-Люпен упал навзничь в трех шагах от него; потом Обмани-Смерть степенно подошел к Биби-Люпену и протянул ему руку, чтобы помочь встать, точь-в-точь как уверенный в силе своих кулаков английский боксер, который охотно начал бы борьбу сначала. Биби-Люпен был слишком выдержан, чтобы поднять крик, но он вскочил на ноги, побежал ко входу в коридор и знаком приказал одному из жандармов стать там на караул. Потом с молниеносной быстротой воротился к своему врагу, который спокойно наблюдал за ним. Жак Коллен подумал, что либо генеральный прокурор не сдержал слова, либо Биби-Люпен не посвящен в дело, и решил выяснить положение.
– Ты хочешь арестовать меня? – спросил Жак Коллен своего врага. – Отчечай без уверток! Неужто я не знаю, что в гнезде у Аиста ты сильнее меня? Я убил бы тебя одним пинком, но мне не одолеть жандармов и солдат. Хватит шуметь; куда ты хочешь меня вести?
– К господину Камюзо.
– Идем к господину Камюзо, – отвечал Жак Коллен. – А почему бы нам не пойти к генеральному прокурору?.. Это ближе, – прибавил он.
Биби-Люпен отлично знал, что он в немилости у высших судебных властей, которые подозревали, что его состояние нажито за счет преступников и их жертв, поэтому он был не прочь явиться в прокуратуру с такой добычей.
– Пойдем, – сказал Биби-Люпен. – Это мне кстати! Но раз ты сдаешься, позволь-ка мне привести тебя в порядок, я боюсь твоих пощечин! – И он вытащил из кармана наручники.
Жак Коллен протянул руки, и Биби-Люпен надел на них наручники.
– Ну, а раз ты такой покладистый, – продолжал он, – скажи мне, как ты вышел из Консьержери?
– Так же, как и ты, по малой лестнице.
– Стало быть, ты опять наклеил нос жандармам?
– Нет. Меня отпустил на честное слово господин де Гранвиль.
– Ты что, смеешься?
– Вот увидишь!.. Гляди, как бы на тебя не надели цепочку!
В эту минуту Корантен говорил генеральному прокурору:
– Сами изволите видеть, сударь, ровно час, как наш молодчик ушел. Вы не думаете, что он насмеялся над вами?.. Быть может, он уже на пути в Испанию, где нам его не найти. Испания полна чудес.
– Либо я не разбираюсь в людях, либо он вернется; все его интересы обязывают его к этому; он больше должен получить от меня, чем дать мне…
В эту минуту вошел Биби-Люпен.
– Господин граф, – сказал он, – я принес вам добрую весть: сбежавший Жак Коллен пойман.
– Вот как вы держите слово! – вскричал Жак Коллен, обращаясь к г-ну де Гранвилю. – Спросите вашего двуличного агента, где он меня поймал.
– Где? – спросил генеральный прокурор.
– В двух шагах от прокуратуры, под сводом, – отвечал Биби-Люпен.
– Освободите этого человека от ваших наручников, – строго сказал господин де Гранвиль Биби-Люпену. – И помните, пока вам не прикажут арестовать его, оставьте этого человека в покое. Ступайте! Вы привыкли решать и действовать, словно в вашем лице соединились правосудие и полиция.
И генеральный прокурор повернулся спиной к побледневшему начальнику полиции, который, встретив взгляд Жака Коллена, предрекавший ему падение, побледнел еще более.
– Я не выходил из кабинета, ожидая вас; можете не сомневаться, я держал свое слово, как вы сдержали ваше, – сказал г-н де Гранвиль Жаку Коллену.
– В первую минуту я усомнился в вас, сударь, и как знать, что подумали бы вы, будь вы на моем месте? Но, рассудив, я понял, что неправ. Я приношу вам больше, чем вы мне даете; не в ваших интересах меня обманывать…
Судья обменялся быстрым взглядом с Корантеном. Этот взгляд, не ускользнувший от Обмани-Смерть, внимание которого было всецело обращено на г-на де Гранвиля, обнаружил диковинного старичка, сидевшего в креслах, поодаль. Тотчас же предупрежденный тем живым и безошибочным инстинктом, который дает вам знать о присутствии врага, Жак Коллен всмотрелся в эту фигуру; он сразу же заметил, что глаза человека не соответствуют возрасту, на который указывает одежда, и признал маскарад. В одно мгновение Жак Коллен отыграл у Корантена первенство, которое тот благодаря своей редкой наблюдательности взял над ним, разоблачив его в номере гостиницы у Перада.
– Мы не одни!.. – сказал Жак Коллен г-ну де Гранвилю.
– Нет, – сухо отвечал генеральный прокурор.
– И этот господин, – продолжал каторжник, – один из моих лучших знакомых… если я не ошибаюсь?
Он шагнул вперед и узнал Корантена, настоящего виновника падения Люсьена. Кирпично-красное лицо Жака Коллена стало на одно короткое, неуловимое мгновение бледным, почти белым; вся кровь у него прихлынула к сердцу, таким жгучим и яростным было желание броситься на это опасное животное и растоптать его; но он подавил это зверское желание и сдержал себя тем бешеным напряжением воли, которое делало его таким страшным. Он принял любезный вид и приветствовал старичка с вкрадчивой учтивостью, столь привычной для него с той поры, как он вошел в роль духовного лица высокого ранга.
– Господин Корантен, – сказал он, – смею спросить, какой случайности я обязан удовольствием встретиться с вами? Уж не моя ли особа имеет счастье служить причиной вашего посещения прокуратуры?
Удивление генерального прокурора достигло высшей степени, и он не мог отказать себе в удовольствии наблюдать встречу этих двух людей. Все движения Жака Коллена и тон, каким были сказаны эти слова, указывали на сильнейшее нервное возбуждение, и ему было любопытно узнать его причины. При этом неожиданном и чудодейственном опознании его личности Корантен поднялся, как змея, которой наступили на хвост.
– Да, это я, любезный аббат Карлос Эррера.
– Уж не явились ли вы сюда, – сказал ему Обмани-Смерть, – в качестве посредника между господином генеральным прокурором и мною?.. Неужто я имею счастье служить предметом одной из тех сделок, в которых вы блещете своими талантами? Послушайте, сударь, – сказал каторжник, обернувшись к генеральному прокурору, – чтобы вам не терять даром ваше драгоценное время, читайте, вот образчики моих товаров… И он протянул г-ну де Гранвилю три письма, вынутые им из бокового кармана сюртука. – Покамест вы будете знакомиться с ними, я, если позволите, побеседую с этим господином.
– Большая честь для меня, – отвечал Корантен, невольно вздрогнув.
– Вы, сударь, достигли полного успеха в нашем деле, – сказал Жак Коллен. – Я был побит… – прибавил он шутливым тоном проигравшего игрока, – но при этом у вас сняли несколько фигур с доски… Победа досталась вам не дешево…
– Да, – отвечал Корантен, принимая шутку. – Ежели вы потеряли королеву, то я потерял обе ладьи…
– О! Контансон был только пешкой! – возразил насмешливо Жак Коллен. – Его можно заменить. Позвольте мне в глаза воздать вам хвалу. Вы, даю в том честное слово, человек незаурядный.
– Полноте, полноте! Я склоняюсь перед вашим превосходством, – сказал Корантен с видом заправского балагура, как бы говоря: «Хочешь паясничать, изволь!» – Ведь я располагаю всем, а вы, так сказать, на особняка ходите…
– О-о!.. – протянул Жак Коллен.
– И вы чуть было не взяли верх, – сказал Корантен, услыхав это восклицание. – Вы самый необыкновенный человек, какого я встречал в жизни, а я на своем веку видел много необыкновенных людей, ибо все те, с кем я веду борьбу, примечательны по своей дерзости, по смелости своих замыслов. Я был, к несчастью, чересчур близок с его светлостью, покойным герцогом Орантским; я работал для Людовика Восемнадцатого, когда он царствовал, а когда он был в изгнании, то для императора и для Директории. У вас закал Лувеля, отменнейшего орудия политики, какое я когда-либо видел, притом у вас гибкость князя дипломатии. А какие помощники!.. Я бы дал отрубить много голов, чтобы получить в свое распоряжение кухарку бедняжки Эстер… Где только вы находите таких красоток, как та девушка, что некоторое время подменяла собою эту еврейку для Нусингена?.. Я просто теряюсь, откуда их брать, когда они нужны мне…
– Помилуйте, сударь, – сказал Жак Коллен. – Вы меня смущаете… От этих похвал, услышанных от вас, нетрудно потерять голову…
– Они вами заслужены! Да ведь вы обманули самого Перада! Он принял вас за полицейского чиновника!.. Слушайте, не виси у вас на шее этот несмышленыш, которого вы опекали, вы бы нас провели.
– О сударь, вы забываете Контансона в роли мулата… и Перада на ролях англичанина!.. Актерам помогает театральная рампа; но так бесподобно играть роль среди бела дня в любой обстановке, на это способны только вы и ваши…
– Полноте! – сказал Корантен. – Мы оба знаем себе цену и важность наших заслуг. Мы оба с вами одиноки, глубоко одиноки; я потерял старого друга, вы – вашего питомца. – Я в эту минуту сильнее вас, – почему бы не поступить нам, как в мелодраме «Адретская гостиница»! Я предлагаю вам мировую и говорю: «Обнимемся, и делу конец!» Обещаю вам в присутствии генерального прокурора полное и безоговорочное помилование, и вы станете одним из наших, первым после меня, быть может, моим преемником.
– Стало быть, вы предлагаете создать мне положение?.. – спросил Жак Коллен. – Завидное положение! Из черненьких прямо в беленькие…
– Вы окажетесь в той сфере деятельности, где ваши таланты будут хорошо оценены, хорошо оплачены и где вы будете поступать по своему усмотрению. У полиции политической и государственной есть опасные стороны. Я сам, каким вы меня знаете, уже дважды сидел в тюрьме… Но это мне ничуть не повредило. Можно путешествовать! Быть тем, кем хочешь казаться… Чувствуешь себя настоящим мастером полических драм, вельможи относятся к тебе с учтивостью… Ну-с, любезный Жак Коллен, устраивает вас это?..
– Вам даны на этот счет указания? – спросил его каторжник.
– Мне дано неограниченное право… – сказал Корантен, восхищенный собственной выдумкой.
– Вы шутите; вы человек большого ума и, конечно, допускаете, что можно и не доверять вам… Вы предали немало людей, упрятав их в мешок и притом заставив их влезть туда якобы добровольно. Я знаю ваши блестящие баталии: дело Симеза, дело Монторана… О! Это настоящие шпионские баталии, своего рода битвы при Маренго!
– Так вот, – сказал Корантен, – вы питаете уважение к господину генеральному прокурору?
– Да, – сказал Жак Коллен, почтительно наклонившись. – Я восхищаюсь его благородным характером, его твердостью, великодушием и отдал бы свою жизнь, лишь бы он был счастлив. Поэтому я прежде всего выведу из опасного состояния, в котором она находится, госпожу де Серизи.
Генеральный прокурор не мог скрыть чувства радости.
– Так вот, спросите же у него, – продолжал Корантен, – властен ли я вырвать вас из того унизительного положения, в котором вы пребываете и взять вас к себе на службу?
– Да, это правда, – сказал г-н де Гранвиль, глядя на каторжника.
– Чистая правда? Мне простят мое прошлое и пообещают назначить вашим преемником, ежели я докажу свое искусство?
– Между такими людьми, как мы с вами, не может быть никаких недоразумений, – продолжал Корантен, проявляя такое великодушие, что обманул бы любого.
– А цена этой сделки, конечно, передача писем трех дам?.. – спросил Жак Коллен.
– Мне кажется, нет нужды говорить об этом…
– Любезный Корантен, – сказал Обмани-Смерть с насмешкой, достойной той славы, какую стяжал Тальма в роли Никомеда, – благодарю вас, я вам обязан тем, что узнал себе цену, и понял, какое значение придают тому, чтобы вырвать из моих рук мое оружие… Я этого никогда не забуду… Я всегда и во всякое время к вашим услугам и вместо того, чтобы говорить, как Робер Макэр: «Обнимемся!..» – я первый вас обниму.
Он с такой быстротой схватил Корантена поперек туловища, что тот не успел уклониться от этого объятия. Он прижал его к своей груди, как куклу, поцеловал в обе щеки, поднял, точно перышко, распахнул дверь кабинета и опустил его на пол в коридоре, всего измятого этими грубыми объятиями.
– Прощайте, любезный, – сказал он, понизив голос, – Нас отделяют друг от друга расстояние в три трупа; мы скрестили шпаги, они одной закалки и равны по размеру… Сохраним уважение друг к другу; но я хочу быть равным вам, а не вашим подчиненным. Вы оказались бы так вооружены, что были бы, по-моему, слишком опасным начальником для вашего помощника. Проложим ров между нами. Горе вам, если вы ступите в мои владения!.. Вы именуетесь Государством точно так же, как лакеи носят имя своих господ; а я хочу именовать себя Правосудием; мы будем часто встречаться, и нам следует проявлять в наших отношениях тем больше достоинства и приличия, что мы всегда останемся отъявленными канальями, – шепнул он ему на ухо. – Я дал тому пример, поцеловав вас…
Корантен растерялся впервые в жизни и позволил своему страшному противнику пожать себе руку.
– Если так, – сказал он, – я полагаю, что в наших интересах быть друзьями…
– Мы будем сильнее каждый в отдельности, но вместе с тем и опаснее, – прибавил Жак Коллен тихим голосом. – Итак, разрешите мне просить у вас завтра задаток под нашу сделку…
– Ну что ж! – сказал Корантен добродушно, – Вы отнимаете у меня ваше дело, чтобы передать его генеральному прокурору; вы будете причиной его повышения; но не могу не сказать вам, что вы избрали благую долю… Биби-Люпен слишком известен, он свое отслужил. Если вы его замените, вы займете единственное подходящее для вас положение; я восхищен видеть вас там… честное слово…
– До скорого свидания, – сказал Жак Коллен.
Вернувшись в кабинет, Жак Коллен, увидел, что генеральный прокурор сидит за столом, обхватив голову руками.
– И вы можете уберечь графиню де Серизи от грозящего ей безумия?.. – спросил г-н де Гранвиль.
– В пять минут… – отвечал Жак Коллен.
– И вы можете вручить мне всю переписку этих дам?
– Вы прочли эти три письма…
– Да, – сказал генеральный прокурор с живостью. – Мне стыдно за тех, кто писал эти письма.
– Ну, мы теперь одни! Запретите входить к вам, и побеседуем, – сказал Жак Коллен.
– Позвольте… Правосудие прежде всего должно выполнить свой долг, и господин Камюзо получил приказ арестовать вашу тетушку.
– Он никогда не найдет ее, – сказал Жак Коллен.
– Произведут обыск в Тампле у некой девицы Паккар, которая держит там заведение…
– Там найдут только одно тряпье: наряды, брильянты, мундиры. И все же надо положить конец рвению господина Камюзо.
Господин де Гранвиль позвонил и приказал служителям канцелярии попросить г-на Камюзо.
– Послушайте, – сказал он Жаку Коллену, – пора кончать! Мне не терпится узнать ваш рецепт для излечения графини…
– Господин генеральный прокурор, – сказал Жак Коллен очень серьезно, – я был, как вы знаете, присужден к пяти годам каторжных работ за подлог. Я люблю свободу!.. Но эта любовь, как всякая любовь, была мне во вред; чересчур пылкие любовники вечно ссорятся! Я бежал неоднократно, меня ловили, и так я отбыл семь лет каторги. Стало быть, вам остается простить мне только отягчение наказания, заработанное мною на лужке… виноват, на каторге! В действительности я отбыл наказание, и пока мне не приписывают никакого скверного дела – а это не удастся ни правосудию, ни даже Корантену! – я должен быть восстановлен в правах французского гражданина. Жить далеко от Парижа, под надзором полиции, – разве это жизнь? Куда мне деваться? Что делать? Вам известны мои способности… Вы видели, как Корантен, этот кладезь коварства и предательства, бледнел от страха передо мной и воздавал должное моим талантам… Этот человек отнял у меня все! Он был один, не знаю, какими средствами и в каких целях, обрушил здание счастья Люсьена… Все это сделали Корантен и Камюзо…
– Не защищайте себя, обвиняя других, – сказал г-н де Гранвиль, – переходите к делу.
– Так вот, дело в следующем! Этой ночью, держа в своей руке ледяную руку мертвого юноши, я дал себе клятву отказаться от бессмысленной борьбы, которую я веду в продолжение вот уже двадцати лет против общества. Я изложил вам свои взгляды на религию, и вы, конечно, не сочтете меня способным лицемерить… Так вот, я двадцать лет наблюдал жизнь с ее изнанки, в ее тайниках, и узнал, что ходом вещей правит сила, которую вы называете провидением, я называю случаем, а мои товарищи фартом! От возмездия не ускользнет ни одно злодеяние, как бы оно ни старалось его избегнуть. В нашем ремесле бывает так: человеку везет, у него все козыри и его первый ход; и вдруг свеча падает, карты сгорают, или внезапно игрока хватает удар!.. Такова история Люсьена. Этот мальчик, этот ангел, не замарал себя и тенью злодейства; он плыл по течению и не боролся с этим течением. Он должен был жениться на мадемуазель де Гранлье, получить титул маркиза, у него было состояние! И что ж? Какая-то девка травится, да еще прячет куда-то выручку от продажи процентных бумаг, и здание его благополучия, возведенное с таким трудом, рушится в один миг! И кто первый наносит нам удар! Человек, запятнанный гнусными преступлениями, чудовище, совершившее в мире наживы такие злодеяния (см. Банкирский дом Нусингена), что каждый червонец из его миллионов оплачен слезами какой-нибудь семьи, – Нусинген, этот узаконенный Жак Коллен в мире дельцов! Да ведь вы сами знаете не хуже меня о распродажах имущества, обо всех гнусных проделках этого человека, который заслуживает виселицы. А на всех моих поступках, даже самых добродетельных, будет вечно оставаться след моих кандалов! Играть роль мячика между двух ракеток, из которых одна именуется каторгой, другая полицией, это значит жить жизнью, где победа – вечный труд, где покой, по-моему, невозможен. Господин де Гранвиль, Жак Коллен умер вместе с Люсьеном, которого кропят сейчас святой водою и готовятся везти на кладбище Пер-Лашез. Теперь мне нужно найти себе такое место, где бы я мог если не жить, то доживать… При настоящем положении вещей вы, правосудие, не пожелали заняться гражданским и общественным положением бывшего каторжника. Если закон и удовлетворен, то общество не удовлетворено: оно по-прежнему чувствует к нему недоверие и всячески старается оправдать свою подозрительность в собственных глазах; оно обращает бывшего каторжника в существо нетерпимое в своей среде; оно формально возвращает ему все права, но запрещает жить в известной зоне. Общество говорит этому отверженному: «Париж и такие-то его пригороды, единственное место, где ты можешь укрыться, для тебя запретны». Потом оно отдает бывшего каторжника под надзор полиции. И вы думаете, что в таких условиях можно жить? Чтобы жить, надо работать, с каторги не возвращаются с рентой! Вы стараетесь, чтобы каторжник имел ясные приметы, был легко опознан вами, был лишен выбора местожительства, а после этого вы еще можете думать, что граждане доверчиво раскроют ему свои объятия, когда общество, правосудие, весь окружающий его мир не питает к нему никакого доверия? Вы обрекаете его на голод или преступление. Он не находит работы, его роковым образом толкают к прежнему ремеслу, а оно ведет на эшафот. Поэтому, как я ни хотел отказаться от борьбы против закона, я не нашел для себя места под солнцем. Одно только мне подходит: стать слугой той власти, которая нас угнетает. И стоило лишь блеснуть этой мысли, как сила моя, о которой я вам говорил, проявилась в самой наглядной форме. Три знатных семьи в моих руках! Не бойтесь, я не собираюсь шантажировать… Шантаж – гнуснейшее из злодеяний. В моих глазах это более подлое злодеяние, нежели убийство. Убийца хотя бы должен обладать отчаянной смелостью. Я подтверждаю свои слова, ибо письма – залог моей безопасности, оправдание моего разговора с вами как равного с равным в эту минуту, преступника с правосудием, – письма эти в вашем распоряжении… Служитель вашей канцелярии может пойти от вашего имени за остальными, они будут ему вручены… Я не прошу выкупа, я ими не торгую! Увы, господин генеральный прокурор, когда я их откладывал в сторону, я думал не о себе, а о том, что когда-нибудь Люсьен может оказаться в опасности! Если моя просьба не будет уважена, ну что ж! У меня больше мужества, больше отвращения к жизни, нежели нужно для того, чтобы пустить себе пулю в лоб и освободить вас от себя… Я могу, получив паспорт, уехать в Америку и там жить отшельником; я обладаю всеми склонностями дикаря… Вот в каких мыслях провел я эту ночь. Ваш секретарь, вероятно, передал вам мои слова, я просил его об этом. Увидев, какие меры предосторожности вы принимаете, чтобы оберечь память Люсьена от бесчестия, я отдал вам свою жизнь – жалкий дар! Я больше не дорожил ею, она казалась мне невозможной без света, озарявшего ее, без счастья, которое ее одушевляло, без надежды, составлявшей весь ее смысл, без юного поэта, который был ее солнцем, и мне захотелось отдать вам все эти три связки писем…
Господин де Гранвиль склонил голову.
– Выйдя в тюремный двор, я нашел виновников злодеяния, совершенного в Нантере, и узнал, что нож гильотины занесен над моим юным товарищем по цепи за небольшое соучастие в этом преступлении, – продолжал Жак Коллен. – Я узнал, что Биби-Люпен обманывает правосудие, что один из его агентов – убийца супругов Кротта; не было ли это, как говорят у вас, волей провидения?.. Итак, мне представился случай сделать доброе дело, употребить способности, которыми я одарен, а также приобретенные мною печальные познания на служение обществу, быть полезным, а не вредным; и я осмелился положиться на ваш ум, на вашу доброту.
Доброжелательность, прямодушие, прямота этого человека, его исповедь, в которой не было ни язвительности, ни философского оправдания порока, внушавших ранее ужас слушателю, невольно заставляли поверить в его перерождение. То был уже не он.
– Я верю вам настолько, что хочу быть всецело в вашем распоряжении, – продолжал он со смирением кающегося. – Вы видите, я стою на распутье трех дорог: самоубийство, Америка и Иерусалимская улица. Биби-Люпен богат, от отжил свое время; этот ваш блюститель закона – двурушник, и, если бы вы пожелали дать мне волю, я бы его вывел на чистую воду через неделю. Если вы назначите меня на должность этого негодяя, вы окажете большую услугу обществу. Лично мне уж ничего не нужно. У меня все качества, необходимые в этой должности. Я образованнее Биби-Люпена, я дошел до класса риторики; я не так глуп, как он; я умею себя держать, когда захочу. Предел моего честолюбия – быть частицей порядка и возмездия, вместо того, чтобы олицетворять собою безнравственность. Я впредь никого не буду вовлекать в великую армию порока. Когда на войне берут в плен вражеского главнокомандующего, его не расстреливают, не правда ли? Ему возвращают шпагу и предоставляют какой-либо город в качестве тюрьмы; так вот, я главнокомандующий каторги, и я сдаюсь… Меня сразило не правосудие, а смерть… Только эта область, в которой я хочу действовать, а значит и жить, подходит для меня, тут я разверну все способности, которые в себе чувствую… Решайте…
И Жак Коллен замолк в покорной и почтительной позе.
– Вы отдаете письма в мое распоряжение? – сказал генеральный прокурор.
– Можете послать за ними, их передадут вашему посланцу…
– Но куда?
Жак Коллен читал в сердце генерального прокурора и продолжал свою игру.
– Вы обещали заменить смертную казнь Кальви двадцатью годами каторжных работ. О! Я упоминаю об этом не для того, чтобы ставить условия, – сказал он с живостью, заметив жест генерального прокурора. – Но эта жизь должна быть спасена по другой причине: мальчик невиновен…
– Куда послать за этими письмами? – спросил генеральный прокурор. – Мой долг и мое право знать, тот ли вы человек, за которого вы себя выдаете. Я хочу получить вас без всяких условий…
– Пошлите верного человека на Цветочную набережную, там, в дверях скобяной лавки, под вывеской «Щит Ахилла»…
– Лавка со Щитом?..
– Вот именно: там хранится мой щит, – сказал Жак Коллен с горькой усмешкой. – Ваш посланец встретит там старуху, наряженную, как я вам говорил, зажиточной торговкой рыбой, с серьгами в ушах, настоящую рыночную щеголиху! Пускай он спросит г-жу де Сент-Эстев. Не забудьте частицу де… Пускай скажет: «Я пришел от имени генерального прокурора; а зачем, вы знаете…» В ту же минуту вы получите три запечатанных пакета…
– И в них все письма? – сказал г-н де Гранвиль.
– Ну и подозрительны же вы! Недаром занимаете такое место, – сказал Жак Коллен, улыбаясь. – Я вижу, вы считаете меня способным, испытывая вас, всучить вам чистую бумагу… Вы не знаете меня! – прибавил он. – Я доверяю вам, как сын отцу.
– Вас отведут обратно в Консьержери, – сказал генеральный прокурор, – и вы будете ожидать там решения вашей участи.
Генеральный прокурор позвонил, вошел служитель его канцелярии, которому он сказал:
– Попросите сюда господина Гарнери, если он у себя.
Помимо сорока восьми полицейских приставов, охраняющих Париж, как сорок восемь ходячих привидений низшего ранга, носящих прозвище четверть глаза, данное им ворами, потому что их приходится по четыре на каждый район, и помимо тайной полиции, имеются еще два пристава, прикрепленных одновременно и к полиции и к прокуратуре для выполнения щекотливых поручений, а зачастую и для замены следователей. Канцелярия этих двух судебных чиновников, ибо полицейские приставы являются судебными чинами, называется канцелярией особых поручений, и, действительно, когда нужно произвести обыск либо арест, это всегда поручается им. Для такой должности требуются люди зрелые, с испытанными способностями, высоконравственные, умеющие хранить тайну; и то, что такие люди всегда находятся, можно приписать только чуду, которое провидение совершает на благо Парижа. Описание структуры суда будет неполным, если не упомянуть об этих судебных органах, так сказать предварительного порядка; ибо если правосудие, силою вещей, и утратило долю своей былой пышности, былого богатства, то нельзя не признать, что оно выиграло по существу. В Париже в особенности механизм судопроизводства удивительно усовершенствовался.
Господин де Гранвиль послал г-на де Шаржбефа, своего секретаря, на похороны Люсьена; доверить письма можно было лишь человеку не менее надежному, а г-н де Гарнери был одним из двух полицейских приставов для особых поручений.
– Господин генеральный прокурор, – продолжал Жак Коллен, – я уже дал вам доказательство того, что у меня есть свои понятия о чести… Вы разрешили мне свободно уйти, и вот я вернулся. Скоро одиннадцать часов… сейчас кончается заупокойная месса по Люсьену, его повезут на кладбище… Не посылайте меня в Консьержери, позвольте проводить тело моего мальчика до кладбища Пер-Лашез; я вернусь, и тогда я ваш пленник…
– Ступайте, – сказал г-н де Гранвиль голосом, исполненным доброты.
– Последнее слово, господин генеральный прокурор. Деньги этой девицы, любовницы Люсьена, не украдены… В то краткое время, что я был с вашего позволения на свободе, я успел поговорить со своими людьми… Я так же уверен в них, как вы уверены в ваших чиновниках особых поручений. Стало быть, деньги, вырученные Эстер Гобсек от продажи процентных бумаг, будут найдены где-нибудь в ее комнате, когда скинут печати. Горничная намекнула мне, что покойница была очень подозрительна и, как она выразилась, большая скрытница; она, верно, спрятала банковые билеты в своей постели. Пускай обыщут тщательно постель, пускай все перетряхнут, вскроют матрацы, подушку, и деньги найдутся.
– Вы в этом уверены?
– Я уверен в относительной честности моих мошенников, они никогда не обманывают меня… Я распоряжаюсь их жизнью и смертью, я сужу, выношу приговоры и привожу их в исполнение без всяких этих ваших формальностей. Вы имели случай убедиться в моей власти над ними. Я отыщу деньги, украденные у супругов Кротта; я изловлю на месте одного из агентов Биби-Люпена, его правую руку, и открою тайну нантерского преступления… Это задаток! Если вы возьмете меня на службу правосудию и полиции, вы через год будете поражены моими разоблачениями; я честно буду тем, чем должен быть, и сумею с успехом выполнить все дела, какие мне поручат.
– Я ничего не могу обещать вам, кроме моего расположения. То, о чем вы меня просите, зависит не от одного меня… Только король, по предоставлению министра юстиции, имеет право помилования, а назначение на должность, которую вы желаете получить, утверждает префект полиции.
– Господин Гарнери, – доложил служитель канцелярии.
По знаку генерального прокурора вошел полицейский пристав особых поручений и, окинув Жака Коллена взглядом знатока, подавил свое изумление, когда услышал, как г-н де Гранвиль сказал Жаку Коллену: «Ступайте!»
– Не угодно ли вам будет дозволить мне, – сказал Жак Коллен, – обождать здесь, пока господин Гарнери не принесет то, что составляет всю мою силу, и пока вы не выскажете мне свое удовлетворение?
Это смирение, эта совершенная добросовестность тронули генерального прокурора.
– Ступайте! – сказал судья. – Я уверен в вас.
Жак Коллен низко поклонился – поклоном низшего перед высшим. Десять минут спустя г-н де Гранвиль получил письма в трех пакетах. Но важность этого дела и выслушанная им исповедь заслонили в его памяти обещание Жака Коллена исцелить г-жу де Серизи.
Очутившись на улице, Жак Коллен испытал невыразимую радость бытия, он почувствовал себя свободным и возрожденным к новой жизни; от Дворца правосудия он быстрым шагом направился к церкви Сен-Жермен-де-Пре, где месса уже кончилась. Гроб кропили святой водой, и он пришел вовремя, чтобы проститься по-христиански с бренными останками нежно любимого юноши; потом он сел в карету и проводил тело до кладбища.
В Париже на похоронах толпа, переполняющая церковь, обычно редеет по мере приближения к Пер-Лашез, за исключением тех редких случаев, когда имеют место обстоятельства чрезвычайные или умирает естественной смертью какая-нибудь знаменитость. Для выражения сочувствия времени достаточно и в церкви; у каждого свои дела, и все спешат к ним вернуться. Поэтому из десяти траурных карет едва ли четыре были заняты. Когда погребальное шествие приблизилось к кладбищу, сопровождающих было человек двенадцать, и среди них Растиньяк.
– Как хорошо, что вы верны ему, – сказал Жак Коллен своему старому знакомому.
Растиньяк выразил удивление, встретив тут Вотрена.
– Будьте спокойны, – сказал ему бывший жилец г-жи Воке, – я ваш раб хотя бы уже потому, что вижу вас здесь. Не пренебрегайте моей поддержкой. Я сейчас или очень скоро буду, как никогда, в большой силе. Вы спрятали концы в воду, вы очень ловки, но, как знать, не понадоблюсь ли я вам когда-нибудь? Я всегда к вашим услугам.
– Кем же вы собираетесь стать?
– Поставщиком каторги, вместо того, чтобы быть ее обитателем, – отвечал Жак Коллен.
Растиньяк жестом выдал свое отвращение.
– А ежели вас обокрадут?..
Растиньяк ускорил шаг, он желал отделаться от Жака Коллена.
– Вы не знаете, в каких обстоятельствах можете оказаться!
Подошли к могиле, вырытой рядом с могилой Эстер.
– Два существа, любившие друг друга и познавшие счастье, соединились, – сказал Жак Коллен. – Все же это счастье – гнить вместе. Я прикажу положить меня здесь.
Когда тело Люсьена опустили в могилу, Жак Коллен упал навзничь без сознания. Этот человек, обладавший столь сильной волей, не выдержал легкого стука комьев земли, брошенных могильщиками, в ожидании чаевых, на крышку гроба.
В эту минуту подошли два агента тайной полиции, узнали Жака Коллена, подняли его и отнесли в фиакр.
– Что там опять случилось? – спросил Жак Коллен, очнувшись.
Он сразу же увидел, что по обе его стороны сидят в фиакре агенты полиции, и один из них Рюфар; он кинул на него взгляд, проникший в душу убийцы, до самой тайны Гоноры.
– Дело в том, что генеральный прокурор требует вас, – отвечал Рюфар. – Вас искали повсюду и вот нашли на кладбище. А вы чуть было не сковырнулись в могилу этого молодого человека.
– Это Биби-Люпен послал вас меня разыскивать? – помолчав, спросил Жак Коллен у второго агента.
– Нет, это распорядился господин Гарнери.
– И он ничего вам не сказал?
Агенты выразительно переглянулись, как бы советуясь друг с другом.
– Ну, а как именно он отдал вам приказ?
– Он приказал отыскать вас немедленно, – отвечал Рюфар, – сказав, что вы в церкви Сен-Жермен-де-Пре, а если покойника уже вынесли, то вы на кладбище…
– Меня спрашивал генеральный прокурор?..
– По-видимому.
– Так и есть, – отвечал Жак Коллен, я ему нужен!
И он опять погрузился в молчание, встревожившее обоих агентов. Около половины третьего Жак Коллен вошел в кабинет г-на де Гранвиля и застал там новое лицо: то был предшественник г-на де Гранвиля, граф Октав де Бован, один из представителей кассационного суда.
– Вы забыли о том, в какой опасности находится госпожа де Серизи, а вы обещали мне спасти ее.
– Спросите-ка у них, господин генеральный прокурор, – сказал Жак Коллен, делая агентам знак войти, – в каком состоянии эти шалопаи нашли меня.
– Без памяти, господин генеральный прокурор! На краю могилы молодого человека, которого хоронили.
– Спасите госпожу де Серизи, – сказал г-н де Бован, – и вы получите все, о чем просите!
– Я не прошу ни о чем, – сказал Жак Коллен. – Я сдался на милость победителя. Господин генеральный прокурор должен был получить…
– Все письма получены! – сказал г-н де Гранвиль. – Но вы обещали спасти рассудок госпожи де Серизи. Можете вы это сделать? Не пустое ли это хвастовство?
– Надеюсь, что нет, – скромно отвечал Жак Коллен.
– Так поедемте со мной! – сказал граф Октав.
– Нет, сударь, я не могу ехать в одной карете с вами… – сказал Жак Коллен. – Я еще каторжник… Пожелав служить правосудию, я не начну с оскорбления его… Скажите ей, что приедет лучший друг Люсьена, аббат Карлос Эррера… Весть о предстоящей встрече со мной безусловно окажет на нее впечатление и ускорит перелом в болезни. Прошу меня извинить, мне придется еще раз принять обличье испанского каноника – затем лишь, чтобы оказать вам эту большую услугу!
– Мы встретимся там около четырех часов, – сказал г-н де Гранвиль. – Я должен ехать с министром юстиции к королю.
Жак Коллен пошел к своей тетке, ожидавшей его на Цветочной набережной.
– Ну как! Ты, выходит, отдался в руки Аисту? – сказала она.
– Да.
– Рискованное дело!
– Ничуть. Я должен был спасти жизнь бедняге Теодору. Его помилуют.
– А ты?
– Я буду тем, чем должен быть. Я по-прежнему буду держать в страхе всю нашу братию! Но надо приниматься за дело! Ступай скажи Паккару, чтобы принимался за работу, а Европе – чтобы выполнила мои приказания.
– Ерунда! Я уже знаю, как быть с Гонорой! – сказала страшная Жакелина. – Я не теряла времени попусту, не сидела сложа руки!
– Чтобы Джинета, эта корсиканская девка, была найдена, и завтра же! – продолжал Жак Коллен, улыбаясь тетке.
– Надо ее выследить!
– Тебе поможет Манон-Блондинка, – отвечал Жак.
– У нас еще целый вечер впереди! – возразила тетка. – Чего ты петушишься? Неужто пахнет жареным?
– Я хочу превзойти с первого же своего шага все, что было самого удачного в работе Биби-Люпена. У меня состоялся коротенький разговор с чудовищем, убившим моего Люсьена, и я живу только ради того, чтобы отомстить ему. У нас с ним будет равное положение, одинаковое оружие, те же покровители! Мне понадобится несколько лет, чтобы разделаться с этой гадиной! Но он получит удар прямо в сердце.
– А он, верно, и сам думает подложить тебе поросенка от той же свиньи, – сказала тетка. – Ведь он приютил у себя дочь Перада, помнишь ту девчонку, что была продана госпоже Нуррисон?
– Наша первая задача – это поставить ему слугу.
– Трудновато! Он знает в этом толк, – сказала Жакелина.
– Что же, ненависть помогает жить! Впряжемся в работу!
Жак Коллен взял фиакр и поехал на набережную Малакэ в свою келью, где он жил, рядом с квартирой Люсьена. Привратник, чрезвычайно удивленный его появлением, вздумал рассказывать ему по происшедших событиях.
– Я все знаю, – сказал ему аббат. – Меня оклеветали, несмотря на святость моей жизни, но благодаря вмешательству испанского посла я освобожден.
И быстро поднявшись в свою комнату, он вынул из-под обложки молитвенника письмо, написанное Люсьеном г-же де Серизи, когда он впал у нее в немилость, показавшись у Итальянцев в ложе Эстер.
В отчаянии, Люсьен, считая себя погибшим навеки, решил не посылать письма; но Жак Коллен прочел этот образец эпистолярного искусства, и, так как каждая строчка, написанная рукою Люсьена, была для него священна, он спрятал письма в молитвенник, высоко оценив поэтические выражения этой тщеславной любви. Когда г-н де Гранвиль рассказал ему, в каком состоянии находится г-жа де Серизи, этот столь проницательный человек правильно рассудил, что первопричинаа отчаяния и нервного расстройства знатной дамы кроется в размолвке между нею и Люсьеном, в которой она была повинна. Он знал женщин, как судья знает преступников, он угадывал самые сокровенные движения их сердца и сразу же подумал, что графиня, должно быть, приписывает смерть Люсьена также и своей суровости и горько себя за это упрекает. Несомненно, человек, обласканный ее любовью, не расстался бы с жизнью! Узнав, что несмотря на ее резкий поступок, ее любили по-прежнему, она могла выздороветь.
Если Жак Коллен был искусным командующим армией каторжников, надо сознаться, что он не в меньшей мере был искусным целителем душ. Появление этого человека в особняке де Серизи было позором и вместе с тем надеждой. В маленькой гостиной, смежной со спальней графини, собралось несколько человек: граф, врачи; но, оберегая свою честь от малейшей тени, граф де Бован выслал оттуда всех, оставшись лишь со своим другом. Для вице-председателя государственного совета, для члена тайного совета появление в его доме столь темной и зловещей личности было ощутительным ударом.
Жак Коллен переоделся. На нем были черные суконные панталоны и сюртук, его поступь, взгляд, движения – все было совершенно безукоризненно. Он поклонился обоим государственным мужам и спросил, может ли он войти в спальню графини.
– Она ждет вас с нетерпением, – сказал г-н де Бован.
– С нетерпением? Она спасена, – сказал этот грозный чародей. И в самом деле, побеседовав полчаса, Жак Коллен отворил дверь и сказал: «Пожалуйте, граф, вам больше нечего опасаться рокового исхода».
Графиня прижимала письмо к сердцу; она была спокойна: казалось, она примирилась сама с собой. Увидев ее, граф не мог сдержать свою радость.
«Вот они, эти люди, вершители нашей судьбы и судьбы народов! – подумал Жак Коллен, пожав плечами, когда два друга вошли в спальню. – Нечаянный вздох женщины выворачивает их мозги наизнанку, как перчатку! Они теряют голову от одного ее взгляда! Юбка покороче или подлиннее – и вот они в отчаянии бегают за ней по всему Парижу. Женские причуды отзываются на всем государстве! О, как выигрывает человек, когда он, подобно мне, освобождается от этой тирании ребенка, от этой пресловутой честности, низвергаемой со своих высот страстью, от детской злости, от этого чисто дикарского коварства! Женщина, гениальный палач, искусный мучитель, была и всегда будет гибелью для мужчины. Генеральный прокурор, министр, все они ослеплены: они поднимают все вверх дном ради писем герцогини или девчонки, ради спасения рассудка женщины, которая все равно и в здравом уме будет безумнее, нежели потерявши рассудок. – Он высокомерно улыбнулся. – Они мне верят, они прислушиваются к моим откровениям и оставят место за мною. Я буду всегда господствовать над этим миром, который вот уже двадцать лет повинуется мне…»
Жак Коллен применил и здесь ту удивительную силу, при помощи которой он некогда воздействовал на Эстер, ибо он владел, как неоднократно видел читатель, умением укрощать безумцев словом, взглядом, жестом, и он изобразил Люсьена как бы унесшим с собою в душе образ графини.
Ни одна женщина не устоит перед мыслью, что она была любима безраздельно.
«У вас нет более соперницы!» – было последним словом этого холодного насмешника.
Он пробыл целый час в гостиной, забытый всеми. Г-н де Гранвиль, войдя, увидел, что он стоит мрачный, погруженный в раздумье, подобное тому, какое должно овладевать человеком, решившимся произвести 18 брюмера в своей жизни.
Генеральный прокурор направился в спальню графини, где пробыл несколько минут, потом, вернувшись, подошел к Жаку Коллену и спросил его:
– Тверды ли вы в ваших намерениях?
– Да, сударь.
– Так вот, вы смените Биби-Люпена, а наказание осужденному Кальви будет смягчено.
– Его не пошлют в Рошфор?
– Ни даже в Тулон. Вы можете дать ему у себя работу. Но эта милость и ваше назначение зависят от того, как вы себя проявите в вашей должности за те шесть месяцев, пока вы будете помощником Биби-Люпена.
В первую же неделю помощник Биби-Люпена возвратил четыреста тысяч франков семье Кротта, выдал Рюфара и Годе.
Выручка за продажу государственных процентных бумаг Эстер Гобсек была найдена в постели куртизанки, и г-н де Серизи передал Жаку Коллену триста тысяч франков, отказанных ему по завещанию Люсьеном де Рюбампре.
Надгробие, выбранное Люсьеном для себя и Эстер, считается одним из самых красивых на кладбище Пер-Лашез, и место в их изножии предназначено для Жака Коллена.
Прослужив почти пятнадцать лет на своем посту, Жак Коллен ушел на покой около 1845 года.
1838 – 1847
Мелкие буржуа
Посвящается Констанс-Виктуар
Вот, сударыня, одно из тех творений, которые неведомым образом зарождаются в уме писателя и покоряют его уже тогда, когда он еще не знает, будет ли принято или отвергнуто его детище публикой, верховным судией нашего времени. Заранее уверенный, что Вы проявите снисходительность к моему неизменному пристрастию, я посвящаю Вам эту книгу: разве не должна она принадлежать Вам по праву, как некогда десятина принадлежала церкви, в ознаменование того, что по воле господа бога все расцветает и зреет – и в полях и в умах человеческих?
Комья глины, оставленной Мольером у подножия колоссальной статуи Тартюфа, оказались ныне достоянием руки скорее дерзостной, нежели умелой; но, сознавая, насколько я далек от величайшего из комедиографов, я тем не менее испытываю радость, что употребил крохи, подобранные на авансцене его театра, дабы показать современного лицемера в действии. Приступая к этому нелегкому начинанию, я черпал бодрость в том, что мое будущее произведение не касается вопросов религии: ведь в противном случае оно было бы отвергнуто Вами, чье благочестие общеизвестно; к тому же некий выдающийся писатель говорил о «безразличии в вопросах веры».
Да послужит двойное значение Вашего имени пророчеством для судьбы книги! Соблаговолите усмотреть в этом посвящении выражение почтительной признательности со стороны того, кто осмеливается именовать себя самым преданным вашим слугой.
Турникет на улице Сен-Жан, описание которого, приведенное в начале повести «Побочная семья», казалось в свое время скучным, – эта наивная деталь старого Парижа сохранилась ныне лишь на страницах книги. Перестройка городской ратуши привела к сносу целого квартала.
В 1830 году прохожие еще могли видеть изображение турникета на вывеске владельца винного погребка, но затем дом этот также пошел на слом. Воспоминание о нем рождает в памяти цепь воспоминаний такого же рода. Увы! Старый Париж исчезает с ужасающей быстротой. То тут, то там в нашем произведении промелькнет описание какого-нибудь средневекового строения, подобного тому, которое читатель найдет на первых страницах повести «Дом кошки, играющей в мяч». Один или два таких дома можно и поныне встретить в Париже; к их числу нужно отнести и находившийся на улице Фуар дом, где обитал судья Попино – образцовый представитель старой буржуазии. Здесь – развалины дома Фюльбера; там – набережная Сены во времена Карла IX. Разве не должен историк французского общества, этот новый Old mortality, спасать от забвения столь любопытные свидетельства прошлого, уподобляясь тем самым описанному Вальтером Скоттом старику, подновлявшему могильные памятники? Поистине нельзя назвать преувеличенными вопли, вот уже десять лет несущиеся со страниц нашей литературы: искусство начинает прикрывать своими цветами отвратительные фасады зданий, именуемых в Париже «доходными домами»; Виктор Гюго насмешливо сравнивает их с комодами.
Заметим кстати, что в Милане создание муниципальной комиссии del ornamento, в чьи задачи входит наблюдение за архитектурой уличных фасадов и обязательное рассмотрение плана каждого домовладения, относится к двенадцатому веку. И вот всякий, кто побывал в этом красивом городе, не мог не воздать должное патриотизму миланских буржуа и дворян, любуясь колоритными и своеобразными зданиями, украшающими его… Гнусная, безудержная спекуляция, уменьшающая из года в год высоту этажей, выкраивающая целую квартиру из площади, какую раньше занимала одна гостиная, уничтожающая сады, несомненно, окажет влияние на нравы Парижа. Людям вскоре придется проводить больше времени вне дома, нежели дома. Священная частная жизнь, когда каждый сам себе хозяин, где ты? Она доступна сейчас лишь тем, у кого не меньше пятидесяти тысяч франков годового дохода. Да и не многие миллионеры позволяют себе в наши дни роскошь владеть небольшим особняком, отделенным от улицы двором и защищенным от любопытных взоров прохожих тенистым садом.
Уравнивая состояния, параграф Кодекса, толкующий вопросы наследства, создал эти фаланстеры из известняка; в них ютятся по тридцать семейств, но зато они приносят домовладельцу сто тысяч франков годового дохода. Вот почему трудно сказать, сохранятся ли в Париже лет через пятьдесят дома, подобные тому, в котором проживала ко времени, когда начинается наше повествование, семья Тюилье; дом этот и впрямь любопытен, он заслуживает самого точного описания хотя бы для того, чтобы сравнить буржуазию былых времен с буржуазией наших дней.
Местоположение и внешний вид этого дома, служащего рамой для настоящей картины нравов, насквозь пропитаны духом мелкой буржуазии, что может привлечь или отвратить внимание каждого, в зависимости от его вкусов и склонностей.
Следует прежде всего заметить, что дом не принадлежит ни г-ну, ни г-же Тюилье; он принадлежит мадемуазель Тюилье, старшей сестре г-на Тюилье.
Означенный дом, приобретенный в первые месяцы после революции 1830 года мадемуазель Мари-Жанной-Бригиттой Тюилье, старшей в роду, расположен в самой середине улицы Сен-Доминик-д'Анфер, по правой ее стороне; особняк, в котором обитают Тюилье, смотрит своими окнами на юг.
Упорное стремление жителей Парижа расселяться на возвышенных местах правого берега Сены привело к запустению левого берега и уже много лет препятствовало продаже домовладений, расположенных в квартале, именуемом Латинским; и вот тогда-то некоторые причины, о которых мы скажем позднее, описывая характер и привычки г-на Тюилье, побудили его сестру приобрести недвижимое имущество. Она сделалась владелицей дома, уплатив за него весьма скромную сумму в сорок шесть тысяч франков, пристройки пошли за шесть тысяч; таким образом, общий размер купчей составил пятьдесят две тысячи франков. Подробное описание домовладения, сделанное в духе рекламной афиши, а также рассказ о результатах, достигнутых стараниями г-на Тюилье, объяснят читателю, каким образом многие состояния умножились после июля 1830 года, в то время как другие состояния пошли прахом.
Выходящий на улицу фасад дома сложен из оштукатуренного известняка, скребок каменщика провел на нем продольные и поперечные полосы, а время избороздило его волнистыми линиями, так что известняк стал походить на дорогой строительный камень. Такие уродливые фасады столь обычны для Парижа, что городу следовало бы выдавать награды домовладельцам, возводящим дома из настоящего камня и украшающим фасады резьбой. Серое здание в семь окон состояло из трех этажей и заканчивалось мансардами, крытыми черепицей. Большие, массивные ворота всем своим видом и стилем свидетельствовали, что дом построен во времена Империи – с целью найти полезное применение для части двора просторного старинного владения, воздвигнутого в эпоху, когда квартал Анфер был еще в известной чести у парижан.
Во дворе с одной стороны помещалось жилище привратника, с другой – виднелась лестница дома, выходящего на улицу. Два флигеля, вплотную примыкавшие к соседним домам, некогда служили каретными сараями, конюшнями, кухнями и другими подсобными помещениями для особняка, расположенного в глубине; однако после 1830 года они были превращены в склады.
Правый флигель арендовал оптовый торговец бумагой, которого именовали «господин Метивье-племянник», левый флигель – книгопродавец по имени Барбе, конторы этих негоциантов помещались над их складами. Книгопродавец занимал первый этаж, а торговец бумагой – второй этаж дома, выходившего на улицу. Метивье-племянник был скорее комиссионер, нежели торговец, а Барбе – скорее дисконтер, нежели книгопродавец; тот и другой нуждались в обширных складских помещениях, чтобы хранить в них либо партии бумаги, закупленные у впавших в нужду фабрикантов, либо многие тысячи отпечатанных книг, принятых в обеспечение ссуды.
Акула книготорговли и щука бумажной торговли жили в полном согласии, их коммерческие дела были свободны от лихорадочной суеты, этого неизменного спутника розничных операций; вот почему телеги и экипажи не часто нарушали дремотный покой двора, и привратнику приходилось время от времени выдергивать траву, пробивавшуюся между камнями. Господа Барбе и Метивье, играющие в нашем повествовании роль статистов, лишь изредка посещали своих домовладельцев; они с безупречной точностью вносили квартирную плату и потому слыли безукоризненными жильцами; в кругу Тюилье их считали людьми весьма почтенными.
Третий этаж дома, выходившего на улицу, состоял из двух квартир: одну занимал г-н Дюток, письмоводитель мирового судьи, чиновник в отставке и завсегдатай гостиной Тюилье, в другой жил герой настоящей Сцены; пока что мы ограничимся только упоминанием о том, что он платил квартирную плату в размере семисот франков, и сообщим, что появился он в доме Тюилье за три года до того, как поднялся занавес описываемой нами домашней драмы.
Письмоводитель, пятидесятилетний холостяк, занимал лучшую и бóльшую из двух квартир третьего этажа; квартирная плата за нее достигала тысячи франков; кроме того, он держал кухарку.
Через два года после того, как мадемуазель Тюилье приобрела дом, который прежний владелец украсил снаружи ставнями, а изнутри заново отремонтировал и уставил зеркалами, но, несмотря на это, не сумел ни продать, ни сдать внаем, она уже умудрилась извлечь из него семь тысяч двести франков дохода; помимо этого, Тюилье, жившие на широкую ногу, как вскоре увидит читатель, наслаждались едва ли не лучшим садом в квартале, деревья которого отбрасывали тень на маленькую пустынную улочку Нэв-Сент-Катерин.
Их особнячок, расположенный между двором и садом, походит одновременно на прихотливое жилище какого-нибудь разбогатевшего буржуа времен Людовика XIV или председателя парламента либо на приют ушедшего в свою науку ученого. Его источенный временем, некогда красивый строительный камень до сих пор хранит своеобразное величие эпохи четырнадцатого Людовика (да простит нам читатель сей варваризм!); фасад выложен каменной кладкой, выступы из красного кирпича напоминают те, что можно видеть на стенах конюшен Версаля, сводчатые окна украшены женскими головками, венчающими арки и подпирающими подоконники. Наконец, дверь, ведущая в сад, верхняя часть которой вся в мелких застекленных переплетах, а нижняя сплошная, выполнена в скромном и благопристойном стиле, нередко отличавшем павильоны привратников в королевских замках.
Особнячок этот с пятью окнами в ряд – трехэтажный. Особенно примечательна в нем кровля с четырьмя скатами, ее венчает флюгер и украшают великолепные дымовые трубы и слуховые окна. Возможно, дом – лишь обломок какого-нибудь огромного особняка, но автор, не поленившийся изучить старые планы Парижа, не обнаружил в них ничего, что подтверждало бы это предположение; надо сказать, и купчая, хранящаяся у мадемуазель Тюилье, свидетельствует, что во времена Людовика XIV жилище это принадлежало знаменитому художнику по эмали Петито, к которому оно перешло от председателя парламента Лекамю. Вполне вероятно, что Лекамю жил здесь в то время, пока он возводил свой знаменитый особняк на улице Ториньи.
Таким образом, здесь обитали и Мантия и Искусство. И надо признать, что внутреннее устройство свидетельствует о необыкновенно удачном сочетании комфорта и красоты! Направо от входа в квадратную залу, служащую передней, виднеется каменная лестница, а под ней – дверь, ведущая в подвал; налево расположены двери в гостиную, два окна которой выходят в сад, и в столовую, смотрящую окнами во двор. Столовая эта примыкает к кухне, а та, в свою очередь, служит продолжением складов Барбе. За лестницей, со стороны сада, находится роскошный удлиненный кабинет с двумя окнами. На втором и третьем этажах помещаются две просторные квартиры, а комнаты слуг приютились под самой крышей – их нетрудно угадать по слуховым окнам. Великолепный очаг украшает четырехугольную прихожую, свет в нее проникает сквозь две стеклянные двери, устроенные одна против другой. Эта комната, выложенная белым и черным мрамором, приковывает внимание каждого своим потолком, пересеченным выступающими балками, некогда покрытыми позолотой; однако позднее, должно быть, в годы Империи, они были выкрашены белилами. Напротив очага возвышается фонтан красного мрамора с мраморным же бассейном. Все три двери – из кабинета, гостиной и столовой – снабжены овальными наличниками, краска на них облупилась и требует срочного обновления. Работа столяра, мастерившего двери, отличается некоторой топорностью, но украшения не лишены мастерства. В гостиной, стены которой обшиты деревянной панелью, все напоминает о великом веке: и камин из лангедокского мрамора, и потолок с лепными украшениями по углам, и форма окон в мелких переплетах. Столовая, куда можно попасть из гостиной через двустворчатую дверь, выложена каменными плитами, по ее стенам идет дубовая некрашеная панель; стены над панелью вместо старинной обивки оклеены ужасающими современными обоями. Потолок здесь из каштана, излюбленного в прошлом строительного материала. Кабинет, перестроенный Тюилье, являет собою полную мешанину стилей. Золото и белила лепного орнамента гостиной настолько истерлись, что глаз замечает на месте золота лишь красные полосы, а пожелтевшие и потрескавшиеся белила шелушатся, как чешуя. Никогда еще латинское изречение «otium cum dignitate» не могло найти себе лучшего комментария в глазах поэта, нежели это благородное жилище. Резные чугунные перила на лестницах достойны высокого судебного чиновника и прославленного художника; но лишь наблюдатель, наделенный поэтическим воображением, сумеет отыскать следы безукоризненного вкуса былых владельцев дома в узорчатых балконах второго этажа и в некоторых других приметах величавой старины. И сами Тюилье и их предшественники немало потрудились над тем, чтобы обезобразить эту жемчужину высокопоставленных буржуа с помощью привычек и устремлений мелких буржуа. Судите сами, как должны выглядеть стулья из темного ореха с сиденьями, набитыми конским волосом, столик красного дерева, покрытый клеенкой, такого же дерева буфеты, лампы с колпаками из гофрированной жести, обои с красным бордюром, отвратительные гравюры, выдержанные в черных тонах, коленкоровые занавески, обшитые красными басонами, в столовой, где пировали друзья Петито!.. Представьте себе, какое впечатление производят висящие в гостиной портреты самого г-на Тюилье, его супруги и его сестры, мадемуазель Тюилье, написанные Пьером Грассу – художником, которого так ценят буржуа; карточные столики, которые служат уже двадцать лет; консоли времен Империи, чайный столик с основанием в виде большой лиры; гнутая мебель красного дерева, обитая бархатом с цветами по шоколадному фону; стоящие на камине часы, изображающие богиню Беллону; канделябры с витыми колонками; занавеси из шерстяной камки или из вышитого муслина с подхватами из штампованной меди!.. На паркете разостлан купленный по случаю ковер. В великолепной продолговатой прихожей стоят обитые бархатом скамеечки, а стены со скульптурными украшениями скрыты разнокалиберными шкафами, которые перекочевали сюда из всех квартир, где в разное время проживало семейство Тюилье. Фонтан укрыт дощатым настилом, на нем коптит лампа образца 1815 года. И, наконец, страх – это отвратительное божество – заставил нынешних владельцев дома приладить со стороны сада и со стороны двора двойные, обитые железом двери, которые открываются утром и запираются на ночь.
Нетрудно объяснить эту достойную сожаления профанацию памятника частной жизни семнадцатого века влиянием частной жизни девятнадцатого века. Должно быть, в начале Консульства какой-нибудь разбогатевший каменщик, владелец этого маленького особняка, возымел мысль извлечь пользу из участка земли, выходившего на улицу: он-то, видимо, и разрушил красивые ворота между маленькими флигельками, составлявшими неотъемлемую часть этого милого глазу обиталища, если нам будет позволено употребить сие старинное слово; поистине предприимчивость парижского домовладельца накладывает свое клеймо на чело изящных строений с той же неумолимостью, с какой газета и ее типографские машины, фабрика и ее склады, коммерция и ее конторы вытесняют аристократию, старинную буржуазию, людей фиска и мантии отовсюду, где те прежде блистали. Может ли быть более любопытное занятие, нежели изучение документов, относящихся к домовладениям города Парижа! В доме, некогда принадлежавшем шевалье Пьеру Байарду дю Террайлю, на улице Батай, ныне разместилась частная лечебница; на том месте, где в свое время был расположен особняк Неккера, представители третьего сословия выстроили длинную вереницу домов. Вслед за ушедшими королями уходит и старый Париж. И если некая польская княгиня спасает один шедевр архитектуры, то множество маленьких дворцов, подобных жилищу Петито, попадают в руки всякого рода Тюилье! Вот почему мадемуазель Тюилье и сделалась владелицей этого дома.
Когда пало министерство Виллеля, г-н Луи-Жером Тюилье, прослуживший к тому времени двадцать шесть лет в финансовом ведомстве, сделался помощником правителя канцелярии; но не успел он вволю насладиться этой не бог весть какой должностью, впрочем, некогда казавшейся ему недосягаемой, как события июля 1930 года вынудили его подать в отставку. Он весьма тонко рассчитал, что вновь пришедшие к власти люди будут рады получить в свои руки еще одну вакансию и в знак признательности проявят великодушие и щедрость при назначении ему пенсии; расчет Тюилье оказался верным: ему была установлена пенсия в тысячу семьсот франков.
Едва только осмотрительный помощник правителя канцелярии заговорил о своем намерении уйти от дел, как его сестра, которая с бóльшим правом могла именоваться подругой жизни Тюилье, чем его жена, исполнилась тревоги за будущее старого служаки.
«Что станется с Тюилье?..» – этот вопрос задавали друг другу в равной мере напуганные мадам и мадемуазель Тюилье, обитавшие в ту пору в небольшой квартирке на четвертом этаже дома на улице Аржантей.
– Хлопоты, связанные с пенсией, займут его на некоторое время, – заявила в конце концов мадемуазель Тюилье, – кроме того, я подумываю о том, как выгоднее поместить свои сбережения. И тут для него будет широкое поле деятельности… Да, да, забот у домовладельца не меньше, чем у чиновника.
– О, милая сестра, вы спасаете ему жизнь! – воскликнула г-жа Тюилье.
– Но я всегда думала об этом неминуемом кризисе в жизни Жерома! – ответила старая дева с покровительственным видом.
Мадемуазель Тюилье слишком часто слышала, как сослуживцы брата говорили ему: «Такой-то умер! Он и двух лет не прожил после выхода в отставку!» Она слишком часто слышала, как Кольвиль, закадычный друг Тюилье, такой же чиновник, как и он, подшучивал над этим климактерическим периодом бюрократов, приговаривая: «И нас с тобой не минует чаша сия!..» Поэтому старуха отчетливо представляла себе размеры опасности, угрожавшей ее брату. Переход от деятельности к полному безделью – и впрямь критический возраст для любого чиновника! Те из них, кто не умеет или не может придумать себе после ухода на пенсию какое-либо дело, неузнаваемо меняются: одни медленно умирают, другие страстно увлекаются рыбной ловлей, ибо это пустое занятие во многом напоминает их прежний труд в канцеляриях; наиболее хитроумные становятся акционерами, теряют все свои сбережения и чувствуют себя счастливыми, если им удается получить какое-нибудь местечко в предприятии, которое после первого краха и первой ликвидации дел попадает в руки более ловких людей, уже давно на него зарившихся; и тогда наш отставной чиновник довольно потирает себе руки, уже не отягощенные деньгами, и говорит: «А все же я угадал, что у этого дела большое будущее…» Но почти все без исключения отставные чиновники тщетно пытаются избавиться от своих прежних привычек.
– Я знаю таких, – говорил Кольвиль, – которых снедает спленн, этот бич отставных чиновников.
Кольвиль произносил так слово «сплин»!
– Они, – продолжал он, – страдают от своего постоянно возвращающегося недуга, их мучит не ленточный глист, а картонная папка с ленточками. Коротышка-Пуаре не мог спокойно смотреть на белую картонную папку в синей окантовке: при виде этого любезного его сердцу предмета он менялся в лице, его зеленоватые щеки становились желтыми, как воск.
Мадемуазель Тюилье слыла добрым гением в доме брата; ознакомившись ближе с ее историей, читатель и сам увидит, что старая дева обладала достаточной силой и достаточной решимостью. Она была на голову выше окружающих, и это позволяло ей иметь верное суждение о Жероме, которого она тем не менее обожала. Мало-помалу надежды, возлагаемые ею на своего кумира, рассеялись, как дым; ее чувство к брату было столь сходно с материнским, что она отнюдь не заблуждалась на его счет и отлично сознавала, какая роль уготована в обществе для помощника правителя канцелярии. Тюилье и его сестра были детьми старшего привратника министерства финансов. Близорукость Жерома помогла ему избежать многочисленных рекрутских наборов и призывов в армию. Отец полагал свою славу в том, чтобы сделать из сына чиновника. В начале нашего века армия требовала столько людей, что в канцеляриях оставалось много свободных вакансий, и нехватка младших чиновников позволила толстому папаше Тюилье облегчить своему сыну восхождение по первым ступеням бюрократической лестницы. Привратник умер в 1814 году, когда Жером ожидал места помощника правителя канцелярии. Этой надеждой ограничивалось все состояние молодого чиновника. Толстяк Тюилье и его жена, скончавшаяся в 1810 году, ушли на пенсию в 1806 году; кроме этой пенсии, у них не было средств к существованию: все сбережения они употребили на то, чтобы дать сыну приличное образование и поддерживать на первых порах его и дочь. Широко известно, какое влияние оказала Реставрация на положение канцелярских служащих. После упразднения сорока одного департамента освободилось огромное число достойных чиновников, которые соглашались занять более скромные места, чем те, что они занимали прежде. К сим благоприобретенным правам присоединялись права, так сказать, врожденные – права семейств, разоренных и изгнанных революцией. Страшась мощного напора двух этих потоков, Жером в душе радовался уже тому, что его не отрешили от должности, воспользовавшись первым же предлогом. Так он дрожал до того самого дня, когда по воле случая сделался наконец помощником правителя канцелярии и тем самым приобрел уверенность, что если и будет уволен в отставку, то не иначе, как с внушительной пенсией. Беглый обзор объяснит читателю, сколь скудны были способности и познания г-на Тюилье: он знал латынь, математику, историю и географию в тех пределах, в каких эти предметы преподают в пансионе, но дальше второго класса не пошел, ибо его отец поспешил воспользоваться подходящим случаем и, расхвалив великолепный почерк сына, пристроил юношу в министерство. Таким образом, Тюилье-младший начал вносить записи в книгу государственных доходов, вместо того, чтобы изучать основы риторики и философии. Сделавшись винтиком министерской машины, он мало интересовался изящной словесностью и того меньше – изящными искусствами; с годами он понаторел в своем деле, и когда во времена Империи случай помог ему проникнуть в сферу старших служащих, он приобрел там внешний лоск; но ума этот сын привратника так и не набрался. Сознавая собственное невежество, он научился молчать, и это пошло ему на пользу; императорский режим приучил Жерома Тюилье к беспрекословному повиновению, которое так нравится старшим начальникам; именно эта черта и принесла ему впоследствии должность помощника правителя канцелярии. Мало-помалу привычные навыки превратились в опыт, обходительные манеры и умение молчать возместили недостаток образования. Посредственность Тюилье обернулась достоинством в пору, когда возникла потребность в человеке посредственном. В правительственных кругах опасались вызвать недовольство среди обеих партий Палаты, каждая из которых покровительствовала собственному кандидату на освободившуюся вакансию, и в министерстве вышли из затруднения, сославшись на законные права многоопытного чиновника. Вот каким образом Тюилье сделался помощником правителя канцелярии… Мадемуазель Тюилье, зная, что ее брат ненавидит чтение и не способен заменить канцелярскую возню никаким другим занятием, приняла мудрое решение возложить на него заботы по управлению домом, уходу за садом, заставить его окунуться с головой в мелкие житейские интересы буржуазного существования, в котором интриги соседей – уже событие.
Хлопоты, связанные с переездом семьи Тюилье с улицы Аржантей на улицу Сен-Доминик-д'Анфер и с приобретением собственного дома, поиски подходящего привратника и хороших жильцов занимали Тюилье на протяжении 1831 и 1832 года. Когда все это было осуществлено и сестра убедилась, что Жером успешно справляется со своими новыми обязанностями, она подыскала ему другие занятия, о которых речь пойдет впереди; их характер неотделим от характера самого Тюилье, на котором поэтому небесполезно остановиться.
Сын министерского привратника Тюилье был, что называется, красавец-мужчина: выше среднего роста, стройный, он был наделен от природы довольно приятным лицом; но как только он снимал очки, впечатление менялось, и его физиономия, как это бывает со многими близорукими людьми, приобретала отталкивающее выражение, ибо из-за привычки смотреть на мир сквозь стекла его зрачки подернулись какой-то мутной пленкой.
В возрасте от восемнадцати до тридцати лет Тюилье-младший пользовался успехом у женщин определенного круга, начиная с жен мелких буржуа и кончая супругами начальников отделений; как известно, в годы Империи война, можно сказать, обездолила парижское общество, призвав людей энергических на поля сражений; быть может, именно этим, как заметил некий выдающийся медик, и объясняется та дряблость, что присуща поколению наших современников, людей первой половины девятнадцатого века.
Тюилье, вынужденный за отсутствием ума искать иных средств, чтобы привлечь к себе внимание, выучился вальсу и другим танцам, достигнув в этом известной степени совершенства; красавец-Тюилье, как его называли в те годы, великолепно играл на бильярде, умел вырезать силуэты из бумаги; его друг Кольвиль обучил Тюилье пению, и тот вполне сносно исполнял модные романсы. Все эти маленькие таланты принесли ему ту видимость успеха, которая обманывает молодежь и внушает ей необоснованные надежды на будущее. С 1806 по 1814 год мадемуазель Тюилье верила в своего брата так, как принцесса Орлеанская верит в Луи-Филиппа она гордилась Жеромом; ей казалось, что он движется прямехонько к посту директора департамента, опираясь на успех, который в то время открыл перед ним двери некоторых салонов, куда бы ему не попасть вовеки, если бы не превратности истории, превратившие парижское общество времен Империи в невероятную мешанину.
Однако победы красавца-Тюилье длились обычно недолго, женщины старались удержать его не больше, чем он сам – сохранить их; его судьба могла бы послужить отличным сюжетом для комедии под названием «Дон-Жуан поневоле». Репутация красавца-мужчины утомляла Тюилье, старила его; при взгляде на его лицо, покрытое морщинами, как лицо старой кокетки, ему можно было дать на двенадцать лет больше, чем значилось в его метрике. От былых успехов у Жерома осталась привычка глядеться в зеркало, изящно изгибать стан и принимать позы танцора – он все еще сохранял уже ненужные манеры обольстителя, которые в свое время принесли ему прозвище красавца-Тюилье!
То, что было уместно в 1806 году, в 1826-м выглядело смешным. Жером сохранил отдельные детали костюма щеголя Империи; впрочем, они вполне приличествуют внушительной осанке бывшего помощника правителя канцелярии. Он носит белый шарф в многочисленных складках, закрывающий подбородок; концы этого шарфа так топорщатся, что, кажется, угрожают прохожим и позволяют им любоваться весьма кокетливым узлом, который во время оно завязывали на шее Тюилье ручки прелестниц. Умеренно следуя моде, он приспосабливает ее к своей фигуре, нахлобучивает шляпу на затылок, надевает летом тонкие чулки и башмаки; его удлиненные сюртуки походят на длинные сюртуки времен Империи; он до сих пор не отказался от накрахмаленных жабо и белых жилетов, неизменно вертит в руках тросточку образца 1810 года и никогда не горбится на ходу. Никому из тех, кто встречает Тюилье, когда тот прогуливается по бульварам, не приходит в голову, что перед ним сын человека, готовившего завтраки чиновникам министерства финансов и носившего ливрею государственных служащих времен Людовика XVI: Жером Тюилье походит на императорского дипломата или на старого префекта.
Надо сказать, что мадемуазель Тюилье не только в простоте душевной потворствовала слабостям своего брата, поддерживая в нем всепоглощающее стремление заботиться о собственной персоне, что было для нее естественным продолжением культа, которым она окружала свое божество, но она еще и даровала брату все семейные радости, поселив рядом с ним чету, которая вела такой же образ жизни, какой вели и сами Тюилье.
Речь идет здесь о г-не Кольвиле, ближайшем друге Тюилье; но, прежде чем живописать Пилада, тем более необходимо покончить с портретом Ореста и объяснить, почему Тюилье, красавец-Тюилье, не имел семьи, ибо не может быть подлинной семьи без детей. Нам предстоит коснуться тут одной из тех глубоких тайн, которые остаются погребенными в недрах частной жизни и чьи отдельные черточки всплывают на поверхность лишь тогда, когда горестные, тщательно скрываемые стороны семейных отношений становятся особенно болезненными; мы хотим рассказать о жизни мадам и мадемуазель Тюилье, ибо до сих пор мы говорили главным образом лишь о служебной карьере Жерома Тюилье.
Мари-Жанна-Бригитта Тюилье была четырьмя годами старше брата, которому она посвятила всю свою жизнь; родителям легче было добиться положения для сына, нежели скопить приданое дочери. Для некоторых натур невзгоды, подобно маяку, освещают темные и низменные стороны социальной жизни. Бригитта обладала несравненно большей энергией и умом, чем ее брат, она принадлежала к числу тех характеров, которые под молотом нужды закаляются, мужают и становятся стойкими, можно сказать, несгибаемыми. Стремясь к независимому положению, она решила вырваться из привратницкой и стать полной хозяйкой собственной судьбы.
В возрасте четырнадцати лет Бригитта поселилась в небольшой мансарде, в нескольких шагах от казначейства, помещавшегося на улице Вивьен, и неподалеку от улицы Врильер, где находился банк. Она мужественно принялась за малоизвестное, но выгодное ремесло – изготовление мешков для банка, казначейства и других крупных финансовых учреждений; благодаря некоторым покровителям отца дело у нее пошло успешно. Через два года девушка наняла двух работниц. Вкладывая свои сбережения в государственные бумаги, она к 1814 году, то есть через пятнадцать лет, располагала уже тремя тысячами шестьюстами франков годового дохода. Бригитта тратила мало; пока был жив отец, она почти ежедневно обедала у него; кроме того, государственная рента во время последних конвульсий Империи, как известно, обесценилась и упала до сорока с чем-то франков при номинальной цене в сто франков: вот почему на первый взгляд чрезмерная цифра доходов мадемуазель Тюилье на самом деле вполне объяснима.
После смерти бывшего привратника двадцатисемилетняя Бригитта и двадцатитрехлетний Жером решили поселиться вместе. Брат и сестра были необыкновенно привязаны друг к другу. Если Жером, пользовавшийся в ту пору наибольшим успехом, испытывал нужду в деньгах, его сестра, носившая платья из грубой шерстяной материи и постоянно ходившая с исколотыми иглою пальцами, неизменно давала брату несколько луидоров. В глазах Бригитты Жером был самым красивым и очаровательным мужчиной Французской империи. Она мечтала о том, чтобы вести хозяйство брата, быть причастной секретам этого Линдора и Дон-Жуана, прислуживать ему с собачьей преданностью; с чувством, напоминавшим влюбленность, она решила принести себя в жертву кумиру, чей эгоизм не только поддерживала, но даже возводила на пьедестал; она продала мастерскую своей старшей помощнице и поселилась на улице Аржантей вместе с Жеромом, сделавшись, таким образом, сразу и матерью, и защитницей, и служанкой этого баловня женщин. Тем не менее Бригитта, следуя естественной осторожности старой девы, обязанной всем лишь собственному благоразумию и усердию, утаила от брата истинный размер своего состояния: она, без сомнения, опасалась, как бы он, проведав о ее капитальце, не предался мотовству; вот почему она ограничилась тем, что вносила в дом по шестьсот франков ежегодно, – эти деньги вместе с тысячью восемьюстами франков жалованья Жерома позволяли брату и сестре сводить концы с концами.
С первых же дней этого своеобразного союза Тюилье прислушивался к мнению сестры, как к словам оракула, он во всем советовался с нею, посвящал ее в свои тайны, позволяя старой деве вкушать плоды того стремления к владычеству, которым грешила почтенная особа. Но разве сестра не пожертвовала всем ради брата, разве не была она ему предана всей душой, разве не жила она только им одним? Влияние Бригитты на Жерома удивительным образом возросло благодаря браку, в который он вступил по ее настоянию в 1814 году.
Когда люди, выдвинутые на передний план Реставрацией, начали упорно завоевывать себе позиции в канцеляриях, а представители старого общества стали оттеснять буржуазию, Бригитта из разговоров с братом поняла, что социальный кризис безвозвратно разрушил их общие упования. Отныне красавец-Тюилье уже не мог рассчитывать на успех в салонах знати, которая пришла на смену разночинному обществу Империи.
Тюилье не чувствовал в себе сил окунуться в политику; как и сестра, он понял, что необходимо воспользоваться уходящей молодостью и упрочить свое положение. При таких обстоятельствах ревнивая Бригитта пожелала устроить женитьбу брата столько же в его интересах, сколько и в своих собственных, ибо лишь она одна могла составить его счастье, а будущей г-же Тюилье отводилась второстепенная роль существа, годного лишь на то, чтобы родить ребенка, а еще лучше двух. Если Бригитта и не обладала умом, который был бы под стать ее воле, то, во всяком случае, отчетливо сознавала меру своего честолюбия: ведь старая дева не могла похвастаться образованием, она просто шла вперед напролом, с упорством человека, привыкшего к тому, что ему все удается. Она была превосходной хозяйкой, обладала духом бережливости, умением жить и любовью к труду. Бригитте легко было понять, что ей вовек не найти жену для Жерома среди семейств, стоящих ступенькой выше на общественной лестнице, ибо люди этого круга обязательно заинтересуются домашним укладом жениха и исполнятся тревогой, узнав, что в доме уже есть хозяйка; и она решила искать невесту в социальных слоях рангом пониже, среди людей, которых можно ослепить положением Тюилье; довольно скоро ей представилась подходящая партия для брата.
У некоего Ланпрэна, мелкого служащего банка, проработавшего там много лет, была единственная дочь по имени Селеста. Мадемуазель Селеста Ланпрэн должна была унаследовать состояние матери, также единственной дочери одного землевладельца; состояние это заключалось в нескольких арпанах земли в окрестностях Парижа, которые старик все еще обрабатывал; вторую часть приданого Селесты составляло состояние добряка Ланпрэна, бывшего служащего банкирских домов Телюссона и Келлера, перешедшего во Французский банк с первых дней его основания Ланпрэн дослужился до должности старшего кассира и пользовался уважением и доверием управляющего банком и ревизоров.
Поэтому совет банка, прослышав, что речь идет о браке Селесты с почтенным чиновником министерства финансов, пообещал в качестве свадебного подарка шесть тысяч франков. Эта сумма, прибавленная к двенадцати тысячам франков, которые давал папаша Ланпрэн, и двенадцати тысячам франков, которые обещал господин Галар, огородник из Отейля, увеличивала размер приданого Селесты до тридцати тысяч франков. Старик Галар, господин и госпожа Ланпрэн были в восторге от этого брачного союза; старший кассир знал мадемуазель Тюилье и считал ее одной из наиболее достойных и наиболее честных девиц Парижа. К тому же Бригитта ослепила его своими облигациями государственного займа, не преминув сообщить при этом, что она никогда не выйдет замуж; ни старший кассир, ни его супруга, истинные люди золотого века, никогда бы не позволили себе судить Бригитту: они были просто ошеломлены блестящим положением красавца-Тюилье, и свадьба состоялась, как принято выражаться, ко всеобщему удовольствию.
Управляющий банком и секретарь правления были свидетелями со стороны невесты, а г-н де ла Биллардиер, начальник отделения, и г-н Рабурден, правитель канцелярии, – свидетелями со стороны Тюилье. Через шесть дней после свадьбы старик Ланпрэн стал жертвой дерзкой кражи, о которой немало писали газеты того времени, но под влиянием событий 1815 года она довольно скоро была забыта. Ворам удалось скрыться, Ланпрэн пожелал возместить недостачу, и, хотя банк отнес украденную сумму на счет убытков, несчастный старик умер от горя, не вынеся позора: семидесятилетний служака рассматривал этот налет как посягательство на его незапятнанную репутацию.
Госпожа Ланпрэн предоставила все наследство своей дочери, г-же Тюилье, а сама переехала жить к отцу в Отейль. В 1817 году старик внезапно умер; необходимость обрабатывать или сдавать в аренду огороды и поля пугала г-жу Ланпрэн, и она попросила Бригитту, чьи способности и честность всегда восхищали ее, обратить в деньги земельные владения покойного Галара и устроить все таким образом, чтобы состояние перешло к ее дочери, г-же Тюилье, ей же была бы оставлена лишь рента в полторы тысячи франков и дом в Отейле. Распроданные по частям земли старого огородника принесли тридцать тысяч франков. Наследство, завещанное Ланпрэном, достигало такой же суммы, и оба эти состояния вместе с приданым Селесты составили в 1818 году девяносто тысяч франков.
Приданое молодой женщины было обращено в акции Французского банка, когда они стоили по девятьсот франков каждая. На остальные шестьдесят тысяч франков Бригитта приобрела государственную ренту, приносившую годовой доход в размере пяти тысяч франков (в ту пору курс ее был именно таким), из них полторы тысячи франков были предоставлены в пожизненное пользование вдове Ланпрэн. Таким образом, к началу 1818 года семейство Тюилье располагало годовым доходом в одиннадцать тысяч франков, причем ими бесконтрольно распоряжалась Бригитта; доход этот складывался из шестисот франков, которые вносила в дом она сама, из тысячи восьмисот франков должностного оклада Тюилье, из трех с половиной тысяч франков ренты Селесты и из дивидендов от тридцати четырех акций Французского банка. Теперь ей следовало прежде всего определить размер расходов каждого не только для того, чтобы пресечь какие бы то ни было возражения, но и для того, чтобы не возникало никаких споров.
Прежде всего Бригитта предоставила пятьсот франков в месяц брату и повела дело так, чтобы расходы по дому не превышали пяти тысяч франков в год; она положила по пятьдесят франков в месяц своей невестке, заявив, что сама удовольствуется сорока франками. Чтобы подкрепить свое владычество денежным могуществом, Бригитта накапливала доходы от принадлежавшей лично ей ренты; в канцеляриях поговаривали, будто она при посредничестве брата, служившего ей дисконтером, давала деньги в рост. За пятнадцать лет – с 1815 по 1830 год – капитал Бригитты вырос до шестидесяти тысяч франков; столь внушительную сумму можно, однако, объяснить финансовыми операциями с государственной рентой (которую порою можно было приобрести за сорок процентов номинальной стоимости), оставив без внимания более или менее обоснованные обвинения в ростовщичестве, ибо они не играют существенной роли для нашей истории.
С первых же дней Бригитта полностью подчинила себе злополучную г-жу Тюилье. Для этого оказалось достаточно несколько раз пришпорить бедняжку и покрепче натянуть узду, – к тирании прибегать даже не пришлось, ибо жертва быстро покорилась. Селеста, как это в свое время предугадала Бригитта, была лишена ума и образованности, она привыкла к сидячему образу жизни, к спокойному, размеренному существованию и обладала удивительно мягким нравом; она была благочестива в самом глубоком смысле этого слова и охотно искупила бы самым строгим покаянием ущерб, который ей довелось бы невольно причинить своему ближнему. Мать Селесты сама вела хозяйство, все подавала дочери, и молодая женщина совсем не знала жизни; анемичная от природы, она мало двигалась и быстро уставала; Селеста была типичной дочерью парижского народа, который не может похвалиться красивыми детьми, ибо они вырастают в бедности, в обстановке непосильного труда, в душных помещениях, лишенных самых необходимых удобств и простора.
Ко времени своего замужества Селеста была невысокой женщиной с неприятного оттенка белесыми волосами, рыхлой, медлительной, неуклюжей, не умевшей себя держать. Ее слишком широкий и выпуклый лоб походил на лоб человека, больного водянкой мозга; этот восковой купол нависал над маленьким остроконечным личиком, напоминавшим мордочку мыши: немногие гости, присутствовавшие на свадьбе, невольно подумали при взгляде на нее, что эту женщину раньше или позже ждет безумие. Ее светло-голубые глаза и губы, на которых застыла неподвижная улыбка, еще больше укрепляли в такой мысли. В тот торжественный день она своим видом, поведением и манерами напоминала приговоренного к смерти, который мечтает лишь о том, чтобы все поскорее закончилось.
– Она малость тронута!.. – сказал Кольвиль Тюилье.
Бригитта была призвана сыграть роль ножа, которому предстояло безжалостно вонзиться в это беззащитное существо. Старая дева была полным контрастом молодой женщине. Она отличалась строгой красотою, у нее были правильные черты лица, теперь уже увядшего от трудов, ибо ей с детства приходилось выполнять тяжелые и неблагодарные работы, и от тайных лишений, которым она подвергала себя, чтобы прикопить деньжат. Краски на ее лице рано поблекли, и оно приобрело сероватый оттенок. Под карими глазами залегли темные круги, отливавшие синевой; верхняя губа была украшена черным пушком, точно вымазана сажей. Тонкие, вечно сжатые губы и надменный лоб, увенчанный некогда черными, а теперь посеребренными сединой волосами, дополняли ее портрет. У нее была осанка красивой женщины, и все в ней выдавало тот опыт, какой приобретается к тридцати годам, когда страсти угасают и, как говорят привратники, на лице человека проступает печать его похождений.
Для Бригитты Селеста была счастливой находкой – человеком, которого надо обтесать, новым подданным, которого надо поработить. Она не упускала случая уколоть невестку ее вялостью – то было любимое словечко старой девы – и испытывала жестокую радость, подстегивая энергию этого слабого создания, хотя, надо заметить, пришла бы в полное отчаяние, окажись ее невестка человеком деятельным. Селеста испытывала чувство неловкости, видя, что Бригитта с утра до вечера неутомимо хлопочет по хозяйству, и всячески старалась ей помочь. Кончилось это тем, что г-жа Тюилье вскоре заболела, и Бригитта окружила ее заботами, как любимую сестру, но не упускала случая сказать в присутствии Тюилье: «Ведь у вас так мало сил, милочка! Не утруждайте же себя!..» Она выставляла напоказ нерасторопность Селесты и утешала ее так, как умеют делать лишь старые девы, – выпячивая тем самым собственные достоинства.
При этом, как все люди с деспотической натурой, которые любят подчинять окружающих своей власти и вместе с тем испытывают почти нежное сочувствие к физическим страданиям, Бригитта ухаживала за невесткой настолько внимательно, что даже поразила мать Селесты, приехавшую навестить дочь.
Когда г-жа Тюилье оправилась, Бригитта, не стесняясь присутствием молодой женщины, называла ее «тряпкой», «ничтожеством» и другими не менее изысканными эпитетами. Селеста уходила плакать к себе в комнату, и, когда Тюилье заставал ее там в слезах, он старался оправдать сестру, говоря:
– Она отличная женщина, только резковата; она вас по-своему любит, как и я, разумеется.
Селеста, помня о том, как трогательно невестка заботилась о ней во время болезни, прощала ей мелкие придирки. Надо сказать, что Бригитта смотрела на брата, как на самодержавного властителя: она не уставала прославлять его в присутствии Селесты, и сама относилась к нему, как к неограниченному монарху, к новому Ладиславу, как к непогрешимому папе. Г-же Тюилье, потерявшей отца, а затем и деда, почти покинутой матерью, которая навещала ее по четвергам и которую семейство Тюилье, в свою очередь, навещало по воскресеньям в хорошую погоду, некого было любить за исключением мужа: ведь, во-первых, он был ее мужем, а во-вторых, оставался в ее глазах красавцем-Тюилье. К тому же он изредка обращался с ней, как с женою, и все это вместе взятое заставляло Селесту обожать его. Он представлялся бедняжке тем более совершенным, что порой принимал ее сторону и бранил сестру: не потому, конечно, что жалел жену, а потому, что был эгоистом, и хотел, чтобы в те редкие минуты, когда он бывал дома, там царили мир и спокойствие.
И действительно, красавец-Тюилье после обеда вновь уходил и возвращался далеко за полночь: он неизменно являлся на балы или в гости к людям своего круга один, словно все еще пребывал холостым. Поэтому обе женщины почти целые дни проводили вдвоем. Мало-помалу Селеста, становившаяся все более покорной, превратилась в бессловесную рабыню. Бригитте же того и надо было, и эта королева домашнего очага, дотоле безжалостно помыкавшая своей безответной жертвой, теперь ощутила к ней некоторое сочувствие. В конце концов она перестала относиться к невестке свысока, прекратила говорить колкости и отказалась от презрительного тона: все это было уже излишне, ибо Селеста сдалась на милость победителя.
Заметив на шее своей жертвы ссадины от ошейника, Бригитта почувствовала жалость к рабыне, и Селеста узнала лучшие времена. Сравнивая свою нынешнюю жизнь с былым существованием, она прониклась некоторой привязанностью к палачу. По воле судьбы у несчастной была отнята последняя возможность выказать энергию, защитить себя, занять достойное место в доме, поддерживавшемся на ее средства, хотя она об этом и не подозревала, и потребовать себе иной доли, вместо того чтобы довольствоваться уделом приживалки, на который ее обрекли.
Прошло уже шесть лет после замужества Селесты, а у нее все еще не было ребенка. Это бесплодие, заставлявшее бедную женщину проливать каждый месяц потоки слез, долгое время подогревало презрение Бригитты, которая упрекала невестку в том, что та ни на что не годна, не способна даже рожать детей. Только к 1820 году старая дева, мечтавшая лелеять сына своего брата как собственного, перестала оплакивать будущую судьбу семейного состояния, которое, по ее словам, должно было впоследствии перейти в руки правительства.
К тому времени, когда начинается наша история – а именно в 1839 году, – Селесте исполнилось сорок шесть лет, и она перестала оплакивать свое бесплодие, ибо прониклась печальной уверенностью в том, что уже никогда не станет матерью. И странная вещь! За двадцать пять лет совместной жизни жертва умудрилась в конце концов обезоружить Бригитту, выбить нож из ее рук, и теперь Бригитта любила Селесту не меньше, чем Селеста любила Бригитту. Время, достаток, каждодневное общение, общий дом, покорность и ангельская кротость Селесты – все это, вместе взятое, без сомнения, стерло острые углы, сгладило шероховатости и привело к наступлению ясной осени. К тому же обеих женщин объединяло общее чувство, переполнявшее их души: они обожали счастливого эгоиста Тюилье.
В конце концов Бригитта и Селеста, у которых не было детей, пришли к тому, к чему приходят все женщины, безуспешно мечтавшие о ребенке, – они прониклись любовью к чужому ребенку. Это мнимое материнство, не уступающее по силе чувства материнству подлинному, требует от автора особого объяснения, которое поможет многое понять в этой Сцене и, в частности, прольет свет на то, почему мадемуазель Тюилье так старалась приискать новое занятие для брата.
Тюилье начал свою карьеру как сверхштатный чиновник одновременно с Кольвилем – самым близким его другом. Словно для контраста, неведомые силы, управляющие жизнью общества, поместили рядом с мрачной и печальной семьей Тюилье семью Кольвиля; на первый взгляд трудно не прийти к выводу, что этот случайный контраст мало поучителен, однако прежде чем утвердиться в этом выводе, читателю следует дойти до конца настоящей драмы, к несчастью, совершенно правдивой; но тут уж, как говорится, писатель ни при чем.
Кольвиль был единственным сыном одаренного музыканта, который во времена Франкера и Ребеля был первым скрипачом Оперы. Отец Кольвиля под старость каждые несколько дней рассказывал анекдоты о том, как проходили репетиции «Деревенского колдуна»: он с удивительной точностью описывал Жан Жака Руссо и неподражаемо имитировал его; Кольвиль и Тюилье были закадычными друзьями; у них не было секретов друг от друга, и дружба их, начавшаяся в пятнадцатилетнем возрасте, оставалась безоблачной вплоть до 1839 года – того времени, когда начинается наш рассказ.
Кольвиль принадлежал к разряду тех чиновников, которых в канцелярии насмешливо именуют «мастерами на все руки». Этим прозвищем они обязаны своей ловкости и расторопности. Кольвиль был отличный музыкант, имя и влияние отца доставили ему место первого кларнетиста в Комической опере; до своей женитьбы Кольвиль был богаче Тюилье и нередко делился деньгами с другом. В противоположность Тюилье Кольвиль женился по любви: его избранницей была некая мадемуазель Флавия, незаконнорожденная дочь знаменитой танцовщицы Оперы; отцом Флавии называли дю Бургье, одного из самых богатых поставщиков времен Директории; разорившись в 1800 году, человек этот перестал уделять какое бы то ни было внимание маленькой дочери, тем более что у него имелись кое-какие сомнения насчет добродетельности прославленной балерины.
Хорошенькую девушку, которая не могла назвать имя своего отца, ожидало грустное будущее, если бы Кольвиль, часто бывавший в роскошном доме примы-балерины Оперы, не влюбился во Флавию и не женился бы на ней. Князь Галатион, который покровительствовал в сентябре 1815 года выдающейся танцовщице, чья карьера в то время уже подходила к концу, дал Флавии двадцать тысяч франков в приданое, мать присоединила к ним пышные туалеты. Завсегдатаи дома и артисты Оперы подарили молодоженам драгоценности и посуду, так что у Кольвилей оказалось больше предметов роскоши, нежели денег. Привыкшая к богатству, Флавия с помощью мебельщика матери обставила себе прелестное гнездышко, и в нем эта молодая женщина, любившая все изящное, все артистичное да и самих артистов, чувствовала себя полновластной королевой.
Госпожа Кольвиль была одновременно красива и пикантна, остроумна и весела, грациозна – короче говоря, приятна во всех отношениях. Когда ее матери исполнилось сорок три года, та покинула сцену и отправилась жить в деревню, лишив тем самым свою дочь дополнительного источника к существованию, ибо Флавии кое-что перепадало от щедрот танцовщицы, жившей на широкую ногу. Друзья г-жи Кольвиль охотно посещали ее дом, зачастую даже не догадываясь, сколько усилий прилагает хозяйка, чтобы принимать гостей. С 1816 по 1826 год она родила пятерых детей. По вечерам Кольвиль становился музыкантом, а с семи до девяти утра вел счетные книги у какого-то негоцианта. В десять утра он уже сидел за столом в канцелярии. Итак, по вечерам он дул в деревянную трубу, а по утрам писал гусиным пером счета, и это позволяло ему выколачивать от семи до восьми тысяч франков в год.
Госпожа Кольвиль разыгрывала из себя светскую женщину: по пятницам она устраивала приемы, раз в две недели давала званый обед, а раз в месяц в ее доме происходили концерты. С Кольвилем они виделись лишь за обедом да по вечерам: он возвращался домой почти в полночь. Нередко и в этот поздний час г-жи Кольвиль еще не было дома. Она посещала спектакли, ибо знакомые часто оставляли ей ложу, и молодая женщина односложно просила мужа заехать за нею в тот или иной дом, где она танцевала или ужинала. Кормили у г-жи Кольвиль отменно, и хотя общество у нее собиралось пестрое, зато всегда забавное: тут бывали знаменитые актрисы, художники, писатели, здесь можно было встретить и нескольких богачей. Элегантностью г-жа Кольвиль могла поспорить с Туллией, примой-балериной Оперы, с которой она дружила. Надо сказать, что хотя Кольвили проедали свой капитал и обычно в конце месяца сидели без гроша, Флавия никогда не делала долгов.
Кольвиль был неизменно счастлив, он все так же любил свою жену и был ей лучшим другом. Она всегда встречала его приветливой улыбкой, лицо ее при появлении мужа озарялось радостью, и он каждый раз уступал ее чарам, ее неотразимым манерам. Бешеная энергия, которую требовали от него три должности, отвечала, впрочем, нраву и темпераменту Кольвиля. То был добродушный, толстый человек, краснощекий, веселый, щедрый, полный фантазии. За десять лет супруги ни разу не поссорились. В канцеляриях его считали сумасбродом, как всех людей с артистической натурой, но такое мнение свидетельствовало о поверхностности умов тех, кто его высказывал, ибо они принимали постоянную озабоченность и спешку труженика за суетливость бездельника.
У Кольвиля хватило ума прикинуться человеком недалеким; он расхваливал каждому свое семейное счастье, подчеркивал свое увлечение анаграммами, и всем окружающим казалось, будто он всецело поглощен этой страстью. Чиновники, служившие с ним в одном отделении министерства, правители канцелярий и даже начальники отделений посещали его концерты; время от времени он весьма кстати доставал им билеты на спектакли, ибо нуждался в том, чтобы они смотрели сквозь пальцы на его постоянные отлучки. Ведь репетиции отнимали у Кольвиля добрую половину того времени, какое он должен был проводить в канцелярии; правда, полученное им благодаря отцу музыкальное образование было настолько глубоко и солидно, что позволяло ему ходить лишь на генеральные репетиции. Связи г-жи Кольвиль играли немалую роль в том, что и театр и министерство считались с трудным положением этого достойного «мастера на все руки», который, впрочем, заботливо пестовал некоего молодого человека, горячо рекомендованного ему женой: он надеялся воспитать из него в будущем великого музыканта, а пока что подающий надежды юноша время от времени заменял Кольвиля в оркестре и должен был впоследствии унаследовать его место первого кларнетиста.
И действительно, в 1827 году, когда Кольвиль вышел в отставку, молодой человек сделался первым кларнетистом.
Все критические высказывания по адресу Флавии можно свести к следующей фразе: «Она чуть-чуть кокетка, эта госпожа Кольвиль!» Старший из детей Кольвиля, появившийся на свет в 1816 году, был живым портретом своего добродушного папаши. В 1818 году г-жа Кольвиль превыше всего – даже превыше искусства – ценила кавалерию, она отличала тогда младшего лейтенанта драгун Сен-Шамана, молодого и богатого Шарля Гондревиля, который впоследствии умер во время Испанской кампании; именно в ту пору у нее и родился второй сын, которого она решила посвятить военной карьере. В 1820 году молодая женщина смотрела на банк как на нерв промышленности, как на опору сословий, и ее кумиром был тогда великий Келлер, прославленный оратор; у нее родился сын, которого назвали Франсуа, и Флавия решила сделать из него позднее коммерсанта, зная, что Келлер никогда не откажет молодому человеку в покровительстве. В конце 1820 года Тюилье, близкий друг г-на и г-жи Кольвиль, верный поклонник Флавии, испытал острую необходимость излить на груди этой великолепной женщины свои огорчения и поведать ей о своих семейных невзгодах: оказывается, он, Тюилье, уже шесть лет жаждал ребенка, но господь бог не даровал благословения всем его усилиям, и несчастная г-жа Тюилье тщетно возносила к небу молитвенные обеты по девять дней подряд, она даже совершила паломничество в храм богоматери в город Льес! Он так подробно описал собеседнице Селесту, что с ее уст слетели слова: «Бедняжка Тюилье!»; надо сказать, что г-жа Кольвиль также пребывала в печали, в ту пору у нее не было никакого определенного пристрастия, и она, в свою очередь, поведала Тюилье о собственных горестях. Великий Келлер, этот герой «левой», на самом деле оказался человеком мелочным; прелестная Флавия познала оборотную сторону славы, глупость банкира, сухую душу трибуна. Оратор, произносивший блестящие речи в палате депутатов, весьма дурно обошелся с нею. Тюилье был возмущен. «Только глупцы умеют по-настоящему любить, – сказал он, – остановите свой выбор на мне!» И красавец-Тюилье принялся усилению ухаживать за г-жой Кольвиль, он стал ее присяжным воздыхателем, как выражались во времена Империи.
– А ты заглядываешься на мою жену! – как-то сказал ему, смеясь, Кольвиль. – Будь осторожен, она прикует тебя к себе цепью, как и всех остальных.
Такого рода милыми шутками Кольвилю удалось охранять достоинство супруга перед товарищами по канцелярии. В 1820-1821 году Тюилье, ссылаясь на права друга дома, захотел помочь Кольвилю, который в прошлом не раз помогал ему, и за полтора года он одолжил семейству своих друзей десять тысяч франков с тем, чтобы никогда больше не заикаться об этих деньгах. Весной 1821 года г-жа Кольвиль родила прелестную девочку, ее крестным отцом стал Тюилье, а крестной матерью – его жена; девочку назвали Селеста-Луиза-Каролина-Бригитта. Мадемуазель Тюилье также захотела дать одно из своих имен новорожденной.
Имя Каролины девочке дали, чтобы проявить внимание к самому Кольвилю. Старуха Ланпрэн решила взять малышку к себе в Отейль и нашла ей хорошую кормилицу. Селеста и ее невестка ездили туда два раза в неделю, чтобы проведать крошку. Когда г-жа Кольвиль оправилась после родов, она сказала Тюилье серьезным и искренним тоном:
– Мой дорогой, если вы хотите, чтобы мы остались добрыми друзьями, будьте отныне лишь другом нашей семьи; Кольвиль вас любит, ну и, по совести говоря, в семье достаточно одного мужа.
– Объясните мне, пожалуйста, – спросил красавец Тюилье у танцовщицы Туллии, которая в это время была в гостях у г-жи Кольвиль, – почему женщины не испытывают ко мне прочной привязанности? Я не Аполлон Бельведерский, но я ведь также и не Вулкан; по-моему, меня вполне можно терпеть, я не лишен остроумия, я способен сохранять верность…
– Хотите услышать правду? – спросила Туллия.
– Конечно, – вымолвил красавец Тюилье.
– Так вот, иногда мы еще можем любить животное, но глупца – никогда.
Этот ответ сразил Тюилье, он так и не оправился; с тех пор он неизменно пребывал в меланхолии и обвинял всех женщин в причудах.
– Я же тебя предупреждал! – сказал ему Кольвиль. – Конечно, я не Наполеон и, скажу откровенно, дружище, не хотел бы им быть, но у меня есть своя Жозефина… Истинная жемчужина!
Секретарь министра г-н де Люпо, которому г-жа Кольвиль приписывала больше влияния, чем то, каким он на самом деле пользовался, так что ей приходилось позднее, говоря о нем, признавать: «Де Люпо – одна из моих ошибок…», – в ту пору был некоторое время самой важной персоной в салоне Кольвиля; однако когда Флавия убедилась, что де Люпо не может получить для Кольвиля место в отделении Буа-Левана, у нее достало здравого смысла обидеться на то, что секретарь министра уделяет слишком много внимания г-же Рабурден, жене правителя одной из канцелярий, этой кривляке, которая не только ни разу не пригласила к себе г-жу Кольвиль, но даже имела наглость дважды отказаться от посещения концерта в доме Флавии.
Госпожа Кольвиль была сильно удручена смертью молодого Гондревиля; она долго оставалась безутешна, по ее собственным словам, она усмотрела в этом несчастье перст божий. В 1824 году она неожиданно остепенилась, заговорила о бережливости, отменила приемы, стала уделять все свое внимание детям – словом, сделалась добродетельной матерью семейства; теперь у нее не было никакого фаворита, она усердно посещала церковь, одевалась скромно, главным образом в серые цвета, без умолку говорила о католицизме и о приличиях; в результате этого увлечения мистицизмом в 1825 году на свет появился очаровательный младенец, которого мать назвала Теодор, что означает богоданный.
В 1826 году, в пору расцвета Конгрегации, Кольвиля назначили помощником правителя канцелярии в отделении Клержо, а в 1828 году он сделался сборщиком налогов в одном из округов города Парижа. Кольвиль был награжден орденом Почетного легиона, что давало ему право поместить свою дочь в пансион Сен-Дени. В 1823 году половинная стипендия, которую Келлер выхлопотал Шарлю, старшему из сыновей Кольвиля, перешла ко второму сыну; Шарль поступил в коллеж святого Людовика с полной стипендией, а третий сын Кольвиля, которому покровительствовала жена дофина, был принят в коллеж Генриха IV, где также получал стипендию, правда, в неполном размере.
В 1830 году Кольвилю, счастливому отцу многочисленного семейства, пришлось подать в отставку: его приверженность к старшей ветви Бурбонов была слишком широко известна; однако он проявил редкую изворотливость и покинул свой пост с пенсией в две тысячи четыреста франков, назначенной ему во внимание к многолетней службе; кроме того, он получил в возмещение за оставляемую должность десять тысяч франков, уплаченных его преемником; одновременно Кольвиль был произведен в офицеры ордена Почетного легиона. Несмотря на все это, он оказался в стесненных обстоятельствах, и в 1832 году мадемуазель Тюилье посоветовала Кольвилю поселиться по соседству с ними, намекнув ему на возможность получить место в мэрии, которого он и в самом деле добился через две недели; новая должность приносила ему тысячу экю в год.
Шарль Кольвиль поступил к этому времени в Морское училище. Коллежи, где учились два его младших брата, помещались поблизости от их дома. Семинария Сен-Сюльпис, куда в один прекрасный день предстояло поступить младшему сыну Кольвиля, находилась в двух шагах от Люксембургского сада. Закадычные друзья, Тюилье и Кольвиль могли бы вместе коротать дни. В 1833 году г-жа Кольвиль, которой было в то время тридцать пять лет, поселилась на улице д'Анфер, на углу улицы Дез-Эглиз, вместе с Селестой и маленьким Теодором. Таким образом, Кольвиль проживал теперь на одинаковом расстоянии от своей мэрии и от улицы Сен-Доминик. Семейство Кольвилей, которое не раз меняло образ жизни и знавало разные времена – Кольвили живали и на широкую ногу, принимая гостей и давая праздничные обеды, живали и замкнуто, почти ни с кем не встречаясь, – было теперь обречено на безвестное прозябание мелких буржуа, чей годовой доход ограничивается пятью тысячами четырьмястами франков.
Селесте исполнилось в то время двенадцать лет; красивой девочке нужны были учителя, ее воспитание должно было стоить не меньше двух тысяч франков в год. Мать поняла, что необходимо прибегнуть к помощи крестного отца и крестной матери Селесты. Вот почему она приняла разумное предложение мадемуазель Тюилье, которая, не беря на себя никаких обязательств, тем не менее ясно дала понять г-же Кольвиль, что состояние самого Тюилье, его жены и ее собственное предназначены для Селесты. Девочка оставалась в Отейле до семи лет; старуха Ланпрэн обожала ее и баловала; в 1829 году г-жа Ланпрэн умерла, оставив двадцать тысяч франков и дом, который был продан необыкновенно удачно за двадцать восемь тысяч франков. Все эти годы маленькая проказница почти не видала матери, но зато постоянно видела жену г-на Тюилье и его сестру. В 1829 году Селесту водворили в отчий дом, и она прожила там до 1833 года под неусыпным попечением матери, которая старалась как можно лучше исполнять свои материнские обязанности и, как все женщины, терзаемые угрызениями совести, порою даже чересчур усердствовала. Флавия не была дурной матерью, но она слишком сурово обращалась с девочкой; вспоминая собственное воспитание, она дала себе тайный обет вырастить из Селесты порядочную женщину, а не женщину легкого поведения. Она водила дочь к обедне, Селеста готовилась к первому причастию под эгидой некоего парижского священника, позднее сделавшегося епископом. Девочка была особенно благочестива потому, что ее крестная, г-жа Тюилье, по праву слыла святой женщиной; Селеста обожала крестную, она чувствовала, что эта несчастная, всеми покинутая женщина любит ее больше, чем родная мать.
С 1833 по 1839 год Селеста Кольвиль получила самое блестящее воспитание, как его понимают буржуа. С ней занимались лучшие учителя музыки, и она сносно играла на фортепьяно, умела рисовать акварели, отлично танцевала, хорошо знала французскую грамматику, историю, географию, английский и итальянский языки – словом, все, что полагается знать барышне из общества. Селеста была среднего роста, чуть полная, близорукая, никто не назвал бы ее ни дурнушкой, ни красавицей, она не могла пожаловаться на плохой цвет лица, но ей недоставало изящества. Внешне сдержанная, девушка обладала повышенной чувствительностью; все – крестный, крестная, мадемуазель Тюилье и отец Селесты – единодушно сходились на том, что она очень привязчива. Впрочем, какие родители не думают этого о своей дочери! Самым привлекательным во внешности Селесты были великолепные шелковистые волосы пепельного цвета, но ее руки и ноги выдавали девушку из буржуазной семьи.
Селеста обладала многими бесценными добродетелями: она была добра, простодушна, приветлива, любила отца и мать и готова была пожертвовать для них жизнью. Воспитанная в глубоком преклонении перед крестным и Бригиттой, которую Селеста называла тетя Бригитта, г-жой Тюилье и собственной матерью, все более сближавшейся с красавцем времен Империи, девочка была необыкновенно высокого мнения об отставном помощнике правителя канцелярии. Особняк Тюилье на улице Сен-Доминик казался ей тем же, чем кажется дворец Тюильри молодому придворному, приверженцу новой королевской династии.
Тюилье не мог не поддаться воздействию бюрократической машины, которая давит на человека и обезличивает его. Успех у женщин выхолостил в нем мужчину, монотонная канцелярская работа выхолостила в нем чиновника, и к тому времени, когда бывший помощник правителя канцелярии поселился на улице Сен-Доминик, он уже растерял все свои способности; однако его утомленное лицо, хранившее надменное выражение, в соединении с некоторым самодовольством, напоминавшим самомнение высокопоставленного чиновника, производило сильное впечатление на Селесту. Девушка страстно обожала это мертвенно бледное лицо. Она сумела стать истинной радостью дома Тюилье.
Кольвили и их дети как-то естественно сделались ядром общества, которое мадемуазель Тюилье из своеобразного честолюбия собирала у себя ради брата. На первом же параде национальной гвардии бывший сборщик налогов и бывший помощник правителя канцелярии встретились с одним из бывших чиновников отделения ла Биллардиера, г-ном Фельоном, который уже тридцать лет обитал в квартале Сен-Жак и занимал пост командира батальона национальной гвардии. То был один из наиболее уважаемых людей своего округа. Дочь его, в прошлом младшая учительница в пансионате Лаграва, в свое время вышла замуж за преподавателя начальной школы на улице Сен-Гиацинт г-на Барниоля.
Старший сын Фельона преподавал математику в королевском коллеже; он давал уроки, занимался репетиторством и, по выражению отца, страстно увлекался чистой математикой. Второй сын Фельона проходил курс в Училище путей сообщения. Фельон вышел в отставку с девятьюстами франками пенсиона, он обладал рентой в девять с лишним тысяч франков – плодом сбережений, которые его жене и ему удалось скопить за тридцать лет труда и лишений. Кроме того, он владел маленьким домиком с садом, расположенным в тупике Фейантин (за тридцать лет Фельон ни разу не употребил старинное слово закоулок).
Дюток, письмоводитель мирового судьи, в прошлом был министерским чиновником; однажды, когда возникло малоприятное положение, в каком порой оказываются представительные правительства, Дюток в самую критическую минуту согласился взять на себя роль козла отпущения, за что и был тайно вознагражден некоей суммой, позволившей ему впоследствии купить себе место письмоводителя. Человек этот, кстати сказать, малопочтенный, шпионивший за своими товарищами по канцелярии, встретил в доме Тюилье более прохладный прием, нежели тот, на который рассчитывал; однако именно холодное отношение домовладельцев и побуждало Дютока с упорством являться к ним в гости.
Письмоводитель, оставшийся старым холостяком, не был чужд пороков; он тщательно скрывал интимные стороны своей жизни и, как никто, умел льстить людям, занимавшим более высокое положение, чем он. Мировой судья души в нем не чаял. Хотя Дюток не вызывал уважения, в семье Тюилье его терпели, ибо он не останавливался перед самой низкопробной и грубой лестью, которая всегда дает желаемый эффект. Дюток знал подспудную жизнь Тюилье, он был отлично осведомлен о его отношениях с Кольвилем и, в частности, о его отношениях с г-жой Кольвиль; Тюилье опасался острого языка письмоводителя, и поэтому Дютока хотя и принимали не особенно радушно, но все же терпели. Однако истинным украшением салона Тюилье была семья некоего в прошлом мелкого и незаметного чиновника, вызывавшего жалость всех канцеляристов: он настолько бедствовал, что в 1827 году был вынужден оставить службу и заняться торговлей, благо ему пришла в голову смелая мысль.
Минар угадал способ составить себе состояние посредством одного из тех малопочтенных методов, которые опозорили французскую торговлю, но в то время – речь идет о 1827 годе – еще не стали достоянием гласности. Он купил партию чая, смешал его с чаем, уже бывшим в употреблении и затем высушенным; вторую операцию он проделал с шоколадом, – она немногим отличалась от его проделки с чаем и также позволила предприимчивому дельцу продать свой товар с барышом. Торговля колониальными товарами, начатая Минаром в квартале Сен-Марсель, вскоре превратила его в известного негоцианта, он стал владельцем предприятия и благодаря связям, возникшим у него в деловых кругах, сумел получить доступ к источникам сырья; с той поры Минар, уже не прибегая к плутовству, занялся оптовой торговлей теми же колониальными товарами, которые он вначале продавал, пользуясь не вполне честными приемами. Отныне Минар имел дело с огромными партиями продовольствия, прослыл знатоком в этой области и в 1835 году уже считался самым богатым негоциантом в квартале Мобер. Он купил один из наиболее красивых домов на улице Масон-Сорбон; Минар несколько лет подряд занимал пост помощника мэра, а в 1839 году сделался мэром округа и судьей Коммерческого суда. У него был своей выезд, и он владел участком земли возле Ланьи; отправляясь на придворные балы, его жена надевала бриллианты, а сам он с гордостью поглядывал на розетку офицера ордена Почетного легиона, красовавшуюся в его петлице.
Супруги Минар широко занимались благотворительностью. Возможно, они хотели частично вернуть беднякам то, что в свое время отняли у покупателей. Фельон, Кольвиль и Тюилье встретились с Минаром на выборах, и отсюда возникли дружеские связи, тем более тесные, что г-жа Зели Минар была в восторге оттого, что ее барышня познакомилась с Селестой Кольвиль. На всю жизнь в памяти Селесты сохранился большой бал у Минаров – то был ее первый выезд в свет; девушке недавно исполнилось шестнадцать лет, и она была одета в небесно-голубые тона, как того требовало ее имякоторое обещало стать пророческим для всей ее жизни. Селеста жаждала подружиться с мадемуазель Минар, в то время уже двадцатилетней девушкой, вот почему она без устали просила отца и крестного ездить с нею в дом Минара, поражавший воображение золочеными салонами и роскошной мебелью. Здесь собирались политические знаменитости тех кругов общества, которые получили название «золотой середины»: например, г-н Попино, ставший впоследствии министром торговли, и Кошен, сделавшийся бароном Кошеном, – бывший чиновник отделения Клержо в министерстве финансов; Кошен, тесно связанный с делами фирмы москательных товаров, был, как и г-н Ансельм Попино, истинным оракулом квартала Ломбар и Бурдоннэ. Кумиром в доме Минара был его старший сын, адвокат, намеревавшийся прийти на смену тем адвокатам, которые после 1830 года покинули Дворец Правосудия, чтобы с головой окунуться в политику; супруги день и ночь думали о том, как бы удачнее женить сына. Зели Минар, в прошлом мастерица цветочной мастерской, испытывала страстное преклонение перед высшими сферами общества, куда она мечтала проникнуть благодаря браку дочери и сына; между тем Минар, куда более благоразумный, чем его жена, и, можно сказать, пропитанный ощущением силы среднего класса, который после Июльской революции приобщился к различным формам власти, больше интересовался состоянием.
Он часто появлялся в гостиной Тюилье, ибо хотел собрать побольше сведений о наследстве, ожидавшем Селесту. Подобно Дютоку и Фельону, Минар не был чужд некогда ходившим слухам о связи Тюилье и Флавии Кольвиль, и теперь с первого взгляда заметил обожание, которым все члены семьи Тюилье окружали крестницу Жерома. Дюток, надеявшийся быть принятым у Минаров, беспардонно льстил мэру и угодничал перед ним. Когда Минар, этот Ротшильд своего округа, появился в доме Тюилье, Дюток весьма тонко сравнил его с Наполеоном: он знавал Минара, когда тот служил в канцелярии и был худым, бледным и тщедушным, а теперь превратился в цветущего, крупного и толстого мужчину. «В отделении ла Биллардиера вы походили на Бонапарта до восемнадцатого брюмера – сказал Дюток, – а ныне я вижу перед собой Наполеона времен Империи!» Минар холодно выслушал комплимент письмоводителя и даже не пригласил его к себе; этим он приобрел смертельного врага в лице злопамятного Дютока.
Господин и госпожа Фельон, люди весьма достойные, не могли тем не менее удержаться от расчетов и тайных надежд; они полагали, что Селесте сам бог велел выйти замуж за их сына-математика; вот почему, желая укрепить позиции в салоне Тюилье, они ввели туда своего зятя, г-на Барниоля, человека весьма уважаемого в предместье Сен-Жак, и старого чиновника мэрии, их близкого друга, г-на Лодижуа, которому Кольвиль в некотором роде перебежал дорогу: дело в том, что Лодижуа уже двадцать лет просидел в мэрии и рассчитывал, что во внимание к его долголетней службе ему будет предоставлена должность секретаря; однако ее получил Кольвиль. Таким образом, Фельоны составляли внушительную фалангу из семи человек, всецело преданных друг другу; семья Кольвилей не уступала им в численности, так что в иные воскресенья в гостиной Тюилье собиралось до тридцати человек. Хозяин дома возобновил знакомство с Сайарами, Бодуайе, Фалейксами – то были люди, пользовавшиеся почетом в квартале Плас-Руайяль, и они часто обедали у Тюилье.
Госпожа Кольвиль блистала среди женщин этого общества, а Минар-младший и математик Фельон были самыми выдающимися из мужчин; что же касается остальных посетителей салона Тюилье, людей без мысли и образования, вышедших из низов, то они являли собою самые нелепые типы мелкой буржуазии. Принято считать, будто каждый выскочка обладает хоть каким-нибудь достоинством, однако Минар был поистине мыльным пузырем. Обожая длинные и путаные фразы, принимая угодливость за учтивость, а готовые формулы – за признак ума, он изрекал пошлые истины с таким апломбом и легкостью, что это можно было счесть за красноречие. С его языка то и дело слетали такие ничего не значащие, но многозначительные слова, как «прогресс», «пар», «асфальт», «национальная гвардия», «порядок», «демократический элемент», «дух ассоциаций», «легальность», «движение и сопротивление», «устрашение», и окружающим казалось, что при каждом новом повороте в политике Минар сам придумывает все это, тогда как на самом деле он лишь пересказывал мысли, вычитанные им в газете. Жюльен Минар, молодой адвокат, страдал, слушая речи отца, не меньше, чем отец его страдал, слушая речи своей супруги. И в самом деле, разбогатев, Зели с каждым днем высказывала все больше претензий, но так и не научилась правильно говорить по-французски; к старости она растолстела и походила на кухарку, вышедшую замуж за своего хозяина.
Фельон – образцовый мелкий буржуа – обладал множеством добродетелей и смешных черт. Всю свою жизнь он проработал в канцеляриях и, как человек подчиненный, уважал людей вышестоящих. Поэтому в присутствии Минара он и рта не раскрывал. Фельон великолепно перенес трудности критического возраста чиновника, отставка не повлияла на него, и вот почему. Дело в том, что этот достойный и превосходный человек никогда не мог себе позволить жить по своему вкусу. Он искренне любил Париж и с большим интересом наблюдал, как выпрямляются и украшаются улицы города, старик был способен часами смотреть, как сносят дом. Нередко можно было встретить его на улице, он стоял как вкопанный, задрав голову и наблюдая, как каменщик ломом расшатывает камень на верхушке стены; Фельон не трогался с места до тех пор, пока камень не падал, когда же камень, наконец, оказывался на земле, он удалялся, не менее счастливый, чем академик, ставший свидетелем падения романтической драмы. Истинные статисты великой социальной комедии, Фельон, Лодижуа и им подобные исполняют в ней функции античного хора. Они плачут, когда надо плакать, смеются, когда надо смеяться, и без устали откликаются на невзгоды и радости общественной жизни: в своем углу они торжественно отмечают победы, одержанные в Алжире, Константине, Лиссабоне, Уллоа, одинаково горько оплакивают смерть Наполеона, зловещие катастрофы у стен монастыря Сен-Мерри и на улице Транснонен, сожалеют о смерти великих людей, им совершенно неизвестных. Для Фельона характерно своеобразное двуличие: он умудряется разделять и точку зрения оппозиции и точку зрения правительства. Когда на улицах Парижа завязывались схватки, у Фельона хватало мужества открыто высказывать перед соседями свою точку зрения; он отправлялся на площадь Сен-Мишель и, жалея правительство, исполнял свой долг. Все время, пока продолжалось брожение, он поддерживал династию, которую привел к власти Июль; но как только начинались политические процессы, Фельон вставал на сторону обвиняемых. Кое-кто, пожалуй, назовет Фельона флюгером, но присущая ему изменчивость мнений весьма невинна и определяется его политическими взглядами; огромную роль в его воззрениях играет северный колосс, это воплощение английского материализма. Как и для старой газеты «Конститюсьонель», Англия для Фельона – нечто двойственное: она поочередно выступает то в качестве коварного Альбиона, то в качестве образцовой страны. Англия коварна, когда дело идет об интересах обиженной Франции и о Наполеоне; она становится образцовой страной, едва речь заходит об ошибках французского правительства. Как и его газета, Фельон принимает демократический элемент и отказывается, едва об этом заходит речь, от какого бы то ни было соглашения с республиканским духом. Республиканский дух для него – это 1793 год, мятеж, террор, аграрный закон. Демократический элемент – это развитие мелкой буржуазии, это царство самого Фельона.
Сей уважаемый старец – человек вполне почтенный, добропорядочность определяет всю его жизнь. Он достойно воспитал своих детей и остался прекрасным отцом в их глазах, он добивается того, чтобы дома его уважали так, как он сам уважает власть и вышестоящих. Он никогда не делал долгов. Заседая в суде присяжных, он, не жалея сил, следит за ходом процесса, не позволяя себе улыбнуться даже тогда, когда смеются и судья, и публика, и даже представитель государственного обвинения. Он необыкновенно услужлив и готов посвятить вам и свои заботы и время – все, за исключением денег. Фельон боготворил своего сына Феликса – преподавателя математики, он полагал, что молодой человек способен когда-нибудь стать членом Академии наук.
Тюилье занимал промежуточное положение между самоуверенным ничтожеством Минаром и бесхитростным глупцом Фельоном, однако он походил на них обоих в силу своего унылого жизненного опыта. Он скрывал пустоту ума под банальными фразами, подобно тому как прикрывал желтую кожу черепа жидкими прядями седых волос, в чем, безусловно, сказывалось удивительное искусство его парикмахера.
– Избери я любую другую карьеру, – любил говорить Тюилье, – я бы, конечно, добился большего.
По его словам, возможные в теории благодетельные реформы оказывались невозможными на практике, все начинания приводили к противоположным результатам; он не уставал рассказывать о различных несправедливостях, об интригах, о пресловутом деле Рабурдена
– После этого, – прибавлял Тюилье, – можно с одинаковым успехом верить во все и не верить ни во что. Ах, правительственные учреждения – нелепая вещь, и я счастлив, что у меня нет сына. Вдруг бы он вздумал избрать себе карьеру чиновника!
Кольвиль, как всегда, сохранял веселое расположение духа, то был кругленький, добродушный мужчина, постоянно шутивший, с неизменным интересом составлявший анаграммы, вечно чем-то занятый – словом, типичный буржуа, довольный самим собой, человек не без способностей, но так и не добившийся успеха, упорный труженик, так, собственно, ничего и не достигший, но умеющий принимать судьбу с веселой шуткой на устах, неглупый, но недалекий, одаренный, но не даровитый, ибо, будучи прекрасным музыкантом, он теперь играл только для дочери.
Салон Тюилье походил на любой провинциальный салон, но только он был озарен отблесками немеркнущего парижского зарева: заурядные плоские разговоры, которые велись в нем, все же носили на себе печать века. Слова и вещи, входившие в моду, ибо в Париже слово и вещь неотделимы друг от друга, как лошадь и всадник, попадали сюда, словно рикошетом. Гости неизменно ожидали появления господина Минара для того, чтобы узнать правду о важнейших событиях. Дамы держали сторону иезуитов, мужчины защищали Университет; впрочем, женщины большей частью молчали. Человек умный, если бы он, победив скуку, провел тут несколько вечеров, хохотал бы во все горло, как во время представления комедии Мольера, ибо в результате нескончаемых споров он узнал бы приблизительно следующее:
«Можно ли было бы избежать революции 1789 года? Займы Людовика Четырнадцатого положили ей начало. Людовик Пятнадцатый, эгоист, человек церемонный, который сказал: «Будь я начальником полиции, я бы запретил кабриолеты», распутный король – ведь вы, конечно, слыхали о его Оленьем парке! – во многом способствовал ее возникновению. Господин де Неккер, злонамеренный женевец, дал ей последний толчок. Иностранцы всегда питали неприязнь к Франции. Ну, мы еще увидим войну против вельмож… Максимум принес большой вред революции. С юридической точки зрения Людовика Шестнадцатого не следовало осуждать, суд присяжных оправдал бы его. Бонапарт позволил себе стрелять в парижан, и эта дерзость сошла ему с рук. Луи-Филипп опирался на его пример. В чем причина падения Карла Десятого? Наполеон – великий человек, некоторые подробности из жизни императора, свидетельствующие о его гениальности, напоминают анекдоты: он брал по пять понюшек табаку в минуту, а табак держал в кожаных карманах, пришитых к жилету. Он сам проверял счета поставщиков и отправлялся на улицу Сен-Дени, чтобы узнать цены на товары. Тальма был ему другом, этот великий артист обучал Наполеона царственным жестам, и тем не менее император всю жизнь отказывался даровать Тальма орден. Наполеон заменил на посту уснувшего часового, чтобы спасти беднягу от расстрела. Вот почему солдаты обожали его. Людовик Восемнадцатый, человек, не лишенный ума, несправедливо судил о нем и упорно именовал его господином де Буонапарте. Главный недостаток нынешнего правительства состоит в том, что оно позволяет другим вести себя, между тем оно должно само вести других за собой. Правительство слишком мало себя ценит! Он, Минар, боится людей энергических; следовало бы разорвать договоры тысяча восемьсот пятнадцатого года и потребовать у Европы возвращения Рейна. Когда, наконец, прекратится министерская игра, во время которой одни и те же люди образуют новые правительства?»
– Ну, довольно шевелить мозгами, – обычно обрывала мадемуазель Тюилье спорщиков. – Алтарь воздвигнут, пора садиться за игру.
Этой фразой старая дева разом прекращала дискуссию, изрядно надоедавшую дамам.
Если все эти предварительные факты, все эти общие положения не показались читателю достаточно убедительными и не помогли ему мысленно нарисовать раму для настоящей Сцены, не помогли составить представление об описанном нами обществе, этому, пожалуй, поможет сама драма. Заметим только, что сделанный нами набросок отличается воистину исторической точностью и рисует нравы важнейшего социального слоя, особенно если не упускать из виду, что вся политическая система младшей королевской ветви Бурбонов опирается на него.
Зима 1839 года была в некоторых отношениях тем периодом, когда салон Тюилье находился в зените славы. Минары бывали здесь каждое воскресенье, а в другие дни, даже будучи приглашены куда-нибудь, заезжали сюда на часок; чаще всего Минар, отправляясь в гости с дочерью и старшим сыном-адвокатом, оставлял у Тюилье свою жену. Подобная настойчивость объяснялась несколько запоздалым свиданием между господами Метивье, Барбе и Минаром; встреча эта произошла однажды вечером, когда два самых солидных жильца Тюилье задержались дольше обычного, чтобы побеседовать с мадемуазель Тюилье. Минар узнал от Барбе, что старая дева принимает от него приблизительно на тридцать тысяч франков векселей сроком на пять-шесть месяцев из расчета семь с половиной процентов годовых и что она берет векселя на такую же сумму у Метивье; отсюда, по его словам, следовало, что почтенная особа владеет состоянием по меньшей мере в сто восемьдесят тысяч франков
– Я учитываю векселя книгопродавцев из двенадцати процентов годовых и принимаю только те, которые имеют надежное обеспечение. И для меня это очень удобно, – закончил Барбе. – Я утверждаю, что у нее не меньше ста восьмидесяти тысяч франков, ибо она выдает векселя от своего имени на Французский банк сроком на три месяца.
– Стало быть, у нее есть счет в банке? – осведомился Минар.
– Еще бы! – воскликнул Барбе.
Благодаря своим связям с управляющим Французским банком Минар узнал, что у мадемуазель Тюилье действительно имелся текущий счет приблизительно на двести тысяч франков, гарантированный сорока акциями этого банка. Но эта гарантия, прибавил управляющий, была излишней, ибо банк с полным уважением и доверием относится к особе, ведающей делами Селесты Ланпрэн, дочери одного из бывших служащих банка, который проработал в нем ровно столько лет, сколько существовал сам банк. К тому же мадемуазель Тюилье за двадцать лет ни разу не превысила размер кредита, которым она пользовалась. Каждый месяц она неизменно присылала векселя на шестьдесят тысяч франков, обычно сроком на три месяца, что требовало обеспечения приблизительно в сто шестьдесят тысяч франков. Ее акции, лежавшие в банке, составляли сумму в сто двадцать тысяч франков, и, таким образом, банк ничем не рисковал, ибо векселя в любую минуту можно было реализовать за шестьдесят тысяч франков.
– Так что, – закончил управляющий банком, – если бы она прислала нам когда-нибудь векселя сразу на сумму сто тысяч франков, мы бы их приняли. Ведь ей принадлежит также дом, он нигде не заложен и стоит больше ста тысяч франков. К тому же все эти векселя попадают к ней от Барбе и Метивье, а банк получает их за четырьмя подписями, включая подпись самой мадемуазель Тюилье.
– Для чего мадемуазель Тюилье проделывает все эти операции? – спросил Минар у Метивье.
– О, без сомнения, для того, чтобы увеличить состояние Селесты.
– Но в таком случае Селеста – выгодная партия для вас, – обронил Минар.
– О, нет! – возразил Метивье. – Уж лучше я женюсь на одной из кузин, мой дядюшка посвятил меня в свои дела, у него сто тысяч франков ренты и всего две дочери.
Как ни была скрытна мадемуазель Тюилье, никому, даже брату, не говорившая о том, куда она помещает деньги, как ни трудно было определить размер ее личного капитала, ибо она присоединила к нему некоторые сбережения, сделанные за счет состояния г-жи Тюилье, все же кое-какие лучи света проникли сквозь густой мрак, окутывавший ее сокровище.
Дюток, часто видевшийся с Барбе, на которого он походил и характером и лицом, более точно, чем Минар, определил размер сбережений семьи Тюилье: по его мнению, они составляли в 1838 году полтораста тысяч франков, и писец тайно следил за ростом этого состояния, подсчитывая барыши старой девы с помощью столь сведущего дисконтера, каким был Барбе.
– Селеста получит от нас двести тысяч франков наличными, – доверительно сообщила старая дева Барбе, – а госпожа Тюилье намерена при подписании брачного контракта ввести ее во владение своим имуществом. Что до меня, то мое завещание сделано. Брат будет пользоваться при жизни всем состоянием, но в конечном счете его унаследует Селеста. Своим душеприказчиком я избрала моего нотариуса господина Кардо.
Мадемуазель Тюилье к этому времени побудила брата возобновить его старинные связи с Сайарами, Бодуайе, Фалейксами – людьми, занимавшими в квартале Сент-Антуан, где господин Сайар был мэром, приблизительно такое же положение, какое занимали в своем квартале Тюилье и Минары. Нотариус Кардо также ввел в дом Тюилье жениха для Селесты в лице мэтра Годешаля, поверенного, купившего у Дервиля его контору, способного человека лет тридцати шести; Годешаль заплатил сто тысяч франков за дело, и двести тысяч франков приданого помогли бы ему разделаться с долгами. Минар ловким ходом устранил Годешаля, шепнув мадемуазель Тюилье, что если Селеста выйдет замуж за этого стряпчего, то ее невесткой окажется знаменитая актриса оперы Мариетта.
– Она сама вышла из актерской семьи, – вставил Кольвиль, намекая на происхождение своей жены, – и вовсе не для того, чтобы вновь оказаться в среде актеров.
– К тому же господин Годешаль слишком стар для Селесты, – заметила Бригитта.
– Помимо всего прочего, – робко вставила г-жа Тюилье, – почему бы не дать девочке возможность выбрать себе мужа по душе, чтобы она была с ним счастлива?
Бедная женщина заметила в сердце Феликса Фельона истинную любовь к Селесте, такую любовь, о какой женщина, раздавленная Бригиттой и глубоко оскорбленная безразличием Тюилье, уделявшего супруге меньше внимания, чем служанке, могла только мечтать. То была любовь пылкая, но не решавшаяся заявить о себе открыто, любовь стойкая и вместе с тем боязливая, скрытая от всех, но распускающаяся пышным цветом в глубине человеческого сердца. Феликсу Фельону исполнилось двадцать три года, это был мягкий и чистый юноша, именно такой, какими бывают ученые, посвятившие себя занятиям чистой наукой. Его заботливо воспитал отец, который все принимал всерьез и старался подавать сыну хороший пример, сопровождая его избитыми рассуждениями. Феликс был среднего роста; светло-каштановые волосы, серые глаза, прелестный голос, спокойные манеры – все производило приятное впечатление, которого не портила даже веснушчатая кожа; вид у него был мечтательный, разговаривая, он не жестикулировал, тщательно взвешивал слова, никому не противоречил, и сразу становилось понятно, что человек этот не способен ни на корыстную мысль, ни на низкий расчет.
«Именно таким я хотела бы видеть своего мужа!» – часто говорила себе г-жа Тюилье.
В середине зимы 1839-1840 года, в феврале месяце, в гостиной Тюилье находились различные люди, чьи беглые портреты мы только что набросали. Приближался конец месяца, Барбе и Метивье, рассчитывавшие попросить по тридцать тысяч франков у мадемуазель Бригитты, играли в вист с господами Минаром и Фельоном. За соседним столом устроились Жюльен-адвокат (так прозвал молодого Минара Кольвиль), г-жа Кольвиль, г-н Барниоль и г-жа Фельон. За игрой в бульот, в которой фишка стоила одно су, сидели г-жа Минар, не умевшая играть ни во что другое, отец и сын Кольвили, старик Сайар и его зять Бодуайе; запасными игроками были Лодижуа и Дюток. Жены Бодуайе, Лодижуа и Барниоля составили вместе с мадемуазель Минар партию в бостон, Селеста сидела рядом со своей подружкой – Прюдансой Минар, Феликс Фельон беседовал с г-жой Тюилье, не сводя глаз с Селесты.
По другую сторону камина восседала в глубоком кресле королева Елизавета этого семейного очага – мадемуазель Бригитта, одетая так же просто, как и тридцать лет назад, ибо благоденствие не могло заставить эту женщину расстаться со своими привычками. На ее тронутых сединой волосах красовался чепец из черного газа, увенчанный букетиками герани сорта «Карл X»; платье с шемизеткой цвета коринки стоило пятнадцать франков, вышитый воротник был куплен за шесть франков: он едва прикрывал глубокую борозду, образованную шейными мускулами, соединявшими голову с позвоночником. Даже у Монвеля, игравшего старика Августа, профиль был не столь суров, как у этой самодержавной властительницы, собственноручно вязавшей носки для брата. Перед камином стоял сам Тюилье, готовый, в случае надобности, встретить запоздавшего гостя; рядом с ним находился молодой человек, чье появление произвело огромный эффект: несколько минут назад привратник, надевавший по воскресеньям великолепную ливрею, объявил о приходе г-на Оливье Винэ.
Причиной этого неожиданного визита была доверительная беседа между нотариусом Кардо и прославленным генеральным прокурором, отцом молодого судейского чиновника. Оливье Винэ только недавно был переведен из суда города Арси в суд департамента Сены на должность помощника королевского прокурора. Нотариус Кардо пригласил к себе на обед Тюилье, на этом обеде в качестве почетного гостя присутствовал со своим сыном генеральный прокурор, которому, по всей видимости, предстояло сделаться министром юстиции. По мнению Кардо, общий размер состояния, которое должна была унаследовать Селеста Кольвиль, составлял к тому времени по меньшей мере семьсот тысяч франков. Винэ-сын, казалось, был очарован разрешением приходить каждое воскресенье к Тюилье. Большое приданое служит в наши дни источником больших глупостей, которые люди совершают без всякого стыда.
Прошло минут десять, и другой молодой человек, беседовавший с Тюилье перед приходом помощника прокурора, возвысил голос и завязал бурный политический спор, заставив юного представителя судебного ведомства последовать его примеру и принять оживленное участие в дискуссии. Речь шла о голосовании, в результате которого палата депутатов добилась отставки правительства 12 мая, отказавшись утвердить дотацию для герцога Немурского.
– Конечно же, я далек от того, чтобы поддерживать правительственную политику, – говорил молодой человек, – я далек от того, чтобы одобрять приход буржуазии к власти. У буржуазии не больше прав представлять все государство, чем было в свое время у аристократии. Но, так или иначе, французская буржуазия взяла на себя обязанность основать новую династию, новую королевскую власть для самой себя, – и вот как ныне она с нею обращается! Когда народ позволил Наполеону возвыситься, то сотворил из него нечто великолепное, монументальное, он гордился величием Наполеона и великодушно отдавал свою кровь и свои силы, чтобы воздвигнуть здание Империи. В сравнении с великолепием аристократического трона и пурпурной императорской мантии, в сравнении с грандами и народом буржуазия выглядит особенно мелкой; она низводит власть до своего уровня, вместо того, чтобы попытаться самой возвыситься до уровня этой власти. Привыкнув к грошовой экономии в своих лавках, она предписывает ее своим королям и властителям. Но ведь то, что может почитаться добродетелью в торговле, оборачивается ошибкой и даже преступлением в высшей политике. Я бы очень многого хотел для народа, но не стал бы урезáть на десять миллионов цивильный лист. Буржуазия, которая стала ныне во Франции почти всем, обязана даровать счастье народу, окружить короля блеском, пусть даже без излишней роскоши, уничтожить привилегии, не унижая величия страны.
Отец Оливье Винэ был одним из руководящих деятелей правительственной коалиции: однако мантия хранителя печати, о которой он давно мечтал, все еще оказывалась для него недостижимой. Вот почему молодой помощник прокурора не знал, что ответить; в конце концов он решил в какой-то мере согласиться с собеседником.
– Вы правы, сударь, – заявил Винэ. – Однако, прежде чем щеголять, буржуазия должна выполнить свои обязанности перед Францией. Да, сначала обязанности, а уж затем роскошь, о которой вы толкуете. То, что вам кажется столь достойным упрека, в настоящее время просто необходимо. Палата депутатов не играет должной роли в делах, министры служат не столько Франции, сколько короне, и парламент пожелал, чтобы французское правительство, по примеру Англии, стало его орудием на деле, а не на словах. В тот день, когда правительство станет действовать самостоятельно и будет представлять в качестве исполнительной власти Палату депутатов, подобно тому, как сама Палата представляет страну, парламент начнет весьма либерально относиться к короне. В этом суть вопроса, я просто излагаю ее, не высказывая собственного мнения, ибо занимаемый мною пост обязывает меня сохранять в области политики полную верность короне.
– Речь идет не только о политике, – возразил молодой человек, чье произношение выдавало уроженца Прованса, – надо сказать, что буржуазия вообще дурно поняла свою миссию: мы нередко встречаем генеральных прокуроров, председателей суда, пэров Франции в омнибусах, судьи живут на свое жалованье, префекты не имеют состояний, министры погрязли в долгах. Между тем, получая все эти места, буржуазия должна была бы окружать их почетом, подобно тому, как это некогда делала аристократия; должностным лицам следовало бы не сколачивать себе состояния, как это выявилось во время недавних скандальных процессов, а тратить собственные доходы ради лучшего отправления обязанностей…
«Кто этот молодой человек? – спрашивал себя Оливье Винэ, – может быть, родственник хозяина дома? Кардо следовало бы прийти сюда в первый раз вместе со мною».
– Кто этот юноша? – в свою очередь, спросил Минар у господина Барбе. – Я уже не в первый раз вижу его здесь.
– Жилец, – ответил Метивье, сдавая карты.
– Адвокат, – прибавил вполголоса Барбе. – Он занимает небольшую квартирку на четвертом этаже, с окнами на улицу… О, человек малозначительный и совершенно без средств.
– Как зовут этого молодого человека? – осведомился Оливье Винэ у г-на Тюилье.
– Теодоз де ла Перад, он не так давно стал адвокатом, – прошептал Тюилье на ухо помощнику прокурора.
В эту минуту женщины, которые, как и мужчины, внимательно смотрели на молодых людей, переглянулись, и г-жа Минар, не удержавшись, сказала Кольвилю:
– Как он хорош собой, этот юноша.
– Я составил анаграмму, – ответил отец Селесты. – Его имя и фамилия – ведь полностью его зовут Шарль-Мари-Теодоз де ла Перад – предрекают следующее: «Ишь, мародер! Зол и делает парад!» Так что, милая моя госпожа Минар, остерегитесь выдавать за него свою дочь.
– Вот молодой человек, которого находят более красивым, чем мой сын, – сказала г-жа Фельон г-же Кольвиль. – Что вы по этому поводу думаете?
– О, что касается внешности двух этих молодых людей, то тут женщина заколебалась бы, прежде чем сделать выбор, – ответила г-жа Кольвиль.
В эту минуту молодой Винэ, окинув взглядом гостиную, в которой собралось столько мелких буржуа, счел, что поступит очень тонко, если начнет превозносить буржуазию; он подхватил слова молодого адвоката из Прованса и принялся утверждать, будто люди, облеченные доверием правительства, должны подражать королю, чья роскошь оставила далеко позади роскошь прежних монархов; не удовольствовавшись этим, Винэ заявил, что делать сбережения из получаемого жалованья просто глупо, к тому же это даже невозможно, особенно в Париже, где жизнь вздорожала чуть ли не в три раза, где судейскому чиновнику, к примеру, приходится платить за свою квартиру тысячу экю!..
– Отец, – сказал он в заключение, – дает мне ежегодно тысячу экю, и этих денег вместе с моим жалованьем едва хватает на то, чтобы жить сообразно занимаемому мною положению.
Когда помощник прокурора вступил на зыбкую стезю, к которой его так ловко подвел собеседник, коварный провансалец незаметно обменялся взглядом с Дютоком, дожидавшимся своей очереди войти в карточную игру.
– В Париже отмечается такая острая нужда в должностях, – заметил письмоводитель, – что поговаривают о создании двух мировых судов в каждом округе с тем, чтобы открыть еще двенадцать канцелярий… Как будто можно посягнуть на наши права, на эти места, за которые платят поистине бешеные деньги!
– Я еще не имел удовольствия слышать ваши речи во Дворце Правосудия, – обратился помощник прокурора к г-ну де ла Пераду.
– Я адвокат бедняков и выступаю лишь в мировом суде, – ответил провансалец.
Слушая рассуждения молодого судейского чиновника о том, что должностным лицам следует проживать свои доходы, мадемуазель Тюилье приняла чопорный вид, значение которого было хорошо известно и молодому провансальцу и Дютоку. Винэ-младший покинул салон вместе с Минаром и Жюльеном-адвокатом; таким образом, поле битвы возле камина осталось за молодым де ла Перадом и Дютоком.
– Чиновная буржуазия, – заявил Дюток, обращаясь к Тюилье, – начинает вести себя так, как некогда вела себя аристократия. Дворяне норовили жениться на дочерях из богатых семейств, чтобы таким способом унаваживать свои земли, нынешние выскочки охотятся за приданым, чтобы подправить свои дела.
– Именно это господин Тюилье говорил мне нынче утром, – дерзко заявил провансалец.
– Винэ-старший женился на некоей барышне де Шаржбеф, – продолжал Дюток, – от нее-то он и понабрался дворянских привычек. Ему во что бы то ни стало нужно состояние, жена его живет на княжескую ногу.
– Ну, лишите этих людей должностей, – сказал Тюилье, который, как истый буржуа, завидовал своим ближним, – и они быстро окажутся на мели…
Мадемуазель Тюилье вязала с такой молниеносной быстротой, что казалось, будто работает паровая машина.
– Ваш черед, господин Дюток, – заявила г-жа Минар, вставая. – У меня ноги застыли, – прибавила она, направляясь к камину.
При этом золотые побрякушки на ее тюрбане засверкали, как бенгальские огни при бликах свечей «звезда», которыми тщетно пытались осветить огромную гостиную.
– Этому помощнику прокурора впору проповедовать в храме святого Луи! – заметила г-жа Минар, бросив взгляд на мадемуазель Тюилье.
– Вы хотите сказать – в храме святого Луидора! – подхватил провансалец. – Как это остроумно, сударыня…
– Госпожа Минар уже давно приучила нас к своим метким замечаниям, – вставил красавец Тюилье.
Госпожа Кольвиль внимательно смотрела на провансальца и невольно сравнивала его с молодым Фельоном: тот беседовал с Селестой, не обращая никакого внимания на все происходившее вокруг. Пожалуй, теперь самое время описать своеобразного человека, который был призван сыграть столь важную роль в жизни семьи Тюилье и который, конечно же, заслуживает имени великого артиста.
В Провансе, особенно в окрестностях Авиньона, встречается порода людей, далеко отстоящих от привычного типа южанина: обычно это блондины или шатены, с нежным цветом лица и кроткими глазами, чей взор покоен, безразличен или томен, в то время как у большинства южан взор, как правило, живой, пламенный и глубокий. Заметим, кстати, что на Корсике люди, подверженные бурным порывам, опаснейшим вспышкам гнева, чаще всего блондины, с виду совершенно спокойные. Самыми грозными в Провансе оказываются бледные, довольно полные мужчины с тусклыми светло-голубыми или светло-зелеными глазами. Шарль-Мари-Теодоз де ла Перад был великолепным образчиком этой породы людей, чья конституция заслуживает внимательнейшего изучения со стороны медицинской науки, философии и физиологии. Дело в том, что в них иногда происходит внезапное разлитие желчи, и отравленная горечью кровь кидается им в голову, подталкивая их на свирепые деяния, которые они на первый взгляд холодно обдумывают; на самом же деле их поступки – следствие внутреннего опьянения, хоть в это и не легко поверить, глядя на их флегматическую внешность, встречаясь с их спокойным, благодушным взором.
Молодой провансалец, родившийся неподалеку от Авиньона, был человек среднего роста, хорошо сложенный, довольно полный; трудно определить оттенок его кожи: ее нельзя назвать ни мертвенно бледной, ни матовой, ни розовой, своим цветом она напоминала желатин, и этот образ один только в силах дать представление об аморфной, бесцветной оболочке, под которой скрывались нервы, не столько крепкие, сколько способные при определенных обстоятельствах выдержать чудовищное напряжение. Взгляд его бледно-голубых холодных глаз обычно выражал обманчивую меланхолию, необыкновенно привлекающую женщин. Красивый лоб, казалось, дышал благородством и отлично гармонировал с тонкими, редкими светло-каштановыми волосами, которые от природы слегка завивались на концах. У него был нос охотничьей собаки: приплюснутый, раздвоенный на конце, любопытный, какой-то осмысленный и ищущий, вечно что-то вынюхивающий; нет, то не был добродушный нос, то был нос иронический и насмешливый. Но черты характера Теодоза были глубоко запрятаны, только тогда, когда молодой человек переставал наблюдать за собою и приходил в ярость, становились явными свойственный ему сарказм и ум, которыми были пронизаны его дьявольские шуточки. У него был приятно изогнутый рот, губы цвета граната, голос на среднем регистре звучал необыкновенно пленительно; Теодоз обычно старательно сдерживал раскаты своего голоса, который, если хозяин давал ему волю, звенел в ушах слушателей, как гонг. Впрочем, адвокат переходил на фальцет лишь в тех случаях, когда не помнил себя от гнева и нервы его не выдерживали. Его овальной формы лицо обычно ничего не выражало – так хорошо он умел им управлять. С этим истинно жреческим выражением лица находились в полном согласии сдержанные, благовоспитанные манеры, но в его обхождении было что-то уж слишком приветливое и навязчивое, чуть ли не льстивое, и такая манера вести себя невольно покоряла человека, особенно пока он находился в обществе Теодоза. Обаяние, имеющее своим источником человеческое сердце, оставляет в другом человеке глубокие следы, но обаяние, являющееся лишь следствием искусного умения вести себя, равно как и следствием красноречия, одерживает только преходящие победы: чтобы добиться цели, оно не гнушается никакими средствами. Но много ли встречается в частной жизни людей с философским складом ума, способных сравнивать и разбираться в таких тонкостях? Почти всегда, по народному выражению, люди заурядные разгадывают хитреца лишь тогда, когда он уже успел обвести их вокруг пальца!
Все в этом двадцатисемилетнем человеке находилось в соответствии с его истинным характером; следуя своему призванию, он занимался филантропией, то есть тем, чем может заниматься человек, считающий себя филантропом. Теодоз любил народ, ибо любить все человечество он был не в состоянии. Подобно садовникам, которые отдают свое сердце розам, георгинам, макам или пеларгонии и не уделяют никакого внимания остальным цветам, оставляющим их холодными, сей юный Ларошфуко-Лианкур всей душой сочувствовал работникам, пролетариям, беднякам предместий Сен-Жак и Сен-Марсо. Человек сильный, гений, попавший в безвыходное положение, стыдящийся своего разорения буржуа – все они с точки зрения Теодоза не могли претендовать на милосердие. Сердце всякого маньяка напоминает ящик с несколькими отделениями, в каждом из которых лежат различные сорта пилюль; девиз такого маньяка – suum cuique tribuere, он строго дозирует свои обязанности. Встречаются филантропы, чье сердце трогают лишь заблуждения осужденных. Нет сомнения, что в основе филантропии лежит тщеславие, но у нашего молодого провансальца в основе всего лежал расчет, лицемерие, тщательно продуманная роль либерала и демократа, которую он играл с таким совершенством, что это вряд ли было бы по плечу даже великолепному артисту. Теодоз не обрушивался на богачей, он лишь отказывался их понимать, он видел себя вынужденным считаться с тем, что они существуют. По его мнению, каждому следовало пользоваться лишь плодами своих деяний; Теодоз некогда был, по его словам, пламенным учеником Сен-Симона, но теперь относил это увлечение к ошибкам юности, ибо современное общество не могло зиждиться ни на чем ином, кроме права наследования. Убежденный католик, как и все уроженцы провинции Контá, он на заре отправлялся к обедне и тщательно скрывал от всех свое благочестие. Подобно всем филантропам, он отличался бережливостью, доходившей до скупости, и охотно отдавал беднякам свое время, советы, красноречие и даже деньги… но только те, которые ему удалось вырвать для них у богачей. Он носил сапоги до тех пор, пока подметки на них не стирались вконец, и не снимал своего костюма из черного сукна до тех пор, пока тот не начинал белеть на швах. Природа щедро одарила Теодоза: она не наградила его той тонкой и мужественной красотой южанина, которая глубоко задевает воображение других и порою требует от человека даже того, чего в нем нет; между тем Теодозу не стоило большого труда понравиться: он мог по собственному желанию показаться либо красавцем, либо человеком с весьма заурядной внешностью. Еще ни разу после своего водворения в доме Тюилье он не решался, как в тот вечер, поднять голос и держать себя с таким блеском, с каким он держал себя с Оливье Винэ; но, быть может, Теодоз де ла Перад счел, что ему пора уже попытаться выйти из безвестности, в которой он дотоле пребывал; кроме того, он полагал необходимым отделаться от молодого судейского чиновника, подобно тому, как Минары отделались до этого от Годешаля. Как и все возвышенные натуры, помощник прокурора, которому нельзя было отказать в возвышенном уме, был чужд низменных помыслов, свойственных миру буржуа. Поэтому он очертя голову устремился в невидимую ловушку, расставленную Теодозом с такой хитростью, что в нее попались бы люди даже более ловкие, чем Оливье Винэ, запутавшийся в ней, как муха в паутине.
Чтобы докончить портрет адвоката бедняков, будет небесполезно описать его первые шаги в доме Тюилье.
Теодоз обосновался там в конце 1837 года; к тому времени он уже пять лет изучал право, был лиценциатом и проходил стажировку в Париже, желая стать адвокатом; однако неизвестные обстоятельства, о которых он упорно молчал, помешали ему попасть в список адвокатов города Парижа, и Теодоз все еще оставался адвокатом-стажером. Поселившись в небольшой квартирке на четвертом этаже и обзаведясь мебелью, необходимой для его благородной профессии, ибо устав корпорации адвокатов не допускает приема нового сочлена, если тот не располагает должным образом обставленным кабинетом и юридической библиотекой (причем представители корпорации все проверяют на месте), Теодоз де ла Перад сделался адвокатом при Королевском суде в Париже.
Весь 1838 год ушел на хлопоты, связанные с переменой в его положении; молодой человек вел в высшей степени размеренный образ жизни. С утра и до обеда он работал дома и только иногда отправлялся во Дворец Правосудия, когда там слушались важные процессы. В ту пору он, по словам Дютока, упорно искал с ним сближения и в конце концов добился этого; Дюток направил к нему нескольких бедняков, живших в предместье Сен-Жак, и Теодоз из чистого милосердия защищал их в суде; согласно уставу корпорации поверенных, они обязаны поочередно вести тяжбы неимущих; поверенные передавали такого рода дела Теодозу, и он неизменно их выигрывал, так как брался лишь за те, которые сулили верный успех. Знакомство с поверенными помогло молодому человеку приобрести связи в среде адвокатов, где ценили его похвальное усердие, и в конце концов Теодоз был принят сначала в число адвокатов-стажеров, а затем – и в состав корпорации адвокатов. Произошло это в 1839 году; с тех пор он сделался адвокатом бедняков при мировом суде и неизменно оказывал покровительство людям из народа. Люди, облагодетельствованные им, не уставали выражать свою признательность и свое восхищение в присутствии привратников, а те, в свою очередь, рассказывали об этом домовладельцам. Вот почему члены семьи Тюилье, которым льстило, что у них в доме проживает человек столь сострадательный и пользующийся таким уважением, захотели залучить его в свой салон и принялись расспрашивать о нем Дютока. Письмоводитель отвечал так, как отвечают завистники. Воздавая должное молодому человеку, он заявил, что тот отличается необычайной скупостью.
– Однако скупость эта, быть может, – следствие бедности, – прибавил Дюток. – Впрочем, мне немало о нем известно. Он принадлежит к роду де ла Перадов, старинному роду из провинции Контá-Авиньон; в Париж он приехал, чтобы проведать дядю, который, по слухам, обладал значительным состоянием, в конце концов он разыскал квартиру своего дядюшки, но узнал, что тот умер за три дня до этого, а все имущество пошло на уплату долгов и погашение расходов по похоронам. Один из друзей покойного дал сто луидоров бедному молодому человеку, обязав его изучать право и сделаться юристом. Эти сто луидоров позволили Теодозу просуществовать три года в Париже, причем он вел истинно монашеский образ жизни; однако бедный студент, которому так и не удалось больше встретиться со своим загадочным покровителем, впал к 1833 году в жестокую нужду – ведь шел уже четвертый год его пребывания в Париже.
Подобно всем прочим лиценциатам, он окунулся в политическую и литературную деятельность; это помогло ему некоторое время продержаться на поверхности, борясь с нищетой, ибо на помощь семьи бедняга не мог рассчитывать: его отец – младший брат дяди, скончавшегося в Париже, на улице Муано, с трудом кормил семейство, в котором было одиннадцать детей; родные Теодоза жили в крохотном поместье под названием «Канкоэль».
В конце концов он поступил в одну правительственную газету, редактором которой был знаменитый Серизе, снискавший себе славу преследованиями, выпавшими на его долю в годы Реставрации из-за его приверженности либералам; люди, представляющие ныне «новое левое крыло», не могут простить ему, что он примкнул к правительству, а так как в наши дни власти очень плохо защищают самых преданных своих сторонников, лучший пример чему – дело Жиске, то республиканцы в конечном счете разорили Серизе. Я говорю вам это для того, чтобы объяснить, каким образом он оказался на должности экспедитора в моей канцелярии.
Так вот, в те времена, когда Серизе еще процветал в качестве редактора газеты, которой министерство Перье пользовалось как орудием против различного рода поджигательских листков, вроде «Ла Трибюн» и тому подобных, он, будучи в конечном счете славным малым, хотя и слишком любившим женщин, хороший стол и удовольствия, оказался весьма полезен Теодозу, ведавшему в его газете отделом политики; так что, если бы не смерть Казимира Перье, наш молодой человек был бы, конечно, назначен помощником прокурора в Париже. В 1834-1835 годах Теодоз, несмотря на свои таланты, влачил довольно жалкое существование, ибо сотрудничество в правительственном органе сильно ему повредило. «Если бы не мои религиозные убеждения, – признался он мне однажды, – я бы бросился в Сену». В конце концов друг его дядюшки, как видно, проведал о горе молодого человека, и Теодоз снова получил малую толику денег, позволившую ему сделаться адвокатом; но он по-прежнему не знает ни имени, ни места жительства своего таинственного покровителя. Таким образом, принимая во внимание все эти обстоятельства, следует признать, что его бережливость вполне простительна, и Теодозу нельзя отказать в твердости характера, ибо он неизменно отказывается от тех приношений, которые пытаются ему делать бедняки, понимающие, что они выигрывают тяжбы только благодаря его бескорыстной преданности. Трудно без возмущения смотреть, как иные люди спекулируют на том, что обездоленные не в силах оплатить издержки по процессу, которые с них несправедливо взыскивают. О! Теодоз, конечно, добьется успеха, и я не удивлюсь, если этот молодой человек займет поистине блестящее положение. Ему присущи упорство, честность, мужество! Он неутомимо трудится, он работает, не разгибая спины.
Несмотря на то, что г-н де ла Перад был желанным гостем в салоне Тюилье, он поначалу редко появлялся там. Хозяева выговаривали ему, сетовали на его ненужную скромность, и он мало-помалу стал приходить чаще, а затем уже не пропускал ни одного воскресенья; его приглашали на все званые обеды, и он вскоре сделался чуть ли не домочадцем, так что, если Теодоз заходил на минутку побеседовать с Тюилье в четыре часа дня, его насильно усаживали за стол и требовали, чтобы он, отбросив церемонии, подкрепился чем бог послал. При этом мадемуазель Тюилье говорила себе:
«Так, по крайней мере, мы будем уверены, что бедный юноша не останется сегодня без обеда!»
Существует некое социальное явление, конечно же, не оставшееся незамеченным, но никем еще не сформулированное и, если угодно, не обнародованное, хотя оно и заслуживает всяческого внимания: мы имеем в виду то тяготение, которое испытывают люди, вышедшие из низов и достигшие определенного положения в обществе, к своим давним привычкам, шуточкам и манерам. Тюилье так же не остался чужд этому и под старость как бы вновь превратился в сына привратника; он охотно повторял излюбленные прибаутки своего отца, они поднимались из глубин его сознания, подобно тому, как тина поднимается со дна на поверхность водоема.
Раз пять или шесть в месяц, когда жирный суп был особенно вкусен, Тюилье, кладя ложку в опустевшую тарелку, произносил с таким видом, словно изрекал нечто новое, старую прибаутку своего отца: «Нет, это куда приятнее, чем пинок в зад!..» Когда Теодоз впервые услышал незнакомую ему шуточку, он утратил серьезность и от всего сердца расхохотался; искренняя веселость молодого человека чрезвычайно польстила самолюбию красавца Тюилье. В дальнейшем, всякий раз когда Тюилье повторял эту фразу, Теодоз неизменно встречал ее понимающей улыбкой. Мы упомянули об этой детали, чтобы читателю было понятнее, почему утром того самого дня, когда Теодоз схватился с молодым помощником прокурора, адвокат позволил себе сказать Тюилье, с которым он вышел в сад, чтобы посмотреть, не нанесли ли заморозки ущерб фруктовым деревьям:
– Сударь, вы куда более умны, чем полагаете!
На это последовал ответ:
– Избери я любую другую карьеру, мой милый Теодоз, я бы далеко пошел, но падение императора подкосило меня.
– Время еще не упущено, – возразил начинающий адвокат. – Кстати, за какие такие заслуги этот скоморох Кольвиль получил крест?
Де ла Перад, словно невзначай, прикоснулся к ране, которую Тюилье столь старательно скрывал, что даже его сестра ни о чем не подозревала; однако проницательный молодой человек, тщательно изучавший всех этих буржуа, угадал тайную зависть, точившую сердце бывшего помощника правителя канцелярии.
– Если вы, человек столь многоопытный, окажете мне честь и согласитесь руководствоваться моими советами, а главное, никогда и никому не говорить о нашем соглашении, даже вашей превосходной сестре, разве только я сам вам это разрешу, то я берусь добиться того, чтобы вас наградили орденом под приветственные возгласы всех обитателей квартала.
– О, если бы это только осуществилось! – воскликнул Тюилье. – Вы даже не подозреваете, до какой степени я был бы вам обязан…
Эта беседа объясняет, почему Тюилье принял в тот вечер столь чванный вид, когда Теодоз, не моргнув глазом, приписал ему собственные мысли.
В области искусства – а Мольер, пожалуй, возвысил лицемерие до уровня искусства, навсегда закрепив за Тартюфом славу неподражаемого актера, – существует степень совершенства, которую следует поставить выше таланта: с ней может сравниться лишь гениальность. Надо заметить, что между творением гениальным и творением просто талантливым существует сравнительно небольшая разница и одни только люди гениальные могут определить дистанцию, отделяющую Рафаэля от Корреджо или Тициана от Рубенса. Больше того, гению присуща черта, часто обманывающая толпу: творения, отмеченные печатью гения, на первый взгляд кажутся созданными без труда. Словом, гениальное произведение представляется неискушенному глазу почти обыденным – до такой степени оно естественно, даже если в нем толкуются наиболее возвышенные сюжеты. Сколько крестьянок держат своих младенцев точно так, как держит младенца знаменитая дрезденская мадонна!
И вот, высшая степень искусства для такого человека, как Теодоз, состоит в том, чтобы заставить людей позднее говорить: «Никто не мог бы против него устоять!» Бывая в салоне Тюилье, молодой адвокат улавливал малейшие проявления противоречий, он угадывал в Кольвиле человека проницательного – этот артист-неудачник обладал критическим складом ума. Теодоз знал, что не нравится Кольвилю: тот в силу обстоятельств, о которых здесь незачем упоминать, проникся в конце концов верой в пророческую силу своих анаграмм. Дело в том, что все они сбывались. Чиновники канцелярий немало потешались над Кольвилем, когда он, составив по их просьбе анаграмму на незадачливого Огюста-Жана-Франсуа Минара, получил следующую фразу: «С нас – жир, нам – фортуна с юга!» Но прошло десять лет, и пророчество осуществилось! Анаграмма, составленная Кольвилем на Теодоза, была полна рокового значения. Анаграмма на его собственную жену заставляла Кольвиля внутренне содрогаться, он никогда не оглашал ее, ибо из имен «Флавия Миноре Кольвиль» образовалась фраза: «Коль я – лев, ее вина – миф и роль!» Увы, бедняга отлично понимал, что он вовсе не похож на льва…
Теодоз несколько раз пытался расположить к себе жизнерадостного секретаря мэрии, но столкнулся с холодностью, неожиданной в этом, обыкновенно столь общительном человеке. Когда партия в бульот окончилась, Кольвиль увлек Тюилье в оконную нишу и сказал:
– Ты слишком много позволяешь этому адвокатишке, нынче вечером он направлял все разговоры в гостиной.
– Спасибо, друг мой, береженого и бог бережет, – ответил Тюилье, смеясь в душе над Кольвилем.
Теодоз разговаривал в это время с г-жой Кольвиль, не упуская из виду двух друзей; интуиция, которой чаще всего обладают женщины, безошибочно знающие, когда и что именно говорят о них в другом конце гостиной, помогла молодому человеку угадать, что Кольвиль пытается повредить ему, заронив семена сомнения в слабую голову недалекого Тюилье.
– Сударыня, – шепнул Теодоз на ухо прелестной святоше, – поверьте, что если здесь кто-нибудь способен оценить вас, то это я. Вы подобны жемчужине, упавшей в болото, вам всего сорок два года, ибо женщине столько лет, на сколько она выглядит, и много тридцатилетних женщин в сравнении с вами – ничто, они были бы счастливы обладать такой талией и таким величественным лицом, на котором внимательный взгляд может, однако, различить следы любви, так и не принесшей вам полного удовлетворения. Вы посвятили себя богу, я это знаю, и я слишком благочестив, а потому мечтаю стать лишь вашим другом и никем больше. Но вы посвятили себя господу именно потому, что так и не нашли человека, достойного вас. Словом, вас многие любили, но никогда еще вы не были предметом обожания, я это сразу угадал… Вон стоит ваш муж; он так и не сумел доставить вам положение, какого вы заслуживаете, он ненавидит меня, словно догадывается о моей любви к вам, и одним своим видом мешает мне сказать, что я, думается, нашел средство помочь вам проникнуть в те сферы, вращаться в которых вам назначено судьбой… Нет, сударыня, – сказал он громким голосом, вставая со своего места, – аббат Гондрен не будет служить в этом году на великий пост в нашей скромной церкви Сен-Жак дю О-Па, службу станет отправлять господин д'Эстиваль, мой земляк, посвящающий свои проповеди защите интересов бедных классов, и вам предстоит услышать одного из самых проникновенных проповедников, каких я только знаю. Если этот священник и не может похвалиться представительной внешностью, зато он обладает несравненной душой!..
– Стало быть, мои желания наконец-то исполнятся, – заметила несчастная г-жа Тюилье, – я никогда не понимала прославленных проповедников!
На сухих губах мадемуазель Тюилье появилась улыбка, улыбнулись и многие из гостей.
– Они слишком много времени уделяют теологическим доказательствам, я уже давно придерживаюсь этого мнения, – сказал Теодоз. – Впрочем, я никогда не говорю о религии, и если бы не госпожа де Кольвиль…
– Значит, существуют теологические доказательства? – простодушно и, можно сказать, в упор спросил преподаватель математики.
– Я не думаю, сударь, что вы серьезно задали этот вопрос! – воскликнул Теодоз, смерив взглядом Феликса Фельона.
– Мой сын, – вмешался старик Фельон, неуклюже спеша прийти на помощь Феликсу, ибо он уловил горестное выражение на бледном лице г-жи Тюилье, – мой сын рассматривает религию с двух точек зрения: с человеческой и с божественной, он различает то, что в ней от откровения, и то, что от разума.
– Какая ересь, милостивый государь! – вскричал Теодоз. – Религия едина и прежде всего требует от нас безотчетной веры.
Старик Фельон, словно пригвожденный этой фразой к стене, посмотрел на жену:
– Мой друг, нам пора… – И он указал на стенные часы.
– О господин Феликс, – прошептала Селеста на ухо простодушному математику, – разве нельзя быть, подобно Паскалю и Боссюэ, одновременно и ученым и благочестивым?..
Фельоны вышли гурьбой, уведя с собой и Кольвилей; вскоре в гостиной остались лишь Дюток, Теодоз и члены семьи Тюилье.
Льстивые речи, которые Теодоз обращал к Флавии, отличались тривиальностью; в интересах нашего повествования уместно заметить, что адвокат сознательно старался примениться к уровню окружавших его обывателей с недалеким умом; он придерживался известной поговорки: «С волками жить – по-волчьи выть». Вот почему его излюбленным художником был не Жозеф Бридо, а Пьер Грассу, а настольной книгой ему служила повесть «Павел и Виргиния». Самым великим поэтом современности он признавал Казимира Делавиня, в его глазах предназначение искусства заключалось прежде всего в полезности. Теодоз утверждал, что Пармантье, творец картофеля, стоит тридцати Рафаэлей, человек в коротком синем плаще представлялся ему истинной сестрой милосердия. Все это были выражения красавца Тюилье, и лукавый адвокат при случае повторял их.
– Этот юноша, Феликс Фельон, – подлинный представитель университетского образования нашего времени, характерное порождение науки, которая устранила бога. Господи! Куда мы идем? Только религия может спасти Францию, ибо лишь страх перед адом предохраняет нас от домашних краж, совершающихся чуть ли не каждый час в недрах семьи и разрушающих самые солидные состояния. В наши дни трудно встретить семью, где не велась бы междоусобная война.
Произнеся эту ловкую тираду, которая произвела сильное впечатление на Бригитту, Теодоз пожелал доброй ночи хозяевам и вышел в сопровождении Дютока.
– Вот молодой человек, полный достоинств! – наставительно заметил Тюилье.
– О, да! – подхватила Бригитта, гася лампы.
– К тому же он религиозен, – прибавила г-жа Тюилье, уходя к себе в комнату.
– Сударь, – говорил в это время Фельон Кольвилю, когда они подошли к Горному училищу и добряк убедился, что вокруг нет посторонних, – не в моих привычках навязывать свои мнения другим, но я не могу удержаться и не сказать вам, что этот молодой адвокат ведет себя все более развязно в доме наших друзей Тюилье.
– А я вам прямо скажу, – взорвался Кольвиль, шагавший рядом с Фельоном позади своей жены, Селесты и г-жи Фельон, которые шли, тесно прижавшись друг к другу, – он иезуит, а я не выношу людей такого сорта… Лучший среди них гроша ломаного не стоит. В моих глазах иезуит – это плут, причем плут, плутующий из любви к плутовству, чтобы, как говорится, набить себе руку в плутнях. Вот мое мнение, и я не намерен его скрывать…
– О, я вас отлично понимаю, сударь, – ответил Фельон, пожимая руку Кольвилю.
– Нет, господин Фельон, – вмешалась Флавия, обернувшись к мужчинам, – вы не понимаете Кольвиля, но я-то хорошо знаю, что он собирается сказать, и лучше будет, если он воздержится… Такого рода темы не обсуждают на улице, в одиннадцать часов вечера, да еще в присутствии молодой девушки.
– Ты права, женушка, – ответил Кольвиль.
Достигнув улицы Дез-Эглиз, где семейство Фельон должно было разойтись с Кольвилями, все принялись прощаться, и Феликс Фельон сказал Кольвилю:
– Сударь, ваш сын Франсуа, хорошенько подготовившись, мог бы поступить в Политехническую школу; если хотите, я охотно займусь с ним и подготовлю его к экзаменам еще в этом году.
– От такого рода предложений не отказываются! Благодарю, друг мой, – сказал Кольвиль. – Мы еще поговорим.
– Превосходно! – похвалил Фельон сына.
– Да, то был ловкий ход! – воскликнула мамаша Фельон.
– Что вы хотите сказать? – удивился Феликс.
– Только то, что ты обхаживаешь родителей Селесты.
– Пусть мне никогда не решить занимающей меня научной проблемы, если я думал об этом! – возмутился юный педагог. – Беседуя с сыновьями Кольвиля, я обнаружил у Франсуа склонность к математике и счел себя обязанным сказать его отцу…
– Превосходно, сын мой, – повторил Фельон, – именно таким я и мечтал тебя видеть. Мои желания сбылись, я нахожу в своем сыне воплощенную порядочность, честность, гражданские и человеческие добродетели и могу громогласно заявить: я доволен…
Когда Селеста ушла спать, г-жа Кольвиль сказала мужу:
– Кольвиль, никогда не осуждай так резко людей, которых недостаточно знаешь. Когда ты произносишь слово «иезуит», я понимаю, что ты думаешь о священниках. Так вот, будь любезен, храни при себе свои взгляды на религию всякий раз, когда рядом с тобою находится дочь. Мы вольны подвергать опасности собственные души, но не души наших детей. Неужели ты хотел бы, чтобы твоя дочь походила на какую-нибудь девицу без твердой веры?.. Не забывай, мой котик, что теперь мы зависим от каждого встречного и поперечного, мы должны заботиться о воспитании четверых детей, и можешь ли ты утверждать, что раньше или позже у тебя не возникнет необходимость в помощи того или иного человека? Поэтому не наживай себе врагов, ведь у тебя их нет, ты славный малый, и именно благодаря твоему покладистому характеру, который мне всегда так нравился и составляет твое очарование, мы до сих пор с успехом выходили из жизненных затруднений!..
– Довольно! Довольно! – взмолился Кольвиль, бросая фрак на спинку стула и развязывая галстук. – Я виноват, ты права, прелестная моя Флавия.
– При первом же удобном случае, мой ягненочек, – продолжала хитрая матрона, потрепав мужа по щеке, – ты постараешься самым учтивым образом побеседовать с нашим юным адвокатом. Это, несомненно, хитрец, и надобно привлечь его на свою сторону. Он ломает комедию?.. Ну, что ж, и ты ломай комедию: сделай вид, будто не замечаешь, как он тебя дурачит. А убедившись, что он человек талантливый и с будущим, постарайся сделать его своим другом. Не думаешь же ты, что я соглашусь на то, чтобы ты еще долго корпел в мэрии?
– Идите сюда, милостивая госпожа Кольвиль, – воскликнул, смеясь, бывший первый кларнет Комической оперы, похлопывая себя по колену и жестом приглашая жену, – давайте согреем ваши ножки и побеседуем… Нет, чем больше я на тебя гляжу, тем больше убеждаюсь в правоте людей, утверждающих, что молодость женщины определяется линией ее стана…
– И пылкостью ее сердца…
– И тем и другим, – подхватил Кольвиль. – Талия должна быть тонкой, а сердце – полным…
– Ты хочешь сказать: полным чувств, дуралей!..
– Но главное твое достоинство в том, что ты сумела сохранить белизну кожи и при этом даже не растолстела!.. Постой, постой… я прощупываю твои косточки… Знаешь, Флавия, если бы мне предстояло заново начать жизнь, я бы не пожелал иной жены, чем ты.
– Ты отлично знаешь, что и я всегда предпочитала тебя всем другим… Какая жалость, что его высокопреосвященство скончался! Знаешь, чего бы я хотела?
– Нет.
– Места для тебя в магистратуре Парижа, с жалованьем в двенадцать тысяч франков. Скажем, должность казначея в муниципальной кассе города или в Пуасси. Можно еще стать комиссионером.
– Все это мне подходит.
– Так вот, если этот чудище-адвокат окажется на что-нибудь способен… Он, должно быть, мастер плести интриги, надо держать его про запас… Я его прощупаю… Предоставь это мне, а главное, не мешай ему добиваться своих целей в доме Тюилье…
Теодоз затронул больное место в душе Флавии Кольвиль, и это обстоятельство заслуживает специального объяснения: оно, пожалуй, позволит многое понять в жизни женщин вообще.
К сорока годам всякая женщина, особенно та, что отведала от запретного плода страстей, испытывает священный ужас; она обнаруживает, что ей грозит двойная смерть: смерть тела и смерть души. Если принять широко бытующее в обществе разделение всех женщин на две большие категории – на добродетельных и порочных, – то позволено сказать, что и те и другие, достигнув этого рокового возраста, испытывают горестное, болезненное чувство. Женщины добродетельные, всю жизнь подавлявшие зов плоти, либо безропотно покоряясь судьбе, либо обуздывая мятежную страсть и скрывая ее в глубине сердца или у подножия алтаря, со страхом говорят себе, что для них все кончено. И мысль эта оказывает столь странное, воистину дьявольское влияние, что именно в нем лежат причины необъяснимых перемен в поведении некоторых женщин, перемен, поражающих родных и знакомых, приводящих их в ужас. Женщины порочные приходят в состояние, близкое к умоисступлению, которое, увы, нередко приводит их к помешательству, а порою и к смерти; иногда они становятся жертвой и впрямь демонических страстей.
Вот два возможных объяснения такого кризиса. Либо они познали счастье, привыкли к жизни, исполненной сладострастия, и не могут существовать, не дыша воздухом, напоенным лестью, не вращаясь в атмосфере, благоухающей фимиамом поклонения, не слыша комплиментов, ласкающих слух. Они не в силах от всего этого отказаться! Или же – что встречается куда реже, но тем более поражает – они всю жизнь искали убегавшее от них счастье, но обретали лишь утомительные удовольствия; в этой яростной погоне их поддерживало щекочущее нервы чувство удовлетворенного тщеславия, и они не могут бросить любовную игру, как игрок не может бросить колоду карт, ибо для таких женщин уходящая красота – последняя ставка в игре, где проигрыш влечет за собой безысходное отчаяние.
«Вас любили многие, но никогда еще вы не были предметом обожания!»
Эти слова Теодоза, сопровождавшиеся красноречивым взглядом, который читал не столько в ее сердце, сколько в ее прошлом, были ключом к загадке, и Флавия поняла, что молодой человек постиг ее тайные муки.
Между тем адвокат лишь повторял некоторые мысли, которые литература сделала банальными; однако имеет ли значение, кем и из какого материала изготовлен хлыст, коль скоро он больно хлещет породистую лошадь? Грохот, сопровождающий горный обвал, сам по себе не опасен, он лишь возвещает о нем, подобно этому опасна была не льстивая ода, обращенная к Флавии, а душевное состояние самой Флавии.
Молодой офицер, два фата, банкир, угловатый юноша и бедняга Кольвиль – вот и все, что знала в своей жизни эта женщина. Лишь однажды счастье было где-то рядом, но она не испытала его, ибо смерть поторопилась разрушить единственную страсть, которая таила очарование для Флавии. Вот уже два года, как она внимала голосу религии, и он внушал ей, что ни церковь, ни общество не сулят ни счастья, ни любви, но тем не менее требуют от людей исполнения долга и покорности; для двух этих могучих властителей счастье человека заключается в чувстве удовлетворения, которое приносит сознание исполненного долга, потребовавшего от него многих трудных усилий, а награда ожидает его лишь в ином мире. Но в глубине души Флавия слышала иной, требовательный голос; религия была для нее не следствием внутреннего обращения к богу, а лишь маской, которую она считала нужным носить и которую не снимала, видя в ней некое прибежище, ее набожность – истинная или притворная – была средством приобщиться к ожидавшему ее будущему; вот потому-то она не покидала церкви, уподобляясь путнику, который сидит на скамье у скрещения лесных тропинок и в ожидании ночи внимательно читает дорожный указатель, уповая, что случай пошлет ему проводника.
Вот почему ее любопытство было живо задето, когда Теодоз так верно определил ее внутреннее состояние, когда он заговорил о самых сокровенных ее чувствах и не для того, чтобы этим походя воспользоваться, а для того, чтобы пообещать ей воздвигнуть воздушный замок, который она уже семь или восемь раз безуспешно пыталась создать.
С начала зимы Теодоз тайком внимательно приглядывался к Флавии, изучал ее, проникал в душу этой женщины. Не раз она надевала в те месяцы платье из серого муара, отделанное черными кружевами, и шляпку с цветами, переплетенными кружевными лентами. Этот наряд был ей особенно к лицу, а мужчины отлично понимают, когда женщина наряжается ради них. Красавец времен Империи, несносный Тюилье осыпал ее льстивыми комплиментами, по его словам, она была подлинной королевой салона, но выразительный взгляд молодого провансальца говорил ей в тысячу раз больше.
Флавия каждое воскресенье ждала признания с его стороны, она твердила себе:
«Ведь он знает, что я обездолена, и продолжает хранить молчание! Неужели он и в самом деле благочестив?»
Теодоз не желал торопить событий; как опытный музыкант, он заранее наметил время, когда в исполняемой им симфонии должны зазвучать ударные инструменты. Увидев, что Кольвиль старается повредить ему во мнении Тюилье, адвокат дал залп из всех орудий, осмотрительно приготовленных им в те три или четыре месяца, которые он употребил на изучение характера Флавии. И полностью преуспел, подобно тому, как преуспел в то утро, беседуя с Тюилье.
Ложась в постель, Теодоз говорил себе:
«Супруга на моей стороне, муж с трудом меня терпит; в этот час они препираются, и я одержу верх, ибо она вертит им, как хочет».
Провансалец ошибся только в одном: никакого препирательства не было, Кольвиль сладко похрапывал рядом со своей дорогой крошкой Флавией, а она беззвучно шептала:
– Теодоз – необыкновенный человек.
Многие люди, подобно ла Пераду, слывут необыкновенными вследствие той дерзости или тех усилий, какие они вкладывают в задуманное ими дело; энергия, которую они выказывают, умножает их возможности, они поражают своей настойчивостью; позднее, когда такие люди добиваются успеха или терпят неудачу, окружающие с удивлением обнаруживают, что эти необыкновенные герои на поверку довольно мелки, ничтожны и немощны.
Заронив в умы двух людей, от которых зависела судьба Селесты, семена лихорадочного любопытства, Теодоз принялся разыгрывать роль весьма занятого человека. Пять или шесть дней подряд он с утра до вечера где-то пропадал; хитрец решил: он позволит Флавии увидеться с ним лишь тогда, когда желание достигнет в ней такой силы, что она уже перестанет считаться с приличиями; что касается старого красавца, то Теодоз хотел вынудить его прийти к нему.
Наступило воскресенье. Отправляясь в церковь, адвокат был почти уверен, что найдет там г-жу Кольвиль, и действительно, они одновременно вышли оттуда и встретились на углу улицы Дез-Эглиз; молодой человек предложил Флавии руку, она оперлась на нее, пропустив вперед дочь и Теодора. Младший сын Кольвилей, которому исполнилось двенадцать лет, должен был впоследствии поступить в семинарию, а пока что находился на половинном пансионе в учебном заведении Барниоля, где получал начальное образование; нечего и говорить, что зять Фельона взимал с него пониженную плату в предвидении брачного союза между математиком Фельоном и Селестой.
– Могу я льстить себя надеждой, что вы соблаговолили подумать о том, что я так неуклюже высказал вам в прошлое воскресенье? – вкрадчиво спросил адвокат у хорошенькой святоши, прижимая ее ручку к своей груди движением одновременно нежным и властным.
Всем своим видом Теодоз показывал, будто он скрепя сердце сдерживает порыв страсти, стремясь любой ценой сохранить почтение.
– Поймите правильно мои намерения, – продолжал он, встретив взгляд г-жи Кольвиль, свойственный лишь женщинам, привыкшим к любовной игре; такой взгляд может одинаково означать и глубокую досаду и скрытый призыв. – Я люблю вас, как любят всякое прекрасное существо, борющееся с несчастьем, ибо христианское милосердие простирает свою власть и на сильных и на слабых, его сокровище принадлежит всем. Вы так утонченны, изящны, элегантны, вы рождены, чтобы служить украшением высшего общества! Какой мужчина не испытает в душе глубочайшего сожаления, видя, что вам приходится вращаться в среде этих отвратительных буржуа, которые ничего в вас не понимают? Ведь они не способны даже оценить аристократизм ваших манер, величие вашего царственного взора, прелесть модуляций вашего голоса! Ах!.. Будь я богат! Обладай я властью, и ваш муж, этот славный малый, уже завтра получил бы пост генерального сборщика податей, а вы добились бы его избрания депутатом! Но я бедный честолюбец, обязанный скрывать свое честолюбие, ибо я нахожусь на нижней ступени общественной лестницы и пребываю в безвестности, подобно тому номеру лото, который так и остается на дне мешочка неназванным. Я могу предложить вам лишь руку вместо того, чтобы предложить сердце. Мне остается надеяться лишь на выгодную партию, и, поверьте, я не только сделаю свою жену счастливой, я помогу ей стать одной из первых дам Франции, ибо приданое поможет мне сделать карьеру… Какая чудесная погода, не хотите ли пройтись по Люксембургскому саду? – сказал он совсем другим тоном, когда они достигли улицы д'Анфер и поравнялись с домом г-жи Кольвиль, против которого возвышался небольшой особняк, последний обломок знаменитого монастыря картезианцев; пройдя двором этого домика, можно было по каменной лестнице спуститься прямо в сад.
Легкое пожатие нежной ручки послужило молчаливым ответом, но Теодоз понял, что Флавии будет приятно, если он сделает вид, будто применяет силу, и он быстро увлек ее за собой, проговорив:
– Пойдемте! Нам не скоро представится такой подходящий случай. Боже мой! – тут же воскликнул он. – Ваш муж смотрит на нас, он стоит у окна, замедлим шаги…
– Вам незачем бояться господина Кольвиля, – с улыбкой ответила Флавия, – он предоставляет мне полную свободу.
– О, вы действительно женщина, о которой я мечтаю! – вскричал провансалец в неистовом восторге, какой умеют выказывать одни только южане с их цветистым красноречием. – Простите, сударыня, – проговорил он, словно спохватываясь и возвращаясь из неземного мира страстей, и благоговейно посмотрел при этом на падшего ангела, – простите, я хочу продолжить прерванную мысль… Как может человек равнодушно взирать на горести, которые ему знакомы по собственному опыту, если эти горести являются уделом существа, чья жизнь должна быть сплошным радостным праздником!.. Ваши страдания – мои страдания, я так же обижен судьбою, как и вы, одинаковое горе нас роднит, делает братом и сестрой. Ах, драгоценная Флавия! Впервые мне дано было увидеть вас в последнее воскресенье сентября тысяча восемьсот тридцать восьмого года… Как вы были прекрасны! Я не раз вспоминал вас потом в этом миленьком платье из шерстяного муслина, напоминавшего своей расцветкой рисунок национального костюма уже не знаю какого шотландского клана!.. В тот день я сказал себе: «Почему эта женщина бывает в доме Тюилье и, главное, почему она находилась в близких отношениях с самим Тюилье?..»
– Однако, милостивый государь! – воскликнула Флавия, испуганная оборотом, какой провансалец быстро придал разговору.
– О, я все знаю! – воскликнул он, многозначительно пожимая при этом плечами. – Мне уже давно все понятно… И я уважаю вас ничуть не меньше. Полноте! Будь вы какой-нибудь дурнушкой или горбуньей и соверши при этом грех… Но теперь вы должны извлечь плоды из своей мимолетной ошибки, и я вам в том помогу! Селеста будет очень богата, отныне в ней заключено все ваше будущее, у вас может быть лишь один зять, значит, самое главное – сделать верный выбор. Честолюбец станет министром, глупец заставит краснеть за него, будет вам без конца надоедать, сделает вашу дочь несчастной, если он утратит состояние, то уже никогда не приобретет его вновь. Так вот, я вас люблю, – заключил он, – моя любовь, моя привязанность не имеет границ, вы способны подняться выше тех мелочных соображений, в которых запутываются глупцы. Мы должны понять друг друга…
Флавия была ошеломлена; тем не менее она не могла не воздать должное бесстрашной откровенности своего собеседника и невольно подумала: «Ну, уж этого-то человека скрытным не назовешь!..» В душе она отметила, что никто еще до такой степени не волновал ее и не задевал за живое, как молодой адвокат.
– Сударь, не знаю, кто создал у вас столь ложное представление о моей жизни и по какому праву вы…
– Ах, простите, сударыня, – ответил Теодоз холодным, исполненным презрения тоном, – а я-то мечтал… Я говорил себе: «В ней все это есть!» Оказывается, то было лишь внешнее впечатление. Отныне я знаю, почему вам суждено всю жизнь ютиться на пятом этаже в доме на улице д'Анфер.
И он сопроводил свою фразу энергическим жестом руки, указав на окна квартиры Кольвилей, которые были видны из широкой аллеи Люксембургского сада, где Флавия и Теодоз прогуливались в одиночестве, попирая ногами необозримое поле, где прогуливалось до них и впредь будет прогуливаться великое множество юных честолюбцев.
– Я был с вами откровенен и ожидал того же. Мне, сударыня, доводилось сидеть целые дни без куска хлеба. Я умудрился не только не умереть с голоду, но еще и изучить право, получить степень лиценциата в Париже, хотя весь мой капитал сводился к двум тысячам франков. Я приехал в столицу от самых границ Италии с пятьюстами франков в кармане, поклявшись, по примеру одного из моих земляков, стать в один прекрасный день знаменитым человеком, известным всей стране… Человек, нередко находивший себе пищу в корзинах, куда рестораторы выбрасывают объедки и которые они в шесть часов утра опорожняют у своих дверей после того, как мусорщики выберут оттуда лучшие куски… такой человек не отступит ни перед какими средствами… разумеется, дозволенными. Вы считаете меня другом народа?.. – спросил он, улыбаясь. – Надо же как-то добиваться известности, необходимо, чтобы о тебе говорили… Ведь талант без репутации – ничто! В свое время адвокат бедняков станет адвокатом богачей… Можно ли быть более откровенным? Откройте же и вы мне свое сердце… Скажите: «Будем друзьями», – и в один прекрасный день всем нам улыбнется счастье…
– Господи! Зачем я сюда пришла? Зачем я приняла вашу руку?.. – воскликнула Флавия.
– Да потому, что это было написано вам на роду! – ответил Теодоз. – О драгоценная и горячо любимая Флавия, – прибавил он, вновь прижимая ее ручку к своей труди, – неужели вы хотите, чтобы я говорил вам пошлые комплименты?.. Мы с вами брат и сестра… Вот и все.
И он повел ее к выходу из сада, откуда можно было попасть на улицу д'Анфер.
Флавия испытывала удовольствие, которое приносят женщинам сильные переживания, но к этому чувству примешивался страх, и она приняла его за тот внутренний трепет, какой рождает возникающая страсть; ей казалось, будто ее заворожили, и она шла в полном молчании.
– О чем вы думаете?.. – спросил Теодоз, когда они подходили к садовой ограде.
– О том, что вы мне только что сказали, – пролепетала она.
– Мне кажется, в нашем возрасте, – заметил он, – можно обойтись без пышных фраз, ведь мы не дети, и оба принадлежим к тому кругу, где люди хорошо понимают друг друга. Я хочу лишь одного, – прибавил он, когда они подошли к улице д'Анфер, – чтобы вы знали: я весь к вашим услугам…
И Теодоз изогнулся в глубоком поклоне.
«Ну, дело, видно, на мази!» – сказал он себе, провожая взглядом вконец растерявшуюся Флавию.
Возвратившись домой, Теодоз встретил на пороге человека, играющего в нашей истории роль глубоко скрытой пружины; его можно уподобить также погребенным под землей развалинам храма, на которых покоится фундамент дворца. Этот субъект, без сомнения, позвонил сначала у дверей ла Перада и, не дождавшись ответа, звонил теперь в квартиру Дютока; при взгляде на него адвокат вздрогнул, но тут же подавил дрожь, и по его внешнему виду нельзя было догадаться, как сильно он взволнован. Перед Теодозом стоял Серизе, о котором Дюток упомянул в разговоре с Тюилье, сказав, что тот служит экспедитором в канцелярии мирового судьи.
Серизе было всего тридцать девять лет, но на вид ему можно было дать все пятьдесят – так состарили этого человека жизненные передряги и пороки. На голове у него не сохранилось ни единого волоска, и сквозь неряшливый парик просвечивала желтоватая кожа черепа; впрочем, она сливалась с выцветшим от времени париком; бледное, обрюзгшее, изрезанное бесчисленными морщинами лицо казалось тем более отвратительным, что нос был глубоко разъеден, однако не настолько, чтобы его можно было заменить искусственным; от переносицы и до ноздрей нос Серизе оставался таким, каким его создала природа, болезнь, разрушив крылья носа, превратила ноздри в огромные дыры причудливой формы, и это делало речь Серизе гнусавой и неразборчивой. Глаза его, некогда голубые, выцвели затем вследствие всякого рода невзгод и в результате бессонных ночей, веки покраснели, взгляд был беспокойный, возбужденный, а порою в его взоре отражалась столь злобная душа, что он мог бы испугать даже судей и преступников, то есть людей, не знающих страха.
Беззубый рот, в котором торчало лишь несколько почерневших корней, производил устрашающее впечатление; на тонких, бескровных губах порою пенилась слюна. Серизе был небольшого роста, не столько сухощавый, сколько высохший, свое уродство он пытался сгладить костюмом, который, если и не был щегольским, то по крайней мере всегда находился в опрятном состоянии, хотя и свидетельствовал о бедности хозяина. Все в этом человеке было каким-то сомнительным – начиная от возраста и носа и кончая взглядом: ему можно было дать и сорок лет и шестьдесят; никто бы не решился определить, только ли входили в моду его синие полинялые, но хорошо сидевшие панталоны или их перестали носить еще в 1835 году. Изношенные сапоги, которые он чинил уже по меньшей мере три раза, были, однако, старательно начищены; сшитые из тонкой кожи, сапоги эти, быть может, некогда топтали министерские ковры. Побывавший во многих переделках сюртук со шнурами и с изрядно облупившимися металлическими пуговицами своим покроем напоминал о былой элегантности. Атласный воротник с галстуком весьма удачно скрывал белье, но сзади, в том месте, где виднелась металлическая застежка, он был порван, и атлас потускнел от помады, которой Серизе смазывал свой парик, пока тот был новым; жилет еще сохранил свежесть, но принадлежал он к числу тех жилетов, что подолгу лежат на полках торговца готовым платьем и идут по четыре франка за штуку. Костюм Серизе был тщательно вычищен, его чуть измятая шелковая шляпа блестела. Со всем нарядом вполне гармонировали черные перчатки, красовавшиеся на руках этого мелкого чиновника, чью прошлую жизнь мы перескажем в нескольких словах.
То был истинный гений зла; в ранней молодости дурные поступки неизменно сходили ему с рук, и, опьяненный первыми успехами, он и дальше продолжал плести низкие интриги, не выходя из рамок законности. Предав своего хозяина, он сделался владельцем типографии, затем подвергся осуждению в качестве редактора либеральной газеты; в годы Реставрации, живя в провинции, он сделался одним из жупелов королевского правительства, его именовали «злосчастным Серизе», подобно тому, как Шове именовали «злосчастным Шове», а Мерсье – «героическим Мерсье». Своей репутации патриота Серизе был обязан местом супрефекта, которое он получил в 1830 году; полгода спустя он был смещен; Серизе столько кричал на всех перекрестках, будто его осудили, даже не выслушав, что, когда к власти пришло правительство Казимира Перье, несчастный поборник истины был назначен редактором газеты, выходившей на деньги правительства и боровшейся против республиканцев. Серизе ушел из газеты, чтобы заняться коммерцией, в числе его многочисленных афер было получившее печальную известность коммандитное товарищество участники которого в конце концов предстали перед исправительным судом; Серизе высокомерно выслушал обвинительный приговор, заявив, что его осуждение – результат происков республиканцев, не захотевших простить ему жестокого урона, понесенного ими от его газеты, ибо на один их удар он отвечал десятью ударами. Заключение Серизе отбывал в тюремной больнице. Власти стыдились человека, вышедшего из приюта для подкидышей; отвратительные привычки и позорные делишки, которые он обделывал в компании с бывшим банкиром по имени Клапарон, по заслугам лишили его всякого уважения. Таким образом, Серизе падал все ниже и ниже и, очутившись на последней ступеньке социальной лестницы, долго обивал пороги, пока из милости не получил место экспедитора канцелярии, где служил Дюток. Впав в ничтожество, человек этот мечтал о реванше и, поскольку ему нечего было терять, не гнушался никакими средствами. Его и Дютока связывали порочные наклонности. Серизе служил Дютоку тем же, чем служит гончая охотнику. Будучи хорошо осведомлен о нуждах обездоленных своего квартала, Серизе занимался мелким ростовщичеством: он принадлежал к числу тех, кого в народе именуют процентщиками; Серизе делился с Дютоком, он мало-помалу превратился в банкира лоточников, разносчиков и зеленщиков. Бывший парижский мальчишка стал в конце концов пиявкой, высасывавшей соки из бедняков двух предместий.
– Послушай, – сказал Серизе открывшему дверь Дютоку, – коль скоро Теодоз вернулся, пойдем к нему…
И адвокат бедняков вынужден был пропустить двух мужчин в свою квартиру.
Все трое вошли в небольшую переднюю, выложенную плитками; свет, проникавший сюда сквозь перкалевые занавески, играл на покрытом толстым слоем красного воска полу и позволял разглядеть скромный круглый стол из ореха, ореховые же стулья и ореховый буфет, на котором стояла лампа. Дверь из передней вела в небольшую гостиную с красными занавесями и мебелью красного дерева, обитой красным утрехтским бархатом, у стены напротив окон стоял книжный шкаф, наполненный трудами по юриспруденции. На камине виднелся мещанский набор вещей: настольные часы с четырьмя колонками красного дерева и канделябры под стеклянными колпаками. Приятели прошли в кабинет и уселись перед камином, где горел каменный уголь; то был обычный кабинет начинающего адвоката: письменный стол, кресла с подлокотниками, на окнах – занавеси из зеленого шелка, на полу – зеленый ковер, этажерки для папок с бумагами и кушетка, над которой виднелось распятие из слоновой кости на бархате. Спальня и кухня, должно быть, выходили окнами во двор.
– Ну как? – осведомился Серизе. – Все хорошо? Мы преуспеваем?
– Конечно, – ответил Теодоз.
– Признайте, что мне пришла в голову знаменитая мысль! – воскликнул Дюток. – Ведь это я придумал, как нам прибрать к рукам болвана Тюилье…
– Да, но и я тоже не зевал, – заявил Серизе. – Я пришел сегодня, чтобы научить вас, как связать по рукам и ногам старую деву и принудить ее покорно следовать за нами… Не забывайте: она всему делу голова! Если мы ее привлечем на свою сторону, считайте, что крепость завоевана… Скажу коротко, без лишних слов, как и подобает деловому человеку. Мой бывший компаньон Клапарон, как вам известно, – набитый дурак, всю свою жизнь он был и останется всеобщим посмешищем. В настоящее время он служит подставным лицом для некоего парижского нотариуса, вошедшего в сговор с подрядчиками; они – и нотариус и подрядчики – вылетели в трубу! А в ответе Клапарон, который еще ни разу не был в положении банкрота. Но в жизни все раньше или позже случается, и сейчас он прячется в моей берлоге на улице Пуль, там его вовек не сыщут. Бедняга в ярости, у него нет ни гроша. Так вот, среди пяти или шести домов, которые пойдут с молотка, есть один – не дом, а просто жемчужина: он великолепно построен из тесаного камня, находится неподалеку от церкви Мадлен, фасад у него украшен очаровательными скульптурами, прямо не фасад, а щегольская шляпа. Но так как дом не закончен, то пойдет сегодня за сто тысяч франков, потратив еще тысяч двадцать пять, можно добиться того, что года через два он будет приносить сорок тысяч франков дохода. Если мы окажем такого рода услугу мадемуазель Тюилье, она нам будет благодарна по гроб жизни, особенно если намекнуть ей, что это выгодное дельце не последнее. Людей тщеславных можно покорить, либо льстя их самолюбию, либо угрожая им, подобно этому скупцов можно подчинить себе, либо покушаясь на их кошелек, либо наполняя его. А так как действовать в интересах Тюилье – все равно, что действовать в наших собственных интересах, надо сосватать старухе дом.
– Но разве нотариус на это пойдет? – спросил Дюток.
– Дружище Дюток, именно нотариус нам и поможет! Он вконец разорился и даже вынужден был продать свою контору, но у него хватило ума сохранить для себя этот лакомый кусочек. Уверенный в честности Клапарона, он поручил нашему простофиле подыскать человека, который согласился бы стать номинальным владельцем дома: сами понимаете, ведь нотариус должен действовать осмотрительно и наверняка. Что ж, никто не мешает ему верить, что мадемуазель Тюилье, сия достопочтенная старая дева, согласится на предложение Клапарона, и тогда в дураках окажутся оба – и нотариус и его доверенное лицо. Я с удовольствием сыграю эту штуку с Клапароном, ведь он заставил меня одного отдуваться за дела коммандитного товарищества, когда нас обвел вокруг пальца этот плут Кутюр, в чьей шкуре я никому не пожелал бы оказаться! – воскликнул Серизе, и в его выцветших глазах засверкала адская злоба. – Я кончил, милостивые государи! – продолжал он, повышая голос, с шумом пропуская воздух сквозь свои уродливые ноздри и становясь в трагическую позу, что ему удалось довольно ловко проделать, ибо в пору жестокой нужды Серизе некоторое время был актером.
После речи Серизе в комнате воцарилось глубокое молчание; это позволило Теодозу услышать звон дверного колокольчика. Адвокат поспешил в переднюю.
– Вы по-прежнему довольны им? – спросил Серизе у Дютока. – По-моему, у него какой-то странный вид… У меня особый нюх на измену.
– Он до такой степени в нашей власти, – ответил Дюток, – что я даже не даю себе труда наблюдать за ним. Но, должен признаться, этот человек сильнее, чем я думал… Мы-то полагали, что помогли сесть в седло увальню, в жизни не сидевшему на лошади, а шельмец-то оказался опытным наездником. Так-то…
– Ну, пусть он побережется! – глухо сказал Серизе. – Я могу в один миг разрушить все его замыслы, как карточный домик. Вы, папаша Дюток, видите его в деле и можете все время следить за ним, не спускайте же с него глаз! Впрочем, у меня есть великолепный способ хорошенько его прощупать: надо будет, чтобы Клапарон предложил ему избавиться от нас, и тогда мы проникнем в его тайные помыслы…
– Ну что ж, способ недурен, – ответил Дюток, – ты всегда любил крайние меры.
– Просто я знаю, как обращаться с такими молодчиками, вот и все! – воскликнул Серизе.
Весь этот разговор велся вполголоса, пока Теодоз шел к входной двери и возвращался обратно. Когда адвокат показался на пороге кабинета, Серизе внимательнейшим образом разглядывал мебель.
– Это Тюилье, я ждал его прихода, он в гостиной, – негромко сказал Теодоз. – Пожалуй, ему не стоит видеть Серизе, – прибавил он с улыбкой, – этот сюртук со шнурами, чего доброго, наполнит его тревогой.
– Ба! Ты принимаешь горемык, ведь это твоя профессия… Тебе нужны деньги? – прибавил Серизе, вытаскивая из кармана панталон сто франков. – Бери, бери, они не повредят.
И он положил деньги на камин.
– О чем ты беспокоишься? – произнес Дюток. – Ведь мы можем уйти через спальню.
– В таком случае прощайте, – оказал провансалец, открывая искусно замаскированную дверь, которая вела из кабинета в спальню. – Входите, дорогой господин Тюилье! – крикнул он красавцу времен Империи.
Увидя домовладельца в дверях кабинета, адвокат последовал за двумя своими приятелями и провел их через спальню и умывальную комнату в кухню, выходившую на лестничную площадку.
– Через полгода ты должен стать мужем Селесты и занять прочное положение… Ты счастливчик, мой милый, тебе не пришлось дважды сидеть на скамье подсудимых в исправительном суде… как мне! В первый раз это произошло в двадцать четвертом году, когда против меня возбудили преследование… из-за серии статей, хотя я не имел к ним никакого касательства, а во второй раз – из-за барышей некоего коммандитного товарищества, которые уплыли у меня из-под самого носа! Поторапливайся, милейший! Помни, что Дюток и я, мы оба крайне нуждаемся в своих тридцати тысячах франков каждый. Ну, с богом, дружище! – прибавил он, протягивая руку Теодозу и вкладывая в это рукопожатие какой-то скрытый смысл.
Провансалец, в свою очередь, протянул руку Серизе и крепко сжал его пальцы:
– Друг мой, будь уверен, никогда в жизни я не забуду, из какой бездны ты меня вытащил и всего того, что ты для меня сделал… Ведь я только орудие в ваших руках, а между тем вы уделяете мне львиную долю, и, поведи я нечестную игру с вами, я окажусь подлее каторжника, ставшего доносчиком.
Как только захлопнулась дверь, Серизе прильнул к замочной скважине, чтобы разглядеть выражение лица Теодоза; однако провансалец повернулся спиной к дверям и направился в кабинет, так что экспедитору не удалось увидеть физиономию своего подопечного.
А между тем на лице Теодоза было написано не отвращение и не печаль, а откровенная радость. Он уже видел впереди прямой путь к успеху и льстил себя надеждой, что ему удастся освободиться от своих гнусных дружков, которым он, впрочем, был всем обязан. Нищета повсюду, особенно в Париже, вынуждает людей опускаться на самое дно, покрытое вязким илом, и когда, едва не утонув, человек чудом всплывает на поверхность, его тело и одежда непременно вымазаны тиной. Серизе, в прошлом щедрый друг и покровитель Теодоза, ныне олицетворял для провансальца липкую грязь, и проницательный делец догадывался, что, очутившись в буржуазном кругу, где люди необыкновенно придирчивы к репутации, молодой адвокат жаждет очиститься от этой грязи.
– Что случилось, любезный Теодоз? – спросил Тюилье. – Каждый день мы надеялись вас увидеть, и каждый вечер обманывал наши надежды… Но нынче воскресенье, у нас званый обед, моя сестра и жена поручили мне просить вас непременно прийти…
– Всю неделю я был по горло занят, – отвечал Теодоз, – я не мог уделить и двух минут никому, даже вам, которого считаю своим другом и с кем мне надобно поговорить…
– Как? Стало быть, вы всерьез помышляете о том, о чем беседовали со мной в прошлое воскресенье? – воскликнул Тюилье, перебивая Теодоза.
– Если вы пришли не за тем, чтобы потолковать об этом предмете, я стану вас уважать меньше, чем уважал, – продолжал ла Перад с улыбкой. – Ведь вы были помощником правителя канцелярии, стало быть, в вас должно сохраниться немного честолюбия; в таком человеке, как вы, оно чертовски уместно! Между нами говоря, меня глубоко возмущает, когда какой-то Минар, этот разбогатевший олух, приносит поздравления королю и, пыжась, разгуливает в Тюильри, когда какой-то Попино вот-вот станет министром, между тем как вы, человек, понаторевший в делах управления, имеющий тридцатилетний опыт, видевший смену шести правительств, заняты тем, что пересаживаете бальзамины… Куда это годится!.. Я с вами откровенен, мой дорогой Тюилье, я хочу добиться вашего возвышения, ибо вы затем потянете меня за собой… Так вот, выслушайте мой план. Мы добьемся вашего избрания в члены генерального совета округа. Именно вы должны занять этот пост!.. И вы его займете, – проговорил он, выделяя последнее слово. – А в один прекрасный день, когда будут происходить новые выборы в Палату депутатов, и этот день не за горами, вы сделаетесь депутатом от нашего округа… Голоса людей, которые изберут вас в муниципальный совет, останутся за вами, когда речь пойдет об избрании депутата, можете мне поверить…
– Но как вы предполагаете действовать?.. – воскликнул завороженный Тюилье.
– В свое время узнаете, но только не мешайте мне исподволь подготовить это нелегкое предприятие, требующее выдержки и терпения. Если вы не сумеете сохранить в строжайшей тайне все, о чем мы будем с вами говорить и замышлять, все, о чем мы будем уславливаться, я от вас отступлюсь, и – мое почтение!
– О, вы можете рассчитывать на мою абсолютную сдержанность, ведь я был помощником правителя канцелярии и знаю, что такое секреты…
– Отлично! Но ведь нам многое придется держать в секрете и от вашей жены, и от вашей сестры, и от господина и госпожи Кольвиль.
– Ни один мускул в моем лице не дрогнет, – заявил Тюилье, удобнее устраиваясь в кресле.
– Отлично! – повторил ла Перад. – Я вас сейчас испытаю. Для того, чтобы быть избранным, человек должен уплачивать ценз, а вы его не платите.
– Это верно!..
– Так вот, моя преданность столь велика, что я хочу посвятить вас в секрет одной деловой операции, которая обеспечит вам годовой доход в тридцать, а то и в сорок тысяч франков на капитал самое большее в полтораста тысяч франков. В вашем доме с давних пор всеми финансовыми делами ведает ваша уважаемая сестра, это совершенно разумно: ведь она, как говорят, может дать любому дельцу сто очков вперед. Вот почему вы должны помочь мне завоевать расположение и дружбу мадемуазель Бригитты, а для этого я хочу предложить ей выгодно поместить капитал. Если мадемуазель Тюилье не уверует в мои способности, у вас с ней могут возникнуть разногласия, к тому же вам неудобно предлагать сестре, чтобы она приобрела недвижимость на ваше имя! Лучше, если эту мысль ей подскажу я. Впрочем, вы оба будете судить о том, выгодно ли предлагаемое мною дело. Что же касается того, каким способом я намерен добиться цели, то, извольте, вот он. Фельон располагает голосами четверти избирателей квартала; он и Лодижуа живут здесь тридцать лет, к ним прислушиваются, как к оракулам. Один из моих друзей располагает голосами другой четверти избирателей. Священник церкви Сен-Жак, которому добродетели помогли приобрести влияние на своих прихожан, также может доставить нам малую толику голосов. Дюток и его мировой судья могут повлиять на многих обитателей округа, Дюток окажет эту услугу, тем более что речь идет не обо мне. Наконец, Кольвиль в качестве секретаря мэрии также завоюет нам большое количество сторонников.
– Вы правы, я уже избран! – вскричал Тюилье.
– Вы полагаете? – спросил ла Перад, и в его голосе прозвучала уничтожающая ирония. – Ну, что ж, попробуйте обратиться с просьбой об услуге к своему другу Кольвилю, и вы услышите, что он вам на это ответит… Когда речь заходит о том, чтобы избрать человека на какую-нибудь должность, сам он никогда не добьется успеха, за него должны хлопотать друзья. Кандидат ни в коем случае не должен просить за себя, он должен прослыть человеком, лишенным честолюбия; даже когда его станут уговаривать, ему следует для вида отказываться.
– Ла Перад! – воскликнул Тюилье, вставая с места и протягивая руку молодому адвокату. – Вы необыкновенный человек…
– Ну, не в такой степени, как вы, – ответил, улыбнувшись, провансалец, – но, как говорится, у каждого свои достоинства.
– Но как я смогу вас отблагодарить, если ваши хлопоты увенчаются успехом?
– О, пусть вас это не заботит… Боюсь, вы сочтете меня дерзким, но дело в том, что мною владеет чувство, которое вам все объяснит, оно-то и побудило меня начать эти хлопоты! Я влюблен и хочу излить вам свою душу.
– Кого же вы любите? – спросил Тюилье.
– Вашу очаровательную крошку Селесту, – отвечал ла Перад, – и эта любовь – надежный залог моей преданности. В самом деле, чего не сделаешь ради будущего тестя! Мною движет эгоизм, ведь я, собственно, стараюсь ради самого себя…
– Т-с-с! – прошипел Тюилье.
– О друг мой, – успокоительно проговорил Теодоз, обнимая его за талию, – не будь Флавия на моей стороне и не знай я всего из первых рук, разве я заговорил бы с вами об этом? Но только вы ей – ни словечка, слушайте, что она вам станет говорить, и молчите. Скажу откровенно: я из того материала, из которого делают министров, и я не хочу получить Селесту, пока не заслужу этого! Так что вы отдадите мне ее руку в канун того дня, когда произойдет голосование, в результате которого вы соберете число бюллетеней, достаточное для того, чтобы стать депутатом от Парижа. Но чтобы сделаться депутатом от Парижа, надо одержать верх над Минаром, стало быть, надо обезвредить Минара и прочих, а для этого вам следует сохранить все средства влияния; если хотите добиться желанного результата, не лишайте их надежды на получение руки Селесты, и мы их всех ловко проведем… Госпожа Кольвиль, вы и я в один прекрасный день станем людьми заметными. Не подумайте, ради бога, что я льщусь на интересы: мне не нужно никакое приданое за Селестой, с меня достаточно уверенности, что она в будущем получит наследство… Жить одной семьей с вами, оставить свою жену в кругу близких ей людей – вот моя мечта… Как видите, я от вас ничего не скрываю, задних мыслей у меня нет. Но вернемся к вашим делам: через полгода после того, как вы станете генеральным советником, вы получите орден Почетного легиона, а сделавшись депутатом, найдете средство добиться и офицерского креста… Что касается ваших речей для выступлений в Палате, ну, что ж, мы будем их писать вместе! Вам неплохо было бы, пожалуй, сделаться автором какого-нибудь серьезного труда, наполовину нравственного, наполовину политического. Это могло быть, скажем, исследование о благотворительных учреждениях с точки зрения их возвышающей душу деятельности или, допустим, опыт об изменении порядков в городском ломбарде, где, как известно, совершаются ужасные злоупотребления. Такого рода сочинение послужило бы во славу вашего имени… А это очень важно, особенно в нашем округе. Я вам уже сказал: «Вы можете получить орден и стать членом генерального совета департамента Сены». Так вот, верьте мне, вы только тогда дадите согласие на то, чтобы я вошел в вашу семью, когда в вашей петлице засияет орденская ленточка и на следующий день после того, как вы вернетесь домой с заседания из городской ратуши. Я сделаю еще больше: я добьюсь для вас верного дохода в сорок тысяч франков…
– Если вы исполните хотя бы одно из своих обещаний, то Селеста будет принадлежать вам!
– Вы и сами не знаете, какое это сокровище! – пылко произнес ла Перад, возводя очи горе. – Я каждый день молю бога ниспослать ей счастье… Она прелестна, впрочем, ведь она походит на вас… Кстати, я ведь тут ни при чем! Право же, обо всем мне рассказал Дюток. Я прощаюсь с вами до вечера. А сейчас направлюсь к Фельонам хлопотать о вашем деле. Ах, да, нечего и говорить, что вам и в голову не приходило видеть во мне возможного жениха Селесты… Если об этом кто-нибудь проведает, я окажусь связанным по рукам и ногам. Так что молчок, никому ни слова, даже Флавии! Пусть она заговорит с вами первая. Нынче вечером Фельон будет настойчиво добиваться вашего согласия на то, чтобы выдвинуть вас кандидатом в советники.
– Нынче вечером? – изумился Тюилье.
– Нынче вечером, – ответил ла Перад, – разве только я не застану его дома.
Тюилье вышел, говоря себе:
«Вот необыкновенный человек! Мы всегда отлично будем понимать друг друга, и, право же, нам трудно найти лучшего мужа для Селесты; они станут жить у нас в доме, одной семьей, и это немало. Он славный малый, добряк, каких не часто встретишь…»
Для людей такого склада, как Тюилье, второстепенные соображения зачастую выступают на первое место. Он убедил себя, что Теодоз – добрейший человек.
Через несколько минут молодой адвокат показался на улице; дом, куда он направлялся, уже лет двадцать был hoc erat in votis Фельона, и он был в такой же мере неотъемлемой принадлежностью Фельонов, в какой шнуры на сюртуке Серизе были неотъемлемой принадлежностью экспедитора.
Дом этот прилепился к какому-то огромному зданию; расстояние между его фасадом и задней стеной не превышало двадцати футов, по бокам к нему примыкали две небольшие пристройки с одним окном каждая. Главным украшением дома был сад шириной приблизительно в тридцать туазов; сад был длиннее фасада как раз на величину двора, выходившего на улицу; вдоль одной из пристроек шла коротенькая аллея, усаженная липами. Со стороны улицы двор был огражден двумя решетками, между ними находились небольшие ворота с двумя створками.
Это трехэтажное строение из оштукатуренного известняка было выкрашено в желтый цвет, жалюзи на окнах верхних этажей, как и ставни в нижнем этаже, были зелеными. Кухня помещалась в первом этаже одного из флигельков, выходившего окнами во двор; кухарка – толстая и здоровая девица – выполняла также функции привратника, в чем ей помогали два огромных пса. Фасад дома с пятью окнами, обрамленный двумя флигельками, выступавшими вперед на туаз, был построен в стиле Фельона. Над подъездом блестела белая мраморная табличка, по которой шла золотая надпись: «Aurea mediocritas». Посреди фасада виднелся небольшой выступ, под которым было начертано нижеследующее мудрое изречение: «Umbra mea vita sit».
Наружные подоконники были недавно заменены новыми, из красного лангедокского мрамора, купленными по сходной цене у какого-то каменотеса. В глубине сада возвышалась раскрашенная статуя: издали она напоминала кормилицу, держащую у груди младенца. Фельон сам ухаживал за садом. В первом этаже помещались только гостиная и столовая, разделенные лестничной клеткой, переходившей в переднюю. К гостиной примыкала небольшая комната, служившая кабинетом Фельону.
На втором этаже находились комнаты супругов и их старшего сына, на третьем этаже были расположены комнаты младших детей и слуг, ибо Фельон, считая, что он и его жена уже достигли преклонного возраста, взял в услужение мальчишку лет пятнадцати; старик окончательно пришел к этому решению, когда его старший сын с головой окунулся в педагогическую деятельность. В левой стороне двора приютились службы, сюда складывали дрова, а при прежнем домовладельце здесь жил привратник. Старики Фельоны, без сомнения, ожидали только женитьбы старшего сына, чтобы позволить и себе такую же роскошь.
Фельон долгое время приглядывался к этому владению и наконец в 1831 году приобрел его за восемнадцать тысяч франков. Дом был отделен от двора балюстрадой, сложенной из тесаных камней, поверх которых шла черепица. Вдоль этой нарядной ограды тянулась живая изгородь из кустов бенгальской розы: посреди ограды виднелась решетчатая дверь, она была расположена прямо против ворот, ведущих на улицу.
Те, кому знаком тупик Фейантин, легко представят себе, что дом Фельона, стоявший под прямым углом к дороге, был весь день залит солнцем и защищен от северного ветра высокой стеной соседнего строения, к которому он примыкал. Купол Пантеона и купол Валь-де-Грас, походившие на двух исполинов, настолько загромождали окружающее пространство, что человеку, прогуливавшемуся по садику, казалось, будто перед ним открывается узкий коридор. Трудно найти место более тихое и молчаливое, чем тупик Фейантин. Таким было убежище великого безвестного гражданина, который вкушал радость отдыха, заплатив сполна свой долг родине, ибо он много лет прослужил на поприще министерства финансов: Фельон вышел в отставку с орденом, пробыв чиновником тридцать шесть лет.
В 1832 году он повел свой батальон национальной гвардии в атаку на монастырь Сен-Мерри, но соседи видели, что в глазах у него стояли слезы, ибо ему приходилось стрелять в заблуждающихся французов. Исход боя был решен, когда батальон совершал перебежку через мост Нотр-Дам, предварительно прорвавшись на набережную Флёр. Такая чувствительность завоевала Фельону уважение жителей квартала, но зато лишила его ордена Почетного легиона; полковник во всеуслышание заявил, что человек, носящий оружие, не должен рассуждать: он в точности повторил слова, с которыми Луи-Филипп обратился к национальной гвардии в Меце. Тем не менее жалостливая натура буржуа Фельона и глубокое почтение, которым он был окружен в своем квартале, сохраняли за ним пост командира батальона на протяжении восьми лет. Ему уже было около шестидесяти лет, и в предвидении того дня, когда ему придется расстаться со шпагой и мундиром национального гвардейца, он не переставал надеяться, что король (Фельон произносил «куроль») все же окажет ему милость и во внимание к его заслугам наградит орденом Почетного легиона; верность истине заставляет нас отметить (хотя такого рода мелочность и накладывает пятно на столь славного человека), что, бывая на приемах в Тюильри, командир батальона Фельон поднимался на цыпочки, настойчиво пробивался в первый ряд и украдкой поглядывал на короля-гражданина, обедавшего за столом; словом, Фельон лез из кожи вон, но так и не добился, чтобы его король бросил взгляд на своего верноподданного. Достопочтенный буржуа никак не мог собраться с духом и попросить Минара походатайствовать за него.
Фельон, человек пассивный и покорный, становился необыкновенно стойким, едва речь заходила о долге; в вопросах, где требовалось проявить щепетильную честность и добросовестность, человек этот был подобен бронзе. Дополним портрет Фельона описанием его наружности: к шестидесяти годам он, употребляя словечко буржуазного жаргона, раздобрел; его добродушное лицо, отмеченное оспой, напоминало полную луну, так что толстые губы стали под старость казаться обыкновенными. Близорукие бледно-голубые глаза, защищенные толстыми очками, с возрастом потеряли присущее им простодушное выражение, вызывавшее улыбку; седые волосы придавали теперь лицу серьезность, а ведь еще каких-нибудь двенадцать лет назад оно казалось необыкновенно глупым и смешным. Время, которое так жестоко обращается с тонкими, нежными чертами, изменяет к лучшему физиономии, отличавшиеся в молодости чертами массивными и резкими: именно так и произошло с Фельоном. Состарившись, он посвящал свой досуг сочинению краткого очерка истории Франции, ибо уже являлся автором нескольких трудов, одобренных университетом.
Когда ла Перад вошел в дом, вся семья была в сборе; г-жа Барниоль рассказывала матери о самочувствии одного из своих детей, которому в тот день нездоровилось. Сын Фельона – пансионер Училища путей сообщения – проводил этот день в семье. Фельон и его домочадцы, разодетые по-воскресному, сидели перед камином в обшитой деревянной панелью гостиной, выкрашенной в серые тона; они вздрогнули и невольно привстали в креслах красного дерева, когда Женевьева объявила о приходе человека, о котором недавно шла речь в связи с Селестой, этой прелестной девушкой, внушившей Феликсу Фельону такую любовь, что он готов был ходить к обедне только для того, чтобы видеть ее. Ученый математик как раз в то утро совершил сей подвиг, и родные дружески подшучивали над ним, желая в душе, чтобы Селеста и ее родители поняли наконец, какое сокровище открывается им в лице Феликса.
– Увы! По-моему, Тюилье без ума от этого опасного человека, – заявила г-жа Фельон. – Нынче утром ла Перад подхватил госпожу Кольвиль под руку, и они вдвоем отправились в Люксембургский сад.
– В этом адвокате есть что-то зловещее! – вскричал Феликс. – Если бы обнаружилось, что он совершил преступление, меня бы это не удивило…
– Ну, ты хватил через край, – возразил его отец, – он просто двоюродный брат Тартюфа, чей бессмертный образ словно отлит из бронзы нашим почтенным Мольером, ибо, дети мои, в основе гения Мольера лежат самые почтенные добродетели, в частности патриотизм.
Именно в эту минуту вошла Женевьева и объявила:
– Там пришел господин де ла Перад, он хочет поговорить с барином.
– Со мной? – воскликнул господин Фельон. – Проси! – прибавил он тем торжественным тоном, в какой нередко впадал, говоря о самых обычных вещах, и становился от этого смешным; тон его, однако, импонировал домочадцам, и они смотрели на главу семьи с не меньшим уважением, чем на короля.
Фельон, оба его сына, жена и дочь поднялись со своих мест и молча ответили поклоном на поклон адвоката.
– Чему мы обязаны честью видеть вас, сударь? – сурово спросил Фельон.
– Тому важному положению, какое вы занимаете в нашем квартале, любезный господин Фельон, а также той роли, какую вы играете в делах, связанных с жизнью общества, – отвечал Теодоз.
– В таком случае пройдемте в мой кабинет, – предложил Фельон.
– Нет, нет, мой друг, – вмешалась сухопарая г-жа Фельон, невысокая женщина, плоская, как доска, с лица которой никогда не сходило строгое выражение, раз и навсегда усвоенное ею в пансионе для благородных девиц, где она преподавала музыку, – лучше уж мы удалимся и оставим вас вдвоем.
Фортепьяно Эрара, стоявшее между двумя окнами против камина, недвусмысленно говорило о претензиях достойной матроны, связанных с ее профессией.
– Я крайне огорчен, что послужил причиной вашего бегства! – проговорил Теодоз, обращаясь с учтивой улыбкой к супруге хозяина дома и его дочери. – Как у вас здесь уютно, – продолжал он, – не хватает только прелестной невестки, и тогда вы сможете спокойно провести остаток дней своих среди семейных радостей, руководствуясь мудрым изречением латинского поэта, мечтавшего об «aurea mediocritas». Своей прошлой жизнью вы вполне заслужили сию награду, ибо все, что я слышал о вас, любезный господин Фельон, говорит о том, что в вашем лице сочетаются воедино и отменный гражданин и патриарх…
– Сударь, – пробормотал смущенный Фельон, – сударь, я только испулнял свой долг, вот и вся!
Госпожа Барниоль, походившая на свою мать, как походят друг на друга две капли воды, услышав слова Теодоза о невестке для Фельона, посмотрела на мать и на своего брата Феликса с таким видом, словно хотела сказать: «Неужели мы так ошибались в нем?»
Желание обсудить все это увлекло мать и ее троих детей в сад, ибо в марте 1840 года погода, во всяком случае в Париже, стояла сухая.
– Господин майор, – начал Теодоз, оставшись наедине с достойным буржуа, которому необыкновенно льстил этот чин, – ведь я – один из ваших солдат… Я пришел к вам по поводу предстоящих выборов…
– Да, да, нам надобно избрать муниципального советника, – прервал его Фельон.
– И вот, чтобы поговорить о кандидате на этот пост, я и позволил себе нарушить ваш воскресный отдых. Быть может, мы сумеем подобрать его, так сказать, в семейном кругу.
Сам Фельон не мог бы произнести эту фразу с более фельоновской интонацией, чем это сделал Теодоз!
– Я не позволю вам сказать больше ни слова, – ответил Фельон, воспользовавшись паузой, которую Теодоз сделал, чтобы оценить эффект, произведенный его словами. – Дело в том, что мой выбор уже сделан.
– Нам пришла в голову одна и та же мысль! – вскричал ла Перад. – Стало быть, сходятся не только люди умные, но и люди почтенные.
– Я не думаю, что мы сошлись с вами во мнениях, – возразил Фельон. – Наш округ представлял в муниципалитете самый добродетельный из людей, величайший из судейских чиновников, господин Попино, ныне покойный советник королевского суда. Когда зашла речь о том, кем заменить его, то оказалось, что племянник господина Попино, продолжающий благотворительную деятельность своего дяди, не проживает в нашем округе. Однако с тех пор он успел приобрести в собственность дом, где обитал его почтенный дядюшка, дом этот расположен на улице Монтань-Сент-Женевьев. Племянник усопшего – врач Политехнической школы и одной из наших больниц, он служит подлинным украшением квартала. Имея все это в виду, а также желая почтить в особе племянника память его дяди, несколько жителей квартала, и среди них я, решили выдвинуть кандидатуру доктора Opaca Бьяншона, члена Академии наук, как вам, вероятно, известно, и восходящую звезду знаменитой парижской медицинской школы… Правда, с моей точки зрения, человек может быть велик и не будучи знаменитым, я считаю, что ныне покойный советник Попино был почти что святым – под стать Венсану де Полю.
– Врач редко бывает хорошим администратором, – ответил Теодоз, – к тому же я собирался назвать имя человека, которому вы в собственных интересах должны отдать предпочтение, тем более что все, о чем вы только что говорили, не имеет прямого отношения к общественному благу.
– Ах, сударь! – вскричал Фельон, поднимаясь с кресла и становясь в позу Лафона в «Гордеце». – Неужели вы до такой степени презираете меня, что можете подумать, будто личные интересы способны оказать влияние на мои политические убеждения! Едва речь заходит о вопросах, касающихся жизни общества, я становлюсь только гражданином, и никем больше.
Теодоз улыбнулся при мысли о том поединке, какой должен был вскоре разгореться между Фельоном-отцом и Фельоном-гражданином.
– Не связывайте самого себя такого рода речами, умоляю вас, – проговорил ла Перад, – ибо дело идет о счастье вашего милого Феликса.
– Что вы хотите этим сказать?.. – удивился Фельон, останавливаясь посреди гостиной.
Достопочтенный буржуа стоял теперь неподвижно, заложив правую руку за борт жилета, в точности подражая прославленному Одилону Барро.
– Ведь я пришел поговорить с вами о кандидатуре нашего общего друга, достойнейшего и превосходнейшего господина Тюилье, чье влияние на судьбу прелестной Селесты Кольвиль вам отлично известно. И если, как я надеюсь, ваш сын, молодой человек, которым может гордиться любое семейство и чьи качества неоспоримы, ухаживает за Селестой с благородными намерениями, то лучший способ завоевать вечную признательность семьи Тюилье – это выдвинуть кандидатуру самого Тюилье в муниципальный совет от нашего округа… Я в этих местах человек новый, и, хотя благодеяния, оказанные мною большому числу бедняков, и принесли мне некоторое влияние, я все же не могу предпринять такой шаг. Ведь услуги, оказываемые обездоленным, мало чего стоят в глазах власть имущих, к тому же скромная жизнь, которую я веду, плохо сочетается с деятельностью такого рода. Я посвятил себя служению малым сим, сударь, как и покойный советник Попино, человек, по вашим словам, возвышенный, и, если бы моя жизнь и так не была пропитана религией, если бы моя натура не подходила столь мало к узам, еще более прочным, чем узы брака, моим вторым всепоглощающим призванием стало бы служение богу, церкви… В отличие от прочих филантропов я не поднимаю шума, не выставляю напоказ свои деяния, а просто действую, ибо я целиком предан христианскому милосердию. Мне кажется, я угадал честолюбивые устремления нашего друга Тюилье и захотел содействовать счастью двух существ, созданных друг для друга. Вот почему я и предложил вам способ тронуть несколько холодное сердце Тюилье.
Выслушав эту великолепно произнесенную тираду, Фельон пришел в смятение, он был ослеплен, растроган. Однако старик и тут остался самим собой; направившись прямо к адвокату, он протянул ему руку, а тот протянул свою.
И оба они обменялись рукопожатием, напоминавшим то рукопожатие, каким в августе 1830 года обменялись буржуа и люди, чей день должен был вот-вот наступить.
– Сударь, – проговорил взволнованный командир батальона национальной гвардии, – я дурно судил о вас. То, что вы оказали честь мне доверить, умрет здесь!.. – продолжал он, ткнув себя в левую сторону груди. – Таких людей, как вы, не часто увидишь. Но они приносят нам успокоение среди зрелища зол, увы, неотделимых от существующего социального порядка. Добро встречается столь редко, что мы, по слабости душевной, боимся доверять внешности. Вы всегда найдете во мне друга, если только позволите надеяться, что хотите видеть меня в числе своих друзей… Но вы меня плохо знаете, сударь, я перестал бы уважать себя, если бы выдвинул кандидатуру Тюилье. Нет, мой сын никогда не будет обязан счастьем неблаговидному поступку отца… Я не изменю решения, даже в интересах Феликса… И в этой решимости, сударь, я полагаю свою добродетель!
Ла Перад вытащил носовой платок и потер им глаза, чтобы выдавить слезу, и, протянув руку Фельону, проговорил, глядя в сторону:
– Вот, сударь, поистине величественное зрелище столкновения личных интересов с интересами политическими. Если мой визит даже ни к чему не приведет, я все равно не буду считать его бесплодным… Что вам сказать?.. Будь я на вашем месте, я бы действовал таким же образом… Вы принадлежите к числу величайших созданий божьих – вы человек в высшей степени достойный! О, если бы у нас было много граждан, похожих на Жан-Жака Руссо, а вы человек именно такого склада, каких бы вершин ты достигла, о моя великая родина, Франция!.. Это я, сударь, буду настойчиво добиваться чести быть вашим другом.
– Что там происходит? – воскликнула г-жа Фельон, наблюдавшая за этой сценой из сада, куда выходило окно гостиной. – Ваш отец и это чудовище обнимаются.
Фельон и адвокат вышли из дому и присоединились к членам семьи почтенного буржуа.
– Милый Феликс, – сказал старик, указывая на ла Перада, который в это время приветствовал г-жу Фельон, – ты должен испытывать признательность к сему достойному молодому человеку, он принесет тебе больше пользы, нежели вреда.
Адвокат несколько минут прогуливался в обществе г-жи Барниоль и г-жи Фельон под липами, лишенными в ту пору года листвы; он посвятил их в трудное положение, возникшее в силу упрямства Фельона, вызванного политическими убеждениями, и дал им совет, результаты которого должны были сказаться в тот же вечер: первым следствием этого совета было то, что обе дамы остались в полном восхищении от дарований, искренности и других неоценимых качеств Теодоза. Все семейство в полном составе проводило адвоката до ворот, выходивших на дорогу, и следило за ним глазами до тех пор, пока он не свернул на улицу Фобур-Сен-Жак. Г-жа Фельон, возвращаясь в гостиную, взяла мужа под руку и сказала:
– Неужели, милый друг, ты, такой хороший отец, из-за ложной щепетильности разрушишь возможность самого великолепного брака для нашего Феликса?
– Моя дорогая, – отвечал Фельон, – великие люди античности, такие, как Брут и прочие, забывали о том, что они отцы, когда им следовало выказать себя гражданами… Буржуазия, призванная сменить дворянство, еще больше, чем оно, нуждается в высоких добродетелях. При виде мертвого Тюренна господин де Сент-Илер и думать забыл о своей отрубленной руке… И мы, люди скромные, должны дать доказательства своего благородства, мы обязаны сделать это, на какой бы ступени социальной лестницы ни находились. Для того ли я преподавал уроки возвышенной морали своим детям, чтобы отступиться от нее в тот самый час, когда необходимо руководствоваться ею! Нет, моя дорогая, ты можешь сегодня плакать, но завтра ты станешь меня уважать еще больше!.. – прибавил он, увидя, что на глазах его сухопарой половины показались слезы.
Эти высокие речи он произнес у порога той самой двери, над которой шла надпись: «Aurea mediocritas».
– Мне следовало бы прибавить к этим словам еще два: et digna! – прибавил он, указывая перстом на табличку, – но они заключали бы похвалу.
– Отец, – сказал Мари-Теодор Фельон, будущий инженер путей сообщения, когда вся семья вновь собралась в гостиной, – мне думается, нет ничего непорядочного в том, чтобы переменить свой взгляд на вопрос, не имеющий прямого отношения к общественному благу.
– Не имеющий прямого отношения, сын мой! – вспылил Фельон. – В семейном кругу я могу сказать, и Феликс согласен со мной: господин Тюилье абсолютно лишен способностей! Он ничего не знает. Господин Орас Бьяншон – человек одаренный, он многое сможет сделать для нашего округа, а Тюилье не добьется даже пустяка! Запомни, сын мой, что переменить хорошее решение на дурное, руководствуясь личными интересами, – значит совершить низкое деяние. Если оно даже ускользает от глаз человеческих, то за него нас наказывает бог. Я тешу себя надеждой, что за всю свою жизнь не совершил поступка, который бы мучил затем мою совесть, я хочу, чтобы память обо мне ничем не была запятнана. Вот почему мое решение пребудет неизменным.
– О милый папочка! – воскликнула дочь Фельона, кладя подушку на пол, возле ног отца, и устраиваясь на ней, – ты опять становишься на ходули! В муниципальных советах полным-полно тупиц и дураков, а Франция между тем процветает. Он будет голосовать вслед за другими, этот славный Тюилье… Лучше подумай о том, что у Селесты, возможно, будет пятьсот тысяч франков.
– Будь у нее даже миллионы и находись они здесь, передо мной, – вскричал Фельон, – я и тогда не предложу кандидатуру Тюилье, ибо в память самого добродетельного из людей я должен добиться избрания Ораса Бьяншона! С высоты небес Попино взирает на меня и восхищается мною!.. – завопил Фельон в полном самозабвении. – А такие соображения, как те, что ты только что высказала, служат к уничижению Франции и заставляют дурно судить о буржуазии.
– Отец совершенно прав, – заявил Феликс, выходя из глубокой задумчивости, – он вполне заслуживает нашего уважения и любви, ибо теперь, как и всю свою жизнь, ведет себя с истинной скромностью и величайшим благородством. Нет, я не хочу, чтобы мое счастье вызывало в нем угрызения совести, не хочу я добиваться этого счастья и путем интриг, я люблю Селесту так, как люблю вас, мои родные, но превыше всего я ставлю честь своего отца, и коль скоро здесь затронуты его убеждения, не будем об этом больше говорить.
Фельон со слезами на глазах приблизился к старшему сыну и сжал его в объятиях.
– Сын мой! Сын мой!.. – выговорил он задыхающимся голосом.
– Все это глупости, – прошептала г-жа Фельон на ухо дочери, – помоги мне одеться, надо положить этому конец, я хорошо знаю твоего отца, если уж он упрется… Чтобы привести в исполнение план, предложенный тем славным и благочестивым юношей, мне понадобится твоя помощь, будь же наготове, Теодор, – вполголоса сказала она младшему сыну.
В эту минуту в гостиную вновь вошла Женевьева и протянула письмо старику Фельону.
– Тюилье приглашают нас на обед, – сказал он жене.
Блестящая и поражающая воображение мысль, пришедшая в голову адвокату бедняков, потрясла семейство Тюилье не меньше, чем семейство Фельонов. Ничего не открыв сестре, Жером, который считал себя обязанным сдержать слово, данное своему Мефистофелю, отправился к Бригитте и в полном смятении сказал:
– Дорогая крошка, – так Тюилье неизменно обращался к сестре, когда хотел ее задобрить, – у нас сегодня важные гости к обеду, я хочу пригласить Минаров, так что позаботься об угощении. Супругам Фельон я направлю письмецо, правда, немного поздновато, но с ними можно особенно не стесняться… Дело в том, что Минар мне вскоре понадобится, и я хочу пустить ему пыль в глаза.
– Четверо Минаров, трое Фельонов, четверо Кольвилей да нас двое – выходит тринадцать…
– Четырнадцатым будет ла Перад, стоит, пожалуй, пригласить и Дютока, он может быть полезен. Я сейчас поднимусь к нему.
– Что ты затеваешь? – удивилась Бригитта. – Обед на пятнадцать персон! У нас вылетит не меньше сорока франков!
– Не жалей о них, дорогая крошка, а главное, будь полюбезнее с нашим юным другом ла Перадом, ведь он нам так предан… Скоро сама в этом убедишься!.. Если ты меня любишь, береги его как зеницу ока.
С этими словами он вышел, оставив Бригитту в полной растерянности.
– О да, предпочитаю в этом сама убедиться! – пробормотала старуха. – Меня красивыми словами не прельстишь!.. Он славный малый, но прежде чем дать ему место в своем сердце, я должна изучить его лучше, чем до сих пор.
Пригласив к обеду Дютока, Тюилье нарядился в свой лучший костюм и отправился на улицу Масон-Сорбон, в особняк Минара, чтобы очаровать своей любезностью толстуху Зели и сгладить таким образом неприятное впечатление, которое могло возникнуть у Минаров из-за столь позднего приглашения.
Минар приобрел в собственность один из тех больших и роскошных домов, которые старые монашеские ордена построили вокруг Сорбонны. Поднимаясь по широкой каменной лестнице с чугунными перилами, свидетельствовавшими о том, что в царствование Людовика XIII процветало не самое утонченное искусство, Тюилье позавидовал и особняку господина мэра и положению, которое тот занимал в обществе.
Просторный дом, отделенный от улицы двором и садом, отличался красотой и пышностью, характерной для царствования Людовика XIII и занимающей своеобразное промежуточное место между дурным вкусом эпохи упадка Ренессанса и великолепием ранней поры царствования Людовика XIV. Это смешение стилей можно наблюдать во многих архитектурных памятниках. Для него характерны массивные завитки на фасадах Сорбонны и прямые линии колонн, выдержанных в духе греческой архитектуры.
Бывший бакалейщик, удачливый плут, занял особняк духовного руководителя некоего заведения, именовавшегося в свое время Управлением монастырским имуществом и находившегося в подчинении высших церковных властей Франции; учреждение это было основано благодаря прозорливому уму Ришелье.
Имя «Тюилье» отворило перед посетителем двери салона, где царила среди красного бархата и позолоты, в окружении великолепных китайских безделушек, несчастная женщина, чья тучность привлекала к себе внимание принцев и принцесс на открытых балах в королевском дворце.
– Надо признаться, что «Карикатура» во многом права, – сказала однажды с улыбкой некая разряженная дама некоей герцогине, которая не могла сдержать смех при виде Зели, увешанной бриллиантами, красной, как мак, и напоминавшей в своем расшитом золотом платье бочонок, каких немало было в прошлом в ее лавке…
– Прошу простить меня, прекрасная дама, – проговорил Тюилье, извиваясь всем телом и принимая, наконец, позу номер два из своего репертуара 1807 года, – что я только сейчас вручаю вам приглашение к обеду. Я полагал, оно давно отослано, но внезапно обнаружил его на своем письменном столе… Обед состоится сегодня, быть может, я пришел слишком поздно?..
Зели взглянула на мужа, который шел навстречу Тюилье, чтобы поздороваться с ним, и ответила:
– Мы собирались отправиться за город и пообедать кое-как, у ресторатора, но тем охотнее откажемся от своего намерения, что, по-моему, уезжать по воскресеньям из Парижа стало уже унылой модой.
– Молодые люди, если их соберется достаточно, немного потанцуют под звуки фортепьяно, в предвидении этого я послал письмецо Фельону, ведь его жена тесно связана с госпожой Прон, преемником…
– Вы хотите сказать, преёмницей, – поправила госпожа Минар.
– О нет, – возразил Тюилье, – тогда уж следует сказать преемницей, подобно тому, как мы говорим «мэр» и «мэрша», да, преемницей мадемуазель Лаграв, ведь она из семьи Барниоль.
– Приходить в парадных туалетах? – спросила мадемуазель Минар.
– Ах нет, что вы! – воскликнул Тюилье. – Мне бы крепко досталось от сестры… Нет, нет, мы собираемся запросто, по-семейному! В годы Империи, мадемуазель, люди знакомились во время танцев… В ту великую эпоху хорошего танцора уважали не меньше, чем славного воина… Но в наши дни слишком уж увлекаются всем положительным…
– Не стоит говорить о политике, – с улыбкой промолвил мэр. – Король велик, он умело управляет нами, я испытываю восхищение перед своей эпохой и перед институтами, которые мы создали для самих себя. К тому же король отлично знает, что делает, развивая промышленность: он сражается врукопашную с Англией, и мы причиняем ей бóльший вред в годы этого плодотворного мира, чем во время войн Империи…
– Каким великолепным депутатом будет Минар! – простодушно воскликнула Зели. – Он уже пробует свои силы, произнося речи дома. Вы, конечно, поможете нам добиться его избрания, Тюилье?
– Не стоит говорить о политике, – ответил Тюилье словами Минара. – Приходите же к пяти часам…
– А молодой Винэ тоже будет? – осведомился Минар. – Он является, без сомнения, из-за Селесты.
– Пусть забудет о ней думать, – отрезал Тюилье. – Бригитта и слышать о нем не хочет.
Зели и Минар переглянулись с довольной улыбкой.
– И с кем только не приходится иметь дело ради сына! – воскликнула Зели, когда Тюилье в сопровождении мэра вышел на лестницу.
– А, ты хочешь быть депутатом! – бормотал Тюилье, спускаясь вниз. – Все им мало, этим бакалейщикам! Господи, что сказал бы Наполеон, увидя, что власть перешла в руки таких вот людей!.. Я, по крайней мере, понаторел в делах управления!.. И он собирается тягаться со мною! Любопытно, что скажет ла Перад!..
Честолюбивый помощник правителя канцелярии самолично пригласил на вечер также и все семейство Лодижуа; затем он зашел к Кольвилю и попросил Селесту надеть свое самое нарядное платье. Тюилье застал Флавию в глубокой задумчивости, она не знала, идти ли ей на обед, и Жером помог ей принять решение.
– Моя старая и вечно юная подруга, – сказал он, обнимая г-жу Кольвиль за талию, ибо в комнате никого больше не было, – я не хочу иметь от вас никаких тайн. Речь идет о весьма важном для меня деле… Большего я сказать не могу, но прошу вас быть особенно любезной с одним молодым человеком…
– О ком вы говорите?
– О ла Пераде.
– А почему я должна быть с ним любезна, Жером?
– В его руках мое будущее, а кроме того, это человек необыкновенно одаренный. О, уж я-то в людях толк знаю… У него есть хватка! – сказал Тюилье, подражая жесту дантиста, вырывающего коренной зуб. – Надо сделать его нашим другом, Флавия… Но, главное, пусть он ничего не замечает, не то слишком возомнит о себе… Он из тех людей, которые ничего даром не делают.
– Как? Уж не хотите ли вы, чтобы я с ним кокетничала?..
– Самую малость, мой ангел, – ответил Тюилье фатовским тоном.
И он удалился, даже не заметив, в какой растерянности пребывала г-жа Кольвиль.
«Да, как видно, этот молодой человек – большая сила… Ну, что ж, посмотрим», – сказала себе Флавия.
Причесываясь, она воткнула в волосы перья марабу; она надела свое серое с розовым платье и накинула черную мантилью, позволявшую видеть ее изящные плечи; на Селесте было миленькое шелковое платье; поверх плиссированного воротника была наброшена косынка, прическа ее напоминала модную в то время прическу – «а-ля Берт».
В половине пятого Теодоз уже был на посту; напустив на себя обычный, чуть придурковатый и подобострастный вид, он прежде всего увлек Тюилье в сад.
– Дорогой друг, – сказал он сладким голосом, – я не сомневаюсь в вашей победе, но считаю необходимым еще раз порекомендовать вам полное молчание. Если вас станут о чем-нибудь спрашивать, особенно о Селесте, давайте уклончивые ответы, которые оставят вопрошающего в недоумении, словом, ведите себя так, как вы некогда вели себя, служа в канцелярии.
– Отлично! – проговорил Тюилье. – Но есть ли у вас уверенность в успехе?
– За обедом вы увидите, какой сюрприз я вам приготовил на десерт. Главное же, будьте скромны. Вот и Минары, я должен окончательно заманить их в сети… Приведите их сюда, а потом удалитесь.
После взаимных приветствий ла Перад ни на шаг не отходил от мэра; улучив подходящую минуту, он отвел его в сторонку и сказал:
– Господин мэр, человек, играющий такую роль в политической жизни, как вы, не стал бы убивать здесь свое время без веских соображений. Я не смею проникать в ваши замыслы, у меня нет на то никакого права, да я и вообще дал себе обет никогда не вмешиваться в дела сильных мира сего. Однако простите мне мою дерзость и соблаговолите выслушать совет, который я осмелюсь вам дать. Если я сегодня оказываю вам услугу, то завтра вы благодаря своему положению сумеете оказать мне две, так что, желая услужить вам, я действую в собственных интересах. Наш друг Тюилье просто в отчаянии, что ничего собою не представляет, вот он и воспылал жаждой стать кем-либо, занять какой-нибудь пост в своем округе…
– Так, так, – пробормотал Минар.
– О, у него весьма скромные мечты, он хотел бы сделаться членом муниципального совета. Мне известно, что Фельон, понимая, сколь важна подобная услуга, предполагает выдвинуть кандидатуру нашего славного хозяина. А посему не сочтете ли вы полезным в ваших собственных видах опередить его в этом? Избрание Тюилье будет для вас весьма полезным и приятным, он отлично справится с обязанностями генерального советника, в муниципалитете встречаются люди еще более недалекие, чем он… К тому же, понимая, что он обязан своим избранием вам, Тюилье, конечно же, на все станет смотреть вашими глазами, тем более, что он считает вас одним из столпов нашего города…
– Любезный друг, я вам весьма благодарен, – отвечал Минар. – Вы оказываете мне услугу, за которую я бесконечно признателен, и она доказывает…
– Что я не выношу этих Фельонов, – быстро подхватил ла Перад, заметив нерешительность мэра, который боялся закончить свою мысль из опасения, как бы она не показалась адвокату обидной. – Терпеть не могу людей, кичащихся своей необыкновенной честностью и склонных превращать возвышенные чувства в звонкую монету.
– Вы, как видно, их до конца раскусили, – заметил Минар, – ведь это ужасные лицемеры! Вся жизнь Фельона за последние десять лет подчинена одному желанию – получить красную ленточку, – прибавил мэр, показывая на свою петлицу.
– Берегитесь! – воскликнул адвокат. – Его сын любит Селесту, он старается проникнуть в цитадель.
– Ну что ж, зато у моего сына двенадцать тысяч годового дохода…
– О, мадемуазель Бригитта на днях заявила, что у жениха Селесты должен быть, по крайней мере, такой доход, – сказал адвокат, сделав неуловимое движение плечами. – Кроме того, сообщу вам по секрету, не пройдет нескольких месяцев, и вы узнаете, что Тюилье владеет недвижимостью, приносящей сорок тысяч франков дохода.
– Ах, черт побери, я это подозревал, – вырвалось у мэра, – ну что ж, он будет членом генерального совета.
– Я прошу вас лишь об одном: ничего не говорите ему обо мне, – сказал адвокат бедняков и, быстро отойдя от мэра, направился навстречу г-же Фельон. – Ну как, удалось вам добиться успеха, прелестная дама?
– Я ждала до четырех часов, но этот достойный и прекрасный человек не дал мне даже закончить свою речь: он слишком занят и не может принять подобный пост, так что господин Фельон уже прочел принесенное мною письмо, в котором доктор Бьяншон благодарит его за любезность, но сообщает, что он, со своей стороны, рекомендует кандидатуру господина Тюилье. Он, мол, употребит свое влияние в его пользу и просит моего мужа поступить так же.
– Что же сказал ваш несравненный супруг?
– Он сказал: «Я выполнил свой долг, я не поступился своими убеждениями, а теперь я – целиком за Тюилье».
– Стало быть, все устроилось, – сказал ла Перад. – Забудьте о моем визите, считайте, что эта ценная мысль пришла в голову вам самой.
Затем, приняв самый почтительный вид, он направился к г-же Кольвиль.
– Сударыня, соблаговолите привести сюда нашего славного папашу Кольвиля, – сказал он, – речь идет об одном сюрпризе для Тюилье, и его надо сохранить в тайне.
Пока ла Перад артистически беседовал с Кольвилем, поражая его воображение целым каскадом блестящих шуток, относящихся к кандидатуре Тюилье, и убеждая Кольвиля поддержать эту кандидатуру, хотя бы из семейных соображений, Флавия в каком-то оцепенении сидела в гостиной, слушая нижеследующий разговор, от которого у нее звенело в ушах.
– Хотелось бы мне знать, о чем там беседуют господа Кольвиль и ла Перад и почему они так смеются? – простодушно спросила г-жа Тюилье, глядя в окно.
– Болтают глупости, как это всегда делают мужчины, когда поблизости нет дам, – отрезала мадемуазель Тюилье, подобно всем старым девам не упускавшая случая сказать какую-нибудь колкость по адресу мужчин.
– Господин де ла Перад на это не способен, – с важностью произнес Фельон, – он один из самых добродетельных молодых людей, которых я встречал. Все знают, какого я мнения о Феликсе, так вот, я считаю, что господин Теодоз не уступает ему, больше того, я хотел бы, чтобы мой сын был столь же благочестив, как он!
– Да, он действительно человек достойный и многого добьется в жизни, – подал голос Минар. – Со своей стороны, я окажу ему всякую поддержку, я бы даже сказал, покровительство, если бы не опасался, что это слово может его обидеть…
– Он тратит больше денег на лампадное масло, чем на хлеб, уж это я доподлинно знаю, – вставил Дюток.
– Его матушка, если она, по счастью, еще жива, может гордиться таким сыном, – наставительно заметила г-жа Фельон.
– Для нас он сущее сокровище, – подхватил Тюилье. – И какой при этом скромник! Он так мало себя ценит.
– Я одно могу сказать, – продолжал Дюток, – ни один молодой человек не мог бы вести себя с бóльшим достоинством, испытывая жестокую нужду. Теперь он восторжествовал над нею, но ему пришлось немало пострадать, это сразу заметно.
– Бедный юноша! – воскликнула Зели. – О, как меня огорчают такие вещи!..
– Я бы с чистым сердцем доверил ему самую сокровенную тайну и даже собственное состояние, – проговорил Тюилье. – А в наше время это самый большой комплимент, какой только можно сделать человеку.
– Да это Кольвиль его смешит! – вскричал Дюток.
В эту минуту Кольвиль и ла Перад возвратились из сада с таким видом, словно они были закадычными друзьями.
– Господа, суп и король не привыкли ждать, – провозгласила Бригитта, – предложите руки дамам!..
Пять минут спустя Бригитта уже наслаждалась результатом своей шутки, которая родилась в привратницкой ее отца: за столом восседали все главные участники нашего повествования, за исключением одного только ужасного Серизе. Портрет старой мастерицы, долгие годы изготовлявшей мешки для денег, был бы неполным, если бы мы опустили описание одного из ее званых обедов. К тому же буржуазная кухня 1840 года – немаловажная подробность в истории нравов, и умелые хозяйки почерпнут, пожалуй, полезные уроки из этих страниц. Женщина, возившаяся целых двадцать лет с мешками для денег, естественно, прониклась желанием обладать несколькими такими мешками, разумеется, набитыми луидорами. Вместе с тем Бригитта соединяла в себе бережливость, которой она была обязана своим состоянием, со способностью не останавливаться перед необходимыми тратами. Вот почему та относительная щедрость, которую она проявляла, когда речь шла о ее брате или о Селесте, была, как небо от земли, далека от скупости. Она даже часто говорила, что завидует скупцам. На последнем обеде она рассказала, что после душевной борьбы и внутренних мук, продолжавшихся целых десять минут, она в конце концов подала десять франков бедной работнице из их квартала, голодавшей, как ей было доподлинно известно, два дня.
– Человеческая натура, – простодушно призналась старая дева, – одержала во мне верх над рассудком.
Пресловутый суп на деле оказался довольно жидким бульоном: даже в дни званых обедов кухарка получала строгое предписание не варить крепкого бульона; ведь семья должна была питаться говядиной в понедельник и во вторник, и чем меньше мясо вываривалось, тем больше питательных соков оно сохраняло.
Недоваренную говядину уносили на кухню в ту самую минуту, когда Тюилье погружал в нее нож; при этом Бригитта неизменно говорила:
– По-моему, мясо немного жестковато, оставь его, Тюилье, говядину никто есть не станет, у нас еще много кушаний впереди.
И в самом деле, бульон был подкреплен четырьмя блюдами, стоявшими на старых спиртовках, с которых облупилось серебро; на обеде, устроенном в честь будущего избрания Тюилье, в них помещались две утки с маслинами, большой круглый пирог с кнелями и угорь по-татарски, а также шпигованная телятина с цикорием. На вторую перемену был подан великолепнейший гусь с каштанами и салат, обложенный кружочками красной свеклы; тут же были принесены горшочки с кремом и посыпанная сахаром репа, которая словно подмигивала запеканке из макарон. Этот обед, походивший на обед привратника, справляющего свадьбу или именины, стоил не больше двадцати франков, к тому же его остатками кормился весь дом в продолжение двух дней. И все-таки Бригитта ворчала:
– Еще бы, когда принимаешь гостей, деньги так и летят!.. Просто ужас!
Стол был освещен двумя уродливыми медными подсвечниками, покрытыми тонким слоем серебра. В каждом из них горели четыре свечи; эти на редкость выгодные свечи носили поэтическое название «звезда». Столовое белье ослепительно сверкало; старинная серебряная посуда досталась брату и сестре в наследство от папаши Тюилье: он приобрел ее еще в годы революции, и она служила ему верой и правдой в том безвестном ресторанчике, который помещался в его швейцарской до 1816 года, когда был закрыт, как и все ресторанчики такого типа, существовавшие в других министерствах. Таким образом, обед вполне соответствовал и столовой, и всему дому, и самим Тюилье, а они, в свою очередь, соответствовали режиму, существовавшему в те годы во Франции, а также нравам той эпохи. Минары, Кольвили и ла Перад обменялись понимающими улыбками, по этим улыбкам нетрудно было догадаться, что все они без исключения смотрят на этот званый обед со сдержанной усмешкой. Минары, привыкшие роскошно жить и вкусно есть, принимали приглашения на такие обеды только потому, что посещали дом Тюилье с определенной целью. Ла Перад, усевшийся рядом с Флавией, шепнул ей на ухо:
– Согласитесь, они заслуживают хорошего урока, эти Минары. Кольвиль и вы постились гораздо чаще, чем того требует религия, я тоже нередко сидел на хлебе с водой! До чего отвратительна жадность этих людей! Селеста будет навсегда для вас потеряна, ведь эти выскочки унаследовали пороки вельмож былых времен, не унаследовав их изящества. У их сына, по слухам, двенадцать тысяч франков дохода, ну и пусть себе ищет жену в семействе Потас, вы не нуждаетесь в их деньгах, нажитых с помощью нечистых проделок. Какое удовольствие настраивать таких людей на нужный тебе лад, подобно тому, как музыкант настраивает контрабас или кларнет!
Флавия слушала Теодоза с улыбкой и не убрала ногу, когда его сапог коснулся ее туфельки.
– Я хочу, чтобы вы все время следили за тем, что происходит, – проговорил он вполголоса, – вот мы и будем объясняться с помощью этой педали. С сегодняшнего дня вы можете читать в моем сердце, я не из тех людей, что строят козни…
Флавия не была избалована общением с людьми выдающимися; решительный, уверенный тон Теодоза покорял ее, ловкий провансалец ставил стареющую красавицу перед необходимостью прийти к определенному решению: либо принять его таким, каков он есть, либо, не колеблясь, отвергнуть. Поведение молодого адвоката было построено на трезвом расчете, и поэтому он следил внешне кротким, а на самом деле проницательным взглядом за тем, удалось ли ему окончательно заворожить свою жертву.
Когда прислуга уносила на кухню опустошенные блюда, Минар, боявшийся, как бы Фельон не опередил его, с торжественным видом обратился к Тюилье:
– Дорогой господин Тюилье, я принял приглашение на обед потому, что хотел сделать важное сообщение, касающееся вас, и столь лестное, что вам, конечно же, будет приятно, если его услышат ваши гости.
Тюилье побледнел, как полотно.
– Вы добились для меня ордена!.. – воскликнул он и посмотрел на Теодоза с таким видом, словно приглашал того подивиться его проницательности.
– Орден от вас не уйдет, – отвечал мэр, – но сейчас речь идет о вещи более важной. Орден – свидетельство того, что министр держится на ваш счет хорошего мнения, я же имею в виду событие, свидетельствующее о том, что высокого мнения о вас придерживаются все сограждане. Короче говоря, многие избиратели моего округа обратили на вас внимание и желают выразить свое доверие, избрав вас представителем от них в муниципальный совет Парижа, который, как всему свету известно, одновременно выполняет и функции генерального совета департамента Сены…
– Браво! – воскликнул Дюток.
С места поднялся Фельон.
– Господин мэр опередил меня, – проговорил он прочувствованным голосом, – но я так рад тому, что наш друг привлек к себе внимание всех благонамеренных граждан одновременно и снискал себе сторонников во всех концах нашего округа, что не стану жаловаться. К тому же мне подобает быть вторым: власть должна идти во главе!.. (Фельон почтительно поклонился Минару.) Да, господин Тюилье, многие избиратели, живущие в той части округа, где пребывают мои скромные пенаты, захотели вручить вам мандат муниципального советника, и, что особенно знаменательно, ваша кандидатура была подсказана им человеком знаменитым… (Изумленные восклицания гостей)… – человеком, в чьем лице мы хотели почтить память одного из самых добродетельных обитателей нашего округа, который на протяжении двадцати лет был для всех нас отцом родным, – я имею в виду покойного господина Попино, бывшего при жизни советником Королевского суда и советником муниципального совета от нашего округа. Однако его племянник, доктор Бьяншон, слава нашего города, отклонил предложенный ему почетный пост, сославшись на то, что многочисленные обязанности не оставляют ему времени. Поблагодарив нас за оказанную честь, он – прошу заметить это, господа, – порекомендовал нашему вниманию кандидата, только что названного господином мэром; по словам доктора Бьяншона, наш друг господин Тюилье вполне достоин занять пост в городском муниципалитете, принимая во внимание его прошлую деятельность!..
И Фельон под одобрительные возгласы присутствующих уселся на место.
– Тюилье, ты можешь рассчитывать на своего старого друга, – заявил Кольвиль.
В эту минуту все приглашенные, невольно взглянув на Бригитту и на г-жу Тюилье, были глубоко растроганы их видом. По лицу смертельно бледной Бригитты медленно текли слезы, слезы бесконечной радости, а г-жа Тюилье, словно пораженная молнией, сидела неподвижно, пристально глядя куда-то вперед. Внезапно старая дева бросилась в кухню и крикнула Жозефине:
– Спустись в погреб, милая!.. Принеси вино, самое лучшее!
– Друзья мои, – заговорил Тюилье взволнованным голосом, – сегодня лучший день в моей жизни, он мне дороже даже того дня, когда я буду избран, если я только решусь принять это почетное предложение и согласиться на то, чтобы моя кандидатура была рекомендована вниманию наших сограждан… (Громкие возгласы: «Полноте, полноте!») …ибо я положил немало сил за время тридцатилетней службы на пользу отечества, а вы сами понимаете, что человек порядочный должен хорошенько взвесить свои силы и возможности прежде, чем возложить себе на плечи обязанности члена городского муниципалитета…
– Иного ответа я от вас не ожидал, господин Тюилье! – вскричал Фельон. – Простите, я впервые в жизни прервал говорящего, да к тому же человека, занимавшего в прошлом более высокое положение, чем я, однако бывают обстоятельства…
– Соглашайтесь! Соглашайтесь! – завопила Зели. – Клянусь честью порядочной женщины, такие люди, как вы, должны управлять городом.
– Решайтесь, патрон! – подхватил Дюток. – И да здравствует будущий муниципальный советник… Недурно было бы по этому поводу выпить…
– Стало быть, решено? Вы – наш кандидат? – спросил Минар.
– Вы слишком высокого мнения обо мне, – пробормотал Тюилье.
– Помилуй! – воскликнул Кольвиль. – Человек, который тридцать лет просидел в канцелярии министерства финансов, – истинная находка для города!
– Вы слишком скромны! – вмешался Минар-младший. – Ваши способности нам отлично известны, о вас до сих пор вспоминают в финансовом ведомстве…
– Помните, вы сами этого хотели! – изрек Тюилье.
– Король будет весьма доволен этим выбором, поверьте мне, – проговорил, напыжившись, Минар.
– Милостивые государи, соблаговолите разрешить молодому человеку, живущему в предместье Сен-Жак, – начал ла Перад, – высказать несколько замечаний, которые, быть может, покажутся вам достойными внимания.
Высокое мнение, сложившееся у присутствующих об адвокате бедняков, заставило всех умолкнуть.
– Влияние господина мэра соседнего округа на обитателей нашего округа, где он оставил по себе столь приятные воспоминания; влияние господина Фельона, оракула, да, – с силой повторил Теодоз, заметив протестующий жест Фельона, – оракула своего батальона; не менее мощное влияние господина де Кольвиля, объясняющееся его открытым нравом и учтивостью; весьма значительное влияние господина письмоводителя канцелярии мирового судьи и, наконец, те усилия, какие я смогу приложить в сфере моей скромной деятельности, – все это залог успеха, но еще не самый успех!.. Если мы хотим достичь быстрой победы, то должны пообещать друг другу хранить полное молчание по поводу волнующего проявления чувств, имевшего здесь место сегодня… В противном случае, сами того не желая и даже не подозревая об этом, мы возбудим людскую зависть, разбудим низменные страсти, и они позднее воздвигнут на нашем пути препятствия, которые нелегко будет устранить. Политический смысл нынешнего общественного устройства, его главный отличительный признак, самое надежное условие его существования состоит в некоем разделении обязанностей, конечно, в определенных пределах, между властью и средними классами – истинной опорой современного общества, средоточием нравственности, возвышенных чувств и трудолюбия. Но, к чему скрывать, выборность большинства должностей породила игру тщеславия, я бы даже сказал, яростную жажду быть хоть чем-нибудь, она породила ее в таких социальных слоях, где чувства эти малоуместны. Одни считают это полезным, другие – вредным, я не берусь высказывать свое мнение в присутствии людей, перед чьим умом я преклоняюсь, я довольствуюсь тем, что напоминаю об этом, желая привлечь ваше внимание к той опасности, какая может угрожать нашему другу и нашему кандидату. Не прошло и недели после смерти достопочтенного члена муниципального совета, а наш округ уже бурлит от борьбы мелких честолюбцев между собой. Люди любой ценой хотят быть на виду. Самые выборы произойдут, должно быть, не раньше чем через месяц. Подумайте сами, сколько интриг будет затеяно за этот срок!.. Вот почему я умоляю вас не подвергать нашего друга Тюилье нападкам конкурентов. Нельзя, чтобы его честное имя стало добычей публичного обсуждения – этой гарпии наших дней, которая вместо ядовитой слюны исходит клеветою, завистью, злобными выходками, которая стремится унизить все великое, запятнать все достойное уважения, осквернить все святое… Поступим так, как поступали представители третьего сословия в палате: будем хранить молчание и голосовать!
– Он славно говорит, – прошептал Фельон сидевшему с ним рядом Дютоку.
– Да, у него железная логика!..
Сын Минара пожелтел, а потом позеленел от зависти.
– Все это правда и отлично сказано! – воскликнул Минар.
– Принято единогласно, – заключил Кольвиль. – Господа, все мы – люди чести, достаточно того, что мы согласились во всем.
– Цель оправдывает средства, – с пафосом произнес Фельон.
В эту минуту на пороге показалась мадемуазель Тюилье в сопровождении двух служанок. На поясе у нее висел ключ от погреба, по знаку старой девы на стол были водружены три бутылки шампанского, три бутылки доброго старинного вина Эрмитаж и бутылка малаги; усевшись, Бригитта поставила перед собой маленькую бутылочку, которую она несла с благоговейным видом, столь необычным для этой феи Карабос. Появление изысканных вин было плодом признательности, переполнявшей сердце старухи, в упоении она забыла и думать о разумной бережливости, неизменной спутнице ее гостеприимства, и выказывала невиданную щедрость, доставившую немалое удовольствие гостям. Вслед за вином был подан богатый десерт: тут были и лакомое блюдо из винных ягод, изюма, орехов и миндаля, и пирамиды апельсинов и яблок, и различные сорта сыра, и варенье, и засахаренные фрукты. Все эти яства появились из глубины шкафов, при других обстоятельствах они бы ни за что не покинули своих убежищ и не оказались бы на столе.
– Селеста, сейчас тебе принесут бутылку водки, которую мой отец приобрел в тысяча восемьсот втором году, приготовь апельсины и залей их водкой! – крикнула Бригитта невестке. – Господин Фельон, откупорьте шампанское, эта бутылка для вас троих. Господин Дюток, возьмите вино! Господин Кольвиль, вы у нас мастер вытаскивать пробки!..
Две служанки подавали рюмки, бокалы для шампанского и бокалы для бордо, так как Жозефина принесла три бутылки этого вина.
– Вино кометы! – вскричал Тюилье. – Господа, вы заставили мою сестру потерять голову.
– В такой вечер нужны пунш и пирожные, – заметила Бригитта. – Я послала к аптекарю за чаем. Господи! Если бы я только знала, что речь идет о выборах, – проговорила она, взглянув на невестку, – то велела бы приготовить индейку…
Это признание было встречено взрывом смеха.
– О, с нас хватит и гуся, – заявил, смеясь, Минар-младший.
– А вот и подкрепление! – воскликнула г-жа Тюилье, когда на стол подали засахаренные каштаны и безе.
Лицо мадемуазель Тюилье пылало; она сияла от гордости: должно быть, ни одна сестра в мире не радовалась до такой степени успехам брата.
– Как это трогательно, особенно для тех, кто ее хорошо знает, – проговорила вполголоса г-жа Кольвиль, указывая на Бригитту.
Бокалы были наполнены, гости переглядывались, видно было, что все ожидают тоста. И тогда ла Перад провозгласил:
– Господа, выпьем за истинно возвышенную душу!..
Все с изумлением посмотрели на него.
– За мадемуазель Бригитту!..
Гости вскочили с мест, стали чокаться, послышались крики; «Да здравствует мадемуазель Тюилье!»
В голосе адвоката было столько искреннего чувства, что оно вызвало всеобщий восторг.
– Господа, – начал Фельон, заглядывая в какую-то исписанную карандашом бумажку, – «За труд, за его блестящие плоды, воплощенные в особе нашего старого товарища, ставшего мэром одного из округов Парижа, за господина Минара и его супругу!»
Послышались одобрительные восклицания; затем поднялся Тюилье и воскликнул:
– Господа, за короля и королевскую фамилию!.. Больше я ничего не прибавлю, мой тост говорит сам за себя.
– За избрание моего брата! – сказала мадемуазель Тюилье.
– Я вас сейчас рассмешу, – прошептал ла Перад на ухо Флавии.
Он встал и звонко выкрикнул:
– За женщин! За прелестный пол, которому мы обязаны нашим блаженством, не говоря уже о том, что мы ему обязаны своими матерями, сестрами и супругами!..
Этот тост вызвал всеобщее оживление, и Кольвиль, который уже был навеселе, завопил:
– Негодяй! Ты украл мою мысль!
Затем поднялся мэр, и воцарилось глубокое молчание.
– Господа, за наши общественные учреждения! Ведь именно они составляют силу и величие династической Франции!
Бутылки опустошались с головокружительной быстротой, и соседи обменивались восторженными восклицаниями, вызванными неслыханным гостеприимством хозяйки и изысканностью вин.
Селеста Кольвиль робко попросила:
– Мама, разрешите и мне предложить тост…
Добрая девушка давно уже следила за растерянным лицом своей крестной матери, всеми забытой хозяйки дома, которая с выражением какой-то собачьей преданности переводила взгляд с физиономии своей грозной невестки на физиономию Тюилье, словно самозабвенно вопрошала их, как себя вести. Радость, освещавшая это лицо рабыни, привыкшей сознавать свое ничтожество, скрывать мысли, подавлять чувства, походила на сияние зимнего солнца, подернутого дымкой: она словно нехотя озаряла увядшие, расплывшиеся черты. Чепчик из газа, украшенный темными цветами, небрежная прическа, светло-коричневое платье, золотая цепочка на шее, мало что менявшая в этом скромном наряде, – все, вплоть до манеры держать себя, усиливало привязанность юной Селесты к этой женщине, обреченной на вечное молчание, понимавшей все, что творится вокруг, и страдавшей из-за этого, находя себе утешение лишь в общении с богом и с нею, Селестой, которая одна в целом свете знала ей истинную цену.
– Пусть она предложит свой тост, – тихо сказал ла Перад г-же Кольвиль.
– Говори, доченька! – крикнул Кольвиль. – Нам предстоит еще выпить бутылку славного выдержанного вина Эрмитаж!
– За мою милую крестную! – проговорила девушка, почтительно поднимая свой бокал и протягивая его к г-же Тюилье.
Несчастная женщина испуганно переводила полные слез глаза с мужа на его сестру: ее положение в семье было всем хорошо известно, и почтение, которое Невинность оказала Слабости, заключало в себе нечто столь возвышенное, что все невольно почувствовали волнение; мужчины встали и разом поклонились г-же Тюилье.
– Милая Селеста, будь у меня королевство, я с радостью положил бы его к вашим ногам! – воскликнул Феликс Фельон, обращаясь к девушке.
Отец его утирал слезу, даже Дюток был растроган.
– Какое прелестное дитя! – проговорила мадемуазель Тюилье, подходя к невестке и обнимая ее.
– Ко мне! – крикнул Кольвиль, становясь в позу атлета. – Внимание! За дружбу! Осушайте бокалы! Наполняйте бокалы! Отлично! За изящные искусства, этот цвет общественной жизни! Осушайте бокалы! Наполняйте бокалы! За такой же праздник на следующий день после выборов!
– А что это у вас за заветная бутылочка?.. – спросил Дюток у мадемуазель Тюилье.
– Это одна из имеющихся в нашем доме трех бутылок ликера госпожи Амфу. Вторую мы откупорим на свадьбе Селесты, а последнюю – на крестинах ее первого ребенка.
– Положительно, сестра потеряла голову, – шепнул Тюилье Кольвилю.
Обед закончился тостом, предложенным Тюилье; тост этот подсказал ему Теодоз, когда малага, разлитая по рюмкам, засверкала в них, как рубин.
– Господа, Кольвиль выпил за дружбу. Я же пью это благородное вино за моих друзей!..
Эти прочувствованные слова были встречены громкими криками «ура». Воспользовавшись шумом, Дюток не преминул сказать Теодозу:
– Просто преступление вливать такое вино в их луженые глотки…
– Ах, если бы можно было изготовлять во Франции подобное вино, друг мой! – вскричала жена мэра, с шумом тянувшая из своей рюмки испанский ликер. – Какое славное состояние можно было бы себе сколотить!..
Зели окончательно опьянела, на ее багровое лицо страшно было смотреть.
– Ну, наше состояние уже сколочено! – ответил Минар.
– Как вы думаете, сестрица, – обратилась Бригитта к г-же Тюилье, – не подать ли нам чай в гостиную?..
Вместо ответа г-жа Тюилье поднялась из-за стола.
– Ах, вы великий чародей! – сказала Флавия Кольвиль де ла Пераду, который предложил ей руку, чтобы проводить в гостиную.
– И моя единственная мечта, – ответил молодой человек, – очаровать вас. Поверьте, я полностью вознагражден: сегодня вы еще более восхитительны, чем всегда!
– Подумать только, – сказала она, не принимая вызова, – Тюилье, наш Тюилье возомнил себя политическим деятелем.
– Моя дорогая, половина смешных положений и смехотворных поступков, с которыми мы сталкиваемся в обществе, – плод подобных интриг, часто сам человек не так уж в этом виновен. Во многих семьях, как вы, верно, сами не раз наблюдали, муж, дети, друзья убеждают хозяйку дома, глупее которой трудно сыскать, что она кладезь мудрости, или матрону лет сорока пяти, что она молода и хороша собой!.. Отсюда и возникают странности в поведении, не объяснимые для людей, непричастных к этой игре. Нередко встречаешь мужчин, обязанных своим отвратительным самомнением рабскому обожанию любовницы, или же чванных рифмоплетов, которых продажные льстецы убедили, будто они великие поэты. В каждом роду есть свой выдающийся человек, и общество поэтому уподобляется палате, где вечно царит полумрак, хотя там находятся светочи Франции… Ну и что ж? Люди умные, глядя на это, посмеиваются, вот и все. Вы олицетворяете ум и красоту в этом маленьком буржуазном мирке, вот почему я поклоняюсь вам, как божеству. Но моя заветная мысль – вырвать вас отсюда, ибо я вас искренне люблю. Правда, в моем чувстве больше дружбы, нежели любви, хотя и любви тут примешалось немало, – прибавил он и, пользуясь тем, что оконная ниша скрывала их от любопытных взглядов, нежно прижал Флавию к груди.
– Госпожа Фельон, не угодно ли вам сесть за фортепьяно? – сказал Кольвиль. – Сегодня здесь все должно пуститься в пляс: бутылки, монеты, бренчащие в кармане мадемуазель Бригитты, и наши славные дочки! Я, пожалуй, схожу за кларнетом.
При этих словах он подал жене чашку, из которой только что пил кофе, и улыбнулся, видя, что между Флавией и Теодозом установилось полное согласие.
– Что вы сделали с моим мужем? – спросила Флавия у своего соблазнителя.
– Должен ли я вам открыть нашу тайну?
– Значит, вы меня не любите? – проговорила она, взглянув на него с едва скрытым кокетством женщины, почти решившейся идти до конца.
– Ну, коль скоро и вы мне станете открывать все ваши тайны, – продолжал он весело, словно охваченный неудержимым порывом южанина, с виду таким естественным и очаровательным, – то и я не стану скрывать от вас ничего из того, что лежит у меня на сердце…
Он вновь увлек ее в оконную нишу и сказал, улыбаясь:
– Бедняга Кольвиль разглядел во мне артиста, притесняемого всеми этими буржуа, молчащего в их присутствии из страха, что его не поймут, дурно истолкуют, изгонят. Зато он ощутил жар священного огня, пылающего в моей груди. Кстати, – продолжал Теодоз, и в его голосе прозвучала глубокая убежденность, – я и в самом деле артист, когда дело доходит до красноречия, артист в духе Беррье: я могу заставить плакать присяжных, заплакав сам, ибо я нервен, как женщина. И вот ваш муж, презирающий всех этих буржуа, вышучивал их вместе со мной, мы буквально уничтожали их смехом, и он нашел, что моя ирония не уступает его собственной. Я посвятил его в наш план касательно Тюилье, я дал ему понять, какую пользу может принести ему сей политический манекен. «Ради одного того, – сказал я, – чтобы стать господином де Кольвилем и тем самым позволить вашей очаровательной жене занять подобающее место в обществе, вам следует получить место генерального сборщика налогов, а затем сделаться депутатом. Для этого вам достаточно будет прожить лет восемь в департаменте Верхних или Нижних Альп, в каком-нибудь захолустном городе, где все вас будут любить и где ваша жена очарует всех… И такая возможность будет к вашим услугам, особенно если вы отдадите свою милую Селесту в жены человеку, способному приобрести влияние в Палате…» Аргументы, изложенные в шутливой форме, действуют на некоторых людей куда сильнее, чем если с ними говорят серьезно. Так что отныне мы с Кольвилем закадычные друзья. Разве вы не слышали, как он крикнул мне за столом: «Негодяй! Ты украл мою мысль»? Нынче вечером мы с ним станем говорить друг другу «ты»… Затем какая-нибудь небольшая история, в которую неизменно впутываются артисты, находящиеся на дружеской ноге – а уж я его впутаю в такую историю! – сделает нас и впрямь друзьями, он, пожалуй, станет видеть во мне друга, более близкого ему, чем сам Тюилье, ибо я уже успел шепнуть нашему дражайшему Кольвилю, что Тюилье просто лопнет от зависти, если увидит у него в петлице еще одну орденскую розетку… Видите, моя дорогая и обожаемая Флавия, какой энергией наполняет человека глубокое чувство! Ведь нужно было, чтобы Кольвиль открыл мне доступ в свое сердце, чтобы я мог бывать у вас с его согласия!.. Я все готов сделать ради вас – лизать язвы прокаженных, глотать живых жаб, соблазнить Бригитту! Да, я бы пронзил себе грудь этой тростью, если бы она могла послужить мне костылем, который помог бы мне дотащиться до ваших дверей и пасть к вашим ногам!
– Этим утром вы меня просто испугали, – прошептала Флавия.
– Но вечером вы уже не испытываете тревоги?.. Да, – прибавил он с силой, – пока я с вами, вам не угрожает никакая беда.
– О, вы человек необыкновенный, я это признаю!..
– Вовсе нет! Все мои поступки – и самые значительные и самые незаметные – лишь отблески пламени, зажженного вами в моей груди, я хочу стать вашим зятем, чтобы мы никогда больше не разлучались… Моя жена, да простит мне бог, будет лишь машиной, производящей детей, но высшим существом, моей богиней будешь ты! – прошептал он на ухо Флавии.
– Вы просто сатана! – проговорила она в ужасе.
– Нет, но я немного поэт, как все мои земляки. Прошу вас, будьте моей Жозефиной!.. Завтра в два часа я приду к вам домой, меня снедает пылкое желание увидеть ложе, на котором вы спите, кресла, в которых вы отдыхаете, цвет обивки вашей спальни, увидеть, как расположены вещи, окружающие вас, – словом, полюбоваться жемчужиной в ее раковине!..
Произнеся эту ловкую тираду, он удалился, даже не дождавшись ответа.
Флавия, с которой ни разу в жизни влюбленные в нее мужчины не разговаривали столь страстным языком, каким разговаривают только в романах, испытывала полную растерянность; но она была счастлива и, прислушиваясь к быстрому биению сердца, беззвучно шептала себе, что не поддаться влиянию такого мужчины выше сил человеческих. В тот вечер Теодоз впервые облачился в новые панталоны, серые шелковые чулки и открытые туфли; на нем был черный шелковый жилет и черный атласный галстук, украшенный весьма изысканной булавкой. Наряд его довершал новый фрак, сшитый по последней моде, и желтые перчатки, гармонировавшие с ослепительно белыми манжетами. В салоне, где с каждым часом прибавлялись все новые и новые гости, он был единственным человеком с хорошими манерами, умевшим безукоризненно себя держать.
Госпожа Прон, урожденная Барниоль, пришла в сопровождении двух своих пансионерок, семнадцатилетних девиц, доверенных ее материнской заботе их семьями, жившими на острове Бурбон и острове Мартиника. Г-н Прон, преподаватель риторики в коллеже, которым руководили священники, был человеком того же круга, что и Фельоны. Однако в отличие от них он не выставлял себя напоказ, не сыпал афоризмами и сентенциями, не старался служить примером для подражания; он держался сухо и чопорно. Г-н и г-жа Прон, служившие украшением гостиной Фельонов, принимали по понедельникам, с Фельонами их связывало общее родство с Барниолями. Прон был небольшого роста, он недурно танцевал и не считал это зазорным для своего положения. Прославленная репутация пансиона мадемуазель Лаграв, с которой супруги Фельон поддерживали знакомство уже больше двадцати лет, еще больше укрепилась, когда этим заведением начала руководить мадемуазель Барниоль, самая умелая и опытная из воспитательниц. Г-н Прон пользовался большим влиянием в той части квартала, что расположена между бульваром Монпарнас, Люксембургским садом и Севрской дорогой. Вот почему, едва завидя своего друга, Фельон, не обинуясь, взял его под руку и увлек в угол, чтобы посвятить в планы, связанные с выдвижением кандидатуры Тюилье; после десятиминутной беседы они отправились на поиски Тюилье, и оконная ниша, находившаяся против той, где все еще стояла Флавия, стала, без сомнения, свидетельницей трио, в своем роде достойного трио швейцарцев из оперы «Вильгельм Телль».
– Вы только полюбуйтесь на интриги нашего достопочтенного Фельона! – сказал Флавии вновь подошедший Теодоз. – Сумейте только уговорить честного человека, и он отлично будет прибегать к самым недостойным методам, ибо, в конечном счете, наш уважаемый приятель убеждает маленького Прона, а тот покорно дает себя убедить исключительно в интересах Феликса Фельона, занимающего в этот миг внимание вашей прелестной Селесты… По-моему, вам пора их разлучить… Они уже минут десять вместе, а сын Минара ходит вокруг, как обозленный бульдог.
Феликс все еще находился под глубоким впечатлением благородного поступка Селесты, этого простодушного крика ее души, хотя никто, за исключением г-жи Тюилье, об этом уже не помнил; молодой человек невольно проявил наивную хитрость, которую мы назвали бы благородным лукавством истинной любви; надо заметить, что оно было ему непривычно: как всякий математик, он был невероятно рассеян. Итак, Феликс направился к г-же Тюилье, верно предположив, что Селеста непременно подойдет к ней: глубокий расчет глубокой любви! Девушка была тем более признательна Феликсу, что адвокат Минар, которого интересовало лишь приданое, даже не подумал подойти к ее крестной матери и спокойно попивал кофе, беседуя о политике с Лодижуа, Барниолем и Дютоком; молодой человек выполнял приказание отца, уже думавшего о новых выборах в Палату: они должны были произойти в 1842 году.
– Разве можно не любить Селесту! – сказал Феликс г-же Тюилье.
– Милая девочка, только она одна во всем свете и любит меня! – отвечала на это рабыня, с трудом сдерживая слезы.
– О, нет, сударыня, мы оба вас любим, – возразил простодушный Матье, приветливо улыбаясь.
– О чем это вы беседуете? – спросила Селеста, подходя к крестной матери.
– Дитя мое, – ответила богобоязненная женщина, привлекая к себе крестницу и целуя ее в лоб, – господин Феликс сказал, что вы оба любите меня и будете обо мне заботиться…
– Не сердитесь за такое пророчество, мадемуазель, – проговорил вполголоса будущий кандидат в Академию наук, – и позвольте мне сделать все, чтобы оно исполнилось!.. Ничего не поделаешь, я таков: несправедливость глубоко возмущает меня!.. О, спаситель был совершенно прав, пообещав рай кротким духом, невинным агнцам, приносящим себя в жертву!.. Всякий человек, если бы даже он вас не любил, Селеста, став свидетелем вашего возвышенного душевного порыва нынче за столом, проникся бы к вам обожанием! Да, только невинности дано утешать мучеников!.. Вы милая, хорошая девушка и станете одной из тех женщин, которые составляют одновременно и славу и счастье своей семьи. Счастлив тот, кто вам понравится!
– Дорогая крестная, вы только подумайте, в каком розовом свете видит меня господин Феликс!..
– Он воздает тебе должное, мой ангелочек, и я буду молиться богу за вас обоих…
– Если б вы только знали, Селеста, как я рад, что мой отец может оказать услугу господину Тюилье… И как бы я хотел быть полезен вашему брату!..
– Стало быть, вы любите всю нашу семью? – спросила девушка.
– О да! – с жаром ответил Феликс.
Истинная любовь всегда облекается в оболочку стыдливости, она страшится пышных выражений, ибо и без того красноречиво заявляет о себе: такая любовь не нуждается в фейерверке, в отличие от показной любви, и внимательный наблюдатель, окажись он в гостиной Тюилье, мог бы написать целую книгу, сравнив две противоположные сцены и нарисовав гигантские приготовления Теодоза и простоту Феликса; один из молодых людей был воплощением природы, другой – воплощением общества, искренность и притворство противостояли друг другу. Заметив восторженное состояние дочери, на чьем лице легко было прочесть душевное волнение, увидя, как прелестная девушка стала еще прелестнее и вся расцвела, выслушав первое косвенное признание в любви, Флавия ощутила укол ревности; она подошла к Селесте и прошептала ей на ухо:
– Вы нехорошо себя ведете, дочь моя, на вас все смотрят, и вы себя компрометируете, разговаривая так долго наедине с г-ном Феликсом, даже не спросясь, хотим ли мы этого.
– Но, мама, ведь здесь же крестная.
– Ах, простите, моя милая, – сказала г-жа Кольвиль г-же Тюилье, – я вас и не заметила…
– Вы поступаете, как и все остальные, – произнес Иоанн Златоуст.
Слова эти задели г-жу Кольвиль, она вздрогнула, будто в ее грудь впилась зазубренная стрела; бросив на Феликса высокомерный взгляд, она сказала Селесте: «Садись сюда, дочка» – и, усевшись возле г-жи Тюилье, указала дочери на соседний стул.
– Я буду работать до полного изнеможения, – сказал Феликс г-же Тюилье, – но стану членом Академии наук, ибо слава поможет мне добиться ее руки.
«Ах, мне нужен был вот такой муж, такой спокойный и мягкий человек, как он! – подумала бедная г-жа Тюилье. – Мне так по душе скромная, незаметная жизнь в тиши… Господи, ты этого не захотел, окажи же свое покровительство двум этим детям и соедини их судьбы! Ведь они созданы друг для друга!»
Она погрузилась в глубокую задумчивость, машинально прислушиваясь к ужасающему шуму, который подняла ее невестка: неутомимая Бригитта помогала двум служанкам убирать со стола, чтобы освободить столовую для танцев; при этом ее голос гремел, напоминая своими раскатами голос капитана фрегата, который стоит на капитанском мостике и отдает приказания к атаке: «Есть ли у нас еще настойка из смородины? Подите и купите оршад!» После минутной паузы снова слышалось: «Бокалов не хватит, напитков мало, принесите шесть бутылок простого вина, которое я велела достать из погреба. Да проследите, чтобы привратник Коффине его не вылакал!.. Каролина, ты, моя милая, оставайся у буфета!.. Если танцы затянутся до часу ночи, надо будет подать ветчину. Соблюдайте умеренность, внимательно за всем следите. Передайте мне метелочку… Налейте масла в лампы… А главное, ничего не разбейте… Остатки от десерта надо тоже пустить в дело, поставьте их на буфет! Любопытно, придет ли в голову моей сестрице помочь нам? И о чем она только думает, эта рохля?.. Господи, до чего же она медлительна!.. Стулья унесите – будет больше места для танцев».
В гостиной было полным-полно: тут можно было увидеть и Барниолей, и Кольвилей, и Лодижуа, и Фельонов, и всех тех, кого привлек сюда слух, что у Тюилье в тот день танцуют; слух этот распространился по Люксембургскому саду между двумя и четырьмя часами дня, то есть именно тогда, когда там прогуливались буржуа квартала.
– Готово, милый друг? – спросил Кольвиль, врываясь в столовую. – Ведь уже девять часов, и в вашей гостиной людей, что сельдей в бочке. Явился даже Кардо с женой, сыном, дочерью и будущим зятем, они прихватили с собой и молодого помощника прокурора, этого Винэ, так что, можно сказать, присутствует и Сент-Антуанское предместье. Мы перетащим сюда фортепьяно из гостиной, хорошо?
И Кольвиль заиграл на кларнете; веселые трели были приняты людьми, теснившимися в гостиной, как призывный сигнал и встречены громким «ура».
Стоит ли подробно описывать такого рода бал? Костюмы, лица, речи – все здесь было в полном соответствии с небольшой деталью, которая много говорит живому воображению, ибо во всяком деле факт незначительный, но яркий и характерный порою все определяет. Гостям на балу предлагали бокалы с чистым вином, с вином, разбавленным водою, и просто со сладкой водой. На подносах, местами изрядно облупившихся, разносили также бокалы с оршадом и различными настойками, и все эти напитки поглощались с головокружительной быстротой. В гостиной расставили пять карточных столов, за ними сидели двадцать пять игроков, танцевали девять пар одновременно. В час ночи гости затеяли контрданс, именуемый в просторечии «Булочница»; в этой кадрили участвовал Дюток, на голове у него красовался тюрбан из полотенца, напоминавший тот, что носят кабилы; в общий танец были вовлечены и г-жа Тюилье, и мадемуазель Бригитта, и г-жа Фельон, и даже сам папаша Фельон. Слуги, ожидавшие своих господ, пришедших в гости к Тюилье, а также слуги самого Тюилье с любопытством глазели на танцующих; нескончаемая кадриль продолжалась больше часа, и когда Бригитта пригласила всех немного подкрепиться, гости готовы были ее качать; однако осмотрительная хозяйка успела припрятать дюжину бутылок старого бургундского вина. Приглашенные веселились от души, почтенные матроны не отставали от юных девиц, и Тюилье, в конце концов, заявил:
– Подумать только, еще нынче утром нам и в голову не приходило, что вечером у нас состоится такой веселый праздник!..
– Нигде не получаешь столько удовольствия, – заявил нотариус Кардо, – как на импровизированных балах. Я терпеть не могу званых вечеров, где все держат себя необыкновенно чопорно!
Подобное мнение служит почти аксиомой в буржуазных кругах.
– А я, – пробормотала захмелевшая госпожа Минар, – отвечу вам песенкой: «Я люблю папашу, я люблю мамашу!..»
– Господин Кардо, разумеется, не имел вас в виду, сударыня, ведь ваш дом – излюбленный приют удовольствий, – сказал Дюток.
Едва кадриль окончилась, Дюток направился к буфету и принялся уписывать ветчину; подошедший Теодоз насильно увел его, говоря:
– Нам пора идти, ведь завтра на рассвете мы должны быть у Серизе, он обещал дать необходимые сведения о занимающем нас деле, кстати сказать, оно не так просто, как полагает Серизе.
– Это еще почему? – спросил Дюток, не переставая жевать ветчину даже на пороге гостиной.
– Вы что ж, не знаете законов?.. Я-то их достаточно знаю, чтобы предвидеть все опасности, связанные с этой аферой. Если нотариус сам хочет купить дом, а мы выхватим у него из-под носа лакомый кусочек, он может накинуть цену и оттяпать у нас добычу, для этого ему достаточно прибегнуть к помощи любого из зарегистрированных кредиторов. По действующему ныне ипотечному праву, если дом продается по требованию одного из кредиторов и сумма, вырученная за него на торгах, недостаточна, чтобы удовлетворить всех кредиторов, они имеют право потребовать новых торгов и продать дом дороже. Так что, если нам даже удастся провести нотариуса, он может назавтра спохватиться.
– Ты прав! – воскликнул Дюток. – Ну что ж, повидаемся с Серизе.
Слова «повидаемся с Серизе» услышал адвокат Минар, шедший позади приятелей, но для него фраза эта не имела никакого смысла. Дюток и Теодоз были так далеки от него, от его жизненного пути и его планов, что он не вникал в смысл их речей.
– Вот один из самых великолепных дней в нашей жизни, – сказала Бригитта брату, когда в половине третьего утра они оказались вдвоем в опустевшей гостиной. – Какая честь, когда тебя единодушно избирают своим кандидатом сограждане!
– Не заблуждайся, Бригитта, мы обязаны всем этим, дорогая, одному человеку.
– Кому же?
– Нашему другу ла Пераду…
Дом, куда направились не в понедельник, а лишь во вторник утром Дюток и Теодоз, ибо письмоводитель напомнил адвокату, что Серизе отсутствовал по воскресеньям и понедельникам, потому что оба эти дня народ посвящал развлечениям и к процентщику не приходил ни один клиент, – дом этот столь же необходим для воссоздания облика предместья Сен-Жак, как дома Тюилье и Фельона. Никто не знает (правда, еще не создана комиссия для изучения этого явления), повторяем, никто не знает, почему кварталы города Парижа приходят в упадок и запустение как в отношении архитектуры, так и в отношении нравственности. Каким образом квартал Люксембург и Латинский квартал, где помещаются дворцы и церкви, дошли до того состояния, в котором мы их видим сегодня? Ведь тут находится один из самых красивых дворцов в мире, тут дерзко возносится к небу купол церкви святой Женевьевы и купол Валь-де-Грас, созданный Мансаром, тут расположен полный очарования Зоологический сад! Почему элегантность уходит из нашей жизни? Почему дома, подобные домам вдовы Воке, Фельона, Тюилье, почему различные пансионаты растут, как грибы, оттесняя на задний план дворцы Стюартов, кардиналов Миньона и Дюперрона? Почему грязь, засоряющие все вокруг промыслы и нищета завладевают центральной частью столицы, вместо того чтобы располагаться поодаль от старого и благородного города?..
После смерти ангела во плоти, чью благотворительность благословляли жители квартала, здесь пышным цветом распустилось самое низкопробное ростовщичество. На смену советнику Попино пришел Серизе. И, странная вещь (о ней следовало бы поговорить подробно в другом месте!), результаты, с точки зрения социальной, мало чем отличались друг от друга. Попино давал в долг без процентов и заранее шел на возможные потери; Серизе никогда ничего не терял, заставляя тем самым несчастных трудиться, не жалея сил, и набираться ума-разума. Бедняки обожали Попино, но и к Серизе они не питали ненависти. Тут мы сталкиваемся с работой последнего колесика парижской финансовой машины. Наверху – банкирские дома Нусингена, Келлера, дю Тийе, Монжено; чуть ниже – ростовщики типа Пальмá, Жигонне, Гобсека; еще ниже – такие дельцы, как Саманон, Шабуассо, Барбе; затем – городской ломбард, этот король ростовщичества, расставляющий свои силки на каждом углу, чтобы ловить жертвы нищеты, не давая спастись ни одной; и, наконец, в самом низу – Серизе.
Сюртук со шнурами возвещал о том, что в этом логове обитает бывший участник коммандитного товарищества и человек, хорошо известный шестой палате.
Дом, где он жил, был словно изъеден селитрой, стены, покрытые зелеными пятнами, казалось, запотели и издавали зловоние, как и сами неопрятные ростовщики. Он помещался на углу улицы Пуль; тут же находился погребок торговца вином; это третьеразрядное заведение было выкрашено снаружи в ярко-красный цвет, на окнах, забранных толстыми решетками, висели занавески из красного коленкора, а внутри помещалась стойка, обитая листом свинца.
Над входом в отвратительный подъезд раскачивался уродливый фонарь с надписью: «Меблированные комнаты». Стены были отмечены железными крестами, говорившими о ветхости строения, принадлежавшего торговцу вином; он занимал половину нижнего этажа и антресоли. Меблированные комнаты содержала вдова г-на Пуаре, в девичестве Мишоно; они располагались на втором, третьем и четвертом этажах, и жили в них бедные студенты.
Серизе занимал две комнаты – одну в первом этаже и одну на антресолях: он попадал в нее по внутренней лестнице, выходившей окнами в ужасный мощеный двор, откуда поднимались зловонные запахи. Серизе платил сорок франков в месяц г-же Пуаре, и она кормила его за это завтраком и обедом; таким образом, он угождал и домохозяйке, живя у нее на пансионе, и торговцу вином, которому он поставлял огромную клиентуру; еще до восхода солнца клиенты Серизе осушали не одну бутылку с горячительным и оставляли у кабатчика немало денег. Г-н Кадене открывал свое заведение раньше, чем его сосед Серизе, начинавший финансовые операции по вторникам – в три часа утра летом и в пять часов утра зимой.
Столь раннее начало его ужасного промысла определялось часом открытия Центрального рынка, куда затем направлялось большинство клиентов и клиенток Серизе. Г-н Кадене во внимание к этой клиентуре, которой он целиком был обязан Серизе, брал со своего драгоценного жильца, занимавшего две комнаты, всего лишь восемьдесят франков в год; домовладелец подписал с ним арендный договор, заключенный на двенадцать лет с таким условием, что Серизе мог каждые три месяца расторгнуть его, не уплачивая неустойки. Кадене самолично приносил каждый день бутылку превосходного вина и вручал ее Серизе перед обедом; когда жилец оказывался на мели, ему достаточно было только сказать своему приятелю: «Кадене, одолжи мне сто экю». Правда, он исправно возвращал взятые взаймы деньги.
Кадене, по слухам, получил надежное доказательство, что вдова Пуаре в свое время вручила Серизе две тысячи франков, после чего дела экспедитора пошли в гору, ибо, переехав в этот квартал, он располагал лишь тысячефранковым кредитным билетом да покровительством Дютока. Кадене, чья алчность возрастала по мере того, как успешно развивалась его торговля, предложил в начале года двадцать тысяч франков своему другу Серизе. Тот отказался под тем предлогом, что он, мол, действует вместе с компаньоном и неосторожная финансовая операция может послужить причиной их ссоры.
– Он согласится взять ваши деньги из шести процентов годовых, – сказал он Кадене, – а они принесут вам больше дохода, если вы сами пустите их в дело… Мы с вами войдем в компанию позднее, когда подвернется что-нибудь действительно выгодное, однако подходящий случай обычно требует капитала не меньше, чем в пятьдесят тысяч франков. Вот когда у вас на руках будет такая сумма, мы поговорим…
Серизе сообщил Теодозу о возможности выгодно приобрести дом, только убедившись, что даже вместе с г-жой Пуаре и Кадене ему никогда не набрать ста тысяч франков.
Ростовщик чувствовал себя в полной безопасности в своем логове, где, если бы в этом была необходимость, он всегда мог рассчитывать на помощь. Бывали дни, когда сюда на рассвете приходило не меньше шестидесяти или даже восьмидесяти клиентов, мужчин и женщин; они наполняли винный погребок, толпились в коридоре, рассаживались на ступенях лестницы, недоверчивый Серизе впускал к себе в кабинет не больше шести человек за раз. Приходя, люди устанавливали очередь, и она двигалась в порядке номеров; виноторговец и его официант писали номера мелом: у мужчин – на полях шляп, а у женщин – прямо на спине.
Часто стоявшие впереди уступали за деньги свою очередь пришедшим позднее, подражая кучерам фиакров. В иные дни, когда важно было попасть на Центральный рынок как можно раньше, передний номер ценился в стакан водки и одно су. Клиент, выходивший из кабинета Серизе, приглашал следующего по очереди; если возникали споры, Кадене быстро пресекал их, говоря:
– Чего вы добьетесь, если на шум явится стража или полиция! Он прикроет лавочку, вот и все.
Все знали, что он – это Серизе. Когда днем какая-нибудь несчастная женщина, у которой в доме не было ни куска хлеба, видя, что дети вот-вот умрут с голода, прибегала в полном отчаянии, чтобы раздобыть десять или двадцать су, она спрашивала у виноторговца или у старшего официанта:
– Он здесь?
Кадене, толстый низенький человек, одетый в синий костюм с нарукавниками из черной материи, в переднике, какой носят кабатчики, в фуражке на голове, представлялся такой несчастной матери ангелом небесным, ибо он обычно отвечал:
– Он сказал мне, что вы честная женщина, и велел передать вам сорок су. Как быть дальше, сами знаете…
И происходило невероятное: его благословляли, как некогда благословляли Попино!
В воскресенье утром, подсчитывая расходы, люди во всем Париже проклинали Серизе; они проклинали его и в субботу, когда из полученных за работу денег приходилось возвращать ему долг и проценты! Но со вторника и до пятницы он был для бедняков провидением, богом.
Комната, где жил Серизе, некогда служившая кухней для обитателей второго этажа, была почти пуста; потолочные балки, выбеленные известью, до сих пор оставались закопченными. Стены, вдоль которых были расставлены скамьи, и плитки из песчаника, заменявшие паркет, впитывали, а затем выделяли влагу. Камин, от которого еще сохранился навес, уступил место железной печке, где Серизе в холодные дни жег каменный уголь. Под каминным колпаком находился квадратный помост, возвышавшийся на полфута над полом, тут стоял дощатый стол, стоивший не больше франка, и деревянное кресло с круглой плоской подушкой из зеленой кожи. Стена за спиной Серизе была обшита досками. Возле стола стояла ширма из неструганого дерева, она защищала хозяина комнаты от ветра, дувшего в окно и в дверь; эта двустворчатая ширма, однако, пропускала теплый воздух, струившийся из печки. К окнам были приделаны с внутренней стороны огромные ставни, обитые железом и закладывавшиеся металлическим брусом. Дверь была также обита железом.
В глубине комнаты, в углу, виднелась винтовая лестница, некогда помещавшаяся в полуразрушенном складе на улице Шапон, который приобрел в свою собственность Кадене; он установил эту лестницу на антресолях, но по требованию Серизе всякое сообщение со вторым этажом было прекращено, и дверь, выходившую на площадку, замуровали. Таким образом, жилище это превратилось в крепость. В верхней комнате, принадлежавшей Серизе, было немного мебели: ковер, купленный за двадцать франков, узкая кровать, комод, два стула, стол и железная касса в виде секретера с великолепным замком, приобретенная по случаю. Серизе брился перед каминным зеркалом; у него были две смены постельного белья из коленкора, шесть перкалевых рубашек, вся остальная его одежда также была сшита из дешевого материала. Однако раз или два Кадене встретил Серизе в весьма элегантном наряде: ростовщик, по-видимому, хранил в нижнем ящике комода праздничный костюм, который позволял ему посещать Оперу и бывать в свете; парадный костюм делал Серизе неузнаваемым, и, не распознай его Кадене по голосу, он бы спросил: «Чем могу служить?»
Больше всего клиентам нравились в Серизе его веселый нрав и остроумные ответы, он говорил на понятном им языке. Кадене, два его официанта и Серизе, жившие в самом сердце нищеты, всегда сохраняли спокойствие, подобно тому, как могильщики сохраняют спокойствие среди плачущих родственников или старые сержанты – среди мертвецов; они бесстрастно выслушивали голодные вопли и отчаянные крики, подобно тому, как хирурги бесстрастно выслушивают стоны пациентов; по примеру солдат и санитаров, Кадене и Серизе лишь изредка роняли ничего не значащие фразы: «Надо немного потерпеть, побольше мужества!», «К чему так убиваться? Вы себя уморите, а какой в этом толк?..», «Ко всему привыкают, надо быть рассудительным» и так далее.
Серизе осмотрительно прятал деньги, необходимые для утренних операций, в двойное сиденье кресла, он вынимал оттуда за раз не больше ста франков и распихивал их по карманам; свои денежные фонды он пополнял лишь в промежутке между двумя группами просителей, запирая дверь и отпирая ее лишь после того, как деньги были вновь разложены по карманам; но то была излишняя предосторожность: ему нечего было опасаться доведенных до отчаяния людей, которые приходили сюда с различных концов Парижа, чтобы перехватить немного деньжат. Как известно, существуют различные формы честности и добродетели, и в основе нашей «Монографии о добродетели» лежит сия социальная аксиома. Если человек поступает против совести, открыто нарушает общепринятые правила поведения, не всегда следует велениям чести, это еще не значит, что он не достоин никакого уважения; если он даже человек бесчестный, это еще не значит, что его можно отправить в исправительную полицию. Если он вор, это еще не значит, что он подсуден суду присяжных; и, наконец, если он даже осужден судом, он может еще пользоваться уважением на каторге, придерживаясь тех своеобразных законов чести, которые преступники соблюдают в своей среде и согласно которым нельзя выдавать товарища, надо справедливо делить добычу, следует подвергаться тем же опасностям, что и твои сообщники. Так вот, именно эта форма честности, представляющая собою, возможно, лишь скрытый расчет, лишь необходимость, подчиняясь которой человек способен сохранить остатки величия и последние шансы вернуться к добру, царила в отношениях между Серизе и его клиентами. Никогда ростовщик не прибегал к обману, не прибегали к нему и бедняки: ни он, ни они не пытались оспаривать размеры долга и процентов. Случалось, что Серизе, кстати сказать, и сам происходивший из низов, исправлял невольно допущенную им ошибку и делал это в интересах какого-нибудь несчастного, хотя тот о ней даже не подозревал. Вот почему клиенты считали ростовщика собакой, но честной собакой; его слово в этой юдоли печали почиталось священным. Однажды какая-то женщина, взявшая у него тридцать франков, умерла, так и не уплатив долга.
– Вот мои барыши, – сказал он собравшимся клиентам, – а вы меня поносите на всех перекрестках. Но, как бы то ни было, я не стану терзать малышей!..
И Кадене отнес сиротам хлеба и дешевого вина. После этого случая, в котором расчет сыграл немалую роль, обитатели двух предместий говорили о Серизе:
– Нет, он человек не злой!..
Мелкое ростовщичество, которым занимался Серизе, что бы там ни говорили, представляет собою меньшее зло, чем городской ломбард. Серизе давал во вторник десять франков при условии, что в воскресенье утром ему отдадут двенадцать. Таким образом за пять недель он удваивал капитал, но зато шел на различные послабления. Он простирал свою доброту до того, что иногда взыскивал с должника лишь одиннадцать франков пятьдесят сантимов; бывало, что ему подолгу не платили процентов. Кроме того, одалживая пятьдесят франков торговцу фруктами в надежде получить за них шестьдесят или ссужая сотней франков продавца торфа, который должен был возвратить сто двадцать франков, Серизе рисковал своими деньгами.
Миновав улицу Пост и достигнув улицы Пуль, Теодоз и Дюток увидели большую толпу мужчин и женщин, освещенную неярким светом фонарей лавки виноторговца; приятели невольно ужаснулись при виде всех этих людей с красными, морщинистыми, накрашенными, увядшими, удрученными горем лицами; некоторые были лысые, другие – с давно нечесанными волосами, были тут и пьяницы, раздувшиеся от чрезмерного пристрастия к вину, попадались и такие, кого иссушило злоупотребление ликерами; одни кому-то угрожали, другие хранили покорный и безразличный вид, эти зубоскалили, те отпускали шуточки, а третьи сидели с тупым выражением лица; и все без исключения были одеты в такие неописуемые лохмотья, что ни один рисовальщик с самой причудливой фантазией не мог бы воспроизвести их на бумаге.
– Меня тут узнáют! – воскликнул Теодоз, увлекая Дютока в сторону. – Мы совершили глупость, придя к Серизе в самый разгар его занятий…
– Согласен! Тем более, что мы не подумали вот о чем: Клапарон спит где-то в его логове, внутреннее расположение которого нам неизвестно. Послушайте, то, что неудобно вам, вполне удобно мне, я могу запросто прийти переговорить со своим экспедитором, и я приглашу его отобедать с нами: утром у нас в суде заседание, и позавтракать вместе нам будет нельзя. Давайте назначим свидание в «Хижине», в одном из кабинетов, выходящих в сад…
– Не годится! Там нас могут подслушать, а мы этого даже не заметим, – возразил адвокат. – Я предпочитаю «Пти Роше де Канкаль»: можно будет занять отдельный кабинет и разговаривать вполголоса.
– А если вас увидят там в обществе Серизе?
– В таком случае пойдем в «Шеваль-Руж», на набережную де ла Турнель.
– Это уже лучше. Итак, в семь часов, там в такое время никого не бывает.
И Дюток двинулся один в самую гущу своеобразного конгресса нищих; он слышал, как то один, то другой из них повторял его имя, ибо среди толпы ему трудно было не встретить людей, приходивших к мировому судье, как Теодозу трудно было не встретить тут кого-нибудь из своих клиентов.
В бедных кварталах мировой судья – верховный судия, все спорные вопросы решаются в его камере, особенно с тех пор, как закон передал в ведение мировых судов рассмотрение всех тяжб, сумма иска в которых не превышает ста сорока франков. Бедняки боятся письмоводителя суда не меньше самого судьи, вот почему все опасливо расступались перед Дютоком. На ступеньках лестницы сидели женщины, напоминая собой пеструю выставку цветов, устроенную в установленных в виде амфитеатра витринах; встречались среди них и молодые, и старые, и смертельно бледные, и больные. Разноцветные косынки, чепчики, платья и передники делали сравнение с выставкой цветов, пожалуй, даже более точным, чем надлежит быть сравнению. Открыв дверь в комнату Серизе, Дюток едва не задохнулся: через это помещение уже прошло не меньше шестидесяти человек, и каждый оставил тут свой запах.
– Ваш номер? Какой у вас номер? – послышались возгласы со всех сторон.
– Да замолчите вы, дурачье, – донесся с улицы хриплый голос, – это писарь мирового судьи!
Воцарилось гробовое молчание. Дюток застал своего экспедитора в жилетке из желтой кожи – такой же, из какой изготовляют перчатки жандармов; из-под нее выглядывал вязаный шерстяной жилет довольно жалкого вида. Воображение поможет читателю нарисовать болезненное лицо человека, чья безволосая шея высовывалась из этой своеобразной скорлупы: голова его была повязана шелковым платком, закрывавшим часть лба и придававшим физиономии Серизе одновременно и отвратительный и устрашающий вид; впечатление это усиливал мигавший огонек свечи, оплывавшей в дешевом подсвечнике.
– Нет, так у нас ничего не получится, папаша Лантимеш, – говорил Серизе рослому старику лет семидесяти, который переминался перед ним с ноги на ногу, стискивая в руке колпак из красной шерсти, снятый им с лысой головы.
Сквозь распахнутую, изрядно поношенную рабочую блузу старика можно было увидеть голую грудь, поросшую седыми волосами.
– Вы уж скажите мне, зачем вам такие деньги, – продолжал ростовщик. – Давая сто франков, даже в расчете получить за них сто двадцать, я должен знать, что вы затеваете. Подобную сумму не швыряют на ветер, это не собака, что кидается в любую подворотню…
Пятеро остальных клиентов, среди которых были две кормящие матери, причем одна что-то вязала, а другая держала ребенка у груди, расхохотались.
Увидя Дютока, Серизе почтительно встал и быстро направился ему навстречу, бросив на ходу:
– У вас есть время подумать. Повторяю, меня весьма смущает, зачем понадобилось сто франков старику – совладельцу слесарной мастерской.
– Ну, а если речь идет об изобретении! – воскликнул старый рабочий.
– И вы думаете довести его до конца с жалкой сотней франков!.. Вы ничего не смыслите в делах, тут потребуется не меньше двух тысяч франков, – вмешался Дюток. – Ведь нужен патент, нужны покровители…
– Это верно, – подтвердил Серизе, уже давно мечтавший о таком случае. – Вот что, папаша Лантимеш, приходите-ка завтра часов в шесть утра, и мы потолкуем. Коли речь идет об изобретении, следует говорить без свидетелей…
Когда Серизе подошел к Дютоку, тот быстро сказал ему:
– Если дело стоящее, я вхожу в долю!..
– Вы что ж, поднялись на заре только для того, чтобы сообщить мне об этом? – спросил недоверчивый Серизе, уже выведенный из себя словами «я вхожу в долю». – Ведь вы могли бы дождаться нашей встречи в канцелярии.
И он искоса поглядел на Дютока; тот сбивчиво, мешая правду с вымыслом, заговорил о Клапароне и о необходимости более энергично заняться делами Теодоза. Затем он вышел, назначив свидание Серизе.
– Вы вполне могли бы дождаться, пока я приду утром в канцелярию суда, – повторил Серизе, провожая Дютока к двери.
– Вот еще один, – пробормотал он, возвращаясь к столу. – Думается, он наводит тень на плетень и старается сбить меня с толку… Ну, что ж, если надо будет, я плюну на должность экспедитора… А, это вы, кумушка?! – воскликнул он. – Вы, как я вижу, тоже изобретаете, но только… Детей… Хоть это занятие и не новое, но весьма забавное!
Вряд ли стоит подробно останавливаться на встрече трех компаньонов, тем более, что все то, о чем они условились, было затем пересказано Теодозом мадемуазель Тюилье. Необходимо только заметить, что ловкость, выказанная ла Перадом, почти испугала Серизе и Дютока; банкир бедняков начал даже подумывать о том, не пора ли ему выйти из игры, ибо партнеры оказались слишком сильными игроками. Любой ценой оказаться в выигрыше, одержать верх над самыми ловкими, не останавливаясь даже перед плутовством, – вот честолюбивое стремление, присущее всем истинным друзьям зеленого сукна. Это замечание объяснит читателю, почему ла Перада ожидал вскоре ужасный удар.
Впрочем, адвокат хорошо знал людей, с которыми ему приходилось иметь дело. И поэтому он играл в присутствии обоих своих сообщников роль, утомлявшую его едва ли не больше, чем постоянное напряжение всех душевных сил и ума, которого требовала от него многоликая натура и многообразная деятельность. Дюток был великим плутом, а Серизе некогда играл в комедиях, оба умели притворяться на славу. Бесстрастный лик в духе Талейрана не мог служить подходящей маской для провансальца, люди, в чьих когтях он находился, быстро бы его раскусили, и поэтому ему приходилось изображать добродушного, доверчивого, откровенного малого, а это – высшее искусство. Держать в заблуждении публику может любой хороший актер, но обмануть мадемуазель Марс, Фредерика Леметра, Потье, Тальмá, Монроза способен только выдающийся артист.
Вот почему после пресловутого совещания в ресторане ла Перада, столь же проницательного, как и Серизе, мучил тайный страх; игра подходила к концу, и страх этот временами леденил ему кровь, бросал то в жар, то в холод, Теодоз уподоблялся игроку, который, поставив последнюю ставку, лихорадочно следит взглядом за вертящимся шариком рулетки. В такие минуты чувства человека приобретают необычайную остроту, а ум работает с такой головокружительной быстротой, с какой работает ум ученого, расширяющего границы человеческого познания.
На следующий день после беседы со своими компаньонами адвокат отправился обедать к Тюилье; под тем предлогом, что им следует нанести визит г-же де Сен-Фондриль, супруге знаменитого ученого, с которой они хотели ближе познакомиться, Тюилье увел жену из дому и оставил Теодоза наедине с Бригиттой. Ни сам Тюилье, ни его сестра, ни Теодоз не заблуждались относительно истинного смысла этой комедии, однако бывший красавец времен Империи пышно именовал свой поступок «дипломатическим».
– Молодой человек, не злоупотребляй невинностью моей сестры, относись к ней с должным почтением, – торжественно изрек Тюилье перед уходом.
– Скажите, мадемуазель, – начал Теодоз, придвигая свое кресло к глубокому креслу, в котором сидела Бригитта, занятая вязанием, – вы уже подумали о том, что следует расположить коммерсантов нашего округа в пользу Тюилье?..
– Но как это сделать? – спросила Бригитта.
– Насколько мне известно, вы поддерживаете деловые отношения с Барбе и Метивье.
– Ах, вы совершенно правы!.. Клянусь честью, вас разиней не назовешь! – сказала она после короткого молчания.
– Когда любишь людей, стараешься им услужить! – наставительно ответил Теодоз с почтением в голосе.
Нелегкая битва, которую Теодоз вел вот уже почти два года, вступала в решающую фазу: победить подозрительность старой девы было для него столь же важно, как для Наполеона овладеть важнейшим редутом под Москвой. Он должен был околдовать Бригитту так, как дьявол, по мнению людей, живших в средние века, околдовывал свою жертву; иначе говоря, ему надо было добиться того, чтобы она никогда не смогла высвободиться из-под его чар. Уже три дня кряду ла Перад обдумывал эту задачу и хорошо понимал все ее трудности. Лесть – самое надежное средство в руках ловкого человека – была бессильна в отношении старой девы, которая давно уже избавилась от всяких иллюзий. Но для человека с несгибаемой волей не существует непреодолимых преград, и люди, подобные Ламарку, всегда найдут способ овладеть своим островом Капри. Вот почему мы полагаем невозможным что-либо опустить из поучительной сцены, разыгравшейся в тот вечер, в ней все важно: паузы, потупленные взоры, многозначительные взгляды, модуляции голоса…
– Но вы уже представили немало доказательств своей любви к нам, – заметила Бригитта.
– Ваш брат говорил с вами?..
– Нет, он только предупредил меня, что вы собираетесь о чем-то со мной переговорить…
– Да, мадемуазель, ибо вы – всему дому голова. Однако, поразмыслив хорошенько, я пришел к выводу, что дело это чревато для меня большими опасностями. Так компрометировать себя можно лишь ради близких. Речь идет о целом состоянии, о тридцати или даже о сорока тысячах франков годового дохода, причем это не какая-нибудь там спекуляция… а недвижимое имущество!.. Необходимость раздобыть состояние для Тюилье навела меня на мысль… Такое желание как бы зачаровывает, я ему говорил… Ведь каждый, если он только не дурак, обязательно спросит себя: «Из-за чего он так хлопочет? Почему стремится делать нам добро?» И вот я разъяснил вашему брату, что, действуя в его интересах, я, смею надеяться, действую и в своих собственных. Для того, чтобы стать депутатом, совершенно необходимы две вещи: надо уплачивать ценз и надо чем-нибудь прославить свое имя. И если я из преданности помышляю о том, чтобы помочь Тюилье написать книгу о государственном кредите или еще о чем-нибудь в этом роде… то мне следует также подумать и о его состоянии… А потому вам совершенно не к чему отдавать ему дом…
– Не к чему отдавать его брату?.. Да я завтра же переведу дом на его имя! – воскликнула Бригитта. – Вы меня плохо знаете…
– Я вас, конечно, недостаточно знаю, – подтвердил ла Перад, – но многое мне о вас известно, и я сожалею, что с самого начала не посоветовался с вами, это следовало сделать сразу же после того, как я замыслил план, с помощью которого Тюилье будет избран муниципальным советником. Ведь уже завтра у него появятся завистники, нам предстоит нелегкая задача, надо внести замешательство в ряды соперников, выбить у них из рук оружие!
– Но вы говорили о деле, – остановила Теодоза Бригитта, – в чем же заключаются трудности, связанные с ним?
– Мадемуазель, трудности эти нравственного порядка… Я смогу служить вам с чистой совестью лишь после того, как побеседую со своим исповедником… Что же касается юридической стороны, о, тут вы можете быть совершенно спокойны: дело вполне законное, как вам известно, я принадлежу к корпорации парижских адвокатов, нравы там весьма строгие, и я никогда в жизни не предложил бы вам ничего предосудительного… Одно только меня внутренне успокаивает: ведь сам я не зарабатываю на всем этом ни гроша…
Бригитта сидела, как на угольях, лицо ее пылало, она разматывала и вновь наматывала клубок, не зная, как ей следует отнестись к словам Теодоза.
– В наше время, – сказала она, – недвижимость должна стоить по меньшей мере миллион восемьсот франков для того, чтобы она приносила годовой доход в сорок тысяч франков…
– Ну, а я вам обещаю показать дом, причем вы сами определите, сколько дохода он будет приносить, и я намерен сделать Тюилье владельцем этого дома за пятьдесят тысяч франков.
– Вот что я вам скажу, – воскликнула Бригитта, приходя в крайнее волнение, вызванное пробудившейся в ней алчностью, – если вы только этого добьетесь, то тогда, мой любезный господин Теодоз…
Она остановилась.
– Что же тогда, мадемуазель?
– Тогда, возможно, окажется, что вы хлопотали в своих собственных интересах…
– Ну, если Тюилье выдал мою тайну, я покидаю ваш дом.
Бригитта удивленно подняла голову.
– Он вам сказал, что я люблю Селесту?
– Нет, клянусь девичьей честью! – вырвалось у Бригитты. – Но я собиралась сама заговорить о ней.
– Вы намеревались предложить мне ее руку?.. О, да простит нам бог! Я хочу, чтобы она сама, вместе со своими родителями, пришла к этому решению и остановила выбор на мне… Нет, нет, молю вас только об одном: будьте благосклонны ко мне и не отказывайте в своем покровительстве… Я хочу, чтобы вы, как и Тюилье, пообещали в качестве единственной награды за мою преданность ваше влияние и вашу дружбу. Скажите, что вы станете относиться ко мне, как к сыну… И тогда я спрошу совета у вас… И поступлю так, как вы решите, даже не буду обращаться к исповеднику. Признаюсь, я уже два года внимательно изучаю членов семьи, в которую намерен войти, принеся вместо состояния свою энергию… ибо я выбьюсь в люди! Так вот, я убедился, что вам присуща честность, какой в нынешнем поколении не встретишь, что вы обладаете здравыми и непоколебимыми взглядами… Вы хорошо разбираетесь в делах, и очень приятно, когда в близких тебе людях есть все эти качества… С такой тещей, как вы, я был бы избавлен от множества мелких домашних забот, которые, если ими приходится заниматься, отвлекают человека от политической деятельности… Не скрою, я по-настоящему любовался вами в воскресенье вечером… Ах, вы были просто великолепны! Как быстро вы справились со всем! Не прошло и десяти минут, а столовая была уже готова для танцев… И как вы только умудрились, не выходя из дому, приготовить столько прохладительных напитков и такой превосходный ужин… «Вот, – сказал я себе, – женщина незаурядной энергии!..»
Ноздри Бригитты раздувались, она вдыхала аромат лести, которой были пропитаны слова молодого адвоката; взглянув на нее искоса, Теодоз убедился в своей победе. Ему удалось затронуть чувствительную струну в сердце старой девы.
– Ах! Просто я привыкла вести дом, для меня это дело знакомое, – пробормотала она.
– Я стану вопрошать вашу чистую, ничем не запятнанную совесть! – продолжал Теодоз. – О, этого будет вполне достаточно!
Он встал с кресла, затем снова сел и проговорил:
– Вот в чем суть нашего дела, дорогая тетушка… ибо вы в каком-то смысле будете моей тетушкой…
– Замолчите, проказник! – потребовала Бригитта. – Говорите о деле…
– Я буду с вами откровенен и стану называть вещи своими именами. Заметьте, что, поступая так, я компрометирую себя, ибо эти тайны стали мне известны в силу моего положения адвоката… Мы с вами вместе, можно сказать, совершаем своего рода служебное преступление! Некий парижский нотариус стакнулся с одним архитектором, они приобрели земельные участки и начали там строить дома. И вот тут-то компаньоны потерпели крах… Они ошиблись в расчетах… Впрочем, нас это мало интересует… Среди домов, выстроенных этой незаконной компанией, ибо нотариусы не имеют права участвовать ни в каких деловых начинаниях, есть один, он не закончен и поэтому пойдет за четверть цены, его продадут тысяч за сто, хотя земля и строения обошлись бывшим владельцам в добрых четыреста тысяч франков. Дом почти готов, осталось лишь завершить внутреннюю отделку, ее стоимость нетрудно подсчитать, к тому же все нужные материалы уже лежат у подрядчиков, и они уступят их по дешевке, так что придется израсходовать дополнительно не больше пятидесяти тысяч франков. Он так выгодно расположен, что после уплаты налогов станет приносить не меньше сорока тысяч франков годового дохода. Дом целиком построен из тесаного камня, его внутренние стены сложены из песчаника, фасад украшен роскошной скульптурой, она обошлась в двадцать тысяч франков. Окна в нем из зеркального стекла, а задвижки на окнах новой системы, их называют шпингалеты.
– Все это прекрасно, но в чем же трудность?
– Вот в чем: нотариус надумал сохранить для себя столь лакомый кусочек пирога, уплывающего у него из рук, для этого он воспользовался помощью одного из друзей, оказавшихся в числе заимодавцев, которые потребовали продать строение и земли с торгов ввиду банкротства владельцев. Было решено не доводить дело до суда, чтобы не уплачивать крупных судебных издержек, продажа состоится на основе полюбовного соглашения. И тогда нотариус, решивший приобрести дом в собственность, обратился к одному из моих клиентов, которого он задумал сделать своим подставным лицом. А мой клиент – человек бедный – все рассказал мне. Вот его слова: «Речь идет о целом состоянии, если выхватить его из-под носа у нотариуса…»
– В коммерции такое происходит сплошь да рядом!.. – быстро сказала Бригитта.
– Если бы вся трудность сводилась к этому, – продолжал Теодоз, – тут можно было бы ответить так, как один из моих друзей ответил своему ученику, который жаловался, что, дескать, очень трудно создавать шедевры живописи. «Ах, мой мальчик, – сказал он, – кабы дело обстояло иначе, то любой лакей малевал бы картины!» Видите ли, мадемуазель, если нам и удастся провести этого ужасного нотариуса, который, поверьте, вполне того заслуживает, ибо он разорил немало порядочных людей, то обмануть его во второй раз будет необычайно трудно, так как он человек весьма проницательный, хотя и нотариус. Когда недвижимое имущество продается с торгов, заимодавцы, если они недовольны вырученной суммой и считают, что понесут слишком большие убытки, имеют право в течение определенного срока предложить более высокую цену и сохранить недвижимость за собой. Если мы не сможем перехитрить этого хитреца и заставить его пропустить срок, во время которого он имеет право набавить цену и таким образом приобрести дом, нам придется придумать какую-нибудь новую ловушку. Но это уже выходит за рамки законности… Имею ли я право пойти на такой шаг даже в интересах семьи, членом которой рассчитываю стать?.. Вот о чем я вопрошаю себя уже третий день…
Бригитта, надо сознаться, заколебалась, и тогда Теодоз пустил в ход свой последний козырь.
– У вас есть целая ночь для размышлений, завтра мы снова обо всем потолкуем…
– Послушайте, дитя мое, – проговорила Бригитта, глядя на адвоката почти влюбленными глазами, – прежде всего надо бы посмотреть дом. Где он находится?
– Возле церкви Мадлен! Через десять лет там будет центр Парижа! Если вы помните, люди думали об этих участках уже в тысяча восемьсот девятнадцатом году! Состояние банкира дю Тийе связано с этой аферой… Пресловутое банкротство нотариуса Рогена которое наделало столько шума в Париже, нанесло тяжелый удар престижу корпорации нотариусов и послужило причиной гибели известного парфюмера Бирото, также связано с нею. Но земельными участками вздумали спекулировать слишком рано.
– Я припоминаю эти события, – заметила Бригитта.
– Дом, вне всякого сомнения, можно будет закончить к концу года, а в середине будущего года вы уже сумеете сдавать квартиры внаем.
– Можем ли мы завтра туда поехать?
– Милая тетушка, я весь к вашим услугам.
– Да, вот что! Не называйте меня, пожалуйста, так в присутствии посторонних… Что касается дела, – продолжала она, – то нельзя ничего сказать, пока не увидишь дом…
– Дом шестиэтажный, у него девять окон по фасаду, прекрасный двор, четыре лавки, он расположен на перекрестке. О, нотариус знает толк в таких вещах! Да, кстати, могут произойти различные политические события, и государственная рента, как и остальные ценные бумаги, полетит кувырком. Будь я на вашем месте, я бы продал все ценные бумаги, принадлежащие госпоже Тюилье и вам, а на вырученные деньги приобрел для Тюилье прекрасный дом. А затем обратил бы все будущие сбережения на то, чтобы восстановить состояние этой святоши… Разве можно рассчитывать, что курс государственной ренты будет выше, чем сегодня? Сто двадцать два! Ведь это просто баснословная цифра, торопитесь же.
Бригитта облизывала губы: перед ней открывалась возможность сохранить свой капитал и обогатить брата за счет состояния его жены.
– Тюилье совершенно прав, – сказала она Теодозу, – вы редкий человек и далеко пойдете…
– Он пойдет к славе впереди меня! – ответил Теодоз с простодушием, тронувшим сердце старой девы.
– Вы станете членом нашей семьи, – проговорила она.
– Я предвижу немало препятствий, – возразил Теодоз, – госпожа Тюилье немного взбалмошна, она меня не любит.
– Ну, хотела бы я посмотреть, посмеет ли она пикнуть! – вырвалось у Бригитты. – Давайте делать дело, если только его можно сделать, – продолжала она, – а уж о ваших интересах я сама позабочусь.
– Тюилье, член генерального совета, владелец дома, приносящего свыше сорока тысяч франков годового дохода, награжденный орденом, автор серьезного и важного политического труда… станет депутатом во время выборов в палату тысяча восемьсот сорок второго года. Но, согласитесь сами, милая тетушка, что такую преданность, какую выказываю я, можно испытывать лишь к будущему тестю…
– Вы правы.
– Не скрою, у меня нет состояния, но зато я удвою ваше. Если это дело пройдет гладко, я найду еще такие же…
– Пока не увижу своими глазами дом, – заявила старая дева, – я ничего не могу сказать…
– Отлично! Наймите завтра коляску и поедем. Утром у меня будет разрешение на осмотр.
– До завтра, в полдень, – ответила Бригитта, протягивая Теодозу руку в знак того, что они пришли к соглашению.
Однако адвокат запечатлел на ней такой нежный и вместе с тем такой почтительный поцелуй, какой еще ни разу в жизни не выпадал на долю старой девы.
– Прощайте, дитя мое! – проговорила она, когда Теодоз выходил из комнаты.
Бригитта быстро позвонила и, когда на пороге показалась одна из служанок, приказала ей:
– Жозефина, немедленно ступайте к госпоже Кольвиль и попросите ее пожаловать ко мне.
Через четверть часа Флавия уже входила в гостиную, по которой старая дева прохаживалась в лихорадочном возбуждении.
– Моя дорогая, вы должны оказать мне большую услугу, она будет иметь значение и для нашей прелестной Селесты… Вы знакомы с Туллией, танцовщицей Оперы, в свое время брат прожужжал мне о ней все уши…
– Я знакома с ней, дорогая Бригитта. Но она уже давно не танцовщица, теперь она графиня дю Брюэль. Ее муж – пэр Франции!..
– Привязана ли она к вам по-прежнему?
– Мы уже много лет не встречаемся…
– Неважно! Насколько мне известно, богатый подрядчик Шаффару доводится ей дядей, – продолжала старая дева. – Он богат и стар. Поезжайте к вашей давнишней приятельнице и получите у нее записочку к дяде, пусть она черкнет ему, что он окажет ей большую услугу, если даст вам дружеский совет, за которым вы к нему обратитесь, а мы с вами завтра заедем к нему в час дня. Но только пусть она попросит его держать все в глубочайшем секрете! Поезжайте, дитя мое! Наша милая Селеста будет миллионершей и получит из моих рук – слышите, из моих рук! – мужа, а он уж поможет ей занять подобающее место в свете.
– Хотите, я назову вам первую букву его имени?
– Попытайтесь…
– Теодоз де ла Перад! И вы совершенно правы, этот человек, опираясь на поддержку такой женщины, как вы, способен стать министром!..
– Сам господь бог послал его нам! – воскликнула старая дева.
В эту минуту из гостей возвратились г-н и г-жа Тюилье.
Пять дней спустя, в начале апреля, в газете «Монитер» было опубликовано извещение, приглашавшее жителей принять двадцатого апреля участие в избрании члена муниципального совета. Такие же извещения были расклеены на стенах зданий. Вот уже месяц, как пришло к власти правительство, получившее наименование «Министерства первого марта». Бригитта пребывала в отличнейшем настроении, она убедилась в справедливости утверждений Теодоза. Папаша Шаффару осмотрел дом сверху донизу и признал его шедевром зодчества: бедняга Грендо, архитектор, тесно связанный с нотариусом и Клапароном, полагал, что старается для своей пользы; дядюшка г-жи дю Брюэль, решив, будто он действует в интересах своей племянницы, заявил, что с тридцатью тысячами франков он закончит дом. Поэтому уже целую неделю Бригитта смотрела на ла Перада как на божество; с простодушным цинизмом она всячески доказывала ему, что нельзя упускать состояние, которое само плывет в руки.
– Ну что ж, – говорила она адвокату, увлекая его в глубь сада, – если тут и есть небольшой грех, вы позднее покаетесь в нем своему исповеднику…
– Послушай, дружище! – воскликнул подошедший Тюилье, – какого черта ты колеблешься, ведь речь идет о твоих будущих родственниках…
– Я, конечно, решусь на это, – отвечал ла Перад взволнованным голосом, – но поставлю вам определенные условия. Я не хочу, чтобы мое стремление жениться на Селесте приписывали жадности и алчности… Если уж мне суждено испытывать из-за вас угрызения совести, постарайтесь по крайней мере, чтобы в глазах посторонних я оставался таким, каков я есть. Старина Тюилье, ты запишешь дом, который я тебе добуду, на имя Селесты, но без права пользования доходами.
– Это справедливо…
– Я не желаю, чтобы вы тратились, – продолжал Теодоз, – и пусть милая тетушка помнит об этом при подписании брачного договора. Все наличные деньги, которые у вас останутся, поместите в государственные бумаги и приобретите их на имя госпожи Тюилье, пусть она делает с ними что угодно. Я хочу, чтобы мы жили одной семьей; если я буду спокоен за свое будущее, то уж поверьте, сумею составить себе состояние!
– Это мне по душе! – вскричал Тюилье. – Вот речи порядочного человека.
– Позвольте мне запечатлеть на вашем лбу поцелуй, дитя мое, – сказала старая дева. – Но так как приданое все-таки необходимо, то мы дадим за Селестой шестьдесят тысяч франков.
– Они пойдут ей на наряды, – сказал ла Перад.
– Мы все трое – люди чести, – заявил Тюилье. – Все сказано, вы поможете нам довести до конца дело с домом, потом мы совместно напишем мой политический труд, и вы добьетесь моего награждения орденом…
– Это так же надежно, как то, что к первому мая вы будете муниципальным советником! Но только, мой добрый друг, и вы, милая тетушка, храните наш договор в глубочайшей тайне и не обращайте внимания на клевету, жертвой которой я сделаюсь, как только те, которых я оставлю в дураках, обрушатся на меня… Ведь я, должен вас заранее предупредить, прослыву и проходимцем, и плутом, и опасным человеком, и иезуитом, и честолюбцем, и ловцом состояний… Сумеете ли вы сохранить спокойствие перед лицом подобных обвинений?
– Ни о чем не тревожьтесь, – ответила Бригитта.
С этого дня Тюилье сделался добрым другом. Так называл его Теодоз, причем голос его выражал столько оттенков нежности и любви, что Флавия только диву давалась. Но слова «милая тетушка», так ласкавшие слух Бригитты, произносились лишь в семейном кругу Тюилье и только иногда – в присутствии Флавии; при посторонних Теодоз лишь изредка нашептывал их на ухо Бригитте. Деятельность, которую развили Теодоз, Дюток, Серизе, Барбе, Метивье, Минары, Фельоны, Лодижуа, Кольвиль, Прон, Барниоль и все их друзья, была поистине беспримерной. Люди и видные и малозаметные приложили руку к делу. Кадене завербовал в своем квартале тридцать голосов, причем за семерых избирателей, не знавших грамоты, он собственноручно заполнил бюллетени. Тридцатого апреля Тюилье был избран членом генерального совета департамента Сены подавляющим большинством голосов: лишь шестьдесят человек не голосовали за него. Первого мая Тюилье вместе с другими членами муниципалитета отправился в Тюильри поздравить короля с днем рождения; он возвратился оттуда сияющий. Подумать только: он вступил во дворец вслед за Минаром!
Десять дней спустя желтые афиши возвестили о продаже пресловутого дома, стоимость которого была определена в семьдесят пять тысяч франков; торги должны были состояться в конце июля. В связи с этим между Клапароном и Серизе произошла беседа, в ходе которой Серизе пообещал Клапарону, разумеется, на словах, сумму в пятнадцать тысяч франков, если тот сумеет добиться, чтобы нотариус пропустил срок, когда можно повысить цену на дом. Мадемуазель Тюилье, предупрежденная Теодозом, полностью примкнула к этому тайному соглашению, поняв, что необходимо заплатить участникам низкого заговора. Деньги Серизе должен был передать достойный адвокат. Глубокой ночью Клапарон встретился на площади Обсерватуар со своим сообщником – нотариусом, чья контора по решению дисциплинарной палаты парижских нотариусов была уже назначена к продаже, но пока еще оставалась непроданной.
Этот нотариус, молодой человек, преемник Леопольда Аннекена, задумал обогатиться с головокружительной быстротой: он еще не потерял надежду на лучшее будущее и принимал все меры, чтобы его обеспечить. В этих видах он решил купить за десять тысяч франков возможность выйти незапятнанным из грязной аферы: деньги он обещал вручить Клапарону только после того, как фиктивный владелец дома подпишет дарственную на его, нотариуса, имя. Молодой человек знал, что сумма эта представляет собою весь капитал Клапарона, который должен послужить бедняге средством поправить дела; поэтому он был уверен в своем сообщнике.
– Кто еще в Париже способен заплатить мне такую огромную сумму в качестве комиссионного вознаграждения? – сказал Клапарон нотариусу. – Так что спите себе спокойно. Я подыщу на роль подставного лица человека порядочного, но недалекого, которому и в голову не придет подложить нам свинью. У меня на примете один отставной чиновник, вы ему дадите деньги для уплаты за дом, а он подпишет дарственную на ваше имя.
Когда стало ясно, что нотариус заплатит Клапарону не больше десяти тысяч, Серизе предложил своему бывшему компаньону двенадцать тысяч, потребовав с Теодоза пятнадцать; однако про себя Серизе решил, что Клапарону хватит и трех тысяч. Беседы, происходившие между этими четырьмя людьми, были сдобрены прекраснодушными словами о высоких чувствах и неподкупной честности, заверениями в том, что те, кому суждено заниматься общими делами, должны помогать друг другу. Пока происходила вся эта подспудная деятельность в интересах Тюилье, которому Теодоз обо всем рассказывал, подчеркивая свое глубочайшее отвращение к столь низким интригам, оба приятеля обдумывали будущий великий труд доброго друга; мало-помалу член генерального совета департамента Сены проникся убеждением, что он никогда ничего бы не достиг без помощи гениального человека, чей ум приводил его в восхищение и чьи таланты поражали его. С каждым днем в душе Тюилье росло желание сделать Теодоза своим зятем. Поэтому начиная с мая месяца адвокат не реже четырех раз в неделю обедал в обществе своего доброго друга.
В эту пору Теодоз полновластно царил в семействе Тюилье, все друзья дома отзывались о нем с похвалой. И вот почему. Фельоны, слыша комплименты по адресу адвоката, на которые Бригитта и Тюилье не скупились, боялись вызвать неудовольствие этих важных особ, хотя комплименты порой казались им преувеличенными и неуместными. То же происходило и с Минарами. Впрочем, поведение ла Перада было безупречным, он обезоруживал самых подозрительных тем, что держал себя скромно и незаметно. В гостиной он не поднимал голоса, не вступал в разговоры, и Фельоны, как и Минары, решили, что Бригитта и Тюилье измерили и взвесили шансы Теодоза и нашли их слишком легковесными, а на него самого смотрели как на молодого человека, могущего при случае оказаться полезным.
– Бедняга надеется, что моя сестра упомянет его в завещании, – сказал однажды Тюилье Минару. – Он ее плохо знает.
Эта фраза, придуманная Теодозом, успокоила подозрительного Минара.
– Конечно, он нам очень предан, – заметила как-то старая дева, беседуя с Фельоном, – но ведь и он нам многим обязан: мы не берем с него за жилье, и он чуть ли не ежедневно обедает у нас…
Слова, сказанные старой девой по наущению Теодоза, стали достоянием всех семей, посещавших салон Тюилье, и рассеяли последние опасения насчет Теодоза; сам адвокат подтверждал суждения, высказанные Тюилье и его сестрой, ибо вел себя с подобострастием прихлебателя. За игрой в вист он поправлял промахи своего доброго друга. Когда Тюилье или его сестра изрекали какие-нибудь мещанские благоглупости, он улыбался с благоговейным и туповатым видом, достойным самой г-жи Тюилье.
Адвокат уверенно шел к цели, он совершенно спокойно относился к презрению соперников, они даже служили ему удобной ширмой. На протяжении четырех месяцев он напоминал змею, которая сохраняет полную неподвижность, медленно переваривая добычу. Вот почему он порою убегал в сад с Кольвилем или с Флавией, чтобы немного посмеяться, сбросить маску, отдохнуть от притворства и собраться с силами; его напряжение находило выход в нервических порывах страсти, обращенных к будущей теще, которую эти порывы одновременно пугали и трогали.
– Неужели вам не жаль меня? – спрашивал он Флавию накануне торгов, на которых Тюилье приобрел дом за семьдесят пять тысяч франков. – Такой человек, как я, должен ступать крадучись, точно кошка, глотать слетающие с языка эпиграммы, таить в себе желчь!.. И в довершение всего сносить ваши отказы!
– Друг мой, дитя мое!.. – лепетала Флавия в полном отчаянии.
Эти восклицания, подобно термометру, указывают, до какого накала довел ловкий актер свою интрижку с Флавией. Бедная женщина разрывалась между голосом сердца и велениями морали, между требованиями религии и таинственным зовом страсти.
Между тем юный Феликс Фельон с преданностью и усердием, достойными высшей похвалы, давал уроки сыну Кольвиля; он не жалел времени, полагая, что действует в интересах своей будущей семьи. Чтобы как-то отблагодарить его за внимание, Кольвили по совету Теодоза каждый четверг приглашали преподавателя математики к обеду, в этот день у них неизменно обедал и адвокат. Флавия дарила Феликсу то вышитый ею кошелек, то домашние туфли, то портсигар, и молодой человек, вне себя от счастья, восклицал:
– Я и без того вознагражден, сударыня, той радостью, какую черпаю в сознании, что могу быть вам полезен…
– Мы не богаты, сударь, – отвечал Кольвиль, – но, черт побери, мы не хотим быть неблагодарными!
Старик Фельон довольно потирал руки, слушая рассказы сына, возвращавшегося с обедов у Кольвилей: он уже видел своего дорогого, своего благородного Феликса супругом Селесты…
Однако чем больше Селеста любила Феликса, тем строже и сдержаннее она вела себя с ним; помимо всего прочего, это объяснялось тем, что однажды вечером мать, отчитав ее, сказала:
– Не подавайте никакой надежды сыну Фельона, дочь моя. Ни ваш отец, ни я не можем выдать вас замуж по собственному выбору, ведь не мы даем вам приданое. Вам надо думать не о том, чтобы понравиться преподавателю, у которого нет ни гроша за душой, а о том, чтобы упрочить ту привязанность, какую питают к вам мадемуазель Бригитта и ваш крестный отец. Если ты не хочешь убить свою мать, мой ангел, да, да, убить меня… то следуй, не рассуждая, моим советам и твердо помни, что мы прежде всего печемся о твоем счастье.
Как уже говорилось, торги были назначены на конец июля; за месяц до этого Теодоз посоветовал Бригитте привести в порядок денежные дела, и она продала все ценные бумаги, принадлежавшие ей самой и ее невестке. Все помнят вошедший в историю договор четырех держав, прозвучавший как оскорбительный вызов для Франции, но мы считаем уместным напомнить катастрофическое падение государственной ренты, имевшее место в июле – августе 1840 года и вызванное перспективой войны, развязать которую требовал господин Тьер; курс ренты упал на двадцать франков, и трехпроцентная рента шла по шестидесяти франков при номинальной цене в сто франков. Но это еще не все: финансовый крах оказал влияние на стоимость недвижимости в Париже, она упала в цене, и все те, кто продавал, вынуждены были отдавать дешевле. Эти события сделали Теодоза в глазах Бригитты и Тюилье истинным пророком, гениальным человеком. В конечном счете Тюилье стал владельцем дома, за который он заплатил на торгах семьдесят пять тысяч франков. Нотариус, чье положение еще больше пошатнулось в связи с политическим кризисом и чья контора была к тому времени уже продана, счел необходимым уехать на несколько дней из города, захватив с собой десять тысяч франков, предназначенных для Клапарона. По совету Теодоза Тюилье поручил Грендо закончить дом, что архитектор и сделал, полагая, что он по-прежнему работает на нотариуса; все последнее время на постройке ничего не делалось, рабочие сидели сложа руки, и архитектор с тем большей охотой принялся заканчивать свое любимое детище.
За двадцать пять тысяч франков он покрыл позолотой четыре гостиных!.. Теодоз потребовал, чтобы в счетах вместо этой суммы была указана сумма в пятьдесят тысяч франков. Дом, приобретенный Тюилье, во много раз умножил его вес в обществе. Что касается нотариуса, то он совсем потерял голову перед лицом политических событий, обрушившихся на него, как гром среди ясного неба. Уверенный в своем будущем владычестве, черпая силу в сознании, что он оказал столько услуг, приобретая все большее влияние на Тюилье благодаря труду, который они вместе писали, пользуясь все возраставшим расположением Бригитты, которой нравилась сдержанность молодого человека, ни разу не упомянувшего о своих материальных затруднениях и даже не заикнувшегося о деньгах, Теодоз вел себя отныне менее подобострастно, чем раньше. Однажды Бригитта и Тюилье сказали ему:
– Ничто не может лишить вас нашего уважения, чувствуйте себя здесь, как дома. Мнение Минара и Фельона, которых вы почему-то побаиваетесь, интересует нас не больше, чем какая-нибудь строфа из стихотворения Виктора Гюго, а потому пусть себе болтают… Подымите голову!
– Эти люди еще нужны нам для избрания Тюилье в Палату депутатов, – ответил Теодоз. – Следуйте и впредь моим советам, ведь вы находите их разумными, не так ли? Когда дом будет окончательно принадлежать вам, станет ясным, что он достался чуть ли не даром, ибо вы сможете приобрести по шестидесяти франков стофранковую ренту, приносящую три процента дохода, на имя госпожи Тюилье и таким образом восстановить ее состояние в прежних размерах… Дождитесь только, пока кончится срок, во время которого заимодавцы имеют право повысить цену на дом, и держите наготове пятнадцать тысяч франков для наших мошенников.
Бригитта не стала ждать: она собрала все свои капиталы, за исключением суммы в сто двадцать тысяч франков, и, чтобы восстановить состояние невестки в прежних размерах, приобрела на двести сорок тысяч франков трехпроцентную ренту на имя г-жи Тюилье. Рента эта приносила годовой доход в размере двенадцати тысяч франков; такую же ренту, приносившую десять тысяч франков дохода, она приобрела на свое имя, дав себе слово не заниматься больше столь хлопотливым делом, как учет векселей. Теперь ее брат, помимо пенсии, должен был располагать сорока тысячами франков дохода, г-жа Тюилье становилась обладательницей двенадцати тысяч франков ренты, а сама Бригитта – обладательницей восемнадцати тысяч франков ренты, что вместе составляло семьдесят тысяч франков годового дохода, не считая дома, где они жили, приносившего им еще восемь тысяч франков в год.
– Отныне мы стоим не меньше, чем Минары! – с торжеством заявила Бригитта.
– Еще рано праздновать победу, – заметил на это Теодоз, – льготный срок, во время которого можно повысить цену на дом, истекает лишь через неделю. Я все это время был занят вашими делами, а мои между тем пришли в полный упадок…
– Милый мальчик, у вас есть друзья! – воскликнула Бригитта. – И если вам нужны двадцать пять луидоров, можете получить их у нас в любую минуту!..
При этих словах Теодоз с улыбкой взглянул на Тюилье; тот поспешил увести адвоката в сад и сказал ему:
– Простите мою бедную сестру, она смотрит на мир сквозь кухонное окно… Если вам понадобится двадцать пять тысяч франков, я вам охотно одолжу их… из первых поступлений арендной платы от жильцов нового дома, – прибавил он.
– Тюилье, петля вокруг моей шеи затягивается! – воскликнул Теодоз. – С тех пор, как я стал адвокатом, я должен по векселям… Однако тише!.. – прибавил Теодоз, испуганный тем, что выдал свою тайну. – Я в руках негодяев… Но я хочу их проучить…
Теодоз неспроста открыл свой секрет Тюилье, тому были две причины: он хотел испытать Тюилье и одновременно предупредить ужасный удар в спину, который могли ему нанести сообщники в мрачной и скрытой борьбе, завязавшейся между ними. Вот несколько слов, объясняющих, в каком тяжелом положении оказался адвокат.
Несколько лет назад Теодоз дошел до последнего предела нищеты, одежда его превратилась в лохмотья, и он лежал в постели, в нетопленной мансарде, где его навещал лишь Серизе. На юноше была последняя рубаха. Три дня подряд он питался одним только черствым хлебом, нарезая его тонкими ломтиками, и с отчаянием спрашивал себя: «Что ж делать дальше?» В это самое время и вышел из тюрьмы его покровитель, получивший помилование. Здесь незачем говорить о планах, которые строили два этих человека при отблесках пламени от горевших в камине дров; у одного из приятелей не было на плечах ничего, кроме одеяла, да и то принадлежало хозяйке, у другого – не было за душой ничего, кроме низменных расчетов. На следующее утро Серизе, успевший повидаться с Дютоком, явился к Теодозу с панталонами, жилетом, сюртуком, шляпой и сапогами, купленными в Тампле, и повез молодого человека обедать. Провансалец, очутившись в ресторане Пенсон, на улице Ансьен-Комеди, в мгновение ока проглотил пол-обеда, стоившего сорок семь франков. За десертом, между двумя бокалами вина, Серизе сказал своему приятелю:
– Если ты подпишешь векселя на пятьдесят тысяч франков, я сделаю тебя адвокатом.
– Тебе потребуется на это не больше пяти тысяч франков, – возразил Теодоз.
– Ну, это уж тебя не касается, ты заплатишь пятьдесят тысяч – таков размер вознаграждения, которое господин, угощающий тебя сегодня царским обедом, и я хотим получить за то, чтобы устроить тебе выгодное дельце: ничем не рискуя, ты станешь адвокатом, приобретешь прекрасную клиентуру и получишь руку юной девицы с годовым доходом в двадцать, а то и в тридцать тысяч франков. Ни Дюток, ни я не можем на ней жениться, поэтому мы и решили одеть тебя, кормить, платить за твое жилье, обставить кабинет – словом, придать тебе вид порядочного человека… Но мы хотим иметь надежные гарантии. Дело, конечно, не во мне, я-то тебя хорошо знаю, но человек, по моей просьбе принявший в тебе участие… Мы снаряжаем тебя в поход, и потому тебе придется подписать векселя, причем на предъявителя. Если это приданое от нас ускользнет, придумаем что-нибудь еще… В конце концов, над нами не каплет… Мы дадим тебе подробные указания, в таком деле торопиться не следует, как говорят: тише едешь – дальше будешь!.. Вот тебе гербовая бумага…
– Человек, перо и чернила! – крикнул Теодоз.
– Люблю таких молодцов! – вырвалось у Дютока.
– Подписывай: «Теодоз де ла Перад» – и укажи: «Адвокат, улица Сен-Доминик-д'Анфер» – вот тут, возле слов: «Принимается к оплате в размере десяти тысяч». Мы сами проставим дату и предъявим иск, разумеется, без огласки, чтобы получить приказ о твоем задержании. Судовладельцы должны надежно обеспечить свои интересы, коль скоро бриг и его капитан находятся в море.
На следующий день после принятия Теодоза в корпорацию адвокатов пристав мирового суда по просьбе Серизе предъявил иск Теодозу, сделав это без огласки; он явился к адвокату поздно вечером, так что его никто не видел, и все было сделано по форме. Коммерческий суд выносит сотни подобных определений. Дело в том, что устав корпорации парижских адвокатов отличается необыкновенной суровостью. Корпорация адвокатов, как и корпорация поверенных, требует строгой дисциплины от своих членов. Достаточно какому-нибудь адвокату влезть в долги, угрожающие ему тюрьмой Клиши, и он будет немедленно исключен из списков адвокатуры. Поэтому Серизе по совету Дютока и принял против их подставного лица эти меры, которые надежно обеспечивали обоим сообщникам по двадцать пять тысяч франков из приданого Селесты. Подписывая векселя, Теодоз думал только о том, что отныне его существование будет обеспечено и он получит доступ к деятельности адвоката, но по мере того, как горизонт перед ним прояснялся, по мере того, как, успешно справляясь со своей ролью, он поднимался вверх по ступенькам социальной лестницы, молодой человек мечтал как можно скорее освободиться от своих компаньонов. И теперь, попросив у Тюилье двадцать пять тысяч франков, он надеялся сговориться с Серизе и выкупить за полцены свои векселя.
К величайшему сожалению, такого рода низменные сделки вовсе не редкость. Они сплошь да рядом происходят в Париже, принимая различные формы, и историк, стремящийся нарисовать точную и полную картину общества, не может их обойти. Дюток, закоренелый развратник, все еще должен был двадцать тысяч франков за свою должность и, надеясь на успех задуманного плана, уповал, по его собственному выражению, разделаться с долгами к концу 1840 года. До сих пор ни один из сообщников еще ничем не нарушил соглашения. Каждый сознавал собственную силу и угадывал размеры опасности. Поэтому все трое в равной мере испытывали недоверие друг к другу, шпионили один за другим, старательно подчеркивали доверие, якобы царившее между ними; их настороженность выдавали только мрачные взгляды и угрюмое молчание, возникавшее в те дни, когда взаимное подозрение сквозило в словах и жестах. Но за последние два месяца позиции Теодоза необыкновенно усилились и напоминали теперь укрепленный форт. Дюток и Серизе, однако, продолжали занимать подземный ход, который вел к этой крепости; они держали там бочки с порохом и постоянно горящий фитиль; достаточно было дуновения ветра, и пороховой погреб, а вместе с ним и форт взлетели бы на воздух.
Как известно, хищные звери настроены особенно свирепо в те минуты, когда они набрасываются на добычу, и такая минута приближалась для трех изголодавшихся тигров. Порою Серизе бросал на Теодоза яростные взгляды, подобные тем, какие дважды на протяжении этого столетия народ бросал на монархов; взгляды эти говорили: «Я сделал тебя королем, а сам пребываю в ничтожестве… Ибо тот, кто не владеет всем, ничем не владеет».
Зависть с неудержимой силой охватила душу Серизе. Дюток целиком находился во власти разбогатевшего экспедитора. Теодоз охотно развел бы костер, чтобы сжечь на нем векселя своих компаньонов, а заодно и их самих. Все трое так старательно скрывали свои мысли, что в конечном счете они именно поэтому становились явными. Теодоз испытывал все муки ада, думая о козырях противников, о возможном исходе игры и о своем будущем! Признание, которое он сделал Тюилье, было исторгнуто отчаянием; он измерил лотом глубину души этого буржуа и не нашел там ничего, кроме двадцати пяти тысяч франков.
«Надо продержаться еще месяц, – сказал он себе, возвратившись домой, – а потом видно будет!»
Он ощутил, как в нем поднимается ненависть к семейству Тюилье. Теодоз теперь безраздельно властвовал над красавцем времен Империи: роль гарпуна, вонзившегося в этого кита мелкой буржуазии, сыграл труд, озаглавленный «О налогах и погашении долгов», над которым совместно работали ла Перад и Тюилье; труд этот необыкновенно льстил самолюбию Жерома. Теодоз излагал в нем идеи, почерпнутые им в органе последователей Сен-Симона «Глоб»; он привел их в систему и расцветил своим красочным и выразительным стилем южанина. Практический опыт Тюилье немало помог адвокату. Играя на тщеславии глупца, этой необыкновенной чувствительной струне, он решил, пользуясь сим более чем скромным оружием, окончательно покорить своего покровителя. Как известно, характеры у людей разные: одних можно уподобить граниту, других – глине…
Поразмыслив, Теодоз пришел к заключению, что его признание – правильный шаг.
«Увидя, что я забочусь о его состоянии и возвращаю ему пятнадцать тысяч франков, хотя сам жестоко нуждаюсь в деньгах, – решил адвокат, – Тюилье будет смотреть на меня, как на воплощение честности».
Вот каким образом Клапарон и Серизе одурачили нотариуса в канун того дня, когда истекал срок, в течение которого можно было набавить цену на дом. Клапарон показал Серизе убежище нотариуса и сообщил ему пароль. Явившись туда, Серизе сказал:
– Один из моих друзей, Клапарон, которого вы хорошо знаете, попросил меня посетить вас. Послезавтра он ждет вас вечером в условленном месте с десятью тысячами франков. Бумага, нужная вам, уже готова, но я хочу присутствовать при том, как вы вручите ему деньги, ибо он мне должен пять тысяч франков… Предупреждаю вас, милостивый государь, что имя в дарственной еще не проставлено.
– Я буду вовремя, – пообещал бывший нотариус.
Незадачливый плут ждал до восхода солнца, и один из кредиторов, которому Серизе открыл его убежище с условием, что тот отдаст ему половину полученного долга, задержал нотариуса и взыскал с него шесть тысяч франков.
– Вот и тысяча экю, – пробормотал Серизе, – на них-то мы снарядим в путь Клапарона.
После этого Серизе снова направился к нотариусу и сказал ему:
– Сударь, Клапарон оказался негодяем! Он получил пятнадцать тысяч франков от человека, который купил дом и собирается оставить его за собой. Пригрозите, что вы откроете кредиторам место, где он скрывается, и обвините его в злостном банкротстве, тогда Клапарон отдаст вам половину.
Пришедший в ярость нотариус написал грозное письмо Клапарону. Тот смертельно перепугался ареста и пришел в полное смятение. Серизе взялся достать ему заграничный паспорт.
– Ты меня немало дурачил, Клапарон, – сказал ему Серизе, – но я лучше тебя. Слушай же: у меня есть всего-навсего тысяча экю… И я их дам тебе! Уезжай в Америку, попробуй там сколотить себе состояние, подобно тому, как я пытаюсь сделать это тут…
В тот же вечер Клапарон с помощью Серизе нарядился старухой и уехал дилижансом в Гавр. Серизе уже видел себя хозяином пятнадцати тысяч франков, которые Теодоз должен был уплатить Клапарону, и спокойно, не торопясь, поджидал адвоката. Экспедитор, человек поистине редкого ума, договорился по совету Дютока с одним из заимодавцев, обладателем векселей всего лишь на сумму в две тысячи франков, что тот в нужную минуту выступит с требованием повысить цену на проданный дом. Серизе рассчитывал получить дополнительно еще семь тысяч франков; они были нужны ему, чтобы осуществить точно такую же деловую операцию, какую осуществил Тюилье; мысль о ней подал совершенно растерявшийся от неожиданной беды Клапарон. Речь шла о доме на улице Жофруа-Мари, который продавался за шестьдесят тысяч франков. Вдова Пуаре давала Серизе десять тысяч франков, столько же предлагал ему торговец вином, не считая векселей на такую же сумму. Эти тридцать тысяч франков вместе с шестью тысячами франков, которыми располагал Серизе, и с теми деньгами, которые он рассчитывал получить, позволяли ему попытать счастье, тем более, что он надеялся в скором времени получить от Теодоза двадцать пять тысяч франков по векселям.
«Срок, во время которого можно было добиваться надбавки на продажную цену дома, прошел, – думал Теодоз, направляясь к Дютоку, чтобы попросить того вызвать Серизе. – Не попробовать ли мне освободиться от моей пиявки?»
– Вам придется потолковать об этом деле на дому у Серизе; ведь Клапарон скрывается у него, – ответил Дюток.
Вот почему Теодоз отправился между семью и восемью часами в логово банкира бедняков; письмоводитель еще утром предупредил того о предстоящем визите человека, на которого оба они сделали ставку.
Серизе принял ла Перада в отвратительной кухне, где приготовлялось дьявольское варево из человеческих невзгод и страданий; расхаживая по комнате, как два хищника в клетке, приятели вели такую беседу:
– Ты принес пятнадцать тысяч франков?
– Нет, но они уже у меня дома.
– А почему не в кармане? – язвительно спросил Серизе.
– Сейчас узнаешь, – ответил адвокат, успевший по пути с улицы Сен-Доминик на улицу Эстрапад принять решение.
Провансальца, которого компаньоны поджаривали на медленном огне, осенила спасительная мысль; она словно возникла в отблесках пламени. Опасность порою рождает озарения. Адвокат верил в силу откровенности, зная, что она не оставляет равнодушным никого, даже плута. Человек почти всегда проникается уважением к своему противнику, если тот, участвуя в дуэли, обнажает себя до пояса.
– Отлично! – сказал Серизе. – Начинаются обычные фокусы…
Он пробормотал эту фразу себе под нос, отчего она прозвучала еще более грозно.
– Ты создал мне великолепное положение, и я этого никогда не забуду, друг мой, – продолжал Теодоз прочувствованным голосом.
– Что-то ты сегодня больно учтив! – проворчал Серизе.
– Послушай, надеюсь, ты не сомневаешься в искренности моих намерений?
– Напротив, весьма сомневаюсь! – ответил ростовщик.
– Быть того не может.
– Я вижу, ты не хочешь выпустить из рук пятнадцать тысяч…
Теодоз пожал плечами и пристально посмотрел на Серизе, который, дивясь поведению своего подопечного, хранил молчание.
– Если бы ты был в моей шкуре и постоянно жил под наведенным на тебя дулом ружья, разве тебе не хотелось бы покончить с таким положением?.. Слушай внимательно. Ты занимаешься рискованным промыслом, и тебе небесполезно заручиться надежной поддержкой в судебном мире Парижа… Шествуя по своей стезе, я рассчитываю года через три стать помощником королевского прокурора или адвокатом королевского суда… Сегодня я предлагаю самую преданную дружбу, она тебе безусловно пригодится, а позднее я обещаю добиться для тебя выгодной должности. Вот мои условия…
– Ты еще ставишь условия! – крикнул Серизе.
– Через десять минут я принесу тебе двадцать пять тысяч франков, а ты возвратишь мне векселя…
– А Дюток? А Клапарон? – вырвалось у Серизе.
– Что тебе до них?.. – шепнул Теодоз на ухо своему дружку.
– Мило! – протянул Серизе. – И ты предлагаешь мне этот жульнический трюк, чтобы заодно прикарманить пятнадцать тысяч франков, которые тебе не принадлежат!..
– Ведь я прибавляю к ним еще десять тысяч… К тому же мы отлично знаем друг друга…
– Если ты смог вытянуть десять тысяч франков у своих буржуа, – быстро сказал Серизе, – тебе никто не мешает потребовать у них двадцать… За тридцать тысяч я согласен вступить с тобою в сговор… Откровенность за откровенность.
– Ты требуешь невозможного! – воскликнул Теодоз. – Кстати, если бы ты имел дело не со мной, а, скажем, с Клапароном, то твои пятнадцать тысяч франков приказали бы долго жить; ведь дом-то уже принадлежит Тюилье…
– Пойду скажу ему об этом, – ответил Серизе, направляясь в комнату, которую Клапарон покинул за десять минут до прихода Теодоза, нарядившись в женское платье.
Противники, как понимает читатель, говорили вполголоса, и если у Теодоза порою вырывалось громкое восклицание, Серизе жестом давал понять адвокату, что Клапарон может их услышать. Минут пять Теодоз напряженно прислушивался к бормотанию двух мужских голосов, испытывая жестокую тревогу: ведь ставкой в игре была его жизнь. Наконец Серизе спустился и подошел к своему компаньону; на устах его играла улыбка, глаза светились адским коварством, на лице была написана радость, которая могла испугать самого Люцифера.
– Не понимаю, что произошло! – проговорил он, пожимая плечами. – Но, оказывается, Клапарон – стреляный воробей, недаром он имел дело с крупными банкирами. Не успел я передать ему твои слова, как он расхохотался и сказал: «Я этого ожидал!..» И тебе придется завтра принести мне двадцать пять тысяч франков, о которых ты говорил, дружок, причем векселя останутся у меня.
– Это еще почему?.. – пробормотал Теодоз, испытывая непередаваемое ощущение в спине, словно сквозь его позвоночник пропустили электрический ток.
– Дом принадлежит нам! – выпалил Серизе.
– Каким образом?
– Клапарон потребовал повышения продажной цены от имени некоего десятника, одного из заимодавцев: этого малого зовут Совенью. По его поручению поверенный Дерош вчинил иск, и завтра утром вы получите уведомление… Это дело стоящее; Клапарон, Дюток и я, пожалуй, сложимся и сами купим дом… Что бы я делал без Клапарона? Мне пришлось забыть старые обиды… Да, да, я все простил ему, ты даже не поверишь, дружище, я обнял его! Так что тебе придется изменить свои условия…
Последняя фраза прозвучала особенно страшно, потому что Серизе сопроводил ее ужасной гримасой; он не отказал себе в удовольствии разыграть сцену из «Единственного наследника», не переставая наблюдать за поведением провансальца.
– О Серизе! – воскликнул Теодоз. – А я-то желал тебе добра!
– Говоря между нами, мой милый, ты этого заслужил!..
И Серизе ударил себя в грудь:
– У тебя нет сердца! С тех пор, как ты решил, что взял над нами верх, ты пытаешься нас раздавить… Я тебя вытащил из грязи, спас от голода! Ты подыхал, как последний болван… Мы проложили тебе путь к богатству, создали тебе прекрасное положение в обществе, ввели в дом, где есть богатая невеста… А как ты нам отплатил? Отныне я тебя знаю, и мы всегда будем начеку.
– Значит, война? – спросил Теодоз.
– Ты первый открыл стрельбу, – ответил Серизе.
– Но если вы меня уничтожите, плакали ваши денежки! А если вам это не удастся, вы приобретете в моем лице врага!..
– Ты повторяешь слова, которые я говорил вчера Дютоку, – холодно сказал Серизе. – Но ничего не поделаешь, у нас нет иного выбора… Приходится действовать сообразно обстоятельствам… Однако я добрый малый, – продолжал он после паузы, – принеси мне завтра в девять утра двадцать пять тысяч франков, и Тюилье сохранит дом… Мы будем по-прежнему служить тебе верой и правдой, а ты в свое время с нами расплатишься… Ну, разве это не благородно, мой милый, после всего, что сейчас произошло?..
И Серизе похлопал Теодоза по плечу с циничным добродушием, куда более унизительным, чем клеймо палача.
– Хорошо, но дай мне срок до полудня, – ответил провансалец, – ибо, как ты любишь говорить, дело требует времени!
– Попробую уговорить Клапарона. Этот человек ужасно нетерпелив!
– Итак, до завтра! – проговорил Теодоз с видом человека, принявшего решение.
– До свиданья, дружище, – протянул Серизе, гнусавя так, что прекрасное слово «до свиданья» прозвучало, в его устах, как брань.
«Ну, он, кажется, готов, эк его качает!» – подумал Серизе, следя из окна за Теодозом, который шел по улице как потерянный.
Свернув на улицу Пост, адвокат быстрым шагом направился к дому г-жи Кольвиль; он был чрезвычайно возбужден и время от времени разговаривал сам с собой. Сильное волнение и пожиравшая его, как огонь, тревога, знакомая многим парижанам, ибо положение, в котором оказался Теодоз, – отнюдь не редкость в Париже, привели молодого человека в состояние одержимости; он испытывал непреодолимую потребность выражать свои чувства вслух. Небольшая подробность наглядно объясняет такого рода состояние. Достигнув места, где скрещиваются улица Сен-Жак дю О-Па и маленькая улочка Дез-Эглиз, ла Перад воскликнул:
– Я убью его!..
– Малый, видать, чем-то недоволен! – заметил проходивший мимо рабочий.
И эта шутка, словно чудом, погасила адское пламя, терзавшее душу Теодоза.
Выйдя от Серизе, он решил во всем признаться Флавии и довериться ей. Многие южане таковы: они сохраняют присутствие духа до определенного мгновения, а потом разом приходят в уныние. Он вошел в дом Кольвиля. Флавия была одна в комнате. Взглянув на Теодоза, она испугалась, решив, что он сейчас либо силой овладеет ею, либо убьет.
– Что с вами? – вскричала она.
– Я… – пробормотал он. – Любите ли вы меня, Флавия?
– Как вы можете в этом сомневаться?
– Любите ли вы меня беззаветно? Не перестанете ли вы любить меня, даже если я окажусь преступником?
«Неужели он кого-нибудь убил?» – подумала Флавия.
Она ничего не ответила Теодозу и лишь утвердительно кивнула головой.
Молодой адвокат почувствовал острую радость, какую чувствует утопающий, ухватившийся в последнюю минуту за ветвь плакучей ивы; вскочив со стула, он бросился к дивану, на котором сидела Флавия, и, содрогаясь от рыданий, способных тронуть сердце старого судьи, оросил слезами руки Флавии.
– Меня ни для кого нет дома! – сказала г-жа Кольвиль горничной.
Закрыв дверь, она возвратилась к Теодозу, испытывая прилив материнской нежности. Сын Прованса лежал, растянувшись на диване, и плакал, зарывшись головой в подушку. В руках у него был платок; когда Флавия взяла этот платок в руки, он был мокрым от слез.
– Что случилось? Что с вами? – спросила она.
Натура – величайший из актеров – сослужила отличную службу Теодозу. Он больше не играл роль, он был теперь самим собой, и его слезы, нервический припадок, как нельзя лучше увенчали комедию, которую он дотоле разыгрывал.
– Вы просто дитя! – проговорила Флавия нежным голосом, перебирая волосы Теодоза и с радостью замечая, как высыхают его глаза.
– Только вы одна существуете для меня в целом свете! – воскликнул он, покрывая страстными поцелуями руки Флавии. – И если вы останетесь со мной, если вы будете для меня тем, чем служит душа для тела и тело для души, – прибавил он, постепенно приходя в себя и с нежностью глядя на нее, – в таком случае я опять обрету утраченное мужество.
Он встал и прошелся по комнате.
– О да, я снова ринусь в бой, я, как Антей, вновь почерпну силы, прильнув к своей матери, я задушу собственными руками гадюк, что обвились вокруг меня! Они дарят меня змеиными поцелуями, они увлажняют мои щеки ядовитой слюной, они жаждут моей крови, моей чести! О горькая нищета!.. Сколь велик тот, кто встречает ее, не сгибаясь, высоко подняв голову!.. Лучше бы я умер от голода на своем жалком ложе три года назад!.. Гроб кажется мне пуховой периной в сравнении с той жизнью, какую я сейчас веду!.. Вот уже полтора года, как я вкусил от жизни буржуа!.. И в ту самую минуту, когда я стою на пороге почетного и счастливого существования, на пороге блестящего будущего, когда я уже усаживаюсь за пиршественный стол, палач ударяет меня по плечу… Да, этот изверг ударил меня по плечу и прохрипел мне на ухо: «Уплати десятину дьяволу или погибни!..» И он думает, что я не сокрушу его… Что я не раздеру ему пасть, не выпущу из него кишки! Да, именно так я и поступлю! Взгляните, Флавия, высохли у меня глаза? Отлично, теперь я вновь смеюсь, я чувствую свою силу, я опять обретаю прежнюю мощь… О, скажите, что вы меня любите… Повторите еще раз! Эти слова прозвучат для меня как весть о помиловании для приговоренного к смерти.
– Вы просто ужасны, друг мой!.. – прошептала Флавия. – Вы довели меня до изнеможения.
Несчастная женщина ничего не понимала, в полуобморочном состоянии она без сил опустилась на диван, потрясенная видом и речами Теодоза.
Молодой человек упал на колени.
– О, простите… простите! – проговорил он.
– Но что все-таки с вами произошло? – спросила Флавия.
– Меня хотят погубить. Подтвердите же свое обещание отдать за меня Селесту, и вы увидите, какую великолепную жизнь я создам для нее и для вас!.. А если вы колеблетесь, ну что ж, тогда вы станете моей, и немедля!..
Весь его вид говорил о такой отчаянной решимости, что Флавия в испуге вскочила с дивана и принялась ходить по комнате…
– О мой ангел-хранитель! Коленопреклоненный, я обращаюсь к тебе… Какое чудо! Теперь я вижу, что господь за меня! На меня снизошло озарение. Меня осенила великая мысль!.. О, благодарю тебя, мой добрый ангел-хранитель, великий Теодоз! Ты спас меня!
Флавия с восхищением смотрела на этого хамелеона: опустившись на одно колено, скрестив руки на груди, воздев очи горе, охваченный религиозным экстазом, он читал молитву, он был в ту минуту самым ревностным католиком и с благоговением осенял себя крестом. Зрелище было не менее величественное, чем картина, изображающая причастие святого Иеронима.
– Прощайте! – сказал он ей голосом, в котором прозвучала чарующая меланхолия.
– О, прошу вас, оставьте мне этот платок! – воскликнула Флавия.
Теодоз, как безумный, сбежал по лестнице, выскочил на улицу и быстрым шагом направился к Тюилье; внезапно он обернулся, увидел Флавию в окне и с победным видом помахал ей рукой.
– Какой человек! – прошептала она…
– Добрый друг, – сказал Теодоз спокойным, мягким, чуть вкрадчивым голосом, глядя в глаза Тюилье, – мы в руках ужасных мошенников. Но я преподам им небольшой урок.
– Что произошло? – всполошилась Бригитта.
– Дело в том, что они требуют двадцать пять тысяч франков в уплату за то, чтобы вас признали законными владельцами дома. Оказывается, нотариус и его сообщники сделали заявление о повышении цены. Тюилье, захватите с собою пять тысяч франков и поедем со мной, я добьюсь того, что дом будет вашим… Я наживу себе беспощадных врагов! – воскликнул адвокат. – Они попытаются погубить меня в глазах общества. Я прошу лишь об одном: будьте глухи к их низкой клевете, не меняйте отношения ко мне. В конце концов какое мне дело до их нападок! Если мне удастся осуществить свой план, дом обойдется вам в сто двадцать пять тысяч франков вместо ста двадцати тысяч, вот и все.
– А это не может повториться? – с тревогой спросила Бригитта, у которой от страха округлились глаза.
– Надбавку могут предложить только должным образом зарегистрированные заимодавцы, своим правом воспользовался лишь один из них, так что мы можем быть спокойны. У этого человека вексель всего на две тысячи франков, но придется щедро заплатить поверенным и дать заимодавцу тысячу франков отступного.
– Ступай, Тюилье, – сказала Бригитта, – надень шляпу, перчатки, а деньги возьми в известном тебе месте…
– Так как меня постигла неудача с пятнадцатью тысячами франков, то я не хочу прикасаться к этим деньгам… Пусть Тюилье сам заплатит, – сказал Теодоз, оставшись вдвоем с Бригиттой. – Вы заработали двадцать тысяч франков на сделке с Грендо, он думал, что работает на нотариуса. Отныне вы владельцы дома, который через пять лет будет стоить миллион. Ведь он расположен в конце бульвара!
Бригитта настороженно слушала, напоминая кошку, почуявшую мышей под полом. Она глядела в глаза Теодозу и, несмотря на справедливость его слов, испытывала недоверие.
– Что с вами, милая тетушка?
– О, я буду смертельно тревожиться, пока мы наконец не станем владельцами этого дома…
– Ведь вы охотно уплатили бы двадцать тысяч франков, чтобы Тюилье сделался, как выражаемся мы, юристы, бесспорным его владельцем? Не правда ли? – спросил Теодоз. – Так вот, не забывайте, что я уже второй раз добываю для вас это богатство…
– Куда мы направляемся? – спросил Тюилье.
– К господину Годешалю! Он будет нашим поверенным…
– Но ведь мы отказали ему в руке Селесты! – вскричала старая дева.
– Именно по этой причине мы и направляемся к нему, – отвечал Теодоз. – Я хорошо изучил его. Это человек чести, и он сочтет себя обязанным оказать вам услугу.
Годешаль, преемник Дервиля, был на протяжении десяти лет старшим письмоводителем у Дероша. Ла Пераду было известно это обстоятельство; имя Годешаля ему подсказал какой-то внутренний голос в минуту, когда он предавался отчаянию, и молодой человек увидел возможность выбить из рук Клапарона оружие, которым ему, Теодозу, угрожал Серизе. Раньше всего адвокату требовалось для этого проникнуть в кабинет Дероша, чтобы с его помощью разобраться в положении своих противников. И один только Годешаль, в силу близости, существующей между письмоводителем и его патроном, мог послужить проводником ла Пераду.
В Париже поверенные, если их связывают такие тесные узы, какие связывали Годешаля и Дероша, живут в полном согласии, и это позволяет им с необыкновенной легкостью полюбовно улаживать те дела, которые можно таким путем уладить. Они добиваются друг от друга взаимных уступок, руководствуясь поговоркой: «Уступи мне, и я тебе уступлю», или «Долг платежом красен». Как известно, этим же принципом руководствуются люди различных профессий, начиная с министров и генералов и кончая судьями и коммерсантами, так поступают всюду, где вражда не воздвигает непреодолимых барьеров между различными партиями.
«Соглашаясь на эту сделку, я получаю солидный гонорар» – вот мысль, которую даже не надо выражать словами, она становится понятной благодаря жесту, интонации, взгляду. А так как поверенные постоянно оказываются в сходных обстоятельствах, они с полуслова понимают друг друга и быстро приходят к соглашению. Противовесом этим взаимным дружеским услугам служит то, что можно было бы назвать «профессиональной честностью». Общество не подвергает сомнению слова поверенного, подобно тому как оно не подвергает сомнению слова практикующего врача, когда тот говорит: «В этом лекарстве содержится мышьяк». Никакие соображения не могут одержать верх над самолюбием актера, над честностью законоведа, над независимостью общественного деятеля. Вот почему поверенный в Париже с одинаковым добродушием заявляет: «Нет, тут ничего не поделаешь, мой клиент вне себя от ярости» – или: «Ну что ж, поживем – увидим…»
Ла Перад, человек проницательный, недаром провел столько времени во Дворце Правосудия: он отлично изучил нравы жрецов судопроизводства и понимал, что они помогут ему в осуществлении его планов.
– Оставайтесь в экипаже, – сказал он Тюилье, когда они въехали на улицу Вивьен, где помещалась контора Годешаля, в которой поверенный в свое время начинал карьеру как письмоводитель, – вы пойдете к нему лишь в том случае, если он возьмется за наше дело.
Было одиннадцать часов вечера, и ла Перад, надеявшийся, что новоиспеченный поверенный все еще работает в столь поздний час у себя в конторе, не обманулся в своих расчетах.
– Чему я обязан визитом адвоката? – спросил Годешаль, идя навстречу ла Пераду.
Иностранцы, провинциалы, светские люди, быть может, не знают, что отношения адвокатов и поверенных во многом напоминают отношения генералов и старших офицеров; существует четкая линия водораздела между корпорацией адвокатов и корпорацией поверенных города Парижа, и она строго соблюдается. Каким бы уважением ни пользовался поверенный, как бы талантлив он ни был, полагается, чтобы он посещал адвоката. Поверенный – это штабной офицер, он намечает план кампании, обеспечивает армию боевыми припасами, подготавливает наступление, адвокат же ведет битву. Тот, кто объяснит, почему в силу закона клиент должен иметь дело с двумя юридическими лицами вместо одного, объяснит, вероятно, и то, почему автору приходится иметь дело и с книгоиздателем и с книгопродавцем. Устав корпорации адвокатов запрещает своим членам составлять какие бы то ни было бумаги, относящиеся к компетенции поверенных. Очень редко наблюдается, что крупный адвокат посещает контору поверенного, обычно он видится с ним во Дворце Правосудия; однако в мире нет правил без исключений, и некоторые адвокаты, особенно люди типа ла Перада, отступают от традиций и сами иногда являются к поверенным. Но даже такие случаи происходят не часто и объясняются обычно тем, что вопрос не терпит отлагательства.
– Не скрою, речь идет о серьезном деле, и к тому же весьма щепетильном, нам лучше всего решить его вдвоем, – сказал ла Перад. – Внизу, у ваших дверей, в экипаже сидит Тюилье, и я прихожу к вам не в качестве адвоката, а в качестве его друга. Один только вы в силах оказать ему огромную услугу, и я заверил его, что вы, как человек благородной души, ибо недаром же вы стали преемником великого Дервиля, охотно предоставите в его распоряжение все свои способности. Вот в чем суть дела.
Изложив в выгодном свете все, что произошло, рассказав о происках Серизе, на которые следовало ответить ловким ударом, адвокат постарался расположить к себе поверенного правдивостью, ибо, как известно, большинство клиентов говорит неправду, и наметил собственный план кампании.
– Мой дорогой мэтр, хорошо бы вам еще сегодня вечером повидаться с Дерошем, уведомить его обо всех этих кознях и попросить, чтобы он пригласил к себе завтра утром своего клиента, этого Совенью. Мы втроем исповедуем пройдоху, и если он согласится получить, помимо уплаты долга, еще и тысячу франков в придачу, мы ее дадим, не считая пятисот франков гонорара для вас и такой же суммы для Дероша. Эти деньги Тюилье уплатит, если Совенью завтра в десять утра согласится взять иск обратно… Чего хочет Совенью? Вернуть свои деньги? Ну что ж, ни один десятник не устоит перед соблазном прикарманить тысячу франков, даже если он служит орудием каких-либо алчных дельцов. Пусть он потом объясняется с сообщниками как знает, нас это мало касается… Прошу вас, помогите семейству Тюилье…
– Я тотчас же направлюсь к Дерошу, – сказал Годешаль.
– Нет, пусть сначала Тюилье подпишет доверенность на ваше имя и внесет пять тысяч франков. В таких случаях деньги, как говорится, кладут на бочку…
После короткой беседы, во время которой Тюилье долго мялся, ла Перад усадил Годешаля в экипаж и отвез его на улицу Бетизи к Дерошу, убедив поверенного, что это им по пути, так как они едут на улицу Сен-Доминик; попрощавшись с Годешалем у дома Дероша, адвокат условился с ним о встрече в семь часов утра на следующий день.
Будущее и богатство де ла Перада зависели теперь от успеха переговоров между двумя поверенными и клиентом. Вот почему не следует удивляться, что молодой человек, нарушив устав корпорации адвокатов, решил явиться в контору Дероша, чтобы встретиться там с Совенью и принять участие в битве; его даже не испугала опасность, какой он подвергал себя, представая перед глазами самого грозного поверенного во всем Париже.
Войдя в контору, он поздоровался со всеми и внимательно оглядел Совенью. То был, как Теодоз уже догадался по его имени, марселец, десятник, занимавший промежуточное положение между рабочими и подрядчиком строительных работ. Его роль состояла в том, чтобы наблюдать за ходом этих работ. Доход подрядчика складывается из разницы между суммой, которую он получает от заказчика, и суммой, которую он уплачивает десятнику за строительные материалы и рабочую силу.
Когда подрядчик обанкротился, Совенью подал иск в коммерческий суд и был признан одним из кредиторов со внесением в список. Этот иск был одним из последних эпизодов краха дельцов, возводивших дома возле церкви Мадлен.
Совенью, низенький, коренастый человек, одетый в блузу из серого холста, с фуражкой на голове, сидел в кресле. Перед ним на письменном столе Дероша лежали три кредитных билета по тысяче франков каждый: ла Перад сразу понял, что переговоры уже происходили и поверенные потерпели неудачу, Годешаль выразительно посмотрел на адвоката бедняков, а Дерош бросил на него острый взгляд, который можно сравнить разве только с ударом заостренной мотыги, вонзающейся в рыхлую землю. Сознание опасности пришпорило провансальца, он был неподражаем: протянув руку, он сгреб тысячефранковые кредитки и сделал вид, будто хочет опустить их в карман.
– Тюилье отказывается от сделки, – сказал он Дерошу.
– Вот и отлично, это весьма кстати, – ответил грозный поверенный.
– Да, вашему клиенту придется уплатить нам шестьдесят тысяч франков, израсходованные на достройку дома, как это видно из договора, подписанного Тюилье и Грендо. Я не успел сказать вам об этом вчера, – прибавил Теодоз, поворачиваясь к Годешалю.
– Слышите? – обратился Дерош к Совенью. – Это пахнет процессом, который я не стану вести без надежных гарантий…
– Славные господа, – сказал марселец, – я не могу договариваться с вами, не повидав почтенного человека, который вручил мне пятьсот франков в счет долга с условием, что я подпишу нацарапанную на клочке бумаги доверенность.
– Ты из Марселя? – быстро спросил ла Перад у Совенью, обращаясь к нему на южном диалекте.
– Ну, если Совенью ответит на том же диалекте, он пропал! – шепнул Дерош Годешалю.
– Да, сударь, – ответил незадачливый сутяга адвокату.
– Так вот, простофиля, – продолжал Теодоз, – тебя хотят разорить… Знаешь, что тебе надо сделать? Возьми эти три тысячи франков, а когда твой дружок явится к тебе, схвати деревянный метр и отделай его хорошенько, объяснив ему при этом, что он проходимец, что он хотел воспользоваться тобой в своих интересах и что ты берешь доверенность обратно, а деньги возвратишь ему после дождичка в четверг. Затем спрячь получше три с половиной тысячи франков, которые тебе сами плывут в руки, и уезжай в Марсель. А если с тобой приключится какая-нибудь неприятность, приходи сюда, к господину поверенному… Он знает, как меня разыскать, а уж я тебя выручу из беды. Дело в том, дружище, что я не только добрый провансалец, но и один из первых адвокатов Парижа и известный друг бедняков…
Когда десятник обрел в лице земляка человека, подкрепившего уже смутно зародившееся в нем желание предать подрядившего его ростовщика, он капитулировал, но потребовал за это три с половиной тысячи франков.
– Я задам ему выволочку, он ее вполне заслужил, – проворчал Совенью. – За такие проделки впору и в полицию свести…
– Только смотри, бей лишь тогда, когда он начнет тебя ругать, – заметил Перад, – тогда признают, что ты действовал в целях самозащиты…
Когда Дерош подтвердил, что ла Перад и в самом деле член корпорации парижских адвокатов, Совенью подписал заявление об отказе от иска; поверенные составили акт, действуя от имени Тюилье и Совенью: в нем было указано, что заимодавец полностью получил и сумму долга и проценты и что ему возмещены все расходы; таким образом, грозившая возникнуть тяжба была потушена в самом начале.
– Мы оставляем вам полторы тысячи франков, – вполголоса сказал ла Перад Дерошу и Годешалю, – но я прошу вас дать мне акт о его отказе от иска, я отнесу его на подпись Тюилье, который всю ночь не смыкал глаз и ожидает меня у своего нотариуса Кардо…
– Идет! – сказал Дерош. – Вы можете быть довольны, – обратился он к Совенью, подписывавшему бумагу, – вам без хлопот достались полторы тысячи франков.
– А у меня их не отберут… господин писец? – с тревогой спросил марселец.
– О нет, вы получили их вполне законным образом, – успокоил его Дерош. – Вам только придется уведомить своего доверителя, что вы отказались от всех претензий, и пометить это извещение вчерашним числом. Пройдите в канцелярию, там все сделают…
Дерош объяснил старшему письмоводителю, как надлежит составить документ, и попросил его проследить за тем, чтобы рассыльный вручил бумагу Серизе до десяти часов утра.
– Я вам бесконечно признателен, Дерош, – сказал Теодоз, пожимая руку поверенному. – Вы обо всем подумали, я никогда не забуду, какую услугу вы мне оказали…
– Передайте документ Кардо не раньше полудня.
– Эй, земляк! – крикнул адвокат Совенью, переходя на провансальский язык. – Отправляйся со своей подружкой в Бельвиль на весь день, да смотри не возвращайся домой раньше полуночи…
– Понимаю, – откликнулся Совенью, – потасовку отложим на завтра!..
– В добрый час, – проговорил ла Перад с непередаваемым провансальским акцентом.
– Тут что-то кроется, – сказал Дерош Годешалю в ту самую минуту, когда адвокат показался в двери, ведущей из канцелярии в кабинет поверенного.
– Тюилье почти даром приобрел великолепный дом, – ответил Годешаль, – вот и все.
– Ла Перад и Серизе напоминают мне двух пловцов, которые душат друг друга под водой, – ответил Дерош. – А что мне сказать Серизе, если он спросит меня, кто затеял всю эту историю? – спросил поверенный у адвоката, подошедшего к столу.
– Вы скажете, что этого потребовал Совенью, – ответил ла Перад.
– И вы ничего не боитесь? – спросил в упор Дерош.
– О, я должен его как следует проучить!
– Завтра мы все узнаем, – сказал Дерош Годешалю. – Никто не бывает более болтлив, чем побежденный!
Ла Перад вышел от поверенного, унося в кармане вожделенный акт. В одиннадцать часов утра он был в присутствии мирового судьи. Когда к спокойному и сдержанному Теодозу подошел бледный от ярости Серизе, со злобно сверкавшим взором, адвокат прошептал ему на ухо:
– Любезный друг, я тоже славный малый! Я все еще держу для тебя двадцать пять тысяч франков новенькими кредитками и готов вручить их в обмен на свои векселя…
Серизе, не находя слов для ответа, молча смотрел на адвоката бедняков. Он позеленел и только судорожно глотал слюну.
– Я неоспоримый владелец дома! – воскликнул Тюилье, возвратившись от Жакино, зятя и преемника Кардо. – Никакие силы человеческие не могут лишить меня моего достояния. Меня в этом заверили.
Буржуа больше верят тому, что говорят нотариусы, нежели тому, что говорят поверенные. Нотариус им ближе, чем любое другое официальное лицо. Парижский буржуа со страхом идет к своему поверенному, чья воинственная отвага наполняет его тревогой; в то же время он всякий раз с удовольствием посещает своего нотариуса и восхищается его мудростью и здравым смыслом.
– Кардо подыскивает себе хорошую квартиру и попросил меня оставить за ним помещение на третьем этаже, – продолжал Тюилье. – Он сказал, что если я хочу, то он может познакомить меня в воскресенье с кандидатом в главные квартиронаниматели, который согласен заключить со мной арендный договор сроком на восемнадцать лет, уплатить налоги и ежегодно вносить по сорок тысяч франков… Что ты на это скажешь, Бригитта?
– По-моему, надо выждать, – ответила старая дева. – Ах, наш милый Теодоз заставил меня сильно струхнуть.
– Да, дорогая, ты еще не знаешь, что сказал Кардо. Спросив, кто устроил мне столь выгодное дело, он заявил, что я обязан сделать этому человеку подарок по меньшей мере в десять тысяч франков. Говоря по правде, я ему обязан всем!
– Но ведь он почти что член нашей семьи, – ответила Бригитта.
– Бедняга, я воздаю ему должное, ведь он ничего у нас не просит…
– Итак, добрый друг, – сказал ла Перад, возвратившись в три часа от мирового судьи, – вот вы и крупный богач!
– Только благодаря тебе, любезный Теодоз…
– А вы, милая тетушка, возвратились к жизни?.. Должен признаться, я струхнул еще больше, чем вы… Ведь ваши интересы для меня важнее своих. Право, впервые за эти дни я свободно вздохнул лишь в одиннадцать часов утра. Отныне меня будут преследовать по пятам заклятые враги – два человека, которых я обманул ради вас. По дороге сюда я спрашивал себя: каким же влиянием вы должны обладать, если толкнули меня на такое преступление? Сможет ли то счастье, какое я буду испытывать, став членом вашей семьи, сделавшись вашим сыном, стереть когда-нибудь пятно, которым я замарал свою совесть?..
– Пустяки! Ты исповедуешься в этом грехе, – отвечал вольнодумец Тюилье.
– Теперь, – продолжал Теодоз, обращаясь к Бригитте, – вы можете, ничего не страшась, уплатить за дом восемьдесят тысяч франков да тридцать тысяч франков Грендо, это составит вместе с дополнительными расходами сто двадцать тысяч франков. Прибавим к ним и злополучные двадцать тысяч франков, и тогда общая сумма составит сто сорок тысяч. Когда вы будете заключать контракт с главным квартиронанимателем, потребуйте от него внести аванс за последний год аренды. Не забудьте оставить для меня и моей будущей жены весь второй этаж над антресолями. Даже при этом вы без труда найдете человека, который снимет дом на двенадцать лет с уплатой сорока тысяч франков ежегодно. Если вы захотите переехать из этого квартала в квартал, где помещается Палата депутатов, у вас будет достаточно средств, чтобы снять для себя просторную квартиру во втором этаже с каретным сараем, конюшнями и другими службами, необходимыми для людей, живущих на широкую ногу. А теперь, Тюилье, я хочу добиться для тебя креста Почетного легиона!
При этих словах Бригитта воскликнула:
– Право, мой дорогой, вы так превосходно справились со всеми нашими делами, что я хочу просить вас довести до конца дело с домом Тюилье…
– Не слагайте с себя власти, дражайшая тетушка, – отвечал Теодоз, – избави меня бог совершить хотя бы один шаг без вашего совета! Ведь вы добрый гений семьи. Я сейчас думаю только об одном – о том дне, когда Тюилье станет членом Палаты. Не пройдет двух месяцев, и вы получите сорок тысяч франков в уплату за последний год аренды. Кроме того, Тюилье в первый же платежный срок положит в банк десять тысяч франков, которые внесет ему квартиронаниматель.
Столь радужные надежды привели старую деву в восторг. Воспользовавшись этим, Теодоз увлек Тюилье в сад и, не обинуясь, сказал ему:
– Добрый друг, придумай способ получить от своей сестры десять тысяч франков, но только так, чтобы она ни в коем случае не заподозрила, что ты их передашь мне. Скажи ей, что эту сумму надо будет распределить между чиновниками канцелярий, дабы ускорить получение ордена Почетного легиона. Скажи ей также, что ты сам знаешь, кому нужно вручить деньги.
– Хорошо, – ответил Тюилье, – кстати, я верну их ей, как только получу арендную плату.
– Деньги нужны к вечеру, добрый друг. Я уже сегодня хочу отправиться на разведку, и завтра мы будем знать, как себя вести…
– Какой ты необыкновенный человек! – воскликнул Тюилье.
– Министерство первого марта скоро падет, надо успеть получить орден из его рук, – с тонкой улыбкой ответил Теодоз.
Переговорив с Тюилье, адвокат бросился к г-же Кольвиль и уже с порога сказал ей:
– Я победил. Селеста будет владеть домом стоимостью в миллион, Тюилье при составлении брачного контракта передаст ей дом во владение, без права пользования доходами. Но храните это в секрете, не то руки вашей дочери станут добиваться пэры Франции. Впрочем, она получит его лишь в том случае, если выйдет за меня замуж. А теперь одевайтесь, мы едем к графине дю Брюэль, она может выхлопотать крест для Тюилье. Пока вы станете облачаться в боевые доспехи, я хочу пройти к Селесте и немного полюбезничать с нею. В экипаже я вам расскажу, что из этого вышло.
Направляясь к Флавии, ла Перад заметил в гостиной Селесту и Феликса Фельона. Г-жа Кольвиль настолько доверяла дочери, что разрешала ей оставаться наедине с молодым преподавателем. После одержанного утром большого успеха Теодоз решил, что приспела пора перейти к прямой атаке на Селесту. Настало время рассорить влюбленных голубков, и адвокат, не моргнув глазом, приложил ухо к замочной скважине двери, ведущей в гостиную: перед тем, как войти туда, он хотел точно знать, какую именно букву в алфавите любви они уже повторяют. На этот проступок, столь излюбленный слугами, его, можно сказать, подтолкнул шум доносившегося из гостиной спора. По выражению одного из наших поэтов, любовь – это привилегия, которой пользуются два человека, чтобы причинять друг другу огорчения по сущим пустякам.
Приняв в душе решение избрать Феликса спутником жизни, Селеста пожелала не столько изучить его, сколько слиться с ним в едином душевном порыве, который служит источником истинной привязанности; такое стремление заставляет юные сердца против воли необыкновенно придирчиво относиться к своему избраннику. Причиной ссоры, незримым свидетелем которой сделался Теодоз, была глубокая размолвка между математиком и Селестой, случившаяся еще несколько дней назад…
Юная девушка, воспитанная в тот период, когда госпожа Кольвиль пыталась искупить свои грехи, была необыкновенно благочестива; она принадлежала к пастве истинно верующих; ортодоксальный католицизм, слегка смягченный мистическим характером ее веры, столь любезным сердцу юных особ, был для Селесты своего рода поэзией, сокровенной жизнью духа. Становясь взрослыми, экзальтированные девицы такого рода делаются либо святыми, либо женщинами необыкновенно легкомысленными. Но в пору юношеского цветения они отличаются деспотической непримиримостью; их образ мыслей донельзя возвышен, по их мнению, все вокруг должно быть совершенным, небесным, ангельским, божественным. Для таких девушек ничто не существует вне их идеала, все, что не отвечает их требованиям, представляется им мерзким и низменным. Вот почему эти строгие девицы презрительно отбрасывают великолепные бриллианты, если на них имеется хотя бы крохотное пятнышко, а становясь женщинами, восторженно любуются поддельными драгоценностями.
Итак, Селеста обнаружила в Феликсе не то чтобы неверие, но безразличное отношение к вопросам веры. Подобно большинству геометров, химиков, математиков и выдающихся естествоиспытателей, он подчинял веру разуму: он считал проблему существования бога столь же неразрешимой, как квадратура круга. В душе он был деистом, исповедовал веру, какую исповедуют почти все французы, но придавал ей не больше значения, чем новому закону, принятому в Июле. По его мнению, бог на небесах был столь же необходим, как бюст короля в здании мэрии. Достойный сын своего отца, Феликс Фельон не скрывал убеждений: с простодушием и рассеянностью человека, занятого разрешением научных проблем, он позволял Селесте читать в его сердце. Молодая девушка смешивала вопросы религии с вопросами гражданского состояния, она испытывала священный ужас перед атеизмом, а исповедник объяснил ей, что деист – двоюродный брат атеиста.
– Исполнили ли вы свое обещание, Феликс? – спросила Селеста, как только г-жа Кольвиль оставила ее наедине с молодым ученым.
– Нет, дорогая Селеста, – отвечал Феликс.
– О, не выполнить обещания!.. – воскликнула с укоризной девушка.
– Но ведь сдержать его было бы кощунственно, – сказал математик. – Я вас безумно люблю, и это чувство не позволяет мне противиться вашим желаниям, вот почему я и дал вам обещание, с которым совесть моя не может примириться. А ведь совесть, милая Селеста, – это наше сокровище, наша сила, наша опора. Как можете вы желать, чтобы я отправился в церковь и опустился на колени перед священником, коль скоро я вижу в нем лишь человека?.. Да вы первая стали бы меня презирать, если бы я вас послушался.
– Значит, дорогой Феликс, вы не хотите идти в церковь? – спросила Селеста, бросая на человека, которого она любила, затуманенный слезами взгляд. – Значит, будь я вашей женой, вы отпускали бы меня туда одну?.. Нет, вы не любите меня так, как я люблю вас!.. Ведь в моем сердце живет к вам, к безбожнику, чувство, противное тому, какого требует от меня господь!
– К безбожнику! – воскликнул Феликс Фельон. – О нет, выслушайте меня, Селеста… Бог, конечно, существует, я в это верю, но у меня более возвышенное представление о нем, нежели у ваших священников, я не низвожу его до себя, а стараюсь подняться до него… Я прислушиваюсь к голосу, звучащему во мне по его воле, к голосу, именуемому всеми порядочными людьми голосом совести, и я изо всех сил стремлюсь не угасить божественного огня, который горит во мне. Вот почему я никогда в жизни никому не причиню вреда, никогда не преступлю законов общечеловеческой морали, морали Конфуция, Моисея, Пифагора, Сократа, как и Иисуса Христа… Я чист перед богом, мои деяния служат мне молитвами, я никогда не стану лгать, слово мое свято, я никогда не совершу низменного или подлого поступка… Вот наставления, усвоенные мною от добродетельного отца, и я хочу завещать их своим детям. Я всегда буду творить столько добра, сколько будет в моих силах, даже если это заставит меня страдать. Можно ли требовать чего-либо большего от человека?..
Символ веры Феликса Фельона заставил Селесту только горестно покачать головой.
– Прочтите внимательно «Подражание Христу»! – сказала она. – Попытайтесь возвратиться в лоно святой католической церкви, апостолической и римской, и вы поймете, до какой степени нелепы ваши речи… Послушайте, Феликс, брак в глазах церкви не преходящий акт, призванный удовлетворить наши желания, а таинство, соединяющее людей навеки… Как! Мы будем вместе день и ночь, мы станем единой плотью, единым глаголом, а сердца наши будут говорить на разных языках, мы будем исповедовать разную веру, и это послужит источником постоянных размолвок! Вы обрекаете меня на тайное горе и слезы, ибо я не смогу примириться с грядущей гибелью вашей души. Как стану я обращаться к богу, зная, что его грозная десница вот-вот обрушится на вас?.. Ваши взгляды и убеждения, пропитанные деизмом, станут влиять на наших детей!.. О господи, какую грустную участь готовите вы своей супруге!.. Нет, нет, я не могу смириться с вашими идеями… О Феликс! Перейдите в мою веру, ибо я не в силах перейти в вашу! Не ройте пропасти между нами… Если б вы меня любили, то уже давно бы прочли «Подражание Христу»!
В семье Фельонов, воспитанных на идеях газеты «Конститюсьонель» не любили церковного духа. И Феликс резко ответил на эту мольбу, вырвавшуюся из груди пламенной католички:
– Вы просто повторяете урок, преподанный вам исповедником, Селеста! Поверьте мне, нет ничего опаснее вторжения священников в семью…
– О, вы не любите меня! – с негодованием воскликнула Селеста, которая говорила, движимая лишь любовью. – Голос моего сердца не достиг вашего слуха! Вы ничего не поняли, ибо даже не слушали меня, но я прощаю вас, потому что вы сами не знаете, что говорите.
Она погрузилась в гордое молчание, а Феликс принялся барабанить пальцами по оконному стеклу: занятие, хорошо знакомое людям, которыми владеют мрачные мысли. И действительно, в уме Феликса сменяли друг друга различные весьма деликатные доводы истинно фельоновского толка:
«Селеста, как известно, – богатая наследница. Приняв ее идеи, чуждые моим религиозным убеждениям, я поступлю, как человек, стремящийся к выгодному браку. Это недостойно. Как будущий глава семьи, я не могу позволить священникам приобрести влияние в моем доме. Если я уступлю сегодня, то проявлю слабость, и она приведет к другим уступкам, пагубным для моего авторитета, авторитета отца и мужа… Нет, это будет недостойно философа».
И он повернулся к любимой:
– Селеста, я готов молить вас на коленях: не смешивайте вещей, которые закон в своей мудрости отделил друг от друга. Мы живем в двух различных мирах: в здешнем мире должно считаться с велениями общества, в потустороннем мире – с велениями неба. Каждый идет своим путем к спасению. Но, живя в обществе, мы обязаны подчиняться его законам, ибо так повелел господь! Разве Христос не сказал: «Воздайте кесарю кесарево»? Кесарь – это и есть общество… Забудем нашу маленькую ссору!
– Маленькую ссору! – вскричала юная католичка. – Я хочу, чтобы вы всецело владели моим сердцем, а я всецело владела вашим, вы же делите их на две половины!.. Может ли быть большее горе? Вы забываете, что брак – это священное таинство…
– Ваши ханжи и святоши забили вам голову! – вне себя от гнева воскликнул математик.
– Господин Фельон, – запальчиво прервала его Селеста, – довольно говорить на эту тему!
При этих словах Теодоз счел необходимым войти в комнату. Он увидел бледную Селесту и встревоженного преподавателя, у которого был вид влюбленного, рассердившего предмет своего обожания.
– Я услышал слово «довольно». Стало быть, чего-то было слишком много? – спросил он, переводя взгляд с Селесты на Феликса.
– Мы беседовали о религии, – ответил Фельон, – и я доказывал мадемуазель Селесте, какую опасность таит в себе вторжение религии в семейную жизнь…
– Речь шла не об этом, сударь, – резко сказала Селеста. – Мы хотели понять, могут ли муж и жена жить душа в душу, если он безбожник, а она верующая католичка.
– Но разве на свете существуют безбожники! – вскричал Теодоз, изображая на своем лице глубочайшее изумление. – И разве католичка может, к примеру, выйти замуж за протестанта? Нет, спасение супругов возможно лишь в том случае, если оба они исповедуют одну и ту же веру!.. Я сам родом из Контá, в числе моих предков был даже папа, в нашем гербе изображен серебряный ключ на червленом фоне, а в основании герба – монах на церковной паперти и пилигрим с золотым посохом в руках; наш девиз: «Я отпираю и запираю». Вот почему я ревностный католик. Но в наши дни благодаря современной системе образования сплошь и рядом возникают и обсуждаются такие вопросы, как тот, о котором вы говорили!.. Я, смею вас заверить, никогда бы не женился на протестантке, будь у нее даже миллионы… и люби я ее до потери сознания! Нельзя спорить о вере. «Uпа fides, unus Dominus»– вот мой девиз в сфере религии и в сфере политики.
– Вы слышите? – с торжеством воскликнула Селеста, взглянув на Феликса Фельона.
– Я не святоша, – продолжал ла Перад, – я хожу к обедне в шесть часов утра, когда меня никто не видит, я пощусь по пятницам, я, наконец, верный сын церкви и никогда не предпринимаю ничего серьезного, хорошенько не помолившись богу, как делали наши предки. Но я не афиширую свою веру… Во время революции тысяча семьсот восемьдесят девятого года в нашей семье произошло событие, которое еще сильнее, чем традиции, привязало нас к святой матери-церкви. Некая злосчастная мадемуазель де ла Перад, принадлежавшая к старшей ветви рода, владеющей небольшим поместьем де ла Перад, ибо мы, я и моя семья, принадлежим к младшей ветви ла Перад де Канкоэль, правда, обе ветви наследуют одна другой, – так вот, говорю я, эта барышня за шесть лет до революции вышла замуж за одного адвоката, который придерживался модных в ту пору идей и был вольтерьянцем, иначе говоря, неверующим или, если вам угодно, деистом. Он разделял революционные идеи и занимался введением многих прелестных новшеств, наподобие культа богини Свободы и Разума. В наши края он прибыл пропитанным до мозга костей новыми идеями, фанатическим приверженцем Конвента. Свою красавицу жену он заставил играть роль богини Свободы, и несчастная сошла с ума… Она так и умерла помешанной! Так вот, мы живем в такое время, что меня не удивит, если мы станем свидетелями нового тысяча семьсот девяносто третьего года!..
Эта ловко придуманная история произвела такое впечатление на свежий и неискушенный ум Селесты, что она порывисто поднялась, поклонилась обоим молодым людям и ушла к себе в комнату.
– Ах, сударь, что вы наделали! – воскликнул Феликс, пораженный до глубины души холодным взглядом, брошенным на него Селестой и выражавшим глубокое равнодушие. – Она уже видит себя в роли богини Разума…
– Что между вами произошло? – осведомился Теодоз.
– Речь шла о моем безразличии к вопросам веры.
– Это величайшая язва нашего века, – изрек Теодоз наставительным тоном.
– Вот и я, – прощебетала г-жа Кольвиль, появляясь на пороге гостиной в изысканном туалете. – Что случилось с моей бедной дочкой? Она плачет…
– Она плачет, сударыня?.. – воскликнул Феликс. – Передайте же ей, что я завтра же принимаюсь внимательнейшим образом изучать «Подражание Христу».
И Феликс вышел на улицу вместе с Теодозом и Флавией. Спускаясь по лестнице, адвокат сжал руку своей спутнице, давая этим понять, что он в карете объяснит ей причины необычайного возбуждения молодого ученого.
Через час чета Кольвилей, Селеста и Теодоз уже входили в дом Тюилье, куда они были приглашены к обеду. Теодоз и Флавия увлекли Тюилье в сад, и адвокат сказал ему:
– Добрый друг, через неделю ты будешь награжден крестом. Попроси любезную госпожу Кольвиль рассказать тебе о нашем визите к графине дю Брюэль…
С этими словами Теодоз отошел от Тюилье, ибо он увидел Дероша, направлявшегося к нему в сопровождении мадемуазель Тюилье. Идя навстречу поверенному, молодой человек ощущал, как его сердце сжимается от ужасного предчувствия.
– Милостивый государь, – шепнул Дерош на ухо похолодевшему Теодозу, – я пришел узнать, можете ли вы уплатить двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят франков шестьдесят сантимов, включая издержки?..
– Вы пришли как поверенный Серизе? – воскликнул адвокат.
– Он передал ваши векселя Лушару, а вы знаете, что вас ожидает в случае ареста. У Серизе есть основания полагать, что у вас в секретере хранятся двадцать пять тысяч франков. Вы собирались уплатить ему, и он находит вполне естественным, чтобы эти деньги не залеживались у вас…
– Благодарю вас за приход, милостивый государь, – сказал Теодоз, – я предвидел этот выпад…
– Между нами говоря, – заметил Дерош, – вы его славно одурачили… Пройдоха жаждет мести и ни перед чем не останавливается: ведь он все потеряет, если вы решите отказаться от адвокатского звания и пойти в тюрьму…
– Я? – воскликнул Теодоз. – Нет, что вы, я уплачу… Но у него в руках пять векселей по пять тысяч франков каждый, что он собирается с ними делать?
– О, после того, что произошло утром, я ничего не берусь предсказывать. Знаю только одно: мой клиент злобен, как паршивый пес, и у него свои планы…
– Скажите, Дерош, – обратился ла Перад к поверенному, обвивая рукой его прямой сухощавый стан, – векселя еще у вас?
– Вы хотите уплатить по ним?
– Да, не позднее чем через три часа.
– В таком случае будьте у меня к девяти, я приму деньги и возвращу вам векселя. Но в половине десятого они уже будут у Лушара.
– Превосходно, я буду у вас в девять вечера, – сказал Теодоз.
– В девять вечера, – повторил Дерош, обводя взглядом общество, собравшееся в саду.
Увидев Селесту, которая с еще заплаканными глазами беседовала с крестной матерью, Кольвиля и Бригитту, Флавию и Тюилье, Дерош, поднявшись на широкое крыльцо и готовясь войти в переднюю, сказал провожавшему его Теодозу:
– Ну, я вижу, вы вполне можете уплатить по векселям.
Дерошу, который заставил разговориться Серизе, достаточно было одного взгляда, чтобы оценить бешеную энергию адвоката.
На следующее утро, едва рассвело, Теодоз отправился к банкиру бедняков, чтобы полюбоваться, какое впечатление произвело на его врага то, что он полностью уплатил ему долг, и попробовать сделать еще одну попытку избавиться от этого овода.
Он застал Серизе на ногах; тот беседовал с какой-то женщиной и властным тоном приказал Теодозу не подходить к ним, чтобы не мешать разговору. Молодому человеку поэтому пришлось теряться в догадках о важности этой особы; о том, что она действительно важная особа, говорил озабоченный вид ростовщика. Теодоз смутно почувствовал, что предмет, о котором велась беседа, окажет влияние на дальнейшие поступки Серизе, ибо он прочел на лице своего компаньона ожидание и надежду.
– Но, дорогая, мамаша Кардинал…
– Да, достопочтенный господин Серизе…
– Чего же вы хотите?
– Необходимо решиться…
Обрывки фраз, долетавшие до слуха адвоката, не могли пролить свет на оживленную беседу, которая велась вполголоса, а то и просто шепотом. Вынужденный сохранять неподвижность, молодой человек внимательно разглядывал г-жу Кардинал.
Госпожа Кардинал принадлежала к числу постоянных клиентов Серизе, она торговала свежей рыбой. Если парижанам знакомы создания такого рода, процветающие на рынках столицы, то иностранцы даже не подозревают об их существовании, и мамаша Кардинал, выражаясь языком газетной хроники, заслуживала интереса, который испытывал к ней адвокат. На улицах Парижа женщины ее типа встречаются сотнями, и прохожий обращает на них не больше внимания, чем посетитель выставки – на три тысячи картин, развешанных на стенах. Но тут, вдали от уличной толчеи, г-жа Кардинал приобретала значение уникального шедевра, ибо как нельзя лучше воплощала черты целой категории людей.
Ее сабо были забрызганы грязью; она надевала их поверх домашних войлочных туфель, на ногах она носила толстые шерстяные чулки. На ситцевом платье, нижней оборкой которому служил толстый слой грязи, возле самой талии виднелся широкий след от перевязи, поддерживавшей лоток. Главной частью ее туалета была шаль, шутливо именуемая в народе кашемиром из кроличьей шерсти, два конца этой шали были завязаны на спине, над турнюром; мы намеренно употребляем это слово, которое в ходу у великосветских дам, дабы пояснить, на что походили ее юбки, стянутые поперечной перевязью: они пузырились на торговке, как листья на кочане капусты. Косынка из грубого руанского ситца оставляла открытой красную шею, испещренную глубокими полосами, как ледяная поверхность водоема ла Вилетт, излюбленного места конькобежцев. На макушке у нее красовался желтый шелковый платок, повязанный весьма живописно.
Низенькая и толстая, мамаша Кардинал, должно быть, каждое утро пропускала стаканчик водки, о чем свидетельствовал багровый румянец на ее щеках. В свое время она была хороша собой. Завсегдатаи Центрального рынка, чей язык отличается грубоватой, но сочной образностью, упрекали ее в том, что она предавалась ночным удовольствиям и после зари. Голос у старухи был как иерихонская труба, и для того, чтобы не оглушить собеседника, ей приходилось говорить шепотом, как обычно делают в комнате тяжелобольного; однако это ей плохо удавалось, и она хрипела и сипела, ибо ее глотка привыкла издавать пронзительные звуки: когда мамаша Кардинал выкрикивала названия рыбы, которой торговала, ее голос достигал верхних этажей домов и мансард. Нос, напоминавший нос Рокселаны, хорошо очерченный рот, голубые глаза – все, что некогда составляло ее привлекательность, теперь утопало в складках жира и густой сети морщин, покрывавших обветренное лицо. Грудь и живот этой женщины так и просились на полотно Рубенса.
– Вы что ж, хотите, чтобы я оказалась на соломе? – говорила она Серизе. – Что мне Пупилье?.. Я и сама Пупилье!.. Мне деваться некуда от всех этих Пупилье!..
Эта неистовая вспышка была потушена Серизе. Он свирепо взглянул на торговку рыбой и прошипел «Тс-с!» с таким видом, с каким это делают заговорщики.
– Ну, ладно, ступайте и взгляните, что там произошло, а потом возвращайтесь сюда, – сказал Серизе, подталкивая посетительницу к двери и что-то шепча ей на ухо.
– Итак, любезный друг, – обратился Теодоз к Серизе, – ты получил свои деньги?
– Да, мы измерили силу наших когтей, – отвечал Серизе, – они оказались одинаково длинными, прочными и острыми… Что ж дальше?
– Должен ли я сказать Дютоку, что ты получил вчера от меня двадцать семь тысяч?
– О нет, мой милый, ни слова ему!.. Если ты, конечно, меня любишь! – воскликнул Серизе.
– Послушай, – продолжал Теодоз. – Я хочу раз и навсегда понять, чего ты от меня добиваешься, я твердо решил больше ни одного дня не оставаться на раскаленных угольях, хотя вам это и доставляет удовольствие. Можешь сколько угодно водить за нос Дютока, мне это в высшей степени безразлично, но я хочу столковаться с тобой… Ты, должно быть, накопил, давая деньги в рост, не меньше десяти тысяч франков, вместе с полученными от меня двадцатью семью тысячами это составляет целое состояние, отныне ты можешь сделаться порядочным человеком. Серизе, если ты оставишь меня в покое, если ты не станешь мешать мне жениться на мадемуазель Кольвиль, я еще буду королевским адвокатом в Париже, а тебе не мешает заручиться поддержкой в судейских кругах.
– Вот мои условия, обсуждать я их не намерен: либо принимай, либо отказывайся. Ты поможешь мне сделаться главным квартиронанимателем в новом доме Тюилье сроком на восемнадцать лет, а я верну тебе один из не оплаченных еще тобою векселей. Больше я не буду становиться на твоем пути, ты сам уладишь с Дютоком вопрос об остальных четырех векселях… Если уж ты одержал верх надо мною, то легко справишься и с Дютоком…
– Я согласен, если ты готов вносить арендную плату в размере сорока восьми тысяч франков в год, причем за последний год тебе придется внести ее авансом, срок аренды начинается с октября…
– Идет, но только я заплачу сорок три тысячи, за пять тысяч пойдет твой вексель. Я видел дом, я его хорошенько осмотрел, он мне подходит.
– Еще одно условие, – прибавил Теодоз, – ты поможешь мне в борьбе с Дютоком.
– Нет, – отрезал Серизе, – ты и без того задашь ему жару, а если и я еще начну его шпиговать, то бедняга выпустит весь сок. Надо быть разумным. Несчастный не знает, откуда взять пятнадцать тысяч франков, которые он еще не внес в уплату за должность, теперь тебе это известно, и ты сможешь выкупить за пятнадцать тысяч свои векселя.
– Ну, хорошо, через две недели ты подпишешь арендный договор…
– Даю тебе время только до понедельника! Во вторник вексель на пять тысяч франков будет опротестован, если в понедельник ты не заплатишь мне деньги и Тюилье не подпишет со мною контракт.
– Ладно, пусть в понедельник! – сказал Теодоз. – Но теперь мы по крайней мере друзья?
– Мы станем ими в понедельник, – проворчал Серизе.
– В понедельник так в понедельник! Но ты хотя бы угостишь меня обедом? – усмехнулся Теодоз.
– После подписания договора я повезу тебя в «Роше де Канкаль». Там будет и Дюток. Мы вместе посмеемся… Давно уже я не смеялся.
Теодоз и Серизе пожали друг другу руки и в один голос воскликнули:
– До скорого свидания!
У Серизе были свои причины быстро сменить гнев на милость. Ему пришлось признать правоту Дероша, утверждавшего, что «злость не способствует успеху в делах». Убедившись на собственном опыте в справедливости этих слов, ростовщик хладнокровно решил извлечь пользу из создавшегося положения и, как он выражался, выпустить кровь из коварного провансальца.
– Вы должны взять реванш, – заметил ему Дерош, – а ведь малый у вас в руках… Попробуйте-ка вытянуть из него все, что можно.
За последние десять лет немало знакомых Серизе разбогатели, сделавшись главными квартиронанимателями в домах. Главный квартиронаниматель в Париже играет в отношении домовладельца ту же роль, какую играют арендаторы в отношении землевладельцев. Весь Париж был свидетелем того, как один из прославленных портных воздвиг на небольшой площади, рядом с кафе Фраскати, на углу бульвара и улицы Ришелье, роскошный дом; он получил такую возможность потому, что был главным квартиронанимателем в особняке, арендная плата за который составляла не меньше пятидесяти тысяч франков в год. Несмотря на то, что стоимость здания достигала семисот тысяч франков, квартирная плата за девятнадцать лет должна была обеспечить ему немалые барыши.
Серизе, уже давно искавший выгодное дельце, внимательно взвесил все шансы на получение прибыли, на которую мог рассчитывать главный квартиронаниматель дома, украденного Тюилье, – такое выражение употребил Серизе, беседуя с Дерошем. Ловкий экспедитор понял, что через шесть лет он сможет от себя сдавать этот дом внаймы не меньше чем за шестьдесят тысяч франков, ибо в нем нетрудно было расположить четыре лавки, по две с каждой стороны, и стоял он необыкновенно удобно, на углу бульвара.
Серизе надеялся зарабатывать по десять тысяч франков ежегодно в течение двенадцати лет, не говоря о различных случайных доходах и приплатах при каждом возобновлении контракта о найме помещений: он заранее решил, что будет заключать контракты с торговцами лишь на шесть лет. Он предполагал уступить имевшиеся в его распоряжении векселя вдове Пуаре и Кадене за десять тысяч франков, десять тысяч франков у него было прикоплено; присоединив к ним деньги, полученные от Теодоза, он мог внести аванс за первый год, который домовладельцы имеют обыкновение требовать в качестве гарантии с главных квартиронанимателей. Вот почему Серизе провел блаженную ночь; засыпая, он мечтал о том недалеком времени, когда займется почтенным ремеслом и станет столь же уважаемым буржуа, как Тюилье, как Минар и многие другие.
Поэтому он решил отказаться от прежнего намерения приобрести дом, который строился на улице Жоффруа-Мари. Но пробуждение Серизе было неожиданным и необычайным: в лице г-жи Кардинал пред ним предстала Фортуна с позолоченными рогами изобилия.
Он всегда относился с некоторым вниманием к этой особе и не раз обещал ей, особенно за последний год, ссудить сумму, необходимую для покупки осла и маленькой тележки, что позволило бы ей увеличить размах своей торговли, обслуживая не только Париж, но и пригороды. Г-жа Кардинал, вдова грузчика, работавшего на Центральном рынке, имела единственную дочь, рассказами о красоте которой местные кумушки прожужжали Серизе все уши. Когда он в 1837 году поселился в этом квартале и начал давать деньги в рост, Олимпии Кардинал было всего тринадцать лет; низкий развратник обратил внимание на девочку и начал обхаживать мамашу: он помог торговке рыбой выбиться из крайней нищеты, надеясь сделать Олимпию своей любовницей. Однако в 1838 году дочка сбежала от матери и зажила веселой жизнью, как выражаются простые люди Парижа, желая пояснить, что женщина пускает в оборот свою красоту и молодость.
Отыскать девушку в Париже так же трудно, как поймать уклейку в Сене, – она только случайно может попасться в сети. Такой случай произошел. Мамаша Кардинал, желая отблагодарить некую кумушку, повела ее в театр Бобино и обнаружила в героине пьесы свою дочь, которая уже три года находилась в полном подчинении у первого комика театра. Сначала матери польстило, что дочь выходила на сцену в красивом парчовом платье, причесанная, как герцогиня, в ажурных чулочках и атласных туфельках, причем публика встречала ее аплодисментами. Но под конец торговка не выдержала и крикнула с места:
– Погоди, ты еще получишь от меня весточку, убийца собственной матери!.. Я узнаю, позволено ли жалким актеришкам развращать тринадцатилетних девочек!..
Госпожа Кардинал решила подстеречь дочь у выхода из театра, но героиня пьесы и первый комик, должно быть, спрыгнули со сцены прямо в зрительный зал и смешались с публикой, а тем временем вдова Кардинал и тетка Магудо, ее закадычная приятельница, подняли у служебного выхода из театра адский шум, так что двум муниципальным гвардейцам с трудом удалось их унять. Сии блюстители порядка заставили торговок несколько умерить тон и объяснили матери, что девушка в шестнадцать лет имеет право выступать на сцене; затем они посоветовали рассерженной матроне перестать скандалить возле кабинета директора театра, а обратиться лучше к мировому судье или в полицию, по ее выбору.
На следующий день г-жа Кардинал решила обратиться за советом к нему, ибо он, как ей было известно, служил в канцелярии мирового судьи; но она была буквально ошарашена появлением привратника дома, где обитал ее дядя, старик Пупилье: этот привратник, по имени Пераш, сообщил ей, что старикан вот-вот преставится и что жить ему осталось, во всяком случае, не больше двух дней.
– Ну, а я-то что могу сделать? – воскликнула торговка рыбой.
– Мы рассчитываем на вас, любезная госпожа Кардинал, ведь вы не забудете о нас во внимание к доброму совету, который мы вам дадим. Дело вот в чем: в последние дни ваш бедный дядюшка, будучи не в силах передвигаться, оказал мне доверие и поручил собрать квартирную плату в принадлежащем ему доме на улице Нотр-Дам-де-Назарет и получить причитающиеся ему по купонам ренты, выданной государственной казной, деньги в сумме тысячи восьмисот франков…
При этом известии бегающие глазки вдовы Кардинал округлились и едва не вылезли из орбит.
– Да, да, моя милая, – продолжал г-н Пераш, низенький и горбатый человечек. – Вот мы и подумали, что так как только вы одна вспоминаете о нем, навещаете его и даже приносите ему иногда рыбу, старик, быть может, захочет отказать вам свое состояние… Все эти дни моя жена ходила за ним и заботилась о нем, она говорила о вас, но он не разрешил сообщить вам о его болезни… Но теперь, думается, вам пора пойти к больному. Ведь он, черт побери, уже два месяца не занимается своим делом.
– Согласитесь сами, уважаемый мастер, – сказала мамаша Кардинал привратнику, который подрабатывал сапожным ремеслом, – легче поверить в то, что на ладони могут вырасти волосы, чем в то, что вы мне только что сказали!.. Как! Оказывается, мой дядюшка Пупилье, этот всем известный нищий из церкви Сен-Сюльпис, на самом деле богач! – твердила торговка рыбой, торопливо следуя за привратником по направлению к улице Оноре-Шевалье, где в отвратительной мансарде ютился ее дядя.
– Должен сказать, что он отлично питался, – заметил привратник, – каждый вечер он ложился в постель со своей подружкой – огромной бутылкой руссильонского вина. Он говорил нам, что вино стоит шесть су, но это неправда, моя жена сама его отведала. Этот славный напиток поставлял старику виноторговец с улицы Канет.
– Помалкивайте обо всем, любезный, – сказала вдова Кардинал, – я о вас позабочусь… если только после него что-нибудь останется.
Пупилье, в молодости служивший барабанщиком во французской гвардии, за несколько лет до революции 1789 года перешел на службу в церковь Сен-Сюльпис, на должность привратника. Революция лишила его этого места, и он впал в крайнюю нищету. Ему пришлось заняться ремеслом натурщика, ибо он обладал привлекательной внешностью.
Когда церковь вновь обрела свои права, Пупилье опять взял в руки алебарду; однако в 1816 году он был отрешен от должности – как по причине безнравственного поведения, так и по причине преклонного возраста: полагали, что ему семьдесят лет. Тем не менее вместо пенсии ему разрешили стоять на паперти, у входа в храм, где он предлагал святую воду. В 1820 году это доходное занятие стало предметом зависти, и Пупилье уступил его другому после того, как получил обещание, что ему разрешат собирать милостыню на паперти. Ему было в то время шестьдесят пять лет, но он утверждал, что ему девяносто шесть, ибо столетнему старцу охотнее подают.
Во всем Париже невозможно было сыскать другого человека, который мог бы похвалиться такой всклокоченной шевелюрой и бородой. Бедняга сгибался в три погибели, посох плясал в его дрожащей руке, изъеденной лишаями, как бывает изъеден гранитный утес; он протягивал прохожим неописуемую шляпу – грязную, с измятыми полями, зашитую в нескольких местах, и сердобольные люди щедро бросали в нее монеты. На ногах, обернутых тряпками и лохмотьями, он носил ветхие плетеные туфли, внутри которых были, однако, отличные мягкие стельки из конского волоса. Лицо старик посыпал и смазывал различными снадобьями, они создавали видимость язв, пятен и отеков – признаков тяжких болезней; словом, он великолепно играл роль дряхлого старца. Начиная с 1825 года Пупилье всем говорил, будто ему стукнуло сто лет, хотя на самом деле ему исполнилось лишь семьдесят. Пупилье помыкал другими нищими, он чувствовал себя полновластным хозяином паперти. И все тунеядцы, просившие милостыню на паперти, не боясь полиции, ибо они находились под защитой церковного привратника, сторожа, человека, кропившего верующих святой водой, и всего клира, уплачивали своему негласному властителю Пупилье своеобразную десятину.
Когда при выходе из церкви какой-нибудь наследник, молодой муж или крестный отец говорил, протягивая деньги: «Вот вам на всех, пусть никто не будет в обиде», – Пупилье, которого привратник, унаследовавший свою должность от старика, выталкивал вперед, прикарманивал три четверти даяния и лишь четвертую часть отдавал нищей братии; при этом он еще взимал с каждого по одному су в день. С 1820 года в душе старика теплились только два чувства – скупость и страсть к вину. Пупилье не отказывал себе в напитках, но соблюдал известную меру. Он напивался только после обеда, по вечерам, когда церковь была уже закрыта, и на протяжении двадцати лет сладко засыпал, сжимая в объятиях свою последнюю любовницу – бутылку с вином.
Каждый день спозаранку он уже стоял во всеоружии на своем посту. С утра и до обеда – а обедал старик у знаменитого папаши Латюиля, прославленного карандашом Шарле, – он жевал черствые корки хлеба и делал это столь артистически, с таким безропотным видом, что подаяния сыпались на него, как из рога изобилия. Привратник и человек, кропивший верующих святой водой, с которыми Пупилье, возможно, был в сговоре, с похвалой отзывались о нем:
– Это старейший нищий нашей церкви, он еще знавал кюре Ланге, который строил Сен-Сюльпис, двадцать лет он был привратником сего храма, и до революции и после нее. Теперь ему стукнуло сто лет.
Эта краткая биография, известная всем святошам, была самой отменной рекомендацией, и ни в одной шляпе парижского нищего не набиралось к вечеру столько монет. В 1826 году Пупилье купил себе дом, а в 1830 году приобрел государственную ренту.
Оба этих источника дохода приносили ему до шести тысяч франков в год, и он, по примеру Серизе, давал деньги в рост; стоимость дома, принадлежавшего Пупилье, достигала сорока тысяч франков, а стоимость ренты – сорока восьми тысяч. Племянница старого хитреца, как и привратники, младшие служители церкви и верующие, не подозревала о богатстве Пупилье и думала, что он беднее ее; вот почему она порою приносила ему рыбу. Поэтому мамаша Кардинал сочла себя вправе извлечь пользу из своих приношений и сочувствия к старику, у которого, видимо, имелась целая куча не известных ей родственников по боковой линии: ведь сама она была третьей дочерью рассыльного, и у нее было четыре брата. В детстве отец рассказывал девочке, что у нее есть три тетки и четверо дядюшек, ведущих самое нелепое существование.
Проведав старика Пупилье, г-жа Кардинал опрометью кинулась к Серизе, чтобы посоветоваться с ним. Она рассказала ростовщику о встрече с дочерью, а затем поделилась множеством соображений, наблюдений и признаков, указывавших на то, что старик, должно быть, прячет целую кучу золота в постели. Мамаша Кардинал не знала, каким способом – законным или незаконным – лучше завладеть наследством нищего, и поэтому сочла полезным довериться Серизе.
Ростовщик бедняков смахивал на золотаря, который, копаясь в нечистотах, порою находит там драгоценности: Серизе уже четыре года барахтался в грязи, поджидая такого случая, он знал, что подобные вещи порою происходят в предместьях, где люди, еще вчера носившие сабо, назавтра просыпаются богатыми наследниками. Вот почему он столь благодушно беседовал с человеком, которого поклялся разорить… Надо ли говорить, в какой тревоге Серизе ожидал возвращения вдовы Кардинал: этот мастер низких интриг дал ей точные указания, каким путем проверить возникшие у нее подозрения, что нищий прячет у себя в комнате сокровище. На прощание Серизе пообещал торговке золотые горы, если она согласится поручить ему собрать золотую жатву. Экспедитор принадлежал к числу людей, не останавливающихся даже перед преступлением, особенно если преступление это можно совершить чужими руками, а барыш присвоить себе. Мысленно он уже покупал дом на улице Жоффруа-Мари, видел себя парижским буржуа, капиталистом, ворочающим делами.
– Любезный мой Бенжамен, – воскликнула торговка рыбой, возвращаясь к Серизе, вся красная от быстрого бега и алчности, – мой дядюшка прячет в матрасе по меньшей мере сто тысяч франков золотом!.. Я уверена, эти Пераши и взялись-то ухаживать за ним, чтобы запустить руку в его кубышку.
– Если разделить это состояние между сорока наследниками, – заметил Серизе, – то каждому не много достанется. Послушайте, мамаша Кардинал, я женюсь на вашей дочери, дайте ей в приданое золото своего дядюшки, а я вам оставлю его ренту и дом… с пожизненным пользованием доходами.
– А мы ничем не рискуем?
– Ничем.
– По рукам! – вскричала вдова Кардинал. – Ох, и заживу же я на шесть тысяч франков дохода!
– И в придачу у вас будет такой зять, как я, – прибавил Серизе.
– Стало быть, я отныне буду принадлежать к парижским богачам! – в упоении заявила торговка.
– А теперь, – продолжал Серизе после паузы, вызванной тем, что будущие зять и теща лобызали друг друга, – я должен произвести разведку на местности. Отправляйтесь к дядюшке и никуда не уходите оттуда. Привратнику скажите, будто ждете врача, этим врачом буду я, смотрите только не покажите вида, что мы знакомы.
– Ну и ловкач же ты, ну и пройдоха! – воскликнула мамаша Кардинал и на прощание похлопала Серизе по животу.
Через час Серизе, одетый в черную пару с рыжим париком на голове и искусно загримированным лицом, прибыл на улицу Оноре-Шевалье в наемном кабриолете. Он попросил указать ему жилище нищего по имени Пупилье. Привратник, тачавший в это время сапог, осведомился у него:
– Сударь, вы и есть врач, которого ждет госпожа Кардинал?
Серизе утвердительно кивнул головой, и горбун проводил его к узкой лестнице, которая вела на мансарду, где жил нищий.
Пераш вышел на порог привратницкой и принялся расспрашивать кучера кабриолета; тот подтвердил, что господин, которого он привез, – действительно доктор.
Дом, где проживал Пупилье, принадлежал к числу тех плоских и длинных зданий, какими застроена улица Оноре-Шевалье – одна из самых узких в квартале Сен-Сюльпис. Закон запрещал домовладельцу надстраивать и восстанавливать строение, и тот был вынужден сдать внаем этот барак в том виде, в каком он его приобрел. Дом с необыкновенно уродливым фасадом был двухэтажный с мансардами. Справа и слева к нему под углом были пристроены два флигелька. Двор заканчивался садом, им пользовались жильцы квартиры, расположенной во втором этаже. Сад, где росло немало деревьев, был отделен от двора решеткой; будь домовладелец человеком богатым, он мог бы продать сад вместе с домом городу, а во дворе построить новое здание. Однако домовладелец был небогат, к тому же он отдал внаем второй этаж сроком на восемнадцать лет какому-то загадочному человеку, которого не мог раскусить ни сыщик-любитель, каким был знакомый нам привратник, ни жильцы, отнюдь не страдавшие отсутствием любопытства.
Этот квартиронаниматель, человек лет семидесяти, еще в 1829 году пристроил к окну флигелька, выходившего в сад, специальную лестницу, позволявшую ему спускаться, минуя двор, в этот сад и прогуливаться в нем. Левую половину нижнего этажа занимал брошюровщик, лет десять назад превративший каретные сараи и конюшни в мастерские, а правую половину – переплетчик. Оба они занимали также половину мансард, выходивших на улицу. Мансарды, шедшие над флигелем, чьи окна глядели в сад, принадлежали загадочному жильцу. Мансарда же, венчавшая второй флигелек, служила жилищем Пупилье, он платил за нее сто франков в год; попасть туда можно было по лестнице, освещенной узкими оконцами. Ворота были с глубокой нишей, так как на этой узкой улице две телеги уже не могли разъехаться.
Серизе ухватился за веревку, заменявшую перила на лестнице, которая вела в комнату, где умирал старик. Там его глазам должно было предстать зрелище показной нищеты.
В Париже все, что люди делают намеренно, им великолепно удается. Нищие в этом смысле не составляют исключения: они напоминают лавочников, искусно украшающих витрины, и людей, которые, желая получить кредит, ловко пускают пыль в глаза заимодавцам.
Пол в комнате Пупилье никогда не подметался; дерева не было видно, оно было скрыто своеобразной циновкой, образовавшейся из нечистот, пыли, высохшей грязи и различного мусора. Дрянная чугунная печурка с трубой, выведенной в простенок над полуразрушенным камином, украшала это логово; в глубине виднелся альков, там стояла кровать, чем-то напоминавшая гробницу; полог из зеленой саржи настолько обветшал и изорвался, что походил на кружево. Слепое оконце являло взору такое пыльное и грязное стекло, что занавеска тут была излишней. Стены, некогда побеленные, теперь были покрыты густым слоем копоти: нищий топил печурку углем и торфом. На камине стоял выщербленный кувшин для воды, две бутылки и разбитая тарелка. Источенный червями, убогий комод служил вместилищем для белья и чистой одежды. Вся мебель в комнате состояла из дешевого ночного столика, неструганого стола стоимостью в два франка и двух кухонных стульев с продавленными сиденьями из соломы. Живописное платье старика висело на гвозде, из-под кровати высовывались растоптанные плетеные туфли, заменявшие башмаки. Чудодейственный посох и шляпа находились возле алькова.
Войдя в комнату, Серизе бросил взгляд на больного: тот лежал на почерневшей от грязи подушке без наволочки. Его резко очерченный профиль, напоминавший те, какими в прошлом веке граверы любили украшать барельефы, которые и ныне еще можно встретить на домах вдоль бульваров, вырисовывался темным силуэтом на фоне зеленого занавеса. Пупилье, высокий и костистый старик, пристально созерцал какой-то воображаемый предмет в изножье кровати; он даже не пошевелился, услышав, как заскрипела тяжелая, обитая железом дверь с крепким засовом, надежно закрывавшая вход в жилище.
– Он в сознании? – спросил Серизе.
Мамаша Кардинал испуганно попятилась от неожиданности: она узнала вошедшего только по голосу.
– Вроде в сознании, – ответила она.
– Выйдем на лестницу, там нас никто не услышит. Вот мой план, – зашептал Серизе на ухо своей будущей теще. – Старик сильно ослабел, но вид у него еще бодрый, так что в нашем распоряжении не меньше недели. Впрочем, я привезу сюда надежного врача. Сам я снова приду во вторник с шестью головками мака. Пупилье в таком состоянии, что настой из мака, которым мы его попотчуем, заставит сердечного уснуть крепким сном. Я пришлю вам походную кровать под тем предлогом, что вам придется проводить ночи возле больного. Мы перенесем его с кровати под зеленым балдахином на походную и узнаем, много ли денег хранится в драгоценном ложе. Ну, а там придумаем, как их вынести! Врач скажет нам, сколько дней осталось жить старику и, главное, способен ли он еще написать завещание…
– Сынок!.. – вырвалось у торговки.
– Но мне надо знать, кто живет в этом дрянном бараке! Пераши могут поднять тревогу, а потом, как говорится, сколько жильцов, столько и шпионов!
– Пустяки! Я уже узнала, что бельэтаж занимает некий господин дю Портайль, невысокий старичок, опекун сумасшедшей девушки по имени Лидия, я слышала, как он с нею утром разговаривал. Ходит за ней старая фламандка, ее зовут Катт. У старика в услужении есть еще камердинер, Брюно, он все делает по дому, только обед не варит.
– Да, но переплетчик и брошюровщик, – заметил Серизе, – работают с раннего утра… А пока пойдем в мэрию. Для оглашения о предстоящем браке мне нужно указать все имена вашей дочери и место ее рождения, чтобы выправить необходимые бумаги. В следующую субботу, в восемь вечера, сыграем свадебку!
– Ну и хват, ну и молодец! – проговорила мамаша Кардинал, по-свойски толкая плечом грозного зятя.
Спустившись по лестнице, Серизе с удивлением увидел, что маленький старичок дю Портайль прогуливается по саду с одним из самых влиятельных членов правительства, графом Марсиалем де ла Рош-Югоном. Экспедитор остановился во дворе и сделал вид, будто внимательно изучает старый дом, построенный еще во времена Людовика XIV; желтые стены из тесаного камня обветшали не меньше, чем старик Пупилье. Исподтишка Серизе кинул взгляд на обе мастерские и подсчитал число работников в них. В доме было тихо, как в монастыре. Сделав нужные наблюдения, Серизе удалился, размышляя о трудностях, с какими будет сопряжено похищение денег, запрятанных умирающим, хотя, как известно, золото занимает не много места.
– Вынести деньги ночью? – пробормотал Серизе. – Но привратник и его жена все время начеку, а днем – и того хуже, за тобой будут следить двадцать пар глаз… Не так-то просто вынести на себе двадцать пять тысяч франков золотом…
Человеческому обществу присущи две формы совершенства: в первом случае цивилизация и нравственность находятся на столь высоком уровне, что уже сами по себе исключают возможность преступления; иезуиты стремились к этой возвышенной форме совершенства, которая была свойственна ранним христианам; во втором случае цивилизация находится на таком уровне, когда взаимное наблюдение граждан друг за другом делает преступление невозможным. Именно к такой форме совершенства стремится современное общество: в нем преступление сопряжено с такими трудностями, что только человек, неспособный рассуждать, совершает его. И действительно, ни одно из правонарушений, даже ускользнувших от возмездия закона, не остается безнаказанным, и приговор общественного мнения бывает подчас еще суровее, нежели судебный приговор. Пусть какой-нибудь человек, подобно Миноре, нотариусу из Немура, уничтожит завещание без свидетелей, это преступление будет раскрыто людьми добродетельными так же, как воровство раскрывается полицейскими агентами. Любое проявление непорядочности будет раньше или позже замечено, и любой тайный ущерб, нанесенный ближнему, так или иначе станет явным. В наши дни ни люди, ни вещи не исчезают бесследно, особенно в Париже, где предметы обстановки перенумерованы, дома охраняются, улицы находятся под наблюдением, площади кишат добровольными шпионами. Нарушение закона получает право на существование лишь в том случае, если его санкционирует столь авторитетное учреждение, как биржа, или если оно совершается с общего согласия: так, к примеру, клиенты Серизе не жаловались на незаконные поборы, которыми облагал их ростовщик; больше того, они бы задрожали от ужаса, если бы не нашли его на посту – в кухне, во вторник утром.
– Ну, что вы скажете, сударь, – спросила привратница, идя навстречу Серизе, – как себя чувствует наш бедный больной, этот божий человек?..
– Я поверенный госпожи Кардинал, – ответил Серизе, – и посоветовал ей поставить в комнате старика походную кровать, чтобы ухаживать за ним. Я нынче же пришлю нотариуса, врача и сиделку.
– О, с обязанностями сиделки я бы отлично управилась, – заметила госпожа Пераш, – ведь я ходила за роженицами.
– Ну что ж! Там видно будет, – отозвался Серизе, – я это улажу… Скажите, кто занимает бельэтаж?
– Господин дю Портайль… Он уже тридцать лет здесь живет, это рантье, весьма почтенный старик… Вы, верно, и сами знаете, рантье живут на свою ренту… В прошлом он ворочал делами… Скоро уже одиннадцать лет, как он пытается вернуть рассудок дочке одного из своих друзей, мадемуазель Лидии де ла Перад. О, за ней так заботливо ухаживают, ее пользуют два самых знаменитых врача… Но только до сих пор все было напрасно, рассудок к бедняжке не возвращается!
– Ее зовут Лидия де ла Перад? – изумился Серизе. – Вы уверены?
– Ее гувернантка, госпожа Катт, она, кстати, и обед готовит, называла мне это имя сто раз, хотя, вообще говоря, ни господин Брюно, камердинер старика, ни госпожа Катт болтать не любят. Обращаться к ним с вопросами бесполезно: молчат, как каменные… Мой муж уже двадцать лет привратник, а о господине дю Портайле мы так ничего толком и не выведали. Я вам вот еще что скажу, сударь, ведь ему принадлежит боковой флигель, видите, вон там, где калитка! А потому он может по своему желанию выходить на улицу и принимать гостей, а мы о том даже и не знаем. Да и наш домовладелец знает не больше, чем мы: ведь, когда звонят у калитки, открывать идет господин Брюно…
– Стало быть, вы не видали, как вошел человек, с которым сейчас беседует ваш загадочный старичок? – спросил Серизе.
– Вот так штука! А я и не подозревала, что к нему кто-то пришел…
«Лидия – дочь дяди Теодоза, – сказал себе Серизе, усаживаясь в кабриолет. – А дю Портайль, должно быть, тот самый таинственный покровитель, который в свое время прислал моему дружку две с половиной тысячи франков… Что, если я предварю старика анонимным письмом об опасности, угрожающей молодому адвокату, который должен по векселям двадцать тысяч франков?»
Через час походная кровать для г-жи Кардинал была доставлена; любопытная привратница предложила торговке свои услуги для приготовления обеда.
– Не хотите ли вы повидать господина кюре? – спросила мамаша Кардинал у больного, с интересом разглядывавшего новую кровать.
– Я хочу вина! – проворчал нищий. – И ничего больше.
– Как вы себя чувствуете, папаша Пупилье? – осведомилась привратница.
– Никак я себя не чувствую, – ухмыльнулся старик, – вот уже двенадцать дней, как я не занимаюсь своим ремеслом…
Этот человек, много лет стоявший на паперти церкви Сен-Сюльпис, считал нищенство ремеслом…
– Он приходит в себя, – прошептала мамаша Кардинал.
– Они меня обворовывают, они там управляются без меня, – продолжал старик, бросая вокруг угрожающие взгляды. – А, это ты, крошка Кардинал? Клянусь святым храмом…
– Как я рада, что вы пришли в себя! – воскликнула крошка Кардинал, которой было без малого сорок лет.
Старец снова откинулся на подушку.
– Неважно, он еще в силах подписать завещание, как говорит наша обезьяна, – проворчала торговка рыбой.
Читателю должно быть известно, что в народе прозвище «обезьяна» дается поверенным и нотариусам. Называют так и подрядчиков.
– Надеюсь, вы обо мне не забудете, – умильным голосом сказала привратница. – Ведь это я велела Перашу сходить за вами.
– Забыть о вас? Да я скорее забуду о боге, моя милая… Какая же я буду Пупилье, если, получив свою долю, не насыплю вам полный передник монет…
Вечером снова вернулся Серизе; он покончил со всеми хлопотами, связанными с получением необходимых для бракосочетания бумаг, и побывал в мэриях двух округов, где сделал оглашение. Одной чашки настоя из мака оказалось достаточно, чтобы усыпить старика Пупилье. Достойная племянница и Серизе взяли больного за голову и за ноги и перенесли его с одной кровати на другую. Затем, не испытывая никакого стыда, торопливо перерыли постель; они даже вспороли матрас, этот несгораемый шкаф нищих. В матрасе ничего не оказалось, зато под ним вместо сетки они увидели деревянный ящик. Нетерпеливые наследники вскоре обнаружили в ящике двойное дно, и тогда стало понятно, почему мамаша Кардинал не смогла утром сдвинуть с места это тяжелое ложе. Через несколько минут Серизе, тщательно исследовав тайник, понял, что внутренний ящик замаскирован дощечкой, которая выдвигается, подобно крышке пенала. Он вытащил эту деревянную пластинку, и его глазам открылись четыре ящика, шириною в три дюйма каждый, набитые золотыми монетами.
– Мы заменим золото медяками, – ухмыльнулся Серизе, подталкивая локтем свою сообщницу.
– А много ли тут денег?
– Больше ста тысяч франков, в каждом ящике – по меньшей мере тридцать тысяч, – ответил Серизе, – славное приданое для вашей дочери. А теперь перенесем старика на его кровать. Раз секрет тайника нам известен, мы без труда разработаем эту золотую жилу…
– Должно быть, он откопал такую кровать скупца у какого-нибудь торговца мебелью, – заметила госпожа Кардинал.
– Давайте посмотрим, смогу ли я унести за раз тысячу монет по сорок франков, – сказал Серизе, набивая золотом карманы.
В карманы панталон вошло триста золотых монет, в жилетные – двести, а в каждый из двух карманов сюртука он вложил по двести пятьдесят монет, предварительно завязав их в свой носовой платок и в платок мамаши Кардинал.
– Ну как, очень заметно, что я нагружен? – спросил он, прохаживаясь по комнате.
– Вовсе нет!..
– Так вот, за четыре раза я перетащу к себе все золото из ящиков.
Спящего старика перенесли на его ложе, а Серизе отправился на площадь Сен-Сюльпис, где нанял фиакр и поехал домой. Чтобы не возбуждать подозрений, он вскоре вновь возвратился в сопровождении врача из квартала Сен-Марсель, обычно пользовавшего бедняков и хорошо знавшего их недуги. Осмотр больного продолжался до девяти часов вечера. Врач, введенный в заблуждение глубоким забытьем больного, которое было вызвано настойкой мака, заявил, что тот не протянет и трех дней. Как только врач уехал, Серизе взял…
(На этом заканчивается текст, оставленный Бальзаком).
Деловой человек
Господину барону Джемсу Ротшильду, генеральному австрийскому консулу в Париже, банкиру.
Слово «лоретка» было придумано для того, чтобы дать пристойное название некоему разряду девиц, или же девицам того трудноопределимого разряда, который Французская академия, по причине своего целомудрия, а также ввиду возраста своих сорока членов, не сочла за благо обозначить точнее. Когда новое слово вполне выражает общественное явление, говорить о котором без околичностей невозможно, жизненность такого слова обеспечена. Так, слово «лоретка» проникло во все слои общества, даже в те, куда сама лоретка никогда не проникнет. Слово это родилось только в 1840 году, по всей вероятности, вследствие скопления гнезд этих ласточек по соседству с церковью Лоретской божьей матери. Наше объяснение предназначено только для грамматиков. Сии господа не оказались бы в таком затруднении, если бы писатели средневековья так же тщательно изображали нравы, как делаем мы, в наш век анализа и описаний.
Мадемуазель Тюркэ, или Малага, – ибо под этим боевым именем она гораздо более известна (см. «Мнимая любовница»), – одна из первых прихожанок этой очаровательной церкви. Девица веселая, остроумная и не имевшая иного богатства, кроме красоты, Малага в то время, к которому относится наша история, составляла счастье одного нотариуса; супруга его была женщиной, пожалуй, чересчур набожной, чересчур чопорной, чересчур сухой для того, чтобы он мог вкушать блаженство у домашнего очага. Итак, однажды вечером, на масленой, достопочтенный Кардо угощал у мадемуазель Тюркэ стряпчего Дероша, карикатуриста Бисиу, журналиста Лусто и Натана, – их имена, столь хорошо известные по «Человеческой комедии», делают излишней какую бы то ни было характеристику. Юный ла Пальферин, чей старинный графский титул можно было сравнить с древней скалой, увы, лишенной малейшей прожилки благородного металла, почтил своим присутствием незаконный приют нотариуса. За обедом у лоретки не угощают патриархальной говядиной, тощим супружеским цыпленком или семейным салатом, не услышишь здесь и лицемерных речей, какие произносят в салоне, украшенном добродетельными женами буржуа. Ах! Когда же наконец добрые нравы станут привлекательными? Когда наконец светские дамы будут меньше показывать плечи, но выкажут больше ума и простодушия? Маргарита Тюркэ, эта Аспазия из цирка Олимпик, принадлежала к числу непосредственных и живых натур, которым прощают все за наивность в грехе и за лукавство в раскаянии, которым говорят: «Обманывай меня ловчее!» – как ей и говорил Кардо, человек довольно остроумный, хотя и нотариус. Не вообразите, однако, чего-нибудь уж слишком дурного. Просто Дерош и Кардо, как люди весьма покладистые и ловкие дельцы, почитали за благо держаться на дружеской ноге с Бисиу, Лусто, Натаном и молодым графом. А эти господа, нередко прибегавшие к услугам обоих должностных лиц, слишком хорошо их знали, чтобы, выражаясь языком лореток, их обставлять.
Беседа, благоухавшая ароматом семи сигар, сначала игривая, словно выпущенная на свободу козочка, остановилась на стратегии, выработавшейся в Париже в результате непрекращающейся войны между должником и заимодавцем. И если вы соизволите припомнить обстоятельства жизни гостей, собравшихся у Малаги, то, конечно, согласитесь, что в Париже с трудом найдешь людей более осведомленных в этой области: одни – завзятые крючкотворы, другие – свободные художники, они походили на пересмеивающихся между собой судей и ответчиков. Серия рисунков, которые Бисиу посвятил долговой тюрьме Клиши, послужила поводом для нового оборота разговора. Была полночь. Собеседники, непринужденно рассевшиеся в гостиной вокруг стола и перед камином, обменивались остротами, которые, мало того, что понятны и возможны только в Париже, но даже и в самом Париже возникают и могут быть поняты лишь в одной определенной части города, очерченной улицами Фобур-Монмартр и Шоссе д'Антен, возвышенной частью улицы Наваррен и полосой бульваров.
Глубокие мысли, серьезные и пустяковые поучения, все прибаутки на эту тему, исчерпанную, впрочем, Рабле уже в 1500 году, были вновь исчерпаны за десять минут. Отказаться от такого фейерверка – заслуга не шуточная; завершила его Малага, пустив последнюю ракету.
– Все это оборачивается на пользу поставщикам, – сказала она. – Я отказала модистке, которая испортила мне две шляпки. Разъярившись, она двадцать семь раз прибегала ко мне за двадцатью франками. Ей и в голову не приходило, что у нас никогда не бывает двадцати франков. Можно иметь тысячу франков, можно послать за пятьюстами к своему нотариусу; но двадцать франков – таких денег у меня вовек не было! Моя кухарка и горничная, быть может, и наберут вместе двадцать франков. У меня же нет ничего, кроме кредита, и я его потеряю, едва лишь возьму в долг двадцать франков. Если я попрошу двадцать франков, то уж ничем не буду отличаться, от своих товарок, прогуливающихся по бульварам.
– Модистке уплачено? – осведомился ла Пальферин.
– Да в уме ли ты, дружок? – воскликнула она, прищурившись. – Сегодня утром она явилась в двадцать седьмой раз, – вот почему я вам об этом рассказываю.
– Как же вы поступили? – поинтересовался Дерош.
– Мне стало жаль ее, и… я заказала крохотную шляпку, которую сама в конце концов придумала, чтобы получилось что-то необыкновенное. Если мадемуазель Аманда справится, то уж ничего больше у меня не потребует: судьба ее обеспечена.
– Мне довелось наблюдать поразительные случаи такого рода борьбы, – заявил Дерош, – и, по-моему, они гораздо лучше объясняют деловым людям Париж, чем художественные произведения, где всегда изображается Париж фантастический. Вот вы, – продолжал он, окинув взглядом Натана, Лусто, Бисиу и ла Пальферина, – вы воображаете себя ловкачами, а всех вас затмил на этом поприще некий граф, занятый сейчас завершением своей карьеры; в свое время он считался самым ловким, самым искусным, самым хитрым, самым умелым, самым дерзким, самым изворотливым, самым непреклонным, самым предусмотрительным из всех пиратов в желтых перчатках, с кабриолетом и отменными манерами, из всех пиратов, которые когда-либо бороздили, бороздят и будут бороздить бурное море Парижа. Лишенный совести и чести, он в своих делах следовал всегда принципам, каким следует английский кабинет министров. До женитьбы жизнь его была непрестанной борьбой, как у… Лусто, – прибавил Дерош. – Я был и до сих пор состою его поверенным.
– А какая первая буква его имени?.. Погодите, это – Максим де Трай! – воскликнул ла Пальферин.
– Тем не менее и он все заплатил, никого не введя в убыток, – продолжал Дерош. – Но, как только что заметил наш друг Бисиу, требование уплаты в марте, когда хочется заплатить в октябре, – это посягательство на свободу личности. Поэтому, согласно некоей статье своего собственного кодекса законов, Максим считал мошенничеством хитрость, на которую отважился один из его кредиторов, чтобы добиться немедленной уплаты. Вексель со всеми его последствиями, прямыми и косвенными, был давным-давно изучен Максимом. Однажды некий молодой человек, в гостях у меня, назвал в его присутствии вексель «мостом ослов». «Нет, – заметил Максим, – это «мост вздохов»: оттуда не возвращаются». Надо добавить, что коммерческую юриспруденцию он знал досконально, ни один стряпчий не мог бы ничему научить Максима. Как вам известно, имущества у него тогда никакого не было, ездил он в наемной карете и на наемных лошадях, жил у своего лакея, в чьих глазах, говорят, навсегда останется великим человеком – даже после брака, в который собирается вступить! Он состоял членом трех клубов и обедал в одном из них в тех случаях, когда не бывал приглашен в какой-либо знакомый дом. Вообще он редко пользовался своим жилищем…
– Да, он мне сказал однажды, – воскликнул ла Пальферин, перебивая Дероша: – «Единственная моя слабость – это делать вид, будто я живу на улице Пигаль!»
– Таков один из двух противников, – продолжал Дерош, – а вот и другой. Вы, верно, что-нибудь слышали о некоем Клапароне…
– Волосы у него торчали вот этак! – воскликнул Бисиу, взъерошив свою шевелюру.
И, одаренный тем же талантом копировать людей, каким в высокой степени обладал пианист Шопен, он мигом, с поразительным сходством изобразил Клапарона.
– Разговаривая, он вот так вертит головой, он был коммивояжером, перепробовал все ремесла…
– Надо полагать, он родился путешественником, ибо в эту самую минуту находится на пути в Америку, – сказал Дерош. – У него только и осталось надежды, что на Америку: в ближайшую сессию он, верно, будет заочно осужден за злостное банкротство.
– Человек за бортом! – воскликнула Малага.
– Клапарон этот, – продолжал Дерош, – в течение шести или семи лет был ширмой, подставным лицом, козлом отпущения для двух наших друзей, дю Тийе и Нусингена; но в 1829 году его роль стала настолько известна…
– …что наши друзья вероломно его бросили, – вставил Бисиу.
– Они попросту предоставили его собственной судьбе, – пояснил Дерош, – и он скатился в грязь. В 1833 году он сошелся, чтобы обделывать разные делишки, с неким Серизе…
– Как! С тем, который в пору увлечения коммандитными обществами задумал такую миленькую комбинацию, что шестое отделение судебной палаты упрятало его на два года в тюрьму? – спросила лоретка.
– С тем самым, – подтвердил Дерош. – Во время Реставрации, с 1823 по 1827 год, профессия этого Серизе состояла в том, чтобы бесстрашно подписывать газетные статьи, которые яростно преследовали министерство внутренних дел, и садиться за это в тюрьму. Приобрести известность было тогда легко. Либеральная партия называла своего присяжного бойца «отважный Серизе». Его ревностная деятельность была расценена в 1828 году как «общественное благо». «Общественное благо» – было своего рода гражданским лавровым венком, присуждавшимся газетами. Серизе решил пустить в оборот «общественное благо»; он явился в Париж и открыл под покровительством банкиров «левой» частное агентство, занимавшееся, между прочим, и банковскими операциями над капиталом одного человека, слишком ловкого игрока, который сам себя отправил в изгнание: в июле 1830 года все его деньги ухнули вместе с государственным кораблем.
– А! Это тот, которого мы прозвали «искусством карточной игры»!.. – воскликнул Бисиу.
– Не говорите о нем дурно! – вскричала Малага. – Бедняжка д'Этурни был славный малый.
– Вы понимаете, конечно, какую роль в 1830 году должен был играть разорившийся человек, которого в политических кругах называли «отважный Серизе». Его послали в один весьма приятный округ, – продолжал Дерош. – К несчастью для Серизе, власть не так наивна, как партии, склонные во время борьбы все превращать во взрывной снаряд. Продержавшись месяца три, Серизе был вынужден подать в отставку. Уж не вздумалось ли ему снискать популярность? К тому времени он еще ничего не натворил такого, чтобы лишиться своего благородного титула («отважный Серизе»!), и правительство, в порядке возмещения, предложило ему пост редактора одной оппозиционной, a in petto правительственной газеты. Таким образом, само же правительство совратило этого достойного человека. Чувствуя себя в этой должности слишком уж похожим на птицу, сидящую на гнилой ветке, Серизе устремился в очаровательное коммандитное общество и заработал, несчастный, как вы только что изволили заметить, два года тюрьмы, в то время как более ловкие обрабатывали публику.
– Нам известны эти «более ловкие», – сказал Бисиу, – не будем же злословить насчет бедного малого – он попал в ловушку! Кто бы мог допустить, что Кутюр даст себя облапошить!
– Впрочем, Серизе – человек мерзкий, ожесточенный к тому же передрягами, в которые он попал, предаваясь грубому разврату, – продолжал Дерош. – Обратимся же к обещанному поединку. Итак, никогда еще двое более низкопробных дельцов, более безнравственных и низких пройдох не объединялись для более грязных дел. Своим оборотным капиталом они считали особый жаргон, усвоенный ими в гуще парижской жизни, дерзость, обретенную в невзгодах, изворотливость, приобретенную привычкой к делам, и заученные на память сведения о всех парижских состояниях, их происхождении, а также родственных связях, дружеских отношениях и подлинной ценности всех и каждого. Такое содружество двух «жучков» – простите мне словцо из биржевого жаргона, но только оно и поможет их определить – длилось недолго. Как два голодных пса, они грызлись из-за всякой падали. Первые спекуляции товарищества «Серизе и Клапарон» были довольно удачны. Два плута стакнулись с разными Барбе, Шабуассо, Саманонами и другими ростовщиками и скупили у них безнадежные векселя. Агентство Клапарона занимало тогда пять комнат на антресолях, в небольшом доме на улице Шабонне; плата за это помещение не превышала семисот франков. Каждый из компаньонов спал в отдельной комнатушке и запирал ее из предосторожности так крепко, что мой старший письмоводитель ни разу не мог туда проникнуть. Контора состояла из передней, приемной и кабинета, всю ее меблировку на аукционе не оценили бы и в триста франков. Вы достаточно знаете Париж, чтобы представить себе обстановку обеих официальных комнат: стулья, набитые волосом, покрытый зеленым сукном стол, грошовые часы на камине, по бокам их два подсвечника под стеклянными колпачками, уныло торчащие перед маленьким зеркалом в позолоченной рамке, а в камине головешки, которые, по выражению моего старшего письмоводителя, уже пережили две зимы! Что до кабинета, то вы легко его вообразите: гораздо больше папок, чем дел!.. У каждого компаньона простой стол с выдвижными ящиками; посреди комнаты секретер с задвигающейся крышкой, такой же пустой, как и касса; два рабочих кресла по обе стороны камина, топившегося каменным углем; на полу – ковер, купленный, как и векселя, по случаю. Словом, вся та обычная обстановка красного дерева, которая вот уже лет пятьдесят продается в наших конторах бывшим владельцем его преемнику. Теперь вы знаете обоих противников. В первые месяцы своего содружества, закончившегося в конце седьмого месяца потасовкой, Серизе и Клапарон приобрели векселей на две тысячи франков, подписанных Максимом (тут-то и выступает на сцену Максим!) и набитых в две папки (приговор суда, вызов, заключение, опись, прошение); короче говоря – векселей на три тысячи двести франков с чем-то; все это им обошлось в пятьсот франков. Чтобы избежать издержек, они действовали от имени одного частного лица, давшего подпись и особую доверенность произвести взыскание… В то время у Максима – мужчины уже в летах – завелась причуда, свойственная обычно пятидесятилетним…
– Антония! – вскричал ла Пальферин. – Антония, чье счастье началось с письма, в котором я потребовал у нее обратно свою зубную щетку!
– Ее настоящее имя – Шокарделла, – сказала Малага, которую раздражало это изысканное имя.
– Да, это она, – подтвердил Дерош.
– Максим за всю жизнь сделал одну только эту ошибку; но что вы хотите?.. Даже порок не всегда – совершенство! – сказал Бисиу.
– Максим не представлял себе, какую жизнь приходится вести с девчонкой, которой вздумалось очертя голову ринуться из своей честной мансарды, чтобы угодить в роскошный экипаж, – продолжал Дерош, – а государственные деятели должны знать все. Как раз в ту пору де Марсе начал привлекать своего и нашего друга к участию в высокой комедии политической жизни. Человек блестящих побед, Максим знал лишь титулованных женщин: поэтому в пятьдесят лет он имел полное право вкусить от простенького, так сказать, дикого плода, подобно тому, как охотник делает привал под яблоней крестьянского сада. Граф нашел для мадемуазель Шокарделлы довольно элегантный кабинет для чтения, разумеется, как всегда, по случаю…
– Ну! Она не просидела там и полугода, – сказал Натан, – она слишком была хороша, чтобы держать кабинет для чтения.
– Ты не отец ли ее ребенка? – спросила лоретка Натана.
– Однажды утром, – продолжал Дерош, – Серизе, который со времени покупки векселей Максима понемногу приобрел осанку старшего письмоводителя судебного пристава, был, после семи неудачных попыток, допущен к графу. Сюзон, старый лакей, хотя и тертый калач, в конце концов поверил, что Серизе – проситель, явившийся предложить Максиму тысячу экю, если тот согласится выхлопотать для некоей молодой дамы контору по продаже гербовой бумаги. Сюзон уговорил графа принять этого мелкого плута, нимало не заподозрив в нем настоящего парижского выжигу, проученного наказаниями в исправительной полиции и набравшегося там осторожности. Представляете себе этого делового человека с мутным взором, редкими волосами, облысевшим лбом, в потрепанном черном фраке, в забрызганных грязью сапогах…
– Каков портрет заимодавца! – воскликнул Лусто.
– …Граф вышел к нему (это уже портрет наглого должника), – продолжал Дерош, – в голубом фланелевом халате, в туфлях, вышитых какой-нибудь маркизой, в белых суконных панталонах, в ослепительной сорочке, с прелестной шапочкой на черных крашеных волосах, поигрывая кистями своего пояса…
– Это настоящая жанровая картинка, – сказал Натан, – для всякого, кто знает прелестную маленькую приемную, где Максим завтракает, увешанную драгоценными полотнами, обитую шелком, где ступаешь по смирнскому ковру, восхищаясь расставленными на этажерках диковинками и редкостями, которым позавидовал бы и саксонский король…
– Затем вот какая последовала сцена, – сказал Дерош.
При этих словах рассказчика наступила глубокая тишина.
– Граф, – сказал Серизе, – я послан господином Шарлем Клапароном, бывшим банкиром.
– А! Что ему от меня нужно, бедняге?..
– Но ведь он стал вашим кредитором на сумму в три тысячи двести франков семьдесят пять сантимов, считая основной долг, проценты и издержки…
– Вексель Кутелье, – заметил Максим, знавший свои дела, как лоцман – родные берега.
– Так точно, граф, – ответил Серизе, поклонившись. – Я пришел узнать, каковы ваши намерения.
– По этому векселю я заплачу, когда придет охота, – ответил Максим, позвонив Сюзону. – Клапарон, видно, очень осмелел, если покупает мой вексель, не посоветовавшись со мной! Досадно за него – ведь он так долго был образцовым подставным лицом моих друзей. Я говорил о нем: «Право, нужно быть глупцом, чтобы за столь малое вознаграждение так преданно служить людям, хапающим миллионы!» И что же! Сейчас он лишний раз доказал мне свою глупость… Да, люди заслуживают свою участь! Надеваешь ли корону, или волочишь за собой пушечное ядро, становишься миллионером или привратником – все справедливо! Что вы хотите, любезнейший? Ведь я – не король, и я придерживаюсь своих принципов. Я беспощаден к тем, кто вводит меня в расходы или не понимает, как должен себя вести кредитор. Сюзон, чаю! Видишь ты этого господина?.. – сказал он лакею. – Тебя провели, старина. Сей господин – кредитор, ты бы должен был узнать его по сапогам. Ни мои друзья, ни нуждающиеся во мне посторонние, ни мои враги не приходят ко мне пешком. Понимаете, милейший господин Серизе? Вам больше не придется вытирать свои сапоги о мой ковер, – прибавил он, глядя на грязь, покрывавшую подошвы его противника. – Передайте мое глубокое соболезнование бедняге Бонифасу де Клапарону, ибо я положу это дело в долгий ящик.
(Все это было произнесено тем простодушным тоном, от которого у добродетельных буржуа делаются колики.)
– Вы ошибаетесь, граф, – ответил Серизе, мало-помалу приосаниваясь. – Мы все получим сполна, и притом таким способом, который может вас раздосадовать. Ведь я пришел к вам по-дружески, как и подобает людям благовоспитанным…
– А! Вы так полагаете?.. – отозвался Максим, которого взбесило последнее притязание Серизе.
В этой наглости заключался почти что талейрановский ум, если вы как следует уловили разницу двух одеяний и двух характеров. Максим нахмурил брови и в упор посмотрел на Серизе, который не только выдержал этот поток холодного бешенства, но даже ответил на него той ледяной злобой, что излучается из пристально устремленных на вас глаз кошки.
– Прекрасно, сударь! Извольте выйти вон…
– Прекрасно. Прощайте, граф. Не пройдет и полугода, как мы будем квиты.
– Если вам удастся обокрасть меня на сумму этих векселей, которые я признаю вполне законными, я вам буду весьма признателен, сударь, – ответил Максим, – вы меня научите кое-каким новым предосторожностям… Ваш покорный слуга…
– А я – ваш, граф, – ответил Серизе.
Все было четко, исполнено силы и предусмотрительности и с одной и с другой стороны. Два тигра, присматривающиеся друг к другу, прежде чем вступить в борьбу из-за лежащей между ними добычи, не проявили бы больше ловкости и хитрости, чем два этих человека, оба одинаково бесчестные, один – вызывающе элегантный, другой – покрытый броней из грязи.
– На кого вы ставите? – спросил Дерош, взглянув на своих слушателей, никак не ожидавших, что этот рассказ так сильно их заинтересует.
– Вот так история! – сказала Малага. – Прошу вас, дорогой мой, продолжайте; меня прямо за сердце хватает!
– Между двумя такими матерыми волками не должно произойти ничего заурядного, – заметил ла Пальферин.
– Эх! Куда ни шло! Ставлю счет моего столяра, который не дает мне покоя, что это ничтожество, эта жаба утопила Максима! – воскликнула Малага.
– А я держу за Максима, – заявил Кардо, – его врасплох не застанешь.
Дерош помолчал и, опрокинув стаканчик, который поднесла ему лоретка, продолжал:
– Кабинет для чтения мадемуазель Шокарделлы находился на улице Кокнар, в двух шагах от улицы Пигаль, где жил Максим. Названная мадемуазель Шокарделла занимала маленькую квартирку, выходившую окнами в сад и отделенную от читальни большой темной комнатой, где находились книги. Распоряжалась в кабинете для чтения тетка Антонии…
– У нее уже завелась тетка? – вскричала Малага. – Черт побери! Максим все делал с умом!
– Увы! То была настоящая тетка, – сказал Дерош. – И звали ее… постойте!..
– Ида Бонами, – подсказал Бисиу.
– Итак, Антония, освобожденная этой теткой от множества забот, вставала поздно, ложилась поздно и появлялась за своей конторкой только между двумя и четырьмя часами дня, – продолжал Дерош. – Ее присутствия оказалось достаточно, чтобы с первых же дней привлечь посетителей в салон для чтения; приплелись проживавшие поблизости старички, и между ними бывший каретник, по имени Круазо. Увидав в окошко это чудо женской красоты, бывший каретник повадился ежедневно ходить в салон читать газеты; примеру его последовал и отставной начальник таможен, по имени Денизар, награжденный крестом, в котором Круазо вздумал заподозрить соперника и которому он впоследствии говаривал: «Сударь, вы мне немало причинили докуки!» Словечко это должно пролить для вас некоторый свет на данное лицо. Господин Круазо принадлежал к тому разряду старичков, которых, со времен Анри Монье, следовало бы называть «старичками в духе Кокреля» – так хорошо Монье сумел в образе своего Кокреля из «Нечаянного семейства» передать этот тоненький голосок, сладенькие ужимочки, жиденькую косичку, маленькие живые глазки, семенящую походочку, умильный наклон головы и сухонькую речь. Сей Круазо, жеманно протягивая Антонии свои два су, говорил: «Пожалуйста, прекрасная барышня». Госпожа Ида Бонами, тетушка мадемуазель Шокарделлы, скоро разузнала через кухарку, что бывший каретник, редкостный скряга, считался в своем околотке (он жил на улице Бюффо) обладателем капитала в сорок тысяч франков ренты. Через неделю после водворения прекрасной обладательницы романов он разрешился таким каламбуром: «Вы меня ссужаете книжками, а я вас ссужу деньжишками…» Несколько дней спустя он с понимающим видом сказал: «Я знаю, что вы заняты, но мой час придет: я вдовец».
Круазо появлялся всегда в великолепном белье, василькового цвета фраке, в светлом шелковом жилете, в черных панталонах, в башмаках на толстой подошве, завязанных черными шелковыми лентами и поскрипывающих, как у аббата. В руках он неизменно держал свой четырнадцатифранковый шелковый цилиндр.
– Я стар и детей у меня нет, – сказал он молодой женщине через несколько дней после визита Серизе к Максиму. – Родичей своих я терпеть не могу. Все это мужичье, на то только и годное, чтобы землю пахать. Представьте себе: я пришел сюда из деревни с шестью франками, и вот – составил себе здесь состояние. Я не гордец… Красивая женщина мне ровня. Не лучше ли некоторое время побыть мадам Круазо, чем год – служанкой какого-нибудь графа?.. Рано или поздно он вас бросит. И тогда вы обо мне вспомните… Ваш слуга, прекрасная барышня!
Все это он подготовлял потихоньку. Малейшая любезность говорилась им тайком. Никто на свете не подозревал, что этот чистенький старичок влюбился в Антонию, ибо он вел себя в салоне для чтения так благоразумно и сдержанно, что ничем не выдал бы сопернику своих чувств. Два месяца Круазо остерегался отставного начальника таможен. Но в середине третьего месяца он имел случай убедиться, насколько необоснованны были его подозрения. Устроив однажды так, чтобы выйти вместе с Денизаром, он пошел с ним рядом и, расхрабрившись, сказал ему:
– Прекрасная погода, сударь!
На что бывший чиновник ответил:
– Погода, как при Аустерлице, сударь; я там был… и даже был ранен, этот крест я получил в награду за свое поведение в тот славный день…
Так, мало-помалу, слово за слово, полегоньку-потихоньку между этими двумя обломками Империи установились дружеские отношения. Маленький Круазо был связан с Империей благодаря своему знакомству с сестрами Наполеона: он был их каретником и частенько донимал их своими счетами. Поэтому он выдавал себя за человека, хорошо знакомого с императорской фамилией.
Максим, узнав от Антонии, что приятный старичок – так тетка прозвала рантье – позволяет себе делать ей разные предложения, пожелал его увидеть. Война, которую Серизе объявил ему, заставила этого надменного щеголя обдумать свое положение на шахматной доске, учитывая всякую пешку. И рассудок подсказал ему, что появление приятного старичка – это удар колокола, предвещающий несчастье. Однажды вечером Максим спрятался во второй, темной комнате, у стен которой стояли библиотечные полки. Оглядев в щелку между двумя зелеными портьерами семерых или восьмерых завсегдатаев салона, он одним взглядом проник в душу маленького каретника, оценил его страсть и был очень рад убедиться в том, что, когда его собственная прихоть пройдет, довольно роскошное будущее, как по приказу, откроет перед Антонией свои лакированные дверцы.
– А этот? – спросил он, указывая на дородного, красивого старика, украшенного орденом Почетного легиона. – Кто это такой?
– Бывший начальник таможен.
– Какая подозрительная внешность! – пробормотал Максим, пораженный осанкой господина Денизара.
В самом деле, отставной воин держался прямо, как колокольня; голова его привлекала внимание напудренной и напомаженной шевелюрой, почти такой же, какие бывают на костюмированных балах у возниц почтовых карет. Под этим подобием белого войлока, плотно облегавшего удлиненный череп, вырисовывалась старческая физиономия, чиновничья и вместе с тем солдатская, своим высокомерным выражением довольно схожая с той, которою на карикатурах наделили газету «Конститюсьонель». Этот бывший таможенный чиновник, престарелый и дряхлый, выгиб спины которого ясно говорил, что без очков он уже читать не может, выставлял, однако, свое почтенное брюшко с надменностью старца, имеющего любовницу; он носил в ушах золотые серьги, напоминавшие серьги старого генерала Монкорне, завсегдатая Водевиля. Денизар питал слабость к синему цвету: его панталоны и старый сюртук, очень свободные, были из синего сукна.
– Давно ли ходит сюда этот старик? – спросил Максим, которому очки Денизара показались подозрительными.
– О! С самого начала, – ответила Антония, – вот уже скоро два месяца.
«Хорошо: ведь Серизе появился лишь месяц назад», – подумал Максим.
– Заставь-ка его что-нибудь сказать! – шепнул он на ухо Антонии. – Мне хочется услышать его голос.
– Ну это не так-то легко, – ответила она, – он никогда не говорит со мной.
– Зачем же он тогда приходит?.. – спросил Максим.
– Да так, сущая причуда, – ответила прекрасная Антония. – Прежде всего, несмотря на свои шестьдесят девять лет, он имеет «пассию»; но, ввиду тех же шестидесяти девяти лет, он точен, как часы. Старикашка отправляется обедать к своей «пассии» на улицу Виктуар ежедневно в пять часов… вот бедняжка! От нее он выходит в шесть, является сюда, за четыре часа прочитывает все газеты и возвращается к ней в десять. Папаша Круазо говорит, что ему известны основания такого поведения господина Денизара, он одобряет его и на его месте поступал бы точно так же; так что я знаю свое будущее! Если я когда-нибудь стану мадам Круазо, то от шести до десяти буду свободна!
Максим заглянул в «Альманах 25 000 адресов» и нашел в нем такие успокоительные строчки:
«Денизар, кавалер ордена Почетного легиона, отставной начальник таможен; улица Виктуар».
Это его окончательно успокоило.
Незаметно господин Денизар и господин Круазо успели обменяться кое-какими признаниями. Ничто так не сближает мужчин, как известная общность взглядов на женщин. Папаша Круазо отобедал у той, которую называл «красоткой господина Денизара». Тут я должен отметить одно довольно важное обстоятельство. Кабинет для чтения был оплачен графом наполовину наличными, наполовину векселями, подписанными упомянутой девицей Шокарделлой. Подоспел очередной платеж, а денег у графа не оказалось. И вот первый из трех тысячефранковых векселей был галантно оплачен приятным каретником, которому старый прохвост Денизар посоветовал закрепить ссуду, выговорив себе право распоряжаться кабинетом для чтения.
– Я с этими красотками немало красивых историй насмотрелся… – сказал Денизар. – И что бы там ни было – даже когда я голову теряю – с женщинами я всегда начеку. Прелестное созданье, от которого я сейчас без ума, своего добра не имеет, – все принадлежит мне. И контракт на квартиру на мое имя…
Вы знаете Максима: он счел каретника еще совсем молодым! Заплати Круазо все три тысячи – Максим и тогда бы близко его не подпустил: он больше, чем когда-либо, был влюблен в Антонию…
– Ну еще бы! – сказал ла Пальферин. – Ведь она просто средневековая красавица Империа.
– У этой женщины грубая кожа! – воскликнула лоретка, – такая грубая, что ваша красавица разоряется на ванны с отрубями.
– Круазо, как и подобает каретнику, с восхищением отзывался о роскошной обстановке, которую влюбленный Денизар подарил своей «пассии»; он с сатанинской вкрадчивостью описывал ее тщеславной Антонии, – продолжал Дерош. – Тут были шкатулки черного дерева, инкрустированные перламутром на золотой сетке; бельгийские ковры, кровать средних веков ценой в тысячу экю, стенные часы работы Буля; в столовой – четыре высоких канделябра по углам, шелковые занавеси из Китая, на которых терпеливые китайские мастера изобразили птиц, на дверях – портьеры, стоившие дороже самих дверей.
– Вот что вам требуется, милая барышня… и что я хотел бы вам предложить… – сказал он в заключение. – Я знаю, что немножко-то вы меня полюбите; но в моем возрасте все делают основательно. Судите сами, как я вас люблю, ежели дал вам взаймы тысячу франков. Говорю честно: в жизни никому столько не ссужал.
И он протянул ей два су за чтение с таким значительным видом, с каким ученый показывает опыт.
Вечером, в Варьете, Антония сказала графу:
– Кабинет для чтения – это все-таки очень скучно. Я не чувствую в себе расположения к подобному занятию и не вижу здесь ни малейшей возможности разбогатеть. Такая доля пристала вдовушке, которая согласна кое-как перебиваться, или отчаянной дурнушке, воображающей, что она подцепит мужа, если чуточку принарядится.
– Однако это то, что вы у меня просили, – заметил граф.
В эту минуту Нусинген, у которого король светских «львов» выиграл накануне тысячу экю (к тому времени «желтые перчатки» уже превратились во «львов»), вошел в ложу и вручил Максиму деньги; заметив удивление графа, он сказал:
– Я полушил решение о сатершании фаших сумм, фынесенное по трепофанию этофо шорта Клапарона…
– А, так вот их способ! – воскликнул Максим. – Не очень-то они изобретательны, эти людишки!..
– Это фсе рафно, – ответил банкир, – саплатите им, потому што они мокли пы опратиться к труким и нателать фам упытку… Перу в сфитетели эту прелестную шеншину, што я фам уплатил утром, то опротестофания.
– Королева цирка, – сказал ла Пальферин улыбаясь, – ты проиграешь…
– Однажды, это было давно, – продолжал Дерош, – в подобном же случае – только тогда слишком честный должник не захотел уплатить Максиму, испугавшись присяги в суде, – мы здорово проучили кредитора, опротестовавшего вексель, подстроив опротестование всех векселей сразу с тем, чтобы судебные издержки по взысканию поглотили всю сумму долга.
– Это еще что такое? – воскликнула Малага. – Что за слова? Для меня они – настоящая тарабарщина. Вам очень понравилась осетрина – заплатите же за соус уроком кляузы!
– Охотно, – сказал Дерош. – Вексель, который один из ваших кредиторов опротестовывает у одного из ваших должников, может сделаться предметом подобного же опротестования со стороны остальных ваших кредиторов. Как поступает суд, от которого все кредиторы требуют постановления об уплате?.. Он справедливо делит между всеми сумму, на которую наложен арест. Этот дележ, произведенный под наблюдением правосудия, называется взысканием. Если вы должны десять тысяч франков, а ваши кредиторы взыскивают по опротестованию тысячу, то каждый из них получает известный процент долга, согласно раскладке по соразмерности, говоря судейским языком, то есть пропорционально сумме векселя; но получают они свою долю только по предъявлении законного документа, называемого извлечением из прописи кредиторов, который выдает им письмоводитель суда. Представляете ли вы себе работу, которую проделывает судья и подготовляют поверенные? На нее уходят вороха гербовой бумаги, исчерченной редкими, неясными линиями, где цифры тонут среди незаполненных граф. Начинают с вычета судебных издержек. А так как издержки при взыскании тысячи франков или миллиона одинаковы, то они легко могут поглотить у вас, например, тысячу экю, особенно если удается затеять тяжбу…
– Поверенному это всегда удается, – вставил Кардо. – Сколько раз ваши собратья спрашивали у меня: «А нельзя ли чем-нибудь поживиться?»
– Особенно легко это удается, – продолжал Дерош, – когда должник прямо толкает вас на то, чтобы долг его был поглощен издержками. Поэтому кредиторы графа ничего и не получили: у них все ушло на беготню по поверенным и на хлопоты. Чтобы заставить заплатить такого опытного должника, как граф, кредитор должен занять чрезвычайно трудно осуществимую законную позицию: он должен стать одновременно и его должником и его кредитором, ибо тогда он, в силу закона, имеет право произвести соединение…
– Соединение чего? – спросила лоретка, во все уши слушавшая эту речь.
– Двух качеств: кредитора и должника – и уплатить себе из собственных рук, – продолжал Дерош. – Наивность Клапарона, который ничего не сумел придумать, кроме опротестования, привела к тому, что граф совершенно успокоился. Провожая Антонию из Варьете, Максим утвердился в намерении продать кабинет для чтения и покрыть этим еще не уплаченные за него две тысячи, тем более что крайне опасался показаться смешным, субсидируя подобное предприятие. Поэтому он принял план Антонии, которой хотелось подняться на высшую ступень своего ремесла, иметь великолепную квартиру, горничную, коляску и потягаться, например, с нашей прелестной хозяйкой…
– Для этого она недостаточно хорошо сложена, – воскликнула знаменитая красотка цирка. – Но все же она недурно обчистила юнца д'Эгриньона!
Дней через десять маленький Круазо, напыжившись от важности, обратился к прекрасной Антонии примерно с такой речью:
– Дитя мое, ваш кабинет для чтения – это дыра; вы тут пожелтеете, газ вам испортит глаза; вам надо бросить это занятие… Давайте же воспользуемся случаем! Я отыскал одну молодую женщину, которая не желает ничего лучшего, как купить ваш кабинет для чтения. Дамочка разорилась – ей впору в воду броситься; но у нее есть четыре тысячи франков наличными, и ей надо употребить их с наибольшей выгодой, чтобы прокормить и воспитать двоих детей…
– Ах, как вы милы, папаша Круазо! – сказала Антония.
– О, сейчас я стану еще милее, – подхватил старик каретник. – Представьте себе, этот бедняга Денизар в таком расстройстве, что у него сделалась желтуха… Да, у него все бросилось на печень как это бывает у чувствительных стариков. Напрасно он так чувствителен. Я ему говорил: «Будьте страстны – куда ни шло! Но быть чувствительным… ну нет! Этак можно себя сгубить…» Я, право, не ожидал, чтобы мог так предаваться горю человек достаточно стойкий и сведущий, способный во время пищеварения не оставаться у своей…
– Но что произошло?.. – спросила мадемуазель Шокарделла.
– Та негодница, у которой я обедал, неожиданно его бросила… да, она покинула его, предупредив письмом – решительно без всякой орфографии.
– Вот что значит наскучить женщине, папаша Круазо!..
– Да, это – урок, прекрасная барышня, – сказал слащавый Круазо. – Я еще никогда не видел человека в таком отчаянии, – продолжал он. – Наш друг Денизар больше не отличает правой руки от левой и не желает больше видеть то, что именует театром своего счастья… Он до такой степени утратил рассудок, что предложил мне купить за четыре тысячи франков всю обстановку Гортензии… Ее зовут Гортензия!
– Красивое имя, – сказала Антония.
– Да, так звали падчерицу Наполеона; я поставлял ей экипажи, как вам известно.
– Что ж, я подумаю, – сказала хитрая Антония, – а вы, для начала, пошлите мне вашу молодую даму…
Антония сбегала взглянуть на обстановку, вернулась совершенно очарованная и заразила своим антикварным восторгом Максима. В тот же вечер граф согласился на продажу кабинета для чтения. Предприятие это, как вы понимаете, было на имя мадемуазель Шокарделлы. Максим потешался над маленьким Круазо, который доставил ему покупателя. Товарищество Максим – Шокарделла теряло, правда, две тысячи франков, но что значила эта потеря по сравнению с четырьмя хрустящими тысячефранковыми билетами!.. Как мне однажды сказал граф: «Четыре тысячи франков наличными!.. Да ведь бывают минуты, когда ради них подпишешь векселей на восемь тысяч!»
На следующий день граф собственной персоной идет смотреть обстановку, имея при себе четыре тысячи франков: продажа кабинета наладилась благодаря расторопности маленького Круазо, спешившего закончить дело; вдову, по его словам, он обставил.
Нимало не заботясь об этом приятном старичке, которому предстояло потерять несколько тысяч франков, Максим пожелал немедленно перевезти всю обстановку в квартиру, снятую на имя госпожи Иды Бонами, в новом доме на улице Тронше. Он заранее нанял несколько больших фургонов для перевозки вещей. Максим был крайне восхищен красотой обстановки, которую любой торговец мебелью оценил бы в шесть тысяч франков. В уголке у камина он разглядел несчастного Денизара: пожелтевший от желтухи, с головой, обвязанной двумя шелковыми платками, поверх которых был надет бумажный колпак, закутанный, как хрустальная люстра, пришибленный, он даже не в силах был говорить и вообще был так развинчен, что графу пришлось объясняться с лакеем. Отдав лакею четыре тысячи франков, чтобы тот отнес их своему хозяину и получил от него расписку, Максим уже собирался было приказать подавать фургоны, как вдруг голос, прозвучавший в его ушах подобно трещотке, крикнул ему:
– Это ни к чему, граф, мы в расчете! Разрешите вручить вам шестьсот тридцать франков пятнадцать сантимов сдачи!
И Максим с ужасом увидел Серизе, который, как бабочка из куколки, выбирался из своих свивальников и, протягивая ему чертовы долговые расписки, говорил:
– Несчастья научили меня играть комедию, и на ролях стариков я стóю Буффе…
– Я в логовище грабителей! – воскликнул Максим.
– Нет, граф, вы у мадемуазель Гортензии, подруги старого лорда Дэдлей, который прячет ее от всех взоров, но у нее дурной вкус: она любит вашего покорного слугу.
«Если когда-либо мне хотелось убить человека, – говорил мне позднее граф, – так именно в ту минуту. Но что поделаешь! Гортензия высунула свою хорошенькую головку, пришлось рассмеяться, и, чтобы сохранить свое превосходство, я швырнул ему шестьсот франков и сказал: «Это для девки!»
– Тут весь Максим! – заметил ла Пальферин.
– Тем более что деньги-то принадлежали маленькому Круазо, – добавил проницательный Кардо.
– Но, – продолжал Дерош, – Максим все-таки был вознагражден, ибо Гортензия воскликнула: «Ах! Если б я знала, что это ты!..»
– Ну и катавасия! – крикнула лоретка. – Ты проиграл, милорд, – сказала она нотариусу.
Вот как столяр, которому Малага была должна сто экю, получил свои деньги.
Париж, 1845 г.
Принц богемы
ГЕНРИХУ ГЕЙНЕ.
Дорогой Гейне! Вам посвящаю я этот очерк, Вам, который в Париже представляет мысль и поэзию Германии, а в Германии – живую и остроумную французскую критику; Вам, который лучше, чем кто-либо другой, поймет, что здесь от критики, от шутки, от любви и от истины.
Де Бальзак.– Дорогой друг мой, – сказала г-жа де ла Бодрэ, доставая из-под подушки козетки рукопись, – простите ли вы мне, что вследствие печального положения, в котором мы находимся, я сделала рассказ из того, что слышала от вас несколько дней назад?
– В наше время все идет в дело, – ответил Натан. – Разве вы не встречали сочинителей, которые, за недостатком фантазии, преподносят публике историю собственного сердца, а нередко – также и историю сердца своей любовницы? Дойдет до того, моя дорогая, что станут искать приключений не столько ради удовольствия играть в них роль героев, сколько ради возможности их пересказать.
– Во всяком случае, вы и маркиза де Рошфид оплатили нашу квартиру, а если принять во внимание все происходящее, я не думаю, что мне когда-нибудь удастся сделать для вас то же самое.
– Кто знает, быть может, и вам улыбнется счастье, как госпоже де Рошфид.
– Вы полагаете, что вернуться к мужу – значит обрести большое счастье?
– Нет, но это значит обрести большое состояние. Начинайте же, я слушаю.
Госпожа де ла Бодрэ приступила к чтению.
– «Место действия – роскошный салон на улице Шартр дю Руль. Один из самых прославленных писателей нашего времени сидит на козетке рядом с известной маркизой, с которой он близок, как должен быть близок человек, отмеченный вниманием женщины, которая держит его возле себя не столько за неимением лучшего, сколько как снисходительного patito.
– Ну как, – спросила она, – отыскали вы письма, о которых говорили мне вчера и без которых не могли рассказать мне обо всем, что его касается?
– Письмо со мной.
– Тогда говорите. Я буду слушать внимательно, как ребенок, которому мать рассказывает сказку о «Большом крылатом змие».
– Молодой человек, о котором пойдет речь, принадлежит к числу хороших моих знакомых, каких обычно называют приятелями. Он дворянин, юноша необыкновенно остроумный и столь же несчастный, полный самых благих намерений, очаровательный собеседник, несмотря на свою молодость, уже немало повидавший; в ожидании лучшего он ведет жизнь богемы. Богема, взгляды которой следовало бы назвать философией Итальянского бульвара, состоит из молодых людей в возрасте от двадцати до тридцати лет; все они в своем роде гениальны, хотя пока еще мало известны; но они еще проявят себя и будут тогда людьми заметными. На них уже и теперь обращают внимание в дни карнавала, когда их остроумие, не находящее применения в другое время года, ищет себе выхода в забавных выдумках и причудах. В какое время мы живем! До чего нелепа власть, которая заставляет прозябать такие огромные силы! Среди богемы нашлись бы дипломаты, способные опрокинуть расчеты России, если бы они почувствовали поддержку французского государства. Там можно встретить писателей, администраторов, военных, художников, журналистов. Словом, это – микрокосм, и в нем представлены все виды ума и дарований. Если бы русский император, потратив миллионов двадцать, купил нашу богему (допустим, что она согласилась бы расстаться с парижскими бульварами) и переселил бы ее в Одессу, то через год Одесса стала бы Парижем. Так бесплодно сохнет цвет великолепной французской молодежи; и Наполеон, и Людовик Четырнадцатый приближали к себе молодежь, но вот уже тридцать лет ею пренебрегает наша жеронтократия: при этой власти все во Франции чахнет. Это – та прекрасная молодежь, о которой профессор Тиссо, человек, вполне заслуживающий доверия, еще вчера говорил: «Услугами этой поистине достойной его молодежи император пользовался повсюду – в советах, в важнейших государственных органах, в исполненных трудностей и опасностей переговорах, поручениях, делах, в управлении завоеванными странами, и всюду она оправдывала его ожидания. Молодежь была для него тем же, чем missi dominici были для Карла Великого». Само слово «богема» говорит вам все: богема живет тем, что у нее есть, а у нее нет ничего. Ее религия – надежда. Ее кодекс – вера в себя. Основа ее бюджета – пресловутая любовь к ближнему. Эти молодые люди выше своих несчастий. Не имея средств, они находят средства бороться с судьбой, живя «на авось», они остроумны, как фельетонисты, и веселы, как люди, которые кругом в долгах, ну, а в долг они берут столь же часто, как и пьют! И, наконец, к чему я и веду, – все они влюблены. Но как влюблены! Представьте себе Ловласа, Генриха Четвертого, Регента, Вертера, Сен-Пре, Ренэ, маршала Ришелье в одном лице, и тогда вы получите представление об их любви! Что это за влюбленные! В страстных чувствах они, неисправимые эклектики, могут угодить любой женщине. Их сердце напоминает ресторанное меню. Сами того не ведая, они применяют на практике книгу Стендаля «О любви», даже не прочитав ее, быть может. У них на выбор различные виды любви: любовь-влечение, любовь-страсть, любовь-каприз, любовь возвышенная и прежде всего любовь мимолетная. Для них все хорошо; это они пустили в ход шутовское изречение: «Все женщины равны перед мужчиной». Буквально это изречение звучит еще сильнее, но так как, по-моему, самая мысль его несостоятельна, я не придаю значения букве.
Сударыня, моего приятеля зовут Габриэль-Жан-Анн-Виктор-Бенжамен-Жорж-Фердинанд-Шарль-Эдуард Рустиколи, граф де ла Пальферин. Рустиколи приехали во Францию с Екатериной Медичи после того, как лишились небольших владений в Тоскане. Будучи в дальнем родстве с д'Эстэ, они примкнули к Гизам. В Варфоломеевскую ночь Рустиколи перебили немало протестантов, и Карл Девятый даровал им наследственное графство де ла Пальферин, конфискованное у герцога Савойского; графство это позднее выкупил у них Генрих Четвертый, оставив Рустиколи титул: великий король имел глупость вернуть герцогу Савойскому его владения. Взамен графы де ла Пальферин, имевшие раньше, чем Медичи, собственный герб (серебряный, увитый лилиями, крест на лазурном поле, – он был увит лилиями по жалованной грамоте Карла Девятого, – увенчанный графской короной, поддерживаемой двумя крестьянами, с девизом «сим победиши»), получили две коронных должности и управление провинцией. Они играли видную роль при Валуа и позднее, почти вплоть до безраздельного владычества Ришелье; затем, при Людовике Четырнадцатом, влияние их сильно уменьшилось, а при Людовике Пятнадцатом они разорились. Дед моего приятеля промотал остатки состояния этого блестящего рода с мадмуазель Лагер, которую он первый, еще до Буре, ввел в моду. В 1789 году отцу Шарля-Эдуарда, офицеру без всяких средств, пришла в голову благоразумная мысль воспользоваться революционным духом времени и именоваться просто Рустиколи. Во время итальянских войн он женился на некоей Каппони, крестнице графини Альбани (отсюда последнее имя де ла Пальферина); отец нашего приятеля был одним из лучших полковников наполеоновской армии, император произвел его в командоры ордена Почетного легиона и сделал графом. У полковника было легкое искривление позвоночника, и сын его, смеясь, говорил по этому поводу: «Это был подправленный граф». Генерал граф Рустиколи – ибо он стал бригадным генералом еще в Ратисбонне – умер в Вене после битвы при Ваграме, получив на поле сражения чин дивизионного генерала. Его имя, добытая им в Италии слава и его заслуги рано или поздно принесли бы графу маршальский жезл. Во время Реставрации он восстановил бы знатный и блестящий род де ла Пальферин, столь известный уже к 1100 году под именем Рустиколи, ибо к тому времени из числа Рустиколи вышел уже один папа, и они дважды совершили государственный переворот в Неаполитанском королевстве; представители этого рода, блиставшего при Валуа, оказались достаточно ловкими, чтобы, оставаясь неисправимыми фрондерами, сохранить свое существование при Людовике Четырнадцатом; Мазарини питал к ним слабость, распознав в них остатки духа Тосканы. В наше время, когда называют имя Шарля-Эдуарда де ла Пальферин, из ста человек едва ли двое-трое знают, что такое род де ла Пальферин; но ведь допустили же Бурбоны, чтобы один из Фуа-Грайи жил своей кистью. Ах, если бы вы знали, как остроумно Эдуард де ла Пальферин шутит над своим более чем скромным положением; как он издевается над буржуа 1830 года. Какая тонкая ирония, какой блеск ума! Если бы богема согласилась избрать себе короля, он стал бы королем богемы. Его остроумие неистощимо. Ему мы обязаны картой богемы и названиями семи ее замков, которых не мог отыскать Нодье.
– Вот единственная деталь, в которой еще нуждалась одна из самых остроумных шуток нашего времени, – заметила маркиза.
– Некоторые выходки моего приятеля ла Пальферина помогут вам вернее судить о нем, – продолжал Натан. – Как-то ла Пальферин встретил на бульваре одного из своих друзей, тоже принадлежащего к богеме: тот спорил с каким-то буржуа, считавшим себя оскорбленным. С нынешней властью богема держит себя очень дерзко. Речь зашла о дуэли.
– Одну минуту, – вмешался ла Пальферин с горделивым видом настоящего Лозена, – одну минуту: вы, сударь, родом?..
– Что такое, сударь? – спросил буржуа.
– Да кто вы родом? Как вас зовут?
– Годэн.
– Ах так, Годэн! – произнес друг ла Пальферина.
– Одну минуту, дорогой мой, – остановил приятеля ла Пальферин. – Есть Тригодэны. Вы не из их рода? (Изумление буржуа.)
– Нет? В таком случае, вы из новоявленных герцогов де Гаэт, императорской выделки? Нет. Так как же вы хотите, чтобы мой друг, который станет секретарем посольства и послом и перед которым вам придется снимать шляпу, дрался с вами на дуэли?.. Годэн! Такого не существует, вы – ничто, Годэн! Мой друг не может сражаться с пустотой. Чтобы драться с кем-то, надо самому быть чем-то! Прощайте, любезнейший. Пойдем, дружище. Поклон супруге, – добавил приятель графа.
В другой раз ла Пальферин прогуливался с приятелем. Тот швырнул окурок сигары в лицо какому-то прохожему; прохожий имел бестактность рассердиться.
– Вы выдержали огонь своего противника, – бросил молодой граф, – свидетели находят, что ваша честь удовлетворена.
Он задолжал тысячу франков портному. Вместо того чтобы прийти за деньгами самому, портной однажды утром прислал к ла Пальферину старшего приказчика. Посланный отыскал несчастного должника на седьмом этаже, в глубине двора, в верхнем конце предместья дю Руль. Мебели в комнате не было. Была, правда, кровать, но что за кровать! И стол, но что за стол! Ла Пальферин выслушал несуразное и, по его словам, возмутительное требование, да еще сделанное в семь часов утра.
– Пойдите и скажите вашему господину, – ответил он, принимая позу Мирабо, – в какой обстановке вы меня застали.
Приказчик удалился, бормоча извинения. Увидев, что он уже на лестничной площадке, ла Пальферин встал и с величавостью, воспетой стихами «Британника», сказал ему:
– Обратите внимание на лестницу! Рассмотрите хорошенько лестницу и не забудьте рассказать ему о лестнице!
В какое бы положение ни ставил его капризный случай, ла Пальферин всегда оказывался на высоте, сохранял присутствие духа и прекрасные манеры. Всегда и во всем он проявлял гений Ривароля и изящество французского вельможи. Это он сочинил очаровательную историю о том, как некий приятель банкира Лафита явился в бюро национальной подписки, объявленной для того, чтобы сохранить за этим банкиром его особняк, где подготовлялась революция 1830 года; буржуа будто бы заявил: «Вот пять франков. Дайте сто су сдачи» По этому поводу была пущена карикатура. Граф имел несчастье, говоря языком обвинительного акта, сделать одну девушку матерью. Девица, не слишком наивная, во всем признается матери, добропорядочной мещанке, а та прибегает к ла Пальферину и спрашивает его, что он думает делать. «Но, сударыня, я не хирург и не повивальная бабка», – отвечает он. Женщина была ошеломлена. Но через три или четыре года она вновь явилась к ла Пальферину и принялась настойчиво допытываться, что он все же намерен предпринять. «О, сударыня, – ответил граф, – когда ребенку исполнится семь лет, – возраст, когда дети из женских рук переходят в мужские… (одобрительное движение матери), если ребенок действительно мой (жест матери), если он как две капли воды похож на меня, если он обещает стать дворянином, если я обнаружу в нем мой склад ума и особенно осанку Рустиколи, – о! тогда (новое движение), слово дворянина, я подарю ему… палочку ячменного сахара!» Если вы разрешите мне воспользоваться стилем, какой употребляет господин Сент-Бев в своих «Биографиях неизвестных», – все это игриво, забавно, но уже говорит об испорченности человека крепкой породы. Это больше отдает Оленьим парком, чем отелем Рамбулье. Тут нисколько нет нежности, и я склонен сделать вывод о некотором распутстве и даже в большей мере, чем мне хотелось бы, допустить ее в натурах блестящих и великодушных. Галантные проказы во вкусе герцога Ришелье для нас, пожалуй, слишком уж шаловливы. Это напоминает крайности восемнадцатого века, которые возвращают нас ко временам мушкетеров и набрасывают тень на Шампсене; но эта ветреность таит в себе нечто от утех и развлечений старого двора Валуа. В эпоху столь высоко нравственную, как наша, необходимо строго наказывать за такие дерзкие выходки; однако эта палочка ячменного сахара может вместе с тем указать молодым девицам на опасность частых встреч, сначала полных розовых грез, нежных и чарующих, но которые незаметно ведут к волнению чувств, ко все возрастающей податливости, к двусмысленным положениям и к последствиям, слишком ощутимым. Анекдотический случай этот рисует живой и острый ум ла Пальферина, обладающего той гибкостью, которой требовал Паскаль. Он и нежен и неумолим; подобно Эпаминонду, он одинаково велик в своих крайностях. Насмешливый ответ графа к тому же верно передает эпоху: в те годы еще не было акушеров. Таким образом, эта острота, которая надолго сохранится, свидетельствует вместе с тем об успехах нашей цивилизации.
– Дорогой Натан, что за чепуху вы городите? – спросила изумленная маркиза.
– Маркиза, – отвечал Натан, – неужели вы не цените эту изысканную фразеологию? Я ведь говорю сейчас на новом французском языке, созданном Сент-Бевом. Итак, продолжаю. Однажды, прогуливаясь по бульвару под руку с друзьями, ла Пальферин видит, что к нему приближается один из самых свирепых его кредиторов.
– Думаете ли вы обо мне, сударь? – спрашивает кредитор.
– Меньше всего на свете, – отвечает граф.
Обратите внимание, в каком он был трудном положении; когда-то Талейран в подобных же обстоятельствам сказал: «Вы слишком любопытны, милейший!» И дело заключалось в том, чтобы не впасть в подражание этому неподражаемому человеку. Молодой граф, щедрый, как Букингэм, не мог выносить, когда его застигали врасплох, и однажды, не имея при себе ни гроша, чтобы подать милостыню маленькому трубочисту, он запускает руку в бочонок с виноградом, стоящий у входа в бакалейную лавку, и набивает гроздьями шапку юного савояра. Мальчишка принимается уплетать виноград. Бакалейщик расхохотался и протянул ла Пальферину руку.
– О нет, сударь! – воскликнул граф. – Ваша левая рука не должна знать, что сделала моя правая.
Безрассудно храбрый, Шарль-Эдуард не ищет, но и не избегает приключений. Он столь же храбр, как и остроумен. Встретив в проезде Оперы человека, который недостаточно учтиво отозвался о нем, граф мимоходом толкнул его локтем, затем возвратился и вновь толкнул.
– Вы не отличаетесь ловкостью, – слышит он.
– Напротив: я сделал это умышленно.
Молодой человек подает ему свою визитную карточку.
– Она слишком грязна и затрепана, – говорит ла Пальферин. – Будьте любезны, дайте другую, – добавляет он, отшвырнув карточку.
На дуэли он получает удар шпагой. Его противник, увидя кровь, хочет окончить поединок и восклицает:
– Вы ранены, сударь.
– Разве это удар? – отвечает граф с таким спокойствием, словно находится в фехтовальном зале, и, сделав ответный, но куда более ловкий выпад, он прибавил: – Вот это настоящий удар, сударь.
Его противник полгода пролежал в постели. Все это, если держаться в фарватере господина Сент-Бева, напоминает повадки блестящих вельмож прошлого и тонкие шутки лучших дней монархии. Здесь видна жизнь непринужденная, даже распущенная, живое воображение, которое дается нам лишь на заре юности. Это уже не бархатистость цветка, а сухое, зрелое и плодоносное зерно, которое обеспечивает зимнюю пору. Не находите ли вы, что все это говорит о чем-то тревожном, неутолимом, не поддающемся ни анализу, ни описанию, но тем не менее понятном, о чем-то таком, что вспыхнет сильным и ярким пламенем, если к тому представится случай. Это – тоска, томящая в монастырях, нечто ожесточенное, брожение подавленных бездеятельностью юношеских сил, грусть неясная и туманная.
– Довольно! – воскликнула маркиза. – Вы меня словно холодной водой окатили.
– Это – предвечерняя скука. Не знаешь, чем занять себя, и готов делать что угодно, даже что-нибудь дурное, лишь бы что-нибудь делать. И так всегда будет во Франции. Нашу молодежь характеризуют сейчас две черты: с одной стороны, прилежание еще не признанных, а с другой – пылкие страсти неистовых.
– Довольно! – остановила его властным жестом г-жа де Рошфид. – Вы не щадите моих нервов.
– Я спешу закончить портрет ла Пальферина и перейти в область его галантных похождений, – для того чтобы вы могли понять своеобразный облик этого даровитого молодого человека, являющего собою яркий образец нашей язвительной молодежи, когда она достаточно сильна, чтобы смеяться над положением, в которое ее ставят бездарные правители, достаточно расчетлива, чтобы, видя бесцельность труда, ничего не делать, и пока еще достаточно жизнерадостна, чтобы предаваться удовольствиям – единственное, чего у нее не могли отнять. Но нынешняя политика, одновременно буржуазная, торгашеская и ханжеская, закрывает все пути для деятельности множества талантов и дарований. Нет ничего для этих поэтов, нет ничего для этих молодых ученых! Чтобы дать вам представление о глупости нового двора, я расскажу вам случай, происшедший с ла Пальферином. Цивильным листом предусмотрена должность чиновника по делам вспомоществования нуждающимся. Чиновник как-то узнал, что ла Пальферин находится в крайне бедственном положении, без сомнения, доложил об этом начальству и привез наследнику Рустиколи пятьдесят франков. Ла Пальферин принял этого господина с отменной любезностью и завел с ним речь о членах королевской фамилии.
– Правда ли, – спросил граф, – что принцесса Орлеанская расходует такую-то сумму на это замечательное благотворительное ведомство, учрежденное ею для своего племянника? Это прекрасное дело.
Ла Пальферин шепнул что-то маленькому десятилетнему савояру, прозванному им «отец Анхиз»; тот служит ему безвозмездно, и граф говорит о нем: «Я никогда не встречал такой глупости в соединении с такой сообразительностью. Он пойдет за меня в огонь и в воду. Все он понимает, кроме одного, – что я не в силах ничего для него сделать».
Анхиз вскоре возвратился в великолепной взятой напрокат двухместной карете; на запятках ее стоял лакей. Услышав стук кареты, ла Пальферин ловко перевел разговор на обязанности чиновника, которого он с тех пор именует «человеком по делам безнадежно нуждающихся» и осведомился о характере его работы и получаемом жалованье.
– Предоставляют ли вам карету для разъездов но городу?
– О нет! – ответил чиновник.
При этих словах ла Пальферин и находившийся у него приятель встали, чтобы проводить беднягу, спустились вниз и заставили его сесть в карету, так как шел проливной дождь. Ла Пальферин все предусмотрел. Он приказал отвезти чиновника туда, куда тому было нужно попасть. Когда раздатчик милостыни окончил свой новый визит, он увидел, что экипаж ожидает его у ворот. Лакей вручил ему написанную карандашом записку: «Карета оплачена за три дня вперед графом Рустиколи де ла Пальферин, который бесконечно счастлив, что может таким образом присоединиться к благотворительности двора, предоставляя крылья для его благодеяний». С тех пор ла Пальферин называет цивильный лист «листом неучтивости».
Граф был страстно любим некоей Антонией, женщиной довольно легкого поведения; она жила на Гельдерской улице и понемногу приобретала известность. Но когда Антония познакомилась с графом, она еще не особенно «твердо стояла на ногах». Ей не чужда была дерзость прежних времен, которую нынешние куртизанки довели до наглости. После двух недель безоблачного счастья Антония была вынуждена, в интересах своего цивильного листа, вернуться к менее захватывающей страсти. Заметив, что с ним стали недостаточно искренни, ла Пальферин написал Антонии письмо, которое сделало ее знаменитой:
«Сударыня! Ваше поведение меня столь же изумляет, сколь и удручает. Мало того, что своим пренебрежением вы разрываете мне сердце, вы еще имеете жестокость удерживать мою зубную щетку, которую средства мои не позволяют мне заменить другой, ибо мои владения обременены долгами, превышающими их стоимость. Прощайте, прекрасная и неблагодарная подруга! Надеюсь встретиться с вами в лучшем мире!
Шарль-Эдуард».Несомненно, это письмо (говоря все в том же макароническом стиле Сент-Бева) намного превосходит насмешки Стерна в его «Сентиментальном путешествии». Это– Скаррон без его грубости. Не знаю даже, не сказал ли бы об этом Мольер, как сказал он о лучшем, что нашлось у Сирано: «Это мое». Ришелье был не более великолепен, когда писал принцессе, ожидавшей его во дворе, возле кухонь Пале-Рояля: «Оставайтесь там, моя королева, и чаруйте поварят». Впрочем, шутка Шарля-Эдуарда менее язвительна. Не знаю, был ли известен подобный род остроумия римлянам или грекам. Быть может, Платон, если внимательно вглядеться, и приближался к нему, но лишь в отношении четкости и музыкальности…
– Оставьте этот жаргон, – сказала маркиза, – такие вещи можно печатать, но терзать этим мой слух – наказание, мной не заслуженное.
– Вот как произошла встреча графа с Клодиной, – продолжал Натан. – Однажды, в один из тех пустых дней, когда молодежь не знает, куда деваться от тоски и, подобно Блонде во время Реставрации, находит выход для своей энергии и избавление от апатии, на которую ее обрекают заносчивые старики, в дурных поступках и шутовских выходках, извинительных лишь в силу дерзости замысла, – в один из таких дней ла Пальферин, постукивая своей тростью по тротуару, лениво прогуливался между улицей Граммон и улицей Ришелье. Издали он замечает женщину, чересчур элегантно одетую и, как он выразился, увешанную слишком дорогими вещами, которые она носила с такой небрежностью, что ее можно было принять либо за принцессу из дворца, либо за принцессу из Оперы. Но после июля 1830 года ошибка, по его словам, была уже невозможна: несомненно, то была принцесса из Оперы. Молодой граф подходит к даме с таким видом, словно назначил ей свидание. Он следует за ней с вежливым упрямством, с настойчивостью хорошего тона, бросая на нее время от времени покоряющие взгляды, но держится так учтиво, что эта женщина позволяет ему идти рядом. Другой оледенел бы от ее приема, пришел бы в замешательство от первого же отпора, от ее уничтожающе холодного вида и суровых нотаций; но ла Пальферин отвечал ей с такой забавной шутливостью, перед которой отступает всякая серьезность и решительность. Чтобы избавиться от него, незнакомка заходит к модистке. Шарль-Эдуард входит за нею следом, садится, делает замечания и дает советы как человек, готовый взять на себя расходы. Его хладнокровие тревожит незнакомку. Она выходит и на лестнице обращается к своему преследователю:
– Сударь, я иду к родственнице своего мужа, пожилой даме, госпоже де Бонфало…
– О! госпожа де Бонфало? – восклицает граф. – Я в восторге, я иду с вами.
И они идут вместе. Шарль-Эдуард входит с дамой; его принимают за ее знакомого, он вступает в разговор, выказывает в нем тонкость и изящество ума. Визит затягивается. Это не входит в его расчеты.
– Сударыня, – обращается он к незнакомке, – не забывайте, что ваш муж ожидает нас. В нашем распоряжении всего четверть часа. – Смущенная такой дерзостью, которая, сами знаете, нравится женщинам, увлеченная покоряющим взглядом, серьезным и в то же время простодушным видом, какой умеет принимать Шарль-Эдуард, она встает, принимает руку своего неотвязного кавалера, спускается вниз и на пороге говорит ему:
– Сударь, я люблю шутку…
– О, я также! – отвечает граф. Клодина рассмеялась. – Но, – продолжал он, – от вас одной зависит, чтобы это перестало быть шуткой. Я – граф де ла Пальферин и был бы счастлив сложить к вашим ногам свое сердце и свое состояние.
Ла Пальферину было тогда двадцать два года. Все это происходило в 1834 году. К счастью, граф был одет в тот день элегантно. Я опишу в двух словах его внешность. Это – живой портрет Людовика Тринадцатого: у него бледный лоб с изящными висками, смуглый, итальянский цвет лица, который при свечах кажется белым, длинные темные волосы и черная бородка. У него тот же серьезный и меланхолический вид, ибо его внешность и характер представляют разительный контраст. Услышав звучное имя, Клодина пристально смотрит на его обладателя и испытывает легкий трепет. Это не ускользает от ла Пальферина, и он устремляет на нее глубокий взгляд своих черных миндалевидных глаз с темными помятыми веками, которые свидетельствовали о пережитых наслаждениях, изнуряющих не меньше, чем невзгоды и волнения. Покоряясь этому взгляду, она спрашивает:
– Ваш адрес?
– Вопрос не по адресу, – бросает он.
– А, вот оно что, – улыбаясь, говорит она. – Птичка на ветке?
– Прощайте, сударыня! Вы – как раз такая женщина, которая мне нужна, но средства мои не соответствуют моим желаниям.
Он раскланивается и, не оборачиваясь, уходит. Два дня спустя, по той роковой случайности, какие возможны только в Париже, граф отправляется к торговцу платьем, дающему ссуды под залог, чтобы сбыть ему излишки своего гардероба. С беспокойным видом он соглашается на установленную после долгих споров цену, как вдруг видит проходящую мимо незнакомку, которая, несомненно, узнала его. «Нет, я решительно отказываюсь взять этот рог!» – бросает он ошеломленному торговцу, указывая на висевший снаружи огромный помятый охотничий рог, который выделялся на фоне ливрейных фраков посольских лакеев и ветхих генеральских мундиров. Затем он гордо выходит и стремительно бросается за молодой женщиной. Начиная с этого знаменательного дня, отмеченного историей с охотничьим рогом, они прекрасно поняли друг друга. У Шарля-Эдуарда были правильные взгляды на любовь. В жизни человека, по его словам, любовь не повторяется дважды: она приходит только один раз, глубокая и безбрежная, как море. Такая любовь может снизойти на каждого, как благодать снизошла на святого Павла, но человек может дожить и до шестидесяти лет, не испытав ее. Такая любовь, по великолепному выражению Гейне, есть, быть может, тайная болезнь сердца, сочетание чувства бесконечного, заключенного в нашей душе, и прекрасного идеала, который открывается нам в зримой форме. Словом, такая любовь объемлет собою и отдельное существо, и все творение. И пока речь не заходит об этой великой поэме, к любви мимолетной можно относиться лишь как к шутке, подобно тому, как относятся в литературе к легкой поэзии, сравнивая ее с поэзией эпической.
Для графа эта связь не была той ослепительной молнией, которая является предвестником истинной любви, не была она и постепенным раскрытием женского обаяния и признанием скрытых качеств, которые связывают два существа со все возрастающей силой. Настоящая любовь всегда приходит одним из этих двух путей: или любовь с первого взгляда, являющаяся, без сомнения, следствием ясновидения – внутреннего зрения, как выражаются шотландцы, или постепенное слияние двух существ, образующих подобие платоновского андрогина. Но Шарль-Эдуард был любим безумно. Его возлюбленная испытывала к нему любовь совершенную – и духовную и физическую. Словом, ла Пальферин был настоящей страстью Клодины, тогда как Клодина была для него всего лишь очаровательной любовницей. Ад и князь его сатана, который, без сомнения, великий чародей, ничего не могли бы изменить в отношениях этих двух столь несхожих темпераментов. Я смею утверждать, что Клодина нередко наводила на Шарля-Эдуарда скуку. «Нелюбимая женщина и недоеденная рыба через три дня годны только на то, чтобы их выбросили за окно», – говорил он нам. В богеме не делают особой тайны из легкой любви. Ла Пальферин часто говорил нам о Клодине, однако никто из нас не видел ее, и никогда ее настоящее имя не было произнесено. Клодина оставалась для нас существом полумифическим. Все мы поступали так же, примиряя этим способом требования приятельских отношений с правилами хорошего тона. Клодина, Гортензия, баронесса, мещанка, императрица, львица, испанка – это были обозначения, которые позволяли каждому изливать свои чувства, говорить о своих заботах, горестях, надеждах и делиться своими открытиями. Дальше этого не шли. Как-то богеме случайно стало известно имя женщины, о которой шла речь, – и тотчас же, по единодушному молчаливому соглашению, о ней перестали говорить. Факт этот показывает, каким чувством истинной деликатности обладает молодежь. Как изумительно чувствуют эти люди границы, где должна смолкнуть насмешка и отступить свойственная французам склонность к тому, что солдаты называют «бахвальством»; слово это, надо надеяться, будет выброшено из нашего языка, хотя только оно одно и способно передать истинный дух богемы. Мы частенько прохаживались насчет графа и Клодины. «Что ты сделаешь из своей Клодины?», «Как твоя Клодина?», «Все еще Клодина?» Все это распевалось на мотив арии «Все еще Гесслер» из оперы Россини.
– Желаю вам такую же любовницу, – сказал нам как-то разозленный Пальферин. – Ни один пудель, ни одна такса или борзая не могут сравниться с нею в мягкости, бесконечной нежной привязанности. Иногда я упрекаю себя, я обвиняю себя в жестокости. Клодина покорна и кротка, как святая. Она приходит, я отсылаю ее домой, она молча уйдет и заплачет только во дворе. Я отказываюсь ее видеть целую неделю, назначаю свидание на следующий вторник, на любой час, будь то полночь или шесть часов утра, десять утра или пять часов вечера – время самое неудобное: час завтрака или обеда, время, когда встают или ложатся спать… Все равно. Она придет, красивая, нарядная, очаровательная, – и точно в назначенный час! А ведь она замужем. У нее масса домашних дел и обязанностей. Мы бы с вами запутались в тех хитростях и доводах, которые ей приходится измышлять и придумывать, чтобы приспособиться к моим капризам!.. Но она не знает усталости и прекрасно держится! Я говорил ей, что это не столько любовь, сколько упрямство. Она пишет мне каждый день, я не читаю ее писем. Она об этом знает и все же продолжает писать! Вот взгляните – в этой шкатулке сотни две ее писем. Она просит меня каждое утро брать по письму и вытирать им бритву, я так и делаю! Она думает, и не без основания, что, увидя ее почерк, я буду вспоминать о ней.
Ла Пальферин, рассказывая, занимался своим туалетом. Я взял письмо, которым он хотел, по обыкновению своему, вытереть бритву, и, так как он не потребовал письмо назад, я прочел его и оставил у себя. Вот оно: я, как и обещал, нашел его.
Ну что, друг мой, довольны ли вы мною? Я не попросила вас дать мне руку, хотя вам было так легко протянуть ее, а мне так хотелось прижать ее к своему сердцу, к своим губам. Нет, я не попросила об этом из опасения вас рассердить. Я должна сказать вам одну вещь: к несчастью своему, я знаю, что мои поступки для вас безразличны, и все же я всегда, всегда робею перед вами. Женщина, которая вам принадлежит, независимо от того, известно ли кому-нибудь об этом, или это остается тайной для всех, не должна навлекать на себя никаких нареканий. Небесные ангелы, для которых нет тайн, знают, что я люблю вас самой чистой любовью, но где бы я ни была, мне кажется, что я всегда нахожусь в вашем присутствии, и я хочу быть достойной вас.
Меня глубоко поразило то, что вы сказали о моей манере одеваться. Это заставило меня понять, насколько люди благородного происхождения выше остальных! В покрое моих платьев, в моей прическе еще оставалось нечто от привычек оперной танцовщицы. Мне сразу стало ясно, как мало еще у меня настоящего вкуса. В первую же встречу вы не узнаете меня, вы примете меня за герцогиню. О, как ты был добр к своей Клодине! Как я тебе благодарна за то, что ты указал мне мои недостатки. Сколько внимания в нескольких твоих словах. Стало быть, ты все же думаешь о принадлежащей тебе безделушке, которая носит имя Клодины? А разве он, этот глупец, мог бы просветить меня в этих вопросах? Ему нравится все, что я делаю, к тому же он слишком занят будничными делами, слишком прозаичен и совсем не обладает чувством прекрасного. Вторник… С каким нетерпением я жду вторника. День, когда я проведу несколько часов возле вас! Ах, во вторник я постараюсь думать, что часы превратились в месяцы и что им не будет конца. Я живу ожиданием этого утра, а когда оно пройдет, буду жить воспоминаниями о нем. Надежда – это мысль о будущем наслаждении, воспоминание – память о наслаждении пережитом. О мысль! Какой прекрасной делаешь ты нашу жизнь! Я мечтаю придумать такие ласки, которые будут только моими и тайну которых не разгадать ни одной женщине. Меня бросает в холод при одной мысли, что нам что-нибудь может помешать. О, я немедленно порвала бы с ним, если бы это было нужно. Но не с этой стороны может возникнуть препятствие, а с твоей: у тебя может явиться желание пойти куда-нибудь, даже к другой женщине, быть может. О, пощади этот вторник! Если ты, Шарль, отнимешь его у меня, ты не представляешь, во что это ему обойдется: я сведу его с ума. Даже если ты и не хочешь быть со мной, если ты собираешься куда-нибудь пойти, позволь мне все же прийти к тебе, посмотреть, как ты будешь одеваться, хотя бы только взглянуть на тебя! Большего я не требую: позволь мне доказать этим, как чиста моя любовь к тебе! С тех пор как ты позволил мне любить тебя, – ведь ты это позволил, иначе бы я не была твоей, – с этого дня я люблю тебя всеми силами своей души и буду любить тебя вечно. Ведь после тебя нельзя, невозможно любить другого. И, знаешь, когда ты посмотришь в мои глаза, глаза твоей Клодины, которой хочется лишь взглянуть на тебя, ты ощутишь во мне нечто возвышенное, которое ты же и пробудил. Увы! С тобой я – не кокетка! Я отношусь к тебе, как мать к ребенку: я все готова снести от тебя. Властная и гордая с другими, я, которая заставляла бегать за собой принцев, герцогов и флигель-адъютантов Карла X, стоивших побольше современных придворных, я обращаюсь с тобой, как с избалованным ребенком. Да и к чему здесь кокетство? Оно было бы неуместно. Но вот именно из-за того, что нет во мне кокетства, вы никогда не будете любить меня. Я это знаю. Я это чувствую. И все же я во власти какой-то неодолимой силы и продолжаю поступать все так же. У меня только одна надежда: быть может, полное мое самоотречение пробудит в вас то чувство, которое, по его словам, свойственно каждому мужчине но отношению к тому, что он считает своей собственностью».
О, какой безысходной тоской переполнилось сердце, когда я узнала вчера, что придется отказаться от счастья видеть тебя. Одна только мысль помешала мне броситься в объятия смерти: ты так хотел. Не прийти – означало исполнить твою волю, подчиниться твоему приказанию. Ах, Шарль, я была так красива! Ты нашел бы, что я гораздо привлекательнее той блестящей немецкой княгини, которую ты мне ставил в пример и которую я внимательно изучала в Опере. Но, возможно, ты бы нашел, что я не похожа на себя. Видишь, ты лишил меня всякой уверенности в себе, быть может, я безобразна! О, я вся дрожу, я глупею при одной мысли о моем лучезарном Шарле-Эдуарде. Я, наверно, сойду с ума. Не смейся и не говори мне о женском непостоянстве. Если мы изменчивы, то вы, мужчины, – очень странные существа. Лишить бедную женщину нескольких часов радости, в ожидании которых она была счастлива целых десять дней, была добра и очаровательна со всеми, с кем ей пришлось встречаться! Наконец, ты был причиной ласкового моего внимания к нему. Ты даже не подозреваешь, сколько зла ты ему приносишь. Я спрашивала себя, что я должна придумать, чтобы удержать тебя или хотя бы иметь право иногда принадлежать тебе… Подумать только, ты ни разу не захотел прийти ко мне! С каким восторгом я бы ухаживала за тобой. Есть женщины счастливее меня. Некоторым ты даже говоришь: «Я люблю вас!» А мне ты в лучшем случае говоришь: «Ты славная девочка!» Ты и не подозреваешь, как иные твои слова терзают мне сердце. Иногда умные люди спрашивают меня, о чем я думаю. Я думаю о своей униженности, ведь я подобна несчастнейшей из грешниц пред лицом Спасителя».
– Как видите, здесь еще целых три страницы. Ла Пальферин позволил мне взять это письмо, и я увидел на нем следы слез, которые, казалось, были еще теплыми! Письмо это убедило меня, что ла Пальферин говорит нам правду. Маркас, довольно робкий с женщинами, пришел в восторг от такого же письма, которое он прочел в своем углу, прежде чем зажечь им сигару.
– Но ведь так пишут все влюбленные женщины! – воскликнул ла Пальферин. – Любовь пробуждает в них ум и обучает стилю: это доказывает, что во Франции стиль рождается мыслью, а не словом. Смотрите, как это глубоко продумано, как логично самое чувство! – И он прочел нам еще одно письмо, написанное во много раз лучше тех искусственных, надуманных писем, которые сочиняем мы, авторы романов.
Однажды несчастная Клодина, узнав, что ла Пальферину угрожает серьезная неприятность в связи с просрочкой векселя, возымела роковую мысль преподнести ему в изящно расшитом кошельке довольно значительную сумму золотом. Какая дерзость!
– Кто тебе позволил вмешиваться в мои домашние дела?! – разгневался ла Пальферин. – Штопай мне носки, вышивай мне туфли, если тебе это нравится. Но… А! так ты вздумала разыгрывать из себя герцогиню, миф о Данае ты обращаешь против аристократии!
С этими словами он высыпал на ладонь содержимое кошелька и сделал вид, будто собирается бросить деньги в лицо Клодине. Не поняв шутки, Клодина испуганно отпрянула назад, наткнулась на стул и упала навзничь, ударившись головой об острый угол камина. Ей показалось, что она умирает. Когда бедняжку положили на кровать и к ней вернулся дар речи, первые ее слова были: «Я заслужила это, Шарль!» На минуту ла Пальферин пришел в отчаянье. Его отчаянье вернуло Клодину к жизни; она порадовалась своему несчастью и воспользовалась им, чтобы заставить графа принять деньги, и тем самым выручила его из беды. Все это в перевернутом виде напоминает басню Лафонтена, в которой муж благодарит воров за то, что из-за них испытал минутную нежность со стороны жены. В этой связи одна фраза ла Пальферина поможет вам понять весь его характер.
Вернувшись домой, Клодина, как сумела, сочинила целую историю, чтобы объяснить происхождение своей раны. Бедняжка опасно заболела: на голове у нее образовался нарыв. Врач, кажется Бьяншон (да, это был он), велел остричь Клодине волосы, а волосы у нее прекрасные, не хуже, чем у герцогини Беррийской. Клодина не позволила остричь ее и по секрету призналась Бьяншону, что не может решиться на это без согласия графа ла Пальферина. Бьяншон отправился к Шарлю-Эдуарду. Тот важно выслушал его подробные объяснения о состоянии больной, но когда Бьяншон заявил, что для успешного исхода операции ей необходимо снять волосы, ла Пальферин решительно воскликнул: «Остричь Клодине волосы?! Нет, я предпочитаю потерять ее!» Бьяншон и теперь, по прошествии четырех лет, все еще вспоминает об ответе ла Пальферина, заставившем нас смеяться в течение получаса. Узнав о запрещении ла Пальферина, Клодина усмотрела в этом доказательство привязанности графа и решила, что она любима. Невзирая на слезы родных и мольбы мужа, она осталась непоколебима и сохранила волосы. Благодаря внутренней силе, которую Клодине придала вера в то, что ее любят, операция прошла блестяще. Бывают движения души, которые опрокидывают все расчеты хирургии, все законы медицины. Не соблюдая никаких правил орфографии и пунктуации, Клодина написала ла Пальферину очаровательное письмо, в котором сообщала о счастливом исходе операции и уверяла, что любовь сильнее всех наук.
– А теперь, – сказал нам однажды ла Пальферин, – что придумать, чтобы избавиться от Клодины?
– Но она же тебя нисколько не стесняет, ты делаешь все, что тебе заблагорассудится.
– Это правда, – отвечал ла Пальферин. – Но я не желаю, чтобы без моего согласия в мою жизнь вторгалось что-то постороннее.
С этого дня ла Пальферин начал мучить Клодину. Он питал глубочайшее отвращение к женщинам буржуазного круга, без имени, без титула; ему во что бы то ни стало нужна была аристократка. Правда, Клодина сделала большие успехи: она одевалась теперь не хуже самых элегантных обитательниц Сен-Жерменского предместья, она сумела облагородить свою походку, и все ее движения были полны неподражаемой целомудренной грации, но и этого было недостаточно! Чтобы заслужить похвалу, Клодина была готова на все. «Вот что, – сказал ей однажды ла Пальферин, – если ты хочешь остаться любовницей одного из отпрысков рода ла Пальферин, бедняка без гроша в кармане и без надежд на будущее, ты должна по крайней мере достойно представлять его. У тебя должен быть свой выезд, ливрейные лакеи, титул. Доставь мне все то, что могло бы потешить мое тщеславие и чего я не в силах добиться сам. Женщина, которую я почтил своей благосклонностью, никогда не должна ходить пешком: если ее чулки забрызганы грязью – я страдаю! Да, уж таким я создан! Весь Париж должен восхищаться моей возлюбленной. Я хочу, чтобы Париж завидовал моему счастью. Хочу, чтобы каждый юноша при виде блистательной графини, проносящейся мимо него в роскошном экипаже, в задумчивости спрашивал себя: «Кому принадлежит это божество?» Это вдвое увеличит мое удовольствие».
Ла Пальферин признался нам, что он вбивал все это в голову Клодине, для того чтобы избавиться от нее, но был озадачен в первый, и несомненно, в последний раз в своей жизни: «Хорошо, друг мой, – сказала Клодина голосом, выдававшим ее глубокое внутреннее волнение, – все это будет сделано, или я умру… – И она восторженно поцеловала его руку, уронив на нее несколько слезинок. – Я бесконечно рада, – прибавила она, – что ты объяснил мне, какой я должна быть, чтобы остаться твоей возлюбленной». – «И, сделавши на прощанье кокетливый жест счастливой женщины, – рассказывал ла Пальферин, – она вышла из моей мансарды, высокая, гордая и величественная, словно древняя прорицательница».
– Все это достаточно ярко характеризует нравы богемы, одним из наиболее блестящих представителей которой является сей юный кондотьер, – продолжал Натан после небольшой паузы. – Теперь послушайте, как мне удалось узнать, кто была Клодина и каким образом мне стал понятен трагический смысл одной фразы в ее письме; я был поражен правдивостью этой фразы, но вы, быть может, не обратили на нее внимания.
– Продолжайте, – проронила маркиза без малейшей улыбки, настолько она была поглощена своими мыслями; это показало Натану, что она была поражена всеми этими странностями и, в особенности, живо заинтересовалась самим ла Пальферином.
– В 1829 году одним из наиболее известных, хорошо устроенных и благополучных парижских драматургов был дю Брюэль. Его настоящее имя осталось публике незнакомым, ибо на афишах он значился под псевдонимом де Кюрси. Во время Реставрации он занимал должность начальника канцелярии в одном из министерств. Будучи горячим приверженцем старшей ветви Бурбонов, он мужественно подал в отставку и с тех пор начал писать для театра вдвое больше, стараясь возместить ущерб, причиненный его бюджету сим благородным поступком. Дю Брюэлю было в то время сорок лет; жизнь его вам известна. По примеру многих писателей он был сильно привязан к некой актрисе: такого рода необъяснимые привязанности часто наблюдаются в литературном мире. Его любовницу вы знаете – это Туллия; некогда она была одной из первых учениц Королевской музыкальной академии. Туллия – ее псевдоним, подобно тому как де Кюрси – псевдоним дю Брюэля. В течение десяти лет – с 1817 по 1827 год – эта девица блистала на знаменитых подмостках Оперы. Посредственная балерина, куда более красивая, чем одаренная, она оказалась практичнее многих танцовщиц – не поддалась новому, добродетельному направлению, погубившему кордебалет, и осталась верна традициям мадмуазель Гимар. Своим успехом она была обязана покровительству нескольких сановных поклонников, в частности герцога де Реторе, сына герцога де Шолье, влиянию известного директора ведомства изящных искусств, а также дипломатам и богатым иностранцам. В расцвете своей карьеры она занимала небольшой особняк на улице Шоша и вела почти такую же жизнь, как прежние нимфы Оперы. Дю Брюэль влюбился в нее в начале 1823 года, когда страсть герцога де Реторе начала остывать.
Простой чиновник ведомства изящных искусств, дю Брюэль смирился с покровительством директора, полагая, что является счастливым его соперником. По прошествии шести лет связь дю Брюэля и Туллии превратилась в своего рода брак. Туллия тщательно скрывает свое происхождение, известно только, что она родом из Нантера. Говорят, что ее дядя, в прошлом простой плотник или каменщик, благодаря ее рекомендации и денежной поддержке разбогател и сделался крупным подрядчиком по постройке домов. Об этом проговорился сам дю Брюэль, сказавший, что рано или поздно Туллия получит значительное наследство. Подрядчик не женат и питает слабость к племяннице, которой многим обязан. «Этот человек недостаточно умен, чтобы быть неблагодарным», – говорила она. В 1829 году Туллия решила уйти со сцены. К тридцати годам она заметила, что начинает полнеть. Она попыталась выступать в пантомиме, но неудачно; единственное, что она умела, – это в пируэтах, на манер Нобле, высоко поднимать юбку и показываться партеру полунагой. Старик Вестрис с самого начала объяснил ей, что при удачном исполнении и красоте обнаженных форм танцовщицы прием этот стоит не меньше всех мыслимых талантов. В этом и состояла, по его словам, вся соль номера. А что касается всех этих знаменитых танцовщиц – Камарго, Гимар, Тальони, – тощих, черных и некрасивых, то они достигли известности лишь благодаря своей гениальности. С появлением более молодых и одаренных соперниц Туллия уступила им место, удалившись во всем своем блеске, и поступила умно. Танцовщица аристократическая, не скомпрометированная своими связями, она не пожелала ронять себя в дни июльской неразберихи. У красивой и дерзкой Клодины осталось много приятных воспоминаний, но мало денег, зато у нее были великолепные бриллианты и роскошная обстановка, каких не много в Париже.
Покинув Оперу, эта некогда известная, а теперь уже почти совсем забытая танцовщица мечтала только об одном: женить на себе дю Брюэля. И, как вы догадываетесь, в настоящее время она – госпожа дю Брюэль, хотя об этом браке официально объявлено не было. Каким образом подобного рода женщинам удается заставить жениться на себе по прошествии семи-восьми лет близости? К каким средствам они прибегают? Какие пружины пускают в ход? Но как бы ни была забавна такая интимная драма, не она является темой нашего разговора. Итак, дю Брюэль был тайно женат, факт совершился. До этого Кюрси слыл веселым товарищем, он не всегда ночевал дома, его жизнь несколько напоминала жизнь богемы. Он охотно участвовал в увеселительных прогулках, в ужинах и нередко, выйдя из дому на репетицию в театр Комической оперы, оказывался, сам не зная как, где-нибудь в Дьеппе, Бадене, Сен-Жермене; он давал обеды и вел широкую, расточительную жизнь писателей, журналистов и художников. За кулисами всех парижских театров он умело пользовался своими правами драматурга. Дю Брюэль был вхож в наше общество: Фино, Лусто, дю Тийе, Дерош, Бисиу, Блонде, Кутюр, де Люпо терпели его, несмотря на присущий ему педантизм и тяжеловесные манеры чиновника. Женившись, он превратился в раба Туллии. Что поделаешь – бедный малый любил ее. Она уверяла, что бросила сцену для того, чтобы всецело посвятить себя ему, чтобы стать хорошей женой и очаровательной хозяйкой. Туллия сумела войти в доверие к самым строгим янсенисткам в семье дю Брюэля. Не позволяя догадываться о своих истинных намерениях, она отправлялась скучать к госпоже де Бонфало; она делала дорогие подарки старой и скупой госпоже де Шиссе, своей двоюродной тетке. Однажды она целое лето провела у этой дамы и не пропустила ни одной обедни. Танцовщица исповедалась, получила отпущение грехов, причастилась, и все это в провинции, на глазах у тетки. Зимой она нам говорила: «Подумайте только! У меня будут настоящие тетки!» Она так жаждала превратиться в добропорядочную даму, так была рада отречься от своей независимости, что сумела найти способ для достижения этой цели. Она льстила всем старухам родственницам, она каждый день прибегала к матери дю Брюэля, когда та была больна, и проводила у нее по два часа кряду. Дю Брюэль был поражен этой ловкой стратегией в духе госпожи Ментенон и восхищался своей женой, нисколько не задумываясь над собственным положением: он был так хорошо опутан, что уже не чувствовал своих пут. Клодина убедила дю Брюэля, что гибкая система буржуазного правления, буржуазной монархии, буржуазного двора была единственной, которая могла позволить какой-то Туллии, ставшей госпожой дю Брюэль, попасть в то общество, куда она, имея достаточно здравого смысла, раньше и не пыталась проникнуть. Пока она довольствовалась тем, что была принята у госпожи де Бонфало, госпожи де Шиссе и госпожи дю Брюэль, где держала себя как женщина умная, простая и добродетельная. Тремя годами позже она была принята и у их приятельниц. «Я никак не могу представить себе, что госпожа де Брюэль-младшая показывала свои ноги и прочее всему Парижу при свете сотни газовых рожков!» – наивно удивлялась супруга Ансельма Попино. В этом отношении Франция после июля 1830 года походила на империю Наполеона, который в лице госпожи Гара, жены верховного судьи, допустил ко двору бывшую горничную. Бывшая танцовщица, как вы догадываетесь, окончательно порвала со всеми своими прежними приятельницами: она не узнавала тех своих старых знакомых, которые могли бы ее скомпрометировать.
Выйдя замуж, она сняла на улице Виктуар прелестный особнячок с двором и садом; на отделку дома были истрачены безумные деньги, туда были перевезены самые ценные вещи из обстановки Клодины и дю Брюэля. Все, что казалось обычным и заурядным, было продано. Чтобы составить себе верное понятие о царившей там роскоши, следует вспомнить лучшие дни Гимар, Софи Арну, Дютэ и им подобных, поглотивших немало громадных состояний. Как действовал этот роскошный образ жизни на дю Брюэля? Вопрос этот нелегко поставить и еще труднее на него ответить. Чтобы дать вам представление о причудах Туллии, достаточно привести одну подробность. У нее на кровати было покрывало из английских кружев, стоившее десять тысяч франков. Одна известная актриса приобрела такое же; Клодина об этом узнала, и немедленно на ее кровати появилась великолепная ангорская кошка, возлежавшая на кружевном покрывале. Этот анекдотический случай ярко рисует Туллию. Дю Брюэль не посмел сказать ни слова. Он получил приказание широко разгласить об этом вызове на соперничество в роскоши, брошенной той, «другой». Туллия дорожила своим кружевным покрывалом – подарком герцога де Реторе; но однажды, лет через пять после свадьбы, она так увлеклась игрой с кошкой, что разорвала его; покрывало было превращено в вуали, воланы, гарнитуры и заменено другим, которое на сей раз было просто покрывало, а не свидетельство безумной расточительности. Как выразился один журналист, своей бессмысленной роскошью эти женщины мстят за то, что в детстве они питались одной картошкой. День, когда покрывало было превращено в лоскутья, явился началом новой эры в жизни супругов. Кюрси развил бешеную деятельность. Никто не подозревает, кому обязан Париж водевилями в стиле восемнадцатого века, с пудреными париками и мушками, которые обрушились на театры. Виновницей тысячи и одного водевиля, на которые так жаловались фельетонисты, была непреклонная воля госпожи дю Брюэль: она настояла, чтобы муж купил особняк, отделка которого потребовала огромных расходов, и новую обстановку, стоившую полмиллиона франков. Зачем? Туллия никогда не дает объяснений, она великолепно знает силу властного женского «потому что»!
– Над Кюрси много смеялись, – заявила она, – но в конечном счете он обрел этот дом в коробке румян, в пуховке для пудры и в расшитых блестками кафтанах восемнадцатого века. Не будь меня, он никогда бы до этого не додумался, – заключила она, уютно устраиваясь у камина в глубоком кресле с подушками. Все это она сказала нам, возвратившись с первого представления одной из пьес дю Брюэля, которая имела успех, но должна была вызвать лавину фельетонов.
Туллия принимала. По понедельникам к ней собирались на чашку чая. Общество она подбирала со всей возможной для нее тщательностью и делала все для того, чтобы ее дом был приятным. В одной гостиной играли в бульот, в другой – беседовали, в третьей, самой большой, она иногда устраивала концерты – непродолжительные, но с участием самых выдающихся артистов. Необычайный здравый смысл Туллии помог ей выработать в себе очень верный такт – качество, которому она была, несомненно, обязана своим влиянием на дю Брюэля; к тому же водевилист любил ее той любовью, которую привычка превращает в жизненную необходимость. Каждый день вплетает лишнюю нить в тонкую, крепкую, всеохватывающую сеть, которая препятствует человеку проявить самое невинное свое желание, самую мимолетную прихоть; нити эти сплетаются, и человек оказывается связанным по рукам и ногам в своих чувствах и мыслях. Туллия хорошо изучила Кюрси: она знала, чем ранить его и как исцелить. Для всякого наблюдателя, даже такого, который, как я, обладает опытом, – подобного рода страсти кажутся бездной; глубины ее тонут во мраке, и даже места наиболее освещенные окутаны туманом. Кюрси, старый, истрепанный закулисной жизнью писатель, чрезвычайно ценил удобства своей новой жизни – жизни роскошной, расточительной и беспечной; он был счастлив, чувствуя себя властелином в доме, принимая знакомых литераторов в блиставшем королевской роскошью особняке, где взор радовали лучшие произведения современного искусства. Туллия позволяла ему царить в этом кружке, куда входили и журналисты, которых нетрудно было привлечь к себе дарами. Благодаря званым вечерам и деньгам, предусмотрительно дававшимся взаймы, Кюрси не подвергался особым нападкам, пьесы его имели успех. Поэтому он ни за какие сокровища не расстался бы с Туллией. Он, пожалуй, примирился бы даже с неверностью с ее стороны, лишь бы не нарушать привычного течения своей беззаботной жизни. Но, странное дело: в этом отношении Туллия не внушала ему никаких опасений. За бывшей прима-балериной не замечалось никаких увлечений, а если бы они и были, то она умела бы сохранять приличия.
– Дорогой мой, – наставительным тоном говорил дю Брюэль, прогуливаясь со мною по бульвару, – нет ничего лучше, как жить с женщиной, которая, пресытившись, отказалась от страстей. Такие женщины, как Клодина, в свое время жили по-холостяцки и сыты по горло всякими удовольствиями; они все изведали и вполне сформировались, они лишены жеманства, все понимают и прощают – это самые восхитительные жены, каких только можно пожелать. Я бы каждому посоветовал жениться на таких вот былых призовых лошадках. Я самый счастливый человек на земле. – Все это дю Брюэль говорил мне в присутствии Бисиу.
– Друг мой, – тихо сказал мне рисовальщик, – быть может, он хорошо делает, что заблуждается.
Неделю спустя дю Брюэль пригласил нас к себе во вторник на обед. Во вторник утром мне пришлось зайти к нему по делу, связанному с театром: речь шла об арбитраже, который был поручен нам комиссией драматургов.
Нам уже пора было идти, но он сначала заглянул в комнату Клодины, к которой никогда не заходит без стука, и попросил разрешения войти.
– Мы живем, как знатные особы, – сказал он мне, улыбаясь. – Каждый у себя: мы не стесняем друг друга.
Нас впустили.
– Я пригласил сегодня нескольких друзей к обеду, – сказал дю Брюэль Клодине.
– Вот как! – воскликнула она. – Вы приглашаете гостей, не предупредив меня. Я здесь ничто! Послушайте, – продолжала она, взглядом предлагая мне быть судьей, – я обращаюсь к вам. Если имеют глупость жить с женщиной такого сорта, как я, – ведь я как-никак бывшая танцовщица Оперы, да, да, – то надо постараться, чтоб люди об этом забыли; только я сама никогда не должна этого забывать. Так вот, всякий умный человек, чтобы поднять свою жену в глазах общества, постарался бы допустить в ней черты превосходства и оправдать свой выбор признанием в ней исключительных качеств! Самый лучший способ заставить других уважать ее – это самому ее уважать и относиться к ней как к истинной хозяйке дома. Ну а дю Брюэль из самолюбия боится показать, что считается со мной. Нужно, чтобы я десять раз была права, прежде чем он пойдет на уступки. – Каждая из этих фраз сопровождалась жестом негодующего отрицания со стороны дю Брюэля. – О нет, нет, – продолжала она с живостью в ответ на жестикуляцию своего супруга, – мой дорогой дю Брюэль, до замужества я всю жизнь была королевой у себя в доме и прекрасно разбираюсь в этих вещах. Мои желания угадывались, исполнялись, и как исполнялись!.. Зато теперь… Мне тридцать пять лет, а женщину в тридцать пять лет любить нельзя. О, если бы мне было шестнадцать лет и у меня было бы то, что так дорого ценится в Опере, каким бы вниманием вы меня окружили, господин дю Брюэль! Я глубоко презираю мужчин, которые хвастаются, будто любят женщину, а сами не заботятся о ней в мелочах. Видите ли, дю Брюэль, вы – человек слабый и ничтожный, вам нравится мучить женщину, – кроме нее, вам не на ком показать свою силу. Наполеон спокойно подчинился бы своей возлюбленной: ему нечего было бояться, а вы и вам подобные сочли бы себя в этом случае погибшими, – вы ведь так боитесь, чтобы вами командовали! Тридцать пять лет, дорогой мой, – продолжала она, обращаясь ко мне, – вот в чем разгадка. Смотрите, он все еще отрицает. А вам ведь хорошо известно, что мне тридцать семь. Мне очень досадно, но вам придется сказать своим друзьям, что вы поведете их обедать в «Роше де Канкаль». Я бы могла устроить обед, но я этого не хочу, и они не придут! Мой жалкий маленький монолог должен запечатлеть в вашей памяти спасительный девиз: «каждый у себя» – наше основное правило, – прибавила она со смехом, возвращаясь к своей обычной манере взбалмошной и капризной танцовщицы.
– Хорошо, хорошо, дорогая кошечка, – сказал дю Брюэль, – ну-ну, не сердись. Мы знаем, как надо жить.
Он поцеловал у нее руку, и мы вышли. Дю Брюэль был в бешенстве. Вот что он говорил мне, пока мы шли от улицы Виктуар до бульваров, если только самая грубая брань, которую может выдержать печатный станок, в силах передать его ядовитые мысли и те жестокие слова, которые яростно срывались с его языка подобно тому, как низвергается с высоты бурный водопад:
– Друг мой, я порву с этой отвратительной бесстыжей плясуньей, с этим старым заводным волчком, она извертелась на оперных подмостках, подстегиваемая модными ариями, пусть она убирается от меня прочь, – распутница, грязная мартышка. Ты ведь тоже имел несчастье связаться с актрисой, смотри не вздумай жениться на своей любовнице! Это – пытка, настоящая пытка, жаль, что Данте забыл упомянуть о ней в своем «Аде». Знаешь, я бы сейчас избил, исколотил ее, я бы ей сказал, кто она такая; она отравляет мне жизнь, она превращает меня в лакея!
Мы шли по бульвару, ярость дю Брюэля не знала границ: он заикался от волнения.
– Я растопчу ее, – хрипел он.
– За что же? – спросил я.
– Дорогой мой, ты и представить себе не можешь неисчислимых фантазий этой твари! Когда мне хочется посидеть дома, она собирается уходить, когда я хочу пойти куда-нибудь, она требует, чтобы я остался. Ах, что это за создания! Они вас засыпают всевозможными аргументами, силлогизмами, обвинениями, измышлениями, выражениями, способными свести с ума! Все добро от них, все зло от нас. Попробуйте сразить их каким-нибудь неопровержимым доводом, они замолчат и будут смотреть на вас, как на дохлого пса. Мое счастье?.. Оно достается мне ценой рабского подчинения, ценой покорности дворовой собаки. Она слишком дорого продает то немногое, что дает мне. К черту! Все оставлю ей и сбегу в мансарду. О, мансарда и свобода! Вот уже пять лет, как я сам себе не хозяин.
Вместо того чтобы пойти предупредить своих друзей, дю Брюэль расхаживал взад и вперед по бульвару между улицей Ришелье и улицей Монблан, изрыгая самые ужасные проклятья и впадая в самые смехотворные преувеличения. Охвативший его пароксизм ярости составлял резкий контраст с невозмутимым спокойствием, которое он проявлял дома. Прогулка постепенно успокоила его нервы и усмирила бушевавшую в его душе бурю. Часа в два, поддавшись очередному приступу гнева, он воскликнул:
– Эти проклятые бабы сами не знают, чего хотят. Голову даю на отсечение, – если я вернусь и скажу, что друзья мои предупреждены и мы, по ее требованию, обедаем в «Роше де Канкаль», ей это не понравится. Впрочем, – добавил он, – она, вероятно, уже удрала. Быть может, у нее свиданье с какой-нибудь козлиной бородой?! Нет, в глубине души она меня все-таки любит.
– Ах, сударыня, – сказал Натан, бросая лукавый взгляд на маркизу, которая не могла удержаться от улыбки, – только женщины и пророки умеют извлекать пользу из веры. – Дю Брюэль, – продолжал он, – опять повел меня к себе. Мы медленно подошли к дому. Было три часа. Перед тем как подняться наверх, дю Брюэль заметил какое-то движение в кухне. Войдя, он увидел приготовления к обеду и, бросив на меня многозначительный взгляд, спросил кухарку, что она делает.
– Барыня заказала обед, – ответила та. – Барыня оделась, велела послать за экипажем, потом передумала и отослала экипаж, приказав подать его к началу спектакля.
– Ну? – воскликнул дю Брюэль. – Что я тебе говорил?
Мы осторожно вошли в квартиру. Никого. Миновав гостиные, мы очутились в будуаре, где застали Туллию в слезах. Без всякой рисовки она вытерла глаза и сказала дю Брюэлю: «Пошлите в «Роше де Канкаль» записку с просьбой предупредить приглашенных, что обед будет у нас дома». На Туллии был туалет, какого не увидишь на актрисе: он поражал своим изяществом, гармонией покроя и тонов, благородной простотой, со вкусом выбранной материей – ни слишком дорогой, ни слишком простенькой; ничего кричащего, ничего экстравагантного или, как глупцы говорят, «артистического». Словом, туалет безукоризненный. В тридцать семь лет красота Туллии, как это свойственно многим француженкам, достигла своего расцвета. Ее лицо с прославленным овалом в эту минуту было божественно бледно. Она сняла шляпку, и мне был хорошо виден легкий пушок, подобный тому, что покрывает персики, он еще более смягчал необыкновенно изящные контуры ее щек. Лицо ее, обрамленное белокурыми локонами, выражало и грусть, и нежность. Серые лучистые глаза были затуманены слезами. Тонкий нос с трепещущими ноздрями, достойный украсить собой самую прекрасную римскую камею, маленький, почти детский рот, стройная царственная шея с чуть набухшими венами, подбородок, покрасневший от какой-то тайной тревоги, порозовевшие по краям уши, дрожавшие, затянутые в перчатки руки – все выдавало сильное душевное волнение. Нервное движение бровей изобличало скрытую душевную боль. В эту минуту она была прекрасна. Дю Брюэль был подавлен ее словами. Туллия бросила на нас проницательный и непроницаемый кошачий взгляд, свойственный лишь светским женщинам и актрисам; затем она протянула руку дю Брюэлю.
– Мой бедный друг, едва ты ушел, я осыпала себя тысячью упреков. Я обвиняла себя в самой черной неблагодарности, в том, что дурно себя вела! Я ведь очень дурно вела себя, правда! – обратилась она ко мне. – В самом деле, почему нам не принять твоих друзей? Разве ты не хозяин у себя дома? Хочешь знать разгадку всего этого? Так вот: я боюсь, что ты не любишь меня. Я колебалась между раскаянием и ложным стыдом, мешавшим признать свою неправоту. В газетах я прочла, что в театре Варьете сегодня премьера. Я решила, что ты, должно быть, захотел переговорить с кем-либо из сотрудников. Одна, я была слаба. Я оделась, чтобы бежать за тобой, мой бедный котик.
Дю Брюэль посмотрел на меня с победоносным видом. Он уже не помнил ни одного слова из всех своих утренних обличительных речей «противу Туллии».
– Нет, мой ангел, – сказал он, – я ни у кого не был.
– Как мы понимаем друг друга! – воскликнула она.
В тот момент, когда она произносила эти восхитительные слова, я заметил выглядывавшую у нее из-за пояса записку. Но мне и без того было ясно, что фантазии Туллии зависят от каких-то таинственных причин. Женщина, на мой взгляд, самое целеустремленное существо и уступает в этом отношении только ребенку. И женщина и ребенок – великолепный образец постоянного торжества сосредоточенной мысли. Хотя мысль ребенка меняется каждое мгновение, он с таким жаром стремится осуществить ее, что всякий невольно уступает ему, побежденный этой непосредственностью и силой желания. Мысль женщины меняется не так часто, и назвать ее взбалмошной способен только невежда. Всеми ее поступками руководит страсть. Наблюдаешь и поражаешься тому, как стремится она превратить эту страсть в центр вселенной. Туллия ластилась к дю Брюэлю, как кошка; семейный небосклон прояснился, и вечер прошел великолепно. Остроумный водевилист не замечал печали, таившейся в сердце его жены.
– Дорогой мой, – сказал он мне, – вот это – жизнь! Столкновения, контрасты!
– В особенности, когда это не разыграно, – заметил я.
– Я все понимаю, – ответил он. – Но без таких сильных ощущений можно было бы умереть со скуки. Ах, эта женщина обладает даром волновать меня!
После обеда мы отправились в Варьете; перед уходом я проскользнул в кабинет дю Брюэля и взял там со стола, среди груды различных ненужных бумаг, номер «Листка объявлений», где было помещено извещение о произведенной дю Брюэлем покупке особняка – обязательная формальность. В глаза мне бросились слова «По ходатайству Жана-Франсуа дю Брюэля и Клодины Шафару, его супруги…»; и это объяснило мне все. Спускаясь по лестнице, я взял Клодину под руку и постарался пропустить остальных вперед. Когда мы оказались одни, я сказал: «На месте ла Пальферина я никогда бы не отказался от свиданья». Клодина со значительным видом приложила палец к губам и спустилась вниз, пожав мне руку; она смотрела на меня с видимым удовольствием, зная, что я знаком с ла Пальферином. Знаете, какая мысль ей пришла? Она захотела сделать из меня своего соглядатая, но встретила лишь обычную для богемы шутливость.
Месяц спустя мы все вместе выходили из театра после первого представления новой пьесы дю Брюэля. Шел дождь. Я отправился на поиски фиакра: мы задержались на несколько минут в театре, и когда вышли, то у входа уже не оказалось ни одного экипажа. Клодина принялась бранить дю Брюэля и даже по дороге (они должны были завезти меня к Флорине) все еще продолжала ссору, говоря ему самые оскорбительные вещи.
– Что случилось? – спросил я.
– Дорогой мой, она бранит меня за то, что я разрешил вам сбегать за фиакром, и требует, чтобы у нее был собственный выезд.
– Когда я была прима-балериной, я утруждала свои ноги только на подмостках. Если вы человек благородный, вы сумеете сочинять по четыре лишних пьесы в год, зная, для какой цели они предназначаются, и ваша жена не будет больше шлепать по грязи. Какой стыд, что я должна просить об этом! Вы и сами могли бы догадаться о моих постоянных страданиях в продолжение пяти лет нашего супружества.
– Хорошо, я заведу выезд, но мы разоримся, – ответил дю Брюэль.
– Если придется наделать долгов, мы покроем их из наследства дядюшки, – сказала Клодина.
– Но ведь вы можете взять наследство себе, а мне оставить долги.
– Ах, вот вы как думаете? – возмутилась она. – В таком случае, я умолкаю. Больше мне говорить с вами не о чем.
Дю Брюэль рассыпался в извинениях, в уверениях в любви – она не отвечала. Он взял ее руки, она их не отняла, но руки были холодны и безжизненны, как у покойницы.
Туллии прекрасно удавалась эта роль существа безжизненного, которую, как вы знаете, так любят разыгрывать женщины, когда хотят доказать вам, что они отрекаются от собственных желаний, жертвуют своей душой, своим разумом, своей жизнью и смотрят на себя, как на вьючное животное. Ничто не действует так на мягкосердечного человека, как этот прием. Но женщины могут применять его только с теми, кто их обожает.
– Разве можно себе представить, – спросила она меня с невыразимо презрительным видом, – чтобы какой-нибудь граф высказал столь оскорбительное предположение, если бы даже он так думал. К несчастью, я была близка с герцогами, посланниками, вельможами, и мне известно их обращение. Как невыносима мещанская жизнь! Но, конечно, водевилист – это не Растиньяк и не Реторе…
Дю Брюэль был бледен как мертвец. Дня через два я встретил его в фойе Оперы; мы прогуливались вместе с ним; разговор коснулся Туллии.
– Не принимайте всерьез мои безумные слова, сказанные на бульваре, – обратился он ко мне. – Я очень вспыльчив.
Последние два года я довольно часто бывал у дю Брюэля и имел возможность внимательно наблюдать за ловкими маневрами Клодины. Вскоре у нее уже был блестящий выезд; дю Брюэль ударился в политику: она сумела заставить его отречься от прежних роялистских взглядов, он присоединился к сторонникам новой монархии и опять был водворен в ведомство, где когда-то служил. Клодина заставила его добиваться избрания в состав Национальной гвардии, и он был избран командиром батальона. Во время подавления одного мятежа он сумел отличиться и был награжден офицерским крестом ордена Почетного легиона и назначен докладчиком Государственного совета и начальником отделения. Дядюшка Шафару умер, оставив племяннице сорок тысяч франков ренты – около трех четвертей своего состояния. Дю Брюэль был избран депутатом, но прежде, чтобы не зависеть от переизбрания, он добился своего назначения на должность государственного советника и директора. Он переиздал свои археологические заметки, статистические работы и две политические брошюры, которые послужили поводом для его принятия в члены одной из снисходительных французских академий. В настоящее время он – командор ордена Почетного легиона и благодаря активному участию в интригах палаты только что получил звание пэра Франции и графский титул. Пока он еще не решается носить этот титул, но супруга его заказала себе визитные карточки, на которых напечатано: «Графиня дю Брюэль». Бывший водевилист имеет орден Леопольда, орден Изабеллы, крест Святого Владимира второй степени, баварский орден Гражданских заслуг, папский орден Золотой Шпоры – словом, у него немало мелких крестов помимо большого.
Месяца три назад Клодина подкатила к дому ла Пальферина в блестящем, украшенном гербом собственном экипаже. Дю Брюэль – внук откупщика, получившего дворянство в конце царствования Людовика Четырнадцатого; герб его был составлен Шереном, и графская корона вполне приличествует этому гербу, в котором нет ничего от нелепых гербов Империи. Итак, в три года Клодина выполнила все условия программы, которые предложил ей очаровательный шутник ла Пальферин. И вот однажды, с месяц тому назад, она поднимается по лестнице невзрачного дома, где живет ее возлюбленный, и во всем своем блеске, одетая, словно настоящая графиня из Сен-Жерменского предместья, взбирается в мансарду своего друга. При виде Клодины ла Пальферин заявляет:
– Я знаю, ты добилась для своего мужа звания пэра. Но слишком поздно, Клодина; все толкуют мне о Южном кресте, я хотел бы полюбоваться на него.
– Я добуду его для тебя, – ответила она.
Ла Пальферин разразился гомерическим хохотом.
– Нет, – сказал он, – я решительно не желаю иметь любовницей женщину невежественную, как индюшка, хотя ты, словно сорока, делаешь прыжки от кулис Оперы до двора, ибо я хочу видеть тебя при дворе короля-гражданина.
– Что это за Южный крест? – печально и смиренно спросила она меня.
Охваченный восторгом перед этим бесстрашием истинной любви, которая в реальной жизни, как в волшебных сказках, без колебаний бросается в бездну, чтобы добыть поющий цветок или перо Жар-птицы, я объяснил ей, что Южный крест – это скопление звезд в форме креста, более яркое, чем Млечный Путь, и видимое лишь в южных морях.
– Ну что ж, Шарль, – сказала она, – поедем туда.
Несмотря на свойственную ла Пальферину жестокость, на глазах его выступили слезы. Но какой взгляд и какой голос был у Клодины! Ни у одного из величайших актеров я не встречал ничего, что можно было бы сравнить по силе драматизма с движением Клодины, которая при виде слез, затуманивших этот всегда суровый для нее взгляд, упала на колени и приникла поцелуем к руке безжалостного ла Пальферина. Он поднял ее и, приняв величественный вид, который он называет осанкой Рустиколи, сказал:
– Полно, дитя мое, я что-нибудь сделаю для тебя. Я… упомяну тебя в своем завещании.
– Так вот, – сказал в заключение Натан г-же де Рошфид, – спрашивается, остался ли в дураках дю Брюэль? Конечно, нет ничего более смешного и странного, чем видеть, как молодой повеса шутки ради распоряжается судьбами супружеской четы, устанавливая свои законы и требуя исполнения малейших своих капризов, в угоду которым отменяются самые важные решения. Случай с обедом, как вы догадываетесь, повторялся еще не раз в самых разнообразных вариантах и в отношении самых серьезных вопросов! Но не будь всех этих причуд его жены, дю Брюэль до сих пор оставался бы просто водевилистом Кюрси, подобным сотням других писак; между тем он заседает теперь в палате пэров…»
– Надеюсь, вы измените имена, – сказал Натан г-же де ла Бодрэ.
– Конечно, – ответила она, – ради вас я скрою настоящие имена. Дорогой Натан, – прибавила она на ухо поэту, – я знаю другую семью, где роль дю Брюэля принадлежит жене.
– А развязка? – спросил Лусто, вошедший в ту минуту, когда г-жа де ла Бодрэ заканчивала чтение своего рассказа.
– Я не верю развязкам, – ответила г-жа де ла Бодрэ. – Их надо придумать несколько, да получше, чтобы показать, что искусство не уступает в силе случаю. Ведь литературное произведение, мой дорогой, перечитывают только ради подробностей.
– Развязка, однако, есть, – сказал Натан.
– Какая же? – спросила г-жа де ла Бодрэ.
– Маркиза де Рошфид без ума от Шарля-Эдуарда. Мой рассказ подстрекнул ее любопытство.
– Несчастная! – воскликнула г-жа де ла Бодрэ.
– Не столь уж несчастная! – ответил Натан. – Максим де Трай и ла Пальферин поссорили маркиза де Рошфид с госпожой Шонтц и собираются помирить Артура с Беатрисой. (См. «Беатриса» – «Сцены частной жизни»).
1839 – 1845 гг.
Пьер Грассу
Подполковнику артиллерии Периола – в знак искреннего уважения автора.
БальзакВсякий раз, когда вы посещаете выставку живописи и ваяния, устроенную на новый лад, – как это вошло в обычай после революции 1830 года, – не охватывает ли вас чувство растерянности, уныния и скуки при виде длинных, загроможденных галерей? С 1830 года Салона больше не существует. Лувр был вторично взят приступом художниками; и они там утвердились. В прежнее время, выставляя действительно избранные произведения искусства, Салон пользовался высоким уважением. Среди двухсот отобранных картин публика еще раз производила выбор, и неведомые руки венчали лаврами лучшее произведение. Вокруг картин разгорались страстные споры. Оскорбления, которыми осыпали Делакруа и Энгра, способствовали их известности не менее, чем славословия фанатичных приверженцев. Ныне вокруг произведений, выставленных на этом художественном базаре, не разгораются страсти ни посетителей, ни критики. Зрителям самим приходится заниматься отбором, который прежде был возложен на жюри, и этот труд утомляет их; когда же выбор сделан, выставка закрывается. До 1817 года принятые картины развешивались не далее двух первых колонн длинной галереи старых мастеров, а в нынешнем году они, к немалому изумлению публики, заполонили всю галерею.
Исторический жанр, жанр в узком смысле этого слова, станковая живопись, пейзаж, натюрморт, анималистическая живопись и акварельная – по всем этим семи видам живописи вряд ли следует выставлять более чем по двадцати картин, достойных обозрения публики, которой трудно сосредоточить внимание на большем количестве произведений. По мере увеличения числа художников жюри становилось более взыскательным. Но все было потеряно, как только Салон захватил всю галерею. Салону следовало бы занимать одну и ту же раз и навсегда установленную площадь, где все виды живописи были бы представлены лучшими произведениями. Десятилетний опыт доказал преимущество прежнего принципа отбора. Теперь вместо поединка перед вами свалка: вместо торжественной выставки – беспорядочный базар, вместо отобранного – все целиком. И что же? Истинный художник здесь только проигрывает. «Турецкая кофейня», «Дети у фонтана», «Казнь на крючьях», «Иосиф» Декана, выставленные в большом Салоне вместе с сотней лучших картин этого года, больше принесли бы ему славы, нежели двадцать его полотен, затерявшихся среди трех тысяч картин, занявших шесть галерей. И как ни странно, с тех пор как двери открылись для всех, повсюду заговорили о непризнанных гениях. Двенадцать лет назад, когда «Куртизанка» Энгра и «Куртизанка» Сигалона, «Медуза» Жерико, «Резня на острове Хиос» Делакруа, «Крещение Генриха IV» Эжена Девериа получили признание знаменитостей – строгих ревнителей искусства и возвестили миру, вопреки неодобрительным отзывам критики, о существовании молодых дарований, не раздалось ни одной жалобы. Теперь же, когда любой мазилка может свободно выставить свою работу, только и разговоров что о неоцененных талантах. Там, где нет отбора, нет и вещей отборных. Как бы там ни было, художники вернутся к старому порядку испытания, когда их творчество рекомендуют восторженному вниманию публики, для которой они работают. Без отбора Академии не будет Салона, а без Салона искусство может погибнуть.
С тех пор как каталог выставки стал объемистой книгой, в нем появилось множество имен никому не ведомых, хотя за ними и следует перечень десяти – двенадцати картин. Пожалуй, самое малоизвестное среди них – имя Пьера Грассу, живописца, приехавшего из Фужера, которого в кругу художников запросто зовут Фужером; теперь он уже занял прочное место под солнцем, и это наводит на горькие размышления, которыми и начинается рассказ о его жизни, похожей на жизнь многих других из племени художников.
В 1832 году Фужер жил на улице Наваррен, на пятом этаже одного из тех высоких и узких домов, похожих на Луксорский обелиск, в которых тесный вход почти тотчас переходит в крутую темную лестницу; на каждом этаже у них – не более трех окон, сзади расположен двор, говоря точнее – квадратный колодец. Над квартирой в три или четыре комнаты, занимаемой Грассу из Фужера, была расположена его мастерская с видом на Монмартр. Стены мастерской красно-бурого цвета, тщательно окрашенный натертый пол, простая, но опрятная кушетка, как в спальне лавочницы, на стульях – коврики с каймой: все говорило о бережливости и расчетливой жизни человека ограниченного и небогатого. Здесь стоял комод для хранения принадлежностей живописной мастерской, обеденный стол, буфет, секретер и лежали инструменты, необходимые художнику; все содержалось в чистоте и порядке. Изразцовая печь дополняла картину голландского уюта, еще более заметного при ровном свете зимнего солнца, заливавшего просторную комнату ясными холодными лучами. Фужеру, художнику-жанристу, не нужны были огромные сооружения, разоряющие живописцев исторического жанра; он не чувствовал в себе достаточных способностей для больших полотен и довольствовался станковой живописью. Однажды (это было в начале декабря, в пору, когда французские буржуа периодически страдают манией увековечивать свои и без того всем наскучившие физиономии) Пьер Грассу встал рано, растер краски, затопил печь и принялся есть хлебец, макая его в молоко; он не брался за работу, ожидая, пока оттают окна и свет проникнет в комнату. Была прекрасная сухая погода. Жуя хлеб с тем покорным и смиренным видом, который говорит о многом, художник услышал на лестнице шаги человека, игравшего в его жизни ту роль, какую обычно играют люди подобного рода в жизни всякого художника. То был Элиас Магус, торговец картинами, ростовщик от живописи. Элиас Магус застал художника в ту минуту, когда тот готовился приступить к работе в своей чистенькой мастерской.
– Как поживаете, старый плут? – обратился к нему Грассу, стараясь подделаться под фамильярный тон художников.
Фужер был награжден орденом, Элиас платил ему за картины по двести – триста франков.
– Торговля идет плохо, – ответил Элиас. – Все вы очень уж много о себе мните. На картине красок на шесть су, а вам подавай за нее двести франков… Но вы – добрый малый, вы – человек порядочный, и я пришел предложить вам славное дельце.
– Timeo Danaos et dona ferentesответил Фужер. – Вы знаете латынь?
– Нет.
– Так вот, это означает, что греки никогда не предлагали хороших дел троянцам без выгоды для себя… Некогда они говорили: «Возьмите моего коня!» Ныне мы говорим: «Возьмите моего медведя!» Что же вы хотите, Улисс-Лаженголь-Элиас Магус?
Эти слова дают представление о беззлобном остроумии Фужера и о шутках, имевших хождение в мастерских художников.
– Не скрою, вам придется сделать для меня даром две картины.
– Ого!
– Ну как хотите… я не требую… Вы честный художник.
– Но в чем дело?
– Я приведу к вам отца, мать и единственную дочь…
– Все единственные в своем роде?
– Вот именно. И надо написать их портреты. Эти почтенные буржуа без ума от искусства, но никогда еще они не отваживались войти в мастерскую. За дочкой сто тысяч франков приданого. Возьмитесь-ка да и напишите их портреты… Быть может, они станут вашими фамильными портретами.
Здесь этот старый немецкий чурбан, по имени Элиас Магус, почему-то слывущий человеком, оборвал свою речь и разразился дребезжащим смехом, который неприятно поразил художника: ему показалось, что он слышит Мефистофеля, рассуждающего о браке.
– За каждый портрет вам заплатят по пятьсот франков, – вам следовало бы сделать для меня три картины.
– Ну еще бы! – весело проговорил художник.
– А женитесь на дочери – не забудьте меня…
– Женюсь? Я?.. – вскричал Пьер Грассу. Я, привыкший спать один, вставать рано, вести правильный образ жизни…
– Сто тысяч франков, – возразил Магус, – и вдобавок приятная девица вся в золотистых тонах: чистейший Тициан.
– А кто они, эти люди?
– В прошлом – торговцы, теперь же – любители искусства; у них загородный дом в Виль д'Авре и от десяти до двенадцати тысяч франков годового дохода.
– А чем они торговали?
– Бутылками…
– Не произносите этого слова… Я так и слышу, как режут ножом пробки… У меня зубы ноют во рту.
– Так что ж, приводить их?
– Три портрета! Я выставлю их в Салоне… Может быть, стану портретистом… Ну ладно, приводите…
Элиас отправился за семейством Вервель. Чтобы понять, в какой мере его предложение могло заинтересовать художника и какое впечатление должна была произвести на него достопочтенная чета Вервель и единственная их дочь, необходимо бросить взгляд на прошлую жизнь Пьера Грассу из Фужера.
В годы ученичества Фужер изучал рисунок у Сервена, считавшегося в академических кругах замечательным рисовальщиком. Затем он перешел к Шиннеру, надеясь постичь тайну сочного, великолепного колорита, которым владел этот мастер. Но и учитель, и его ученики отличались скрытностью, – Пьеру ничего не удалось выведать. Отсюда Фужер перекочевал в мастерскую Сомервье, чтобы приобрести навыки в искусстве композиции; однако и композиция не далась ему. Потом он попытался вырвать у Гране, у Дроллинга тайну очарования их интерьеров: у этих мастеров ему тоже не удалось ничего похитить. В конце концов Фужер завершил свое образование у художника Дюваль-Лекамю. Все годы обучения, переходя от одного живописца к другому, Фужер отличался столь невозмутимым и уравновешенным нравом, что над ним насмехались во всех мастерских, где он побывал, но повсюду он обезоруживал своих сотоварищей скромностью, терпением и кротостью ягненка. Учителя не чувствовали расположения к этому славному малому: крупные художники любят людей блестящих, умы своеобразные, занимательные, пылкие или же мрачные и сосредоточенные, предвещающие будущее дарование. А в Грассу все говорило о посредственности. Само его прозвище – Фужер, которое носит художник в пьесе д'Эглантина, давало повод ко многим издевательствам, но бедняга в силу обстоятельств предпочел принять имя своего родного города: уж очень фамилия Грассу была под стать его внешности. Он был пухленький и приземистый, с бесцветным лицом, глаза у него были карие, волосы черные, нос утиный, большой рот и оттопыренные уши. Кроткое, добродушное и покорное выражение мало облагораживало его дышавшее здоровьем, но не энергичное лицо. Такую натуру наверняка не терзали ни бурные страсти, ни мятежные мысли, ни чувство иронии – свойства великих художников. Этот молодой человек был рожден для жизни добродетельного буржуа; в Париж он приехал, намереваясь поступить приказчиком к торговцу красками, уроженцу Майенны и дальнему родственнику д'Оржемонов; но из упрямства, свойственного бретонцам, сделался художником. Одному богу известно, сколько он выстрадал, как приходилось ему жить в годы ученичества! Он страдал подобно тому, как страдают великие люди, когда их душит нищета и, словно диких зверей, травит свора людей посредственных и толпа завистливых честолюбцев.
Как только Фужер решил, что у него окрепли крылья, он снял мастерскую на улице Мартир и с жаром принялся за работу. Грассу дебютировал в 1819 году. На первой картине, которую он представил жюри выставки в Лувре, была изображена деревенская свадьба, довольно жалко скопированная с картины Грёза. Полотно не приняли. Узнав о роковом решении, Фужер не впал в ярость от уязвленного самолюбия, подобно людям высокомерным, которые иной раз способны в порыве гнева вызвать на дуэль директора или секретаря музея, а то и пригрозить им расправой. Он спокойно забрал картину, завернул ее в платок, принес в свою мастерскую и дал себе клятву стать великим художником. Грассу поставил картину на станок и отправился к своему бывшему учителю Шиннеру, человеку мягкому и уравновешенному, художнику огромного дарования, имевшему бурный успех на последней выставке в Салоне. Фужер попросил его указать недостатки отвергнутого произведения. Великий художник бросил все дела и пришел к нему в мастерскую. Но когда бедняга подвел его к картине, Шиннер, едва бросив на нее взгляд, схватил Грассу за руку.
– Ты славный малый, у тебя золотое сердце, обманывать тебя нельзя. Так вот, слушай: все, что ты обещал в мастерской, – ты выполнил. Но когда из-под кисти художника выходят такие… штуки, лучше не брать красок у Брюллона и не отнимать холста у других. Вернись нынче домой пораньше, надень ночной колпак, ляг спать в девять часов вечера, а поутру отправляйся к десяти часам в какую-нибудь канцелярию искать себе место; а искусство оставь.
– Друг мой, – ответил Фужер, – картина моя уже осуждена. Я хотел бы услышать не приговор, а его основания.
– Хорошо. Колорит у тебя тусклый, ты видишь натуру в темных тонах; рисунок у тебя тяжелый, расплывчатый; твоя композиция – подражание Грёзу, но он искупал свои слабые стороны такими достоинствами, каких у тебя нет.
Разбирая недостатки картины, Шиннер заметил на лице Фужера выражение глубокой печали; он повел его обедать и постарался утешить, как мог.
На следующий день с семи часов утра Фужер снова работал над отвергнутой картиной; он оживил краски, внес поправки, подсказанные Шиннером, подправил лица. Но затем он почувствовал отвращение к этой подмалевке и отнес картину к Элиасу Магусу. Элиас Магус, весьма своеобразная помесь голландца, бельгийца и фламандца, имел тройное основание стать тем, кем он и стал, – богатым скрягой. В то время он приехал в Париж из Бордо и занялся торговлей картинами на бульваре Бон-Нувель. Фужер, который зарабатывал себе на жизнь своей кистью, стойко питался хлебом и орехами, хлебом и молоком, хлебом и вишнями или хлебом и сыром – смотря по сезону. Когда Грассу принес Элиасу Магусу свою первую картину, тот долго приглядывался к ней и предложил художнику пятнадцать франков.
– При заработке пятнадцать франков в год и расходах в тысячу франков, – сказал Фужер, улыбаясь, – далеко пойдешь…
Элиас Магус досадливо поморщился. Он мысленно выругал себя, сообразив, что мог бы получить картину за пять франков. Несколько дней подряд Фужер каждое утро спускался по улице Мартир, останавливался против лавки Магуса на противоположной стороне бульвара и, прячась в толпе, пристально смотрел на свою картину, не привлекавшую ничьих взглядов. В конце недели картина исчезла. Фужер перешел бульвар и, как бы прогуливаясь, направился к лавке Магуса. Элиас стоял на пороге.
– Я вижу, моя картина продана?
– Вот она, – ответил Магус, – я хочу вставить ее в раму, тогда можно будет предложить ее кому-нибудь, кто мнит себя знатоком живописи.
Фужер не решался больше появляться на бульваре. Он начал писать новую картину и два месяца работал над ней, питаясь, как мышь, и работая, как каторжник.
Однажды вечером он все же пришел на бульвар, и ноги сами привели его к лавке Магуса; картины нигде не было.
– Я продал вашу картину, – сказал торговец художнику.
– За сколько?
– Вернул свое с небольшой прибылью. Сделайте для меня фламандские интерьеры, урок анатомии, пейзаж. В цене сойдемся, – добавил Элиас.
Фужер едва не схватил его в объятья. Он посмотрел на торговца, как на отца родного. С радостью в сердце Грассу вернулся домой. Значит, великий художник Шиннер ошибся: в огромном Париже нашлись родственные Грассу души, его дарование поняли и оценили. Бедный малый был в двадцать семь лет простодушен, как шестнадцатилетний юнец. Окажись на его месте другой – недоверчивый и подозрительный художник, от него не ускользнуло бы сатанинское выражение, промелькнувшее в глазах Элиаса Магуса, он заметил бы, как вздрагивала его бородка, иронически топорщились усы и подергивались плечи, – ни дать ни взять иудей в романе Вальтера Скотта, надувающий христианина.
Фужер прошелся по бульвару, радость придавала его лицу горделивое выражение. Он был похож на лицеиста, который завел любовницу. Он встретил своего сотоварища Жозефа Бридо, одного из тех своеобразных талантов, которым суждено изведать и славу, и несчастье. Бридо заявил, что у него бренчат деньги в кармане, и повел Фужера в Оперу. Но тот не видел балета, не слышал музыки – он обдумывал картины, он творил. В середине представления Грассу покинул Жозефа Бридо и побежал домой писать эскизы при свете лампы; он придумал тридцать подражательных картин, он поверил в свою гениальность. На следующий день он накупил красок, холстов различного размера, положил на стол хлеб, сыр, наполнил кувшин водой, запасся дровами для печки; затем принялся, по выражению художников, корпеть над картинами; у него были кое-какие модели, а Магус одолжил ему ткани. После двухмесячного затворничества бретонец закончил четыре картины. Он вновь обратился за советом к Шиннеру, призвал на помощь и Бридо.
Оба художника нашли, что три его картины – рабское подражание голландским пейзажам, интерьерам Метсу, а четвертая – копия «Урока анатомии» Рембрандта.
– Опять списки, – заметил Шиннер. – Ах, Фужер, нелегко тебе найти собственное лицо…
– Брось живопись, займись другим делом, – посоветовал Бридо.
– Но чем же?
– Попробуй силы в литературе…
Фужер повесил голову, как овца под дождем. Но затем, порасспросив друзей и получив несколько полезных указаний, он подправил кое-где картины и отнес их Элиасу Магусу. Тот заплатил ему по двадцать пять франков за каждую. Фужер ничего не заработал, но благодаря крайне скромному образу жизни не остался и в убытке.
Время от времени он ходил смотреть, что сталось с его картинами, и однажды оказался во власти какой-то странной галлюцинации. Его картины, аккуратно выписанные, гладкие, жесткие на взгляд, как листовое железо, и блестевшие, как живопись по фарфору, словно подернулись туманом и стали похожи на полотна старых мастеров. Элиас куда-то отлучился, и Фужеру не удалось добиться разгадки этого странного явления. Он решил, что ему все почудилось, и вернулся к себе в мастерскую писать новые подражания старым картинам. После семилетнего упорного труда Фужер сносно овладел композицией и писал не хуже других второстепенных художников. Элиас покупал и перепродавал все картины бедняги бретонца. Пьер Грассу с трудом зарабатывал сотню луидоров в год и расходовал не больше тысячи двухсот франков.
При организации выставки в 1829 году Леон де Лора, Шиннер и Бридо – все трое пользовались в ту пору большим влиянием в мире искусства и возглавляли тогдашнюю живопись – настояли из жалости к своему старому приятелю, так упорно работавшему и прозябавшему в бедности, чтобы картина его была принята на выставку; произведение повесили в Салоне. Эта картина, производившая большое впечатление и проникнутая чувством, подобно картинам Виньерона, была написана в ранней манере Дюбюфа. На ней изображен молодой человек, которому в тюрьме выбривают затылок. По одну сторону от него – священник, по другую – старуха и молодая женщина в слезах. Судейский писец читает какую-то гербовую бумагу. На грубом столе – нетронутая еда. Сквозь высоко прорезанное окно с железной решеткой падает луч света. Картина способна была вызвать трепет у буржуа, и буржуа содрогались. Между тем Фужер просто-напросто позаимствовал сюжет известной картины Герарда Доу «Женщина, больная водянкой», но он повернул группу к окну, вместо того чтобы показать ее с лица, заменил умирающую осужденным, сохранив тот же взгляд, ту же бледность, тот же призыв к богу; вместо врача-фламандца он написал холодную, сухую фигуру судейского писца в черном. Возле молодой девушки из группы Герарда Доу он нарисовал еще и старуху; наконец, среди других лиц выделялась жестокая и вместе с тем благодушная физиономия палача. Никто не обнаружил ловко скрытого плагиата. В каталоге значилось:
510. Грассу из Фужера (Пьер), улица Наваррен. 2. Последние часы шуана, приговоренного к смерти в 1809 году.
Эта посредственная картина имела шумный успех, ибо напоминала о деле мортаньских «поджаривателей». Каждый день перед этим модным произведением толпились посетители выставки; как-то раз перед ним остановился Карл X. Герцогиня Беррийская, узнав, как трудно живется бедному бретонцу, преисполнилась к нему сочувствием. Герцог Орлеанский осведомился о стоимости картины. Духовенство высказало супруге дофина свое мнение, заверив, что картина проникнута благочестивым настроением. И действительно, религиозное чувство окрашивало ее вполне достаточно. Его высочество дофин пришел в восхищение от слоя пыли на плитах пола – грубейшая ошибка, ибо Фужер разбросал зеленоватые тона, свидетельствовавшие о сырости у основания стен. Герцогиня Беррийская приобрела картину за тысячу франков, дофин заказал художнику другую. Карл X пожаловал орденом сына бретонского крестьянина, сражавшегося за дело короля в 1799 году. Великий художник Жозеф Бридо не был награжден. Министр внутренних дел заказал Фужеру две картины на религиозные темы.
Выставка 1829 года положила начало жизненному благополучию, славе, будущности Пьера Грассу. В любой области создавать – значит медленно сгорать; копировать – значит прозябать. Напав наконец на золотую жилу, Грассу подтвердил своим успехом то жестокое правило, благодаря которому во всех слоях общества процветают жалкие посредственности, получившие право избирать по своему вкусу выдающихся людей; они, понятно, избирают себе подобных и ведут ожесточенную войну с подлинными талантами. Применять ко всему избирательный принцип неверно. Франция от этого откажется. Тем не менее скромность, простота, изумление доброго и кроткого Фужера заставили умолкнуть ропот зависти и обиды. Кроме того, за него были все Грассу, уже преуспевшие, сочувствующие Грассу выдвигающимся. Некоторых трогала энергия человека, которого ничто не могло обескуражить, и, вспоминая о Доменикино, они говорили: «В искусстве следует поощрять усердие! Грассу честно заслужил свой успех! Бедняга уже десять лет трудится в поте лица!» Слова «бедняга» и «в поте лица» были подоплекой доброй половины всех одобрений и поздравлений, которые получил художник. Жалость так же помогает посредственности подняться, как зависть старается принизить великих художников. Газеты не поскупились на критику, но новоиспеченный кавалер ордена Почетного легиона перенес ее с той же ангельской кротостью, с какой переносил советы друзей. Сколотив к тому времени упорным трудом пятнадцать тысяч франков, Грассу обставил свою квартиру и мастерскую на улице Наваррен, написал картину для его высочества дофина и две картины, заказанные министром, выполнив их к сроку с точностью, мало приятной для кассы министерства, привыкшей к проволочкам. Как не позавидовать счастью людей аккуратных! Опоздай Грассу, он ничего не получил бы: вскоре произошла Июльская революция! К тридцати семи годам Фужер написал для Элиаса Магуса около двухсот никому не известных картин; в работе над ними он набил руку и приобрел сносную манеру выполнения, заставляющую художника пожимать плечами, но столь любезную сердцу буржуа. Друзья ценили Фужера за прямоту взглядов, за постоянство чувств, безотказную услужливость и честность. Они не уважали его как художника, но любили как человека. «Как жаль, – говорили они, – что у Фужера пристрастие к живописи!» Тем не менее Грассу давал очень дельные советы, подобно тем фельетонистам, которые сами не способны написать ни одной книги, но прекрасно знают, чем грешит чужая. Однако между Фужером и литературными критиками было одно существенное различие: он был в высокой степени чувствителен к красоте, умел ее видеть, в его советах всегда было чувство меры и справедливости, поэтому к его мнению прислушивались.
После Июльской революции Фужер посылал на каждую выставку с десяток картин, из которых жюри принимало четыре или пять. Он вел скромный образ жизни и держал только одну служанку. Он не знал иных развлечений, кроме посещения друзей и осмотра произведений искусства; иногда он разрешал себе небольшие поездки по Франции; собирался даже поехать в Швейцарию, чтобы найти там источники вдохновения. Этот никудышный художник был отменным гражданином: он нес караул в национальной гвардии, являлся на смотры, платил за квартиру и за все свои покупки с аккуратностью самого добропорядочного буржуа. Жизнь его протекала в трудах и заботах, и у него никогда не было досуга для любви. Грассу был холост и небогат и не собирался усложнять женитьбой свое несложное существование. Он не был способен изобрести какой-либо способ приумножать свои капиталы и каждые три месяца относил нотариусу Кардо весь заработок и сбережения. Когда на текущем счету Грассу накапливалась тысяча экю, нотариус помещал их под первую закладную с ограничением прав жены, если закладчик был женат, или с ограничением прав продажи, если закладчику предстояло произвести какие-нибудь платежи. Нотариус сам взимал проценты и присоединял их к тем взносам, которые время от времени делал ему Грассу из Фужера. Художник с нетерпением ожидал того вожделенного дня, когда его вложения начнут приносить кругленькую сумму в две тысячи франков годового дохода и он сможет позволить себе otium sum dignitate художника; тогда он будет писать картины; но какие картины! Картины настоящие! Картины законченные, из ряда вон выходящие, потрясающие, сногсшибательные! Хотите ли вы знать его мечты о счастье, о будущем, предел его упований? Стать членом Академии, получить офицерский крест ордена Почетного легиона, сидеть рядом с Шиннером и Леоном де Лора, пройти в Академию раньше Бридо. Офицерская орденская ленточка в петлице! Какие мечты! Только посредственность умеет думать обо всем этом!..
Заслышав шаги на лестнице, Фужер взбил хохол, застегнул бархатную куртку зеленовато-бутылочного цвета и к немалому удивлению увидел просунувшуюся в дверь мастерской физиономию того типа, который художники называют в насмешку арбузом. Сей плод возвышался над пузатой тыквой, облеченной в синий суконный сюртук, украшенный связкой позвякивающих брелоков. Арбуз тяжело отдувался, тыква выступала на ногах, напоминавших брюквы. Настоящий художник создал бы именно такой шарж на этого торговца бутылками и немедленно выставил бы его за дверь, заявив, что овощей он не рисует. Но Фужер не рассмеялся при виде заказчика: на манишке г-на Вервеля сверкал бриллиант ценой в тысячу экю.
Взглянув на Магуса, Фужер пробормотал: «Жирный кусочек».
Услышав это выражение, принятое в среде художников, Вервель нахмурился. Сей торговец вел за собой другие сорта овощей в лице своей супруги и дочери. Физиономия супруги была «отделана под красное дерево», а вся она походила на кокосовый орех, перехваченный поясом и увенчанный головкой. Она катилась на круглых ножках, одетая в желтое платье с черными полосами, и горделиво выставляла напоказ экстравагантные митенки, обтягивавшие ее руки, вздутые, словно перчатки на вывесках. На шляпе ее колыхались страусовые перья, обычно украшающие катафалк на торжественных похоронах; на пышные шарообразные плечи ниспадали спереди и сзади кружевные оборки; таким образом, сферические контуры кокосового ореха были выдержаны полностью. Ее ноги – художники называют такие ноги колодами – выпирали пухлыми складками из лакированных полусапожек. Как эти ноги влезли в башмаки – уму непостижимо!
Следом выступала молодая спаржа в зеленовато-желтом платье; у нее была маленькая головка с гладко уложенными волосами морковно-желтого цвета, столь излюбленного римлянами, веснушки на довольно белой коже, большие невинные глаза с белесыми ресницами и жиденькими бровями, добродетельные красные и жилистые руки и ноги, как у матери; ее шляпка из итальянской соломки, обшитая белой атласной ленточкой, была украшена двумя наивными шелковыми бантами. Пока все трое осматривали мастерскую, на их счастливых лицах было написано почтительное восхищение искусством.
– Так это вы, сударь, сделаете наши изображения? – спросил отец, напыжившись для храбрости.
– Да, сударь, – ответил Грассу.
– Вервель, у него крест, – шепнула супруга, когда художник повернулся спиной.
– Разве я стал бы заказывать портреты художнику, не удостоенному награды?.. – произнес бывший торговец бутылками.
Элиас Магус откланялся и вышел; Грассу проводил его до лестничной площадки.
– Только вы способны выудить таких головастиков!
– Сто тысяч франков приданого!
– Да, но что за семейка!
– Виды на наследство в триста тысяч франков, дом на улице Бушера и загородный дом в Виль д'Авре.
– Бушера, будущность, бутылки, – бубнил художник.
– Вы будете обеспечены до конца дней своих, – сказал Элиас.
Эта мысль сверкнула в голове Пьера Грассу подобно лучу света, озарявшего поутру его мансарду. Усаживая отца молодой особы, художник уже находил, что у него приятная внешность, и даже залюбовался буйными красками его лица. Мать и дочь порхали вокруг художника, восторгались его приготовлениями, – он им казался полубогом. Их нескрываемое восхищение льстило Фужеру: на эту семью падал волшебный отблеск золотого тельца.
– Вы, должно быть, зарабатываете бешеные деньги? Но и тратите их, верно, так же легко, как зарабатываете, – проговорила г-жа Вервель.
– Нет, сударыня, – ответил художник, – я не трачу их, у меня нет возможности развлекаться; нотариус пускает в оборот мои деньги и ведает моим счетом; отдав ему деньги, я о них уже больше не думаю.
– А мне… мне говорили, что у всех художников – дырявые карманы! – вскричал Вервель.
– Не будет нескромным спросить, кто ваш нотариус? – полюбопытствовала г-жа Вервель.
– Славный малый, воплощенная честность – Кардо.
– Да что вы! Вот потеха! Кардо ведь и наш нотариус! – воскликнул Вервель.
– Не двигайтесь, – сказал художник.
– Да сиди же спокойно, Антенор, ты мешаешь господину художнику, а если бы ты видел, как он работает, ты понял бы…
– Боже мой! Почему вы не обучали меня искусствам? – обратилась Виржини к своим родителям.
– Виржини! – вскричала г-жа Вервель. – Молодая девица не должна знать некоторых вещей. Вот выйдешь замуж… там видно будет! А до тех пор веди себя скромнее!
За время первого сеанса между семейством Вервель и почтенным художником установилась некоторая близость. Следующий сеанс должен был состояться через два дня. Выйдя из мастерской, родители велели Виржини идти впереди, но она все же уловила отдельные слова, смысл которых не мог не возбудить ее любопытства.
Человек с орденом… тридцать семь лет… художник, имеет заказы, помещает деньги у нашего нотариуса… Посоветуемся с Кардо?.. Называться госпожой де Фужер. Гм? Он, видимо, неплохой человек… Ты скажешь – торговец… Но пока торговец не удалился от дел, нельзя знать, что станется с нашей дочерью! А бережливый художник… К тому же мы любим искусство… Ну, посмотрим!..
Пока Пьер Грассу занимал мысли семьи Вервель, семья Вервель занимала мысли Пьера Грассу. Ему не сиделось в тихой мастерской, он отправился побродить по бульвару и внимательно приглядывался ко всем проходившим мимо рыжим женщинам. Он предавался странным размышлениям: золото – самый прекрасный металл, желтый цвет – цвет золота, римлянам нравились рыжеволосые женщины, он уподобился римлянам и т.д… Какой мужчина после двухлетнего супружества обращает внимание на цвет волос своей жены… Красота проходит, но безобразие остается… Деньги – залог счастья. Вечером, ложась в постель, он уже находил Виржини Вервель очаровательной.
Когда Вервели явились на следующий сеанс, художник встретил их любезной улыбкой. Злодей подстриг бороду, причесался к лицу, надел тонкое крахмальное белье, лучшие панталоны и красные домашние туфли с острыми загнутыми носками. Супруги улыбнулись ему в ответ не менее любезно, а Виржини зарделась под цвет своих волос, опустила глаза и, отвернувшись, принялась разглядывать этюды. Это жеманство показалось Грассу очаровательным. Виржини была мила и, к счастью, не походила ни на мать, ни на отца. В кого же она пошла?
«А, вот оно что! – решил художник. – Мамаша, верно, заглядывалась на какого-нибудь приказчика».
Во время сеанса Грассу и семейство Вервель перебрасывались шутками, и Фужер отважился найти старика Вервель остроумным. После этого признания в его сердце стремительно ворвалась симпатия ко всему семейству, и он преподнес Виржини один из своих набросков, а матери подарил эскиз.
– Даром? – спросили они.
Грассу не удержался от улыбки.
– Не следует так раздавать свои картины: это деньги, – заметил Вервель.
На третьем сеансе папаша Вервель заговорил о замечательном собрании картин в его загородном доме в Виль д'Авре: там есть полотна Рубенса, Герарда Доу, Мириса, Терборха, Рембрандта, Пауля Поттера и даже один Тициан.
– Господин Вервель совершал безумства, – напыщенно заявила г-жа Вервель, – у нас картин на сто тысяч экю.
– Я люблю искусство, – заявил бывший торговец бутылками.
Когда Фужер, почти закончив портрет супруга, начал писать портрет г-жи Вервель, восторг семейства не знал уже границ. Нотариус отозвался о художнике с лучшей стороны. В его глазах Пьер Грассу был честнейшим малым, одним из наиболее добропорядочных художников, вдобавок он уже скопил тридцать шесть тысяч франков. Время лишений для него миновало, он зарабатывал до десяти тысяч франков в год, обращал проценты в капитал и, самое главное, уж конечно, не способен сделать женщину несчастной. Последняя фраза окончательно перетянула чашу весов. Теперь друзья семейства Вервель только и слышали разговоры о знаменитом Фужере. В день, когда Грассу принялся писать портрет Виржини, он уже был in petto зятем семьи Вервель. Вервели буквально расцветали в его мастерской, они чувствовали себя здесь, как дома. Их неизъяснимо влекла к себе эта чистенькая, прибранная, уютная мастерская художника. Abyssus abyssum, буржуа тянется к буржуа. Однажды к концу сеанса на лестнице что-то загромыхало, дверь с шумом распахнулась, и на пороге появился Жозеф Бридо. У него был крайне возбужденный и измученный вид; волосы были растрепаны, глаза метали молнии. Он обежал вокруг мастерской и внезапно подскочил к Грассу, тщетно пытаясь застегнуть сюртук: пуговица выпала из суконной обтяжки.
– Дела плохи! – бросил он Грассу.
– Что с тобой?
– За мной по пятам кредиторы… Слушай, ты рисуешь эти… штуки?
– Да тише, ты!
– А-а, так так!
Семейство Вервель, безмерно возмущенное этим странным вторжением, сменило свой обычно красный цвет на ярко-багровые тона пламени.
– Деньги загребаешь? – закричал Бридо. – Завелись кругленькие в кошельке?
– Сколько тебе нужно?
– Пятьсот… За мной гонится заимодавец из породы догов – такой, если вцепится зубами, уж не отпустит, не оторвав куска… Такая порода!
– Я дам тебе записку к моему нотариусу.
– У тебя есть нотариус?
– Да.
– Тогда понятно, что ты все еще пишешь щеки этими розовыми тонами… До чего хороши!.. Хоть на вывеску парфюмерной лавки.
Грассу не мог скрыть смущения: ему позировала Виржини.
– Бери натуру такой, какова она есть, – продолжал великий художник. – Мадмуазель – рыжая. Ну что ж, разве это смертный грех? В живописи все великолепно. Положи-ка на палитру киноварь, оживи эти щеки, разбросай по ним коричневые крапинки, а здесь – подмажь маслом! Неужели ты думаешь, что у тебя больше разума, чем у природы?
– Вот что, – предложил Фужер, – займи мое место, покамест я напишу нотариусу.
Вервель подкатился к Грассу и наклонился к его уху.
– Этот грубиян все как есть испортит, – зашептал торговец.
– Согласись только он написать вашу Виржини, портрет вышел бы в тысячу раз лучше, – с негодованием ответил Фужер.
Услышав эти слова, г-н Вервель смиренно попятился к своей супруге, ошеломленный вторжением дикого зверя и весьма мало довольный тем, что тот приложит руку к портрету его дочери.
– Следуй намеченному, – сказал Бридо, отдавая Грассу палитру и беря у него записку. – Ну, я тебя не благодарю! Теперь я могу вернуться в особняк д'Артеза – я там расписываю столовую, а Леон де Лора занимается украшением входа. Здорово выходит! Приходи посмотреть…
И он ушел не попрощавшись, так наскучило ему глядеть на Виржини.
– Кто этот человек? – спросила г-жа Вервель.
– Великий художник, – ответил Грассу.
Минуту длилось молчание.
– Вы уверены, что он не испортил моего портрета? – спросила Виржини. – Он меня напугал.
– Он его только улучшил! – ответил Грассу.
– Пусть он и знаменитый художник, но мне больше по сердцу знаменитости, похожие на вас, – промолвила г-жа Вервель.
– Ах, мама, господин Фужер еще более знаменитый художник. Он нарисует меня во весь рост, – заявила Виржини.
Выходки гения ошеломили этих добропорядочных буржуа…
Наступили дни ранней осени, так своеобразно называемой летом святого Мартина. Робко, как новопосвященный в присутствии гения, г-н Вервель решился пригласить Грассу провести воскресный день в их загородном доме, извиняясь, что художник найдет там лишь общество простых смертных, мало привлекательное для него.
– Вам, артистам, – проговорил он, – нужны сильные переживания, грандиозные зрелища, умные собеседники! Но мы угостим вас хорошим винцом; а моя картинная галерея, надеюсь, вознаградит вас за скуку, которую такому художнику, как вы, придется испытать среди торговых людей.
Это преклонение, столь ласкавшее самолюбие, очаровало Пьера Грассу, не привыкшего к подобным восхвалениям. Этот славный малый, золотое сердце, человек скромной жизни, этот посредственный художник, бесталанный рисовальщик, награжденный по королевскому указу орденом Почетного легиона, в полном параде отправился насладиться последними погожими деньками в Виль д'Авре. Он скромно приехал в дилижансе и залюбовался красивым загородным домом торговца бутылками, живописно расположенным посреди парка в пять арпанов на возвышенности Виль д'Авре. Жениться на Виржини значило стать в один прекрасный день владельцем этого дома! Вервели встретили его так восторженно, с такой радостью, сияя таким добродушием, проникнутым откровенной мещанской глупостью, что он даже смутился. То был торжественный день. Жениха водили по аллеям цвета нанки, старательно расчищенным по случаю приезда знаменитого человека. Деревья, казалось, были причесаны, газоны подстрижены. В чистом деревенском воздухе разливались живительные кухонные запахи. Все в этом доме говорило: «Нас посетил знаменитый художник». Низенький папаша Вервель катился, как яблочко, по аллеям парка, дочка извивалась, как угорь, а мамаша выступала чинно и благородно. Эти три существа семь часов кряду ни на минуту не отходили от Пьера Грассу. После обеда, продолжительность которого равнялась его пышности, г-н и г-жа Вервель преподнесли главное угощение – осмотр галереи, освещенной выигрышно развешанными лампами. Трое соседей, бывшие торговцы, богатый дядюшка, приглашенные чествовать знаменитого художника, старая дева, родственница семьи, и другие гости последовали за Грассу, любопытствуя узнать его мнение о знаменитой картинной галерее Вервеля, который надоедал им постоянными разговорами о баснословной стоимости своих картин. Бывший торговец бутылками, казалось, вознамерился соперничать с королем Луи-Филиппом и галереями Версаля. Картины у него висели в великолепных рамах; на маленьких дощечках черными буквами по золотому фону было выведено:
РУБЕНС
Танец фавнов и нимф
РЕМБРАНДТ
Зал анатомии.
Доктор Тромб читает лекцию ученикам
Всего насчитывалось сто пятьдесят картин, покрытых лаком, без единой пылинки; кое-какие полотна были задернуты зелеными занавесками, которые не раздвигались в присутствии молодых девиц.
Художник замер на месте, бессильно уронив руки, разинув рот, не в силах выговорить ни слова: половину галереи занимали его собственные картины. Он был и Рубенс, и Пауль Поттер, и Мирис, и Метсу, и Герард Доу! Он совмещал в своем лице двадцать великих мастеров!
– Что с вами? Вы побледнели! Дочка, принеси воды! – вскричала г-жа Вервель.
Художник схватил папашу Вервеля за пуговицу фрака и отвел в уголок под предлогом осмотра картины Мурильо; в то время испанские художники были в моде.
– Вы купили картины у Элиаса Магуса?
– Да, и все – подлинники!
– Скажите мне по секрету, за сколько он продал вам те, которые я укажу?
Вдвоем они обошли галерею. Гости умилялись, глядя, как внимательно художник в сопровождении г-на Вервеля рассматривал шедевры искусства.
– Три тысячи франков, – шепнул Вервель, подходя к последней картине. – Но я говорю всем, что заплатил сорок тысяч.
– Сорок тысяч франков за Тициана! – воскликнул художник. – Да ведь это даром!
– Я же говорил вам, что у меня картин на сто тысяч экю!
– Послушайте, да ведь это я написал все эти картины, – шепнул ему на ухо Пьер Грассу. – И получил за все не более десяти тысяч франков.
– Докажите это, – ответил торговец бутылками, и я увеличу вдвое приданое дочери: значит, вы – Рубенс, Рембрандт, Терборх, Тициан!
– А Магус – несравненный продавец картин! – воскликнул художник; ему наконец стало понятно, почему его картины приобретали старинный вид и зачем торговец заказывал такие сюжеты.
Отнюдь не потеряв уважения своего почитателя, г-н де Фужер, – так семья Вервель упорно величала Пьера Грассу, – проявил такую щедрость, что написал бесплатно портреты всего семейства и преподнес их своему тестю, теще и жене.
Ныне Пьер Грассу не пропускает ни одной выставки и слывет в буржуазных кругах хорошим портретистом. Он портит холста на пятьсот франков и зарабатывает тысяч двенадцать в год. Жена его получила в приданое капитал, который приносит шесть тысяч франков ренты; зять живет вместе с тестем и тещей. Вервели и Грассу прекрасно ладят друг с другом, они имеют собственный выезд и принадлежат к числу самых счастливых людей на свете. Пьер Грассу вращается в замкнутом буржуазном кругу, где его считают одним из крупнейших художников нашего времени. И если кому-либо из живущих между заставой дю Трон и улицей Тампль приходит желание обзавестись фамильным портретом, его заказывают не иначе как Пьеру Грассу и платят не меньше пятисот франков. У буржуа есть веский довод, побуждающий их обращаться именно к этому художнику: «Что ни говори, а он ежегодно вносит двадцать тысяч франков своему нотариусу!» Так как Грассу проявил себя с лучшей стороны во время восстания 12 мая, он был награжден офицерским крестом ордена Почетного легиона и теперь командует батальоном национальной гвардии. Версальскому музею было неудобно не поручить заказа на картину столь благонамеренному гражданину; и Грассу нарочно разгуливал по всему Парижу, чтобы при встречах со старыми друзьями бросить им с небрежным видом: «Король поручил мне написать сражение!»
Госпожа Фужер обожает своего мужа, она подарила ему двоих детей. Но этот живописец, хороший супруг и отец, не может отогнать от себя роковой мысли: художники насмехаются над ним, его имя стало в мастерских презрительной кличкой, критика не занимается его произведениями. Однако он упорно работает, мечтает об Академии и, несомненно, попадет туда. Кроме того, Грассу облегчает душу мщением особого рода: он скупает картины знаменитых художников, оказавшихся в стесненных обстоятельствах, и заменяет свою мазню в галерее Виль д'Авре чужими, но подлинными шедеврами.
Мы знаем бездарных людей куда более заносчивых и злобных, чем Пьер Грассу, который занимается благотворительностью, не выставляя этого напоказ, и отличается безукоризненной любезностью.
Париж, декабрь 1839 г.
Тайны княгини де Кадиньян
ТЕОФИЛЮ ГОТЬЕ
После бедствий Июльской революции, которая разорила ряд аристократических семей, преданных двору, княгиня де Кадиньян, выказав большую находчивость, отнесла за счет политических событий и свое полное разорение, вызванное ее расточительностью. Князь покинул Францию с королевской семьей, оставив княгиню в Париже, огражденной благодаря его отсутствию от каких-либо посягательств, ибо тяжесть долгов, которые не могла покрыть продажа недвижимого имущества, падала только на него. На доходы майората был наложен арест. Словом, дела этой знатной семьи были в таком же плачевном состоянии, как и дела старшей ветви дома Бурбонов.
Женщина эта, столь известная под своим первым именем герцогини де Мофриньез, приняла тогда мудрое решение жить в полном одиночестве и желала заставить забыть о себе. Париж был в то время захвачен таким головокружительным потоком событий, что вскоре герцогиня де Мофриньез, погребенная в княгине де Кадиньян, – перемена имени, неизвестная большинству лиц, которые очутились на общественной арене после Июльской революции, – сделалась в нем как бы иностранкой.
Во Франции герцогский титул выше всех остальных, даже княжеского, хотя, по геральдическим понятиям, очищенным от всяких софизмов, титулы решительно ничего не значат и между дворянами существует полнейшее равенство. Когда-то королевский дом Франции тщательно оберегал это замечательное равенство, да и в наши дни оно, хотя бы внешне, еще заботливо поддерживается королями, которые дают своим детям простые графские титулы. Именно в силу этой системы Франциск I заменил все великолепие титулов, какие давал себе чванный Карл V, подписавшись: Франциск, сеньор де Ванв. Еще лучше сделал Людовик XI, выдав свою дочь замуж за дворянина без всякого титула Пьера де Боже. Впрочем, Людовику XIV удалось настолько разрушить систему феодальных установлений, что в его монархии титул герцога сделался высшей честью для аристократа и стал возбуждать наиболее сильную зависть. Во Франции, однако, существуют два или три княжеских рода, в которых этот титул, некогда связанный с богатством владений, ставится выше герцогского. Дом де Кадиньянов, в котором старшим сыновьям дается титул герцога де Мофриньез, тогда как младшие называются просто кавалерами де Кадиньян, принадлежит к числу этих избранных семейств. Князья де Кадиньяны, так же как некогда два принца из дома Роганов, имели право восседать на троне в своих владениях: они могли держать у себя на службе пажей и дворян. Эти разъяснения необходимы как для того, чтобы избежать глупой критики со стороны лиц, совершенно невежественных, так и для характеристики явлений общества, которое якобы сходит со сцены, откуда его выталкивают столько людей, совершенно его не постигших. У Кадиньянов в гербе червленый щит с пятью черными ромбами, присоединенными боком, и разделенный полосой с девизом «Memini», с закрытой короной, без щитодержателя и шлемового покрова. Ныне благодаря громадному наплыву иностранцев в Париж и почти полному невежеству в геральдической науке титул князя входит в моду. Подлинными князьями являются, однако, только владетельные князья, которым присвоен титул высочества. Пренебрежение французского дворянства к княжескому титулу, равно как и причины, побудившие Людовика XIV отдать преимущество титулу герцога, помешали Франции потребовать титула высочества для немногих своих князей, если не считать наполеоновских. Вот причина, по которой князья де Кадиньян поставлены как бы ниже других князей в Европе.
Лица, принадлежавшие к так называемому обществу Сен-Жерменского предместья, своим почтительным молчанием покровительствовали княгине из уважения к ее имени, одному из тех, которые всегда будут в почете, к ее несчастьям, уже более не вызывавшим толков, и к ее красоте, тому единственному, что сохранилось у нее от всего исчезнувшего великолепия. Свет, украшением которого она прежде являлась, был ей признателен за то, что, затворившись в своем уединении, она как бы добровольно приняла монашество. Это благородное решение было для нее громадной жертвой – большей, чем для любой другой женщины. Во Франции незаурядные поступки воспринимаются всегда настолько остро, что княгиня, удалившись от света, вновь вернула себе все то, что утратила в общественном мнении в пору своей славы. Она продолжала встречаться лишь с одной из своих старых приятельниц, маркизой д'Эспар, и не посещала более ни многолюдных собраний, ни празднеств. Княгиня и маркиза видались лишь в первую половину дня и как бы втайне. Если княгиня приезжала обедать к своей приятельнице, маркиза никого более не принимала. Г-жа д'Эспар вела себя безукоризненно в отношении княгини: она переменила ложу в Итальянской опере, покинув первый ярус для бенуара только ради того, чтобы г-жа де Кадиньян могла приезжать в театр незамеченной и уезжать неузнанной. Лишь очень немногие женщины согласились бы на такой великодушный поступок, лишавший их удовольствия показывать в обществе свою соперницу, потерпевшую крушение, и называть себя ее благодетельницей. Все это избавляло княгиню от необходимости тратиться на разорительные туалеты, и она могла негласно пользоваться каретой маркизы, от которой ей пришлось бы отказаться, если бы это делалось явно. Никто никогда не узнал, что за причины побудили г-жу д'Эспар так вести себя с княгиней де Кадиньян, но поведение маркизы отличалось высочайшим благородством, что проявлялось постоянно в тысяче мелочей, которые, каждая в отдельности, показались бы, может быть, пустяком, но в совокупности своей являли зрелище почти величественное.
Трехлетие, истекшее к началу 1832 года, успело набросить снежный покров на приключения герцогини де Мофриньез и настолько ее обелило, что потребовались бы значительные усилия памяти, если бы кто-нибудь захотел восстановить прискорбные обстоятельства ее прежней жизни. Из королевы, боготворимой столькими поклонниками, чье легкомыслие могло послужить темой для нескольких романов, она превратилась в женщину, еще обворожительно прекрасную, достигшую уже тридцати шести лет, но имевшую полную возможность давать себе только тридцать, хотя она и была матерью герцога Жоржа де Мофриньеза, юноши девятнадцати лет, красивого, как Антиной, и бедного, как Иов. Ему, несомненно, были уготованы самые блестящие успехи, и мать хотела прежде всего выгодно его женить. Быть может, именно в этой цели и заключался секрет близости, сохранившейся в ее отношениях с маркизой, салон которой считался первым в Париже, так что со временем княгиня могла бы подыскать там среди богатых наследниц жену для Жоржа. Княгиня предполагала, что ей придется прождать женитьбы сына пять лет; пять бесплодных и одиноких лет, ибо выгодный брак требовал того, чтобы все ее поведение было проникнуто величайшим благоразумием.
Княгиня жила в маленьком особняке на улице Миромениль, снимая за скромную плату первый его этаж. Здесь ее окружали остатки минувшей роскоши. Изысканность знатной дамы все еще сказывалась в обстановке. Красивые вещи, окружавшие ее, говорили о благородстве вкуса. Камин украшала великолепная миниатюра, портрет Карла X работы г-жи де Мирбель с выгравированной внизу надписью: «Пожаловано королем», и рядом – портрет герцогини Беррийской, столь исключительно благосклонной к ней. На одном из столов красовался драгоценный альбом, какой не посмела бы выставить напоказ ни одна из тех мещанок, что ныне верховодят в нашем обществе, стяжательном и суетном. Подобная смелость прекрасно обрисовывает характер хозяйки. В альбоме находились портреты близких друзей, а из них около тридцати свет называл ее любовниками. Эта цифра была клеветой, но в отношении десятка, как говорила маркиза д'Эспар, это было лишь справедливым и законным злословием. Портреты Максима де Трай, де Марсе, де Растиньяка, маркиза д'Эгриньона, генерала Монриво, маркизов де Ронкероль и д'Ажуда-Пинто, князя Галактиона, юных герцогов де Гранлье, де Реторе, красавца де Рюбампре принадлежали кисти самых знаменитых художников, впрочем, сильно их приукрасивших. Так как княгиня принимала не более двух или трех лиц из этой коллекции, она весьма остроумно называла ее собранием своих ошибок. Несчастья сделали эту женщину хорошей матерью. В течение пятнадцати лет Реставрации она так много веселилась, что не могла думать о своем сыне; но, удалившись от света, эта женщина, стяжавшая славу эгоистки, решила, что материнское чувство, доведенное до предела, послужит искуплением ее прошлой жизни в глазах людей чувствительных, готовых все простить безупречной матери. Она тем сильнее любила своего сына, что ей не оставалось любить никого другого. Впрочем, Жорж де Мофриньез был одним из тех детей, которые льстят материнскому тщеславию, и княгиня шла для него на всевозможные жертвы: она позаботилась о выезде и каретном сарае для Жоржа; в антресолях над этим сараем было устроено для него помещение с окнами на улицу, состоявшее из трех прелестно обставленных комнат, а себя она обрекла на некоторые лишения, лишь бы сохранить ему верховую лошадь, выезд и маленького лакея. Княгиня держала лишь горничную, а одна из ее прежних судомоек служила ей кухаркой. Лакею на службе герцога приходилось в то время круто. Тоби, бывший грум покойного Боденора (свет именно так подшутил над этим разорившимся щеголем), этот крохотный грум, который и в двадцать пять лет все еще считался четырнадцатилетним, должен был ухаживать за лошадьми, чистить кабриолет или тильбюри, выезжать с хозяином, убирать комнаты и находиться в передней княгини, докладывая о посетителях, когда ей случалось кого-нибудь принимать. Если вспомнить, чем являлась во времена Реставрации красавица герцогиня де Мофриньез, одна из королев Парижа, королева ослепительная, чье блестящее существование могло бы оказаться поучительным даже для самых богатых модниц Лондона, то было нечто непостижимо трогательное в зрелище ее убогого убежища на улице Миромениль, всего в нескольких шагах от принадлежавшего ей прежде огромного особняка, слишком великолепного даже для владельца самого большого состояния и потому проданного на слом дельцами, которые на месте его проложили улицу. Женщина, которой когда-то едва было достаточно тридцати слуг, которая устраивала приемы в самых роскошных парадных залах, какие только были в Париже, жила в очаровательнейших апартаментах и давала блестящие балы, ютилась теперь в квартире из пяти комнат: передней, столовой, гостиной, спальни и туалетной комнаты, обслуживаемая двумя женщинами.
– О! Она безупречна в отношении своего сына, – восклицала маркиза д'Эспар, эта тонкая сплетница, – и безупречна без всякой утрировки, она счастлива. Никто бы не поверил, что такая легкомысленная женщина может с такой настойчивостью следовать принятому решению; ее поведение одобрил и достойный наш архиепископ; он очень хорош с ней и только что убедил старую графиню де Сен-Синь сделать ей визит.
Признаемся, впрочем: нужно быть королевой, чтобы уметь отречься и благородно отрешиться от былого величия, которое окончательно никогда не утрачивается. Лишь те, кто сознает свое ничтожество, падая, выказывают сожаление или же ропщут и возвращаются мыслью к невозвратно потерянному, ибо понимают, что дважды преуспеть нельзя. Вынужденная обходиться без редкостных цветов, среди которых она привыкла жить, – а они так выгодно оттеняли ее красоту, что нельзя было не сравнить ее с цветком, – княгиня удачно выбрала свою квартиру: здесь к ее услугам был прелестный садик, деревца которого и лужайка оживляли своей зеленью это мирное убежище. Она располагала рентой приблизительно в двенадцать тысяч ливров, но и этот скромный доход складывался из ежегодного пособия, выдаваемого старой герцогиней де Наваррен, теткой молодого герцога по отцу, что должно было продолжаться впредь до его брака, и второго пособия, присылаемого герцогиней д'Юкзель из глуши ее поместий, где она копила так, как умеют копить только старые герцогини, по сравнению с которыми и сам Гарпагон – дитя. Князь жил за границей, безвыездно оставаясь в распоряжении своих изгнанных повелителей, разделяя их злосчастную судьбу, служа им с бескорыстной преданностью, и был, пожалуй, наиболее разумным среди окружавших их лиц. Положение князя де Кадиньяна даже защищало княгиню в Париже. В дни попыток, предпринятых герцогиней Беррийской в Вандее, маршал, которому мы обязаны завоеванием Африки именно у княгини собирал совещания главных вождей легитимистского лагеря, настолько безвестным стало к этому времени ее имя, от подозрений же правительства ее оберегала бедность. Видя, как приближается страшный день, когда рушатся надежды на любовь, – а это неизбежно с наступлением сорокалетнего возраста, с которым все почти для женщины кончается, – княгиня погрузилась в дебри философии. Она стала читать – она, на протяжении шестнадцати лет проявлявшая величайшее отвращение к предметам серьезным. Литература и политика ныне для женщин то же, чем была для них прежде набожность – последнее прибежище их притязаний. В высшем свете говорили, что Диана намеревается написать книгу. С тех пор как из очаровательной красавицы княгиня стала превращаться в женщину просто остроумную, она, не дожидаясь того, когда вполне завершится это превращение, сделала прием у себя необычайным отличием, чрезвычайно льстившим избраннику. Маскируясь этим образом жизни, она смогла обмануть одного из первых своих любовников, де Марсе, наиболее влиятельного представителя буржуазной политики, проводимой после июля 1830 года: она принимала его несколько раз вечером, в то время как маршал и несколько легитимистов втихомолку переговаривались в ее спальне о завоевании королевства, забывая, что оно несбыточно без помощи идеологии, этого непременного условия успеха. Подобная проделка была недурной местью со стороны хорошенькой женщины, она сумела посмеяться над премьер-министром, заставляя его играть роль ширмы в заговоре против его же правительства. Это приключение, достойное лучших дней Фронды, составило содержание остроумнейшего письма, в котором княгиня дала герцогине Беррийской отчет о переговорах. Молодому герцогу де Мофриньезу удалось пробраться в Вандею и тайно оттуда вернуться, не выдав себя, но разделив при этом с герцогиней Беррийской угрожавшие ей опасности. Она, к несчастью, его отослала, когда показалось, что все дело проиграно, а возможно, что бдительность этого юноши и помешала бы совершиться предательству. Как бы велики ни были в глазах буржуазного общества ошибки герцогини де Мофриньез, поведение ее сына их, безусловно, искупило в глазах общества аристократического. Нельзя было не признать благородства и величия в поступке этой матери, подвергавшей опасности единственного сына и наследника исторического рода. Существуют личности – их обычно считают ловкими, – умеющие своими общественными заслугами искупать ошибки, совершаемые в своей частной жизни, и наоборот; однако княгиня де Кадиньян чужда была какого-либо расчета. Может быть, его и вообще нет у тех, кто поступает подобным образом. Такая непоследовательность наполовину обусловливается обстоятельствами.
В один из первых ясных дней мая 1833 года около двух часов пополудни маркиза д'Эспар и княгиня расхаживали, – нельзя сказать гуляли, – по дорожке, окаймлявшей единственный в этом садике газон. Солнце уже миновало зенит, и лучи его, отраженные стенами, нагревали воздух в этом маленьком пространстве, где все благоухало цветами, которые подарены были маркизой.
– Мы скоро лишимся де Марсе, – говорила г-жа д'Эспар княгине, – а с ним исчезнет и ваша последняя надежда на карьеру для герцога де Мофриньеза; ведь с тех пор, как вы его так остроумно провели, этот великий политик снова почувствовал к вам влечение.
– Мой сын никогда не примирится с младшей ветвью, – сказала княгиня, – хотя бы ему пришлось умереть с голода или даже мне самой работать для него. Однако он не безразличен Берте де Сен-Синь.
– Дети, – сказала г-жа д'Эспар, – не давали тех обязательств, что их отцы…
– Не станем говорить об этом, – сказала княгиня. – Если мне не удастся приручить маркизу де Сен-Синь, я помирюсь на том, чтобы женить моего сына на дочери какого-нибудь кузнеца, как сделал это жалкий д'Эгриньон.
– Любили вы его? – спросила маркиза.
– Нет, – ответила серьезно княгиня. – Правда, что наивность д'Эгриньона, носившую провинциальный отпечаток, я заметила несколько поздно или, если хотите, слишком рано.
– А де Марсе?
– Де Марсе играл мной, как куклой. Я была так молода! Мы никогда не любим мужчин, если они становятся нашими наставниками, – это слишком затрагивает наше мелкое тщеславие.
– А этот несчастный юноша, который повесился?
– Люсьен? Это был Антиной и великий поэт. Я боготворила его и могла бы стать с ним счастливой, но он любил девку, и я уступила его госпоже де Серизи. Если бы он полюбил меня, разве я его отдала бы?
– Как! Вы – соперница какой-то Эстер?
– Она была красивее меня, – сказала княгиня. – Вот уже скоро три года, как я живу в полном одиночестве; и что же? в этом покое нет ничего тягостного. Вам одной я посмею сказать, что здесь я почувствовала себя счастливой. Я была пресыщена восхищением, утомлена, не знала радости, и чувства мои были задеты лишь слегка, так что волнение не коснулось моего сердца. Все мужчины, которых я знала, оказались ничтожными, мелочными, поверхностными; ни один из них не вызвал во мне даже самого легкого удивления. Ни у кого из них не было цельности чувства, величия, чуткости. Я хотела бы встретить кого-нибудь, кто мне внушил бы уважение.
– Уж не произошло ли с вами то же, что и со мной, моя дорогая, – спросила маркиза, – вы, может быть, никогда не встретили любви, хотя и искали ее?
– Никогда, – ответила княгиня, прерывая маркизу и коснувшись пальцами ее руки.
Они обе направились к простой деревянной скамье и уселись под кустом распускающегося жасмина.
– Как и вас, – продолжала княгиня, – меня, быть может, любили больше, чем любят других женщин; теперь я сознаю, что среди стольких увлечений я не узнала счастья. Я натворила массу безумств, но у них была цель, однако цель эта удалялась по мере того, как я за ней шла. В моем сердце, уже немолодом, живет – я это чувствую – еще нетронутая невинность. Вот именно: под столь большим опытом таится возможность первой любви, способной обманываться; несмотря на столько тревог и унижений, знаю, что я все еще молода и красива. Нам приходится любить, не зная счастья, и быть счастливыми, не любя; но любить и обладать счастьем – соединить эти два огромных человеческих наслаждения – чудо. Для меня оно не свершилось.
– Для меня также, – сказала г-жа д'Эспар.
– В моем убежище меня преследует ужасное сожаление: я развлекалась, но не любила.
– Какое невероятное признание! – воскликнула маркиза.
– Ах, моя дорогая, – ответила княгиня, – эти признания мы можем делать лишь друг другу; никто в Париже нам не поверит.
– А если бы, – продолжала маркиза, – нам обеим не было больше тридцати шести лет, мы, вероятно, не стали бы и друг другу поверять таких тайн.
– Да, когда мы молоды, в нас слишком много самого глупого самодовольства, – сказала княгиня. – Мы подчас напоминаем тех бедных молодых людей, которые усердно действуют зубочисткой, чтобы заставить поверить, будто они отлично пообедали.
– Наконец мы объяснились, – кокетливо сказала г-жа д'Эспар, сопровождая свои слова очаровательным жестом, в котором было и простодушие, и многозначительность, – мне кажется, что мы еще достаточно молоды, чтобы вознаградить себя.
– Когда вы мне на днях рассказали, что Беатриса уехала с Конти, я думала об этом всю ночь, – сказала княгиня после некоторого молчания. – Нужно быть очень счастливой, чтобы, как она, пожертвовать своим положением, своим будущим и навсегда отказаться от света.
– Она глупышка, – важно сказала г-жа д'Эспар, – мадмуазель де Туш была счастлива избавиться от Конти, Беатриса не поняла, насколько этот отказ со стороны женщины незаурядной, ни одной минуты не защищавшей своего мнимого счастья, обличает ничтожество Конти.
– Так что ж, она будет несчастной?
– Она уже несчастна, – продолжала г-жа д'Эспар. – Зачем покидать мужей? Не признает ли этим женщина свое бессилие?
– Вы, следовательно, не думаете, что госпожой де Рошфид руководило желание наслаждаться в тиши подлинной любовью, любовью, дающей те радости, что для нас с вами остались еще призрачными?
– Нет, она лишь собезьянничала с госпожи де Босеан и госпожи де Ланже; в век менее пошлый, чем наш, эти особы, будь сказано между нами, сделались бы, как и вы, впрочем, личностями столь же замечательными, как Лавальер, Монтеспан, Диана де Пуатье, герцогини д'Этамп и де Шатору.
– Ну уж! пожалуйста, без королей, моя дорогая. Ах! я хотела бы вызвать духов этих женщин и спросить у них…
– Но, – сказала маркиза, перебивая свою собеседницу, – нет необходимости принуждать разговаривать мертвых. Мы знаем живых женщин, обладающих счастьем. Я более двадцати раз заводила интимный разговор о вещах подобного рода с графиней де Монкорне: она вот уже в течение пятнадцати лет совершенно счастлива с этим незначащим Эмилем Блонде; ни одной неверности, ни одного скрытого помысла; у них и сегодня такие же отношения, как в первый день; но нас каждый раз беспокоили в самый интересный момент. В этих длительных привязанностях, как между Растиньяком и госпожой Нусинген, вашей кузиной де Камп и ее Октавом, скрывается тайна, но мы с вами, моя дорогая, этой тайны не знаем. Свет оказывает нам чрезвычайную честь, почитая нас за распутниц, достойных двора Регента, а мы невинны, как две маленькие пансионерки.
– Я еще могла бы этим утешиться, – насмешливо воскликнула княгиня. – Но наша невинность куда хуже, и недаром чувствуешь себя униженной. Что поделаешь? Придется богу удовольствоваться этим разочарованием в искупление наших бесплодных поисков, ведь маловероятно, чтобы для нас расцвел поздней осенью цветок, которого мы не нашли ни весной, ни летом.
– Дело не в этом, – продолжала после короткого молчания маркиза, на миг погрузившись в воспоминания. – Мы еще достаточно красивы, чтобы внушить страсть, но мы никогда никого не убедим в нашей невинности и добродетели.
– Если бы это было ложью, ее бы вскоре, приукрашенную комментариями, поданную с милыми добавлениями, сообщающими ей правдоподобие, проглотили бы, как сладостный плод; но заставить поверить в истину! О! Величайшие люди потерпели на этом поражение, – прибавила княгиня с одной из тех лукавых улыбок, которые умела передать только кисть Леонардо да Винчи.
– Иногда и глупцы умеют любить, – продолжала маркиза.
– Но на это, – заметила княгиня, – даже у глупцов не хватит доверчивости.
– Вы правы, – сказала, смеясь, маркиза. – Однако нам следовало бы искать не глупца и даже не одаренного человека. Чтобы решить такую задачу, нам необходим человек гениальный. Одни гении способны на младенческую веру, свято чтут любовь и охотно дают завязать себе глаза. Посмотрите на Каналиса и герцогиню де Шолье. Если мы с вами и встречали людей талантливых, то они были, вероятно, слишком далеки от нас и слишком заняты, а мы в то время чересчур легкомысленны, увлечены, захвачены.
– Ах! я все же не хотела бы покинуть этот свет, не испытав радостей подлинной любви, – воскликнула княгиня.
– Недостаточно ее внушить, – сказала г-жа д'Эспар, – надо ее испытать. Я знаю немало женщин, которые служат лишь предлогом страсти, вместо того чтобы быть и причиной ее, и следствием.
– Последняя страсть, которую я внушила, была чем-то святым, возвышенным, – сказала княгиня, – перед ней открывалось будущее. На этот раз случай послал мне гениального человека, одного из тех, что принадлежат нам по праву, но которыми так трудно завладеть, ведь на свете больше красивых женщин, чем талантов. Но дьявол вмешался в эту историю.
– Расскажите мне, дорогая. Для меня это совершенно ново.
– Я только в середине зимы 1829 года обратила внимание на эту возвышенную любовь. Каждую пятницу я встречала в Опере, в партере, всегда на одном и том же месте молодого человека лет тридцати, который приходил туда ради меня; он глядел на меня огненными глазами, но их часто омрачала печаль – ведь нас разделяло такое расстояние, – и он понимал всю безнадежность своей любви.
– Бедный молодой человек! Влюбившись, глупеешь, – сказала маркиза.
– Почти в каждом антракте он пробирался в коридор, – продолжала княгиня, улыбнувшись дружеской шутке, которой маркиза ее перебила, – раза два, чтобы меня увидеть или показаться мне, он приникал к самому стеклу ложи, находящейся против моей. Если ко мне заходил посетитель, я замечала, как он прячется за дверью, откуда он мог украдкой бросить на меня взгляд; под конец он уже знал всех тех, кто принадлежал к моему обществу, и, если они направлялись к моей ложе, шел за ними, чтобы воспользоваться мигом, когда отворялась моя дверь. Бедному молодому человеку, вероятно, вскоре стало известно, кто я такая, потому что он знал в лицо господина де Мофриньеза и моего тестя. Я стала также встречать моего таинственного незнакомца и в Итальянской опере, где у него было кресло, с которого он любовался мною, не сводя с меня глаз в наивном экстазе: недурное зрелище. У выхода из оперы или театра Буфф я видела его, неподвижного среди толпы, как будто приросшего к тротуару; его толкали, но не могли сдвинуть с места. Глаза его несколько тускнели, когда он видел, что я опираюсь на руку кого-либо из моих избранников. Впрочем, ни единого слова, ни одного письма, ни одной попытки. Признайтесь, что это доказывает порядочное воспитание. Иногда, возвращаясь утром домой, я заставала этого человека на одной из тумб у ворот моего особняка. У этого влюбленного были красивые глаза, густая длинная борода веером и усы; выделялись только белизна скул и красивый лоб; одним словом, настоящая античная голова. Как вам известно, в Июльские дни князь защищал Тюильрийский дворец со стороны набережных. Он вернулся вечером в Сен-Клу, когда все было проиграно. «Моя дорогая, – сказал он мне около четырех часов, – я едва не был убит: один из инсургентов в меня целился, как вдруг молодой человек с длинной бородой, предводительствовавший нападавшими, – я, кажется, видел его у Итальянцев, – отвел ствол ружья». Выстрел поразил уж не знаю кого, кажется, сержанта полка, стоявшего в двух шагах от моего мужа. Этот молодой человек был, по-видимому, республиканцем. В 1831 году, когда я вернулась, чтобы поселиться здесь, я встретила его, – он стоял возле этого дома; несчастья мои его словно радовали, так как ему казалось, что они нас сближают, но со времени событий в Сен-Мерри я его больше не видела; он там погиб. Накануне похорон генерала Ламаркая с сыном вышла пройтись, и мой республиканец то следовал за нами, то опережал нас от церкви святой Мадлены до самого пассажа Панорамы, куда я направлялась.
– И это все? – спросила маркиза.
– Все, – ответила княгиня. – Ах да! В утро взятия Сен-Мерри явился какой-то мальчишка, попросил меня выйти к нему и передал мне письмо, написанное на простой бумаге и подписанное именем незнакомца.
– Покажите мне его, – сказала маркиза.
– О нет, моя дорогая. Любовь была слишком сильной и возвышенной в этом сердце, чтобы я могла выдать его тайну. Это письмо, короткое и страшное, тревожит мое сердце и сейчас, когда я о нем думаю. Этот мертвый вызывает во мне больше волнений, чем все живые, к которым я благоволила, и постоянно воскресает в моей памяти.
– Скажите его имя, – попросила маркиза.
– О, имя самое обыкновенное – Мишель Кретьен.
– Вы хорошо сделали, что сообщили его мне, – живо ответила маркиза д'Эспар, – я слышала о нем много разговоров. Этот Мишель Кретьен был другом знаменитого человека, которого вы хотели видеть, – Даниеля д'Артеза; он каждый год бывает у меня раза два. У Кретьена, действительно погибшего в Сен-Мерри, было немало друзей. Мне говорили, что он был одним из тех крупных политических деятелей, кому, как и де Марсе, не хватает лишь случая, который бы подхватил их, как воздушный шар, и сделал тем, чем они достойны быть.
– В таком случае лучше, что он умер, – сказала княгиня с грустным видом, скрывшим ее мысли.
– Хотите как-нибудь встретиться у меня вечером с д'Артезом? – спросила маркиза. – Вы поговорите с ним о вашем призраке.
– С удовольствием, дорогая.
Спустя несколько дней после этого разговора Блонде и Растиньяк, знавший д'Артеза, обещали г-же д'Эспар уговорить его прийти к ней обедать. Это обещание было бы, конечно, неосторожным, если бы не было упомянуто имя княгини. Встреча с ней не могла быть безразличной знаменитому писателю.
Даниель д'Артез, один из редких в наши дни людей, соединяющих прекрасные личные качества с недюжинным талантом, уже пользовался если не всей славой, заслуженной его произведениями, то, во всяком случае, тем почетом и уважением, которым вполне довольствуются избранники. Со временем его значение, несомненно, возрастет еще более, но в глазах знатоков оно своих пределов уже достигло: существуют такие писатели, место которых определяется сразу и в дальнейшем уже более не меняется. По происхождению бедный дворянин, д'Артез знал, что может рассчитывать только на свои личные достоинства. Он долго пробивал себе дорогу, завоевывая положение на литературной арене Парижа и нарушая этим волю богатого дяди, – тот оставлял его в тисках жесточайшей нужды и, лишь когда он стал знаменитостью, завещал ему состояние, в котором безжалостно отказывал, пока д'Артез был безвестным писателем: пусть тщеславие возьмет на себя оправдание этой непоследовательности! Несмотря на неожиданную перемену, Даниель д'Артез не изменил своего образа жизни: над своими книгами он продолжал работать с той скромностью, которая достойна античных нравов, и обременил себя новыми трудами, согласившись принять звание депутата палаты, где он занял место на правой.
С тех пор как его осенила слава, он несколько раз бывал в свете. Один из его старых друзей, знаменитый врач Орас Бьяншон, познакомил его с бароном де Растиньяком, товарищем одного из министров и другом де Марсе. Эти политические деятели благородно взялись помочь Даниелю, Орасу и некоторым близким друзьям Мишеля Кретьена перенести тело убитого республиканца из церкви Сен-Мерри, чтобы похоронить его с честью. Признательность за услугу, столь противоречившую административной строгости, которая царила в ту эпоху, когда политические страсти вспыхнули с такой силой, привязала до известной степени д'Артеза к Растиньяку. Товарищ министра и выдающийся премьер были слишком ловкими людьми, чтобы не воспользоваться этим обстоятельством: они привлекли на свою сторону нескольких друзей Мишеля Кретьена, правда, не разделявших его взглядов и примкнувших после того к новому правительству. Один из них, Леон Жиро, назначенный сначала докладчиком прошений в Совете, сделался затем государственным советником. Жизнь Даниеля д'Артеза была целиком посвящена работе, в обществе он бывал лишь изредка, и оно ему являлось как бы во сне. Дом его – монастырь, и он ведет в нем жизнь бенедиктинца: та же умеренность в обиходе, та же регулярность в занятиях. Его друзья знают, что женщины для него пока что лишь случайность, внушающая страх, – ему пришлось слишком часто их наблюдать, чтобы не опасаться; и все же это глубокое изучение женщины привело к тому, что он перестал понимать их, как бывает с теми мудрыми стратегами, которые всегда терпят поражение в местности, где непредвиденные условия изменяют и нарушают их научные аксиомы. Он остался самым чистосердечным ребенком, выказав себя в то же время и самым осведомленным наблюдателем. Это противоречие, на вид невозможное, вполне объяснимо для тех, кто мог измерить глубину пропасти, отделяющую способности от чувств: одни исходят от головы, другие – от сердца. Можно быть великим человеком и злодеем, так же как можно быть глупцом и в то же время вдохновенным любовником. Д'Артез был одним из тех избранных существ, у которых тонкость ума и обширность знаний не исключают ни силы, ни величия чувств. Его можно назвать человеком и действия и мысли, а это – сочетание, представляющее крайне редкое преимущество. Его личная жизнь отличается благородством и чистотой. До сих пор он тщательно избегал любви, но, хорошо зная себя, он заранее предвидел, как могущественно будут владеть им страсти. Долгое время превосходной защитой от них служила ему изнурительная работа, подготовившая прочную основу для его славных трудов, и холод бедности. Когда же пришел достаток, у него завелась самая пошлая и самая необъяснимая связь с женщиной, довольно, правда, красивой, но принадлежащей к низшему сословию и без всякого образования, без манер, и потому эта связь тщательно скрывалась от посторонних взглядов. Мишель Кретьен приписывал людям гениальным способность превращать самые грубые существа в сильфид, простушек – в умных женщин, крестьянок – в маркиз; чем большими совершенствами обладала женщина, тем более она должна была проигрывать в глазах, ибо не оставляла простора для воображения. Он считал, что любовь, представляющая простую потребность чувств для существ низших, для людей одаренных есть род морального творчества, самый обширный и самый привлекательный. Чтобы оправдать д'Артеза, он ссылался на пример Рафаэля и Форнарины. Он мог бы указать и на себя самого: ведь и он видел ангела в герцогине де Мофриньез. Странная фантазия д'Артеза могла быть, впрочем, оправдана с помощью разных соображений: может быть, он сразу же отчаялся в возможности встретить в этом мире женщину, которая отвечала бы восхитительной грезе, лелеемой всяким умным человеком? Может быть, сердце его было слишком чутким, слишком чувствительным, чтобы вручить его светской женщине? Может быть, он предпочитал отдавать должное природе и сохранять иллюзии, придерживаясь своего идеала? Может быть, он отстранил любовь как несовместимую с его трудами и размеренностью монастырской жизни, где страсть все бы нарушила? В течение последних месяцев над д'Артезом посмеивались Блонде и Растиньяк, упрекавшие его в незнании света и женщин. По их мнению, его труды были уже достаточно многочисленны и успешны, чтобы он мог позволить себе развлечения; а он, располагая прекрасным состоянием, жил, как студент, ничем не пользовался: ни своим золотом, ни своей славой; ему были неизвестны изысканные наслаждения той благородной и тонкой страсти, какую внушают иные женщины знатного рода и безукоризненного воспитания; достойно ли его было то, что он знал только грубую сторону любви? Любовь, сведенная к тому, чем сделала ее природа, была в их глазах глупейшей вещью в мире. Одна из заслуг общества состояла в том, что оно создало женщину там, где природа сотворила самку; что оно вызвало беспрерывность желания там, где природа думала лишь о беспрерывности рода; что оно, наконец, изобрело любовь, прекраснейшую религию человека. Д'Артезу были неведомы очаровательные тонкости разговора, те знаки привязанности, которые дает душа и мысль, желания, облагороженные светскими манерами, неведомы и те божественные формы, которые светская женщина придает самым грубым вещам. Он, может быть, и знал женщину, но не ведал божества. А женщине, чтобы внушить настоящую любовь, необходима бездна искусства, множество прекрасных одеяний, которые облекли бы ее душу и тело. Словом, расхваливая восхитительную развращенность мысли, что составляет чисто парижское кокетство, эти два соблазнителя жалели д'Артеза, обходившегося простым блюдом, без всякой приправы, и не отведавшего наслаждений высшей парижской кулинарии, и тем самым живо возбуждали его любопытство. Доктор Бьяншон, с которым д'Артез был откровенен, знал, что это любопытство наконец проснулось. Длительная связь великого писателя с заурядной женщиной не только не стала ему мила в силу привычки, но сделалась для него невыносимой, и лишь чрезмерная застенчивость, владеющая одинокими людьми, удерживала его от разрыва.
– Как можно, – говорил Растиньяк, – имея красный с золотом щит, перерезанный с правого угла на левый, с бляхой и золотой монетой в каждом поле, не дать этому старому пикардийскому гербу покрасоваться на дверцах своей кареты? У вас тридцать тысяч ливров ренты и доходы, которые приносит ваше перо; вы оправдали ваш девиз, который составляет игру слов, столь ценимую нашими предками: Ars thesaurusque virtus, и вы не хотите показывать его на прогулке в Булонском лесу! Ведь мы живем в век, когда добродетель должна показываться.
– Если бы вы хоть читали свои произведения этой толстой Лафоре вашей отраде, я бы еще простил вам то, что вы с ней не порываете, – сказал Блонде. – Но, дорогой мой, если с точки зрения материальной вы едите черствый хлеб, то с точки зрения интеллектуальной у вас нет даже хлеба…
Эта маленькая дружеская война между Даниелем и его приятелями длилась уже несколько месяцев, когда г-жа д'Эспар попросила Растиньяка и Блонде уговорить д'Артеза приехать к ней на обед, сказав им, что княгине де Кадиньян чрезвычайно хочется видеть этого знаменитого человека. Подобные достопримечательности для некоторых женщин то же, что волшебный фонарь для детей – удовольствие для глаз, довольно, впрочем, скромное и таящее в себе разочарование. Чем сильнее выдающийся человек волнует наши чувства на расстоянии, тем меньше пленяет он их вблизи; чем более блистательным себе его мы представляем, тем более тусклым кажется его образ в действительности. В этом смысле разочарованная любознательность часто доходит до несправедливости. Ни Блонде, ни Растиньяк не могли обманывать д'Артеза, но они, смеясь, сказали, что ему представляется самый соблазнительный случай просветить свое сердце и познать высшие наслаждения, даваемые любовью знатной парижской дамы. Княгиня была положительно в него влюблена, уверяли они, и ему нечего было опасаться, он мог только выиграть от этой встречи; ничто не могло низвести его с пьедестала, на который его возвела г-жа де Кадиньян. Блонде и Растиньяк не видели ничего предосудительного в том, чтобы приписать княгине эту любовь, – такую клевету она могла снести, она, чье прошлое давало пищу стольким анекдотам! И тот и другой стали рассказывать д'Артезу о приключениях герцогини де Мофриньез, о ее первом легкомысленном поступке с де Марсе, ее втором опрометчивом шаге с д'Ажуда, которого она разлучила с женой, мстя таким образом за г-жу де Босеан, о ее третьей связи с молодым д'Эгриньоном, который сопровождал ее в Италию и страшно повредил себе этим; затем о том, как она была несчастна со знаменитым послом и счастлива с русским генералом; как ей пришлось быть Эгерией двух министров иностранных дел и т.д. и т.п. Д'Артез ответил им, что знает о ней больше, чем они могли рассказать ему, так как о ней ему говорил их покойный друг Мишель Кретьен, который обожал ее тайно в течение четырех лет и чуть не лишился из-за нее рассудка.
– Я часто, – сказал Даниель, – сопровождал моего друга в Оперу, к Итальянцам. Несчастный бегом бежал по улицам вместе со мной вслед за ее выездом и любовался княгиней сквозь стекла кареты. Этой любви князь де Кадиньян обязан жизнью, Мишель помешал одному юноше его убить.
– Ну что же! у вас будет совершенно готовая тема, – сказал, улыбаясь, Блонде. – Такая женщина вам и нужна, она лишь из деликатности будет жестокой и очень мило посвятит вас в самые обольстительные тайны. Но берегитесь, она поглотила немало состояний! Красавица Диана принадлежит к числу расточительниц, которые не стоят ни одного сантима, но для которых затрачивают миллионы. Отдайтесь телом и душой, но не выпускайте из рук ваших денег, как старик в «Потопе» Жироде.
После этого разговора княгиня предстала, наделенная прелестью королевы, испорченностью дипломатов, овеянная некоей тайной, опасная, как сирена, исполненная бездонной глубины. Эти два умных человека, не способные предвидеть развязку своей шутки, сумели сделать из Дианы д'Юкзель самую чудовищную парижанку, самую ловкую кокетку и самую обольстительную светскую куртизанку. Хотя они и были правы, женщина, о которой они отзывались так легкомысленно, была для д'Артеза чем-то святым, чем-то священным, и любопытство его не нуждалось в том, чтобы его подстегивали: он сразу же дал согласие прийти, а обоим друзьям это только и было нужно.
Госпожа д'Эспар поехала к княгине, как только получила ответ.
– Чувствуете ли вы себя красивой, моя дорогая, расположены ли пококетничать? – сказала она ей. – Тогда приходите через несколько дней ко мне обедать; я вам подам д'Артеза. Наша знаменитость самого дикого нрава, он боится женщин и никогда не любил. Поговорите на эту тему. Он умен, и простота его вводит в заблуждение, так как устраняет всякое недоверие. Его проницательность ретроспективного свойства, она действует задним числом, и это расстраивает все расчеты. Сегодня вам удалось его захватить врасплох, но завтра вы его уже ни за что не проведете.
– Ах, – сказала княгиня, – если бы мне было только тридцать лет, как бы я позабавилась! Чего мне до сих пор не хватало, так это умного человека, которого я могла бы провести. У меня были только партнеры и никогда не было противников. Любовь была игрой, вместо того чтобы стать битвой.
– Дорогая княгиня, сознайтесь, что я достаточно великодушна; ведь в конце концов… своя рубашка…
Обе женщины, смеясь, взглянули друг на друга и в знак приязни пожали друг другу руки. Конечно, они знали друг о друге слишком важные тайны и не стали бы ссориться из-за какого-то одного мужчины или оказанной услуги; чтобы дружба между женщинами могла быть искренней и длительной, она должна быть скреплена маленькими преступлениями. Когда две приятельницы способны убить друг друга, но видят каждая в руке у соперницы отравленный кинжал, они являют трогательное зрелище гармонии, нарушаемой лишь в тот миг, когда одна из них нечаянно это оружие обронит.
Итак, через неделю у маркизы состоялся один из тех вечеров, или, как их называют, маленьких приемов, которые устраивают только для самых близких людей, так что никто не является без устного приглашения и ни один незваный не допускается в дом. Этот вечер был устроен для пятерых: Эмиля Блонде и г-жи Монкорне, Даниеля д'Артеза, Растиньяка и княгини де Кадиньян. Мужчин было столько же, сколько и женщин, считая хозяйку дома.
Может быть, никогда еще самая тщательная подготовка к встрече так искусно не маскировалась видимостью случайности, как это произошло при знакомстве Дианы с д'Артезом. Княгиня и поныне считается великим знатоком туалета, составляющего для женщины первое из искусств. Она надела платье из синего бархата с широкими, свободно свисающими белыми рукавами и корсажем, вырез которого был затянут прозрачной тюлевой шемизеткой, собранной в легкие складки, отороченной каймой, выпущенной на четыре пальца от шеи, плечи ее были закрыты, как можно это видеть на некоторых портретах кисти Рафаэля. Горничная украсила ее прическу белым вереском, искусно расположив его в волнах ее светлых волос, которым княгиня тоже была обязана своей славой красавицы. Диане безусловно нельзя было дать больше двадцати пяти лет. Четыре года одиночества и отдыха вернули ей свежий цвет лица. Да и нет ли, впрочем, таких мгновений, когда желание нравиться увеличивает красоту женщин? Изменения в лице не бывают независимы от воли. Если сильные волнения имеют свойство превращать белые тона у людей меланхолического и сангвинического склада в желтые и окрашивать в зеленоватый цвет лица лимфатиков, нельзя разве признать за желанием, радостью, надеждой способность сделать цвет лица более светлым, позолотить живым блеском взгляд, оживить красоту светом, пронизывающим ясное утро? Белизна кожи, которой так славилась княгиня, приобрела оттенок зрелости, и это делало весь ее облик еще более величавым. В этот час ее жизни, отмеченной уже строгими раздумьями и долгими размышлениями о своей судьбе, ее задумчивый и прекрасный лоб чудесно гармонировал с ее взглядом, глубоким, неторопливым и величественным. Вряд ли самый искусный физиономист мог бы угадать расчеты и намерения под этой изумительной нежностью черт. Опыт и наблюдательность бывают введены в заблуждение и сбиты с толку спокойствием и тонкостью некоторых женских лиц; их следовало бы рассматривать в ту минуту, когда заговорят страсти, – а это не так легко уловить, – или тогда, когда они уже сказали свое слово, что становится бесполезным, ибо женщина тогда уже состарилась и больше не притворяется. Княгиня как раз и принадлежит к числу таких непроницаемых женщин, она может принять любое обличие: быть игривой, ребячливой, приводя в отчаяние своим простодушием; или проницательной, серьезной и способной даже вызвать беспокойство своим глубокомыслием. Она приехала к маркизе с намерением казаться простой и нежной женщиной, познавшей жизнь только по доставленным ею разочарованиям, женщиной с возвышенной душой, оклеветанной, но покорной судьбе – словом, обиженным ангелом. Она поторопилась приехать пораньше, с тем чтобы расположиться на козетке у камина, возле г-жи д'Эспар, так, как ей хотелось, в одной из тех поз, когда преднамеренность спрятана под безукоризненной естественностью, в одном из тех нарочито изученных положений, благодаря которым подчеркивается чудесная волнистая линия, начинающаяся у ноги, легко поднимающаяся к бедрам и затем продолжающаяся восхитительными округлостями до плеч, представляя взгляду все очертания тела. Обнаженная женщина являет, вероятно, меньшую опасность, нежели женщина, облаченная в одежду, если последняя расположена так искусно, что, все скрывая, вместе с тем все выставляет напоказ. Из утонченности, многим женщинам недоступной, Диана, к великому удивлению маркизы, прибыла в сопровождении герцога де Мофриньеза. Сразу же взвесив все, г-жа д'Эспар пожала княгине руку в знак понимания.
– Я вас разгадала! Заставляя д'Артеза принять все трудности сразу, вам не придется думать о них впоследствии.
Графиня де Монкорне приехала с Блонде. Растиньяк привез д'Артеза. Княгиня не сделала знаменитому человеку ни одного из тех комплиментов, какими докучали ему обычно, но ее предупредительность, полная изящества и уважения к нему, была для нее, вероятно, пределом внимательности. Так, несомненно, держалась она с королем Франции, с принцами. Казалось, она счастлива, что видит этого великого человека, и довольна тем, что искала знакомства с ним. Люди со вкусом, как княгиня, отличаются главным образом своим умением слушать, приветливостью, чуждой насмешки и представляющей в отношении вежливости то же, что добрые дела в отношении добродетели. Внимательность, с какой она слушала знаменитого писателя, льстила в тысячу раз больше, чем самые искусные похвалы. Маркиза просто, ничего не подчеркивая, представила их друг другу. За столом д'Артез сидел рядом с княгиней. Нисколько не подражая жеманницам, разыгрывающим преувеличенную воздержанность, она ела с прекрасным аппетитом и почла делом чести показать себя женщиной естественной, без всяких причуд. Она воспользовалась промежутком между двумя переменами, когда завязалась общая беседа, чтобы поговорить наедине с д'Артезом.
– Секрет удовольствия, которое я доставила себе знакомством с вами, – сказала княгиня, – заключается в желании узнать что-нибудь о вашем несчастном друге, погибшем за дело, чуждое нам; я ему многим обязана, но была лишена возможности высказать это и поблагодарить его. Князь де Кадиньян разделяет мои сожаления. Мне стало известно, что вы были одним из лучших друзей этого злополучного молодого человека. Ваша дружба с ним, такая искренняя и неизменная, послужила для меня рекомендацией. И вы не найдете странным, что я захотела узнать все, что вы могли бы рассказать мне про этого дорогого для вас человека. Если я привержена изгнанной династии и придерживаюсь монархических взглядов, то все же не принадлежу к числу тех, кто считает невозможным, чтобы республиканец обладал благородным сердцем. Монархия и Республика – две единственные формы правления, не подавляющие высоких чувств.
– Мишель Кретьен был ангел, сударыня, – с волнением ответил Даниель. – Я не знаю среди героев древности человека выше его. Было бы заблуждением принимать его за одного из тех республиканцев с ограниченным кругозором, которые хотели бы восстановить Конвент и все прелести Комитета общественного спасения; о нет, Мишель мечтал о швейцарской федерации для всей Европы. Признаем между нами, что после блистательного единоличного правления, особенно пригодного, как мне кажется, для нашей страны, лишь система Мишеля могла бы послужить к устранению войн в Старом Свете и переустройству общества на основах, совершенно отличных от той системы захватов, какая присуща феодальному миру. Поэтому республиканцы ближе всего подходили к его идеалам. Вот почему он стал на их сторону в июле у Сен-Мерри. Мы сохранили с ним тесную дружбу, хотя наши взгляды нас совершенно разделяли.
– Вот наивысшая похвала вашим характерам, – застенчиво произнесла г-жа де Кадиньян.
– За последние четыре года своей жизни, – продолжал Даниель, – он мне одному говорил о своей любви к вам, и это признание еще более скрепило узы нашей дружбы, прочные и без того. Он один, сударыня, любил вас так, как вы этого заслуживаете. Сколько раз мочил меня дождь, когда я вместе с ним, состязаясь в скорости с лошадьми, уносившими вас, сопровождал вашу карету до самого дома, лишь бы не потерять вас из виду, смотреть на вас… любоваться вами!
– Но, сударь, – сказала княгиня, – я чувствую, что должна буду вознаградить вас.
– Отчего здесь нет Мишеля? – с глубокой грустью ответил Даниель.
– Он, вероятно, любил бы меня недолго, – сказала княгиня, печально наклонив голову. – Республиканцы в своих идеях еще менее признают уступки, чем мы, абсолютисты, склонные к снисходительности. Он, несомненно, наделял меня всеми совершенствами и был бы жестоко разочарован. Нас, женщин, преследует клевета точно так же, как приходится сносить ее вам в литературной жизни, но мы не можем защитить себя ни славой, ни своими сочинениями. Нас принимают не такими, какие мы есть, а какими нас сделала молва. Ту, никем не разгаданную женщину, которая скрыта во мне, от него весьма скоро сумели бы заслонить лживым портретом женщины вымышленной, которая в свете сходит за настоящую. Он счел бы меня недостойной тех благородных чувств, какие он питал ко мне, и не способной его понять.
Тут княгиня покачала головой, встряхнув своими чудными светлыми локонами, увитыми вереском, и в этом движении была божественная красота. Невозможно передать, сколько здесь выразилось скорбных сомнений и скрытых невзгод. Даниель понял все и с глубоким волнением смотрел на княгиню.
– Все же, – продолжала она, – в день, когда я его вновь увидела, спустя много времени после июльского мятежа, я чуть было не поддалась своему желанию взять его за руку, пожать ее перед всеми под перистилем Итальянского театра и подарить ему свой букет. Но я подумала, что этот знак благодарности будет истолкован неверно, как и другие благородные поступки, называемые ныне безумствами госпожи де Мофриньез; я же никогда не смогу их объяснить, ведь по-настоящему знают меня лишь мой сын и бог.
Эти слова, сказанные на ухо собеседника так, чтобы они не дошли до слуха остальных гостей, с выражением, достойным самой ловкой актрисы, должны были проникнуть до сердца; они и достигли сердца д'Артеза. Все это предназначалось не ему, знаменитому писателю, – она стремилась оправдать себя перед умершим. Ведь княгиню могли оклеветать, и потому она хотела знать, не омрачило ли что-либо ее образ в глазах того, кто ее любил. Сохранил ли он все свои иллюзии, умирая?
– Мишель, – ответил д'Артез, – был одним из тех мужчин, которые любят безраздельно и, если выбор их плох, страдают от этого, но никогда не откажутся от своей избранницы.
– И он так любил меня? – воскликнула она, всем видом своим выказывая блаженство и восторг.
– Да, сударыня.
– И я составила его счастье?
– В течение четырех лет.
– Когда женщина слышит такие вещи, она не может не испытывать чувства удовлетворенной гордости, – сказала княгиня, повернув к д'Артезу свое нежное и благородное лицо, хранившее стыдливо-смущенное выражение.
Один из самых ловких приемов таких комедианток состоит в том, чтобы принимать сдержанный вид, когда слова слишком выразительны, и заставлять говорить глаза, когда речь недостаточна. Эти искусные диссонансы, проскальзывающие в музыке их ложной или подлинной любви, неотразимо обольстительны.
– Скажите, – продолжала она, еще более понизив голос и убедившись в силе впечатления, произведенного ею, – не значит ли это – исполнить свое назначение? Составить счастье великого человека, не став преступницей?
– Не писал ли он вам об этом?
– Да, но мне хотелось в этом убедиться, потому что – поверьте мне, сударь, – он не ошибался, когда ставил меня так высоко.
Женщины умеют придавать своим словам особую значительность, они вкладывают в них какой-то невыразимый трепет, который расширяет их смысл и сообщает им глубину; если впоследствии очарованный собеседник не может дать себе отчет в том, что он слушал, цель вполне достигнута, ибо в этом и заключено свойство красноречия. Будь княгиня в этот миг увенчана короной Франции, ее чело не было бы более величественным, чем сейчас под чудесной диадемой волос, поднятых в косах наподобие башни и украшенных вереском. Эта женщина, казалось, шествует по волнам клеветы, как шествовал Спаситель по водам Тивериады, облаченная в саван любви, точно ангел, озаренный своим сиянием. Ничто решительно не говорило об усилии над собой или о желании представиться женщиной возвышенной и любящей: все было просто и естественно. Живой человек никогда не мог бы оказать княгине тех услуг, какие она извлекла из мертвого. Д'Артез, этот трудолюбивый отшельник, незнакомый со светом и отгороженный от него своими учеными трудами, поддался влиянию этого тона и этих слов. Он был под обаянием этих изысканных манер, он любовался совершенной красотой княгини, созревшей в несчастьях и умиротворенной уединением, он поклонялся столь редкостному сочетанию тонкого ума и возвышенной души. Ему захотелось овладеть наследством Мишеля Кретьена. И началом этой страсти послужила, как у большинства подлинных мыслителей, – идея. Наблюдая за княгиней, изучая ее профиль, ее нежные черты, стан, ногу, тонкий рисунок рук вблизи, а не на расстоянии, как это бывало прежде, когда он, сопутствуя своему другу, гонялся вместе с ним за ее каретой, он ощутил в себе дар двойного зрения – удивительное чувство, свойственное людям, которых воодушевляет любовь. С какой поразительной прозорливостью разгадал Мишель Кретьен сердце и душу княгини, осветив их пламенем любви! Значит, и приверженец идеи федерации был разгадан точно так же! И он был бы, несомненно, счастлив. Так княгиня приобрела в глазах Д'Артеза великое очарование, ее окружил поэтический ореол. За обедом писатель вспоминал полные отчаяния признания республиканца и его надежды, когда он почел себя любимым; только перед ним изливал он высокие славословия этой женщине, целые поэмы любви, внушенные истинным чувством. Даниель, сам того не зная, мог воспользоваться тем, что было подготовлено случаем. От роли наперсника к роли соперника человек редко переходит без угрызений совести, но д'Артез мог решиться на этот переход, не совершая преступления. В одно мгновение ему стала ясна огромная разница между женщинами высшего круга, этими цветами аристократического общества, и женщинами простыми, известными ему, впрочем, лишь по одному образцу. И он оказался захвачен врасплох в самых незащищенных, самых нежных тайниках своей души, своего таланта.
Требования света и преграда, которая воздвигнута была между д'Артезом и княгиней Кадиньян всем поведением Дианы и (не побоимся произнести это слово) ее величием, мешали ему в его неистовом и простодушном желании овладеть этой женщиной. Для человека, не привыкшего уважать ту, кого он любил, было что-то притягательное в этом препятствии – приманка тем более могущественная, что, попавшись на нее, он уже не мог выдавать своих чувств. Разговор, вращавшийся до десерта вокруг Мишеля Кретьена, оказался превосходным предлогом как для Даниеля, так и для княгини, чтобы вести беседу вполголоса. Темой этой беседы были любовь, взаимное влечение, прозрение души; она стремилась предстать перед ним в виде женщины непризнанной и оклеветанной, а он – поскорее занять место мертвого республиканца. Может быть, этот искренний человек почувствовал, что уже менее сожалеет о друге? К тому времени, когда на столе появились, сверкая при свете канделябров, чудеса десерта, прикрытые букетами из живых цветов, которые разделяли гостей блестящей изгородью, богато расцвеченной фруктами и сладостями, княгиня решила заключить этот ряд признаний пленительной фразой, сопровождаемой одним из тех взглядов, от которых глаза белокурой женщины кажутся темными, и выражавшей ту мысль, что души Даниеля и Мишеля были души-близнецы. После этого д'Артез примкнул к остальному обществу, выказав почти ребяческое оживление и приняв фатоватый вид, достойный школьника. Переходя из столовой в маленькую гостиную маркизы, княгиня непринужденно оперлась на руку д'Артеза. В большой гостиной она замедлила шаг и, когда от маркизы, шедшей с Блонде, ее отделило достаточное расстояние, остановила д'Артеза.
– Я не желаю быть недоступной для друга нашего бедного республиканца, – сказала она ему. – И хотя я взяла себе за правило никого не принимать, вам одному на свете я позволю ко мне заходить. Не думайте, что это одолжение. Одолжения существуют лишь между чужими, а мне кажется, что мы с вами старые друзья; я хочу видеть в вас брата Мишеля.
Д'Артез мог только пожать руку княгини, не находя иного ответа. Когда подали кофе, Диана де Кадиньян кокетливым движением завернулась в большую шаль и поднялась. Блонде и Растиньяк были достаточно тонкими людьми и слишком хорошо знали свет, чтобы позволить себе выразить малейшее удивление или просить княгиню задержаться; но г-жа д'Эспар вновь усадила свою подругу, взяв ее за руку и сказав на ухо: «Подождите, пока пообедают слуги, карета еще не готова». И она сделала знак камердинеру, уносившему поднос с кофе. Г-жа де Монкорне поняла, что княгине и г-же д'Эспар нужно о чем-то переговорить наедине, и, подозвав к себе д'Артеза, Блонде и Растиньяка, она заняла их одним из тех сумасбродных словесных турниров, в которых так искусны парижанки.
– Ну, – сказала маркиза Диане, – как вы его находите?
– Это очаровательное дитя, он только что вышел из младенчества. Право, и на этот раз предстоит, как всегда, победа без борьбы.
– Можно прийти в отчаяние, – сказала г-жа д'Эспар, – но есть средство.
– Какое?
– Позвольте мне стать вашей соперницей.
– Как вам угодно, – ответила княгиня, – я приняла решение. Талант есть свойство мозга, и я не знаю, каково тут участие сердца, об этом мы поговорим после.
Выслушав эту загадочную фразу, оставшуюся неразгаданной, г-жа д'Эспар вернулась к обществу, не подав и виду, что могла бы обидеться на это «как вам угодно», и не полюбопытствовала узнать, к чему приведет сегодняшняя встреча. Княгиня оставалась еще около часа, она сидела на козетке у огня в позе, преисполненной томности и непринужденности, какую Дидоне придал на своей картине Герен, слушала разговор гостей как человек, погруженный в размышления, взглядывала по временам на Даниеля, не скрывая восхищения, которое, впрочем, не выходило за пределы приличия. Как только подали карету, она исчезла, обменявшись рукопожатием с маркизой и кивнув головой г-же де Монкорне.
В течение всего вечера не было речи о княгине. Гости наслаждались тем своеобразным возбуждением, в котором находился д'Артез, развернувший перед ними сокровища своего ума. Несомненно, в лице Растиньяка и Блонде он встретил достойных собеседников, не уступавших ему в широте взглядов. Что до обеих женщин, они давно слыли самыми остроумными в высшем свете. Вечер оказался поэтому как бы отдыхом в оазисе, редкой удачей, которую вполне оценили эти люди, обычно стесненные приличиями света, требованиями салонов и политики. Существуют избранники, играющие среди людей роль благодатных светил, чей блеск освещает умы и чьи лучи согревают сердце. Д'Артез принадлежал к их числу. Писатель, достигший высот и там пребывающий, привыкает размышлять обо всем и порой забывает, что в свете нельзя всего говорить; ему невозможно обладать сдержанностью людей, постоянно бывающих в свете, но так как вольности, которые он позволяет себе, почти всегда отмечены печатью самобытности, никто на них не сетует. Эта свежесть, столь редкая в талантах, эта живость, исполненная простоты, сообщавшая облику д'Артеза столь благородную оригинальность, придали вечеру необыкновенное очарование. Д'Артез вышел вместе с бароном де Растиньяком, и тот проводил его домой. Разговор совершенно естественно зашел о княгине. Барон спросил д'Артеза, как понравилась ему княгиня.
– Мишель не случайно любил ее, – ответил д'Артез, – это необыкновенная женщина.
– Весьма необыкновенная, – насмешливо возразил Растиньяк. – По вашему голосу я слышу, что вы ее уже любите; не пройдет и трех дней, как вы будете у нее, и я достаточно знаю парижан, чтобы предвидеть, что между вами произойдет. Ну что ж! Я только умоляю вас, дорогой мой Даниель, не вмешивайте в ваши отношения своих денежных интересов. Любите княгиню, если чувствуете любовь к ней в вашем сердце, но помните о вашем состоянии. Она никогда ни у кого не взяла и не попросила ни одного ливра, для этого она слишком графиня д'Юкзель и слишком княгиня Кадиньян; но, насколько мне известно, помимо собственного состояния, весьма значительного, она растратила еще несколько миллионов. Как? почему? каким способом? никто, да и она сама, этого не знает. Я был тринадцать лет назад свидетелем того, как она за полтора года поглотила состояние одного премилого молодого человека и одного старого нотариуса.
– Тринадцать лет назад! – сказал д'Артез. – Сколько же ей лет?
– Вы разве не видели за столом ее сына, герцога де Мофриньеза? – ответил, смеясь, Растиньяк. – Молодому человеку девятнадцать лет. А девятнадцать и семнадцать составляют…
– Тридцать шесть! – воскликнул пораженный писатель. – Я бы дал ей двадцать.
– Она возражать не будет, – сказал Растиньяк, – но не беспокойтесь на этот счет; в ваших глазах ей всегда будет двадцать лет. Вы войдете теперь в мир самый фантастический. Вот и ваш дом. Покойной ночи, – сказал барон, заметив, что карета въехала на улицу Бельфон, где находился красивый особняк д'Артеза, – мы увидимся на этой неделе у мадмуазель де Туш.
Д'Артез позволил любви проникнуть в свое сердце, следуя примеру нашего дяди Тоби, то есть не оказывая ей ни малейшего сопротивления; его обожание исключало критику, восхищение было беспредельным. Княгиня, это прекрасное создание, одно из самых замечательных творений чудовищного Парижа, где все возможно как в отношении добра, так и в отношении зла, сделалась для него, – как бы ни опошлили несчастья нашего времени это слово, – ангелом во плоти. Чтобы понять внезапное превращение, которое пережил этот знаменитый писатель, нужно знать, в каком состоянии невинности одиночество и постоянный труд оставляют сердце и насколько любовь, сведенная к простой потребности и ставшая в тягость от общения с низкой женщиной, развивает желание и мечты, возбуждает сожаления и порождает необычайные чувства в самых высоких сферах души. Д'Артез был, в сущности, мальчишка, школьник – и это угадала проницательность княгини. Но почти такое же озарение совершилось в душе красавицы Дианы. Наконец-то она встретила человека незаурядного, о котором мечтают все женщины, пусть бы они и собирались сделать из него свою игрушку; авторитет, которому они согласны повиноваться, хотя бы ради удовольствия подчинить его себе; она нашла наконец исключительный ум, соединенный с непосредственностью сердца, которое еще не знало страсти; и, наконец, ей выпало необыкновенное счастье увидеть все эти богатства, заключенные в привлекательную форму. Д'Артез казался ей красивым, может быть, даже он и был таким. Несмотря на то что он приближался к критическому для мужчины возрасту – ему было тридцать восемь лет, – д'Артез сохранил еще свежесть молодости благодаря умеренной и целомудренной жизни, которую он вел, и, как все кабинетные люди и государственные мужи, отличался лишь умеренной полнотой. В юные годы в нем находили некоторое сходство с молодым Бонапартом. Это сходство еще сохранилось, насколько человек с черными глазами и волосами густыми и темными может походить на этого голубоглазого и русоволосого монарха; пламенное и благородное честолюбие, ранее горевшее в глазах д'Артеза, теперь как бы смягчилось под влиянием успеха. Думы, отягчавшие раньше его чело, теперь расцвели, лицо, прежде худощавое, пополнело. Те желтые оттенки, которые в молодые годы нужда накладывала на его лицо как отпечаток страстей, постоянно напрягающих свои силы в непрерывной и изнурительной борьбе, теперь сменились золотистыми тонами благополучия. Если вы внимательно вглядитесь в прекрасные лица античных философов, вы всегда подметите в них отклонения от совершенного типа человеческого лица, сглаженные, однако, привычкой к размышлению и постоянным спокойствием, столь необходимым для умственных занятий, и это определяет их своеобразие. Лица, наиболее полные тревоги, как лицо Сократа, приобретают в конце концов безмятежность почти божественную. Черты лица д'Артеза отличались величавой простотой и сочетались с выражением добродушия, детской непринужденности, трогательной благожелательности. Ему чужда была та всегда лживая вежливость, которой люди самые воспитанные и самые любезные пользуются в свете, чтобы придать себе качества, зачастую у них отсутствующие, и которая оскорбляет тех, кого они ввели в заблуждение. Ему, жившему отшельником, случалось иногда нарушать правила света; но странности его никогда никого не оскорбляли, делая еще более привлекательной его приветливость, – свойство людей, богато одаренных, которые умеют скрыть свое превосходство, не возвышаясь над уровнем окружающих, как Генрих IV, подставлявший свою спину детям, своим умом делившийся с глупцами.
Вернувшись к себе, княгиня точно так же не спорила с собой, как и д'Артез не защищался против ее чар. Все для нее свершилось: она, при всем своем опыте и всем своем неведении, полюбила. Если она и задавала себе вопрос, то лишь для того, чтобы спросить, заслужила ли она подобное счастье и чем угодила она небу, которое послало ей такого ангела. Она захотела быть достойной этой любви, ее увековечить, сделать ее навсегда своим достоянием и тихо окончить свою жизнь красивой женщины в смутно предвосхищаемом раю. Что до попыток сопротивляться, мелочных уступок, кокетства – она об этом даже не подумала. Занимало ее совершенно иное! Она поняла величие людей талантливых, угадала, что они не подчиняют избранных женщин обычным законам. Вот почему, в силу одного из тех мгновенных прозрений, какие свойственны женщинам с незаурядным умом, она решила уступить сразу, как только в нем заговорит желание. Насколько она по этой единственной встрече могла узнать характер д'Артеза, она подозревала, что желание это скажется не так быстро и даст ей время предстать той, кем она хотела, кем она должна была предстать в глазах такого божественного любовника.
Здесь начинается одна из тех неведомых комедий, что раздвигают наши представления о границах испорченности и разыгрываются в глубинах совести с участием двух существ, одно из которых становится жертвой обмана другого, одна из тех мрачных и комических драм, рядом с которой и «Тартюф» – сущая безделица, однако же они не относятся к области сцены и оказываются вполне естественными, легко объяснимыми, как следствие необходимости, хотя все в них – необыкновенно; это – страшные драмы, которые следовало бы назвать изнанкой порока. Княгиня начала с того, что послала купить сочинения д'Артеза, так как не читала из них ни строки; и тем не менее она целых двадцать минут рассуждала с ним о них – и без единого промаха! Теперь она прочла все. Затем она захотела сравнить прочитанное с тем, что было лучшего в современной литературе. В день, когда д'Артез пришел навестить княгиню, голова ее была переутомлена усердным чтением. Готовясь каждый день к этому визиту, она облеклась в многозначительный наряд, наряд, выражающий мысль, с которой невольно соглашаются глаза, хотя бы оставались непонятными смысл его и цель. Взору представлялось гармоническое сочетание серых тонов, нечто вроде полутраура, – прелесть, полная непринужденности, одежда женщины, которую к миру, где она томится, привязывают лишь естественные узы, может быть, чувства матери. Все в ней говорило о каком-то отвращении к жизни, которое, впрочем, не доводило ее до самоубийства, – она как бы лишь заканчивала положенный ей срок земной каторги. Княгиня встретила д'Артеза как женщина, ожидавшая его, и так, как будто он уже сто раз у нее бывал; она, оказывая ему честь, обращалась с ним как со старым знакомым и одним жестом ободрила его, указав на диванчик, где он мог сесть, пока она не закончит начатое письмо. Разговор завязался самым обыденным образом: говорили о погоде, о нынешнем кабинете, о болезни де Марсе, о надеждах легитимистского лагеря. Д'Артез был абсолютистом, княгиня не могла не знать образа мыслей человека, который заседал в палате в числе пятнадцати или двадцати депутатов, представлявших легитимистскую партию; она нашла повод рассказать, как она одурачила де Марсе; затем, коснувшись преданности г-на де Кадиньяна королевской семье и сестре короля, она перешла к этой теме и привлекла внимание д'Артеза к князю.
– В его пользу говорят по крайней мере его любовь к своим покровителям и его преданность. Роль, которую он играет в обществе, утешает меня после всех страданий, что он причинил мне в нашей семейной жизни. Впрочем, – продолжала она, искусно оставляя разговор о князе, – разве вы, который знаете все, разве вы не замечали, что у мужчин бывают два обличия: одно – в домашнем быту, в обществе жены, в личной жизни, и это лицо – настоящее; тут нет ни маски, ни притворства, тут незачем прикидываться, они предстают такими, каковы они есть, и часто оказываются отвратительны; между тем люди посторонние, свет, салоны, двор, монарх, политические круги видят их великими, благородными, великодушными, в ризах добродетели, в убранстве красноречия, полными превосходнейших качеств. Какая злая шутка! И после этого иногда удивляются улыбке некоторых женщин, их пренебрежительному обращению с мужьями, их равнодушию…
Тут ее рука соскользнула с ручки кресла, и этот жест прекрасно дополнил ее недоконченную речь. Увидев, что д'Артез занят созерцанием ее гибкого стана, так красиво изогнувшегося в глубоком мягком кресле, любуется ее платьем и изящной маленькой складкой, игриво оттеняющей лиф, – одной из тех вольностей туалета, которые так идут к тонким фигурам, никогда не проигрывающим от нее, княгиня снова подхватила нить своих мыслей, точно она вела разговор сама с собой.
– Я не стану продолжать. Вы, писатели, добились того, что превратили в посмешище женщин, считающих себя непонятыми, неудачно вышедших замуж, разыгрывающих драмы и кокетничающих своими чувствами, что кажется и мне последней степенью мещанства. Надо либо склониться и покориться, тогда все этим сказано, либо противиться и забавляться. В обоих случаях следует молчать. Правда, я не сумела ни вовсе покориться, ни до конца устоять; но, может быть, в этом заключалась еще более серьезная причина для молчания. Как бессмысленны жалобы женщин! Если женщины не оказались более сильными, значит, у них не хватило ума, такта, тонкости, и они заслуживают своей участи. Разве они не королевы Франции? Они потешаются над вами, как хотят, когда хотят и сколько хотят.
Она поиграла флакончиком с духами, и это движение было очаровательно, столько в нем таилось женской дерзости и насмешливой веселости.
– Я нередко слышала, как какие-то ничтожные создания досадовали на то, что они женщины, и желали быть мужчинами, а я всегда с сожалением смотрела на них, – продолжала она. – Если бы я могла выбирать, я все-таки предпочла бы остаться женщиной. Невелико удовлетворение от преимуществ, доставшихся благодаря силе и тому могуществу, которым вас наделяют вами же созданные законы. Но когда мы видим вас у наших ног, слышим вздор, который вы говорите, видим ваши безрассудные поступки, нет ли опьяняющего счастья в ощущении своей торжествующей слабости? Когда мы побеждаем, мы должны хранить молчание под страхом утратить свою власть. Побежденные женщины также должны молчать из гордости: молчание раба приводит в ужас господина.
Весь этот милый вздор она говорила таким кротко насмешливым, таким нежным голосом, сопровождая его такими кокетливыми движениями головы, что д'Артез, совершенно незнакомый с подобными женщинами, сидел, точно куропатка, завороженная взглядом охотничьей собаки.
– Прошу вас, сударыня, – сказал он наконец, – расскажите мне, как мужчина мог заставить вас страдать, и, право же, не сомневайтесь, – там, где всякая женщина была бы пошлой, вы останетесь непревзойденной, пусть вы даже и не обладаете таким даром речи, чтобы придать занимательность поваренной книге.
– Вы, кажется, проявляете торопливость на путях дружбы, – сказала княгиня со значительной интонацией, встревожившей д'Артеза и сделавшей его серьезным.
Разговор принял другое направление. Становилось поздно. Бедный гений ушел, огорченный тем, что, проявив любопытство, задел это сердце, и веря в то, что эта женщина необычайно много вынесла.
Княгиня же всю свою жизнь провела в развлечениях и была настоящим Дон-Жуаном в юбке, с той единственной разницей, что не к ужину пригласила бы она статую командора и уж, конечно, с ней бы справилась.
Невозможно продолжать это повествование, ничего не сказав о князе де Кадиньяне, более известном под именем герцога де Мофриньеза, – иначе пропадет вся соль чудесных выдумок княгини и люди, чуждые этому миру, ничего не поймут в страшной парижской комедии, которую она собиралась разыграть ради мужчины.
Господин герцог де Мофриньез, настоящий сын своего отца, князя де Кадиньяна, был худ и высок, обладал самой элегантной внешностью, отличался обходительностью и уменьем говорить прелестные остроты; он сделался полковником по милости божьей, хорошим солдатом – по милости случая, проявляя, впрочем, свою храбрость, как поляк, по всякому поводу, безрассудно и скрывая пустоту своего ума под прикрытием жаргона высшего общества. С тридцатишестилетнего возраста ему пришлось стать, как и господину его Карлу X, совершенно равнодушным к прекрасному полу; это было ему наказанием за то, что он, так же как и король, слишком умел нравиться в молодости. Кумир Сен-Жерменского предместья в продолжении восемнадцати лет, он, как и все наследники знатных родов, вел рассеянную жизнь, заполненную исключительно удовольствиями. Его отец, разоренный революцией, был восстановлен в должности по возвращении Бурбонов, получил управление одним из королевских дворцов, пенсию и оклады; однако, оставшись тем же знатным вельможей, как и до революции, старый князь очень быстро растратил это неверное состояние; суммы, полученные после издания закона о возмещениях, поглотила роскошь, заведенная им в его огромном особняке, который он только и вернул из всего своего имущества и большую часть которого занимала его сноха. Князь де Кадиньян умер незадолго до Июльской революции в возрасте восьмидесяти семи лет. Он разорил свою жену и находился долгое время в натянутых отношениях с герцогом де Наварреном, который женился первым браком на его дочери и с которым он с большим трудом рассчитался. Герцог де Мофриньез находился в связи с герцогиней д'Юкзель. Около 1814 года, когда г-ну де Мофриньезу исполнилось тридцать шесть лет, герцогиня, зная, что он на отличном счету при дворе, выдала за него, несмотря на его бедность, свою дочь, владевшую рентой в пятьдесят или шестьдесят тысяч ливров, не считая того, что ей должно было достаться после герцогини. Таким образом, мадмуазель д'Юкзель стала герцогиней, и мать ее знала, что она в своей супружеской жизни будет, по всей вероятности, пользоваться значительной свободой. Герцог вскоре после неожиданного счастья, позволившего ему обзавестись наследником, предоставил жене полную свободу действий и стал развлекаться по разным гарнизонам, проводя зимы в Париже, делая долги, всегда оплачиваемые его отцом, придерживаясь, однако, полнейшей снисходительности в делах семейных, предупреждая герцогиню за неделю о своем возвращении в Париж, обожаемый в полку, любимый дофином, ловкий царедворец, немножко игрок, всегда, впрочем, непринужденный и простой; герцогиня так и не могла убедить его взять в любовницы певицу из Оперы для соблюдения приличий и из уважения к ней, как шутливо говорила она. Герцог, имевший право занять после отца его должность, сумел понравиться обоим королям – Людовику XVIII и Карлу X, доказав этим, что он умел извлекать пользу из самого своего ничтожества; однако и все его поведение, вся его жизнь были покрыты самым блестящим лаком; его обращение, благородство манер, осанка были безукоризненны; даже либералы его любили. Ему не удалось продолжить традиции Кадиньянов, знаменитых, по словам старого князя, тем, что они разоряли своих жен: ведь герцогиня сама поглотила свое состояние. Все эти обстоятельства были настолько хорошо известны в придворных кругах и в Сен-Жерменском предместье, что в последние пять лет Реставрации всякого, кто о них заговорил бы, подняли бы на смех, как если бы тот стал сообщать о смерти Тюренна или Генриха IV. Поэтому ни одна женщина не отзывалась об очаровательном герцоге иначе, как с похвалой; разве не был он безупречным в отношении жены, да и можно ли было мужчине относиться к своей супруге лучше, чем это делал Мофриньез, не предоставил ли он ей свободно распоряжаться ее состоянием и не защищал и не поддерживал ли он ее во всех обстоятельствах жизни? Из гордости, по доброте или из рыцарских чувств, но как бы то ни было, г-н де Мофриньез не раз спасал герцогиню в таких случаях, когда погибла бы всякая другая женщина, несмотря на все ее связи, на влияние старой герцогини д'Юкзель, герцога де Наваррена, ее свекра и тетки ее мужа. Ныне князь де Кадиньян считается одним из достойнейших представителей аристократии. Возможно, что верность в трудных обстоятельствах представляет одну из наиболее славных побед, какую царедворец может одержать над собой.
Герцогине д'Юкзель было сорок пять лет, когда она выдала свою дочь за герцога де Мофриньеза, поэтому она давно уже без ревности и даже с интересом следила за успехами своего прежнего друга. Отдавая свою дочь за него замуж, герцогиня вела себя с исключительным благородством, что смягчило безнравственность этой сделки. Все же недружелюбие придворных лиц и в этом нашло пищу для насмешки: утверждали, что замечательное поведение герцогини не дорого стоит, хотя прошло уже почти пять лет, как она сделалась набожной и предавалась раскаянию, наподобие тех женщин, которым нужно замолить много грехов…
С каждым днем княгиня проявляла все более и более замечательные познания в литературе. Благодаря чтению, которому она и днем и ночью предавалась с отвагой, достойной величайших похвал, она не боялась приступить к обсуждению и самых трудных вопросов. Д'Артез, пораженный этим, не был способен заподозрить Диану д'Юкзель в том, что она повторяет вечером прочитанное ею утром, как это делают многие писатели, и принимал ее за женщину высокого ума. Эти беседы удаляли Диану от ее цели, и она попыталась вернуться на почву признаний, столь осмотрительно покинутую ее возлюбленным; но, после того как она один раз отпугнула его, ей было нелегко заставить человека подобного склада вновь вернуться к ним. Все же, после месяца этих литературных диспутов и красивых платонических диалогов, д'Артез осмелел и стал приходить ежедневно в три часа. Он удалялся в шесть, чтобы вновь появиться вечером в девять и с постоянством нетерпеливого любовника оставаться до двенадцати или часа ночи. К тому времени, когда приходил д'Артез, княгиня бывала одета с большей или меньшей изысканностью. Взаимная верность, заботливость друг о друге – все в них обличало чувства, в которых они не смели признаться, ибо княгиня отлично угадывала, что этот взрослый младенец боялся объяснения столько же, сколько она его желала. Все же почтительность, облекавшая постоянные немые признания д'Артеза, невыразимо нравилась княгине. Они оба не могли не чувствовать, что сближение их с каждым днем усиливается, они ни о чем не условливались заранее и не предрешали ничего, что могло бы препятствовать развитию их отношений, как это случается между влюбленными, когда одна сторона выставляет строгие требования, а другая – оказывает сопротивление искренне или только разыгранное из кокетства. Как и все неопытные люди в подобном положении, д'Артез был во власти волнующей нерешительности, вызванной силой желаний и страхом навлечь на себя неудовольствие. Когда молодая женщина разделяет эти чувства, она не в состоянии в них разобраться, но княгине и самой приходилось слишком часто вызывать их, чтобы теперь она не наслаждалась прелестью возникшего положения. Диане бесконечно нравилось это восхитительное ребячество, имевшее в глазах ее тем большее очарование, что она прекрасно знала, как положить ему предел. Она походила на великого художника, нарочно задерживающегося над едва набросанным этюдом в уверенности, что в минуту вдохновения он закончит картину, пока еще неясно вырисовывающуюся в его воображении. Не нравилось ли ей, заметив порыв д'Артеза, останавливать его, приняв величественную осанку? Она сдерживала тайные бури его юного сердца, вызывала и успокаивала их одним взглядом, протянув руку для поцелуя, или несколькими незначительными словами, произнесенными с волнением или нежностью в голосе. Благодаря этой искусной уловке, хладнокровно подготовленной и божественно разыгранной, она все глубже запечатлевала свой образ в душе этого незаурядного человека, которого ей нравилось превращать в младенца, доверчивого, простодушного, почти что глуповатого; стоило ей по-настоящему задуматься над этим, и она не могла не восхищаться его благородством, сочетаемым с такой невинностью. Эта игра, достойная опытной кокетки, незаметно привязывала ее самое к своему рабу. Наконец влюбленный Эпиктет вывел ее из терпения, и, уверившись, что она расположила его к величайшей доверчивости, она решила закрыть ему глаза повязкой самой непроницаемой.
Как-то вечером, когда пришел Даниель, княгиня сидела, облокотившись на маленький столик, и свет лампы как бы омывал ее красивую белокурую голову; она играла письмом, вертела его на скатерти. Дав д'Артезу как следует разглядеть этот листок, она его наконец сложила и спрятала за лиф.
– Что с вами? – сказал д'Артез. – Вы как будто чем-то встревожены?
– Я получила письмо от господина де Кадиньяна, – ответила она. – Как бы он ни был виноват передо мной, я, прочтя это письмо, все-таки подумала, что он в разлуке с семьей и с сыном, которого любит.
Эти слова, сказанные тоном самым задушевным, обличали ангельскую чувствительность. Д'Артез был растроган до последней степени. Любопытство любовника едва ли не превратилось в любознательность психолога или литератора. Ему захотелось узнать, на какое величие души способна эта женщина, до каких пределов простирается ее дар всепрощения, и убедиться в том, что эти светские создания, обвиняемые в легкомыслии, в черствости сердца, себялюбии, могут быть ангелами. Голос его слегка дрожал, когда, вспомнив, что раз уж он пытался познать это небесное сердце и был отвергнут, он взял руку прекрасной Дианы, нежную, прозрачную руку с тонкими, точеными пальцами, и спросил:
– Не достаточно ли теперь окрепла наша дружба, чтобы вы могли рассказать мне о ваших испытаниях? Не потому ли вы задумались, что вспоминаются старые скорби?
– Да, – ответила она, и слово это прозвучало, как самая нежная нота, когда-либо извлеченная из флейты Тюлу.
Она снова погрузилась в задумчивость, и глаза ее заволоклись дымкой. Даниель, проникнутый торжественностью минуты, находился в тревожном ожидании. Фантазия поэта заставляла его видеть как бы облака, которые медленно рассеивались перед ним, раскрывая святилище, где ему предстояло лицезреть закланного агнца у ног господних.
– Так что же? – сказал он мягким и тихим голосом.
Диана взглянула на этого покорного просителя, затем потупила взор и опустила веки с видом самым целомудренным. Надо было быть чудовищем, чтобы заподозрить хоть тень лицемерия в том пленительном движении, каким лукавая княгиня вновь подняла свою очаровательную головку, еще раз пристально посмотрев в молящие глаза этого великого человека.
– Можно ли мне? И должна ли я? – промолвила княгиня, не удержавшись от жеста, в котором была нерешительность, и глядя на д'Артеза с такой божественной и мечтательной нежностью. – Мужчины так мало верят подобным вещам. И считают, что они не обязаны соблюдать тайну!
– Зачем же я здесь, если вы мне не доверяете? – воскликнул д'Артез.
– Ах! друг мой, – ответила она, вкладывая в этот возглас чудесный оттенок невольного признания, – когда женщина привязывается на всю жизнь, разве она способна рассчитывать? Речь не о том, что я могла бы вам отказать (а в чем бы я могла отказать вам?), но в том, что бы вы стали думать обо мне после того, как я все открою. Пусть я вам расскажу, в каком страшном положении очутилась я в мои годы, – но что подумаете вы о женщине, которая обнажила перед вами скрытые язвы брака, продала вам чужие тайны? Тюренн сдержал слово, которое дал ворам, – так не вправе ли мои палачи ожидать и от меня такой же безукоризненной честности?
– Давали ли вы кому-нибудь слово?
– Господин де Кадиньян не счел нужным потребовать от меня соблюдения тайны. Так вы хотите больше, чем мою душу? О, тиран! Вы желаете, чтобы я из-за вас поступилась своей честью, – сказала она, бросив д'Артезу такой взгляд, как будто это ложное признание было ей дороже жизни.
– Вы, стало быть, считаете меня за человека совершенно заурядного, если опасаетесь чего-либо дурного с моей стороны, – сказал д'Артез с плохо скрытой горечью.
– Простите меня, друг мой, – сказала она, взяв его руку в свои, разглядывая ее, с необычайной нежностью проводя по ней пальцами. – Я знаю, чего вы стоите. Вы рассказали мне всю вашу жизнь, она благородна, она прекрасна, она возвышенна, она достойна вашего имени; может быть, в ответ и я обязана поведать свою жизнь? Однако я боюсь упасть в ваших глазах, раскрыв тайны, которые относятся не только ко мне. К тому же вы, человек уединения и поэзии, вы, может быть, не поверите, что свет бывает так гнусен. Ах! сочиняя ваши драмы, вы и не знаете, как далеко их превосходит то, что случается в семьях, по видимости самых дружных. Вы не представляете себе глубины иных несчастий, скрытых под блестящей видимостью!
– Я знаю все, – воскликнул он.
– Нет, – продолжала она, – вы ничего не знаете. Скажите, вправе дочь предать свою мать?
Услышав эти слова, д'Артез почувствовал себя так, как человек, заблудившийся темной ночью в Альпах и заметивший, при первом проблеске утра, бездонную пропасть, над которой он занес ногу. Он с растерянным видом посмотрел на княгиню, ему стало холодно. Диана подумала, что и этот гений во власти предрассудка, но блеск его глаз ее успокоил.
– В конце концов, вы почти что стали моим судьей, – сказала она, всем своим видом выражая отчаяние. – Я могу говорить, потому что каждый, кто оклеветан, имеет право доказывать свою невиновность. Меня обвиняли, да и сейчас еще (если в свете вообще вспоминают бедную затворницу, покинувшую общество по его же настоянию!) обвиняют в таком легкомыслии, в стольких дурных вещах, что перед сердцем, которое готово мне дать приют, пусть будет мне позволено предстать в таком виде, в каком оно меня не отвергнет. Я всегда полагала, что попытки оправдаться только вредят, и поэтому считала недостойным объяснять свои поступки. Да и к кому я, впрочем, могла обратить свои слова? Такие тяжелые муки должно поверять лишь богу или кому-нибудь, кто близко к нему, – священнику либо своему второму «я». Ну что ж, если мои тайны не будут лежать в вашей груди, – сказала она, положив руку на сердце д'Артеза, – как они находились здесь (тут она чуть прижала пальцами верх своего лифа), вы, стало быть, не великий д'Артез и я ошиблась!
Слезу, увлажнившую глаза д'Артеза, Диана заметила сразу, но скользнула по ней взглядом так, что нельзя было и уловить движения ее зрачков. Так же проворны и четки движения кошки, хватающей мышь. Д'Артез, целых два месяца подчинявшийся строгому этикету, впервые посмел взять теплую и надушенную руку княгини, поднести ее к губам и покрыть ее всю, до самых ногтей, долгими поцелуями с таким утонченным сладострастием, что она, склонив голову, подумала, что по такому началу можно составить себе недурное мнение о литературе. Она решила, что любовь людей одаренных гораздо совершеннее, чем любовь фатов, светских людей, дипломатов и даже военных, не имеющих как будто другого занятия. Она была знатоком в таких вещах и успела убедиться в том, что характер любовника в известной мере проявляется в мелочах. Опытная женщина может прочесть свое будущее по мельчайшей черточке, как Кювье умел сказать, разглядывая отпечаток лапы на камне: эта лапа принадлежала животному такого-то размера, рогатому или безрогому, плотоядному, травоядному, земноводному и т.д., насчитывающему столько-то тысяч лет. Не сомневаясь, что она встретит у д'Артеза столько же изобретательности в любви, сколько он проявлял ее в своей манере письма, она сочла необходимым поднять его на высшую ступень страсти и упования. Она быстро, великолепным жестом, говорившим о глубоком волнении, отдернула руку. Скажи она: «Довольно! Вы хотите, чтобы я умерла!» – это прозвучало бы менее энергически. Одно мгновение она еще глядела в упор в глаза д'Артеза, и в этом взгляде заключались и счастье, и стыдливость, и робость, и доверие, и томление, и смутное желание, и целомудрие девственницы. О! В эту минуту ей было всего лишь двадцать лет! Но не забывайте: чтобы подготовить эту забавную сцену обольщения, она прибегла к помощи всего своего поразительного искусства одеваться и теперь сидела в кресле, подобная цветку, готовому распуститься под первой лаской солнца. Лживая ли, искренняя ли, – но она пьянила Даниеля.
Если позволительно выразить личное мнение, признаемся, что было бы восхитительно как можно дольше поддаваться такому обману. Конечно, Тальма на сцене нередко превосходил природу. Но не была ли и княгиня де Кадиньян самой великой актрисой своего времени? Этой женщине не хватало лишь внимательного зрительного зала. К несчастью, во времена, волнуемые политическими бурями, женщины скрываются – им, как водяным лилиям, необходимы безоблачное небо и нежнейшие зефиры, чтобы расцвести перед нашим восхищенным взором!
Час настал, и Диана должна была опутать этого великого человека сетью заранее подготовленного, хитро сплетенного романа, а ему предстояло выслушать ее, как новообращенный первых веков христианства внимал наставлению апостола.
– Друг мой, моя мать, еще поныне живущая в Юкзеле, выдала меня замуж в семнадцать лет, в 1814 году (вы видите, какая я старая!), за господина де Мофриньеза не из любви ко мне, а из любви к нему. Это была ее благодарность человеку – единственному, кого она любила, – за все счастье, которое он ей дал. О! Не удивляйтесь такой чудовищной сделке, подобные ей встречаются часто. У многих женщин чувства любовницы сильнее материнских чувств, как большинство женщин бывает лучшими матерями, нежели женами. Эти два чувства, любовь и материнство, такие, какими их сделали наши нравы, очень часто борются между собой в сердце женщины, и, если они не одинаково сильны, одно из них по необходимости умирает, благодаря чему некоторые исключительные женщины составляют славу нашего пола. Человек с вашим талантом должен это понимать, и, если такое положение вещей поражает глупцов, оно не становится от того менее истинным и – я разовью эту мысль дальше – объясняется различием характеров, темпераментов, привязанностей, положений. Например, я в эту минуту, после двадцати лет несчастий, разочарований, клеветы, тяжких невзгод, пустых развлечений, не бросилась бы я разве к ногам человека, который полюбил бы меня искренне и навсегда? И что же? Разве свет не осудит меня? А все-таки неужели двадцать лет страданий не оправдают тот десяток лет, который я еще проживу, оставаясь красивой, если я отдам их святой и чистой любви? Конечно, этого не будет, и я не настолько наивна, чтобы преуменьшать свои заслуги перед богом. Бремя палящей жары я несла в летний день до заката, я завершу свой подвиг и награду свою заслужу…
«Ангел!» – подумал д'Артез.
– Все же я никогда не питала неприязни к герцогине д'Юкзель за то, что она любила господина Мофриньеза больше, чем бедную Диану, которую вы перед собой видите. Мать моя видела меня очень мало, она меня забыла; но она дурно поступила со мною как женщина с женщиной, а то, что дурно между женщинами, становится чудовищным в отношениях матери и дочери. Матери, подобные герцогине д'Юкзель, ведут такой образ жизни, что дочерей они вынуждены держать вдали от себя. Меня вывезли в свет лишь за две недели до моей свадьбы; можете судить о моей невинности! Я ничего не знала; я была не способна разгадать тайные причины этого союза. У меня было хорошее состояние: шестьдесят тысяч ливров годового дохода от лесных угодий в Ниверне, возле моего прекрасного замка д'Анзи, – революционеры забыли или не смогли его продать; господин де Мофриньез был обременен долгами. Если позднее я и узнала, что значит иметь долги, то в то время я, при моем незнании жизни, и не догадывалась об этом. Мое состояние помогло уладить дела моего мужа. Господину де Мофриньезу было тридцать восемь лет, когда я вышла за него замуж, но ему следовало бы считать прожитые годы один за два, как военные люди считают годы, проведенные в походах. О! ему было семьдесят шесть лет! Мать моя и в сорок сохраняла еще свои притязания, и я подверглась двойной ревности. Как я жила десять лет?.. Ах! Если бы вы знали, что выстрадала эта бедная хрупкая женщина, возбудившая столько подозрений! Быть под охраной матери, ревнующей к своей дочери! Боже!.. Вам, пишущим драмы, никогда не придумать драмы такой мрачной, такой жестокой! Насколько я знаю литературу, драма представляет обычно последовательный ряд действий, речей, движений, устремляющихся к катастрофе; но то, о чем я вам рассказываю, – самая страшная катастрофа, к тому же непрерывно длящаяся! Это какая-то лавина, упавшая на вас утром, обрушивающаяся на вас вечером и снова повторяющаяся на следующий день. Я холодею, рассказывая сейчас об этом и вспоминая о подземелье без выхода, холодном и темном, в котором я жила. Если уж все вам рассказать, то и рождение моего бедного сына, впрочем, похожего на меня, как две капли воды… вас должно было поразить это сходство со мной? У него мои волосы, мои глаза, мой подбородок, мои зубы… И что же! его рождение – случайность или следствие сговора моей матери и моего мужа. Я долго после свадьбы сохраняла невинность, мой муж покинул меня на следующий же день, и я сделалась матерью, не будучи женой. Герцогине нравилось держать меня как можно дольше в состоянии неведения, а у матери перед дочерью огромные преимущества, чтобы достигнуть такой цели. Я, бедное создание, выросшее в монастыре, подобно мистической розе, не имела представления о супружеской жизни, а позднее развитие позволило мне считать себя вполне счастливой; я радовалась добрым отношениям и согласию в нашей семье. Наконец первые радости материнства совершенно отвлекли меня от мыслей о моем муже, который мне совсем не нравился и ничего не делал, чтобы стать мне приятным, радости эти были тем более сильными, что я не подозревала о других. Мне столько твердили об уважении, которое мать должна питать к себе самой. Впрочем, молодые девушки всегда любят играть в маму. Ребенок заменяет тогда куклу. Обладать в том возрасте таким дивным цветком, а ведь Жорж был чудо как хорош! Как тут можно думать о свете, когда наслаждаешься счастьем кормить маленького ангела и ходить за ним! Я обожаю детей, когда они совсем маленькие, беленькие и розовые. О! я видела только своего сына, я жила только им, я не давала прислуге его одевать, раздевать, перепеленывать. Эти заботы, такие утомительные, когда у матери куча детей, были для меня лишь удовольствием. Но я не такая уж простушка, и как бы ни старались завязать мне глаза, через три или четыре года я стала понемногу прозревать. Можете себе представить, каково было мое пробуждение в 1819 году, через четыре года после свадьбы? «Братья-враги» – идиллия по сравнению с борьбой матери и дочери, если они поставлены в то положение, в каком оказались мы с герцогиней; тут я им обоим, ей и моему мужу, бросила вызов открытым кокетством, о котором заговорил весь свет… Бог весть как это случилось! Вы поймете, мой друг, что мужчины, из-за которых я была заподозрена в легкомыслии, имели для меня ценность кинжала, которым пользуются, чтобы ударить врага. Поглощенная мыслью о мщении, я и не замечала, что сама себя раню. Моя детская невинность мешала мне догадаться, что меня считают испорченным созданием, самой гадкой светской женщиной. Свет чрезвычайно глуп, чрезвычайно слеп, чрезвычайно невежествен; он проникает лишь в тайны, его развлекающие или удовлетворяющие его злорадству; но он закрывает глаза, чтобы не видеть вещи величественные и благородные. Все же мне кажется, что в это время и выражение моего лица, и взгляды, которые я бросала, говорили о возмущенной невинности, у меня вырывались жесты, которые составили бы находку для большого художника. Наверно, балы озарялись бурями моего гнева, потоками моего презрения. Ненужная поэзия! Все эти возвышенные поэмы создаются лишь в миг возмущения, что охватывает нас в двадцать лет! Позднее, под гнетом усталости, уже не возмущаешься, порок более не поражает, становишься малодушной, всего пугаешься! А я? Что ж! я неслась, неслась без оглядки! Мною была разыграна самая глупая роль на свете: я несла бремя преступлений, не получая выгоды от них. Мне доставляло такое удовольствие ронять себя в мнении общества! О! я прибегала к детским хитростям. Я поехала в Италию с молодым безумцем и бросила его, как только он заговорил о любви; но когда я узнала, что он погубил себя ради меня (он совершил подлог, чтобы достать денег), я полетела его спасать. Моя мать и мой муж, знавшие про эти обстоятельства, держали меня в узде, словно расточительницу. На этот раз я обратилась к королю. Людовик Восемнадцатый, этот бессердечный человек, был тронут: он дал мне сто тысяч франков из своих личных средств. Так был спасен из пропасти, куда он бросился ради меня, маркиз д'Эгриньон, молодой человек, которого вы, может быть, встречали в обществе, – он в конце концов нашел весьма богатую невесту. Эта история, причина которой мое легкомыслие, заставила меня задуматься. Я увидела, что первая становлюсь жертвой своего мщения. Свет был на стороне моей матери, моего мужа, моего свекра, и они, казалось, потакали моим безумствам. Моя мать, знавшая, что я слишком горда, слишком благородна, слишком д'Юкзель, чтобы вести себя недостойно, пришла наконец в ужас от того зла, которое мне причинила. Ей было тогда пятьдесят два года, она покинула Париж и поселилась в Юкзеле. Теперь она раскаивается в своих ошибках и искупает их преувеличенной набожностью и безграничной привязанностью ко мне. Но в 1823 году она оставила меня одну с господином де Мофриньезом. О! мой друг, вы, мужчины, не можете знать, что такое одряхлевший человек, пользовавшийся когда-то успехом. Каково жить с человеком, который привык к обожанию и, не находя у себя дома ни фимиама, ни кадильниц, умер для всего и от этого становится ревнив! Когда господин де Мофриньез стал принадлежать лишь мне, я захотела быть хорошей женой; но я натолкнулась на величайшие трудности: желчный характер, все причуды бессилия, придирчивость ограниченности, тщеславие самодовольства, короче говоря, близость с этим человеком представляла самое томительное наказание в мире. Он обращался со мной, как с маленькой девочкой. Ему нравилось унижать по всякому поводу мое самолюбие, подавлять меня всей тяжестью своей житейской опытности, доказывать мне мое круглое невежество. Он оскорблял меня беспрерывно. Он сделал все, чтобы я его возненавидела, и дал мне право ему изменять; но все-таки три или четыре года меня обманывали мое сердце и желание поступать хорошо. А известно ли вам и то гнусное слово, которое заставило меня совершить и другие безумства? Можете ли вы себе представить всю чудовищность светской клеветы! «Герцогиня де Мофриньез вернулась к своему мужу», – говорили в свете. «Полноте! она это сделала от развращенности, воскресить мертвого – это тоже торжество, только этого ей еще недоставало», – так ответила моя лучшая подруга, та самая родственница, у которой я имела счастье встретить вас.
– Госпожа д'Эспар! – воскликнул Даниель, сделав брезгливый жест.
– О! Я ее простила, мой друг; к тому же это очень остроумно сказано, и я, может быть, сама повинна в эпиграммах еще более жестоких по адресу женщин столь же чистых, как и я сама.
Д'Артез вновь поцеловал руку этой святой женщины, которая так ужасно обрисовала свою мать, сделав из князя де Кадиньяна, вам знакомого, архиопасного Отелло, стала затем наговаривать на себя, себя же во всем обвиняя, и все только для того, чтобы придать себе в глазах доверчивого писателя ту девственность, которой и самая ограниченная женщина пытается во что бы то ни стало прельстить своего любовника.
– Вы понимаете, друг мой, что мое возвращение в свет наделало шума, и я захотела, чтобы он более не затихал вокруг меня. Я выдержала новые схватки, нужно было завоевать свою независимость и обезопасить себя со стороны господина де Мофриньеза. Теперь я уже из иных побуждений вела рассеянный образ жизни. Чтобы рассеяться, чтобы не видеть подлинной жизни за жизнью фантастической, я блистала, я устраивала празднества, я разыгрывала принцессу и наделала долгов. Дома я забывалась сном усталости, потом снова возрождалась для света, красивая, веселая, безрассудная; но в этой грустной борьбе фантазии с действительностью я разорилась. Мятеж 1830 года случился как раз тогда, когда я после этой жизни, подобной сказке из «Тысячи и одной ночи», встретила святую и чистую любовь, которую (я откровенна!) всегда мечтала познать. Согласитесь – не было ли это законным желанием для женщины, чье сердце, подавленное в силу стольких причин и событий, просыпается в такую пору, когда она чувствует себя обманутой, а видит вокруг себя столько женщин, счастливых в любви? О! Почему Мишель Кретьен держался так почтительно? И тут судьба посмеялась надо мной. Что можно сказать? В моем крушении я потеряла все, у меня не осталось никаких иллюзий; я отведала всех яств, кроме одного, но тут у меня уже нет более ни охоты, ни сил. Наконец, когда я оказалась вынужденной покинуть свет, он утратил для меня всякое очарование. В этом сказывается рука провидения, так же как и в той бесчувственности, что подготавливает нас к смерти (она сделала жест, выражавший благочестивое смирение). Все тогда послужило мне на пользу, – продолжала она, – бедствия, постигнувшие монархию, помогли мне похоронить себя под ее обломками. Мой сын служит мне во многом утешением. Материнская любовь заменяет нам все другие чувства, в которых мы обмануты! И свет еще удивляется моему затворничеству – а я в нем нашла блаженство. О! Если бы вы знали, как счастливо это бедное создание, которое вы видите перед собой! Жертвуя всем для моего сына, я забываю о радостях, неведомых мне и навсегда мне недоступных. Кто мог бы подумать, что жизненный опыт княгини де Кадиньян сводится к одной неприятной брачной ночи, а все приключения, приписываемые ей, – к вызову, который она, девочка, бросила двум сердцам, объятым безобразной страстью? Да никто. Теперь же я всего боюсь. Я, без сомнения, оттолкну и настоящее чувство, чью-нибудь подлинную и чистую любовь, помня о стольких обманах, о стольких несчастьях, как богатые люди, обманутые плутами, которые притворялись несчастными, отвергают добродетельную нужду из отвращения к благотворительности. Все это ужасно, не правда ли? Но поверьте мне, то, что я вам рассказываю, – судьба многих женщин.
Последние слова сказаны были тоном легким и шутливым, напоминавшим о том, что перед вами – женщина светская и насмешливая. Д'Артез был ошеломлен. В его глазах люди, посылаемые судьями на каторгу – иной за убийство, иной за кражу с отягчающими обстоятельствами, иной – за подлог, казались теперь почти святыми по сравнению со светскими людьми. Эта страшная элегия, выкованная в арсенале лжи и закаленная в водах парижского Стикса, была исполнена с неподражаемой правдивостью. Писатель несколько мгновений созерцал ее, эту очаровательную женщину, опустившуюся в кресло, с подлокотников которого свисали ее руки – точно две капли росы, готовые скатиться с лепестка розы; она, казалось, была подавлена сделанным признанием, удручена своим собственным рассказом о пережитых горестях – словом, являла вид скорбного ангела.
– Судите же, – молвила она, внезапно выпрямившись и подняв руку; глаза ее метали молнии, пылая негодованием в память о двадцати годах, исполненных мнимой добродетели, – судите, как должна была подействовать на меня любовь вашего друга! Но по ужасной насмешке судьбы… а быть может, бога… ведь тогда мужчина, но мужчина, достойный меня, сознаюсь вам, не встретил бы у меня сопротивления, настолько я жаждала счастья! И что же, он умер, умер, спасая жизнь – кому?.. господину де Кадиньяну! Не удивляйтесь же, если видите меня задумчивой…
То было последней каплей. Бедный д'Артез не выдержал; он встал на колени, он припал головой к рукам княгини, он плакал, проливая те тихие слезы, какие пролили бы ангелы, если бы они умели плакать. Так как голова его была опущена, г-жа де Кадиньян могла разрешить себе лукавую улыбку торжества, мелькнувшую на ее губах, улыбку, какую мы увидели бы у обезьяны, выполнившей сложный фокус, если бы обезьяны смеялись… «Ну, теперь он мой», – подумала она.
И действительно он принадлежал ей.
– Но ведь вы… – проговорил он, приподнимая свою красивую голову и глядя на нее влюбленными глазами.
– Дева и мученица, – подсказала она, улыбаясь пошлости этой старой шутки, но придавая ей чарующий смысл благодаря улыбке, полной жестокой веселости. – Если вы видите, как я смеюсь, то это потому, что я думаю о княгине, которую знают в обществе, о той герцогине де Мофриньез, которой приписывают и де Марсе, и этого гнусного Максима де Трай, политического разбойника, и ничтожного глупца д'Эгриньона, и Растиньяка, и Рюбампре, и послов, и министров, и русских генералов, и – как знать? – всю Европу! Этот альбом, составленный мной в убеждении, что люди, восхищавшиеся мной, мои друзья, вызвал так много толков. О! Это ужасно. Не могу понять, как это я допускаю, чтобы мужчина лежал у моих ног: презирать их всех я должна была бы, да, презирать!..
Она поднялась и величественной поступью направилась к нише окна.
Д'Артез вновь сел на скамеечку у камина, не смея последовать за Дианой; но, глядя на нее, он заметил, что она вынула платок, но не высморкалась. Да и станет ли сморкаться истинная княгиня? Диана пыталась сделать невозможное, чтобы заставить поверить в свою чувствительность. Д'Артез решил, что его ангел плачет, он бросился к ней, обнял ее, прижал к сердцу.
– Нет, оставьте меня, – сказала она шепотом, еле слышным, – меня слишком одолевают сомнения, для меня уже все кончено. Примирить меня с жизнью – это превыше человеческих сил.
– Диана! Я, я буду любить вас! Любить за всю вашу загубленную жизнь!
– Нет, не говорите со мной так, – ответила она. – Я дрожу, и мне сейчас так стыдно, как будто я виновата в самых тяжких грехах.
В эту минуту она казалась невинной девочкой и все же была величественна, царственна, благородна, точно королева. Невозможно описать действие, которое эта игра, столь искусная, что она превращалась в чистую правду, производила на душу такого неискушенного и искреннего человека, как д'Артез. Великий писатель был нем от восхищения, он стоял в нише окна, не решаясь что-либо предпринять, ожидая хоть слова, меж тем как княгиня ожидала поцелуя; но он боялся оскорбить свое божество. Когда ей стало холодно, она возвратилась на прежнее место и уселась в кресло; у нее мерзли ноги.
«Это протянется долго», – думала она, глядя на Даниеля и всей своей позой, всей ясностью чела выражая недосягаемость добродетели.
«Да женщина ли она? – спрашивал себя этот вдумчивый наблюдатель человеческого сердца. – Как с ней быть?»
Они просидели до двух часов утра, разговаривая о всяких пустяках, которым женщины незаурядные, вроде княгини, умеют сообщать необыкновенное очарование. Диана настаивала на том, что она слишком опустошена, слишком стара, слишком принадлежит прошлому; д'Артез же доказывал ей, в чем она, впрочем, была совершенно убеждена и сама, что кожа у нее самая нежная, самая бархатистая, самая белоснежная, самая благоуханная, что она молода и ее красота в расцвете. Они болтали, переходя от одного пустяка к другому, от одной мелочи к другой, приблизительно так: «Вы это думаете?» – «Да вы с ума сошли». – «Вот это значит желание». – «Через две недели вы увидите меня такой, какая я есть». – «В конце концов я приближаюсь к сорокалетнему возрасту. Можно ли любить такую старую женщину?» Красноречие д'Артеза, пылкое и мальчишески неуклюжее, было уснащено самыми преувеличенными эпитетами. Слушая, как этот остроумный писатель изрекает армейские глупости, княгиня сидела с растроганным видом, словно боясь проронить слово, но в душе смеясь.
Когда д'Артез очутился на улице, он спросил себя, не следовало ли ему быть менее почтительным. Он перебрал в своей памяти все эти странные признания, нами сильно сокращенные по необходимости, так как понадобилась бы целая книга, чтобы изложить их полностью во всем их медоточивом изобилии и передать мимику, сопровождавшую их. Проницательность этого человека, столь безыскусственного и глубокого, была введена в заблуждение безыскусственностью романа, глубиною его и всем тоном княгини.
«Это верно, – говорил он сам с собою, будучи не в состоянии заснуть, – в свете происходят такие драмы; свет скрывает подобные ужасы под цветами своей изысканности, под кружевом своего злословия, под остроумием своей болтовни. Но нам, кроме правды, ничего и не выдумать. Бедная Диана! Мишель предчувствовал ее загадку, он говорил, что под этим слоем льда скрыты вулканы! Бьяншон и Растиньяк правы: когда человек, полюбив женщину, чудесно воспитанную, умную, чуткую, может примирить вершины идеала и удовлетворенное желание, счастье его должно быть несказанно». И д'Артез принимался измерять глубину своей любви и находил ее беспредельной.
На следующий день, около двух часов, г-жа д'Эспар, уже более месяца не видевшая княгини и не получившая от нее за это время ни строчки, приехала к ней, движимая чрезвычайным любопытством. Ничто не могло быть забавнее, чем первые полчаса беседы этих двух лукавых существ. Диана д'Юкзель не меньше боялась завести разговор о д'Артезе, чем надеть желтое платье. Маркиза кружила около этого вопроса, как бедуин около богатого каравана. Диана забавлялась, маркиза досадовала. Диана выжидала, она хотела заставить служить себе свою подругу, сделать из нее свою гончую собаку. Из этих двух женщин, столь знаменитых в современном обществе, одна была сильнее другой. Княгиня стояла на голову выше маркизы, и та внутренне признавала это превосходство. В этом, быть может, и заключался секрет их дружбы. Более слабая прикрывалась своей лицемерной привязанностью, чтобы подстеречь час, так долго ожидаемый всеми слабыми, когда можно схватить сильного за горло и оставить на его теле след укуса, нанесенного с веселым сердцем. Диана это понимала. Весь свет был введен в заблуждение нежностями этих двух подруг. В ту минуту, когда княгиня почуяла, что приятельница вот-вот задаст вопрос, она сказала ей:
– Итак, моя дорогая, вам обязана я счастьем, огромным, совершенным, бесконечным, божественным.
– Что вы хотите сказать?
Помните, о чем мы три месяца тому назад говорили в этом садике на скамейке под кустом жасмина, греясь на солнце? О! Любить умеют только истинные таланты. К моему великому Даниелю д'Артезу я рада применить слова, сказанные герцогом д'Альбой Екатерине Медичи: «Голова одного лосося дороже голов всех лягушек».
– Теперь меня более не удивляет, что вы совсем исчезли, – сказала г-жа д'Эспар.
– Обещайте мне, мой ангел, не говорить ему ни слова про меня, если вы его увидите, – сказала княгиня, взяв маркизу за руку. – Я счастлива! О, счастлива свыше всякой меры, а вы знаете, что могут сделать в свете одно-единственное слово, одна шутка! В слово умеют вложить столько яда, что оно убивает! Если бы вы знали, как всю последнюю неделю я желала подобной страсти и для вас! Как сладко для нас, женщин, особенно после столь долгих исканий, закончить свою жизнь таким великолепным торжеством, опочить в любви пылкой, чистой, преданной, полной, цельной.
– Почему вы просите, чтобы я хранила верность лучшей моей подруге? – сказала г-жа д'Эспар. – Так вы считаете меня способной на злую шутку?
– Когда женщина владеет таким сокровищем, естественная боязнь его утратить внушает мысли, полные страха. Я говорю нелепости, дорогая, простите меня.
Через несколько минут маркиза ушла, и, глядя ей вслед, княгиня сказала про себя: «Как же она меня отделает! Уж лучше бы она сказала про меня все. Но чтобы ее избавить от труда похищать Даниеля, я ей пришлю его».
Почти сразу же – было три часа – пришел д'Артез. В середине занимательной беседы княгиня остановила его на полуслове и положила свою прекрасную руку на его рукав.
– Простите, друг мой, – сказала княгиня, прерывая его, – я могу забыть, а это хоть и может показаться пустяком, имеет первостепенное значение. Вы не были у госпожи д'Эспар с того дня, стократ благословенного, когда я вас встретила у нее; сходите к ней, не ради себя, не из вежливости, но для меня. Возможно, что она из-за вас сделалась моим врагом, если случайно узнала, что с тех пор, как мы у нее обедали, вы почти не покидали моего дома. К тому же, мой друг, я бы не желала, чтобы вы пренебрегали вашими светскими связями, занятиями и трудами. В том опять бы нашли повод оклеветать меня. Да и чего не скажут? Что я вас держу на привязи, я одна занимаю ваши мысли, я боюсь сравнений, я хочу, чтобы еще раз все заговорили обо мне, я принимаю все меры, чтобы не упустить своей победы, – ведь я знаю, что она последняя. Кто может отгадать, что вы мой единственный друг? Если вы любите меня так, как говорите, вы заставите свет поверить в то, что мы только брат и сестра. Вернемся же к нашему разговору.
Необычайная мягкость жестов, с какой эта очаровательная женщина поправляла на себе наряд, чтобы и в падении сохранить все свое изящество, навсегда покорила д'Артеза. Было что-то невыразимо тонкое и чуткое во всем ее обращении, трогавшее его до слез. Княгиня нисколько не подходила под мерку тех расчетливых мещанок, которые слишком мелочны, чтобы уступить сразу, до конца она проявляла величие беспримерное; ей не было надобности этого говорить – союз их был решен без всяких сделок. Время ему осуществиться – не вчера, не завтра, не сегодня, а тогда, когда оба они этого захотят, и не будет здесь бесчисленных покровов, какими женщины заурядные любят окутать то, что они называют «принесенной жертвой»; они, конечно, знают, сколько они должны потерять, меж тем как для женщин, уверенных, что они проиграть не могут, это праздник, где они торжествуют. В ее словах все было смутно, как обещание, сладостно, как надежда, и вместе с тем внушало уверенность, как обретенное право. Сказать ли? Подобное величие – удел лишь самых выдающихся и изощренных обманщиц, которые сохраняют свою царственность там, где другие женщины становятся покорными. Тут д'Артезу представилась возможность измерить расстояние между теми и другими. Княгиню никогда не покидали ее величественность и красота. Тайна подобного благородства заключается, может быть, в искусстве, с каким знатные дамы умеют отбрасывать покровы, и тут они походят на античные статуи: сохрани они хотя бы один лоскут, они показались бы бесстыдными. Мещанки же всегда стараются закутаться.
Вдохновляемый нежностью, исполненный самых прекрасных и добродетельных намерений, д'Артез послушался ее и отправился к г-же д'Эспар, ради него пустившей в ход все обольстительные чары своего кокетства. Маркиза остерегалась хоть единым словом обмолвиться д'Артезу о княгине и лишь пригласила его к обеду в один из ближайших дней.
В этот день д'Артез оказался в многолюдном обществе. Маркиза пригласила Растиньяка, Блонде, маркиза д'Ажуда-Пинто, Максима де Трай, маркиза д'Эгриньона, обоих Ванденесов, дю Тийе, одного из самых богатых банкиров Парижа, барона Нусингена, Натана, леди Дэдлей, двух самых коварных атташе посольств и кавалера д'Эспар, одного из самых глубокомысленных персонажей этого салона, главного пособника своей невестки в ее сложной политике.
Максим де Трай, смеясь, спросил д'Артеза:
– Вы часто видите княгиню де Кадиньян?
В ответ на этот вопрос д'Артез сухо кивнул головой. Максим де Трай был светским кондотьером, без стыда и чести, способным на все, он разорял женщин, привязавшихся к нему, заставлял их закладывать для него свои бриллианты, но свое поведение умел маскировать благодаря лоску, обаятельным манерам и сатанинскому уму. Он внушал всем равные страх и презрение, но так как ни у кого не хватало смелости порицать его и всюду его встречала самая отменная учтивость, то он не мог ничего заметить, либо делал вид, что ни о чем не догадывается. Графу де Марсе он был обязан тем предельно высоким положением, на какое он только мог притязать. Де Марсе, издавна знавший Максима, счел его способным для кое-каких секретных дипломатических поручений, которые он и давал ему. Тот всегда исполнял их превосходно. Д'Артезу в последнее время достаточно приходилось иметь дело с политикой, и он не мог не знать насквозь эту личность, однако у него одного хватало мужества громко выражать то, что другие только думали про себя.
– Это, ферно, из-за ней ви забиль палата, – сказал барон Нусинген.
– Ах! княгиня – одна из самых опасных женщин, с какими только рискует познакомиться мужчина, – осторожно заметил маркиз д'Эгриньон, – я ей обязан позором моей женитьбы.
– Опасная? – сказала г-жа д'Эспар. – Не говорите так о моей лучшей подруге. О княгине я всегда слышала и знаю только такие вещи, которые говорят о чувствах самых возвышенных.
– Пусть выскажется маркиза, – воскликнул Растиньяк. – Когда красивая лошадь сбрасывает седока, тот обнаруживает у нее всякие недостатки и продает ее.
Задетый этой шуткой, маркиз д'Эгриньон посмотрел на Даниеля д'Артеза и сказал ему:
– Надеюсь, отношения господина д'Артеза с княгиней не зашли так далеко, чтобы разговор о ней оказался неуместным.
Д'Артез промолчал. Д'Эгриньон, не лишенный остроумия, в ответ Растиньяку набросал в самых хвалебных словах портрет княгини, развеселивший гостей. Так как значение насмешек ускользало от д'Артеза, он наклонился к своей соседке, г-же де Монкорне, и спросил ее о смысле этих шуток.
– Кажется, за исключением вас, если судить по вашему доброму мнению о княгине, все приглашенные, говорят, пользовались ее благожелательностью.
– Могу вас заверить, что в этом суждении нет ни капли истины, – ответил Даниель.
– Но вот вам господин д'Эгриньон, першеронский дворянин, который тому двенадцать лет совершенно разорился для нее и чуть не попал на эшафот.
– Я об этом знаю, – сказал д'Артез. – Госпожа де Кадиньян спасла д'Эгриньона от суда присяжных, и вот как он сегодня благодарит ее.
Госпожа де Монкорне посмотрела на д'Артеза, почти растерявшись от любопытства и удивления, затем перевела взгляд на г-жу д'Эспар и сделала ей знак, словно говоря: «Да его околдовали!»
Во время этого короткого разговора г-жа д'Эспар защищала г-жу де Кадиньян, но защиту ее можно было уподобить громоотводам, притягивающим молнию. Когда д'Артез вновь прислушался к общему разговору, он услышал, как Максим де Трай произнес следующее изречение:
– У Дианы развращенность не следствие, а причина; может быть, ей она и обязана своими очаровательными качествами; она не ищет, ничего не выдумывает; самые утонченные выдумки она умеет выдать за вдохновение простодушной любви, и вы не в силах не поверить ей.
Эта резкая фраза, точно предназначенная для человека силы д'Артеза, прозвучала как приговор. Все отвернулись от княгини, казалось, она уже уничтожена. Д'Артез насмешливо посмотрел на г-на де Трай и д'Эгриньона.
– Самая большая вина этой женщины, – сказал он, – заключается в том, что она идет по стопам мужчин. Подобно им, она расточает состояния, принадлежащие женам, заставляет своих любовников обращаться к ростовщикам, присваивает приданые, разоряет сирот, продает с молотка старые замки, внушает и, может быть, совершает преступления, но…
Никогда еще ни одному из двух лиц, которым отвечал д'Артез, не приходилось слышать такой отповеди. Последнее «но» поразило всех обедавших, вилки замерли в воздухе, глаза попеременно устремлялись то на мужественного писателя, то на обвинителей княгини; все в зловещем молчании ждали развязки.
– Но, – сказал д'Артез с насмешливой легкостью, – у княгини де Кадиньян есть перед мужчинами одно преимущество: если кто-либо для нее подвергся опасности, она его спасает и ни о ком не говорит дурно. Почему бы среди всех женщин не найтись одной, которая позабавилась бы за счет мужчин, как мужчины забавляются за счет женщин? Почему бы прекрасному полу время от времени не платить им той же монетой?
– Гений сильнее остроумия, – сказал Блонде Натану.
Этот поток эпиграмм был в самом деле как огонь батареи, отвечающий пальбе из ружей. Тему разговора поспешно переменили. Ни граф де Трай, ни маркиз д'Эгриньон не были как будто расположены искать ссоры с д'Артезом. Когда подали кофе, Блонде и Натан подошли к писателю с поспешностью, которой никто не посмел последовать, настолько было трудно совместить восторг, вызванный его поведением, со страхом нажить себе двух могущественных врагов.
– Сегодня мы не впервые убеждаемся в том, что ваш характер в благородстве не уступает вашему таланту, – сказал Блонде. – Вы здесь вели себя не как человек, а как бог: не дать себя увлечь ни своему сердцу, ни своему воображению; не встать на защиту любимой женщины, когда от вас ждали этой ошибки, а она дала бы возможность торжествовать всем этим людям, снедаемым завистью к литературной славе… О! – позвольте мне сказать – это верх житейской дипломатии.
– Вы поистине государственный человек, – сказал. Натан. – Отомстить за женщину, в то же время и не защищая ее, – это не только трудно, но требует величайшего искусства.
– Княгиня – одно из главных лиц в легитимистской партии, так не является ли ее защита при любых обстоятельствах долгом каждого порядочного человека? – холодно ответил д'Артез. – То, что ею сделано для своих государей, могло бы извинить жизнь самую рассеянную.
– Он не открывает своей игры, – сказал Натан Эмилю Блонде.
– Словно княгиня этого стоит, – ответил присоединившийся к ним Растиньяк.
Д'Артез отправился к княгине, ожидавшей его с живейшей тревогой. Исход этого испытания, которому Диана сама способствовала, мог оказаться для нее роковым. Первый раз в жизни сердце этой женщины страдало, и она была как в лихорадке. Она не знала, на что решиться, если д'Артез поверит свету, который говорил правду, а не ей, которая лгала; ведь никогда еще не приходилось ей встречать характер столь прекрасный, человека такого цельного, душу столь открытую, совесть столь незапятнанную и держать это в своих руках. Только желание познать истинную любовь заставило ее сплести всю эту чудовищную ложь. Княгиня чувствовала, как эта любовь восходит в ее сердце, она уже любила д'Артеза; но она была обречена его обманывать, ибо хотела быть для него всегда бесподобной актрисой, разыгравшей перед ним весь спектакль. Услышав шаги Даниеля в столовой, она вздрогнула, и ее волнение достигло высшего предела. За всю свою жизнь, полную приключений, опасных для женщин ее круга, она еще не испытывала такого смятения и поняла теперь, что ставила на карту свое счастье. Глаза ее, обращенные в пространство, сразу оглядели д'Артеза; она видела его насквозь, она читала в его сердце; подозрение, подобное летучей мыши, даже не задело его своим крылом. И тогда у нее отлегло от сердца, радость едва не задушила Диану, счастье охватило ее; ведь нет такого существа, у которого не оказалось бы больше сил перенести горе, чем устоять в великой радости.
– Даниель, меня оклеветали, и ты за меня отомстил! – воскликнула она, поднявшись ему навстречу и открывая свои объятия.
Д'Артез стоял, глубоко пораженный этими словами, корни которых оставались для него скрытыми, пока княгиня не протянула к нему свои прелестные руки, не взяла его за голову и целомудренно не поцеловала в лоб.
– Как могли вы узнать?..
– О мой простодушный гений! Да разве ты не видишь, что я тебя люблю безумно?
С этого дня разговоры о княгине де Кадиньян и о д'Артезе прекратились. Княгиня получила в наследство от своей матери некоторое состояние, каждое лето она проводит на вилле в Женеве вместе с великим писателем и возвращается зимой на несколько месяцев в Париж. Д'Артез показывается только в палате, и его произведения появляются чрезвычайно редко. Развязка ли это? Да, с точки зрения людей умных; нет – для тех, кто хочет все знать.
Жарди, июнь 1839 г.
Комедианты неведомо для себя
Посвящается графу Жюлю де Кастеллан.
Леон де Лора, наш знаменитый пейзажист, принадлежит к одному из самых знатных семейств Русильона; семья эта, испанская по своему происхождению, хотя и славится древностью родословной, но уже лет сто как обречена терпеть вошедшую в поговорку бедность идальго. Явившись в Париж из департамента Восточных Пиренеев налегке, с одиннадцатью франками в кармане, Леон де Лора почти совсем забыл и невзгоды своего детства, и свою семью среди лишений, неизбежных в жизни начинающих живописцев, чье единственное богатство – воодушевляющее их призвание. Позднее заботы о славе и успехе совершенно вытеснили прошлое из его памяти.
Если вы следили за извилистым и причудливым течением наших «Этюдов», вам, быть может, запомнился некий Мистигри, ученик Шиннера, один из героев «Первых шагов» («Сцены частной жизни»), появляющийся и в других «Сценах». В 1845 году наш пейзажист, соперник Гоббемы, Рюисдалей, Лорренов, уже ничем не походил на того нищего, но резвого ученика, каким вы его знали. Он знаменит, он владелец прекрасного дома на Берлинской улице, расположенного недалеко от особняка Брамбур, где живет его друг Бридо, и совсем близко от дома его первого учителя Шиннера. В тридцать девять лет он – член Академии изящных искусств и кавалер ордена Почетного легиона, его годовой доход достигает двадцати тысяч франков, его картины ценятся на вес золота, и – что кажется ему более удивительным, чем приглашения на придворные балы, которые он иногда получает, – имя его, так часто повторявшееся в европейской печати за последние шестнадцать лет, проникло наконец в долину Восточных Пиренеев, где прозябают трое чистокровных Лора: старший брат Леона, его отец и престарелая тетка, сестра отца – девица Уррака-и-Лора.
По материнской линии у знаменитого художника остался один только двоюродный брат, племянник его матери, – человек лет пятидесяти, житель небольшого промышленного городка того же департамента. Этот двоюродный брат первый и вспомнил о Леоне. Лишь в 1840 году Леон до Лора получил от г-на Сильвестра Палафокс-Кастель-Газональ (именуемого запросто Газональ) письмо и ответил ему, что он именно тот самый Лора, то есть сын покойной Леони Газональ, жены графа Фердинанда Дидас-и-Лора.
Летом 1841 года кузен Сильвестр Газональ отправился уведомить именитое и безвестное семейство де Лора о том, что маленький Леон не уехал, как полагали, на Рио-де-ла-Плата и не умер там, как склонны были думать, а стал одним из самых талантливых художников французской школы; но этому они не поверили. Старший брат, дон Хуан де Лора, заявил, что кузен Газональ стал жертвой какого-нибудь парижского шутника.
Вышепоименованный Газональ давно уже собирался в Париж, чтобы следить за ходом процесса, который префект департамента Восточных Пиренеев вследствие несогласия изъял из ведения местного суда и перенес в Государственный совет. Провинциал вознамерился заодно проверить дело с письмом и потребовать у парижского художника объяснений его дерзости. Но когда Газональ, остановившийся в жалких меблированных комнатах на улице Круа-де-Пти-Шан, увидел дворец на Берлинской улице, он был ошеломлен. Узнав от слуг, что их хозяин путешествует по Италии, он тотчас же раздумал требовать объяснений и усомнился в том, соблаговолит ли столь знаменитый человек признать его своим родственником по материнской линии.
В течение 1843 и 1844 годов Газональ следил за ходом своего процесса. В эту тяжбу, связанную с вопросом о течении реки, об уровне воды, о сносе плотины, вмешались местные власти, поддерживаемые жителями прибрежной полосы, и она угрожала самому существованию его фабрики. В 1845 году Газональ считал процесс бесповоротно проигранным: секретарь докладчика Государственного совета, которому было поручено составить заключение по этому делу, доверительно сообщил ему, что заключение это отвергает доводы Газоналя; адвокат Газоналя также подтвердил эти сведения. Хотя Газональ командовал национальной гвардией в своем городке и был одним из самых оборотистых фабрикантов всего департамента, однако в Париже он чувствовал себя таким ничтожным, так был подавлен дороговизной жизни и самых пустяковых предметов, что смирнехонько сидел в своей жалкой гостинице. Лишенный солнца южанин ненавидел Париж и называл его «рассадником ревматизма». Подсчитывая расходы по процессу и своему пребыванию в столице, он давал себе слово по возвращении домой либо отравить префекта, либо наставить ему рога. В минуты уныния он клялся уложить префекта наповал; в веселые минуты согласен был удовольствоваться рогами.
Однажды утром, кончая завтракать и, по обыкновению, брюзжа, он сердито развернул газету и прочел: «Наш великий пейзажист Леон де Лора, месяц назад возвратившийся из Италии, выставит в Салоне несколько полотен; таким образом, выставка, по-видимому, будет блестящей…» Эти строки, которыми кончалась заметка, поразили Газоналя, словно их шепнул ему голос, подсказывающий удачливым игрокам, на какую карту ставить. Со свойственной южанам внезапной решимостью Газональ выскочил из гостиницы на улицу, прыгнул в кабриолет и помчался к своему двоюродному брату на Берлинскую улицу.
Леон де Лора через лакея передал кузену Газоналю, что приглашает его позавтракать с ним на следующий день в «Кафе де Пари», ибо в настоящий момент он чрезвычайно занят и не может принять его. Как истый южанин, Газональ поведал все свои горести лакею.
На следующий день в десять часов утра Газональ, не в меру расфранченный для столь раннего часа (он надел фрак василькового цвета с позолоченными пуговицами, сорочку с жабо, белый жилет и желтые перчатки), узнал от владельца «кофейни» – так в провинции называют кафе, – что господа художники обычно завтракают у него между одиннадцатью и двенадцатью часами; он целый час разгуливал по бульвару, дожидаясь своего амфитриона.
– Около половины двенадцатого, – так, возвратясь на родину, начинал он рассказ о своих приключениях, – двое парижан, самого что ни на есть обыкновенного вида, в простых длиннополых сюртуках, завидев меня на бульваре, разом крикнули друг другу:
– А вот и Газональ!
Второй парижанин был Бисиу, которого Леон де Лора прихватил с собой, чтобы подшутить над своим двоюродным братом.
– Не сердитесь на меня, друг мой! Я и есть ваш кузен! – воскликнул наш маленький Леон, обнимая меня, – рассказывал по возвращении Газональ своим друзьям. – Завтрак был великолепный. У меня помутилось в глазах, когда я увидел, сколько золотых монет потребуется для оплаты счета. Эти господа, видно, загребают золото лопатами. Ведь мой двоюродный брат дал официанту на чай тридцать су – дневной заработок рабочего.
За этим грандиозным завтраком было поглощено шесть дюжин остендских устриц, шесть отбивных котлет а-ля Субиз, цыпленок а-ля Маренго, майонез из омаров, уйма зеленого горошка, паштет с шампиньонами; все это было орошено тремя бутылками бордо и тремя бутылками шампанского; затем последовало изрядное количество чашек кофе и ликеры, не считая сладкого. Газональ был великолепен: он с пламенным негодованием бичевал Париж. Достойный фабрикант сетовал на то, что четырехфунтовые хлебы слишком длинны, дома слишком высоки, прохожие безучастны друг к другу, погода либо холодна, либо дождлива, фиакры дороги – и все это было столь остроумно, что оба художника прониклись к нему самой искренней дружбой и заставили его рассказать о своем судебном деле.
– Мой процесс, – сказал Газональ с характерным провансальским выговором, раскатисто произнося букву «р», – мой процесс – проще простого: они хотят заполучить мою фабрику. Я подрядил здесь болвана адвоката, которому каждый раз плачу по двадцать франков за то, чтобы он не дремал, – и всегда застаю его сонным… Этот слизняк разъезжает в карете, а я хожу пешком; он меня безбожно надувает; я только и делаю, что бегаю от одного к другому и вижу, что мне следовало бы обзавестись каретой… Здесь ведь уважают только тех, кто сидит, развалясь, в собственном экипаже!.. С другой стороны, Государственный совет – это сборище лентяев: они допускают, чтобы мелкие плуты, подкупленные нашим префектом, обделывали свои делишки… Вот вам мой процесс!.. Они зарятся на мою фабрику – что ж, они ее получат! Только потом пусть уж сами договариваются с моими рабочими; у меня их человек сто, и они дубинками заставят плутов отказаться от этой затеи…
– Постой, кузен, – прервал его художник. – Давно ты здесь?
– Уже два года. О! Префект дорого заплатит мне за этот спор; я лишу его жизни, а себя предам в руки правосудия…
– Кто из членов Государственного совета ведает этим отделом?
– Бывший журналист, которому грош цена, некто Массоль, и в этом – вся соль!
Парижане переглянулись.
– А докладчик?
– Еще больший бездельник. Докладчик Государственного совета, который что-то преподает в Сорбонне и пописывает в журналах… Я его глубоко презираю.
– Клод Виньон, – подсказал Бисиу.
– Он самый… – подтвердил южанин. – Массоль и Виньон – вот безмозглые представители вашей правительственной лавочки, трестальоны моего префекта.
– Ну, дело поправимое, – вставил Леон де Лора. – Видишь ли, кузен, в Париже все возможно: хорошее и дурное, справедливое и несправедливое. Тут все умеют сладить, разладить и снова наладить.
– К черту! Я здесь ни одной лишней секунды не останусь… это самое скучное место во всей Франции…
Беседуя, оба кузена и Бисиу прохаживались по широкой гладкой полосе асфальта, где от часу до двух мудрено не встретить хотя бы нескольких людей, о которых трубит в тот или иной рог стоустая молва. Некогда этим свойством обладала Королевская площадь, затем – Новый мост, теперь оно перешло к Итальянскому бульвару.
– Париж, – вновь обратился художник к своему двоюродному брату, – это инструмент, играть на котором надо умеючи. Если мы пробудем здесь еще минут десять, я дам тебе наглядный урок. Вот смотри, – воскликнул он, поднимая трость и указывая на двух женщин, выходивших из проезда Оперы.
– Это еще что такое? – удивленно спросил Газональ.
«Это» была старуха в шляпке, пролежавшей с полгода в витрине, в притязавшем на элегантность безвкусном платье, в полинялой клетчатой шали; по ее физиономии было видно, что она лет двадцать просидела в сырой каморке под лестницей, а по туго набитой сумке – что в обществе она занимает положение никак не выше бывшей привратницы. Рядом с ней шла совсем юная и хрупкая, тоненькая девушка; ее затененные черными ресницами глаза уже утратили выражение невинности, а бледность говорила о сильном утомлении. Но личико ее с красивым овалом было еще свежо, волосы великолепны, открытый лоб прекрасен, стройный стан – худощав; словом – еще недозрелый плод.
– Это крыса в сопровождении своей мамаши, – ответил Бисиу.
– Крыса? Что это значит?
– Такая крыса, – заметил Леон, дружески кивнув мадмуазель Нинетте, – может помочь тебе выиграть процесс!
Газональ подскочил на месте, но Бисиу крепко держал его под руку с той минуты, как они вышли из кафе, ибо находил, что физиономия южанина слишком раскраснелась.
– Крыса эта, у которой только что кончилась репетиция в Опере, спешит домой; там она наскоро перекусит и через три часа вернется в театр, чтобы переодеться, ибо сегодня понедельник, и вечером она выступает в балете. Нашей крысе тринадцать лет, она уже старая крыса. Года через два это создание будет, возможно, расцениваться в шестьдесят тысяч франков, она добьется всего или будет ничем, станет великой танцовщицей или простой фигуранткой, знаменитостью или обыкновенной содержанкой. Она учится танцевать с восьми лет; сейчас, сам видишь, она изнемогает от усталости: все утро она выворачивала себе кости в классе танцев – на репетиции, где проделывала упражнения, трудные, как китайская головоломка; вечером она опять в театре. Крыса – непременная принадлежность Оперы, она может стать прима-балериной, подобно тому как младший писец – нотариусом. Крыса – это надежда.
– Кто поставляет крыс? – спросил Газональ.
– Семьи привратников, бедняков, актеров, танцовщиков, – ответил Бисиу. – Лишь самая горькая нищета может заставить восьмилетнего ребенка подвергать свои ноги и суставы жесточайшим пыткам, может побудить девушку, из одного лишь расчета, хранить чистоту до шестнадцати, а то и до восемнадцати лет и быть неразлучной с отвратительной старухой, подобно прелестному цветку, корни которого обкладывают навозом. Перед вами вереницей пройдут дарования, большие и малые, артисты, уже известные и еще безвестные; это они каждый вечер воздвигают во славу Франции памятник, именуемый Оперой, – средоточие мощи, воли, гения, какое можно найти лишь в Париже.
– Я уже видел Оперу, – самодовольно заявил Газональ.
– Со скамьи на галерке, три франка шестьдесят сантимов билет, – отрезал Леон, – так же как ты видел Париж с улицы Круа-де-пти-Шан… ничего не понявши в нем… Что давали в Опере, когда ты там был?
– «Вильгельма Телля».
– Превосходно! – заметил художник. – Большой дуэт Матильды, наверно, тебе понравился. А как ты думаешь, чем занялась певица, вернувшись домой?
– Ну… чем?
– Поужинала двумя сочными бараньими котлетами, которые слуга держал для нее наготове…
– А, черт побери!
– Малибран – та подкреплялась водкой, и это убило ее. Да, вот еще что: ты уже видел балет; сейчас он снова пройдет перед тобой в скромном утреннем наряде; но ты и не подозреваешь, что твой процесс зависит от пленительных ножек, мелькающих здесь…
– Мой процесс?
– Смотри, кузен, вот – так называемая «фигурантка».
И Леон указал на одно из тех восхитительных созданий, у которых в двадцать пять лет за плечами опыт шестидесятилетних; они так хороши и уверены во всеобщем поклонении, что даже не считают нужным подчеркивать свою красоту. Высокая стройная фигурантка шла твердой поступью, смотрела надменным взглядом денди, туалет ее отличался дорого стоящей простотой.
– Это Карабина, – сказал Бисиу, по примеру Леона слегка кивнув головой, на что красавица ответила улыбкой. – Еще одна из тех женщин, которые могут сместить твоего префекта.
– Фигурантка! Да что ж это такое?
– Фигурантка – на редкость красивая крыса, которую мать, настоящая или подставная, продала в тот день, когда молодой танцовщице не удалось занять ни первого, ни второго, ни третьего места в балете. Тогда, по тому вескому соображению, что она с детства занималась танцами и уже не способна заняться ничем другим, крыса предпочла, как говорится, танцевать «у воды». В маленькие театры, где нужны танцовщицы, ее, по всей вероятности, не брали, а в трех городах Франции, где ставят балеты, она бы не имела успеха; ехать же за границу, – вам следует знать, что знаменитая парижская школа танца поставляет всему миру танцоров и танцовщиц, – у нее не было ни желания, ни денег. Таким образом, чтобы крыса стала фигуранткой, то есть безвестной танцовщицей кордебалета, нужно, чтобы ее удерживала в Париже какая-нибудь прочная привязанность: или богатый человек, которого она вовсе не любит, или бедный юноша, которого она слишком любит. Та, что сейчас прошла мимо нас, будет, возможно, сегодня вечером трижды переодеваться: она будет принцессой, крестьянкой, тирольской пастушкой или еще кем-нибудь… и все это за каких-то двести франков в месяц.
– А одета она куда лучше супруги нашего префекта!
– Если б вы побывали у нее дома, – сказал Бисиу, – вы увидели бы, что у нее есть горничная, кухарка и лакей; она занимает роскошную квартиру на улице Сен-Жорж; словом, соразмерно нынешним французским состояниям, которые меньше прежних, она – как бы тень оперной дивы восемнадцатого века. Карабина – это сила; в настоящее время она властвует над дю Тийе, банкиром, пользующимся большим влиянием в палате…
– А что находится над этими двумя ступенями балета? – полюбопытствовал Газональ.
– Смотри! – ответил Леон, указывая на изящную коляску, свернувшую на бульвар с улицы Гранж-Бательер. – Вот одна из прима-балерин, ее имя на афише привлекает весь Париж; ее оклад – шестьдесят тысяч франков в год, она живет, как принцесса. Стоимости всей твоей фабрики не хватило бы, чтобы купить право в течение месяца желать ей доброго утра в ее спальне.
– Ну нет, уж лучше я буду сам себе желать доброго утра: это дешевле выйдет!
– Заметили вы, – обратился к южанину Бисиу, – красивого молодого человека, сидящего против нее в коляске? Это виконт, носитель славного имени, – ее приближенный: его стараниями газеты печатают хвалебные отзывы о ней, по утрам он является к директору Оперы с объявлением войны или мира, и он же заботится об аплодисментах, которые гремят в зале, когда она появляется на сцене или уходит за кулисы.
– Ну, господа, господа, этим вы меня просто сразили: я и понятия не имел, что такое Париж!
– Что ж! – отозвался Бисиу. – Зато теперь вы будете знать, что можно увидеть за десять минут в проезде Оперы. Смотрите-ка!..
В эту минуту в проезде появились двое: мужчина и женщина. Женщина была ни хороша, ни дурна собой; по цвету и покрою ее одежды в ней сразу можно было узнать актрису. Мужчина походил на певчего.
– Вот, – пояснил Бисиу, – баритональный бас и еще одна прима-балерина. Бас – человек огромного таланта, но так как в оперных партитурах басовые партии обычно занимают незначительное место, он едва зарабатывает столько, сколько получает танцовщица. Танцовщица эта прославилась еще до появления Тальони и Эльслер; она сохранила в нашем балете характерный танец и выразительную мимику, – и если бы ее знаменитые соперницы не раскрыли в танце неведомую дотоле поэзию, она бы считалась звездой первой величины. Сейчас она – на втором месте, но все же загребает свои тридцать тысяч франков, ее преданным другом состоит один из пэров Франции, очень влиятельный в палате. А вот и танцовщица третьего разряда; она существует лишь благодаря поддержке всемогущей газеты. Вздумай дирекция не возобновить с нею контракт – и министерство нажило бы себе еще одного врага. Кордебалет – большая сила в Опере: поэтому в высших кругах денди и политических деятелей считается гораздо более хорошим тоном иметь связь с танцовщицей, нежели с певицей. В первых рядах партера, где сидят завсегдатаи оперы, слова: «Сударь, вы, видно, предпочитаете пение?» – звучат насмешкой.
С ними поравнялся человек небольшого роста, заурядной наружности, просто одетый.
– А вот наконец и другая половина оперных сборов – тенор. В наши дни – ни поэма, ни музыка, ни спектакль немыслимы без знаменитого тенора, который виртуозно выводит верхние ноты. Тенор – это любовь, это голос, волнующий душу, хватающий за сердце; немудрено, что оклад тенора куда внушительнее министерского. Сто тысяч франков за глотку, сто тысяч франков за лодыжки – вот два финансовых бича Оперы.
– Я просто одурел при виде всех этих сотен тысяч франков, запросто прогуливающихся здесь, – проговорил Газональ.
– Ты еще не то увидишь, дорогой кузен. Следуй только за нами… Мы возьмемся за Париж, как музыкант за виолончель, и покажем тебе, как играют на этом инструменте, словом – как развлекаются в Париже.
– Это какой-то калейдоскоп окружностью в семь лье! – воскликнул Газональ.
– Прежде чем водить господина Газоналя по Парижу, мне нужно еще забежать к Гайару, – сказал Бисиу.
– А знаешь что? Гайар может быть полезен в деле кузена!
– Это еще что за механизм? – спросил Газональ.
– Это не механизм, а механик. Гайар – один из наших друзей, который в конце концов стал издателем газеты; его характеру, как и его кассе, свойственны колебания, подобные морскому приливу и отливу. Гайар может помочь тебе выиграть процесс…
– Он уже проигран…
– В таком случае, сейчас самое время выиграть его, – вставил Бисиу.
Когда трое приятелей пришли к Теодору Гайару, проживавшему в те годы на улице Менар, лакей попросил их подождать в будуаре, объяснив, что хозяин занят важным деловым разговором.
– С кем? – спросил Бисиу.
– С человеком, который продает ему способ арестовать неуловимого должника, – ответила, входя в комнату, красивая женщина в восхитительном утреннем наряде.
– В таком случае, милая Сюзанна, – сказал Бисиу, – мы-то можем пройти к нему.
– Ах! До чего хороша! – воскликнул Газональ.
– Это госпожа Гайар, – шепнул ему Леон де Лора. – Дорогой кузен, перед тобой – самая скромная женщина во всем Париже: ее благосклонностью пользовались многие, ныне она довольствуется одним мужем.
– Что угодно их высочествам? – шутливо вопросил, подражая Фредерику Леметру, издатель при виде двух своих приятелей.
Теодор Гайар в свое время отличался умом, но, постоянно вращаясь в одной и той же среде, кончил тем, что поглупел – явление морального порядка, весьма распространенное в Париже. В ту пору любимым его развлечением было уснащать свою речь заимствованными из модных пьес словечками, которые он произносил на манер знаменитых актеров.
– Мы пришли поболтать, – ответил Леон.
– Вы неиспрр…авимы, молодой человек! (Одри в «Жонглерах».)
– …Словом, теперь-то уж он наверняка в наших руках! – сказал собеседник Гайара, заканчивая разговор.
– Так ли уж наверняка, папаша Фроманто? – усомнился Гайар. – Уже одиннадцать раз, как вечером он бывал в наших руках, а утром вы его снова упускали.
– Что поделаешь! Я в жизни своей еще не встречал такого непоседливого должника. Он совсем как паровоз: заснет в Париже, а проснется в департаменте Сены и Уазы! Ни дать ни взять – замок с секретом! – Уловив на лице Гайара усмешку, он добавил: – Так говорят в нашем деле: сцапать человека, застукать его – значит арестовать. В сыскной полиции выражаются несколько иначе. Видок говаривал своим клиентам: «Тебе уже подано». Куда смешнее – ведь речь шла о гильотине.
Газональ, которого Бисиу подтолкнул локтем, навострил уши и был весь внимание.
– Сударь, вы подмажете? – спросил Фроманто со сдержанной угрозой в голосе.
– Все дело в пятидесяти сантимах (Одри в «Жонглерах»), – отозвался издатель, доставая пятифранковую монету и вручая ее Фроманто.
– А для пройдох? – спросил тот.
– Каких пройдох? – удивился Гайар.
– Тех, чьими услугами я пользуюсь, – бесстрастно пояснил Фроманто.
– А что, есть еще кто-нибудь сортом ниже? – осведомился Бисиу.
– Да, сударь, – ответил сыщик. – Это – те, кто, сам того не подозревая, доставляет нам сведения и не требует платы за услуги. На мой взгляд, дураки и простофили куда ниже пройдох.
– Среди пройдох нередко встретишь людей остроумных и ярких! – воскликнул Леон.
– Значит, вы служите в полиции? – осведомился Газональ, с тревожным любопытством вглядываясь в низенького, сухонького, невозмутимого человечка, одетого, как младший писец судебного пристава.
– Какую именно полицию вы имеете в виду? – спросил Фроманто.
– А что, разве их несколько?
– Временами их число доходило до пяти, – ответил Фроманто. – Полиция сыскная, начальником которой был Видок. Тайная полиция – ее начальник всегда неизвестен. Политическая полиция – ну, это полиция Фуше. Затем еще полиция Министерства иностранных дел и, наконец, дворцовая полиция (при императоре, при Людовике Восемнадцатом и так далее), а она вечно ссорилась с той, что помещается на набережной Малакэ. Ее упразднил господин Деказ. Я начал свою службу в полиции Людовика Восемнадцатого, я поступил туда в 1793 году, вместе с беднягой Контансоном.
Леон де Лора, Бисиу, Газональ и Гайар переглянулись; взгляд их выражал одну и ту же мысль: «Скольким людям отрубили голову по милости Фроманто?»
– Теперь хотят обойтись без нас! Чепуха! – продолжал, помолчав, маленький человек, внезапно ставший таким страшным. – После 1830 года в префектуре хотят иметь людей порядочных; я подал в отставку и кое-как пробавляюсь задержанием несостоятельных должников.
– Он – правая рука приставов коммерческого суда, – шепнул Гайар Бисиу. – Но никогда не знаешь, кто ему платит больше – кредитор или должник.
– Чем низменнее профессия, тем нужнее в ней высокая честность, – наставительно изрек Фроманто. – Я служу тому, кто больше платит. Вы хотите получить свои пятьдесят тысяч, а с тем, кто вам может это обстряпать, вы торгуетесь из-за каждого гроша. Выкладывайте пятьсот франков, и завтра утром мы застукаем вашего молодчика, потому что мы уже вчера постелили ему.
– Пятьсот франков вам одному? – воскликнул Теодор Гайар.
– Лизетта ходит без шали, – ответил сыщик, и ни один мускул не дрогнул в его лице. – Я зову ее Лизеттой. по примеру Беранже.
– У вас есть Лизетта, и вы занимаетесь таким ремеслом! – возмутился добродетельный Газональ.
– Ремесло занятное. Сколько бы ни превозносили охоту и рыбную ловлю, выследить человека в Париже – куда увлекательнее!
– В самом деле, – сказал Газональ, вслух выражая свою мысль, – у них должны быть недюжинные способности.
– Если бы я перечислил вам все качества, которые нужны человеку, чтобы выдвинуться в нашем деле, – обратился к Газоналю Фроманто, своим наметанным глазом быстро разгадавший провинциала, – вы решили бы, что я описываю гения. Нам нужно зрение рыси. Отвага (ведь сплошь и рядом приходится бомбой врываться в дома, заговаривать с незнакомыми людьми так, будто ты с ними уже встречался, подговаривать их ко всяким низостям, которые всегда принимаются, и прочее). Память. Проницательность. Находчивость (надо мгновенно, на месте изобретать уловки и всегда различные, ибо приемы сыска всякий раз должны сообразовываться с характером и привычками того, за кем следишь). Словом – это небесный дар. В довершение всего – проворство, физическая сила, всего не перечтешь. Все эти способности, господа, аллегорически изображены над входом в гимназию Аморос как величайшие из добродетелей. Мы должны обладать ими, иначе – прощай ежемесячное жалованье в сто франков, которое нам выплачивает либо государство на Иерусалимской улице, либо пристав коммерческого суда!
– Вы, по-моему, выдающийся человек! – сказал Газональ.
Фроманто взглянул на провинциала, но не проронил ни слова, ничем не выдал своих чувств и вышел, ни с кем не простившись: несомненное свидетельство гениальности!
– Ну вот, кузен, ты только что видел олицетворение полиции, – сказал Леон провинциалу.
– Этот человек оказал на меня действие, способствующее пищеварению, – признался почтенный фабрикант.
Тем временем Гайар и Бисиу беседовали вполголоса.
– Я дам тебе ответ вечером, у Карабины, – громко сказал Гайар в заключение и, не взглянув на Газоналя, не попрощавшись с ним, снова уселся за письменный стол.
– Какой невежа! – воскликнул южанин, выйдя за порог.
– Его газета насчитывает двадцать две тысячи подписчиков, – сказал Леон де Лора. – Это – один из пяти влиятельнейших органов печати, и по утрам Гайару не до учтивости. Если уж нам нужно идти в палату, чтобы уладить дело кузена, давай выберем самый долгий путь, – закончил он, обращаясь к Бисиу.
– Изречения великих людей подобны позолоченным ложкам: позолота сходит от частого употребления, так и блеск афоризмов теряется от частых повторений, – заявил Бисиу. – Куда мы сейчас направимся?
– К нашему шляпочнику, отсюда до него рукой подать, – ответил Леон.
– Браво! – воскликнул Бисиу. – Если мы будем продолжать в том же духе, мы сегодня, пожалуй, не соскучимся!
– Газональ, – продолжал Леон, – ради тебя я подшучу над шляпочником, только будь важен, как король на пятифранковой монете; ты бесплатно увидишь редкостного чудака, человека, который от сознания собственного величия свихнулся. В наше время, мой милый, все жаждут славы, но многие вместо этого становятся смешными; отсюда – столько ходячих карикатур, совсем свеженьких…
– Но когда все прославятся, чем тогда можно будет выделиться среди прочих? – спросил Газональ.
– Чем? Глупостью! – отрезал Бисиу. – У вашего кузена орден, а я – хорошо одет, и все смотрят на меня…
При этом замечании, объясняющем, почему в Париже ораторы и другие выдающиеся политические деятели не вдевают больше орденские ленточки в петлицы фрака, Леон указал Газоналю на вывеску, где золотыми буквами значилось знаменитое имя: «Виталь, преемник Фино, фабрикант шляп» (а не шляпочник, как говорили в старину); объявления Виталя приносили газетам такой же солидный доход, как объявления трех продавцов целебных пилюль или миндаля в сахаре; вдобавок он был автором небольшого труда о шляпах.
– Друг мой, – сказал Бисиу, подводя Газоналя к роскошной витрине, – у Виталя сорок тысяч франков годового дохода.
– И он продолжает торговать шляпами? – завопил южанин, внезапно сжав руку Бисиу с такой силой, что едва не сломал ее.
– Ты сейчас сам увидишь, что это за птица, – ответил Леон. – Тебе нужна шляпа – ты получишь ее даром.
– Что, господина Виталя нет? – спросил Бисиу, не видя никого за конторкой.
– Господин Виталь правит в кабинете корректуру своего сочинения, – ответил старший приказчик.
– Что? Каков стиль?! – шепнул Леон своему двоюродному брату. Затем, обратившись к старшему приказчику, он спросил:
– Можно поговорить с ним, не опасаясь нарушить его вдохновение?
– Пригласите этих господ сюда, – произнес чей-то голос.
То был голос буржуа, голос человека, имеющего право быть избранным в палату, голос, в котором слышались влияние и богатство.
Вслед за тем в дверях соблаговолил показаться и сам Виталь; он был во всем черном; рубашка и украшенное бриллиантом жабо сияли ослепительной белизной. В глубине кабинета три приятеля разглядели красивую молодую женщину, сидевшую с вышиваньем в руках возле письменного стола.
Виталю можно было дать лет сорок; честолюбивые замыслы подавили в нем природную жизнерадостность. Он среднего роста, что является обычно признаком превосходного здоровья. Довольно полный, он следит за своей наружностью; он лысеет со лба и не огорчается этим обстоятельством, ибо это придает ему вид мыслителя. Жена смотрит на него и внимает ему с благоговением – видно, что она убеждена в гениальности и славе своего супруга. Виталь любит художников, но не потому, что понимает толк в искусстве, а из какого-то братского чувства; он сам себя считает художником и дает это почувствовать, упорно отказываясь от сего благородного звания и с обдуманной настойчивостью подчеркивая, что его занятие неимоверно далеко от искусства; все это делается для того, чтобы ему твердили: «Но вы ведь подняли шляпное дело до уровня науки».
– Ну как, придумали вы наконец для меня шляпу? – спросил пейзажист.
– Что вы, сударь, в две недели?! – воскликнул Виталь. – Да еще для вас!.. Двух месяцев и то мало, чтобы напасть на форму, которая подходила бы к вашему лицу! Видите – вот ваш литографированный портрет, он всегда здесь; я уже основательно вас изучил! Я не стал бы так стараться и для принца, но вы ведь больше, чем принц, – вы художник! И вы меня понимаете, друг мой.
– Перед вами – один из выдающихся наших изобретателей, – сказал Бисиу, представляя Газоналя, – человек, который был бы не менее велик, чем Жаккар, согласись он только ради этого отправиться к праотцам. – Наш друг, владелец суконной фабрики, открыл способ извлекать индиго из старых синих фраков; он пожелал познакомиться с вами, личностью поистине незаурядной, ибо вы ведь сказали: «Шляпа – это весь человек». Ваше изречение привело его в восторг. Ах! Виталь, у вас есть вера! Вы во что-то верите, вы страстно увлечены своим делом!
Виталь задыхался от приятного волнения, он даже побледнел.
– Встань, жена!.. Этот господин – князь науки.
По знаку мужа г-жа Виталь послушно встала. Газональ отвесил ей поклон.
– Буду ли я иметь честь подобрать для вас головной убор? – спросил Виталь с радостной готовностью.
– За ту же цену, как для меня, – заявил Бисиу.
– Разумеется! Я не притязаю на иное вознаграждение, кроме удовольствия быть иногда упомянутым вами. Господа! Вашему другу нужна живописная шляпа, вроде той, какую носит господин Лусто, – произнес Виталь, со значительным видом посмотрев на Бисиу. – Я подумаю над этим.
– Вы не жалеете трудов, сказал фабрикант провинциальный фабриканту парижскому.
– О, только для немногих – для тех, кто умеет ценить мое усердие. К примеру сказать, среди аристократии значение шляпы постиг лишь один человек – князь де Бетюн. И как это мужчины не понимают простой вещи, совершенно ясной женщинам; из всех предметов одежды прежде всего бросается в глаза шляпа! Почему они не подумают о том, чтобы изменить нынешний фасон шляп, прямо скажу – отвратительный! Но из всех народов мира французы особенно упорствуют в однажды содеянной глупости! Господа, я вполне сознаю все трудности! Я говорю сейчас не как автор сочинений на эту тему, где, думается, я сумел философски исследовать данный вопрос, нет, сейчас я говорю исключительно как шляпочник; только я один нашел способ хоть немного облагородить ужасные головные покрышки, которыми пользуются сейчас во Франции, – пока мне еще не удалось окончательно ниспровергнуть их.
Он показал им уродливую современную шляпу.
– Вот – враг, господа, – заявил он. – И подумать только, что самый остроумный народ в мире соглашается носить на голове этот обломок печной трубы, как выразился один из наших писателей. Вот все изгибы, которые мне удалось придать этим безобразным линиям, – прибавил он, показывая одно за другим свои творения. – Но хотя, как вы сами видите, я умею приноравливать их к самым различным типам: вот, например, шляпа врача, эта – бакалейщика, эта – денди, далее – шляпа художника, эта – человека тучного, а та – человека тощего, – все они отвратительны! Постарайтесь уловить мою мысль до конца!
Он взял в руки широкополую шляпу с низкой тульей.
– Вот шляпа, которую в свое время носил выдающийся критик Клод Виньон, человек независимый, изрядный кутила… Затем он поладил с правительством, его назначили профессором, библиотекарем; сейчас он пишет только в «Деба», его сделали докладчиком Государственного совета, он получает шестнадцать тысяч жалованья и четыре тысячи зарабатывает в газете; у него орден… Отлично! Вот его новая шляпа!
И Виталь показал шляпу, формой и изгибами приличествующую человеку вполне благонамеренному.
– Вам следовало бы сделать для него шляпу полишинеля! – воскликнул Газональ.
– У вас, господин Виталь, гениальная голова по части головных уборов, – заметил Леон.
Виталь поклонился, не поняв насмешки.
– Не можете ли вы мне объяснить, – спросил Газональ, почему ваши магазины по вечерам закрываются позже всех других, даже позже, чем кафе и кабачки? Меня это сильно заинтересовало.
– Во-первых, наши магазины очень выигрывают при вечернем освещении, а кроме того, на десять шляп, проданных днем, вечером приходится пятьдесят.
– Все как-то странно в Париже, – вставил Леон.
– И однако ж, несмотря на все мои старания и успехи, – продолжал Виталь свое самовосхваление, – я должен идти дальше и ввести в моду шляпу с круглой тульей. Вот к чему я стремлюсь!
– В чем же помеха? – осведомился Газональ.
– В дешевизне, сударь. Прежде всего прекрасную шелковую шляпу можно приобрести за пятнадцать франков, и это убивает нашу торговлю, ибо у тех, кто живет в Париже, никогда не найдется пятнадцати франков на новую шляпу. А если касторовая шляпа и стоит тридцать франков, то это дела не меняет! Когда говорят «кастор» – надо иметь в виду, что во всей Франции не купишь больше десяти фунтов касторовой шерсти; она стоит триста пятьдесят франков фунт, на шляпу идет одна унция; к тому же касторовые шляпы никуда не годятся: касторовая шерсть плохо принимает краску, за десять минут рыжеет на солнце, шляпа от жары коробится. То, что мы называем кастором, просто-напросто заячья шерсть. На выделку шляп высших сортов идет спинка, второсортны – бочки, а на третий сорт – шерсть с брюшка. Вот я и выдал вам секреты ремесла, но вы ведь – люди порядочные. Но что бы ни нахлобучивали на голову – заячью шерсть или шелк, пятнадцать или тридцать франков, – вопрос остается неразрешимым. За шляпу нужно платить наличными, вот почему шляпа остается тем, что она есть. Мы спасем честь наряжающейся Франции в тот день, когда серая шляпа с круглой тульей будет стоить сто франков. Тогда мы сможем, подобно портным, отпускать в кредит. Чтобы достичь этого, нужно бы решиться носить букли, галуны, перья, атласные отвороты, как при Людовике Тринадцатом и Людовике Четырнадцатом. Тогда бы торговля шляпами, вдохновляясь фантазией, удесятерилась бы. Мировой рынок принадлежал бы Франции, как это издавна установилось в отношении дамских мод, для которых Париж всегда будет законодателем; нынешнюю же нашу шляпу можно изготовлять где угодно. Разрешение этого вопроса даст нашей стране десять миллионов иностранного золота ежегодно…
– Да это настоящий переворот! – воскликнул Бисиу, прикидываясь восхищенным.
– Да, коренной переворот, ибо необходимо изменить форму.
– Вы счастливец, – вставил Леон, обожавший каламбуры, – вы, подобно Лютеру, мечтаете о реформе.
– Да, сударь! Ах, если бы двенадцать или пятнадцать человек – художников, капиталистов или денди, – задающих тон, решились быть смелыми одни только сутки, Франция одержала бы блистательную победу на поприще коммерции! Поверьте, я все время твержу своей жене: «Ради успеха я не пожалел бы своего состояния!» Да, мое честолюбие сводится к одному: возродить шляпное дело – и умереть!
– Да, это – человек с размахом, – сказал Газональ, выходя, – но, уверяю вас, у всех ваших чудаков есть что-то общее с южанами.
– Пойдемте в ту сторону, – предложил Бисиу, указывая на улицу Сен-Марк.
– Мы там еще что-нибудь этакое увидим?
– Вы сейчас увидите ростовщицу, опекающую крыс и фигуранток, женщину, которой известно столько же страшных тайн, сколько платьев висит у нее в витрине, – пояснил Бисиу.
И он указал на лавчонку, уродливым пятном черневшую среди ослепительных новомодных магазинов. Лавчонка эта с жалкой витриной была выкрашена примерно в 1820 году и, вероятно, досталась домовладельцу в этом заброшенном виде после какого-нибудь банкротства. Слой грязи, поверх которого густой пеленой легла пыль, скрывал краску. Стекла были немыты, дверная ручка поворачивалась без малейшего усилия, как во всех тех местах, откуда выходят еще поспешнее, чем входят.
– Что вы о ней скажете? Чем не двоюродная сестрица самой смерти? – шепнул Газоналю рисовальщик, указывая на отвратительное существо, сидевшее за прилавком. – А звать ее – госпожа Нуррисон.
– Почем эти кружева, сударыня? – спросил фабрикант, решивший не отставать в дурачествах от обоих художников.
– Для вас, сударь, как для приезжего только сто экю, – ответила старуха.
Уловив жест, характерный для южан, она с благоговейным видом добавила:
– Эти кружева принадлежали несчастной принцессе де Ламбаль.
– Как! И так близко от королевского дворца… – воскликнул Бисиу.
– Сударь, они этому не верят, – прервала она.
– Сударыня, мы пришли к вам не ради покупок, – храбро заявил Бисиу.
– Я это и сама вижу, сударь, – отвечала г-жа Нуррисон.
– Мы сами хотим продать кое-какие вещи, – продолжал знаменитый карикатурист. – Я живу на улице Ришелье, дом сто двенадцать, на седьмом этаже. Если бы вы потрудились сейчас зайти ко мне, вы бы сделали выгодное дельце.
– Быть может, вам угодно приобрести несколько метров муслина для хорошенькой женщины? – с улыбочкой спросила старуха.
– Нет, речь идет о подвенечном платье, – с важностью ответил Леон де Лора.
Четверть часа спустя г-жа Нуррисон действительно явилась к Бисиу; решив разыграть задуманную им шутку до конца, он привел к себе Леона и Газоналя. Перекупщица увидела три постные физиономии: молодые люди напоминали авторов, чей совместный труд не получил должного признания.
– Сударыня, – заявил Бисиу, показывая старухе пару женских домашних туфель, – они принадлежали императрице Жозефине.
Дерзкому мистификатору не терпелось расквитаться с г-жой Нуррисон за ее принцессу де Ламбаль.
– Эти-то? – возмутилась г-жа Нуррисон. – Да они сделаны в нынешнем году: посмотрите-ка клеймо на подошве!
– Неужели вы не догадываетесь, что эти туфли всего лишь предисловие, – спросил Леон до Лора, – хотя обычно домашние туфли означают конец романа?
– Мой друг, здесь присутствующий, – продолжал Бисиу, указывая на Газоналя, – желал бы, по важным соображениям семейного свойства, доподлинно узнать, не согрешила ли молодая особа из почтенного, богатого дома: он намерен на ней жениться.
– Сколько он за это заплатит? – осведомилась г-жа Нуррисон, взглянув на Газоналя.
– Сто франков, – ответил южанин, ничему уже больше не удивлявшийся.
– Покорно благодарю, – отрезала старуха, подчеркнув свой отказ гримасой, которой позавидовала бы мартышка.
– Сколько же вы хотите, дражайшая госпожа Нуррисон? – спросил Бисиу, обнимая ее за талию.
– Прежде всего, мои милые, знайте: за все время, что я работаю, я еще ни разу не видела, чтобы кто-нибудь, будь то мужчина или женщина, торговался, когда речь шла о его счастье! Ну-ка, признайтесь: вы все трое просто хотите подурачиться, – заявила перекупщица, изображая на своих бескровных губах улыбку, казавшуюся еще более зловещей из-за ее взгляда, недоверчивого и холодного, как у кошки. – Если дело не касается вашего счастья, значит, оно связано с вашим состоянием; а уж если забрались так высоко, как вы, то менее всего торгуются из-за приданого. Итак, – закончила она, состроив умильную физиономию, – о ком же идет речь, мои ягнятки?
– О торговом доме «Бенье и компания», – ответил Бисиу, очень довольный возможностью узнать всю подноготную одной особы, которая его интересовала.
– О! – воскликнула старуха. – За это одного луидора достаточно…
– Как же обстоит дело?
– Все драгоценности мамаши – у меня; каждые три месяца она бегает высунувши язык, чтобы раздобыть деньжат и уплатить мне проценты. С этой-то семейкой вы хотите породниться, простофиля? Дайте мне сорок франков, и я выложу вам больше, чем на сто экю.
Газональ показал ей монету в сорок франков, и г-жа Нуррисон принялась рассказывать ужасающие вещи о тщательно скрываемой нищете некоторых женщин из хорошего общества. Беседа оживила перекупщицу, она разошлась вовсю. Не выдавая ни одного имени, ни одной тайны, она привела обоих художников в содрогание, показав им, как редко в Париже встречается благополучие, не покоящееся на шатком фундаменте долгов. Она хранила в своих комодах фамильные драгоценности, принадлежавшие усопшим бабушкам, покойным мужьям, умершим внучкам, благополучно здравствующим детям. Она выпытывала у своих клиентов ужасающие истории, наводя их на разговоры друг о друге, вырывая у них сокровеннейшие признания в минуты волнения, размолвок, гнева и тех предварительных мнимо безобидных бесед, которые обычно предшествуют заключению займа.
– Ради чего вы взялись за это ремесло? – спросил Газональ.
– Ради сына, – простосердечно ответила старуха.
Почти всегда перекупщицы-ростовщицы в оправдание своего занятия приводят самые возвышенные мотивы. Г-жа Нуррисон рассказала молодым людям, что она будто бы лишилась нескольких претендентов на ее руку, затем потеряла трех дочерей, пошедших по дурному пути, и наконец – все свои иллюзии. Чтобы доказать, с каким неимоверным риском сопряжена ее профессия, она выложила на стол ворох ломбардных квитанций, уверяя, что они – самое ценное ее достояние. Она жаловалась, что в конце каждого месяца бьется как рыба об лед. Ее нещадно обирают, заявила она.
Услыхав это слово, несколько более выразительное, чем следовало, художники украдкой переглянулись.
– Послушайте, детки, я сейчас расскажу вам, как нас околпачивают! Речь идет не обо мне, а о моей соседке, тетушке Маюше; она дамская башмачница, живет напротив меня. Я ссудила деньгами одну графиню, у которой вкусы и замашки не по средствам. Она занимает роскошную квартиру, щеголяет дорогой мебелью, устраивает пышные приемы, словом, говоря по-нашему, так форсит, что только держись! Должна триста франков башмачнице, а не далее как третьего дня закатила званый обед, вечер. Башмачница, как прослышала об этом от кухарки, примчалась ко мне; мы обе входим в азарт, башмачница хочет устроить несусветный скандал; но я ей все-таки говорю: «Подумай, милочка, к чему это приведет? Только лишнего врага наживешь; лучше постарайся выцарапать у нее хороший заклад! Кто кого перехитрит! Тогда и расстраиваться попусту не будешь…» А она стоит на своем – пойду к графине, да и все! И просит, чтобы я ее поддержала. Идем. «Графини нет дома». Старый фокус! Тетушка Маюше сразу заявляет: «Мы ее будем ждать хоть до полуночи». Располагаемся в прихожей, толкуем о том о сем. Ага! Двери открываются, закрываются, слышны легкие шаги, нежные голоса. Мне даже как-то не по себе стало. Это гости съезжались к обеду. Сами понимаете, как дело-то оборачивалось! Графиня посылает свою горничную умаслить тетушку Маюше. «Вам заплатят завтра – не беспокойтесь!» Словом, подъезжает и так и этак… Нас ничем не пронять! Наконец графиня, разряженная в пух и прах, выходит в столовую. Тетушке Маюше только это и нужно было, она распахивает дверь и влетает в комнату. Конечно, увидев стол, сверкающий серебром (блюда, канделябры, все так и блестит, так и переливается), она зашипела, словно сифон с сельтерской, и стала шпарить: «Уж если жить на чужие денежки, то надо хоть быть поскромнее, а не транжирить их на званые обеды! Графиня, а не отдает ста экю несчастной башмачнице, у которой семеро детей!..» Чего-чего только эта деревенщина не наплела – сами можете представить! Графиня попробовала было заикнуться, что у нее сейчас нет денег, но тетушка Маюше как закричит: «Да вот же, сударыня, серебро! Извольте-ка заложить приборы и рассчитаться со мной!» Графиня в ответ: «Возьмите их сами!» – и тут же хватает полдюжины приборов и сует их башмачнице. Мы кубарем с лестницы, радуемся, что наша взяла. А на улице тетушка Маюше прослезилась; она ведь добрая женщина! Отнесла приборы обратно и попросила извинения; она поняла, что графиня в большой нужде: приборы-то оказались накладного серебра.
– Башмачница осталась внакладе, – сострил Леон де Лора, в котором нередко пробуждался прежний Мистигри.
– Ах! Дорогой мой! – сказала г-жа Нуррисон, догадавшись по этому каламбуру, с кем имеет дело. – Вы художник, вы пишете пьесы, вы живете на Гельдерской улице, и вы все еще содержите Антонию… у вас кое-какие привычки, которые мне известны… Признайтесь, вам охота подцепить какую-нибудь штучку высокого полета – Карабину или Мушкетон, Малагу или Женни Кадин?
– Малагу! Карабину! Да ведь известность им создали мы! – воскликнул Леон де Лора.
– Клянусь вам, дорогая госпожа Нуррисон, мы хотели только одного: иметь удовольствие познакомиться с вами и получить сведения о вашем прошлом, узнать, по какой наклонной плоскости вы докатились до вашего ремесла, – сказал Бисиу.
– Я служила экономкой у маршала Франции, князя Изембургского, – начала старуха, приняв позу Дорины – Однажды утром приезжает некая графиня, одна из самых блестящих дам императорского двора. Ей, изволите видеть, до зарезу нужно переговорить с маршалом, притом наедине. Я тотчас пристраиваюсь так, чтобы все слышать. Моя дамочка сразу в слезы и давай расписывать простаку маршалу (это князь Изембургский, Конде Республики, – простак!), что ее муж, – он служил в Испании, – не оставил ей и тысячи франков и что если она сейчас же не достанет тысячу-другую, дети ее будут сидеть без хлеба, ей завтра есть нечего. Мой маршал, в ту пору довольно щедрый, вынимает из своего бюро два тысячефранковых билета. Я – скорее на лестницу, притаилась так, что красотка не могла меня видеть, и продолжаю наблюдать: спускаясь с лестницы, она радостно смеялась, но эта радость так мало походила на материнскую, что я мигом проскользнула вслед за ней к подъезду; слышу – она шепчет своему выездному лакею: «К Леруа». Я – бегом за ней. Любящая мамаша входит в эту знаменитую модную мастерскую на улице Ришелье – ну, да вы знаете… и заказывает платье за полторы тысячи франков. Деньги выкладывает чистоганом – в те времена расплачивались, делая заказ. Через день она появляется на балу у посланника, разодетая, как пристало женщине, которая хочет очаровать всех и пленить кого-нибудь одного… В этот день я сказала себе: «Я нашла подходящее занятие! Когда я войду в лета, я буду ссужать знатных дам деньгами под залог их финтифлюшек; ведь страсть не рассчитывает и платит не глядя…» Если вы нуждаетесь в сюжетах для водевилей, я могу вам их продать целую кучу…
Закончив этот рассказ – тусклое отражение превратностей ее прошлого, – старуха ушла, оставив Газоналя во власти испуга, внушенного ему и этими признаниями и пятью желтыми зубами, которые она оскалила, изобразив подобие улыбки.
– Чем мы займемся сейчас? – спросил Газональ.
– Векселями, – объявил Бисиу, дернув шнур звонка, чтобы вызвать своего привратника. – Мне нужны деньги, и я сейчас покажу вам, для чего существуют привратники. Не только для того, чтобы вручать жильцам ключи, как все вы воображаете, но и для того, чтобы выручать в затруднительных случаях повес вроде меня, художников, которых они берут под свое покровительство. Мой привратник, наверное, получит когда-нибудь премию Монтиона.
Газональ от удивления по-бычьи вытаращил глаза.
На звонок явился человек средних лет, смахивавший не то на отставного солдата, не то на канцелярского служителя, только еще более засаленный и замасленный, в синей суконной куртке, тускло-серых панталонах и лоскутных туфлях. У него были жирные волосы, изрядное брюшко, лицо глянцевито-бледное, как у настоятельницы монастыря.
– Что вам угодно, сударь? – спросил он с видом покровительственным и в то же время подобострастным.
– Равенуйе… – его зовут Равенуйе, – пояснил Бисиу, обращаясь к Газоналю, – при тебе записи наших расчетов?
Равенуйе вынул из бокового кармана самую замызганную записную книжку, какую Газональ когда-либо видел.
– Так вот, впиши в нее два эти векселя, по пятьсот франков каждый, сроком на три месяца. Ты проставишь на них свою подпись.
И Бисиу вручил привратнику два заполненных по всей форме долговых обязательства, которые тот немедленно подписал, сделав пометку в обтрепанной книжке, куда его жена заносила долги жильцов.
– Благодарю тебя, Равенуйе, – сказал Бисиу. – Вот тебе ложа в театр Водевиль.
– О! значит, моя дочка повеселится нынче вечером, – сказал Равенуйе, уходя.
– Всего в доме семьдесят один жилец, – заметил Бисиу, – все вместе мы занимаем у Равенуйе шесть тысяч франков в месяц, восемнадцать тысяч франков в квартал – под расписки и заемные письма, не считая квартирной платы. Равенуйе – наше провидение… получающее тридцать процентов, которые мы ему даем; сам он никогда ничего не требует…
– О Париж! Париж! – воскликнул Газональ.
– По дороге, – продолжал Бисиу, сделав на векселях передаточную надпись, – ибо я поведу вас, кузен Газональ, посмотреть еще одного комедианта, который бесплатно разыграет перед нами премилую сценку…
– Куда это? – прервал Леон.
– К ростовщику. Итак, по дороге я расскажу вам о первых шагах моего друга Равенуйе в Париже.
Проходя мимо каморки привратника. Газональ увидел мадмуазель Люсьенну Равенуйе, занимавшуюся сольфеджио; она училась в консерватории; сам Равенуйе читал газету, а его супруга разбирала письма, которые ей предстояло разнести жильцам.
– Благодарю вас, господин Бисиу, – сказала девица.
– Это не крыса, – шепнул Леон Газоналю, – это личинка стрекозы.
– Видимо, – заметил Газональ, – привратника, как и всех прочих парижан, легче всего расположить к себе билетами в ложу…
– Видите, он уже приобретает лоск в нашем обществе! – вскричал Леон, восхищенный каламбуром.
– История Равенуйе такова, – начал свой рассказ Бисиу, когда трое друзей вышли на бульвар. – В 1831 году Массоль, известный вам член Государственного совета, был адвокатом-журналистом и мечтал в ту пору стать всего лишь министром юстиции; Луи-Филиппа он великодушно соглашался оставить на троне. Нужно простить ему честолюбивые притязания: он южанин, родом из Каркасона. Однажды утром к нему является молодой земляк и говорит: «Вы меня хорошо знаете, господин Массоль, я сын вашего соседа, бакалейщика, и приехал сюда, потому что у нас прошел слух, что здесь для каждого находится местечко…» У Массоля мурашки забегали по телу, когда он это услышал; он тотчас сообразил, что стоит ему помочь этому соотечественнику, которого он, к слову сказать, совершенно не помнил, – и к нему нагрянет вся его родная провинция; все шнурки от звонков, счетом одиннадцать, будут оборваны, ковры истоптаны, единственный его слуга сбежит, начнутся недоразумения с домовладельцем из-за лестницы, соседи станут жаловаться, что дом пропах чесноком и дилижансом. Поэтому он смотрел на просителя, как мясник смотрит на барана, прежде чем его зарезать. Но хотя земляк отлично понял этот взгляд, вернее, этот удар кинжалом, он, по словам Массоля, нимало не смущаясь, продолжал: «Я честолюбив, как все, и вернусь домой не иначе, как богачом, если вообще вернусь туда; ведь Париж – преддверие рая. Говорят, вы пишете в газетах и делаете здесь погоду; вам стоит только попросить правительство о чем-нибудь – и любая ваша просьба тотчас исполняется. Но если у меня, как у всех нас, есть способности, то я все же себя хорошо знаю: я человек необразованный; у меня неплохие задатки, но я не умею писать, и это несчастье, так как мысли у меня водятся. Поэтому я не думаю соперничать с вами; я трезво оцениваю себя: это мне не по силам. Но раз вы всё можете, а мы вроде как братья – в детстве играли вместе, то я рассчитываю, что вы меня выведете в люди, окажете мне покровительство… Так вот, я должен и хочу получить место, которое соответствовало бы моим возможностям, тому, что я собой представляю, место, где я мог бы составить себе состояние…» Массоль хотел было без долгих проволочек крепко обругать своего земляка и выставить его за дверь, но тот неожиданно закончил свою речь следующим образом: «Поэтому я не прошу у вас должности чиновника; там продвигаются черепашьим шагом, ваш кузен уже двадцать лет прозябает в разъездных контролерах… Нет, я хотел бы попробовать свои силы в качестве…» – «Актера?» – спросил Массоль, обрадованный такой развязкой. «Нет; у меня подходящая внешность, хорошая память, выразительная жестикуляция, но в театре слишком много трудностей. Я хотел бы попробовать свои силы в должности… привратника». Массоль с невозмутимым видом ответил: «Там трудностей еще больше, но по крайней мере вы увидите, что каморки привратников, не в пример ложам, никогда не пустуют». – И, по словам Равенуйе, Массоль выхлопотал ему место привратника.
– Я первый, – сказал Леон, – заинтересовался этой разновидностью человеческой породы – привратником. На свете существуют плуты, разглагольствующие о нравственности, фигляры тщеславия, современные сикофанты, поборники спасительных крутых мер, изобретатели животрепещущих проблем, ратующих за освобождение негров, за исправление малолетних воришек, за помощь отбывшим срок наказания каторжникам, – а привратники у них живут хуже ирландцев, в каморках более ужасных, чем одиночные камеры, и на содержание привратника эти люди за год тратят меньше, чем государство на прокормление каторжника… За всю свою жизнь я, пожалуй, сделал одно-единственное доброе дело: предоставил своему привратнику приличное помещение.
– Если бы, – подхватил Бисиу, – человек, понастроив огромные клетки, разгороженные, подобно пчелиным сотам или стойлам зверинца, на тысячи крохотных клетушек, в которых ютятся люди самого различного рода и звания; если бы этот скот в образе домовладельца пришел к ученому и сказал ему: «Я хочу завести двурукое существо, которое могло бы жить в конуре не более десяти квадратных футов, заваленной старой обувью и вонючим хламом; я хочу, чтобы это существо прожило там всю свою жизнь, спало бы там, было бы счастливо, имело бы детей, прелестных, как амуры; хочу, чтобы оно там работало, стряпало, сновало взад и вперед, выращивало цветы, распевало песни и никуда оттуда не отлучалось; прозябало бы в полумраке и в то же время следило за всем, что происходит за пределами его смрадной конуры», – бесспорно, ученый не мог бы выдумать привратника. Чтобы создать его – потребовался Париж или, если угодно, сам дьявол…
– Парижская промышленность шагнула еще дальше за грань возможного, – вставил Газональ, – ведь есть еще и рабочие… Вы выставляете изделия нашей промышленности, но вам известно далеко не все, что она порождает… Наша промышленность, борясь с промышленностью других европейских стран, приносит в жертву рабочих, подобно тому как Наполеон, борясь с Европой, приносил в жертву свои полки.
– Вот мы и пришли к моему другу Вовине, ростовщику, – объявил Бисиу. – Одна из самых грубых ошибок, совершаемых людьми, которые рисуют наши нравы, заключается в том, что они рабски копируют старые портреты. В наше время во всех профессиях наблюдаются разительные перемены. Бакалейщики становятся пэрами Франции, художники сколачивают состояния, авторы водевилей живут на ренту. Если отдельные немногие личности и остаются тем, чем они были когда-то, – то в общем любая профессия утратила отличавший ее особый облик и прежние нравы. Если раньше у нас были Гобсек, Жигонне, Шабуассо, Саманон, эти последние римляне, то теперь мы имеем удовольствие вести дело с Вовине, покладистым на вид заимодавцем-щеголем, который вхож за кулисы, бывает у лореток, разъезжает в изящной одноконной коляске… Понаблюдайте за ним внимательно, дружище Газональ, – вы увидите комедию денег: то человека холодного, не желающего давать зря ни гроша, то человека пылкого – когда он почует наживу. И главное, послушайте его!
Все трое поднялись на третий этаж очень красивого дома, выходившего на Итальянский бульвар, и вошли в квартиру, роскошно обставленную в модном тогда вкусе. Молодой человек лет двадцати восьми приветствовал их с видом почти что радостным, так как первым вошел Леон де Лора. Затем Вовине – это был он – весьма дружески пожал руку Бисиу, холодно поклонился Газоналю и пригласил всех в свой кабинет, где вкус буржуа сказывался во всем, несмотря на художественное убранство, модные статуэтки и все те безделушки, которые современное искусство, измельчавшее так же, как и его потребитель, создало для наших тесных квартир. Как все молодые дельцы, Вовине был одет с тем изысканным щегольством, которое для многих из них служит своего рода рекламой.
– Я пришел к тебе за деньжатами, – смеясь, объявил Бисиу, протягивая Вовине векселя.
Вовине сделал серьезную мину, рассмешившую Газоналя, – настолько лицо ростовщика, мигом насторожившегося, было непохоже на прежнюю приветливую физиономию.
– Милый мой, – сказал Вовине, глядя на Бисиу, – я с величайшим удовольствием выручил бы тебя, но у меня сейчас нет денег.
– Ах, так!
– Да, я все отдал, ты знаешь кому… Бедняга Лусто задумал стать во главе театра, совместно с Ридалем – старым водевилистом, которому очень покровительствует министерство… Вчера им понадобилось тридцать тысяч франков… Я сижу буквально без гроша, право, без гроша, даже собираюсь сейчас послать за деньгами к Серизе, чтобы заплатить сто луидоров, которые сегодня утром проиграл в ландскнехт у Женни Кадин…
– Видно, вам очень туго приходится, раз вы не хотите выручить беднягу Бисиу, – вставил Леон де Лора, – ведь у него очень злой язык, когда он на мели.
– Нет, – возразил Бисиу, – я ничего не могу сказать о Вовине, кроме доброго; у него столько добра…
– Дорогой мой, – прервал его Вовине, – будь я при деньгах, я все равно не мог бы даже из пятидесяти процентов учесть векселя, подписанные твоим привратником… Равенуйе не в ходу. Это не Ротшильд. Предупреждаю тебя, – эта фирма слишком легковесна, ты должен подыскать себе другую. Найди себе какого-нибудь дядюшку. Друзья, подписывающие векселя, теперь уже не котируются; трезвый дух нашего времени распространяется с ужасающей быстротой.
– Я… – заявил Бисиу, указывая на южанина, – я могу представить подпись вот этого господина, одного из крупнейших фабрикантов сукна на юге Франции… Его фамилия Газональ. Он не очень хорошо причесан, – продолжал карикатурист, мельком взглянув на пышную всклокоченную шевелюру провинциала, – но я сведу его к Мариусу, который избавит его от этого сходства с пуделем, столь же неблагоприятного для его достоинства, как и для нашего.
– Не в обиду будь сказано господину Газоналю, я не верю в южные ценности, – сказал Вовине. Газональ остался так доволен этим ответом, что нисколько не рассердился на Вовине за дерзость.
Газональ, мнивший себя весьма проницательным, предположил, что Леон де Лора и Бисиу, решив показать ему Париж без прикрас, хотят заставить его поплатиться тысячей франков на угощение в «Кафе де Пари». Уроженец Русильона еще не утратил неимоверной подозрительности, которую провинциалы считают своим надежнейшим оплотом в Париже.
– Подумай сам, разве я могу завязать деловые сношения в Пиренеях, в двухстах пятидесяти лье от Парижа? – прибавил Вовине.
– Это твое последнее слово? – спросил Бисиу.
– У меня ровным счетом двадцать франков, – ответил молодой ростовщик.
– Глубоко огорчен за тебя, – не унимался шутник и сухо прибавил: – Я полагал, что как-никак стою тысячу франков.
– Ты стоишь сто тысяч франков, – возразил Вовине, – иногда тебе даже цены нет, но… у меня полное безденежье.
– Ну что ж, – сказал Бисиу, – довольно об этом… Сегодня вечером у Карабины я хотел устроить тебе самое выгодное дельце, о каком ты только мог мечтать. Ты сам знаешь, какое…
Вовине взглянул на Бисиу, сощурив один глаз, как делают барышники, будто говоря: «Свой своего не проведет».
– Неужели ты не помнишь, – продолжал Бисиу, – как, обняв меня за талию, словно хорошенькую женщину, лаская меня взглядом и речами, ты говорил мне: «Я все сделаю для тебя, если ты сможешь достать мне по нарицательной стоимости акции железной дороги, подряд на постройку которой берут дю Тийе и Нусинген». Так вот, мой милый, Максим и Нусинген часто посещают Карабину; сегодня вечером у нее большой прием, будет много видных политических деятелей. Ты упускаешь редкостный случай, старина! Хорошо же, прощай, обманщик!
Бисиу встал, Вовине по виду был спокоен, но в душе он досадовал, как человек, понявший, что сделал глупость.
– Постой, мой милый, – сказал ростовщик, – у меня нет денег, зато есть кредит… Хотя твои векселя ничего не стоят, я могу оставить их у себя и дать тебе взамен биржевые ценности… Наконец, мы могли бы столковаться насчет этих железнодорожных акций. Мы делились бы, в известном соотношении, прибылями от этой операции, и я в счет этих барышей скостил бы тебе…
– Нет, нет, – перебил его Бисиу, – мне нужны наличные деньги, я должен реализовать Равенуйе…
– Ну что ж, Равенуйе, пожалуй, сойдет, – согласился Вовине. – У него есть вклад в сберегательной кассе, он надежен…
– Он надежней тебя, – заметил Леон. – Он не содержит лоретку, квартира ему ничего не стоит, он не пускается в спекуляции, рискуя всего лишиться из-за повышения или понижения биржевых курсов…
– Великий человек, вы изволите смеяться, – возразил Вовине, снова взяв добродушный и веселый тон, – а ведь, в сущности, вы переложили на свой лад басню Лафонтена «Дуб и тростник». Послушай, «Гюбетта, испытанный сообщник», – продолжал ростовщик, обняв Бисиу, – тебе нужны деньги, так и быть, я займу у Серизе вместо двух тысяч – три… И «будем друзьями, Цинна!..» Дай-ка мне обе твои дрянные бумажонки. Если я сначала отказал тебе, то потому только, что человеку, который может кое-как перебиваться, лишь учитывая свои векселя во Французском банке, очень трудно хранить твоего Равенуйе в недрах своего письменного стола… Ох, как трудно…
– Сколько процентов ты возьмешь за учет? – спросил Бисиу.
– Сущий пустяк; за три месяца это тебе будет стоить каких-нибудь пятьдесят франков.
– Как говаривал некогда Эмиль Блонде, ты будешь моим благодетелем, – заметил Бисиу.
– Значит – двадцать процентов с удержанием при учете, – шепнул Газональ, наклонясь к Бисиу, который вместо ответа пребольно толкнул его локтем в грудь.
– Смотри-ка, мой милый, – воскликнул Вовине, открыв ящик своего стола, – тут, оказывается, билет в пятьсот франков, прилипший к бандероли! Мне и не снилось, что я так богат; я искал для тебя вексель на четыреста пятьдесят франков, срок которому в конце будущего месяца. Серизе учтет тебе его из небольшого процента, вот у тебя и составится нужная сумма. Но только без фокусов, Бисиу. Итак, сегодня вечером я иду к Карабине… Поклянись мне…
– Разве мы не перезаключили наш союз? – сказал Бисиу, взяв билет в пятьсот франков и вексель на четыреста пятьдесят. – Даю тебе честное слово, что сегодня вечером ты встретишься с дю Тийе и другими тузами, которые решили соорудить железную дорогу… стараниями Карабины.
Вовине проводил трех друзей до самой двери, продолжая любезничать с Бисиу. Пока они спускались по лестнице, Бисиу с серьезным видом слушал Газоналя, старавшегося просветить карикатуриста насчет заключенной им сделки и доказать ему, что, если Серизе, приятель Вовине, возьмет с него за учет двадцать франков с четырехсот пятидесяти, это составит сорок процентов годовых… Но как только они вышли на улицу, Бисиу привел Газоналя в ужас, рассмеявшись смехом видавшего виды парижанина, беззвучным и холодным, словно дуновение северного ветра.
– Нам точно известно, – сказал он, – что в палате вопрос о сдаче подряда будет отложен; это мы узнали вчера от той фигурантки, с которой обменялись улыбкой… А если я сегодня вечером выиграю пять-шесть тысяч франков в ландскнехт, то какое значение имеет убыток в семьдесят франков, раз благодаря этой сделке мне есть что ставить!
– Ландскнехт, – пояснил Леон, – еще одно из бесчисленных искусно граненных стекол, в которых преломляется парижская жизнь. Поэтому, кузен, мы решили повести тебя к некоей герцогине, проживающей на улице Сен-Жорж; у нее ты увидишь цвет парижских лореток и там же можешь выиграть свой процесс. Но тебе никак нельзя показаться туда с твоей пиренейской шевелюрой: ты похож на ежа; мы сведем тебя на площадь Биржи, неподалеку отсюда, к Мариусу, тоже одному из наших комедиантов…
– Это что еще за комедиант?
– Вот вкратце его история, – начал свой рассказ Бисиу. – В 1800 году некий уроженец Тулузы по фамилии Кабо, молодой парикмахер, снедаемый честолюбием, приехал в Париж и там завел лавочку (пользуюсь вашим южным жаргоном). Этот гениальный человек (сейчас он проживает свои двадцать четыре тысячи франков ежегодной ренты в Либурне, где поселился, уйдя на покой) быстро сообразил, что с такой пошлой мещанской фамилией ему не прославиться. Поэт Парни, которого он причесывал, дал ему имя Мариус, несравненно более изысканное, чем Арман или Ипполит, обычно избираемые теми, кого судьба наделила убогими фамилиями вроде Кабо. Все преемники Кабо именовали себя Мариусами. Ныне здравствующий Мариус – это Мариус Пятый, его настоящая фамилия – Мужен. То же самое произошло со многими другими фирмами – с эликсиром Бото, с чернилами Петит-Вертю. В Париже имя, значащееся на вывеске, превращается в торговую марку и в конце концов становится как бы дворянским титулом коммерсанта. Впрочем, у Мариуса есть ученики, и он уверяет, что создал первую в мире школу парикмахерского искусства.
– Путешествуя по Франции, – сказал Газональ, – я много раз видел вывески: «Такой-то, ученик Мариуса».
– Его ученикам вменяется в обязанность мыть руки после каждой прически, – продолжал Бисиу, – но Мариус берет учеников с большим разбором: у них должны быть красивые руки и приятная наружность. Самых обходительных, самых изящных он посылает причесывать на дом, они возвращаются очень усталыми. Сам Мариус выезжает только к титулованным дамам; он держит кабриолет и грума.
– Но ведь он всего-навсего цирюльник! – с возмущением воскликнул Газональ.
– Цирюльник? – переспросил Бисиу. – Примите во внимание, что он капитан Национальной гвардии и награжден орденом за то, что в 1832 году первым вскочил на баррикаду.
– Выражайся осторожнее: он не брадобрей и не цирюльник, а директор салона причесок, – молвил Леон, когда они поднимались по устланной пышным ковром лестнице с перилами красного дерева и хрустальными балясинами.
– Да, вот еще что – не поставьте нас в неловкое положение, – предупредил Газоналя Бисиу. – В прихожей лакей снимет с вас верхнее платье и шляпу, чтобы почистить их, затем он проводит вас в один из салонов, распахнет перед вами дверь и закроет ее за вами. Я считаю полезным предупредить вас об этом, друг мой Газональ, – лукаво прибавил Бисиу, – а то вы еще, чего доброго, закричите: «Караул! Грабят!»
– Салоны, – пояснил Леон, – а их здесь три, – обставлены владельцем с самой утонченной роскошью, какая только мыслима в наши дни. На окнах – портьеры; всюду жардиньерки, мягкие диваны, расположась на которых можно, если все мастера заняты, дожидаться своей очереди за чтением газет. Входя, ты, пожалуй, невольно пощупаешь свой кошелек, опасаясь, что с тебя потребуют пять франков; но какой бы у клиента ни был карман, из него извлекают за прическу всего десять су, а за прическу со стрижкой – двадцать су. Среди жардиньерок расставлены изящные столики парикмахеров. К каждому столику проведена вода. Всюду – огромные зеркала, любуйся собой на здоровье! Итак, не выказывай удивления! Когда клиент (этим изящным словом Мариус заменил слово обыденное – «посетитель»), когда клиент переступает порог, Мариус бросает на него беглый взгляд – и он оценен; для Мариуса клиент – только «голова», более или менее способная его заинтересовать. Для него люди не существуют – он признает только головы.
– Если вы сумеете поддержать нашу игру, мы заставим Мариуса пропеть нам свою арию на все лады, – посулил Бисиу.
Едва Газональ появился в салоне, Мариус, окинув его взглядом, дал ему, по-видимому, благоприятную оценку и тотчас крикнул:
– Регул! Эта голова для вас! Сперва обработайте ее маленькими ножницами!
– Простите, – сказал Газональ ученику, уловив выразительный жест карикатуриста, – я хотел бы, чтобы меня причесал сам господин Мариус.
Весьма польщенный этим желанием, Мариус оставил голову, над которой трудился, и подошел к южанину.
– Я к вашим услугам, сейчас кончаю. Не беспокойтесь, мой ученик вас подготовит, а уж стиль прически определю я.
Затем, узнав Бисиу, Мариус – человек небольшого роста, рябоватый, с черными как смоль волосами, завитыми а-ля Рубини, весь в черном, с белоснежными манжетами и жабо, украшенным крупным бриллиантом, – поздоровался с карикатуристом как с лицом, чье могущество не уступает его собственному.
– Эта заурядная голова, – шепнул Мариус Леону, указывая на господина, которого он причесывал, – бакалейщик. Что поделаешь!.. Вздумай я всецело отдаться искусству, мне пришлось бы умереть в Бисетре умалишенным!.. – И, сделав неподражаемый жест, он вернулся к своему клиенту, сказав Регулу: – Получше займись этим господином: судя по всему, он – художник.
– Журналист! – пояснил Бисиу.
Услышав это, Мариус двумя-тремя взмахами гребенки справился с «заурядной головой», бросился к Газоналю и схватил Регула за локоть в ту минуту, когда юноша собирался защелкать маленькими ножницами.
– Я сам займусь этим господином! Взгляните на себя, сударь, – сказал он при этом бакалейщику, – посмотритесь в большое зеркало, если зеркалу будет угодно… Оссиан!
Слуга тотчас явился и помог бакалейщику одеться.
– Заплатите в кассу, сударь, – сказал Мариус растерявшемуся посетителю, который уже вынул кошелек.
– Разве предварительная обработка маленькими ножницами так уж необходима, любезнейший? – спросил Бисиу.
– Как правило, все головы поступают ко мне уже подчищенными, – заявил знаменитый парикмахер, – но из уважения к вам голову этого господина я обработаю целиком. Мои ученики обычно делают головы вчерне, иначе мне бы не управиться. Ведь все твердят, как и вы: «Я хочу, чтобы меня причесал сам Мариус». Я в состоянии давать только окончательную отделку… В какой газете вы изволите сотрудничать, сударь?
– На вашем месте я завел бы трех, а то и четырех Мариусов! – сказал Газональ.
– А, сударь, вы, я вижу, фельетонист! – воскликнул Мариус. – К сожалению, в нашем деле это невозможно! В прическе должна чувствоваться рука ее творца… Простите!
Он отошел от Газоналя, чтобы присмотреть за Регулом, который тем временем взялся за чью-то вновь прибывшую голову. Прищелкнув языком, Мариус издал неодобрительный звук, нечто вроде «тц-тц-тц».
– Да что это, боже милостивый! Что за ломаные линии! Вы не подравниваете волосы, Регул, а кромсаете их! Смотрите!.. Вот как надо! Вы ведь не пуделей стрижете, а людей. Каждый человек чем-нибудь да отличается от других, и если вы вместо того чтобы делить свое внимание между зеркалом и лицом клиента будете смотреть в потолок, вы опозорите мою фирму!
– Вы очень строги, господин Мариус…
– Мой долг – передать им тайны моего искусства.
– Так это искусство? – опрометчиво спросил южанин.
Возмущенный Мариус взглянул на Газоналя в зеркало и застыл, держа в одной руке гребенку, а в другой – ножницы.
– Сударь, вы рассуждаете, как… ребенок. Но ведь, судя по вашему произношению, вы южанин, а юг – край гениальных людей!
– Да, я знаю, что ваше занятие требует особой склонности, – поправился Газональ.
– Замолчите, сударь! От вас-то я этого никак не ожидал! Знайте же, что парикмахера – я не скажу хорошего парикмахера, ибо надо быть парикмахером по призванию или не быть им вовсе… так вот, парикмахера… труднее найти, чем… как бы это получше сказать? – чем… право, не знаю… чем министра! (Не шевелитесь!) Нет, и этого мало! О даровании министров трудно судить; улицы кишат ими… надо быть Паганини… Нет, и это сравнение слишком слабо!.. Парикмахер, милостивый государь, это человек, который разгадывает вашу душу, ваши привычки: чтобы причесать вас сообразно выражению вашего лица, он должен обладать философским складом ума. А уж что касается женщин!.. Знаете, сударь, женщины дорожат нами, они ценят нас… ценят столь же высоко, как ту победу, которую они намерены одержать в тот день, когда причесываются, чтобы добиться триумфа! Словом, парикмахер!.. никому не дано понять, что такое парикмахер! Возьмите хотя бы меня, уж я-то, пожалуй, отвечаю тому, что… скажу не хвалясь – меня все знают… И все же я считаю, что можно достичь еще большего совершенства… Выполнение – в этом все! Ах! если бы женщины предоставляли нам свободу действий, если бы я мог осуществлять все свои идеи… у меня, видите ли, дьявольское воображение, женщинам за мной не угнаться; у них свои соображения. Не успеешь откланяться, как они уже пальцами или гребнем портят наши чудесные сооружения, которые следовало бы зарисовывать, гравировать и сохранять, ибо, сударь, наши творения живут всего лишь несколько часов… Великий парикмахер – о! ведь это то же, что Карем и Вестрис на своем поприще. (Будьте любезны, поверните голову – вот так; я делаю височки. Отлично!) Нашу профессию принижают неучи, которые не понимают ни духа времени, ни искусства… Немало есть торговцев париками и жидкостями для ращения волос… У них только одно на уме – как бы продать вам склянку-другую своих снадобий… Жалкое зрелище! Это – торгаши. Эти призренные пачкуны стригут и причесывают, как умеют… Когда я приехал сюда из Тулузы, я стремился к одному – стать преемником великого Мариуса, настоящим Мариусом, работать так, чтобы я один прославил это имя больше, чем четверо моих предшественников. Я сказал себе: победить – или умереть!.. (Держитесь прямо – сейчас кончаю.) Я первый ввел изящную обстановку, сумел привлечь к моему салону всеобщее внимание. Я пренебрегаю рекламой; то, что стоила бы реклама, я, сударь, предпочитаю тратить на усовершенствования, на изысканность… В будущем году в маленьком салоне у меня будет играть квартет, будут исполняться лучшие музыкальные произведения. Да, клиента надо развлекать, когда его причесывают. Я не обольщаюсь – клиенту это дело в тягость. (Посмотритесь в зеркало.) Стричься, завиваться, пожалуй, столь же утомительно, как позировать для своего портрета. Быть может, вам, сударь, известно, что знаменитый Гумбольдт (я сумел искусно расположить редкие волосы, оставшиеся у него после Америки; ведь наука, подобно дикарю, превосходно скальпирует тех, кем она завладевает), что этот прославленный ученый говорил: «Быть вздернутым на виселицу – крайне мучительно, но позировать для портрета немногим лучше». Но, по словам некоторых женщин, причесываться – еще мучительнее, чем позировать. А я, сударь, я хочу, чтобы ко мне приходили причесываться ради удовольствия. (У вас непокорная прядь, разрешите пригладить.) Один еврей предлагал мне итальянских певиц, которые в антрактах выщипывали бы седые волосы молодым людям сорокалетнего возраста; но на поверку эти певицы оказались ученицами консерватории, преподавательницами музыки с улицы Монмартр. Вот теперь, сударь, вы причесаны, как подобает талантливому человеку. Оссиан! – крикнул Мариус лакею в ливрее. – Почистите и проводите! Чья очередь? – спросил он затем, окинув клиентов надменным взглядом.
– Не смейся, Газональ, – сказал Леон двоюродному брату, спустившись с лестницы и обводя глазами площадь Биржи. – Я вижу там одного из наших великих людей, – можешь сравнить его речи с излияниями сего коммерсанта; послушав эту вторую знаменитость, ты скажешь мне, кто из них больший чудак.
– Не смейся, Газональ, – подхватил Бисиу, подражая интонациям Леона. – Как вы думаете – чем занимается Мариус?
– Прическами.
– Он, – продолжал Бисиу, – монополизировал оптовую торговлю волосами, подобно тому как крупный фабрикант паштетов, предлагающий вам за экю баночку сего лакомства, держит в своих руках продажу трюфелей. Он учитывает векселя, обращающиеся в его отрасли торговли, под залог ссужает деньгами своих клиенток, попавших в затруднительное положение, проделывает операции с пожизненной рентой, играет на бирже, состоит акционером всех журналов мод; и, наконец, совместно с неким аптекарем и под его именем промышляет пресловутым снадобьем, приносящим ему тридцать тысяч франков годового дохода; лишь на рекламу этого зелья уходит ежегодно сто тысяч франков.
– Возможно ли это! – воскликнул Газональ.
– Запомните раз навсегда, друг мой, – важно изрек Бисиу, – в Париже нет мелкой торговли; здесь все разрастается, начиная с продажи тряпья и кончая продажей спичек. Продавец прохладительных напитков, встречающий вас с салфеткой под мышкой, возможно, имеет пять-десять тысяч франков годового дохода; официант в ресторане пользуется правом избирать и быть избранным в парламент; человек, которого вы на улице примете, чего доброго, за неимущего, носит в жилетном кармане бриллианты стоимостью в сто тысяч франков, и они не краденые!..
Трое приятелей, в тот день неразлучных, двинулись под предводительством пейзажиста дальше и едва не столкнулись с человеком лет сорока, с орденской ленточкой в петлице, который шел с бульвара по улице Нев-Вивьен.
– О чем ты замечтался, милый Дюбурдье? – спросил Леон, поравнявшись с ним. – Верно, о какой-нибудь прекрасной символической группе?! Любезный кузен, я имею удовольствие представить тебя нашему великому художнику Дюбурдье, не менее знаменитому своим талантом, чем своими гуманитарными убеждениями… Дюбурдье – мой кузен Палафокс!
Дюбурдье, человек невысокого роста, бледный, с грустными голубыми глазами, слегка кивнул Газоналю, который почтительно склонился перед гением.
– Итак, вы избрали Стидмана на место…
– Посуди сам – что же я мог сделать? Я был в отсутствии… – ответил прославленный пейзажист.
– Вы подрываете престиж Академии, – продолжал художник. – Избрать такого человека… Я не хочу сказать о нем ничего дурного, но ведь он ремесленник!.. Куда же вы приведете первое из всех искусств – то, чьи творения сохраняются дольше всех других, которое воскрешает народы после того, как в мире изгладилась самая память о них, которое увековечивает образы великих людей! Скульптура – ведь это служение святыне! Она обобщает идеи своей эпохи, а вы избрали человека, кропающего мещанские памятники и аляповатые камины, вы возвеличили поставщика безвкусной лепки, торгаша, которому не место в храме! Ах, правильно говорил Шамфор: чтобы выносить жизнь в Париже, нужно каждое утро проглатывать ядовитую змею… К счастью, у нас остается искусство; никто не может воспретить нам служить ему…
– Кроме того, друг мой, – сказал Бисиу, – у вас есть еще одно утешение, доступное лишь немногим художникам: будущее принадлежит вам! Когда мир примет ваше учение, вы возглавите ваше искусство, ибо вы вкладываете в него идеи, которые станут понятными… после того как получат всеобщее распространение! Лет через пятьдесят вы будете для всего мира тем, чем являетесь теперь только для нас, – великим человеком! Требуется лишь одно – неуклонно идти к цели!
– Совсем недавно, – начал Дюбурдье, блаженно улыбаясь, как улыбается человек, когда ему дали наконец сесть на своего конька, – я закончил аллегорическое изображение Гармонии, и, если вы зайдете посмотреть картину, вам сразу станет понятно, почему мне пришлось работать над ней целых два года. Там есть все! Стоит только взглянуть на мою картину, и вы постигнете судьбы вселенной. Повелительница держит в руке пастушеский жезл, символ размножения полезных для человечества животных пород. На голове у нее – фригийский колпак, ее груди – с шестью сосцами, как на египетских изображениях, ибо египтяне предвосхитили Фурье; ноги ее покоятся на двух скрещенных руках, охватывающих земной шар, – знак братства всех племен человеческих; она попирает разбитые пушки – это символизирует уничтожение войн; наконец, я стремился выразить в ее образе величие восторжествовавшего земледелия… Кроме того, я поместил подле Гармонии исполинский кочан капусты, так как, по словам нашего учителя, капуста олицетворяет согласие. О, Фурье заслужил право на уважение не только потому, что вновь признал за растениями способность мыслить, но и потому, что, разгадав сокровенное значение всех существ и предметов и общий им всем язык природы, он тем самым раскрыл нити, связующие воедино все мироздание. Спустя сто лет мир будет несравненно более обширен, чем сейчас.
– Как же это будет достигнуто, сударь? – спросил Газональ, ошеломленный тем, что все эти мысли излагает человек, не находящийся в сумасшедшем доме.
– Путем расширения производства. Если решатся применить его «Систему», то, по всей вероятности, станет возможно воздействовать на звезды…
– А что тогда произойдет с живописью? – полюбопытствовал Газональ.
– Она станет еще более великой.
– А глаза наши тоже увеличатся? – спросил Газональ, выразительно взглянув на своих друзей.
– Человек опять станет таким, каким он был до измельчания рода людского; шесть футов будет считаться карликовым ростом.
– А что, – спросил Леон, – твоя картина закончена?
– Совершенно, – ответил Дюбурдье. – Я добился встречи с Икларом и просил его написать симфонию на ту же тему; мне хочется, чтобы люди, созерцая мое творение, в то же время слушали музыку в духе Бетховена, которая развивала бы те же идеи, и тогда они внедрялись бы в умы двояким способом. Ах! Если бы правительство согласилось предоставить мне один из залов Лувра…
– Что ж, я могу поговорить об этом: если хочешь поразить умы, не следует пренебрегать ничем…
– О! мои друзья уже готовят статью, боюсь только, как бы они не зашли слишком далеко…
– Полноте! – прервал Бисиу. – Они все же не зайдут так далеко, как будущее…
Дюбурдье исподлобья взглянул на Бисиу и пошел своей дорогой.
– Да ведь это сумасшедший! – вскричал Газональ. – Над ним властвуют фазы луны.
– У него есть способности, есть уменье… – пояснил Леон, – но фурьеризм погубил его. Вот тебе, кузен, живой пример того, как честолюбие действует на художников. Мы в Париже часто наблюдаем, как живописец или скульптор, жаждущий быстрее, чем это возможно естественным путем, достичь славы и тем самым богатства, начинает вдохновляться веяниями времени; эти люди хотят возвеличиться, примкнув к какому-нибудь модному движению, сделавшись сторонниками какой-нибудь «Системы», и надеются, что тесный кружок их приверженцев превратится затем в широкую публику. Один из них – республиканец, другой – сенсимонист, третий – аристократ, четвертый – католик, кое-кто придерживается политики «золотой середины», иные восхваляют средневековые и немецкие идеи. Но если никакая доктрина не может наделить художника талантом, то погубить талант она вполне способна. Наглядный тому пример – бедняга, которого вы только что видели. Вера в свое творчество – вот что должно быть убеждением художника, и единственный для него путь к успеху – труд, если природа вдохнула в его душу священный огонь.
– Бежим! – вскричал Бисиу. – Леон проповедует мораль.
– А тот человек действительно верит в то, что говорит? – спросил все еще охваченный смятением Газональ.
– Искренне верит, – ответил Бисиу, – так же искренне, как наш недавний знакомый – король брадобреев.
– Он безумец! – воскликнул Газональ.
– А ведь он не единственный, кого идеи Фурье свели с ума, – заметил Бисиу. – Вы совершенно не знаете Парижа. Просите здесь сто тысяч франков, чтобы претворить в жизнь идею, сулящую человечеству неисчислимую пользу, чтобы создать что-нибудь вроде паровой машины, – и вы умрете, как Соломон де Ко, в Бисетре. Но если дело касается какого-нибудь парадокса, люди с радостью приносят в жертву и себя, и свое состояние. Знайте – с доктринами в Париже дело обстоит совершенно так же, как со всем остальным. За последние пятнадцать лет газеты, распространяющие самые невероятные учения, поглотили здесь миллионы. Вам так трудно выиграть процесс, потому что если ваши доводы и разумны, то префект, по вашим словам, имеет на своей стороне тайные преимущества.
– Теперь ты понял, – обратился Леон к своему кузену, – что, постигнув нравственную природу Парижа, умный человек уже не может жить в другом месте?
– А не свезти ли нам кузена Газоналя к старухе Фонтэн? – предложил Бисиу, знаком подзывая наемную карету. – Это разом перенесет его из суровой действительности в мир фантастики. Кучер! На улицу Вьей-дю-Тампль!
И они втроем покатили в квартал Марэ.
– Что вы мне покажете сейчас? – полюбопытствовал Газональ.
– Доказательство того, о чем тебе говорил Бисиу, – ответил Леон, – женщину, которая добывает двадцать тысяч франков в год, умело пользуясь некоей идеей.
– Гадалку, – пояснил Бисиу, истолковав недоуменный взгляд южанина как вопрос. – Среди тех, кто жаждет узнать будущее, госпожа Фонтэн слывет гораздо более сведущей, нежели покойная мадмуазель Ленорман.
– Должно быть, она очень богата! – воскликнул Газональ.
– Пока существовала лотерея, – сказал Бисиу, – она была жертвой своей идеи; ведь в Париже крупным доходам всегда соответствуют крупные расходы. Здесь в каждой умной голове непременно заводится какая-нибудь блажь, которая служит как бы предохранительным клапаном для избытка фантазии. Здесь у всех, кто загребает большие деньги, всегда бывают либо пороки, либо причуды; наверно, так нужно для равновесия.
– А сейчас, когда лотерея упразднена? – спросил Газональ.
– Ну что ж? У нашей гадалки есть племянник, она копит для него деньги.
Друзья подъехали к одному из самых старых домов улицы Вьей-дю-Тампль; по лестнице с расшатанными ступеньками и липкими от наслоившейся грязи перилами, в полумраке и удушливой вони, обычной в домах со сквозным проходом, они поднялись на четвертый этаж и остановились у двери, изобразить которую можно только рисунком; писателю пришлось бы потратить слишком много ночей, чтобы надлежаще описать ее словами.
Старуха, вполне соответствовавшая этой двери, – возможно, то была дверь, обретшая жизнь, – провела трех друзей в комнату, видимо, служившую прихожей; хотя на улицах Парижа в тот день было жарко, здесь их сразу охватил ледяной холод могильного склепа. В комнату проникал промозглый воздух внутреннего двора, похожего на огромную отдушину; подоконник был уставлен чахлыми растениями. В этой клетушке с осклизлыми, покрытыми жирной копотью стенами все – стол, стулья – имело нищенский вид. Стекла, едва пропускавшие тусклый свет, запотели, как охладительные сосуды. Словом, все до последней мелочи было под стать одетой в отрепья отвратительной старухе с бледным лицом и крючковатым носом. Предложив посетителям присесть, она предупредила их, что к мадам входят только поодиночке.
Прикинувшись смельчаком, Газональ отважно вошел первым и увидел перед собой одну из тех женщин, которых смерть как будто намеренно щадит, верно, для того, чтобы оставить среди живых несколько слепков с самой себя. На иссохшем лице старухи сверкали серые глаза, утомлявшие своей неподвижностью; приплюснутый нос был испачкан табаком; костяшки, исправно приводимые в движение бугристыми мускулами, изображали руки; они тасовали карты, но так вяло, что казалось – перед вами машина, которая вот-вот остановится. Туловище, похожее на помело, приличия ради прикрытое платьем, обладало преимуществом неорганической природы: оно не шевелилось. Голову старухи венчал черный бархатный чепец. Справа от г-жи Фонтэн – это существо действительно было женщиной – сидела черная курица, слева – толстая жаба, звавшаяся Астартой, которую Газональ сперва не заметил.
Эта огромная жаба пугала не столько своим видом, сколько глазами: два топаза, величиной с монету в пятьдесят сантимов каждый, светились, словно две ярко горящие лампы. Этот взгляд был непереносим. Как говорил несчастный Ласайи, который, умирая в глуши, до последнего издыхания боролся с жабой, опутавшей его колдовскими чарами, жаба – неразгаданное существо. Быть может, она суммирует собой все живое в природе, включая человека, ибо, утверждал тот же Ласайи, жаба живет бесконечно долго. Известно, что брачный период у нее более продолжителен, чем у всей прочей твари.
Клетка черной курицы помещалась на расстоянии двух футов от стола, покрытого зеленой скатертью; курица расхаживала по дощечке, служившей как бы подъемным мостом между столом и клеткой.
Когда старуха, наименее реальное из всех существ, находившихся в этой словно созданной фантазией Гофмана конуре, сказала Газоналю: «Снимайте!» – почтенного фабриканта невольно проняла дрожь. Тайна грозной силы таких особ – в значительности того, что мы хотим узнать от них. К ним приходят за надеждой, и они это отлично знают.
Пещера прорицательницы была еще сумрачнее прихожей, здесь нельзя было даже различить цвет обоев. Закопченный потолок не только не отражал скудный свет, падавший в окно, заставленное хилыми, бледными растениями, а поглощал большую часть его; но в этом полумраке отчетливо был виден стол, за которым расположилась ворожея. Этот стол, кресло старухи и кресло, в котором сидел Газональ, составляли всю меблировку комнаты, разделенной пополам антресолями, где г-жа Фонтэн, вероятно, ютилась ночью. Из-за низенькой приоткрытой двери слышалось бульканье кипевшей на огне похлебки. Этот связанный с кухней звук, густой запах еды и зловоние сточного желоба совсем некстати пробуждали в уме, сосредоточенном на явлениях сверхъестественных, мысль о потребностях реальной жизни. К любопытству примешивалось отвращение. Газональ заметил ступеньку некрашеного дерева, по-видимому, последнюю ступеньку внутренней лестницы, которая вела на антресоли. Он одним взглядом подметил все эти мелочи, и его затошнило. Все это было несравненно страшнее, чем вымыслы романистов и сцены из немецких драм; эта картина дышала ужасающей правдой. Спертый воздух вызывал головокружение, темнота болезненно раздражала нервы. Когда Газональ, движимый своего рода фатовством, взглянул на жабу, он ощутил под ложечкой жжение, предвещающее рвоту, и вдобавок – тот мучительный страх, который охватывает преступника при виде жандарма. Он пытался ободрить себя, всматриваясь в г-жу Фонтэн, но не мог выдержать устремленного на него взгляда белесых глаз с неподвижными ледяными зрачками. Тогда молчание стало страшным.
– Что вам угодно, сударь? – спросила г-жа Фонтэн. – Гадание за пять франков, за десять франков или большое гадание?
– Гадание за пять франков – и то уж очень дорого, – ответил Газональ, делая нечеловеческие усилия, чтобы не поддаться воздействию окружающей обстановки.
В ту минуту, когда он попытался сосредоточиться, какие-то дьявольские звуки заставили его подскочить в кресле: это закудахтала черная курица.
– Уйди, доченька, уйди, этот господин не хочет тратить больше пяти франков. – Казалось, курица поняла свою хозяйку: она уже подошла было совсем близко к картам и степенно вернулась на свое место.
– Какой ваш любимый цветок? – спросила старуха голосом, в котором клокотала мокрота, непрерывно душившая ее.
– Роза.
– Какой цвет вам наиболее приятен?
– Голубой.
– Какое животное вы предпочитаете всем другим?
– Лошадь. Но к чему все эти вопросы? – спросил в свою очередь Газональ.
– Те состояния человека, которые предшествовали нынешнему его бытию, связывают его со всем живущим, – наставительно изрекла старуха. – Здесь – источник его инстинктов, а инстинкты определяют его судьбу. Что вы едите охотнее всего: рыбу, дичь, мучное, говядину, сласти, овощи или фрукты?
– Дичь.
– В каком месяце вы родились?
– В сентябре.
– Покажите вашу руку.
Госпожа Фонтэн очень внимательно рассмотрела линии руки Газоналя. Все это она проделала серьезно, без колдовских ухищрений, столь же естественно, как нотариус, прежде чем составить деловую бумагу, расспрашивает своего клиента о его намерениях. Старуха долго тасовала карты; затем она предложила Газоналю снять и разделить их на три кучки; снова взяла карты, разложила их рядами и рассмотрела так внимательно, как игрок разглядывает все тридцать шесть номеров рулетки, прежде чем поставить на один из них. Газональ весь похолодел: он уже не соображал, где находится; но его изумление достигло предела, когда страшная старуха в зеленом засаленном мешковатом капоте, с накладными буклями, в которых было гораздо больше черных ленточек, чем волос, завивавшихся наподобие вопросительных знаков, стала сиплым от одышки голосом выкладывать ему все, даже тщательно скрываемые им события его прошлой жизни; она точно определила его вкус, характер, привычки, упомянула даже, о чем он мечтал в детстве, рассказала обо всем, что могло иметь на него влияние, о его несостоявшейся женитьбе и о том, почему так случилось; точно изобразила женщину, которую он некогда любил, и, наконец, сообщила, откуда он приехал, из-за чего судится, и так далее.
Газональ сперва предположил, что все это – подстроенная кузеном Леоном мистификация; но едва ему явилась эта мысль, как он уже понял всю нелепость такого заговора и застыл в изумлении перед поистине дьявольской силой, воплощенной в существе, обладавшем лишь теми чертами человеческого облика, которые воображение художников и поэтов во все времена считало самыми отталкивающими, – в уродливой, страдающей одышкой старушонке, беззубой, с бескровными губами, приплюснутым носом, белесыми глазами. Теперь в зрачках г-жи Фонтэн горела жизнь, в них искрился луч света, пробившийся из глубин будущего или из преисподней. Прервав старуху, Газональ невольно спросил, для чего ей нужны курица и жаба.
– Чтобы предсказывать будущее. Посетитель сам, наудачу, рассыпает зерна по картам. Клеопатра склевывает их; Астарта ползает рядом в поисках пищи, которую ей бросает посетитель, и оба эти поразительно умные существа никогда еще не ошибались, не хотите ли посмотреть их за работой? Вы узнаете будущее. Цена – сто франков.
Газональ, устрашенный взглядом Астарты, поклонился зловещей г-же Фонтэн и опрометью бросился в прихожую. Он был весь в поту; ему чудилось, что он побывал в когтях у самого дьявола.
– Уйдем скорей! – крикнул он обоим художникам. – А сами-то вы обращаетесь когда-нибудь к этой ведьме?
– Я не берусь ни за одно важное дело, не узнав предварительно мнения Астарты, и никогда еще в этом не раскаивался, – ответил Леон.
– А я жду приличного состояния, которое мне посулила Клеопатра, – подхватил Бисиу.
– Меня бросает то в жар, то в холод! – вскричал южанин. – Если я поверю в то, что вы говорите, я должен буду уверовать в колдовство, в сверхъестественную силу!
– Что ж, это было бы вполне естественно, – заметил Бисиу. – Среди лореток – каждая третья, среди политических деятелей – каждый четвертый, добрая половина художников советуются с госпожой Фонтэн. Известно даже, что она служит Эгерией одному из министров.
– Она предсказала тебе будущее? – спросил Леон.
– Нет, хватит с меня прошлого. Но если она может с помощью своих страшных помощников предсказывать будущее, – продолжал Газональ, пораженный блеснувшей у него мыслью, – то как же она могла проигрывать в лотерее?
– А! Ты затронул одну из величайших тайн оккультных наук, – ответил Леон. – Стоит только тому внутреннему зеркалу, в котором для этих людей отражается будущее и прошлое, хоть слегка замутиться от дуновения личного чувства или мысли, чуждой той силе, которую они приводят в действие, как ворожей или ворожея теряют способность видеть сокрытое, так же как художник, привносящий в свое творчество политические или деловые соображения, теряет свой талант. Не так давно человек, обладавший даром предсказывать по картам, соперник старухи Фонтэн, занимавшийся преступными делами, не сумел верно погадать самому себе и заблаговременно узнать, что его арестуют, предадут суду присяжных и осудят. Госпожа Фонтэн, из десяти раз восемь правильно предсказывающая будущее, не могла предугадать, что она в лотерее проиграется в пух и прах.
– Так же обстоит дело и с магнетизмом, – заметил Бисиу. – Нельзя замагнетизировать самого себя.
– Ну вот! договорились до магнетизма! – вскричал Газональ. – Да вы, видно, знаете все на свете!
– Друг мой Газональ, – с важным видом изрек Бисиу, – чтобы иметь право смеяться надо всем, нужно все знать. Что касается меня, я живу в Париже с детства, и мой карандаш кормит меня здесь за счет смешного: пять карикатур в месяц… Вот мне и приходится зачастую высмеивать многое, во что я сам верю!
– Перейдем к иного рода упражнениям, – предложил Леон, – отправимся-ка в палату; там мы устроим дело кузена.
– Вот это уж относится к области высокой комедии, – сказал Бисиу, подражая тону Одри и Гайара; мы разыграем первого же оратора, который нам встретится, и вы убедитесь, что в палате, как и повсюду, парижскому говору свойственны только два ритма: корысть и тщеславие.
Когда они снова усаживались в карету, Леон обратил внимание на мчавшийся мимо кабриолет и знаком руки дал седоку понять, что хочет поговорить с ним.
– Это Публикола Массон, – сказал он Бисиу. – Я хочу попросить его прийти ко мне в пять часов, после заседания палаты. Кузен увидит самого невероятного из всех чудаков…
– Кто это? – осведомился Газональ, пока Леон беседовал с Публиколой Массоном.
– Педикюрщик, автор сочинения об уходе за телом; вы можете абонироваться у него на удаление мозолей; если республиканцы будут у власти хотя бы полгода, он, несомненно, обессмертит себя.
– И он разъезжает в экипаже! – воскликнул Газональ.
– Но, друг мой, в Париже только у миллионеров хватает времени ходить пешком.
– В палату! – крикнул Леон кучеру.
– В какую, сударь?
– Депутатов, – пояснил Леон, обменявшись улыбкой с Бисиу.
– Париж начинает меня подавлять, – признался Газональ.
– Для того чтобы вы постигли его грандиозность в смысле нравственном, политическом и литературном, мы теперь будем действовать, как римские чичероне, показывающие вам на крыше собора святого Петра палец статуи; снизу вам представлялось, что это палец обыкновенных размеров, а вблизи он оказывается величиной в целый фут. Вы пока еще не измерили ни одного пальца Парижа! И заметьте, кузен Газональ, мы берем то, что попадается по пути, не выбирая!
– Вечером, – прибавил Леон де Лора, – ты будешь на валтасаровом пиру и увидишь тот Париж, где вращаемся мы; тех, кто, играя в ландскнехт, ставит на карту, не моргнув глазом, сто тысяч франков.
Минут через пятнадцать карета остановилась перед широкой лестницей палаты депутатов, у той стороны моста Согласия, которая ведет к несогласию.
– А я-то думал, что в палату невозможно проникнуть… – сказал изумленный южанин, очутившись в большом зале, расположенном перед залом заседаний.
– Как сказать, – ответил Бисиу, – чтобы побывать здесь, достаточно истратить тридцать су на кабриолет; чтобы заседать здесь, требуются гораздо большие издержки. По словам одного поэта, ласточки воображают, что Триумфальную арку на площади Этуаль воздвигли для них; так и мы, художники, воображаем, что это монументальное здание воздвигли для того, чтобы возместить бездарность Французской комедии и дать нам повод посмеяться вволю. Но здешние комедианты обходятся намного дороже и не каждый день дают нам занимательные спектакли.
– Так вот она, палата!.. – повторял Газональ, расхаживая по залу, где в то время находилось человек десять, и разглядывая все с таким видом, что Бисиу запечатлел провинциала в своей памяти для одной из тех замечательных карикатур, которыми он соперничает с Гаварни.
Леон подошел к одному из служителей, беспрестанно снующих между этим залом и залом заседаний; эти помещения соединены кулуаром, где обычно находятся стенографы «Монитера» и некоторые лица, служащие в палате.
– Министр здесь, – ответил служитель Леону как раз в ту минуту, когда Газональ подошел к ним, – но я не уверен, здесь ли еще господин Жиро; пойду посмотрю.
Служитель открыл одну половину двустворчатой двери, через которую обычно входят только министры, депутаты или уполномоченные короля, и Газональ увидел мужчину, на вид еще молодого, хотя ему было сорок восемь лет; служитель указал ему на Леона де Лора.
– А! это вы! – сказал он, пожимая руку Леону и Бисиу. – Чудаки!.. Зачем это вы пожаловали в святилище законов?
– Затем, черт возьми, чтобы поупражняться в пустословии, – ответил Бисиу. – Без этого совсем закиснешь.
– Раз так, пройдем в сад, – предложил моложавый мужчина; он и не подозревал, что Газональ пришел вместе с художниками.
Разглядывая незнакомца, безукоризненно одетого, во всем черном, без единой орденской ленточки, Газональ недоумевал, к какой политической группе его следует причислить; все же он пошел следом за ним в сад, который примыкает к палате и тянется вдоль набережной, некогда именовавшейся набережной Наполеона.
Выйдя в сад, моложавый мужчина дал волю смеху, который с трудом сдерживал, пока находился в зале.
– Что с тобой? – спросил Леон де Лора.
– Любезный друг, чтобы доказать искренность намерений конституционного правительства, нам приходится с невероятной бойкостью лгать самым наглым образом. Но у меня переменчивый нрав. Бывают дни, когда я вру, как театральная афиша, зато в другие я не в состоянии сохранять серьезность. Как раз сегодня на меня нашел веселый стих. Сейчас председатель кабинета министров, которого оппозиция принуждает раскрыть тайны дипломатии, – разумеется, он этого не сделал бы, если б речь шла о тайнах министерства, – изворачивается на трибуне, как только может; но ведь он человек порядочный и в личных своих делах лгать не привык, поэтому, прежде чем пойти на приступ, он растерянно шепнул мне: «Не знаю, чего бы им насочинять!» Когда я увидел его на трибуне, меня стал душить смех, и я поспешил уйти: ведь на министерской скамье смеяться не полагается, а там ко мне иногда совсем некстати возвращается молодость!
– Наконец-то, – вскричал Газональ, – я встретил в Париже порядочного человека! Вы, должно быть, личность весьма выдающаяся! – добавил он, всматриваясь в незнакомца.
– Что такое? С кем имею честь? – спросил моложавый мужчина, смерив Газоналя взглядом.
– Это мой кузен, – поспешил ответить Лора. – Человек весьма сдержанный и честный, ручаюсь за него, как за самого себя. Мы пришли сюда из-за него: решение тяжбы между ним и местными властями зависит от твоего министерства. Префект их департамента собирается разорить его дотла, и мы надумали повидаться с тобой, чтобы помешать Государственному совету совершить несправедливость.
– Кто докладчик?
– Массоль.
– Ладно!
– И в том же отделении наши друзья Жиро и Клод Виньон, – вставил Бисиу.
– Замолви им словечко, и пусть они сегодня вечером придут к Карабине: дю Тийе устраивает у нее блестящее празднество, чтобы разрекламировать постройку новой железной дороги, а всем известно, что на дорогах сейчас грабят как никогда, – прибавил Леон.
– Постойте! Но ведь этот городок в Пиренеях? – спохватился моложавый мужчина; его веселости как не бывало.
– Да, – подтвердил Газональ.
– И вы не голосуете за нас на выборах? – продолжал государственный муж, глядя в упор на Газоналя.
– Нет; но то, что вы сейчас говорили при мне, подкупило меня; даю вам слово командира Национальной гвардии – я проведу вашего кандидата.
– Ну как, ты и в этом ручаешься за своего кузена? – спросил моложавый мужчина, обращаясь к Леону.
– Мы его просвещаем, – с неподражаемым комизмом в голосе заверил Бисиу.
– Что ж, посмотрим, – сказал моложавый мужчина; он отошел от друзей и поспешно направился в зал заседаний.
– Кто это? – спросил Газональ.
– Граф де Растиньяк, министр; от него зависит исход твоего дела.
– Министр! Вот уж не подумал бы!
– Да ведь он наш старый приятель. У него триста тысяч франков годового дохода, он пэр Франции, король пожаловал ему графский титул, он зять Нусингена; он – один из двух-трех государственных деятелей, рожденных Июльской революцией; но власть иногда тяготит его, и он рад посмеяться с нами…
– Как же, кузен, ты не сказал нам, что там, в своем захолустье, принадлежишь к оппозиции? – спросил Леон, взяв Газоналя под руку. – Неужели ты так глуп? Одним депутатом больше, одним депутатом меньше у правых или у левых – тебе-то ведь от этого ни тепло ни холодно…
– Мы – за тех… прежних…
– Оставьте их в покое, – сказал Бисиу с комизмом, достойным Монроза, – за них провидение; если ему будет угодно, оно вернет их без вас и наперекор им самим… Фабрикант должен быть фаталистом.
– Вот славно! Максим де Трай с Каналисом и Жиро! – воскликнул Леон.
– Скорее, друг мой Газональ! Обещанные актеры выходят на сцену! – возвестил Бисиу.
Трое приятелей направились к тем, кого издали узнал Леон де Лора. Эти люди шли с видом фланеров.
– Что вы тут прогуливаетесь? Уж не выставили ли вас? – спросил Бисиу, обращаясь к Жиро.
– Нет, мы вышли подышать чистым воздухом, пока заканчивается тайное голосование, – ответил тот.
– Скажите, как выпутался председатель кабинета?
– Он был великолепен! – сказал Каналис.
– Великолепен! – подхватил Жиро.
– Великолепен! – как эхо, повторил Максим де Трай.
– Вот как! Значит, все вы – правая, левая, центр – единодушны?
– Нет, у нас разные точки зрения, – пояснил Максим де Трай.
Он принадлежал к правительственной партии.
– Конечно, – смеясь, подтвердил Каналис, депутат, однажды уже бывший министром, но в то время заигрывавший с правыми.
– О, сейчас вы одержали блестящую победу, – сказал Максим Каналису, – ведь вы принудили министра подняться на трибуну!
– И врать не хуже любого шарлатана, – ответил Каналис.
– Хороша победа! – возразил прямодушный Жиро. – А что бы вы сделали на его месте?
– Я бы тоже лгал.
– Это не называется лгать, – возразил Максим де Трай, – это называется «прикрывать корону».
И он отвел Каналиса в сторону.
– Вот великий оратор! – сказал Леон, указывая Жиро на Каналиса.
– И да, и нет, – ответил член Государственного совета, – он пустозвон, фразер, у него больше блестящей декламации, чем подлинного красноречия; словом, это прекрасный инструмент, но музыка не получается; поэтому он не владеет и никогда не будет владеть вниманием палаты. Он считает себя нужным для Франции, но ему никогда не стать незаменимым человеком.
Каналис и Максим вернулись к беседовавшим как раз после того, как Жиро, депутат левого центра, высказал это суждение. Максим взял Жиро под руку и увел его довольно далеко, возможно, чтобы доверительно сообщить ему то же, что он сказал Каналису.
– Какой порядочный, достойный человек! – сказал Леон, указывая Каналису на Жиро.
– Это та честность, которая свергает правительства, – ответил Каналис.
– Как по-вашему, он хороший оратор?
– И да, и нет, – ответил Каналис, – он многословен, расплывчат; он мастерски обосновывает свои рассуждения, у него ясная логика, но великая логика – логика событий и дел выше его понимания: поэтому он не владеет и никогда не будет владеть вниманием палаты…
В ту минуту, когда Каналис выносил это суждение о Жиро, тот вместе с Максимом вернулся к беседовавшим; забыв, что с ними посторонний и что не известно, способен ли этот человек так же хранить тайну, как Леон и Бисиу, Жиро со значительным видом взял Каналиса за руку и заявил:
– Ну что ж, я согласен на то, что предлагает граф де Трай; я внесу запрос, но в очень резкой форме…
– Тогда палата будет на нашей стороне, – сказал Каналис, – ведь человек, столь влиятельный и столь красноречивый, как вы, всегда владеет ее вниманием. Я отвечу… и отвечу яростно, чтобы сокрушить вас.
– Вы можете вызвать смену кабинета, ибо в этом вопросе вы добьетесь от палаты всего, чего только захотите; и тогда вы окажетесь незаменимым человеком.
– Максим провел их обоих, – шепнул Леон своему кузену. – В интригах палаты этот молодчик чувствует себя как рыба в воде.
– Кто он такой? – спросил Газональ.
– В прошлом – мерзавец, имеющий ныне все шансы стать посланником, – ответил Бисиу.
– Жиро, – обратился Леон к члену Государственного совета, – прежде чем уйти домой, напомните Растиньяку, что он обещал мне поговорить с вами относительно тяжбы, которую вы будете разбирать послезавтра; эта тяжба касается моего кузена, здесь присутствующего; завтра утром я зайду к вам поговорить об этом.
И трое друзей, держась на некотором расстоянии от трех политических деятелей, проследовали за ними по направлению к залу заседаний.
– Взгляни-ка на этих двух людей, кузен, – шепнул Леон Газоналю, указывая на бывшего министра, пользовавшегося широкой известностью, и на вожака левого центра, – эти два оратора всегда владеют вниманием палаты; их остроумно прозвали министрами по ведомству оппозиции. Каждое их слово палата ловит, навострив уши, и они нередко пользуются этим, чтобы больно потеребить их.
– Уже четыре часа; пора вернуться на Берлинскую улицу, – напомнил Бисиу.
– Ну вот, кузен, ты только что видел сердце правительства; теперь мы должны показать тебе глистов, аскарид, солитера, республиканца, ибо нужно называть вещи своими именами, – сказал Леон Газоналю.
Как только трое друзей уселись все в ту же наемную карету, Газональ взглянул на своего кузена и на Бисиу; насмешка, сверкавшая в этом взгляде, предвещала поток желчного южного красноречия.
– Я и прежде не доверял этому развратному городу – Парижу, но с сегодняшнего утра я его презираю! Бедная и жалкая провинция – все же честная девушка, а столица – продажная женщина, алчная и лживая комедиантка, и я счастлив, что не оставил здесь ни клочка своей шерсти…
– День еще не кончился, – наставительно сказал Бисиу, подмигнув Леону.
– Не глупо ли жаловаться, заметил Леон, – на пресловутую продажность, если благодаря ей ты выиграешь свой процесс?.. Неужели ты считаешь себя более добродетельным, чем мы, и в меньшей мере комедиантом, менее алчным, менее склонным скользить по наклонной плоскости, менее тщеславным, чем все те, кем мы сегодня забавлялись, словно картонными паяцами?
– Попробуйте-ка меня поддеть…
– Бедняга! – сказал Леон, пожав плечами. – Не обещал ли ты уже Растиньяку использовать свое влияние на выборах?
– Да, потому что он единственный, кто смеялся над самим собой…
– Бедняга! – повторил Бисиу. – Вы бросаете вызов мне – мне, кто только и делает, что насмехается… Вы напоминаете мне моську, дразнящую тигра… Ах, если б вы только видели, как мы умеем потешаться над людьми… Да знаете ли вы, что мы можем свести с ума самого здравомыслящего человека?
В пылу спора Газональ и не заметил, как очутился в особняке Леона, обставленном с такой роскошью, что южанин онемел от изумления и перестал препираться. Лишь позднее он понял, что Бисиу уже успел сыграть с ним шутку.
В половине шестого, когда Леон де Лора одевался к вечеру в присутствии Газоналя, пораженного сложностью этих суетных приготовлений и робевшего перед исполненным важности камердинером, доложили о педикюрщике.
Публикола Массон, пятидесятилетний человек небольшого роста, лицом похожий на Марата, раскланялся с Газоналем и Бисиу, положил ящичек с инструментами на пол и уселся на низенький стул против Леона.
– Как дела? – спросил Леон, протягивая ему ногу, предварительно вымытую камердинером.
– Мне пришлось взять двух учеников, двух молодых людей, которые, изверившись в своей будущности, изменили хирургии ради науки ухода за телом; оба умирали с голоду, хотя и талантливы.
– О! Я спрашиваю не о мозольных делах; меня интересует, в каком положении ваши политические дела…
Массон метнул в сторону Газоналя взгляд, более красноречивый, чем любой вопрос.
– О, вы можете говорить свободно, это мой кузен и почти что ваш единомышленник: он считает себя легитимистом.
– Ах, так! Ну что ж, мы движемся! Мы шагаем вперед! Еще пять лет, и вся Европа будет нашей!.. Италия и Швейцария подвергаются энергичной обработке, и при первом же благоприятном случае мы готовы выступить. Здесь у нас пятьдесят тысяч вооруженных людей, не считая тех двухсот тысяч граждан, у которых нет ни гроша за душой…
– Постойте! – прервал его Леон. – А укрепления?
– Они слеплены из теста, их мигом проглотят, – ответил Массон. – Во-первых, мы не допустим, чтобы были пущены в ход пушки; а во-вторых, у нас есть небольшая машинка, более мощная, чем все укрепления в мире, машинка, изобретенная неким врачом, который ею излечил больше людей, чем все врачи, вместе взятые, доконали в те времена, когда она действовала вовсю.
– Как вы решительны! – воскликнул Газональ; у него холодок пробежал по телу, когда он увидел выражение лица Публиколы.
– Что поделаешь? Иначе нельзя! Мы пришли после Робеспьера и Сен-Жюста, и мы должны их превзойти. Они были недостаточно смелы, сами видите, что из этого получилось: император, старшая династия, младшая династия! Мало подстригли монтаньяры социальное дерево!
– Вот что! – вмешался Бисиу. – По слухам, вы будете консулом или чем-то вроде трибуна, – так не забудьте, что я уж целых двенадцать лет домогаюсь вашего покровительства.
– С вами ничего не случится: нам понадобятся шутники, и вы сможете занять место Барера, – ответил педикюрщик.
– А я? – спросил Леон.
– Вы – мой клиент, и это вас спасет; но, вообще говоря, талант – возмутительная привилегия, носителям которой дозволяют во Франции слишком многое, и мы будем вынуждены убрать кое-кого из наших великих людей, чтобы научить остальных быть обыкновенными гражданами…
Полусерьезный, полушутливый тон педикюрщика привел Газоналя в содрогание.
– Значит, – спросил он, – религии не будет?
– Не будет религии государственной, – ответил Массон, делая ударение на последнем слове, – у каждого будет своя религия. Очень хорошо, что в последнее время покровительствуют монастырям, это подготовляет финансовые ресурсы для нашего правительства. Все втайне работает на нас. Все те, кто жалеет народ, кто кричит по поводу пролетариата и оплаты труда, кто пишет сочинения против иезуитов, кто занимается исследованием вопроса об усовершенствовании чего бы то ни было… сторонники равенства, гуманисты, филантропы – все они составляют наш передовой отряд. Мы накопляем порох, а они тем временем плетут фитиль, который воспламенится, когда то или иное событие заронит искру.
– Чего же вы все-таки хотите для счастья Франции? – спросил Газональ.
– Мы хотим равенства всех граждан, дешевизны съестных припасов… Мы хотим, чтобы не было ни бедняков, лишенных всего, ни миллионеров, ни кровопийц, ни жертв!
– Ах, вот что – опять максимум и минимум, – сказал Газональ.
– Вот именно, – решительно заявил педикюрщик.
– И фабрикантов больше не будет? – полюбопытствовал Газональ.
– Все будут производить для государства, все мы будем жить на счет Франции… Каждый будет получать свой рацион, как матросы на корабле, и работать в меру своих способностей.
– Ладно! – сказал Газональ. – А покамест в ожидании того дня, когда вы сможете рубить аристократам головы…
– Я обрезаю им ногти, – договорил за него неистовый республиканец, на лету подхватив каламбур.
Он собрал свои инструменты, учтиво раскланялся и вышел.
– Возможно ли такое? В 1845 году?.. – вскричал Газональ.
– Будь у нас больше времени, – ответил пейзажист, – мы показали бы тебе одного за другим всех деятелей 1793 года. Ты только что видел Марата, а мы знаем еще Фукье-Тенвиля, Колло д'Эрбуа, Робеспьера, Шабо, Фуше, Барраса, есть даже изумительная госпожа Роллан.
– Согласитесь, в этом представлении была изрядная доля трагизма, – заметил южанин.
– Уже шесть часов; прежде чем мы поведем тебя на «Жонглеров» (сегодня играет Одри), – сказал Леон своему кузену, – необходимо нанести визит госпоже Кадин, актрисе, к которой очень благоволит докладчик по твоему делу, Массоль; сегодня вечером ты должен как можно усерднее ухаживать за ней.
– Постарайтесь расположить в свою пользу эту влиятельную особу, – прибавил Бисиу. – Я дам вам кое-какие указания. Применяете ли вы на своей фабрике женский труд?..
– Разумеется, – ответил Газональ.
– Это все, что я хотел знать, – сказал Бисиу, – вы не женаты, вы – мужчина в соку…
– Верно! – вскричал Газональ. – Вы угадали мою слабость: обожаю женщин…
– Так вот… если вы захотите пустить в ход маленькую хитрость, которую я вам укажу, то, не истратив ни гроша, изведаете всю прелесть близости с актрисой…
По дороге на улицу Виктуар, где жила знаменитая Женни Кадин, Бисиу, задумавший сыграть с недоверчивым провинциалом презабавную шутку, едва успел объяснить ему, в какой роли тот должен выступить; но, как покажет дальнейшее, южанин понял его с полуслова.
Трое друзей поднялись на третий этаж довольно красивого дома и застали актрису за обедом: она должна была играть в театре «Жимназ» во второй пьесе. Представив Газоналя этой могущественной особе, Леон и Бисиу, под предлогом осмотра недавно купленного ею столика, оставили их вдвоем; но выходя, Бисиу шепнул ей:
– Это кузен Леона, фабрикант, миллионер. Чтобы выиграть тяжбу против префекта в Государственном совете, он решил очаровать вас и таким образом привлечь на свою сторону Массоля.
Весь Париж знает, как прелестна эта актриса; вполне понятно, что южанин, увидев ее, растаял. Вначале она обошлась с ним довольно холодно, но затем, в течение немногих минут, которые они провели наедине, была очень любезна.
– Как можно, – спросил Газональ, с презрением оглядывая мебель соседней гостиной, дверь которой его сообщники оставили полуоткрытой, и в то же время мысленно подсчитывая стоимость обстановки столовой, – как можно держать такую женщину, как вы, в этой собачьей конуре?
– Ах! Что поделаешь! Массоль небогат, я жду, пока он станет министром…
– Счастливец! – воскликнул Газональ, вздохнув так, как вздыхают влюбленные провинциалы.
«Отлично! – подумала актриса. – Я заново обставлю квартиру и смогу тогда соперничать с Карабиной».
– Дитя мое, – сказал Леон, возвратясь в столовую, – стало быть, вы приедете сегодня вечером к Карабине? Будут ужинать, играть в ландскнехт.
– А вы там будете, сударь? – с милым простодушием спросила Женни Кадин у Газоналя.
– Да, сударыня, – ответил провинциал, ошеломленный столь быстрым успехом
– Но там будет и Массоль, – предостерегающе сказал Бисиу.
– Что ж из этого? – возразила Женни. – Идемте, мои драгоценные, мне пора в театр.
Газональ предложил Женни руку и довел ее до наемной кареты, ожидавшей у подъезда; на прощанье он так страстно сжал ей пальцы, что актриса воскликнула, тряся рукой:
– Осторожно! Запасных у меня нет!
Усевшись в коляску, Газональ порывисто обнял Бисиу и завопил:
– Клюнуло! Ну и злодей же вы!
– Женщины тоже так считают, – ответил Бисиу.
В половине двенадцатого, после театра, фиакр доставил друзей к Серафиме Синé, более известной под именем Карабины. Это было одно из тех боевых прозвищ, которые знаменитые лоретки придумывают сами или получают от своих приятелей. Возможно, оно объяснялось тем, что Карабина, наметив жертву, била без промаха.
Когда известный банкир дю Тийе, депутат левого центра, стал почти неразлучен с Карабиной, она поселилась в прелестном особнячке на улице Сен-Жорж. В Париже встречаются дома, словно предназначенные для жильцов определенного пошиба: в этом доме обитали уже, одна за другой, семь куртизанок. В 1827 году некий биржевой маклер снял его для Сюзанны дю Валь-Нобль, ставшей впоследствии г-жой Гайар. Ее сменила знаменитая Эстер, из-за которой барон Нусинген совершил единственный раз в жизни немало безумств. Позднее там блистали сначала Флорина, а затем та, которую в шутку называли «покойная госпожа Шонц». Наконец дю Тийе, которому наскучила жена, купил этот небольшой, построенный в современном вкусе особняк для блестящей Карабины, чей живой ум, лихие манеры, дерзкий разврат составляли противовес однообразию семейной жизни дю Тийе, его финансовым и политическим заботам. Бывали дю Тийе и Карабина дома или нет, стол все равно каждый день накрывался, притом роскошнейшим образом, на десять приборов. Здесь обедали художники, писатели, журналисты, завсегдатаи дома; по вечерам здесь играли в карты. Не один член обеих палат приходил сюда в поисках того, что в Париже покупается на вес золота, – удовольствия. Кометы парижского небосвода, эксцентричные женщины, которых так трудно распределить по категориям, ослепляли в этом салоне взоры великолепием своих нарядов. Здесь блистали остроумием, ибо здесь можно было говорить обо всем и договаривать все до конца. Карабина, соперница не менее знаменитой Малаги, была наконец признана преемницей салона Флорины, ставшей г-жой Натан, салона Туллии, ставшей г-жой дю Брюэль, и салона г-жи Шонц, ставшей женой председателя суда дю Ронсере.
Войдя в салон, Газональ произнес лишь несколько слов, выражавших суждение столь же верное, сколь и легитимистское: «Здесь красивее, чем в Тюильри». Шелк, бархат, парча, позолота, развешанные и расставленные повсюду предметы искусства так поразили провинциала, что он не заметил Женни Кадин в ослепительном туалете. Заслоненная Карабиной, с которой она беседовала, актриса наблюдала за южанином с первой минуты его появления.
– Дорогая, – сказал Леон Карабине, – этот господин мой двоюродный брат, фабрикант, он свалился на меня сегодня утром прямо с Пиренейского хребта; он в Париже как в лесу, ему нужна поддержка Массоля в тяжбе, решающейся в Государственном совете. Вот мы и позволили себе привезти к вам господина Газоналя на ужин, но просим вас не сводить его с ума…
– Как вам будет угодно, сударь; вино нынче дорого, – сказала Карабина, смерив Газоналя взглядом и не найдя в нем ничего примечательного.
Газональ, пораженный туалетами, ярким освещением, позолотой, жужжаньем голосов, которые, как ему казалось, говорили о нем, с трудом пролепетал:
– Сударыня… сударыня… вы так добры.
– Что выделывают на вашей фабрике? – спросила, улыбаясь, хозяйка дома.
– Кружева. Предложите ей гипюр! – шепнул Бисиу на ухо Газоналю.
– Ги… ги… ги…
– Гири! Ну, знаешь, Кадин! Гири! Ты просчиталась, крошка.
– Гипюр! – выговорил наконец Газональ, смекнув, что ужин придется оплатить. – Я сочту за величайшее удовольствие предложить вам платье… шарф… мантилью с моей фабрики.
– О! Целых три подарка! Ну что ж! Вы любезнее, чем можно было предположить, – сказала Карабина.
«Париж завладел мною», – сказал себе Газональ, заметив Женни Кадин и приветствуя ее.
– А я что получу? – спросила его актриса.
– Но… все мое состояние, – ответил Газональ, решив, что пообещать все – значит не дать ничего.
Вошли Массоль, Клод Виньон, дю Тийе, Максим де Трай, Нусинген, дю Брюэль, Малага, супруги Гайар, Вовине – целая толпа гостей.
Обстоятельно поговорив с фабрикантом о его тяжбе, Массоль, ничего не обещая, сказал ему, что заключение еще не составлено, но что граждане всегда могут положиться на обширные знания и независимость членов Государственного совета. Придя в отчаяние от этого холодного и надменного ответа, Газональ счел необходимым обольстить очаровательную Женни Кадин, в которую уже успел без памяти влюбиться. Леон де Лора и Бисиу отдали свою жертву во власть самой проказливой из женщин этого странного общества, ибо Женни Кадин – единственная соперница знаменитой Дежазе. За столом, где Газоналя привело в восхищение чеканное серебро работы Фроман-Мериса, современного Бенвенуто Челлини, причем все, что подавалось, стоило не многим дешевле того, в чем это подавалось, – оба шутника постарались сесть подальше от южанина; но они исподтишка следили за успехом лукавой актрисы, которая, соблазнясь необдуманным обещанием Газоналя обновить ее обстановку, задалась целью увезти его к себе. Агнец Иоанна Крестителя – и тот вряд ли следовал за ним более покорно, чем Газональ за этой сиреной.
Три дня спустя Леон и Бисиу, не видевшие Газоналя с того вечера, разыскали его часа в два пополудни в меблированных комнатах.
– Ну вот, кузен! Государственный совет вынес решение в твою пользу.
– Увы! Это теперь ни к чему, кузен, – ответил Газональ, уныло взглянув на своих друзей. – Я стал республиканцем…
– Что такое? – спросил Леон.
– У меня нет больше ничего, нечем даже заплатить адвокату. Женни Кадин получила с меня векселей на сумму, превышающую мое состояние.
– Действительно, Женни Кадин обходится недешево, зато…
– О! за свои деньги я изведал немало, – ответил Газональ. – Ах! Какая женщина!.. Что и говорить, провинция не может соперничать с Парижем – я ухожу в монастырь траппистов.
– Отлично! – заявил Бисиу. – Наконец-то вы образумились! А теперь признайте величие столицы…
– …и капитала! – закончил Леон, протягивая Газоналю его векселя.
Южанин растерянно смотрел на свои обязательства.
– После этого вы не скажете, что мы не умеем оказывать гостеприимство: мы вас просветили и спасли от нищеты, попотчевали и… позабавили, – сказал Бисиу.
– И все – задаром! – добавил Леон, сделав жест уличного мальчишки, когда тот поясняет, что значит стибрить.
Париж, ноябрь 1845 г.
История величия и падения Цезаря Бирото, владельца парфюмерной лавки, помощника мэра второго округа г. Парижа, кавалера ордена Почетного легиона и пр.
Г-ну Альфонсу де Ламартину
его почитатель де Бальзак.I. ЦЕЗАРЬ В АПОГЕЕ ВЕЛИЧИЯ
В зимние ночи суета на улице Сент-Оноре замирает совсем ненадолго, – едва кончится разъезд карет после спектаклей и балов, начинается движение зеленщиков к Центральному рынку. В ту пору, когда стихает великая симфония парижских шумов, около часа ночи, жена г-на Цезаря Бирото, владельца парфюмерной лавки у Вандомской площади, внезапно пробудилась от страшного сна. Жена парфюмера видела себя сразу в двух лицах: она предстала сама пред собой в лохмотьях; иссохшей, морщинистой рукой она пыталась приоткрыть дверь собственной лавки, где находилась одновременно и на пороге, и на своем обычном месте – за конторкой; она у себя самой просила милостыню, слышала свой голос и в дверях и у кассы. Г-жа Бирото решила разбудить мужа, но рука ее нащупала лишь пустоту. Тогда она вся похолодела от страха, не в силах была повернуть головы, шея у нее одеревенела, перехватило дыхание и пропал голос; она замерла, пригвожденная к своему ложу за отдернутыми занавесями алькова, глаза ее расширились и неподвижно уставились в одну точку, волосы на голове зашевелились, в ушах звенело, сердце сжималось и часто билось, она обливалась холодным потом.
Страх – явление столь сильное и болезненно действующее на организм, что все способности человека внезапно достигают либо крайнего напряжения, либо приходят в полный упадок. Физиологов долгое время смущал этот феномен, он опровергал их теории и опрокидывал их догадки; хотя страх – это всего лишь электрический разряд в организме, он, как всякое электрическое явление, принимает формы странные и причудливые. Объяснение это станет общепринятым, когда ученые постигнут огромную роль электричества в человеческой психике.
Госпожа Бирото испытала жестокий толчок, одно из тех душевных потрясений, которые какой-то непонятной силой ослабляют или напрягают волю и как бы просветляют ум. За очень краткий промежуток времени, если измерять его по часам, но неизмеримо огромный по количеству мгновенных впечатлений, бедная женщина обрела поразительную остроту мысли и столько передумала и вспомнила, сколько в обычном состоянии не могла бы успеть и за целый день. Содержание ее мучительного и безмолвного монолога можно передать в нескольких нелепых, противоречивых, бессвязных словах:
– Зачем понадобилось Бирото встать ночью? Не объелся ли он телятины? Не худо ли ему? Нет, он разбудил бы меня, если бы занемог. Девятнадцать лет, как мы спим вместе в этой кровати, в этом доме, и ни разу он, бедняжка, не вставал с постели, не предупредив меня! Он не ночевал дома, только когда дежурил в кордегардии. Да ложился ли он спать сегодня? Ну конечно. Господи, до чего ж я глупа!
Она оглядела постель и заметила ночной колпак мужа, сохранивший почти коническую форму головы.
– Значит, он умер! Покончил с собой! Почему? – спрашивала она себя. – Вот уж два года, как его назначили помощником мэра, и с тех пор он сам не свой. Избрать его в муниципалитет, – да куда это годится, право! Торговля идет хорошо: он подарил мне шаль. Но, быть может, его дела и не так уж хороши? Ну, я бы уж об этом знала. Хотя, поди-ка узнай, что у мужчин на уме? Да и у женщин тоже! Ну, это еще не беда. Но разве мы сегодня не наторговали на пять тысяч франков? А потом, помощник мэра не может наложить на себя руки, ему-то хорошо известно, что это противозаконно. Так где же он?
Она не в силах была ни повернуть головы, ни протянуть руки к шнурку колокольчика, чтобы разбудить кухарку, трех приказчиков или рассыльного при лавке. Под влиянием кошмара, мучившего ее и после пробуждения, она даже не вспомнила о дочери, мирно спавшей в соседней комнате, дверь в которую находилась как раз возле ее кровати. Наконец она крикнула: «Бирото!» Никакого ответа. Ей показалось, что она позвала мужа, на самом деле она лишь мысленно произнесла его имя.
– Неужели у него есть любовница? Нет, – возразила она сама себе, – он слишком глуп и к тому же слишком любит меня. Не говорил ли он госпоже Роген, что никогда не изменял мне, даже в мыслях. Этот человек – сама честность, сошедшая на землю. Если кто и заслуживает рай, так это он. Ну, в чем может он каяться своему исповеднику? В сущих пустяках. Хоть он и роялист (а почему – только богу известно), он не больно-то выставляет напоказ свою набожность. Бедный котик, уже в восемь часов он крадется потихоньку к обедне, словно в увеселительное заведение. Он боится бога ради самого бога и даже не думает об аде. Ему ли иметь любовницу, когда он почти не отходит от меня; даже надоел. Я дороже ему всего на свете, он бережет меня как зеницу ока. За девятнадцать лет ни разу голоса не повысил, разговаривая со мной. Даже дочь у него на втором месте. Да ведь Цезарина-то здесь… Цезарина! Цезарина! Не было еще у Бирото таких намерений, которые он скрыл бы от меня. Правду он говорил, когда приходил в «Маленький матрос» и уверял, что со временем я его узнаю и оценю. И вдруг исчез!.. Просто невероятно!
Она с усилием повернула голову и окинула беглым взглядом комнату, полную в этот час причудливых ночных теней; изображая их, писатель познает муки слова, и лишь кисть художника-жанриста может их воссоздать. Какими словами передать ужасные зигзаги пляшущих силуэтов, фантастические очертания раздуваемых ветром гардин, игру трепетных отсветов ночника на складках красного коленкора, огненные блики на бронзовой розетке оконных занавесей, сверкающая середина которой напоминает глаз вора; платье, похожее на коленопреклоненное привидение, – словом, все странности, терзающие воображение в те минуты, когда оно отдается во власть душевных страданий и усугубляет их.
Госпоже Бирото почудился яркий свет в соседней комнате, и она тотчас подумала: «Пожар!» – но тут ее внимание привлек красный фуляровый платок, который она приняла за лужу крови, и грабители целиком заняли ее мысли; больше того, в расстановке мебели она усмотрела следы недавней борьбы. Когда она вспомнила, какие деньги лежат в кассе, ее охватил священный трепет, вытеснивший леденящий ужас кошмара; совершенно потеряв голову, в одной сорочке, она бросилась на помощь мужу, который, решила она, борется с убийцами.
– Бирото, Бирото! – закричала она наконец голосом, полным тревоги.
Она нашла парфюмера в соседней комнате со складным метром в руке: он что-то измерял; его бумажный зеленый в коричневую крапинку халат распахнулся, от холода покраснели ноги, но Бирото до того был увлечен своим делом, что ничего не чувствовал. Наконец он оглянулся и спросил: «Что случилось, Констанс?» Лицо его, растерянное лицо человека, вдруг оторвавшегося от сложных вычислений, было удивительно глупо, и г-жа Бирото расхохоталась.
– Господи! – воскликнула она. – Ну и чудак же ты, Цезарь! Почему ты не предупредил меня, что встаешь? Я чуть не умерла со страху, не знала, что и подумать. Что ты здесь делаешь, на сквозняке? Того и гляди, простудишься. Слышишь, Бирото?
Иду, женушка, иду, – сказал парфюмер, возвращаясь в спальню.
– Грейся и рассказывай, что за блажь пришла тебе в голову, – продолжала г-жа Бирото, выгребая из-под золы еще тлеющие головешки и усердно раздувая огонь. – Я совсем замерзла. Ну, не глупо ли было вскочить с постели в одной сорочке? Но мне почудилось, что тебя убивают.
Парфюмер поставил подсвечник на камин, запахнул халат и машинально подал жене ее фланелевую юбку.
– Возьми, душенька, оденься. Двадцать два на восемнадцать, – продолжал он прерванный монолог, – да у нас получится великолепная гостиная.
– Что с тобой, Бирото? В своем ли ты уме? Ты бредишь?
– Нет, жена, я подсчитываю.
– Подождал бы лучше до утра со своими глупостями, – воскликнула она, завязывая юбку под ночной кофтой, и, приоткрыв дверь, заглянула в комнату дочери. – Цезарина спит, – прибавила г-жа Бирото, – она нас не услышит. Ну, не томи меня, Бирото. Что случилось?
– Мы дадим бал.
– Бал! Мы? Да ты и впрямь бредишь, дружок.
– Нет, я в здравом уме, милочка. Понимаешь ли, надо жить так, как обязывает наше положение в обществе. Правительство отличило меня, я принадлежу к правительству, мы должны проникнуться его духом и содействовать его намерениям, всячески их поддерживая. Герцог де Ришелье только что добился прекращения оккупации Франции иноземными войсками, и господин де ла Биллардиер считает, что должностные лица, так сказать представители города Парижа, должны почесть за долг ознаменовать освобождение страны, каждый в сфере своего влияния. Проявим же истинный патриотизм, и пусть сгорят со стыда все эти проклятые интриганы, все эти так называемые либералы! Или ты полагаешь, что я не люблю родины? Я покажу либералам, моим врагам, что любить короля – значит любить Францию!
– Бедный мой Бирото, так, по-твоему, у тебя есть враги?
– Да, жена, да, у нас есть враги. И половина наших друзей в квартале – наши враги. Все они твердят в один голос: «Бирото везет, Бирото – ничтожество, а вот смотрите – он уже помощник мэра, все ему удается». Ну что ж, их ждет еще удар! Знай, я тебе первой говорю – я кавалер ордена Почетного легиона: король вчера подписал указ.
– Ах, тогда нам и вправду надо дать бал, друг мой, – согласилась взволнованная г-жа Бирото. – Но за какие заслуги тебе пожаловали орден?
– Когда господин де ла Биллардиер сообщил мне вчера эту новость, – продолжал смущенный Бирото, – я тоже спросил себя: за какие заслуги? Но, размышляя по дороге домой, я решил, что достоин награды, и одобрил правительство. Прежде всего, ведь я роялист, в вандемьере я был ранен у церкви Святого Роха, а это немалое дело – сражаться в такие дни за короля. Потом, как говорят среди купечества, я неплохо справлялся со своими обязанностями в коммерческом суде. Наконец, ныне – я помощник мэра, а король пожаловал четыре ордена муниципалитету города Парижа. Выбирая помощников мэра, достойных награды, префект внес меня в список первым. Король ведь должен меня знать: благодаря старику Рагону я поставляю ему пудру, которую он благоволит употреблять, мы одни знаем рецепт пудры покойной королевы, нашей августейшей страдалицы! А уж мэр-то меня поддерживает. Чего ты хочешь? Ежели король награждает меня орденом без ходатайства с моей стороны, сдается мне, я не могу отказаться. Это было бы непочтительно по отношению к его величеству. Разве я хотел стать помощником мэра? Итак, жена, раз уж дует попутный ветер, как говорит в веселую минуту твой дядя Пильеро, то, я полагаю, мы должны быть на высоте. Если я могу быть полезен правительству, то готов стать, чем господь прикажет: супрефектом – так супрефектом, если уж таково мое предназначение. Ты глубоко ошибаешься, жена, полагая, что истинный гражданин может счесть выполненным свой долг перед родиной, если он двадцать лет кряду продает парфюмерные товары заинтересованным в них покупателям. Если государство требует от нас наших познаний, мы обязаны принести их на алтарь отечества, как обязаны уплачивать налог и на движимое имущество, и на двери, и окна, и прочее. Неужели тебе всю жизнь хочется оставаться за конторкой? Слава богу, насиделась ты в лавке достаточно. Бал будет нашим с тобой праздником. Конец розничной торговле, хватит. Я сожгу нашу вывеску «Королева роз» и вместо «Цезарь Бирото, парфюмер, преемник Рагона» просто напишу большими золотыми буквами: «Парфюмерные товары». На антресолях устроим контору, кассу и уютный кабинет для тебя. Под склад для товаров отведем комнату за лавкой, теперешнюю столовую и кухню. Мы снимем весь второй этаж соседнего дома, пробьем туда дверь. Лестницу же перенесем так, чтобы свободно переходить из одного дома в другой. Получится большая, шикарно отделанная квартира! Я заново обставлю твою комнату, устрою тебе будуар, и Цезарине отведем хорошенькую комнатку. Кассирша, которую мы наймем, старший приказчик и твоя горничная (да, сударыня, у вас будет горничная!) поселятся на третьем этаже. На четвертом – будет кухня, комната для кухарки и рассыльного. На пятом этаже устроим склад для бутылок, хрусталя и фарфора. Упаковочную – на чердак! Прохожие не увидят больше, как работницы наклеивают этикетки, готовят пакетики, сортируют флаконы, закупоривают пузырьки. Что было еще терпимо на улице Сен-Дени, для улицы Сент-Оноре – уже плохой тон. Наш магазин должен напоминать салон. Скажи-ка, разве одни мы, парфюмеры, находимся в чести? Разве среди офицеров национальной гвардии нет торговцев уксусом или горчицей, к которым благосклонен двор? Возьмем их за образец, расширим нашу торговлю и одновременно войдем в высшее общество.
– Постой, Бирото, знаешь, что мне пришло в голову, пока я тебя слушала? Ты, видно, сам не знаешь, чего захотел! Вспомни, что я говорила, когда тебя собирались назначить мэром: «Спокойствие дороже всего! Тебе так же пристало быть на виду у всех, – сказала я тогда, – как моей руке стать крылом ветряной мельницы. Высокое положение тебя погубит!» Ты не послушал меня, вот и пришла наша гибель. Чтобы приобрести политический вес, нужны деньги, а много ли у нас денег? Зачем понадобилось тебе сжигать вывеску, которая стоила шестьсот франков, и отказываться от «Королевы роз» – твоей истинной славы? Оставь честолюбие другим. Не суй руку в огонь – обожжешься, разве не верно? А в наши дни и вовсе сгорают в политике. Завелась у нас сотня тысяч франков? Хочешь увеличить состояние? Хорошо, поступи, как в 1793 году: курс государственной ренты сейчас семьдесят два франка, вот и приобрети ренту. Будешь получать десять тысяч франков дохода и нашим делам не повредишь. Воспользуйся случаем, выдай дочь замуж, продай фирму, и уедем к тебе на родину. Ведь уже пятнадцать лет ты только и твердишь что о покупке «Трезорьера» – такое чудесное именьице в окрестностях Шинона: тут тебе и леса, и луга, и виноградники, и две мызы, и доходу оно дает тысячу экю; нам обоим усадьба нравится, и мы можем купить ее за шестьдесят тысяч франков… А вам, сударь, вдруг взбрело на ум занять место в правительственных кругах. Не забывай, мы всего лишь парфюмеры. Если бы шестнадцать лет тому назад, когда ты еще не изобрел ни «Двойного крема султанши», ни «Жидкого кармина», тебе сказали бы: «У вас будет достаточно средств, чтобы купить «Трезорьер», да ты с ума сошел бы от радости. Теперь же, когда ты в состоянии приобрести это имение, – а тебе ведь так хотелось купить его, ты ведь рта не мог раскрыть, чтобы не заговорить о нем, – теперь ты собираешься истратить на глупости деньги, заработанные нами в поте лица, – я вправе сказать нами, я-то всегда сидела за конторкой, словно собачонка на привязи. Чем пускаться в сомнительные спекуляции, не лучше ли жить месяцев восемь в году в Шиноне, а в столице иметь пристанище у дочери, которую мы выдадим замуж за парижского нотариуса. Выжди повышения курса государственных бумаг, тогда ты сможешь дать дочери ренту в восемь тысяч франков, и нам останется еще две тысячи; на средства же, вырученные от продажи фирмы, купим «Трезорьер». Перевезем туда, милый котик, нашу обстановку, она ведь тоже денег стоит, и заживем что твои князья. А в Париже нужно не меньше миллиона, чтобы занять видное положение.
– Я так и знал, что ты это скажешь, жена, – заметил Цезарь Бирото. – Все же я не настолько глуп (хотя ты и считаешь меня круглым дураком), чтобы не подумать обо всем. Слушай же внимательно. Александр Кротта самый подходящий для нас зять, куда уж лучше! И к нему перейдет контора Рогена. Но неужели ты думаешь, что он удовлетворится приданым в сто тысяч франков, а мы можем дать такую сумму только при условии, что продадим все свое имущество и затратим эти средства на устройство дочери. Конечно, я готов так сделать, лучше мне до конца дней своих есть черствый хлеб, но пусть уж наша дочь, как ты сама сказала, будет женой парижского нотариуса и счастливой, как королева. Пойми же, сто тысяч франков или восемь тысяч франков ренты – сущие пустяки, на такие деньги не купишь конторы Рогена. Маленький Ксандро, как мы его называем, подобно всем нашим знакомым, считает нас куда богаче, чем мы есть на самом деле. Если его отец, этот толстый фермер, старый скаред, не продаст своих земель за сто тысяч франков, Ксандро не быть нотариусом, ибо контора Рогена стоит четыреста, а то и пятьсот тысяч франков. Если Кротта не заплатит половины суммы наличными, как он выпутается? За Цезариной мы должны дать двести тысяч франков приданого, да и я сам хочу уйти на покой обеспеченным парижским буржуа, имея пятнадцать тысяч франков ренты. А если я тебе докажу ясно как день, что все это возможно, прикусишь ли ты язычок?
– Ну, раз ты нашел золотые россыпи в Перу…
– Да, милочка, да, – ответил радостно взволнованный, сияющий Бирото, обнимая жену за талию и легонько похлопывая ее рукой. – Я не хотел заговаривать с тобой об этом деле, пока не довел его до конца, но, право, завтра все уже будет в порядке. Так вот, Роген предложил мне надежную спекуляцию; он и сам принимает в ней участие вместе с Рагоном, с дядей Пильеро и еще двумя клиентами. Мы покупаем в районе церкви Мадлен участки земли, которые, по расчетам Рогена, достанутся нам за четверть той цены, какой они достигнут через три года – к сроку окончания аренды, когда мы станем их полноправными владельцами. Каждому из шести пайщиков дается обусловленная доля. Я вкладываю триста тысяч франков и получу три восьмых всей земли. Если кому-нибудь из нас понадобятся деньги, Роген их достанет под залог нашей части. Но, знаешь, своя рука – владыка, свой глаз – алмаз, и я решил стать владельцем половинной доли, вместе с Пильеро и стариком Рагоном, а записана она будет на мое имя. Роген будет находиться в доле с неким Шарлем Клапароном, моим совладельцем, который, так же как и я, выдаст обязательства своим компаньонам. Документы на приобретенные земельные участки оформляются частным порядком до тех пор, пока мы не станем полными хозяевами всей земли. Роген рассмотрит контракты, подлежащие реализации, ибо еще наверняка неизвестно, удастся ли нам освободиться от регистрации участков и переложить эту обязанность на тех, кто станет покупать у нас землю по частям… Но это слишком долго тебе объяснять. После оплаты земли нам останется лишь сидеть сложа руки, а через три года у нас будет миллион. Цезарине исполнится двадцать лет, мы продадим нашу фирму и с божьей помощью скромно вступим на путь величия.
– Отлично, но где ты возьмешь триста тысяч франков? – спросила г-жа Бирото.
– Ты ничего не смыслишь в делах, кошечка. Я внесу сто тысяч франков, которые лежат у Рогена, сорок тысяч получу под залог дома и сада в предместье Тампль, где находится наша фабрика, а кроме того, двадцать тысяч франков лежат у меня в портфеле, – итого сто шестьдесят тысяч франков. Остается найти еще сто сорок тысяч; на эту сумму я подпишу векселя приказу банкира Шарля Клапарона, он внесет их стоимость за вычетом учетного процента. Вот триста тысяч франков и уплачены, – долг пойдет впрок, коль заплатишь в срок. Когда наступит срок векселям, мы погасим их из наших доходов. Если же не удастся рассчитаться, Роген достанет мне денег из пяти процентов под залог моих земельных участков. Но мы обойдемся без займа; я открыл средство для ращения волос – «Комагенное масло». Ливингстон уже установил в подвале гидравлический пресс – будем добывать масло из орехов, – под сильным давлением сразу выжмем из них все масло. Рассчитываю за год заработать не меньше ста тысяч. Я уже обдумываю объявление. Начнем его так: «Долой парики!» – и произведем фурор. А ты и не замечала, что я страдаю бессонницей. Вот уж три месяца, как успех «Макассарского масла» не дает мне покоя. Я хочу пустить ко дну это «Макассарское».
– Так вот над какими планами ты уже два месяца ломаешь себе голову и даже словечком о них не обмолвишься! Прекрасные планы! Недаром я видела себя во сне нищенкой, на пороге собственной лавки: это небесное предзнаменование. Скоро мы дотла разоримся и все глаза себе выплачем. Нет, пока я жива, не бывать этому, слышишь, Цезарь?! За всем этим скрываются какие-то темные дела, о которых ты и не догадываешься; ты человек такой честный и порядочный, что не можешь заподозрить кого-либо в плутнях. С какой радости обещают тебе миллионы? Ты рискуешь всем состоянием, берешь обязательства не по средствам, а вдруг твое «Масло» не пойдет, не достанешь денег, нельзя будет реализовать стоимость земли, – как ты тогда оплатишь векселя? Может, ореховыми скорлупками? Ты стремишься к более высокому положению в обществе, отказываешься торговать под своим именем, хочешь уничтожить вывеску «Королева роз» и в то же время готов низко кланяться, лебезить перед публикой, выставлять напоказ имя Цезаря Бирото на всех столбах, заборах, на всех огороженных для построек местах.
– Вовсе не так! Я открою отделение магазина под вывеской Попино где-нибудь в районе Ломбардской улицы и поручу его маленькому Ансельму. Тем самым я отблагодарю чету Рагонов, пристроив их племянника к делу, которое его обеспечит. Бедных стариков Рагонов, видно, здорово потрепало за последнее время…
– Поверь мне, все эти люди подбираются к твоим деньгам.
– Да какие же «эти люди», моя прелесть? Не твой ли дядя Пильеро, который души в нас не чает и обедает у нас каждое воскресенье? Или добряк Рагон, наш предшественник? У него за плечами сорокалетняя безупречная деятельность, он наш всегдашний партнер по бостону! Или, может быть, Роген? Да ведь он почтенный человек пятидесяти семи лет и уже четверть века состоит парижским нотариусом. А парижский нотариус – это, сказал бы я, самый цвет общества, если бы только все порядочные люди не были достойны одинаковой чести. В случае нужды мне помогут компаньоны! Так где же заговор, дружочек? Давай поговорим по душам! Честное слово, у меня накипело на сердце. Ты всегда была пуглива, как кошка! Едва только в лавке у нас набиралось на два су товаров, как ты начинала видеть в каждом покупателе вора… Приходится на коленях умолять: позволь обогатить тебя! Ты парижанка, а честолюбия в тебе ни на грош. Без твоих вечных страхов я был бы счастливейшим человеком в мире! Послушай я тебя, мы никогда бы не пустили в продажу ни «Крема султанши», ни «Жидкого кармина». Лавка всегда кормила нас, но эти два открытия и наши мыла дали нам сто шестьдесят тысяч франков чистоганом. Без моей изобретательности, – ведь что ни говори, а я талантливый парфюмер, мы оставались бы мелкими розничными торговцами, еле-еле сводили бы концы с концами, и никогда не бывать бы мне именитым купцом, не баллотироваться в члены коммерческого суда, не заседать в суде, не стать помощником мэра. Знаешь, кем бы я был? Лавочником, как дядюшка Рагон, не в обиду ему будь сказано, так как я уважаю его лавку, этой лавке мы обязаны нашим благосостоянием! Поторговав лет сорок парфюмерией, мы, подобно Рагону, имели бы три тысячи франков дохода; и при нынешней дороговизне, когда цены возросли вдвое, мы перебивались бы кое-как, не лучше стариков Рагонов. Чем дальше, тем у меня сильнее болит душа за них. Надо разобраться в их делах; завтра же хорошенько расспрошу обо всем Попино. Ты отравляешь счастье тревогой, все боишься, не утеряешь ли завтра то, чем обладаешь сегодня. Следуй я твоим советам, не было бы у меня ни кредита, ни ордена Почетного легиона, ни политической карьеры впереди. Да, покачивай головой сколько угодно… Если наше дело выгорит, я еще стану депутатом от Парижа. Недаром зовут меня Цезарь, все мне удается. Нет, это просто непостижимо, – чужие люди ценят мой ум, а дома жена, единственный человек, ради счастья которого я из кожи вон лезу, считает меня глупцом!
Слова эти, прерываемые красноречивыми паузами и вылетавшие словно пули, как у всякого, кто, обвиняя, оправдывается, выражали такую глубокую, безграничную привязанность, что г-жа Бирото была в душе тронута; однако, по женскому обычаю, она воспользовалась любовью мужа, чтобы взять над ним верх.
– Вот что, Бирото, – возразила она, – если ты меня любишь, позволь мне быть счастливой на свой лад. Ни ты, ни я не получили светского воспитания, мы не умеем ни разговаривать, ни держать себя в обществе; подумай, где уж нам преуспевать в высших кругах? А как мне хорошо будет в «Трезорьере»! Я всегда любила животных и птиц и с радостью стану возиться с цыплятами и хозяйством. Давай продадим фирму, выдадим Цезарину замуж, и брось ты свое «имогенное масло». На зиму мы будем приезжать к зятю в Париж, заживем счастливо, спокойно, никакие перемены ни в политике, ни в торговле нас не будут тревожить. К чему тебе душить других? Разве нам не хватает нашего состояния? Или, став миллионером, ты будешь по два раза в день обедать, заведешь себе еще вторую жену? Бери пример с дяди Пильеро, он благоразумно довольствуется своим небольшим состоянием, и жизнь его заполнена добрыми делами. Разве нуждается он в роскошной квартире? А я уверена, что ты решил заказать новую обстановку, я видела у нас в лавке Брашона, не за парфюмерией же он приходил.
– Верно, душенька, угадала, – я заказал для тебя обстановку; завтра мы начнем переделывать квартиру под руководством архитектора, рекомендованного мне господином де ла Биллардиером.
– Господи, сжалься над нами! – воскликнула г-жа Бирото.
– Ну рассуди сама, душенька. Неужели в тридцать семь лет такая привлекательная женщина, как ты, должна похоронить себя в Шиноне? Да и мне самому всего тридцать девять. Передо мной открывается блестящий путь, не пропускать же такой случай! Действуя осмотрительно, я положу начало солидной фирме, уважаемой парижским купечеством, сделаюсь основателем торгового дома Бирото и стану не менее чтимым, чем Келлеры, Демаре, Рогены, Кошены, Гильомы, Леба, Нусингены, Саяры, Попино, Матифа, а ведь ими гордятся или гордились целые районы столицы. Полно! Это верное дело, золотое дно!
– Верное!
– Да, верное. Вот уже два месяца, как я его обмозговываю. Будто бы между прочим, осведомляюсь о постройках в ратуше у архитекторов, у подрядчиков. Господин Грендо, молодой архитектор, который будет переделывать наш дом, в отчаянии, что за отсутствием средств не может принять участие в нашей спекуляции.
– Он рассчитывает, что начнут строиться, вот и подзадоривает вас, чтобы потом ощипать.
– Ну, таких людей, как Пильеро, Шарль Клапарон и Роген, не проведешь! Пойми ты, – верный успех, как с «Кремом султанши».
– Но, дружок, зачем понадобилось Рогену пускаться в спекуляции, когда он оплатил стоимость конторы и сколотил себе состояние? Не раз видела я его озабоченного, что твой министр, идет – глаз не подымает; дурной это знак – Роген что-то таит. И лицо у него вот уже лет пять как у старого развратника. Кто поручится, что он не улизнет, захватив ваши денежки? Такие дела случались. Знаем ли мы его как следует? Пусть он пятнадцать лет считался нашим приятелем, а я за него не поручусь. Послушай, у него зловонный насморк, он не живет с женой, должно быть, содержит любовниц, а те его разоряют; иначе почему ему быть таким озабоченным? Утром, одеваясь, я сквозь занавеси вижу из окна, как он возвращается пешком домой. Откуда? – никто не знает. Похоже, что у него есть вторая семья и что у него и жены свои особые траты. Так ли должен вести себя нотариус? Если у Рогенов пятьдесят тысяч франков доходу, а проедают они шестьдесят тысяч, то через двадцать лет они проживут все свое состояние, и Роген будет гол как сокол; но, привыкнув блистать в свете, он безжалостно обчистит своих друзей, ведь своя рубашка ближе к телу. Он водится с этим проходимцем дю Тийе, нашим бывшим приказчиком; я не вижу ничего хорошего в этой дружбе. Если Роген не знает цену дю Тийе, значит, он слеп, а если раскусил его, почему так носится с ним? Ты скажешь, его жена любит дю Тийе; что ж, я не жду ничего хорошего от человека, который терпит, что жена порочит его имя. А потом, что за простофили теперешние владельцы участков, – отдают за сто су то, что стоит сто франков. Если ты встретишь ребенка, не знающего стоимости луидора, разве ты умолчишь о ней? Не в обиду будь тебе сказано, ваша затея смахивает на жульничество.
– Господи! До чего женщины бывают порой забавны и как они все на свете путают! Если бы Роген не принимал участия в деле, ты твердила бы: «Смотри, Цезарь, смотри. Роген остался в стороне, не сомнительное ли это предприятие?» Когда же он входит в дело и тем самым гарантирует его успех, ты говоришь…
– Но при чем тут какой-то Клапарон?
– Да ведь нотариус не имеет права под своим именем участвовать в спекуляции.
– Зачем же он поступает противозаконно? Что ты скажешь на это, законник?
– Дай мне договорить. Роген участвует в покупке участков, а ты мне заявляешь – нестоящее это дело! Разумно ли это? Ты еще прибавляешь: «Это противозаконно». Но Роген примет и явное участие, если понадобится. Ты заявляешь: «Он богат!» Но ведь то же самое могут сказать и обо мне? Что бы я ответил Рагону и Пильеро, если бы они спросили меня: «К чему вы затеяли это дело, когда у вас и так денег хоть отбавляй?»
– Купец – это совсем иное, чем нотариус, – возразила г-жа Бирото.
– Словом, совесть моя совершенно спокойна, – продолжал Цезарь. – Люди продают землю по необходимости; мы обкрадываем их не больше, чем тех, у кого покупаем облигации ренты не за сто, а за семьдесят пять франков. Сегодня мы приобретаем земли по одной цене, через два года она возрастет так же, как повышается курс ренты. Знайте, Констанс-Барб-Жозефина Пильеро, вы никогда не уличите Цезаря Бирото в поступке, противоречащем чести, закону, совести или порядочности. Человека, стоявшего во главе фирмы восемнадцать лет, подозревают в нечестности, и где же? в его собственной семье!
– Полно, успокойся, Цезарь! Я твоя жена, прожила с тобой столько лет, я хорошо знаю и понимаю тебя. В конце концов здесь ты хозяин. Наше состояние – дело твоих рук. Оно твое, распоряжайся им. Хоть доведи ты нас – меня и дочь – до крайней нищеты, мы и тогда не сделаем тебе ни малейшего упрека. Но послушай, когда ты придумал «Крем султанши» и «Жидкий кармин», чем ты рисковал? – пятью, шестью тысячами франков, и только. Сегодня же ты ставишь на карту все свое состояние, ты играешь не один, а с партнерами, которые могут перехитрить тебя. Задавай балы, переделывай квартиру, истрать десять тысяч франков – это бесполезно, но не разорительно. Но против твоих спекуляций землей я решительно возражаю. Ты парфюмер, так и оставайся парфюмером, не к чему тебе становиться перекупщиком земельных участков. У нас, женщин, всегда бывают верные предчувствия. Я предупредила тебя, а дальше поступай как знаешь. Ты был членом коммерческого суда, ты знаешь законы, ты всегда удачно вел свои дела. А я что ж… я должна слушаться тебя, Цезарь. Но я не успокоюсь, пока наше состояние не будет обеспечено и пока мы не выдадим Цезарину замуж за хорошего человека. Дай бог, чтобы сон мой не оказался пророческим!
Такая покорность раздосадовала Бирото, и он прибегнул к невинной хитрости, обычной для него в подобных обстоятельствах.
– Послушай, Констанс, я еще не дал слово, но все уже налажено.
– О Цезарь, все уже сказано; не будем больше к этому возвращаться. Честь дороже богатства. Ложись спать, дружок, дрова уже прогорели. Поговорим в постели, если хочешь. Ах, этот зловещий сон! Господи! Видеть во сне самое себя! Нет, это ужасно!.. Мы с Цезариной будем служить молебны за успех твоего дела.
– Конечно, господняя помощь не повредит, – важно изрек Бирото, – но знаешь ли, жена, ореховое масло – тоже сила. Я пришел к новому своему открытию так же случайно, как и к «Двойному крему султанши»: тогда меня осенило, когда я перелистывал книгу, а теперь – когда рассматривал гравюру «Геро и Леандр». Помнишь, там женщина льет масло на голову своего возлюбленного? Разве это не мило? Нет ничего вернее предприятий, которые играют на тщеславии, самолюбии, желании нравиться. Эти чувства никогда не умирают.
– Увы! я это прекрасно вижу.
– В известном возрасте мужчина пойдет на все, чтобы восстановить потерянную шевелюру. Парикмахеры говорили мне, что сейчас у них покупают не только «Макассарское масло», но всевозможные снадобья для окраски и ращения волос. После заключения мира мужчины еще больше увиваются за красивыми женщинами, а дамы лысых не любят, хе-хе, – верно, дружочек? Итак, спрос на этот товар объясняется политическим положением. Мое средство от выпадения волос будут покупать, как хлеб, тем более что оно несомненно получит одобрение Академии наук. Добрейший господин Воклен, надеюсь, поможет мне и на этот раз. Завтра я отправлюсь к нему за советом и преподнесу ему гравюру, которую я наконец нашел для него после двухлетних поисков в Германии. Он как раз занимается анализом волос. Я знаю об этом от Шифревиля – его компаньона по фабрике химических продуктов. Если изыскания Воклена подтвердят мою догадку, на наше масло набросятся и мужчины, и женщины. Еще раз тебе говорю, открытие мое – целое состояние. Господи, да я из-за него сон потерял. Ах, счастье наше, что у маленького Попино превосходные волосы! Нам бы еще нанять кассиршу с косами до пят, да пусть она говорит, – не в обиду будь сказано ни господу, ни ближнему нашему, – что ей помогло «комагенное масло» (это будет именно масло), и тогда седовласые старцы набросятся на него, как осы на мед. А что ты скажешь, голубушка, о бале? Я не злой человек, но я не прочь увидеть среди гостей этого пройдоху дю Тийе, который кичится своим богатством и всегда избегает меня на бирже. Он знает, что мне известны кое-какие его некрасивые делишки. Пожалуй, я был слишком добр к нему. Как странно, женушка, что всегда бываешь наказан за добрые дела, – на этом свете, понятно. Я был для него, словно отец родной, ты даже не представляешь, сколько я для него сделал.
– Меня мороз по коже подирает от одного разговора о нем. Если бы ты знал, чем он собирался отплатить тебе за добро, ты не скрывал бы, что он украл в твоей кассе три тысячи франков. Я ведь догадалась, как ты уладил дело. Право, если бы ты отдал его в руки полиции, ты оказал бы добрым людям немалую услугу.
– Как же он собирался мне отплатить?
– Не стоит вспоминать. Если ты способен выслушать меня сегодня, я дам тебе добрый совет, Бирото: не водись ты с этим дю Тийе.
– Не странно ли будет отвернуться от человека, который служил у меня приказчиком и именно под мое поручительство получил двадцать тысяч франков, чтобы начать собственное дело? Нет уж, будем творить добро ради добра. И ведь дю Тийе мог исправиться…
– Придется нам, верно, все перевернуть вверх дном.
– Как так перевернуть все вверх дном? Нет, мы все разыграем как по нотам. Ты, видно, уже забыла, что я тебе говорил о лестнице и найме помещения в соседнем доме, – я уж договорился с торговцем зонтиками, Кейроном. Завтра вместе с ним я пойду к господину Молине, владельцу дома. Да, дел у меня завтра побольше, чем у министра…
– Ты мне голову вскружил своими планами, – ответила Констанс, – просто ум за разум заходит. И я уже совсем сплю.
– Доброе утро, – ответил муж. – Слышишь, Констанс, я говорю тебе «доброе утро», так как на дворе уже светло. Смотри-ка, уже заснула дорогая детка! Спи спокойно, ты у нас еще будешь богачкой, или я потеряю право называться Цезарем.
Через несколько минут Констанс и Цезарь мирно похрапывали.
Беглый взгляд, брошенный на прошлое этой супружеской четы, подтвердит впечатление, которое сложилось у читателей от дружеского препирательства между героями описанной сцены. Рисуя купеческие нравы, наш очерк объяснит еще, в силу какого необычайного стечения обстоятельств Цезарь Бирото стал владельцем парфюмерной лавки и офицером национальной гвардии, а затем сделался помощником мэра и кавалером ордена Почетного легиона. Всесторонне рассмотрев его характер и причины его возвышения, нетрудно будет понять, что в торговом мире потрясения, которые преодолевают люди сильные, для людей слабых и недалеких оказываются непоправимыми катастрофами. Сами события ничего еще не решают. Их последствия зависят исключительно от людей; несчастье – ступень к возвышению гения, очистительная купель – для христианина, клад – для ловкого человека, бездна – для слабого.
Жак Бирото, фермер-арендатор из окрестностей Шинона, женился на горничной помещицы, у которой он вскапывал виноградники. У Бирото было три сына, жена умерла при рождении третьего ребенка, и муж не намного ее пережил. Помещица сердечно относилась к горничной: она воспитала старшего сына фермера – Франсуа вместе со своими детьми, а затем определила его в семинарию. В годы революции Франсуа Бирото скрывался и вел бродячую жизнь неприсягнувших священников, которых преследовали и гильотинировали за малейшую провинность. Ко времени начала этой истории он был викарием Турского собора и только раз выезжал из города, чтобы повидаться с братом Цезарем. Парижская сутолока до того ошеломила почтенного священника, что он не решался выйти из комнаты; он называл кабриолеты «полукаретами» и всему удивлялся. Погостив с неделю, он вернулся в Тур, дав себе слово больше никогда не приезжать в столицу.
Второй сын виноградаря, Жан Бирото, вступил в армию и во время первых войн революции быстро дослужился до чина капитана. В сражении у Требии Макдональд вызвал добровольцев для захвата одной из батарей, капитан Жан Бирото пошел в атаку со своей ротой и был убит. Рок как будто преследовал всех Бирото – они становились жертвой либо людей, либо событий, на каком бы поприще ни подвизались.
Самый младший из Бирото – герой нашей истории. В четырнадцать лет, научившись читать, писать и считать, он покинул родной край и отправился пешком на поиски счастья в Париж, с луидором в кармане. Рекомендация турского аптекаря помогла ему поступить рассыльным в парфюмерную лавку супругов Рагон. Все имущество Цезаря состояло тогда из пары башмаков с подковками, штанов и синих чулок, жилета в цветочках, крестьянской куртки, трех рубах из грубого, прочного холста и дубинки. Волосы у него были подстрижены в кружок, как у певчего, но он отличался крепким сложением уроженца Турени, и если им часто владела лень, свойственная его землякам, то ее преодолевало желание сколотить состояние; ему не хватало ума и образования, зато он отличался природной честностью и чувствительностью, унаследованными от матери – женщины с «золотым сердцем», по выражению туренцев. Цезарь получал у хозяина харчи, шесть франков жалованья в месяц и спал на дрянной койке на чердаке, по соседству с кухаркой; приказчики показывали ему, как упаковывать товары, посылали с поручениями, заставляли подметать лавку и улицу и, приучая его к работе, как водится в лавках, непрерывно подшучивали над ним, без чего, как известно, не обходится обучение. Супруги Рагон обращались с ним, как с собачонкой. Никто не считался с усталостью ученика, хотя к вечеру, после беготни, ноги у него отчаянно ныли и ломило поясницу. Жестокое правило «каждый за себя» – эта евангельская заповедь больших городов – привело к тому, что жизнь в Париже показалась Цезарю очень тяжелой. По вечерам он плакал, вспоминая Турень, где крестьянин работает в меру своих сил, где каменщик, не торопясь, возводит стены, где отдых мудро сочетается с работой; но, засыпая, он не успевал даже помыслить о бегстве, так как с утра снова носился по городу с поручениями, повинуясь хозяевам инстинктивно, как сторожевой пес. Если иной раз у него вырывались жалобы, старший приказчик говорил ему, весело ухмыляясь:
– Да, паренек, не все выглядит розовым у «Королевы роз», и жаворонки не падают в рот жареными: надо сначала побегать за ними, словить, а потом еще суметь их приготовить.
Кухарка, толстая пикардийка, забирала себе лучшие куски и обращалась к Цезарю только для того, чтобы поругать Рагонов, у которых ничем не разживешься. Как-то в воскресенье, к концу первого месяца службы Цезаря, эта девушка, которую оставили стеречь дом, разговорилась с ним. Когда Урсула вымылась и принарядилась, она показалась очаровательной бедному малому, который, не будь этого случая, споткнулся бы о первый камень на своем пути. Как все существа, лишенные ласки, он полюбил первую приветливо взглянувшую на него женщину. Кухарка взяла Цезаря под свое покровительство, и между ними возникла тайная связь, над которой безжалостно потешались приказчики. Два года спустя кухарка, к счастью, бросила Цезаря ради своего земляка, скрывавшегося от воинской повинности в Париже, двадцатилетнего пикардийца, обладавшего несколькими арпанами земли, – Урсула женила его на себе.
В продолжение этих двух лет кухарка на совесть кормила своего маленького Цезаря; она разъяснила ему кое-какие тайны парижской жизни, показав неприкрашенную изнанку ее, и, терзаемая ревностью, внушила ему глубокое отвращение к злачным местам, опасности которых были ей, видимо, небезызвестны. В 1792 году ноги Цезаря свыклись уже с мостовыми, плечи – с ящиками, а ум, как он говорил, с парижским «враньем». Когда Урсула покинула его, Цезарь быстро утешился, ибо она не отвечала его смутному представлению о настоящем чувстве. Развратная и сварливая, хитрая и нечистая на руку, эгоистка, любительница выпить, она оскорбляла неиспорченную душу Бирото и не сулила ему ничего хорошего в будущем. Нередко бедный малый с горечью думал о том, что связан самыми крепкими для наивных сердец узами с немилым ему существом. К тому времени, когда он стал хозяином своего сердца, ему исполнилось шестнадцать лет. Урсула и шутки приказчиков развили его ум, он стал присматриваться к торговле; простоватый с виду, юноша оказался смышленым: он наблюдал за покупателями, в свободное от работы время расспрашивал о товарах, запоминал их различия и особенности, и в один прекрасный день выяснилось, что он знает сорта товаров и цены лучше, чем их знают новички-приказчики; с этого времени Рагоны иногда поручали ему работу приказчика.
В день, когда массовый набор II года Республики обезлюдил лавку гражданина Рагона, Цезарь Бирото стал вторым приказчиком; воспользовавшись обстоятельствами, он добился пятидесяти франков жалованья в месяц и права сидеть за столом у Рагонов, что доставляло ему несказанную радость. Второй приказчик «Королевы роз», уже сколотивший капиталец в шестьсот франков, получил комнату, в которой мог наконец удобно разложить в шкафу и в комоде приобретенное им платье и белье.
В десятый день декады, принарядившись по образу и подобию всех молодых людей того времени, щеголявших, согласно моде, грубыми манерами, этот тихий и скромный крестьянский парень выглядел их ровней, переступая тем самым барьер, еще в недавние времена отделявший приказчиков от буржуазии. Летом 1794 года Рагоны, зная честность Цезаря, сделали его кассиром. Внушительная гражданка Рагон стала сама следить за бельем своего приказчика; хозяева сблизились с ним.
Осенью 1794 года Цезарь, прикопивший уже сотню золотых, обменял их на шесть тысяч франков ассигнациями, купил ренту по тридцать франков, оплатил ее накануне обесценения бумажных денег и с невыразимым чувством спрятал свое приобретение. С этого дня он стал с тайным волнением следить за курсом ценных бумаг и за ходом государственных дел, с трепетом прислушиваясь к толкам о неудачах или успехах, которыми был столь богат этот период истории Франции. Господин Рагон, бывший парфюмер ее величества королевы Марии-Антуанетты, в эти тяжелые дни открылся Цезарю Бирото в своей привязанности к павшим тиранам. Признание это оказало сильное влияние на жизнь Цезаря. Семейные разговоры по вечерам, когда лавка была уже закрыта, дневная выручка подсчитана, а на улице воцарялась тишина, взвинчивали и возбуждали молодого туренца; он стал роялистом. Небылицы о добродетельных поступках Людовика XVI, превозносившие королеву анекдоты, рассказываемые Рагонами, подогревали воображение Цезаря. Устрашающая судьба двух коронованных особ, чьи головы скатились под ножом гильотины в нескольких шагах от лавки Рагона, волновала его чувствительное сердце и наполняла ненавистью к правительственной системе, равнодушно допустившей пролитие невинной крови. Коммерческие соображения убедили его в губительном влиянии на торговлю режима «максимума» и политических бурь, всегда враждебных деловой жизни. Как истый парфюмер, он к тому же возненавидел революцию, которая ввела короткую стрижку «под императора Тита» и вывела из употребления пудру. Вера в то, что королевская власть может обеспечить стране спокойствие, необходимое для успешного ведения дел, превратила его в ярого роялиста. Когда г-н Рагон убедился, что Бирото настроен вполне благонамеренно, он сделал его старшим приказчиком и посвятил в секреты лавки «Королевы роз», – некоторые ее посетители являлись самыми активными, самыми ревностными агентами Бурбонов и пользовались лавкой, чтобы поддерживать переписку между Парижем и западной частью страны. Возбужденный встречами с такими людьми, как Жорж де ла Биллардиер, Монторан, Бован, Лонги, Манда, Бернье, дю Геник и Фонтэн, Цезарь с юношеским пылом принял участие в заговоре 13 вандемьера, объединившем роялистов и террористов в их борьбе против угасавшего Конвента.
Цезарь удостоился чести сражаться против Наполеона на ступенях церкви св. Роха и был ранен в самом начале схватки. Каждый помнит, как завершилась эта попытка мятежа. Если адъютант Барраса вышел тогда из безвестности, то Бирото безвестность спасла. Несколько друзей принесли воинственного старшего приказчика в лавку «Королевы роз», и там, скрываясь на чердаке, к счастью всеми забытый, он оставался на попечении г-жи Рагон. То была единственная вспышка воинской доблести Цезаря Бирото. Поправляясь, он в течение месяца немало размышлял о том, что нелепо сочетать политику с парфюмерией. Оставаясь в душе роялистом, он твердо решил быть впредь только парфюмером-роялистом, никогда больше не впутываться ни в какие заговоры и с тех пор целиком отдался торговле.
После 18 брюмера Рагоны, отчаявшись в победе короля, решили бросить торговлю и зажить как порядочные буржуа, не вмешиваясь больше в политику. Желая вернуть вложенные в дело деньги, они подыскивали человека, не столько честолюбивого и ловкого, сколько честного и здравомыслящего; Рагон предложил свою лавку старшему приказчику. Бирото, двадцатилетний владелец государственной тысячефранковой ренты, сначала колебался. Он мечтал поселиться в окрестностях Шинона, когда рента его возрастет до полутора тысяч франков, а первый консул, укрепившись в Тюильри, обеспечит уплату государственного долга. Стоит ли менять независимое положение на ненадежные коммерческие доходы? Бирото и в голову не могло прийти, что благодаря предприимчивости, свойственной молодости, он станет впоследствии обладателем значительного капитала. Цезарь собирался жениться в Турени на девушке с приданым, равным его собственному состоянию, приобрести небольшое именьице «Трезорьер», которое его соблазняло с юных лет; он мечтал постепенно расширить его и довести доход с земли до тысячи экю: тогда он сможет наслаждаться там счастливой жизнью никому не известного человека. Он хотел было уже отказаться от лавки, когда любовь внезапно изменила его намерения, удесятерив его честолюбие.
После измены Урсулы Цезарь жил затворником, ибо боялся опасностей, какими грозит в Париже любовь, и к тому же у него было по горло работы. Страсти, лишенные пищи, превращаются в неодолимую потребность. Для людей среднего класса мысль о женитьбе становится навязчивой идеей: брак для них единственный способ завоевать женщину и завладеть ею. Так было и с Цезарем Бирото. В лавке «Королева роз» все держалось на старшем приказчике: у него не оставалось ни минуты на развлечения. При такой жизни потребности особенно властно дают о себе знать, и встреча с первой же хорошенькой девушкой, на которую какой-нибудь легкомысленный приказчик едва ли обратил бы внимание, должна была произвести сильнейшее впечатление на скромного, целомудренного Цезаря. В один чудесный июньский день, переходя через мост Марии на остров Сен-Луи, он обратил внимание на молодую девушку, стоявшую в дверях магазина на углу набережной Анжу. Констанс Пильеро была старшей продавщицей в магазине новинок «Маленький матрос»; то был первый из магазинов, которых столько открылось впоследствии в Париже под более или менее живописными вывесками, с развевающимися флажками; в их витринах шали переброшены словно качели, галстуки образуют подобие карточных домиков, и взор привлекают тысячи других соблазнов торговли – надписи: «цены без запроса», объявления, афишки, оптические фокусы и световые эффекты, доведенные до такого совершенства, что витрины магазинов превращаются в настоящие коммерческие поэмы. Дешевые цены на все так называемые новинки, продававшиеся в «Маленьком матросе», способствовали его необычайной популярности в районе Парижа, наименее благоприятном и для популярности, и для торговли. Старшая продавщица магазина славилась тогда своей красотой не меньше, чем позднее – Прекрасная буфетчица в кафе «Тысяча колонн» и множество других несчастных созданий, которые притягивали к окнам модных мастерских, кафе и магазинов больше молодых и старых физиономий, чем найдется булыжников в мостовых Парижа. Старший приказчик «Королевы роз», проживавший между церковью св. Роха и улицей Сурдьер, ушел с головой в парфюмерию и даже не подозревал о существовании «Маленького матроса», ибо мелкие торговцы Парижа слабо связаны друг с другом. Цезарь был столь сильно пленен красотою Констанс, что стремительно влетел в магазин «Маленький матрос», чтобы купить полдюжины полотняных сорочек; он долго приценивался, заставлял показывать все новые штуки полотна, словно англичанка, увлекшаяся покупками (shopping). Старшая продавщица соблаговолила заняться Цезарем, заметив по некоторым приметам, известным всем женщинам, что он пришел не столько ради товаров, сколько ради нее самой. Он назвал свое имя и адрес продавщице, но та сохранила полную невозмутимость перед восторженным покупателем. Бедному приказчику незачем было блистать перед Урсулой, чтобы снискать ее расположение; он остался наивным, как барашек: любовь сделала его еще глупее; он не решался слова сказать и был к тому же слишком ослеплен, чтобы заметить безразличие, сменившее улыбку этой сирены торговли.
В течение недели каждый вечер он простаивал на часах перед «Маленьким матросом», выжидая взгляда красотки, как собака выжидает кость у порога кухни; нечувствительный к насмешкам, которые отпускали на его счет приказчики и продавщицы, он смиренно уступал дорогу покупателям и прохожим, внимательно приглядывался ко всяким переменам в магазине. Через несколько дней он снова посетил рай, где пребывал его ангел, посетил не столько для того, чтобы купить носовые платки, сколько затем, чтобы высказать осенившую его счастливую идею:
– Если угодно, сударыня, я могу вам доставлять парфюмерные товары, – сказал он, расплачиваясь.
Констанс Пильеро ежедневно выслушивала блестящие предложения, но никто никогда не заговаривал с ней о браке; и хотя ее сердце было столь же непорочно, сколь белоснежно ее чело, она соблаговолила принять ухаживания Цезаря только после полугодовых его обходных маневров, когда он доказал ей свою неутомимую любовь; но и тогда она ничего не обещала: осторожность, вызванная бесконечным множеством поклонников – виноторговцев-оптовиков, богатых содержателей кофеен и многих других, которые заглядывались на нее. Влюбленный нашел себе поддержку в опекуне Констанс, г-не Клоде-Жозефе Пильеро, в те годы торговце скобяными товарами на набережной Ла-Феррай; Цезарь разыскал его, прибегнув к тайному шпионажу, на какой способна лишь истинная любовь. Краткость этого повествования заставляет нас обойти молчанием радости невинной любви в Париже, не рассказывать о роскошествах приказчиков: о дынях из оранжерей, об изысканных обедах у Венюа, за которыми следовали поездки в театр, и о воскресных загородных прогулках в фиакре. Цезарь хотя и не был красавцем, все же не мог вспугнуть любовь. Парижская жизнь и пребывание в полутемной лавке притушили его яркий деревенский румянец. Его густые черные волосы, крепкая, как у нормандской лошади, шея, большие руки и ноги, открытое и честное выражение лица – все располагало в его пользу. Дядюшка Пильеро, заботившийся о счастье дочери своего брата, навел справки и одобрил намерения туренца. В 1800 году, в прекрасном месяце мае, мадмуазель Пильеро согласилась выйти замуж за Цезаря Бирото, который едва не лишился чувств от радости в ту минуту, когда, под липой в Со, Констанс-Барб-Жозефина приняла его предложение.
– Дитя мое, – сказал Пильеро, – у тебя будет хороший муж: честный малый и сердце золотое; он чист, как кристалл, и благонравен, как младенец Иисус, – словом, венец творения.
Констанс бесповоротно отказалась от блестящих планов на будущее, которые она некогда строила, как все продавщицы магазинов, – она решила быть просто честной женщиной, хорошей матерью и хозяйкой и повела жизнь, согласную с благочестивой программой среднего класса. Эта роль к тому же значительно больше подходила к ее понятиям, чем опасное тщеславие, которое воспламеняет воображение многих юных парижанок. Констанс, женщина не очень далекая, была типичной мещанкой, работящей и немного ворчливой, считающей своим долгом сначала отказываться от того, чего ей хочется, и очень обижающейся, когда ее ловят на слове, простирающей свою беспокойную деятельность и на кухню, и на кассу, и на самые серьезные дела, и на починку белья; она бранится любя, постигает лишь самые простые мысли, мелкую разменную монету ума, обо всем рассуждает, всего боится, все высчитывает и всегда тревожится за будущее. Ее холодная, чистая красота, трогательный вид, свежесть помешали Бирото разглядеть ее недостатки, которые искупались к тому же деликатной щепетильностью, свойственной женщинам, пристрастием к порядку, редкостным трудолюбием и талантами продавщицы. Констанс было восемнадцать лет, у нее имелось одиннадцать тысяч франков. Цезарь, который под влиянием любви стал крайне честолюбив, купил фирму «Королева роз» и перевел лавку в красивый дом близ Вандомской площади. Ему шел всего лишь двадцать второй год, он женился на хорошенькой женщине, которую обожал, ему принадлежала лавка, три четверти стоимости которой он уже выплатил; он должен был видеть и действительно видел будущее в розовом свете, особенно когда оглядывался на пройденный путь. Роген, нотариус Рагонов, составитель брачного контракта Бирото, дал начинающему парфюмеру мудрый совет – повременить с уплатой последнего взноса за лавку и не трогать приданого жены.
– Приберегите деньги, чтобы вложить их в какое-нибудь выгодное предприятие, мой мальчик, – сказал он ему.
Бирото посмотрел на нотариуса с восхищением; с тех пор он стал советоваться с ним обо всем и сделался его другом. Как Рагон и Пильеро, он весьма высоко ставил звание нотариуса и всецело полагался на Рогена, не позволяя себе ни малейшего подозрения. Последовав совету нотариуса, Цезарь сохранил одиннадцать тысяч франков жены, столь нужные ему для торгового дела; он ни за что не променял бы своего положения на положение первого консула Наполеона Бонапарта, каким оно ни казалось ему блестящим. Вначале Бирото держали только одну кухарку и снимали на антресолях, расположенных над лавкой, нечто вроде чулана, впрочем, довольно мило отделанного обойщиком; здесь молодожены начали свой бесконечный медовый месяц. Сидя за кассой, г-жа Бирото была истинной чародейкой. Ее прославленная красота оказала огромное влияние на торговлю; щеголи Империи только и говорили что о «прекрасной госпоже Бирото». Если Цезаря и обвиняли в роялизме, то все же отдавали должное его честности; если кое-кто из соседних купцов и завидовал его счастью, то все признавали его заслуженным. Рана, полученная Цезарем на ступенях церкви св. Роха, создала ему репутацию храбреца и человека, причастного к политической деятельности, хотя воинская доблесть была столь же мало присуща его сердцу, как политические идеи – его голове. Вот почему буржуа его округа избрали его капитаном национальной гвардии, но избрание это не утвердил Наполеон, который, как воображал Бирото, не забыл их встречи в вандемьере. Так Цезарь без труда приобрел репутацию человека преследуемого; это вызвало интерес к нему в кругах оппозиции и придало ему известный вес.
Вот как сложилась жизнь этой четы, неизменно счастливой в семейных делах и знакомой с тревогами лишь в делах торговых.
В первый же год Цезарь Бирото посвятил жену в тайны розничной торговли парфюмерией, и Констанс в совершенстве ими овладела; казалось, бог создал ее и ниспослал на землю, для того чтобы привлекать покупателей. Однако подведенный в конце года баланс ужаснул честолюбивого парфюмера: с учетом всех расходов он лишь за двадцать лет еле-еле мог бы сколотить относительно скромный капитал в сто тысяч франков, который считал необходимым для своего благосостояния. Тогда он решил добиться богатства быстрее и для этого прежде всего присоединить к розничной торговле промышленное предприятие. Вопреки желанию жены, он арендовал участок земли и помещение в предместье Тампль и повесил на воротах бросавшуюся в глаза вывеску: «Фабрика Цезаря Бирото». Он переманил из Грасса рабочего, с которым на половинных началах приступил к изготовлению некоторых сортов мыла, эссенций и одеколона. Дело это просуществовало всего полгода и принесло только убытки, которые пали на одного Цезаря. Стремясь не поддаваться унынию, Бирото решил во что бы то ни стало добиться успеха, только бы не слушать упреков жены; позднее он признался ей, что в те тяжелые дни у него голова шла кругом, и подчас только религиозные убеждения удерживали его от того, чтобы не броситься в Сену.
Обескураженный неудачами, он возвращался однажды домой к обеду и брел по бульварам (заметим, что гуляющий парижанин – чаще удрученный человек, чем бездельник). Среди книг по шести су, лежавших у букиниста в корзине прямо на земле, взор его привлекла пожелтевшая от пыли обложка, на которой он прочел: «Абдекер, или искусство сохранять красоту». Он взял эту мнимо арабскую книгу, нечто вроде романа, написанного медиком прошлого столетия, и случайно раскрыл ее на странице, посвященной парфюмерии. Тут же, прислонившись к дереву, он перелистал книжку и прочитал одно из примечаний, в котором автор объяснял различные свойства кожного покрова и указывал, что тот или иной крем или мыло производят нередко действие, противоположное ожидаемому, ибо усиливают окраску кожи, когда ее надо ослабить, и ослабляют ее, когда надо усилить. Бирото купил книжку, усмотрев в ней залог богатства. Однако, мало доверяя своим познаниям, он отправился к знаменитому химику Воклену и простодушно спросил его, как изготовить универсальное косметическое средство, полезное для любой человеческой кожи. Настоящие ученые, воистину великие люди, никогда не пользующиеся при жизни славой, которую они заслуживают своими важными, непонятыми их современниками работами, почти всегда бывают внимательны и снисходительны к людям недалеким. Воклен взял под свое покровительство парфюмера, сообщил ему рецепт крема, придающего белизну рукам, и позволил Цезарю выдать его за свое изобретение. Бирото назвал это косметическое средство «Двойной крем султанши». Затем он присоединил к крему для рук туалетную воду, которую назвал «Жидкий кармин». В своей торговле Цезарь воспользовался опытом магазина «Маленький матрос» и первый среди парфюмеров не поскупился на дорогие объявления, проспекты, афиши, которые, пожалуй, несправедливо называют шарлатанством.
«Крем султанши» и «Жидкий кармин» стали известны галантному и торговому миру благодаря разноцветным объявлениям со словами: «Одобрено Академией!» Формула эта, примененная впервые, возымела магическое действие. Не только Франция, но и весь континент был расцвечен желтыми, красными, синими афишами владельца «Королевы роз», который изготовлял, продавал и поставлял по доступным ценам парфюмерные товары. В ту эпоху все бредили Востоком, и назвать косметическое средство «Кремом султанши», догадаться о волшебной силе этих слов в стране, где каждый мужчина мечтает стать султаном, а женщина – султаншей, было вдохновением, которое могло осенить как заурядного человека, так и человека большого ума; но публика всегда считается только с достигнутыми результатами. Бирото прослыл в торговом мире человеком выдающимся; он сам составил проспект, забавная фразеология которого была одной из причин его успеха; во Франции подсмеиваются лишь над теми вещами и людьми, которыми интересуются, а неудачниками не интересуется никто. Хотя Бирото сочинял свой проспект с полной серьезностью и не прикидывался дурачком, ему приписали способность притворяться, когда нужно, глупцом. Нам не без труда удалось разыскать экземпляр этого знаменитого проспекта в торговом доме Попино и К° «Аптекарские и парфюмерные товары», на Ломбардской улице. Курьезный этот документ относится к числу тех, которые в более высокой области историками именуются источниками. Вот он:
«Двойной крем султанши»
и «Жидкий кармин»
Цезаря Бирото,
чудесное открытие.
Одобрено Французской Академией.
Издавна в Европе и мужчины и женщины мечтали о пасте для рук и туалетной воде для лица, которые давали бы в области косметики более блестящие результаты, чем одеколон. Посвятив долгие бдения изучению различных свойств кожного покрова у лиц обоего пола, которые вполне понятно придают исключительно большое значение мягкости, эластичности, блеску и бархатистости кожи, достопочтенный господин Бирото, парфюмер, хорошо известный в Париже и за границей, изобрел вышепоименованные крем и туалетную воду, тотчас же по справедливости названные избранной публикой столицы чудесными. И действительно, наш крем и туалетная вода изумительно воздействуют на кожу и не вызывают преждевременных морщин – неизбежного последствия снадобий, изготовленных невежественными и жадными людьми и опрометчиво употребляемых всеми до сего дня. Наше открытие исходит из различия темпераментов, подразделяемых на две большие группы, на что указывает самый цвет крема и туалетной воды: розовый – для людей лимфатической конституции и белый – для людей с сангвиническим темпераментом.
Крем назван «Кремом султанши», ибо такой состав некогда был уже изготовлен для сераля одним арабским врачом. Он одобрен Академией на основе доклада нашего знаменитого химика Воклена, как и туалетная вода, приготовленная по тому же принципу.
Этот драгоценный крем распространяет дивное благоухание, сводит самые упорные веснушки, придает белизну любой коже и уничтожает потливость рук, на которую равно жалуются и женщины и мужчины.
«Жидкий кармин» уничтожает прыщи, которые время от времени внезапно появляются на лице и нередко препятствуют дамам выезжать в свет; он освежает и оживляет цвет лица, открывая или закрывая поры, как того требует темперамент, и столь известен уже как средство, предохраняющее кожу от разрушительного действия времени, что многие дамы из благодарности назвали его «Другом красоты».
Одеколон – всего лишь обыкновенные духи, не обладающие никакими полезными свойствами, тогда как «Двойной крем султанши» и «Жидкий кармин» – благотворные средства, которые воздействуют безвредно и превосходно на внутренние свойства кожных покровов; благовонный, прелестный аромат нашего крема и туалетной воды радует сердце и возбуждает ум; эти средства поражают своими качествами и своей простотой; словом, для женщин – это новые чары, а для мужчин – новое средство нравиться. Ежедневное употребление туалетной воды устраняет воспаление кожи после бритья, предохраняет губы от трещин и поддерживает их алый цвет; при длительном ее употреблении исчезают веснушки и восстанавливается свежесть лица. Подобные результаты, несомненно, свидетельствуют о правильном кровообращении в организме, что способствует излечению лиц, подверженных мучительным мигреням. Наконец, «Жидкий кармин» при постоянном употреблении его женщинами предупреждает накожные болезни и, не стесняя дыхания тканей, придает им постоянную бархатистость.
Письма с оплатой почтовых расходов адресовать господину Цезарю Бирото, преемнику Рагона, бывшего парфюмера королевы Марии-Антуанетты, владельцу лавки «Королева роз», – Париж, улица Сент-Оноре, близ Вандомской площади.
Цена крема – три франка, цена флакона туалетной воды – шесть франков.
Во избежание подделок господин Цезарь Бирото предупреждает публику, что крем завернут в бумагу с его подписью, а на флаконах имеется клеймо».
Успехом крема и туалетной воды Цезарь был обязан своей жене, о чем он и не догадывался, – именно Констанс посоветовала ему разослать «Жидкий кармин» и «Крем султанши» всем парфюмерам Франции и за границу, предлагая им скидку в тридцать процентов, если они согласятся закупать этот товар большими партиями. Крем и туалетная вода действительно были лучше других косметических средств и, кроме того, соблазняли невежд рассуждением о темпераментах; прельстившись барышом, пятьсот парфюмеров Франции ежегодно покупали у Бирото свыше трехсот гроссов баночек крема и флаконов туалетной воды каждый, и такой спрос, несмотря на незначительный процент прибыли, принес Цезарю огромный доход. Бирото смог купить несколько домишек и землю в предместье Тампль, выстроил там фабрику и великолепно отделал свою лавку «Королева роз»; его семья узнала скромные радости достатка, и жена его теперь не так уж боялась за завтрашний день.
В 1810 году г-жа Бирото, предвидя повышение квартирной платы, посоветовала мужу стать главным квартиронанимателем в доме, где они снимали лавку и антресоли, и переселиться во второй этаж. Бирото не пожалел средств на обстановку; некое счастливое обстоятельство заставило Констанс закрыть глаза на безумную его расточительность: парфюмер был избран членом коммерческого суда. Его честность, известная всем щепетильность и всеобщее уважение доставили ему это почетное звание, и с этого дня он попал в число именитых купцов города Парижа. Стремясь увеличить свои познания, он вставал в пять часов утра, читал юридические сборники и книги, трактующие коммерческие споры и тяжбы. Присущее ему чувство справедливости, его прямота и благожелательность, качества столь важные при разборе тяжб, сделали его одним из самых уважаемых судей. Даже недостатки Цезаря и те способствовали его славе. Считая себя по знаниям ниже других, он охотно подчинялся решениям своих коллег, им льстило внимание, с каким он прислушивался к их суждениям; одни добивались молчаливого одобрения этого человека, прослывшего глубокомысленным за свое умение слушать; другие, очарованные скромностью и мягкостью Бирото, всячески хвалили его. Тяжущиеся превозносили его доброжелательность и миролюбие, часто обращались к нему при решении спорных вопросов, и тогда здравый смысл подсказывал ему мудрый выход. Подвизаясь в суде, Цезарь научился уснащать свою речь общими местами, пересыпать ее сентенциями, суждениями, щеголять красивыми фразами, казавшимися людям поверхностным истинным красноречием. Он нравился большинству посредственных людей, вечно озабоченных делами, поглощенных мелочами повседневной жизни. Цезарь столько времени терял в суде, что жена убедила его наконец отказаться от этих слишком накладных почестей. В 1813 году благодаря постоянному согласию семья Бирото узрела после долгих серых будней начало эры благоденствия, которое ничто, казалось, не должно было нарушить. Круг друзей Бирото составляли их предшественники супруги Рагон, дядя Пильеро, нотариус Роген, Матифа, аптекари-москательщики с Ломбардской улицы, поставщики лавки «Королева роз», Жозеф Леба, торговец сукнами, преемник Гильома, владельца лавки под вывеской «Кошка, играющая в мяч», и одно из светил улицы Сен-Дени, судья Попино – брат г-жи Рагон, Шифревиль – совладелец фирмы «Протес и Шифревиль», Кошен – чиновник казначейства и участник фирмы Матифа, его супруга, аббат Лоро, духовник и исповедник всех этих благочестивых буржуа, и еще кое-кто. Хотя Бирото слыл роялистом, общественное мнение было к нему благосклонно, его считали страшно богатым, а между тем его свободный капитал не превышал ста тысяч франков. Блестящий порядок в делах, аккуратность, привычка ни у кого не занимать денег, не прибегать к векселям, принимая в то же время в уплату за товары обеспеченные векселя лиц, которым он мог быть полезен, создали ему огромный кредит. К тому же он действительно нажил немало денег, но постройка фабрики и производство товаров поглотили много средств. Да и проживали они тысяч двадцать в год. Немало стоило и воспитание Цезарины, единственной дочери, боготворимой отцом и матерью. Ни муж, ни жена не скупились, когда надо было чем-либо порадовать дочь, с которой они хотели бы никогда не расставаться. Представьте себе только, как радовался этот разбогатевший крестьянин, слушая, как очаровательная Цезарина играла на пианино сонату Штейбельта или пела чувствительный романс; как восхищался он, когда видел, как грамотно она пишет по-французски, или когда она читала ему вслух произведения Расина-отца или его сына, поясняя их красоты, рисовала пейзаж или делала набросок сепией! Что за счастье вновь обретать жизнь в столь прекрасном, столь чистом цветке, еще не оторвавшемся от материнского стебля, в этом ангеле, чье очарование лишь раскрывалось, за чьими первыми шагами родители следили с такой страстной любовью, чьей красотой восторгались! Она – его единственная дочь, не способная презирать отца, смеяться над недочетами его образования, настолько она деликатная барышня.
Еще до переселения в Париж Цезарь умел читать, писать и считать, но на этом и закончилось его образование, торговля помешала ему расширить кругозор и приобрести знания, не связанные с парфюмерией. Постоянно соприкасаясь с людьми, которым не было никакого дела до литературы и науки и которые ничего не знали, кроме своей коммерции, не имея времени заняться чтением и самообразованием, парфюмер стал узким практиком. Он незаметно усвоил язык, заблуждения и ходячие мнения парижского буржуа, который, так сказать, понаслышке восхищается Мольером, Вольтером и Руссо, покупает, но не читает их сочинения и твердо уверен, что надо говорить «платьевой шкаф», ибо женщины прячут туда платья, а не «платяной», так как плата тут ни при чем. Он полагал, что Потье Тальма, мадмуазель Марс были архимиллионерами и жили совсем по-особенному, что они – не чета простым смертным: великий трагик ест сырое мясо, а мадмуазель Марс иногда приказывает поджаривать ей жемчуга, подражая одной знаменитой египетской актрисе. У императора к жилету подшиты кожаные карманы, чтобы он мог пригоршнями доставать оттуда табак; по лестнице Версальской оранжереи он пускал коня вскачь. Писатели и художники всегда умирают на больничной койке – результат оригинальничанья; мало того – все они безбожники, их и на порог пускать нельзя. Жозеф Леба с ужасом рассказывал о браке своей свояченицы Августины с художником Сомервье. Астрономы якобы питаются пауками. Эти перлы понимания французского языка, драматического искусства, политики, литературы, науки показывают уровень развития парижского буржуа. Поэт, проходя по Ломбардской улице и почувствовав в воздухе аромат духов, размечтается об Азии. Запах индийского нарда порождает в его восторженном воображении образы танцовщиц в караван-сарае. Пораженный яркостью кошенили, он постигает поэмы браминов, их верования и кастовые обычаи. Увидев неотделанную слоновую кость, он взбирается на спину слона и там в паланкине под муслиновой занавеской ласкает красавиц, как Лахорский раджа. Но мелкий торговец не знает, откуда поступают и как создаются товары, с которыми он имеет дело. Парфюмер Бирото ничего не смыслил ни в естественной истории, ни в химии. Он преклонялся перед Вокленом, как перед великим талантом, считая его необыкновенным человеком, сам же он мало чем отличался от удалившегося на покой бакалейщика, с хитрой усмешкой разрешившего спор о доставке чая: «Чай доставляется двояким путем – либо караванами, либо через Гавр». Послушать Бирото, так алоэ и опиум можно было найти только на Ломбардской улице. Так называемая константинопольская розовая вода, как и немецкий одеколон, изготовлялись в Париже. Географические их названия – сплошные враки, чтобы угодить французам, которые не жалуют отечественных изделий. Ради успеха своего открытия французский купец принужден выдавать его за английское, так же как английский аптекарь должен свое изобретение приписывать Франции. Тем не менее Цезаря нельзя было назвать ни глупцом, ни тупицей; честность и доброта, накладывая отпечаток на его поступки, делали их достойными уважения, ибо благородные поступки примиряют с каким угодно невежеством. Постоянный успех придал ему самоуверенность, а в Париже самоуверенность считается признаком и свидетельством силы. Поняв хорошо Цезаря за первые три года замужества, жена его пребывала в вечном страхе; в этом брачном союзе она олицетворяла собою прозорливость, сомнение, оппозицию, опасения, тогда как Цезарь был сама смелость, честолюбие, деятельность, причем ему неизменно сопутствовала удача. В действительности же купец был трусоват, а жена его обладала мужеством и терпением. Итак, человек робкий, посредственный, без образования, без собственных мыслей, без знаний, без характера, человек, который, казалось, не мог бы преуспеть на неустойчивом коммерческом поприще, добился того, что благодаря своей выдержке, чувству справедливости, истинно христианской душевной доброте и любви к единственной женщине, которой он обладал, прослыл выдающимся, смелым и решительным дельцом. Публика судит только по практическим результатам. Кроме Пильеро и судьи Попино, остальные представители этого круга знали Цезаря только поверхностно и ничего не могли о нем сказать. Два-три десятка приятелей, которые, собираясь вместе, изрекали одни и те же нелепости и повторяли затасканные общие места, считали себя на голову выше окружающей их среды. Женщины старались перещеголять друг друга зваными обедами и нарядами; и все как будто считали себя обязанными презрительно отзываться о своих мужьях. Только у госпожи Бирото хватало здравого смысла говорить в обществе о муже с почтением и уважением: она видела в нем человека, который, несмотря на свою скрытую от посторонних глаз бездарность, приобрел состояние и всеобщее уважение, распространявшееся и на нее. Правда, она иногда спрашивала себя, каков же свет, если все люди, которые слывут выдающимися, похожи на ее мужа. Такое поведение Констанс немало способствовало уважению к Бирото, – ведь в нашей стране женщины склонны развенчивать мужей и жаловаться на них.
Первые дни 1814 года, роковые для императорской Франции, ознаменовались в доме Бирото двумя событиями, мало примечательными во всякой другой семье, но по характеру своему способными запечатлеться в столь простых душах, как Цезарь и его жена, которые, оглядываясь на прошлое, видели в нем только тихие радости.
Они наняли старшим приказчиком молодого человека двадцати двух лет, по имени Фердинанд дю Тийе. Этот молодчик, бросивший службу в одной парфюмерной фирме, где ему отказали в участии в барышах, считался своего рода гением торговли; дю Тийе приложил немало труда, чтобы попасть в лавку «Королева роз», о владельцах, порядках и внутреннем укладе которой он успел разузнать все, что хотел. Бирото устроил его у себя, положил ему жалованье в тысячу франков в год и собирался сделать его впоследствии своим преемником. Фердинанд дю Тийе сыграл столь значительную роль в жизни этой семьи, что необходимо сказать о нем несколько слов. Первоначально он звался просто Фердинанд, без фамилии. Это обстоятельство оказалось для него великим благом в те времена, когда Наполеон в поисках солдат интересовался всеми семьями и фамилиями. Тем не менее и Фердинанд, плод чьей-то жестокой и сладострастной прихоти, тоже где-то родился и вырос. Вот некоторые сведения о его гражданском состоянии. В 1793 году бедная девушка из Тийе, небольшой деревушки, расположенной около Андели, родила как-то ночью ребенка в саду викария местной церкви и, постучав в ставень, утопилась. Добрый священник подобрал младенца, окрестил его именем святого, упоминаемого под этим днем в святцах, вскормил и воспитал его как сына. Священник умер в 1804 году, не оставив наследства, достаточного для завершения начатого им воспитания ребенка. Попав в Париж, Фердинанд вел там жизнь флибустьера, которого случай мог привести и к виселице и к богатству, к карьере адвоката или солдата, купца или лакея. Вынужденный жить как настоящий Фигаро, он сделался коммивояжером, потом – приказчиком в парфюмерной лавке, когда вернулся в Париж, исколесив всю Францию, изучив свет и твердо решив добиться во что бы то ни стало успеха. В 1813 году он счел необходимым официально установить свой возраст и определить гражданское состояние, потребовав в Анделийском суде передачи выписки об акте крещения из церкви в мэрию, и добился внесения в акт поправки, выразившейся в записи его под именем дю Тийе, на том основании, что он был найден в этой деревне. Без отца и без матери, не имея иного опекуна, кроме императорского прокурора, один в целом свете, не обязанный никому давать отчет, он питал в душе лютую ненависть к обществу и смотрел на него как на злую мачеху; он всегда руководствовался личной выгодой и считал все пути к обогащению пригодными. Этот нормандец, наделенный от природы опасными склонностями, соединял стремление к успеху с неискоренимыми пороками, в которых обычно упрекают его земляков. За его вкрадчивыми манерами скрывался сутяга, самый невероятный крючкотвор; дерзко оспаривая чужие права, он не уступал ничего своего и брал противника измором, побеждая его своей непреклонной волей. Главной его особенностью была характерная черта Скапенов старинной комедии: он отличался неистощимой изобретательностью и с поразительной ловкостью обходил закон, тяготея ко всему, что плохо лежит и чем стоит завладеть. Словом, он шел по стопам аббата Террея, оправдывал свои темные дела бедностью, как тот – государственной необходимостью, и рассчитывал стать впоследствии честным человеком. Наделенный неукротимой энергией и бесстрашием солдата, он умел кого угодно склонить к хорошему или дурному поступку и оправдывал свои домогательства теорией личной выгоды; он глубоко презирал людей, считая всех продажными, нимало не стеснялся в выборе средств, находя их все для себя дозволенными, и так упорно добивался успеха и денег, как силы, упраздняющей необходимость морали, что рано или поздно должен был достичь своих целей. Подобный человек, лавируя между каторгой и миллионным состоянием, не мог не быть мстительным, безудержным, быстрым в своих решениях, но скрытным, как новый Кромвель, который пожелал бы обезглавить самую честность. Свой истинный нрав он прятал под личиной насмешливости и легкомыслия. Этот приказчик парфюмерной лавки не знал предела своему честолюбию и, с ненавистью созерцая общество, думал: «Я покорю тебя!» Он дал себе слово не жениться раньше сорока лет и сдержал зарок. Внешне Фердинанд был высокий и стройный молодой человек; вкрадчивые манеры позволяли ему легко приспособиться к любому обществу. Его худощавое лицо сначала нравилось, но, приглядевшись, вы подмечали в нем странное выражение, словно отпечаток душевного разлада, внутренней борьбы или тайных угрызений совести. На нежной коже нормандца играл слишком яркий румянец. Глаза его разного цвета, с металлическим блеском, перебегали с предмета на предмет и загорались зловещим огнем, впиваясь в намеченную жертву. Голос его звучал глухо, как у долго говорившего человека; тонкие губы были красиво очерчены, но острый нос и выпуклый лоб выдавали простое происхождение. Иссиня-черные, словно крашеные волосы обличали в нем социального метиса, обязанного своим умом, распутнику-вельможе, низменностью натуры – соблазненной крестьянке, знаниями – незавершенному образованию, а пороками – своей беспризорности. С изумлением узнал Бирото, что приказчик его отправляется в гости в элегантном костюме, возвращается поздно и бывает на балах у банкиров и нотариусов. Такие замашки не понравились Цезарю: по его понятиям, приказчики должны были изучать торговые книги фирмы и все свое время посвящать делу. Парфюмера неприятно поразили и некоторые другие мелочи: он побранил дю Тийе за пристрастие к слишком тонкому белью, за визитные карточки, на которых было напечатано «Ф. дю Тийе», что, по мнению парфюмера, пристало лишь людям светским. Следует сказать, что Фердинанд втерся к этому Оргону с намерениями Тартюфа: он стал ухаживать за женой Цезаря, попытался ее соблазнить; так же как и Констанс, но только гораздо быстрее, приказчик раскусил своего хозяина. Как ни был дю Тийе сдержан и скрытен, как ни взвешивал свои слова, но он несколько неосторожно высказал г-же Бирото свой взгляд на жизнь и людей и перепугал робкую женщину, такую же благочестивую, как и сам Бирото, почитавшую преступлением малейший ущерб, причиняемый ближнему. Несмотря на такт, свойственный г-же Бирото, дю Тийе догадался, что она его презирает. Констанс, которой приказчик написал несколько любовных писем, вскоре заметила перемену в его поведении: он стал крайне развязным, желая создать впечатление интимной близости с ней. Не открывая мужу своих тайных соображений, она посоветовала ему расстаться с Фердинандом. Бирото согласился с женой. Приказчика решено было рассчитать. За три дня до увольнения, в субботний вечер, Бирото производил ежемесячную проверку кассы и обнаружил недостачу в три тысячи франков. Он был удручен не столько пропажей денег, сколько подозрениями, которые тяготели теперь над тремя приказчиками, кухаркой, рассыльным и рабочими, пользовавшимися его доверием. Кого подозревать? Г-жа Бирото не отходила от конторки. Приказчик, который вел кассовые книги, – Попино, племянник г-на Рагона, девятнадцатилетний юноша, жил в доме и был воплощенной честностью. Его записи, не сходившиеся с кассовой наличностью, обнаруживали недостачу и указывали, что кража была совершена после подведения баланса. Супруги решили промолчать и последить за служащими. На другой день, в воскресенье, Бирото принимали гостей. Семьи, входившие в этот замкнутый круг, часто бывали друг у друга. Играя в буйот, нотариус Роген положил на сукно несколько старых луидоров, и г-жа Бирото узнала в них те самые монеты, которые она получила несколько дней тому назад от недавно вышедшей замуж г-жи д'Эспар.
– Вы никак вытрясли себе в карман кружку для бедных, – заметил, смеясь, парфюмер.
Роген ответил, что выиграл эти деньги в доме одного банкира у дю Тийе, и тот, не краснея, подтвердил слова нотариуса. Парфюмер побагровел. Когда гости разошлись и Фердинанд собрался идти спать, Бирото увел его в лавку под предлогом делового разговора.
– Дю Тийе, – сказал добряк, – у нас в кассе не хватает трех тысяч франков; у меня нет оснований подозревать кого-либо; история со старыми луидорами говорит против вас, и я не могу не сказать вам об этом. Предлагаю вам не ложиться спать до тех пор, пока мы не найдем ошибки, ибо это может быть только ошибкой. Вы ведь могли взять деньги из кассы в счет вашего жалованья.
Дю Тийе подтвердил, что он действительно взял луидоры. Парфюмер заглянул в конторские книги, счет приказчика еще не был закрыт.
– Я торопился и забыл попросить Попино, чтобы он записал эту сумму, – сказал Фердинанд.
– Конечно, – сказал Бирото, потрясенный наглым спокойствием нормандца, прекрасно понимавшего честных людей, к которым он поступил, чтобы сколотить себе капитал.
Парфюмер и приказчик всю ночь провели за проверкой, которая, как и предполагал почтенный коммерсант, ничего не дала. Расхаживая взад и вперед, Цезарь незаметно сунул в дальний угол кассы три тысячефранковых билета; затем, притворившись усталым, сделал вид, что заснул, и даже захрапел. Дю Тийе, торжествуя, разбудил его и с наигранной радостью заявил, что выяснил ошибку. На другой день Бирото при всех разбранил жену и Попино за их небрежность. Через две недели Фердинанд дю Тийе устроился у биржевого маклера. Парфюмерная торговля не для него, говорил он, он намерен изучить банковское дело. Расставшись с Бирото, дю Тийе отзывался о жене парфюмера так, словно тот рассчитал его из ревности. Через несколько месяцев дю Тийе пожаловал к своему бывшему хозяину и попросил у него поручительство на сумму в двадцать тысяч франков, необходимых ему, чтобы внести залог для участия в деле, которое открывало перед ним путь к богатству. Заметив недоумение Бирото, пораженного подобной наглостью, дю Тийе нахмурил брови и спросил парфюмера, не отказывает ли он ему в доверии. Матифа и два других купца, зашедшие к Бирото по делу, заметили негодование парфюмера, хотя он сдержал гнев в их присутствии. Дю Тийе, быть может, исправился, подумал Бирото, его проступок был, возможно, вызван тяжелым положением любовницы или карточным проигрышем, публичное его осуждение лицом уважаемым может толкнуть на пагубный путь преступлений такого молодого еще человека, а ведь он, кажется, вступил на стезю раскаяния. И этот ангельски чистый человек, взяв перо, подписал поручительство на векселях дю Тийе, сказав, что с радостью оказывает эту небольшую услугу юноше, который был ему очень полезен. Кровь бросилась ему в лицо, когда он произносил эту заведомую ложь. Дю Тийе не выдержал его взгляда и бесспорно в эту минуту поклялся в смертельной ненависти к Бирото, какую духи тьмы питают к ангелам света. Дю Тийе искусно балансировал на натянутом канате финансовых спекуляций и выглядел щеголем и богачом, прежде чем стал богатым на самом деле. Он приобрел кабриолет и совсем перестал ходить пешком; он вращался в тех высоких сферах, где подвизаются современные Тюркаре, где люди сочетают развлечение с делами и фойе оперы превращают в отделение биржи. Благодаря г-же Роген, с которой он познакомился у Бирото, Фердинанд дю Тийе довольно быстро проник в высшие финансовые круги. К этому времени он уже достиг отнюдь не призрачного благосостояния. Установив хорошие отношения с банкирским домом Нусингена, куда его ввел Роген, он быстро сблизился с братьями Келлер, представителями высших банковских сфер. Никто не знал, где доставал этот молодчик огромные капиталы, которыми ворочал, но его успехи все приписывали уму и честности.
Реставрация сделала Цезаря заметным человеком, и вихрь политических событий стер в его памяти эти два события его домашней жизни. Роялистские убеждения, которых он продолжал внешне придерживаться, хотя и сильно охладел к ним после ранения, воспоминание о его преданности в дни вандемьера обеспечили ему монаршую милость, тем более что сам он ничего не просил. Он был поставлен во главе батальона национальной гвардии, хотя не способен был повторить даже самой простой команды. В 1815 году Наполеон, неизменный враг Бирото, вновь сместил его. В период Ста дней Бирото стал жупелом для всех либералов его квартала; ибо только с 1815 года начался политический раскол среди купечества, до того времени единодушного в стремлении к спокойствию, необходимому для процветания торговли. Во время второй реставрации королевское правительство сочло нужным обновить муниципалитет. Префект хотел назначить Бирото мэром. Под влиянием жены парфюмер согласился лишь на менее ответственный пост помощника мэра. Подобная скромность сильно увеличила всеобщее уважение к нему и вместе с тем снискала ему дружбу мэра, г-на Фламе де ла Биллардиера. Бирото, который видел его в «Королеве роз» еще в те времена, когда лавка служила местом встречи для роялистов-заговорщиков, сам указал на него префекту округа Сены, который советовался с ним о кандидатах. Супруги Бирото неизменно бывали приглашены на все званые обеды у мэра. Наконец, г-жа Бирото частенько собирала пожертвования в церкви св. Роха наряду с представительницами высшего общества. Ла Биллардиер горячо поддержал кандидатуру Бирото, когда обсуждался вопрос о награждении членов муниципалитета орденами, – он ссылался на рану, полученную Цезарем на ступенях церкви св. Роха, на его приверженность Бурбонам и на уважение, каким он пользовался. Правительство, рассчитывая щедрой раздачей крестов Почетного легиона не только умалить значение этого наполеоновского института, но и умножить число своих приверженцев, привлечь на сторону Бурбонов представителей торговли, искусства и науки, включило Бирото в первый же список награжденных. Такой почет вполне соответствовал блеску, окружавшему имя Бирото в квартале, и вознес его на такую высоту, на которой не мог не возомнить о себе человек, знавший доселе одни лишь удачи. Новость о награде, сообщенная ему мэром, явилась последним толчком, побудившим Бирото пуститься в предприятие, о котором он рассказал жене, – ему хотелось поскорее распрощаться с парфюмерной торговлей и приобщиться к крупной буржуазии Парижа.
Цезарю в ту пору было сорок лет. Неустанные хлопоты, связанные с фабрикой, вызвали преждевременные морщины на его лице и слегка посеребрили длинные густые волосы, сохранявшие лоснящуюся полосу от шляпы. Лоб его, на который спускалось пять вьющихся прядей волос, говорил о простом укладе его жизни. Его густые брови никого не пугали, ибо открытый взгляд чистых голубых глаз гармонировал с челом честного человека. Толстый с низкой переносицей нос придавал лицу удивленное выражение, как у парижских зевак. Губы были мясистые, а большой тяжелый подбородок круто срезан. Широкое румяное лицо и расположением морщин, и всеми своими крупными чертами выражало простодушную хитрость крестьянина. Сильное тело, крепкое сложение, широкая спина, огромные ступни ног – все выдавало в нем крестьянина, осевшего в Париже. Большие волосатые руки, утолщенные суставы огрубелых пальцев, квадратные ногти убедительно свидетельствовали о его происхождении, не говоря уже о других чертах его облика. На губах его играла приветливая улыбка, какая появляется у купцов при виде покупателя, но эта «коммерческая» улыбка была вместе с тем выражением внутреннего довольства и отражала спокойное состояние души его. Недоверчивость Цезаря не распространялась за пределы торговых операций, хитрость покидала его по выходе с биржи или после того, как он закрывал свои конторские книги. Подозрительность была для него тем же, что и фирменные печатные бланки счетов, – необходимостью, вызванной самим характером торговли. Лицо его дышало комической самоуверенностью; сочетание самодовольства и добродушия придавало ему некоторое своеобразие и уменьшало сходство с плоской физиономией парижского буржуа. Не будь у Цезаря Бирото наивного восхищения собственной персоной и самоуверенности, он, пожалуй, внушал бы уж слишком большое уважение к себе; смешные черты приближали его к простым смертным. Обычно, разговаривая, он закладывал руки за спину. Когда он полагал, что был особенно любезен или изрек что-либо остроумное, он незаметно, в два приема, подымался на носки, а затем тяжело падал на пятки, как бы для подтверждения своих слов. В разгаре спора он иногда вдруг круто поворачивался, делал несколько шагов, словно в поисках возражений, затем вновь резко подступал к своему противнику. Он никогда никого не прерывал и нередко становился жертвой столь щепетильного соблюдения приличий, ибо другие наперебой сыпали словами, а бедняга не мог и рта раскрыть. В результате большого коммерческого опыта Бирото усвоил определенные привычки, которые кое-кто считал сумасбродными. Если какой-либо вексель не был ему оплачен, он отсылал его к судебному приставу и вспоминал о нем лишь тогда, когда полагалось получить по нему деньги, проценты и издержки; при этом он поручал судебному приставу преследовать должника лишь до признания того несостоятельным; в последнем случае Бирото прекращал всякое судебное преследование, не являлся на собрания кредиторов, но документы сохранял. Это правило и непримиримое презрение к банкротам он усвоил у г-на Рагона, который за время своей торговой деятельности пришел к выводу, что тяжбы поглощают слишком много времени, и считал поэтому, что скудный и ненадежный дивиденд, доставляемый конкурсом, не стоит сил, затраченных на беготню и разоблачение недобросовестного должника.
– Ежели банкрот – честный человек и выйдет из затруднительного положения, он сам вам заплатит, – говаривал г-н Рагон. – Ну, а ежели он остался без всяких средств и без вины пострадал, зачем его еще мучить? Ежели он мошенник, вы все равно ничего от него не получите. Ваша твердость, став известной, создаст вам славу человека непреклонного, и тогда, понимая невозможность добиться с вами какого-либо соглашения, должник постарается заплатить вам при первой возможности.
Цезарь являлся на деловое свидание точно в назначенное время, но ждал не больше десяти минут, после чего уходил, и ничто не могло заставить его отступить от этого правила: своей аккуратностью он приучил к аккуратности всех, кто имел с ним дело. Костюм, который он носил, соответствовал его привычкам и наружности. Ничто не могло бы заставить его отказаться от галстуков из белого муслина, концы которых, вышитые женою или дочерью, он выпускал на грудь. Белый пикейный жилет, застегнутый на все пуговицы, низко спускался на его внушительное брюшко: Цезарь начинал полнеть. Он носил синие панталоны, черные шелковые чулки и башмаки с бантами; банты эти часто развязывались. Чрезмерно просторный зеленовато-оливковый сюртук и шляпа с большими полями придавали ему сходство с квакером. Принаряжаясь к воскресному вечеру, он надевал короткие шелковые панталоны, башмаки с золотыми пряжками и неизменный жилет, из-за отогнутых бортов которого виднелось плоеное жабо. Наряд этот дополнял фрак коричневого сукна с длинными и широкими фалдами. До 1819 года часы он носил на двух цепочках, располагая их одну над другой, но выпускал на жилет вторую только в парадных случаях. Таков был Цезарь Бирото, человек достойный, но которому таинственные силы, предопределяющие судьбу людскую, отказали в способности проникать во взаимосвязь политики с жизнью, лишили возможности подняться над общественным уровнем среднего класса; Цезарь шел по проторенной дорожке: он заимствовал у других свои взгляды и почитал их за неоспоримые истины. Невежественный, но добрый, неумный, но глубоко религиозный, он обладал неиспорченной душой. Сердце его согревало одно-единственное чувство, свет и сила его жизни – всепоглощающая любовь к жене и дочери, которой объяснялись и его жажда возвыситься, и тот ограниченный запас знаний, который ему удалось приобрести.
Госпожа Бирото, которой в ту пору было тридцать семь лет, так походила на Венеру Милосскую, что все знакомые признавали ее изображением прекрасную статую, присланную герцогом де Ривьером. Но через несколько месяцев горести так быстро иссушили ее сверкающую белизной кожу, так безжалостно углубили и обвели чернью синеватые тени под ее прекрасными зелеными глазами, что она стала походить на старую мадонну; ибо даже в несчастье она сохранила кроткую чистоту души, ясный, хотя и скорбный взгляд, и даже тогда нельзя было не признать, что она хороша собой, а сдержанные манеры ее полны достоинства. На балу, задуманном Цезарем, ей суждено было в последний раз блеснуть своей красотой, замеченной всеми присутствовавшими.
Всякое существование имеет свой апогей – такой период, когда воздействующие причины и вытекающие из них следствия вполне соответствуют друг другу. Это – полдень жизни, когда живые силы находятся в полном равновесии и проявляются во всем своем блеске, и расцвет этот свойствен не только органическим существам, но также городам, нациям, идеям, учреждениям, торговле, предприятиям, которые, подобно благородным фамилиям и династиям, возникают, возвышаются и приходят в упадок. Как объяснить неизменность этого закона возвышения и падения – основы всего, что происходит на земле? Ведь даже сама смерть в годы моровой язвы то достигает значительного подъема, то ослабевает, то ополчается с новой силой, то опять затихает. Земной шар, быть может, не что иное, как ракета, светящаяся немного дольше других. История, повествуя о причинах величия и падения всего существовавшего на земле, могла бы предупредить человека о пределе его стремлений; но ни завоеватели, ни актеры, ни женщины, ни писатели не внемлют ее спасительному гласу.
Цезарь Бирото, которому следовало бы знать, что он достиг апогея благополучия, принял остановку в своем возвышении за отправную точку дальнейшего движения. К тому же он был полный невежда в этих вопросах, ибо ни народы, ни монархи не пытались запечатлеть неизгладимыми письменами причины крушений, которыми изобилует история и бесчисленные примеры которых являют многие династии и торговые дома. Почему не воздвигнут новые пирамиды, чтобы всем и каждому постоянно напоминать о том принципе, который должен служить основой и политики народов, и поведения отдельных лиц: «Когда производимое действие не находится более в прямой зависимости от своей причины и не соответствует ей, начинается разрушение». И все же такие памятники существуют повсюду: это предания и камни, которые говорят нам о прошлом и увековечивают прихоти неумолимой судьбы, чья рука разрушает наши мечты и доказывает нам, что самые великие события сводятся к одной мысли. Троя и Наполеон – лишь поэмы. Пусть же эта повесть станет поэмой превратностей буржуазной жизни, над которыми никто никогда и не задумывался, ибо они казались слишком ничтожными, тогда как в действительности они огромны: здесь речь идет не об одном человеке, а о целом сонме страдальцев.
Засыпая, Цезарь побаивался, что жена утром обрушится на него с новыми настойчивыми возражениями, и мысленно приказал себе встать на заре, чтобы все решить. На рассвете, когда Констанс еще спала, он тихонько выскользнул из спальни, быстро оделся и спустился в лавку как раз в ту минуту, когда рассыльный снимал с окон перенумерованные доски ставен. Убедившись, что приказчиков еще нет, Бирото остался ждать их в лавке, наблюдая, как рассыльный Раге справляется со своими обязанностями, хорошо знакомыми и самому Цезарю! Несмотря на холод, погода стояла чудесная.
– Попино! – крикнул Бирото спускавшемуся по лестнице приказчику. – Попроси Селестена спуститься в лавку, а сам оденься: мы пойдем с тобой в Тюильри, мне надо потолковать с тобой кой о чем.
Ансельм Попино являл собою поразительную противоположность Фердинанду дю Тийе; счастливый случай, внушающий веру в провидение, привел его в дом Цезаря, где ему пришлось играть столь значительную роль, что следует набросать его портрет. Г-жа Рагон была урожденная Попино. У нее было два брата. Младший из них состоял в ту пору заместителем судьи в суде первой инстанции департамента Сены. Старший брат торговал шерстью, разорился и умер, оставив на попечение Рагонов и бездетного брата-судьи своего единственного сына; мать мальчика умерла от родов. Г-жа Рагон, чтобы пристроить племянника к делу, определила Ансельма в парфюмерную лавку, надеясь со временем увидеть его преемником Бирото. Ансельм Попино был небольшого роста и хром, – недостаток, которым случай наделил лорда Байрона, Вальтера Скотта и Талейрана, как бы желая этим подбодрить страдающих от своей хромоты людей. Его румяное лицо было усеяно веснушками, как у всех людей с рыжими волосами, но чистая линия лба, глаза цвета серого агата с темными прожилками, красивый рот, белизна кожи, стыдливая грация юности, застенчивость, порожденная физическим недостатком, вызывали симпатию и желание помочь ему: ведь слабые пользуются всеобщей любовью. Попино возбуждал к себе участие. Маленький Попино, как все его называли, происходил из глубоко религиозной семьи; родные его отличались высокой нравственностью, вели скромную жизнь и творили много добрых дел. Не удивительно, что юноша, воспитанный дядей-судьей, соединял в себе все достоинства, украшающие молодость: умный, сердечный, несколько робкий, но пылкий в душе, кроткий, как ягненок, но усердный в работе, преданный, сдержанный, – он обладал всеми добродетелями первых христиан.
Услышав приглашение прогуляться в Тюильри – самое диковинное предложение для столь раннего часа и в устах уважаемого им патрона, – Попино решил, что хозяин хочет поговорить с ним об его устройстве; приказчик сразу же подумал о Цезарине, истинной королеве роз, живой вывеске торгового дома: он был влюблен в нее с того самого дня, когда поступил на службу к Бирото – двумя месяцами раньше дю Тийе. Поднимаясь по лестнице, он вынужден был остановиться: дыхание спирало в груди, сердце билось слишком сильно; вскоре он вновь спустился в лавку, в сопровождении старшего приказчика Селестена. Не говоря ни слова, Ансельм с хозяином направились в Тюильри. Попино в ту пору шел двадцать второй год, в его возрасте Бирото был уже женат, поэтому Ансельм не видел никаких помех для своего брака с Цезариной, хотя состояние парфюмера и красота его дочери являлись огромными препятствиями для столь честолюбивого плана; но любовь окрыляет надеждой, и чем любовь безрассуднее, тем охотнее верят в ее торжество: чем недоступнее была любимая, тем сильнее разгоралось чувство Ансельма. Счастливый юноша, в годы, когда стирались грани между различными слоями общества, когда все носили ничем не отличимые друг от друга шляпы, он измышлял какие-то преграды между дочерью парфюмера и собой, отпрыском старинной парижской фамилии! Все же, несмотря на сомнения и тревоги, он был счастлив: каждый день он обедал за одним столом с Цезариной. Ансельм так горячо принимал к сердцу все интересы фирмы, с таким рвением брался за любое дело, что служба не доставляла ему никаких огорчений, он делал все во имя Цезарины и никогда не знал усталости. Двадцатилетнему юноше свойственна самоотверженная любовь.
– Из него выйдет настоящий купец, он пробьется, – говорил Цезарь г-же Рагон, расхваливая Ансельма за хлопоты по фабрике, за понимание тонкостей парфюмерного дела, за рвение в работе в те дни, когда готовили товары к отправке и хромой Попино, засучив рукава по локоть, один упаковывал и забивал больше ящиков, чем все остальные приказчики.
Явные притязания на руку Цезарины со стороны Александра Кротта, старшего клерка нотариуса Рогена, сына богатого фермера из Бри, были серьезным препятствием для торжества сироты Попино; но эти трудности не казались еще ему самыми страшными! Ансельм хранил в глубине сердца грустную тайну, которая углубляла пропасть между ним и Цезариной. Состояние Рагонов, на которое он мог рассчитывать, было подорвано; юноше выпало на долю счастье помогать им из своего скудного жалованья. И тем не менее он верил в успех!
Не раз он ловил взгляды, которые Цезарина с гордым видом бросала на него, – в глубине ее глаз он дерзнул прочесть сокровенную мысль, согревавшую его надеждой. Вот почему Ансельм шел теперь, охваченный любовью, трепещущий, молчаливый, взволнованный, каким был бы при подобных обстоятельствах каждый молодой человек, чья жизнь только начинается.
– Попино, – сказал ему почтенный торговец, – твоя тетушка здорова?
– Да, сударь.
– Однако в последнее время она кажется мне чем-то озабоченной. Все ли у вас в порядке? Послушай, дружок, нечего таиться передо мной, ведь мы почти родные, – вот уж двадцать пять лет, как я знаю твоего дядю. Я пришел к нему в лавку прямо из деревни, в грубых башмаках с подковками. Хотя наша деревня и называлась «Трезорьер», все мое состояние заключалось в одном луидоре, который мне подарила крестная, покойная маркиза д'Юкзель, родственница герцога и герцогини де Ленонкур, наших постоянных покупателей. Вот почему каждое воскресенье я молился о здравии ее и всей семьи; до сих пор я посылаю ее племяннице, госпоже де Морсоф, в Турень всякие парфюмерные изделия. Ленонкуры всегда направляют ко мне покупателей, например, господина де Ванденеса, и тот набирает у нас товару на тысячу двести франков в год. Если бы я не был благодарен от чистого сердца, то следовало бы быть благодарным из расчета; но знай, тебе я искренне желаю добра.
– Ах, сударь, позвольте вам сказать, светлая у вас голова!
– Нет, дружок, нет, этого мало. Не стану спорить, голова у меня не хуже, чем у других, но прежде всего я был честен, черт побери! Я всегда вел себя благопристойно, я всегда любил только жену. Любовь – могучий двигатель, как удачно выразился вчера в палате господин де Виллель.
– Любовь! – воскликнул Попино. – О, сударь, неужели?..
– Погляди-ка, вон папаша Роген плетется пешком. И что это за дела у старика на площади Людовика Пятнадцатого, в восемь часов утра? – спросил сам себя Цезарь, забыв про Ансельма и про ореховое масло.
Бирото сразу вспомнил страхи своей жены и повернул от Тюильрийского сада навстречу нотариусу. Ансельм шел за хозяином на почтительном расстоянии, не понимая внезапного интереса, проявленного Цезарем по столь, казалось бы, незначительному поводу, но чрезвычайно довольный поощрением, которое он усмотрел в словах Цезаря о башмаках с подковками, о луидоре и о любви.
Роген, высокий и тучный человек, с прыщеватым лицом, с черными волосами, с залысинами на лбу, был когда-то недурен собой; в молодости он был дерзок, напорист и из мелких клерков выбился в нотариусы; но теперь опытный наблюдатель заметил бы искажавший его лицо легкий тик и печать усталости – следствие погони за наслаждениями. Когда человек предается грязным излишествам, ему мудрено избежать следов этой грязи на лице, вот почему самый характер морщин и красные пятна на щеках Рогена отнюдь не облагораживали его наружности. Вместо той чистоты красок, которая освежает лица людей умеренных и придает им здоровый вид, в нем чувствовалась нечистая кровь, подхлестываемая вожделениями, непосильными для его тела. Нос его был уродливо вздернут, как это часто бывает у людей, страдающих воспалением слизистой оболочки, что сказывается на форме носа и изобличает тайный недуг, который некая простодушная королева Франции наивно считала общим несчастьем всех мужчин и, не зная близко ни одного мужчины, кроме короля, так никогда и не поняла своей ошибки. Усиленно нюхая испанский табак, Роген надеялся скрыть свой недуг, но только усилил этим неприятные проявления болезни, ставшие главной причиной его бед.
Не пора ли покончить с лестью по отношению к обществу, с обычаем постоянно изображать людей в ложном свете, умалчивая об истинных причинах их злоключений, столь часто вызываемых болезнями? Доселе бытописатели, пожалуй, слишком мало интересовались разрушительным влиянием телесных недугов на нравственный облик человека, на весь уклад его жизни. Г-жа Бирото верно отгадала тайну Рогенов.
В первую же брачную ночь очаровательная г-жа Роген, единственная дочь банкира Шевреля, почувствовала к несчастному нотариусу неодолимое отвращение и решила немедленно добиться развода. Роген, чрезвычайно дороживший богатством жены – полумиллионным состоянием, не считая видов на наследство, – упросил ее не возбуждать дела о разводе; он предоставил ей полную свободу и принял на себя все нежелательные последствия такого соглашения. Г-жа Роген стала сама себе госпожой и начала обращаться с мужем, как куртизанка со старым любовником. Очень скоро Роген нашел, что жена слишком дорого ему обходится, и, подобно многим парижским мужьям, завел на стороне вторую семью. Сначала он в своих тратах не выходил за пределы благоразумия, и они были невелики.
Первое время Роген был экономен и довольствовался гризетками, дорожившими его покровительством; но вот уже три года его снедала ненасытная страсть, нередко овладевающая мужчинами в возрасте от пятидесяти до шестидесяти лет; страсть нотариуса была вызвана едва ли не самой блистательной куртизанкой того времени, известной в летописях парижской проституции под прозвищем Прекрасной Голландки; вскоре ее затянул этот омут, и она прославилась в нем своей смертью. Некогда красавицу привез из Брюгге в Париж один клиент Рогена; покидая по политическим соображениям столицу, он передал ее в 1815 году нотариусу. Старик купил для своей любовницы небольшой особняк на Елисейских полях, богато его обставил и поддался желанию потакать всем дорого стоившим прихотям этой женщины, расточительность которой поглотила все его состояние.
Угрюмое выражение, сбежавшее с лица Рогена, лишь только он увидел своего клиента, объяснялось загадочными событиями, в которых крылась и тайна чрезмерно быстрого обогащения дю Тийе. Когда старший приказчик парфюмера в одно из воскресений увидел в гостях у Бирото нотариуса и понаблюдал отношения Рогена с женой, он сразу изменил свои первоначальные планы. Дю Тийе поступил к Бирото, не столько желая соблазнить его жену, сколько стремясь жениться на его дочери, что вполне вознаградило бы его за неудовлетворенную страсть к Констанс, но он легко отказался от этого плана, когда убедился, что Цезарь далеко не так богат, как он предполагал. Дю Тийе выследил нотариуса, втерся к нему в доверие, добился знакомства с Прекрасной Голландкой, разобрался в подоплеке ее связи с Рогеном и узнал, что она грозила бросить нотариуса, если тот урежет ее траты. Прекрасная Голландка принадлежала к породе сумасбродных женщин, которые никогда не спрашивают, где и как мужчины добывают деньги, и способны со спокойным сердцем устроить бал на деньги отцеубийцы. Она никогда не задумывалась о завтрашнем дне. Будущее ограничивалось для нее вечером, а конец месяца терялся где-то в вечности, даже если ей предстояло платить по счетам. Дю Тийе, довольный, что нашел необходимый для его планов рычаг, прежде всего добился согласия Прекрасной Голландки любить Рогена за тридцать тысяч франков в год вместо прежних пятидесяти тысяч: сладострастные старики редко забывают о подобной услуге.
Однажды после ужина, обильно вспрыснутого вином, Роген признался дю Тийе в своем финансовом крахе. Недвижимое имущество нотариуса составляло законную ипотеку его жены, и страсть поэтому заставила его растратить деньги клиентов на сумму, превышавшую половину стоимости его конторы. Несчастный Роген решил пустить себе пулю в лоб, после того как куртизанка поглотит все его состояние: вызвав к себе сочувствие общества, он надеялся ослабить ужасное впечатление от своего банкротства. Дю Тийе узрел перед собою быстрый и верный путь к обогащению, блеснувший, словно молния, в пьяном угаре; он успокоил Рогена и отблагодарил его за доверие, посоветовав нотариусу разрядить пистолеты в воздух.
– Рискуя всем, человек вашего положения не должен поступать необдуманно и отдаваться на волю случая. Вам надо действовать решительнее, – сказал дю Тийе.
И он предложил нотариусу сейчас же доверить ему, дю Тийе, крупную сумму для какой-нибудь смелой биржевой операции или для участия в одной из тысяч предпринимавшихся в ту пору спекуляций. В случае удачи они основали бы вместе банкирский дом, деньги вкладчиков пустили бы в оборот, а доходы шли бы на удовлетворение страсти Рогена. Если же счастье обернется против них, Роген не покончит с собой, а скроется за границу, ибо его верный друг, дю Тийе, готов поделиться с ним последним су. То была веревка, брошенная утопающему, и Роген не заметил, что приказчик-парфюмер затягивает петлю вокруг его шеи.
Владея тайной Рогена, дю Тийе с ее помощью подчинил своей власти сразу и жену, и любовницу, и мужа. Предупрежденная об угрозе разорения, о возможности которого она и не подозревала, г-жа Роген приняла ухаживания дю Тийе, который, уверившись в своем близком успехе, покинул лавку парфюмера. Бывшему приказчику без труда удалось уговорить содержанку нотариуса рискнуть некоторой суммой денег, чтобы никогда, даже в случае беды, не прибегать к проституции. Жена Рогена привела в порядок свои денежные дела, быстро собрала небольшой капитал и также вручила его человеку, которому доверял ее муж, ибо нотариус немедленно передал своему сообщнику сто тысяч франков. Сблизившись с г-жой Роген на деловой почве, дю Тийе сумел расположить в свою пользу эту красивую женщину и внушил ей сильнейшую страсть к себе. Все три доверителя уплачивали ему, как водится, определенную часть со своей прибыли, но, не довольствуясь этим, он имел дерзость играть за их счет на бирже, войдя в соглашение с противником, который возвращал ему суммы его мнимых проигрышей, ибо дю Тийе играл сразу и от своего и от чужого имени. Сколотив пятьдесят тысяч франков, он почувствовал уверенность в том, что будет богачом; с характерной для него орлиной зоркостью он стал следить за фазами развития, через которые проходила тогда Франция, играл на понижение во время военной кампании 1814 года и на повышение по возвращении Бурбонов. Спустя два месяца после воцарения Людовика XVIII у г-жи Роген было двести тысяч франков, а у самого дю Тийе триста тысяч. Нотариус, которому молодой человек представлялся ангелом-хранителем, поправил свои дела. Однако Прекрасная Голландка по-прежнему пускала по ветру все деньги Рогена, – она стала жертвой мерзкого паука, высасывавшего из нее все соки, некоего Максима де Трай, бывшего пажа императора. Заключая с куртизанкой какую-то сделку, дю Тийе узнал ее настоящее имя. Ее звали Сарра Гобсек. Пораженный совпадением этой фамилии с фамилией ростовщика, о котором ему немало приходилось слышать, он отправился к старику, провидению молодых дворян, чтобы выяснить, сделает ли тот что-нибудь для своей родственницы. Этот Брут среди ростовщиков был неумолим к своей внучатной племяннице, но дю Тийе обратил на себя его благосклонное внимание как банкир Сарры и лицо, располагающее оборотным капиталом. Натура нормандца и натура ростовщика оказались под стать друг другу. Гобсеку как раз нужен был ловкий молодой человек, чтобы проследить за небольшой финансовой операцией, проводившейся за границей. Некий докладчик государственного совета, застигнутый врасплох возвращением Бурбонов, решил выдвинуться при дворе, а для этого отправиться в Германию и выкупить там долговые обязательства, выданные во время эмиграции принцами королевского дома. Интересуясь лишь политической стороной этой махинации, он соглашался предоставить доход от нее тем, кто ссудит его необходимыми средствами. Гобсек соглашался отпускать средства лишь по мере покупки долговых обязательств и при условии проверки их каким-нибудь толковым своим представителем. Ростовщики никому не доверяют, они всегда требуют обеспечения; в сношениях с ними случай – все: если человек им не нужен, они холодны как лед, но сразу же становятся вкрадчивыми, склонными к благодеяниям, лишь только этого потребуют их интересы. Дю Тийе знал, какую огромную роль играли за кулисами парижской биржи Вербруст и Жигонне, дисконтеры торговых домов с улицы Сен-Дени и Сен-Мартен, а также Пальмá, банкир из предместья Пуассоньер, почти всегда выступавшие сообща с Гобсеком. Дю Тийе предложил Гобсеку солидный денежный залог, выговорив себе определенный процент в прибылях и получив согласие господ финансистов пустить в оборот капиталы, которые он им предоставит; таким образом он заручился их поддержкой. Дю Тийе сопровождал г-на Клемана Шардена де Люпо в его поездке по Германии, которая длилась в течение Ста дней, и вернулся ко времени второй реставрации, не столько увеличив свое состояние, сколько заложив основы его. Он проник в тайны самых ловких финансовых воротил Парижа, добился дружбы человека, для наблюдений за которым был приставлен, и этот ловкий делец открыл ему пружины и законы высшей политики. Дю Тийе принадлежал к той породе людей, которые все понимают с полуслова, поездка завершила его образование. В Париже Фердинанда встретила верная ему г-жа Роген; бедняга нотариус ожидал его с не меньшим нетерпением, чем она, ибо Прекрасная Голландка снова разорила его дотла. Расспросив Прекрасную Голландку, дю Тийе обнаружил, что ее расходы значительно превышают суммы, потраченные ею на себя. Дю Тийе узнал тогда тайну Сарры Гобсек, старательно от него скрываемую: ее безумную страсть к Максиму де Трай, чьи первые шаги на стезе порока и распутства сразу разоблачили подлинную его сущность: то был один из тех политических проходимцев, без которых не обходится ни одно правительство, страсть к игре сделала его ненасытным. Открытие это объяснило дю Тийе равнодушие Гобсека к своей внучатной племяннице. Обдумав положение дел, банкир дю Тийе – ибо он сделался уже банкиром – стал настоятельно советовать Рогену прикопить себе денег на черный день, втянув наиболее состоятельных своих клиентов в дело, которое могло бы дать ему в руки крупные суммы в случае банкротства при дальнейшей игре на бирже. После игры на «повышение» и «понижение», обогащавшей лишь самого дю Тийе и г-жу Роген, для нотариуса пробил наконец час окончательного разорения. Его преданный друг извлек все возможные для себя выгоды из агонии Рогена. Дю Тийе придумал спекуляцию с участками земли в районе церкви Мадлен. Разумеется, сто тысяч франков, переданные Бирото на хранение Рогену, попали в лапы дю Тийе, который, желая погубить парфюмера, уверил нотариуса, что тот подвергнет себя меньшему риску, если уловит в сети своих ближайших друзей.
– Друг, – заверил он Рогена, – даже в гневе щадит нас.
Мало кому известно в наши дни, как дешево стоила в ту пору земля в районе церкви Мадлен; все же владельцы участков, с которыми предстояло столковаться, не преминули бы воспользоваться случаем набить цену и продать землю выше тогдашней ее стоимости; дю Тийе хотелось извлечь из этого дела выгоду, не неся никаких потерь, связанных с долгосрочной спекуляцией. Иначе говоря, план его состоял в том, чтобы погубить в самом зародыше это предприятие, прибрать его к рукам и тогда уже вдохнуть в него жизнь. При таких обстоятельствах дельцы, подобные Гобсеку, Пальма, Вербрусту и Жигонне, взаимно поддерживают друг друга; но дю Тийе не был настолько близок с этими людьми, чтобы обратиться к ним за содействием; к тому же ему важно было оставаться в тени, чтобы воспользоваться плодами мошенничества, не запятнав себя; ему нужен был помощник – послушное орудие в его руках, человек, которого в коммерческом мире именуют подставным лицом. Его мнимый партнер по биржевой игре показался ему подходящим для этой роли, и дю Тийе посягнул на права господа бога, сотворив нужного ему человека. Из бывшего коммивояжера, без средств, без способностей, за исключением дара молоть всякий вздор на любую тему, но годного на то, чтобы сыграть предлагаемую ему роль, не провалив пьесы, человека, исполненного своеобразной порядочности, то есть готового хранить тайну и дать себя опозорить, лишь бы спасти честь доверителя, – из этого субъекта дю Тийе сделал банкира, основателя и вдохновителя крупных коммерческих предприятий, главу банкирского дома Клапарона. Шарлю Клапарону надлежало стать жертвой биржевых дельцов, если бы махинации дю Тийе потребовали его банкротства, и Клапарон это знал. Но для бедного малого, печально слонявшегося по бульварам и возлагавшего все свои надежды на последние сорок су, которые были у него в кармане, когда с ним повстречался его старый товарищ дю Тийе, небольшие подачки, обещанные ему за каждое выполненное дело, показались настоящим Эльдорадо. Поэтому его приятельское расположение к дю Тийе и преданность ему, усиленные безотчетным чувством признательности за удовлетворение нужд его беспутной и праздной жизни, заставляли Клапарона соглашаться на все. Он продал свою честь, когда увидел, как осмотрительно играет ею дю Тийе, привязался к своему старому товарищу, как пес к хозяину. Клапарон был крайне безобразным псом, но псом верным, всегда готовым кинуться, по примеру Курция, в пропасть. В задуманной спекуляции землей Клапарон должен был представлять половину покупателей участков, подобно тому как Цезарь Бирото был представителем другой половины. Векселя, которые Клапарону предстояло получить от Бирото, должен был учесть один из ростовщиков, чьим именем мог прикрываться дю Тийе, чтобы низвергнуть Бирото в бездну банкротства, после того как Роген похитит его наличный капитал. Члены конкурсного управления будут действовать по указке дю Тийе, который, завладев суммами, внесенными парфюмером, и став негласным его кредитором, намеревался затем пустить участки с торгов и приобрести их за полцены, оплатив их стоимость из денег Рогена и дивидендов от конкурса. Нотариус принял участие в заговоре дю Тийе, рассчитывая урвать себе солидный куш от состояния Бирото и его компаньонов; но человек, которому он доверился, намеревался захватить и действительно захватил себе львиную долю добычи. Роген, лишенный возможности преследовать дю Тийе по суду, удовольствовался обглоданной костью, которую ему бросали из месяца в месяц, когда он укрылся в одном из глухих уголков Швейцарии, где находил себе красоток по сходной цене. Не воображение сочинителя трагических историй, придумывающего сложные интриги, а сама жизнь породила этот чудовищный план. Ненависть без жажды мщения – это семя, гибнущее на гранитной почве; но месть дю Тийе Цезарю Бирото, которую он поклялся довести до конца, была так же естественна, как вражда духов тьмы к ангелам света. Дю Тийе не мог, не подвергая себя серьезной опасности, убить единственного человека в Париже, знавшего, что он совершил кражу; но он мог втоптать его в грязь и тем самым лишить всякого значения его свидетельские показания. Долго зрела в его сердце ненависть, пока наконец расцвела, ибо в Париже даже самые злобные люди не могут уделять много времени своим козням: слишком стремительна и кипуча здесь жизнь, слишком много здесь всяких непредвиденных случайностей; но в то же время эта вечная изменчивость жизни, не давая заранее обдумать какой-либо план, как нельзя лучше способствует затаенным замыслам людей, которые умеют выждать благоприятный момент в бурном течении событий. Когда Роген признался дю Тийе в своем разорении, бывший приказчик увидел, еще смутно, возможность погубить Цезаря, и он не ошибся. В ожидании разлуки со своим кумиром нотариус допивал любовный напиток из разбитой чаши и каждый вечер посещал небольшой особняк на Елисейских полях, возвращаясь оттуда домой лишь на рассвете. Итак, подозрения г-жи Бирото были справедливы. Стоит только кому-либо согласиться на такую роль, какую дю Тийе навязал Рогену, как он обретает таланты великого комедианта, зоркость рыси, проницательность ясновидящего, способность магнетизировать свою жертву; нотариус увидел парфюмера задолго до того, как Бирото обратил на него внимание, и когда Цезарь взглянул на него, Роген уже издали протягивал ему руку.
– Я только что составил завещание одной высокопоставленной особы; человек этот и недели не проживет, – сказал он с самым непринужденным видом. – Но со мною обошлись, как с деревенским лекарем: приехали за мной в карете, а домой я возвращаюсь пешком.
Слова эти рассеяли легкое облако недоверия, которое омрачало чело парфюмера и было замечено Рогеном; потому-то нотариус и не решился первым заговорить о спекуляции земельными участками, тем более что намеревался нанести своей жертве последний удар.
– Сначала завещания, затем брачные контракты, – сказал Бирото, – такова жизнь! Да, кстати, когда наша помолвка с Мадлен? Хе! хе! папаша Роген, – прибавил он, похлопывая нотариуса по животу.
В мужском обществе даже самые добропорядочные буржуа любят казаться игривыми.
– Ну, если не сегодня, то никогда, – с дипломатическим видом сказал нотариус. – Боюсь, как бы дело не получило широкой огласки, два самых богатых моих клиента уже стремятся принять участие в этой спекуляции. Пора наконец или решиться, или вовсе отказаться. После полудня я подготовлю акты. Итак, вам остается раздумывать только до часу дня. Прощайте. Я собираюсь просмотреть сейчас черновик договора, который Ксандро должен был подготовить сегодня ночью.
– Ну, так по рукам, я согласен, – сказал Бирото, догоняя нотариуса. – Даю вам сто тысяч франков, которые я отложил на приданое дочери.
– Идет! – сказал Роген, продолжая свой путь.
Возвращаясь к Попино, Бирото на мгновение ощутил какое-то стеснение в груди, его обдало жаром, зашумело в ушах.
– Что с вами, сударь? – спросил приказчик, заметив, как побледнел его хозяин.
– Ничего, мой милый! Я сейчас порешил одно очень важное дело, тут хоть кого в пот бросит! Это дело и тебя касается. Так вот, я привел тебя сюда, чтобы потолковать на свободе, здесь нас никто не услышит. Значит, твоя тетушка находится в стесненных обстоятельствах? Каким образом она потеряла деньги? Расскажи!
– Видите ли, сударь, дядюшка и тетушка держали свои сбережения у господина Нусингена и поэтому вынуждены были принять в возмещение вклада акции Ворчинских копей, которые не дают пока никаких доходов, ну а в их возрасте трудно жить одними надеждами.
– На какие же средства они живут?
– Они так добры, что разрешили мне помогать им.
– Молодец, молодец, Ансельм! – проговорил парфюмер, у которого навернулись на глаза слезы. – Недаром у меня всегда сердце лежало к тебе! Тебя ждет достойная награда за твое усердие в службе.
Произнося эти слова, парфюмер вырастал как в собственных глазах, так и в глазах Попино. Речь его была проникнута наивной, мещанской напыщенностью, выражавшей его мнимое превосходство.
– Как! Вы догадались о моей любви?..
– К кому? – спросил Бирото.
– К мадмуазель Цезарине.
– Ого, сынок, да ты слишком дерзок! – воскликнул Цезарь. – Смотри, никому не проговорись, я обещаю тебе все забыть, завтра ты все равно покидаешь мой дом. Я не сержусь на тебя, на твоем месте я сам, черт побери, влюбился бы. Она так хороша!
– Ах, сударь! – пробормотал приказчик, обливаясь потом и чувствуя, как сорочка прилипает к его взмокшей спине.
– Видишь ли, сынок, дела этого так просто не решишь: Цезарина сама себе хозяйка, да и у матери свои виды. Поэтому возьми себя в руки, вытри глаза, умерь свои сердечные порывы и никогда больше не заикайся об этом. По мне, ты зять подходящий: племянник Рагонов, почему бы тебе, как и всякому другому, не выбиться в люди? Только тут всяких «но» да «если» не оберешься. И дернула тебя нелегкая заговорить об этом, когда нам нужно дело обсудить! Вот что, садись-ка ты на лавочку и обратись из влюбленного в приказчика. Послушай, Попино, мужественный ли ты человек? – сказал он, вглядываясь в лицо Ансельма. – Хватит ли у тебя смелости бороться с тем, кто сильнее тебя, схватиться с противником грудь с грудью?
– Да, сударь.
– А выдержишь ли ты долгую, опасную борьбу?
– О чем вы говорите?
– О том, как нам утопить «Макассарское масло»! – ответил Бирото, выпрямляясь, словно герой Плутарха. – Не будем обольщаться, враг силен, прекрасно вооружен, грозен. «Макассарское масло» ловко пустили в ход. Задумано превосходно. Квадратные флаконы привлекают внимание своей оригинальной формой. Для моего масла я сначала думал заказать треугольные, но по зрелом размышлении решил, что лучше будут маленькие бутылочки из тонкого стекла, оплетенные тростником; у них будет такой таинственный вид, а покупатель любит все заманчивое.
– Это не дешево обойдется, – заметил Попино. – Нам надо затратить как можно меньше средств, чтобы привлечь розничных торговцев значительной скидкой.
– Правильно, мой милый, что верно, то верно. Не забудь, за «Макассарское масло» будут биться: оно кажется полезным, у него такое завлекательное название. Его выдают за заграничное, а наше, как на горе, отечественного происхождения. Слушай, Попино, хватит ли у тебя сил уничтожить «Макассарское масло»? Правда, ты возьмешь верх над ним по части вывоза за океан: кажется, Макассар действительно находится где-то там в Индии, и, мне думается, естественнее посылать индусам французские изделия, чем отсылать им то, что они нам якобы поставляют. К твоим услугам люди, торгующие с колониями. Но нам надо бороться и за границей, и у нас в провинции! Ведь рекламы уши всем прожужжали о «Макассарском масле»; нечего себя зря обнадеживать, оно всех покорило, всюду проникло, публика его ценит.
– А я его погублю! – воскликнул Попино, и глаза его засверкали.
– Но как? – спросил Бирото. – Ох уж эта мне молодежь! Однако выслушай меня до конца.
Ансельм вытянулся, как солдат, стоящий перед маршалом Франции.
– Попино, я выдумал масло для ращения волос, оно питает кожу на голове и сохраняет цвет волос как у мужчин, так и у женщин. Оно будет пользоваться не меньшим успехом, чем мой крем и туалетная вода, но сам я не хочу заниматься продвижением этого открытия, ибо собираюсь оставить торговлю. Это тебе, сынок, придется распространять мое «Комагенное масло» – от латинского слова кома, что значит волосы, как объяснил мне господин Алибер, лейб-медик. Это слово встречается в трагедии «Береника», где Расин вывел короля Комагенского, любовника прекрасной королевы, прославившейся своими роскошными волосами; по-видимому, из желания польстить своей возлюбленной этот король назвал так свое королевство. Как проницательны гениальные люди! Ничто не ускользнет от их взоров.
Юный Попино с серьезным видом слушал эту галиматью, очевидно, предназначенную специально для него, как человека образованного.
– Ансельм! Я остановил свой выбор на тебе, решив основать новый торговый дом на Ломбардской улице, – заявил Бирото. – Я буду твоим тайным компаньоном и дам тебе денег на обзаведение. Пусть только пойдет «Комагенное масло», и мы попробуем выпустить ванильную эссенцию и мятный спирт. Словом, мы произведем переворот в аптекарском и парфюмерном деле, станем продавать не натуральные масла, а концентрированные. Ну, молодой честолюбец, доволен ли ты?
Ансельм не мог выговорить ни слова, он был просто подавлен такими милостями, но его полные слез глаза говорили лучше всяких речей. Предложение парфюмера, казалось, было продиктовано отеческой снисходительностью, – Бирото как бы говорил ему: «Добейся богатства и уважения – и ты заслужишь Цезарину!»
– Сударь, – выговорил наконец Попино, приняв взволнованность Бирото за удивление, – я обязательно добьюсь успеха!
– Вот и я был когда-то таким, – воскликнул парфюмер, – я ответил бы точно так же. Если ты и не станешь мне зятем, то богачом обязательно будешь. Но что с тобой, мой милый?
– Позвольте мне надеяться, что, добившись одного, я достигну и другого.
– Я не могу запретить тебе надеяться, дружок, – сказал Бирото, тронутый тоном Ансельма.
– Если так, сударь, могу я сегодня же начать искать помещение для лавки? Ведь надо поскорее приняться за дело.
– Да, дружок. Завтра мы запремся с тобой вдвоем на фабрике. Прежде чем начать поиски на Ломбардской улице, ты зайди к Ливингстону, узнай, можно ли будет завтра пустить в ход мой гидравлический пресс. Сегодня в обед мы отправимся с тобой к знаменитому ученому, добрейшему господину Воклену, и посоветуемся с ним. Он как раз занимается сейчас изучением строения волос, недавно он исследовал свойства их красящего вещества, его происхождение, а также самой ткани волоса. В этом вся суть дела, Попино. Тебе передам я свое открытие, а ты уж постарайся хорошенько им воспользоваться. Прежде чем идти к Ливингстону, забеги к Пьеру Бенару. Друг мой, бескорыстие господина Воклена приносит мне величайшее огорчение: невозможно уговорить его принять хоть какой-нибудь подарок. К счастью, я узнал от Шифревиля, что ему хотелось иметь гравюру «Дрезденской мадонны», работы некоего Мюллера; и вот после двухлетней переписки с Германией Бенар наконец разыскал оттиск этой гравюры на китайской бумаге, без надписи; стоит гравюра полторы тысячи франков. Сегодня наш благодетель должен увидеть ее у себя в передней, когда пойдет нас провожать, ты уж позаботься, чтоб к этому времени к гравюре была готова рама. Так мы с женой напомним ему о себе, ну а о нашей благодарности и говорить не приходится, вот уж шестнадцать лет, как мы за него каждый день бога молим. Никогда в жизни я его не забуду, но знай, Попино: ученые, углубленные в науку, забывают все – жену, друзей, осчастливленных ими людей. Мы, простые смертные, умом не блещем, но сердце у нас горячее. И это утешительно: не всем же быть профессорами. У господ академиков все ушло в ум; их никогда в церкви не увидишь. Господин Воклен день-деньской проводит, запершись у себя в кабинете или в лаборатории; хочется верить, что он вспоминает бога, изучая его творения. Итак, решено: я обеспечу тебя необходимыми средствами для торговли, передам тебе свое открытие, мы будем вести дело на половинных началах, и письменный договор нам не нужен. Лишь бы нам повезло, а мы уж с тобой поладим. Ступай, дружок, я пойду по делам. Послушай-ка, Попино, через три недели я даю большой бал, закажи себе фрак, ты должен появиться на балу уже как коммерсант с весом…
Это последнее проявление доброты так растрогало Попино, что он схватил большую руку Цезаря и поцеловал ее. Влюбленному юноше польстило доверие парфюмера, а влюбленные ни в чем не знают удержу.
«Бедный малый! – сказал себе Бирото, глядя, как Ансельм побежал через Тюильрийский сад. – Вот было бы хорошо, если бы Цезарина его полюбила! Но он хромает, волосы у него как медь, а молодые девушки такие привередницы! Не верится мне, чтобы Цезарина… Да и мать спит и видит выдать ее за нотариуса. С Александром Кротта она жить будет в богатстве; коли деньги есть, все хорошо, а в бедности никакое счастье невозможно. Впрочем, пусть дочь сама решает, лишь бы глупостей не натворила».
Соседом Бирото был небогатый торговец зонтиками и тростями, некто Кейрон, уроженец Лангедока; дела его шли плохо, и Бирото не раз выручал его деньгами. Кейрон с удовольствием уступил бы богатому парфюмеру свои две комнаты на втором этаже, а сам перебрался бы в помещение за лавкой, чтобы поменьше платить домовладельцу.
– Вот что, сосед, – фамильярно сказал Бирото, входя в лавку торговца зонтиками, – жена согласилась расширить нашу квартиру! Если хотите, пойдем сегодня в одиннадцать часов к господину Молине.
– Дорогой господин Бирото, – ответил торговец зонтиками, – я и не заикался об отступных, но сами понимаете, на то мы и купцы, чтобы извлекать из всего выгоду.
– Черт побери! – возразил парфюмер. – Что ж, я деньги лопатой загребаю? И кто его знает, согласится ли еще архитектор, которого я вызвал, выполнить мой проект? Прежде чем заключить сделку, сказал он мне, надо проверить, на одном ли уровне находятся квартиры. Затем необходимо получить у господина Молине разрешение пробить стену для двери, да еще вопрос, общая ли это стена? Кроме того, придется повернуть лестницу и переместить площадку, чтобы можно было прямо переходить из дома в дом. Вот сколько у меня расходов, а разоряться я не намерен.
– Что вы, сударь! – воскликнул южанин. – Скорее солнце с землей поженятся и у них народятся детки-планетки, чем вы разоритесь.
Бирото погладил себе подбородок, приподнялся на носки и грузно опустился на пятки.
– Притом же, – продолжал Кейрон, – я прошу вас только взять у меня кое-какие векселя.
Кейрон подал парфюмеру пачку из шестнадцати векселей на пять тысяч франков.
– А-а! – протянул парфюмер, перелистывая векселя, – все краткосрочные, на два, на три месяца…
– Возьмите их хотя бы из шести процентов, – подобострастно попросил Кейрон.
– Да что я – ростовщик? – укоризненно сказал парфюмер.
– Господи, я ходил, сударь, к вашему бывшему приказчику дю Тийе; он наотрез отказался принять эти векселя. Видно, хотел выведать, за сколько я согласен их уступить.
– Не знаю я что-то этих подписей, – сказал парфюмер.
– Немудрено, это все продавцы вразнос, в нашей торговле немало забавных фамилий!
– Ладно, всех взять не обещаю, но самые краткосрочные возьму.
– Четырехмесячных векселей здесь наберется на тысячу франков. Неужели мне из-за этой тысячи кланяться в ноги кровопийцам, которые высасывают из нас все наши доходы! Сделайте милость, возьмите все. Если бы я мог учесть векселя… Но у меня нет никакого кредита, вот это и губит нас, мелких торговцев.
– Ну, ладно, будь по-вашему, принимаю все векселя. Селестен с вами расплатится. Будьте готовы к одиннадцати часам. А вот и мой архитектор, господин Грендо, – прибавил парфюмер, увидав входившего молодого человека, с которым он познакомился накануне, когда был у г-на де ла Биллардиера. – Вопреки обычаю талантливых людей, вы аккуратны, сударь, – сказал Цезарь с изысканной любезностью коммерсанта. – Если, как выразился один монарх, остроумный человек и великий политик, аккуратность – вежливость королей, то для купца она – клад. Время дорого, время – деньги, особенно для вас, художников. Архитектура, позволю себе сказать, объединяет все виды искусства. Мы поднимемся с вами наверх, минуя лавку, – прибавил он, указывая на дверь своего дома.
Четыре года назад г-н Грендо получил первую премию по архитектуре; он недавно вернулся из Рима, где пробыл три года на казенный счет. В Италии молодой художник думал об искусстве, в Париже – о карьере. Только правительство может отпускать архитектору миллионы, необходимые ему для утверждения своей славы; ведь так естественно по возвращении из Рима возомнить себя Фонтеном или Персье, и всякий честолюбивый архитектор склонен придерживаться правительственного курса; либеральный студент Грендо стал архитектором-роялистом и старался заручиться покровительством влиятельных лиц. Когда художник ведет себя подобным образом, товарищи называют его интриганом. У молодого архитектора был выбор: либо ублажить парфюмера, либо хорошо заработать на нем. Но Бирото – помощник мэра, Бирото – будущий владелец половины земельных участков в районе церкви Мадлен, где рано или поздно непременно вырастут прекрасные здания, был нужным для него человеком. Грендо решил поэтому пожертвовать сегодняшним барышом ради будущих благ. Он терпеливо выслушал планы, предложения, соображения Бирото, одного из тех буржуа, которые являются неизменной мишенью для острот и насмешек презирающих их художников, и почтительно последовал за парфюмером, кивая головой в знак согласия с его замыслами. Когда Цезарь подробно все объяснил, молодой архитектор кратко изложил Бирото его же собственный план.
– Три окна у вас выходят на улицу и одно внутреннее окно – на площадку лестницы. К этим четырем окнам вы добавите еще два из соседнего дома, которые находятся с ними на одном уровне, а лестницу повернете таким образом, чтобы все комнаты со стороны улицы составили один общий этаж.
– Вы отлично поняли меня, – с удивлением сказал парфюмер.
– Чтобы осуществить ваш план, нам придется осветить новую лестницу сверху и устроить каморку привратника в цоколе.
– В цоколе?
– Да, это основание, на котором будет покоиться…
– Понимаю, сударь, понимаю…
– Ну, а по части расположения комнат и их убранства предоставьте мне свободу действий. Я хочу сделать их достойными…
– Достойными! Вы нашли нужное слово, сударь.
– Какой срок даете вы мне для переделки квартиры?
– Три недели.
– Какую сумму вы отпускаете на работы? – спросил Грендо.
– А во что обойдется такой ремонт?
– Архитектор подсчитывает стоимость нового здания с точностью до одного сантима, – ответил молодой человек, – но так как мне не приходилось еще обставлять буржуа… простите, сударь, это выражение вырвалось у меня невольно, – предупреждаю вас, что заранее определить стоимость перестройки или ремонта нельзя. Боюсь, что и через неделю я не смогу представить вам даже черновой сметы расходов. Доверьтесь мне: у вас будет великолепная лестница с верхним светом, красивый парадный подъезд, а в цоколе…
– Опять этот цоколь!
– Не беспокойтесь, я найду место и для каморки привратника. Я с большим старанием и любовью займусь переделкой и убранством вашего жилища. Да, сударь, для меня искусство важнее денег! Кроме того, разве можно выдвинуться, не заставив людей говорить о себе? Я полагаю, лучшее средство – это не идти на темные сделки с подрядчиками, а добиваться прекрасных результатов при незначительных затратах.
– С такими взглядами, молодой человек, – сказал Бирото покровительственным тоном, – вы далеко пойдете!
– Значит, – продолжал Грендо, – с каменщиками, малярами, слесарями, столярами, плотниками вы договариваетесь сами. Я беру на себя только проверку их счетов. Я прошу у вас только две тысячи франков гонорара, и вы не пожалеете затраченных денег. Очистите мне завтра к полудню помещение и предоставьте рабочих.
– Все же сколько приблизительно придется мне затратить денег? – спросил Бирото.
– От десяти до двенадцати тысяч франков, – ответил Грендо. – Но я не считаю обстановки, которую вы, конечно, захотите обновить. Вы дадите мне адрес вашего обойщика, мне нужно вместе с ним подобрать цвета, чтобы ничем не погрешить против хорошего тона.
– Мой поставщик – господин Брашон, улица Сент-Антуан, – с видом владетельного герцога ответил парфюмер.
Архитектор вынул маленькую книжечку, подарок какой-нибудь хорошенькой женщины, и записал адрес.
– Итак, сударь, – сказал Бирото, – я полагаюсь на вас. Повремените немного с началом работ, мне надо договориться об уступке двух комнат в соседнем доме и получить разрешение пробить стену.
– Известите меня запиской сегодня вечером, – попросил архитектор. – Мне придется за ночь составить планы, а мы предпочитаем работать на буржуа, чем на прусского короля, то есть не работать впустую. Пока я измерю высоту комнат, величину окон, простенков…
– Вы должны непременно закончить все к назначенному дню; иначе лучше и не начинать.
– Будьте спокойны! – ответил архитектор. – Работы будут идти днем и ночью; мы применим новые способы просушки стен. Но только смотрите, как бы вас не подвели подрядчики, заранее сторгуйтесь и подпишите с ними письменные обязательства!
– Париж – единственный город в мире, где можешь, словно волшебник, творить чудеса, – сказал Бирото, сопровождая свои слова величественным жестом, достойным какого-нибудь восточного повелителя из «Тысячи и одной ночи». – Надеюсь, вы окажете мне честь присутствовать у нас на балу, сударь. Далеко не все талантливые люди презирают купечество, и вы, несомненно, встретите у меня крупнейшего ученого, академика, господина Воклена; будет и господин де ла Биллардиер, и граф до Фонтэн, и господин Леба, и председатель коммерческого суда; будут представители судейского сословия: граф де Гранвиль из королевского суда, господин Попино, член суда первой инстанции, господин Камюзо из коммерческого суда и его тесть господин Кардо… Возможно, пожалует даже герцог де Ленонкур, первый камергер короля. Я приглашаю друзей для того… чтобы отпраздновать освобождение Франции… и отметить… награждение меня орденом Почетного легиона…
Грендо сделал неопределенный жест.
– Быть может… я заслужил эту награду и… монаршую милость… ведь я был членом коммерческого суда… я сражался за Бурбонов тринадцатого вандемьера на ступенях церкви святого Роха, там я был ранен Наполеоном… Эти заслуги…
В эту минуту Констанс в утреннем туалете вышла из спальни Цезарины, где она одевалась; одного взгляда жены было достаточно, чтобы прервать излияния Бирото, который подыскивал наиболее простые выражения, стараясь с надлежащей скромностью познакомить ближнего своего с собственным величием.
– Вот познакомься, милочка: господин де Грендо, человек молодой, но всеми уважаемый и даровитый. Господин де ла Биллардиер рекомендовал мне его в качестве архитектора, чтобы произвести кое-какие незначительные переделки в нашей квартире.
Цезарь незаметно от жены сделал знак архитектору, приложив палец к губам при слове «незначительные», и архитектор его отлично понял.
– Констанс, господину де Грендо надо измерить площадь и высоту комнат. Предоставь ему эту возможность, дорогая, – сказал Бирото и выскользнул на улицу.
– Дорого все это обойдется? – спросила Констанс архитектора.
– Нет, сударыня, около шести тысяч франков.
– Около! – воскликнула г-жа Бирото. – Сударь, я прошу вас, не начинайте работ без сметы и договора. Я знаю обычай господ подрядчиков: шесть тысяч на деле означает двадцать тысяч. Мы не вправе позволить себе подобное сумасбродство. Мой муж, конечно, хозяин у себя дома, но прошу вас, сударь, дайте ему время подумать.
– Сударыня, господин помощник мэра настоятельно просил меня закончить работы в три недели; если мы запоздаем, вы только напрасно понесете расходы.
– Расходы расходам рознь, – заметила прекрасная парфюмерша.
– Ах, сударыня, неужели вы полагаете, что для архитектора, мечтающего воздвигать памятники, такое уж завидное дело ремонтировать квартиру? Я согласился заняться этим единственно из уважения к господину де ла Биллардиеру, и если вы страшитесь расходов…
Он сделал вид, будто собирается уйти.
– Хорошо, сударь, хорошо, – заторопилась Констанс и, вернувшись в спальню, бросилась на грудь Цезарины.
– Ах, дочка! твой отец, видно, решил разориться. Он пригласил архитектора, – тот носит усы и эспаньолку и собирается воздвигать памятники! Он готов разнести весь дом, чтобы попытаться устроить нам новый Лувр. Цезарю всегда не терпится натворить глупостей; ночью он рассказал мне о своем проекте, а утром уже приводит его в исполнение.
– Полно, мама, пусть папа поступает, как хочет, господь бог ему всегда помогал, – сказала Цезарина, целуя мать; затем она села за пианино, желая показать архитектору, что и дочь парфюмера не чужда искусству.
Когда архитектор вошел в спальню, он был изумлен красотой Цезарины и остановился как вкопанный.
Цезарина вышла из своей комнатки в утреннем капоте, свежая и румяная, как бывает свежа и румяна девушка в восемнадцать лет; стройная и тоненькая, белокурая, с голубыми глазами, она поразила архитектора своей гибкостью, столь мало свойственной парижанкам, нежным цветом лица любимого художниками оттенка, с сетью голубых жилок, пульсирующих под тонким покровом. Хотя она выросла и жила в душной атмосфере парижской лавки, где воздух плохо освежается и куда редко заглядывает солнце, жизнь ее сложилась так, что она цвела здоровьем, как римлянка, выросшая среди природы, на берегу Тибра. Пышные, как у отца, волосы, которые она зачесывала кверху, открывали прелестные линии шеи, на плечи ее спускались локоны, тщательно завитые, как у всех продавщиц, которых желание привлечь внимание заставляет с чисто английской педантичностью относиться ко всем мелочам туалета. Красота этой цветущей девушки не была красотой английской леди или французской герцогини, то была красота цветущей белокурой фламандки с полотен Рубенса. У Цезарины был вздернутый, как у отца, нос, но значительно тоньше выточенный и походивший на истинно французские носы, которые так хорошо изображал Ларжильер. Кожа ее, напоминавшая гладкую и упругую ткань, говорила о девичьей свежести и нерастраченных силах. У нее был прекрасный лоб, как у матери, но отмеченный безмятежной ясностью девушки, не ведающей никаких забот. Голубые глаза с поволокой светились нежной ласковостью счастливой юности. Если счастье лишило ее головку той поэтичности, какой художники наделяют свои создания, придавая им несколько преувеличенную задумчивость, то все же смутное томление, знакомое молодым девушкам, привыкшим всегда жить под материнским крылышком, придавало ей нечто идеальное. Несмотря на свое изящество, Цезарина отличалась крепким сложением, ноги ее выдавали крестьянское происхождение отца, вдобавок у нее были красные, как у мещанок, руки. Чувствовалось, что рано или поздно она располнеет. Наблюдая в лавке за молодыми элегантными женщинами, она в конце концов переняла у них манеру одеваться, поворачивать голову, разговаривать, двигаться, подражая дамам из общества, и она кружила головы всем знакомым молодым людям; приказчикам она казалась необыкновенно изысканной. Попино поклялся себе, что ни на ком не женится, кроме Цезарины. Только эта нежная, полувоздушная блондинка, готовая разрыдаться от малейшего упрека, могла дать ему почувствовать его мужское превосходство. Эта очаровательная девушка возбуждала к себе любовь, не оставляя времени подумать, хватит ли у нее ума, чтобы удержать это чувство; но кому нужен пресловутый парижский ум в среде, где основой счастья является здравый смысл и добродетель? Своим нравственным обликом Цезарина походила на мать, только все в ней было утонченнее благодаря воспитанию; она любила музыку, рисовала карандашом «Мадонну» Рафаэля, читала книги г-жи Коттен и г-жи Риккобони, Бернарден де Сен-Пьера, Фенелона, Расина. Она никогда не сидела за конторкой, разве только за несколько минут до обеда или когда – в исключительных случаях – заменяла мать. Отец и мать, как все новоиспеченные буржуа, делали все, чтобы привить дочери неблагодарность: ставя ее выше себя, они боготворили Цезарину, но, к счастью, девушка обладала мещанскими добродетелями и не злоупотребляла любовью родителей.
Госпожа Бирото следила за архитектором с тревожным и умоляющим видом, с ужасом указывая дочери на причудливые движения складного метра, этой трости архитекторов и подрядчиков, которым Грендо измерял помещение. В ударах этого магического жезла ей мерещились зловещие предзнаменования, ей хотелось бы видеть стены менее высокими, комнаты менее просторными, она не решалась даже расспросить молодого человека о последствиях его колдовства.
– Будьте спокойны, сударыня, я ничего не унесу, – сказал с улыбкой художник.
Цезарина не могла удержаться от смеха.
– Сударь, – взмолилась Констанс, не заметив шутки архитектора, – будьте экономны, мы вас отблагодарим…
Прежде чем направиться к господину Молине, владельцу соседнего дома, Цезарь решил взять в конторе Рогена составленный домашним порядком договор о переуступке помещения, который должен был ему подготовить Александр Кротта. Выходя на улицу, Бирото в окне кабинета Рогена увидел дю Тийе. Хотя связь его бывшего приказчика с женой нотариуса была достаточным объяснением пребывания дю Тийе в этом доме в час, когда там подготовлялись акты на земельные участки, все же Бирото, несмотря на крайнюю свою доверчивость, встревожился. Судя по возбужденному лицу дю Тийе, в кабинете о чем-то спорили.
«Неужели он имеет отношение к этому делу?» – подумал Бирото, поддаваясь свойственной купцу недоверчивости.
Подозрение, как молния, прорезало его мозг. Он обернулся и разглядел в окне г-жу Роген: тогда присутствие банкира перестало казаться ему столь подозрительным.
– А вдруг Констанс все-таки права? – спросил он сам себя. – Нет, что за глупость, прислушиваться к женским бредням! Впрочем, сегодня же поговорю об этом с дядей. От Батавского подворья, где живет Молине, до улицы Бурдонне рукой подать.
Человек недоверчивый, коммерсант, уже имевший дело с мошенниками, был бы спасен; но все прошлое Бирото, его неразвитой ум, лишенный способности схватывать и сопоставлять факты, способности, приводящей одаренного человека к пониманию причин происходящего, погубили его. Принарядившийся торговец зонтиками ожидал парфюмера, и они уже направились было к домовладельцу, когда Виржини, кухарка Бирото, схватила хозяина за рукав.
– Сударь, барыня просит вас не уходить из дому…
– Вот еще, – воскликнул Бирото, – опять женские причуды!
– Пока вы не выпьете чашку кофе, он уже подан.
– Что ж, пожалуй. Сосед, – обратился Бирото к Кейрону, – у меня столько дел в голове, что я забываю о желудке. Не откажите в любезности, идите, не ожидая меня; встретимся у дверей Молине, а еще лучше, подымитесь к нему, объясните наше дело. Мы так сбережем время.
Господин Молине был мелкий рантье, чудак, какие встречаются лишь в Париже, как определенный вид моха-лишайника произрастает лишь в Исландии. Сравнение это тем более уместно, что Молине принадлежал к странным существам, сочетавшим в себе свойства растительного и животного мира, и новый Мерсье отнес бы его к тем тайнобрачным, которые растут, цветут и увядают на карнизах, в трещинах или у подножия стен старинных и зловонных домов, где существа эти по преимуществу и встречаются. На первый взгляд это человекорастение из класса зонтичных, обладавшее синим круглым картузом, венчавшим его голову, раздвоенным стеблем, облеченным в зеленые панталоны, луковичными корнями, запрятанными в мягкие покромчатые туфли, белесоватой и плоской физиономией, не принадлежало к ядовитому виду. В этом чудаковатом субъекте вы признали бы типичного держателя акций, который верит всем слухам, закрепленным типографской краской в периодической печати, и на все имеет один ответ: «Прочтите газету!» Буржуа по природе своей – друг порядка, на словах он склонен идти против правительства, которому тем не менее неизменно послушен; вообще это существо слабое, но иной раз – свирепое; бесчувственный, как судебный пристав, когда дело коснется его имущественных прав, буржуа заботливо кормит семенами курослепа птиц и рыбьими костями – кошку, перестает писать расписку в получении квартирной платы, чтобы насвистать мотив канарейке; недоверчивый, как тюремщик, он все же вкладывает свои деньги в сомнительные предприятия и пытается затем наверстать потерянное мерзкой скупостью. Зловредность подобного гибрида обнаруживалась лишь при тесном соприкосновении с ним: чтобы почувствовать его отвратительную горечь, надо покипеть с ним в одном котле, когда его интересы сталкиваются с интересами других. Как все парижане, Молине испытывал потребность господствовать, он жаждал власти, какою в той или иной мере обладает любой человек, даже привратник, по отношению к большему или меньшему количеству своих жертв; всякий кого-нибудь да тиранит: жену, ребенка, жильца, приказчика, лошадь, собаку или обезьяну, срывая на них злобу от обид, полученных в более высоких сферах, куда каждый стремится. Маленький, нудный старикашка, Молине не имел ни жены, ни детей, ни племянника, ни племянницы; он жестоко помыкал экономкой, но не мог превратить ее в козла отпущения, ибо она всячески избегала общения с ним, тщательно исполняя при этом свои обязанности. Его снедала жажда тирании; ради удовлетворения ее он терпеливо и досконально изучил законы о найме квартир, о смежных стенах, искусно толковал все правила, касающиеся жилых домов, границ участков, различных налогов, уборки улиц и тротуаров, праздничного убранства города, освещения, сточных труб, недопустимости загромождения улиц выступающими на тротуар зданиями и близости смрадных помещений. Его способности, деятельность, весь его ум были направлены на то, чтобы всегда быть готовым отстоять в бою свои права домовладельца; для него это была забава, но такая забава смахивала на манию. Он охотно выступал «против незаконных посягательств на права сограждан», на поводы для жалоб были относительно редки, и эта страсть под конец обратилась против его жильцов. Жилец становился его врагом, его подчиненным, его подданным, его вассалом; он требовал к себе уважения и считал грубияном всякого, кто молча проходил мимо него по лестнице. Молине собственноручно писал счета и отсылал их в полдень, когда наступал срок платежа. Неисправный плательщик получал требование об уплате с указанием предельного срока. Ну, а затем – опись имущества, судебные издержки, вся судейская кавалерия обрушивалась на несчастного со скоростью того приспособления, которое палач называет механикой. Молине не допускал ни отсрочек, ни запозданий, сердце его превращалось в камень, едва речь заходила о квартирной плате.
– Я дам вам взаймы, если вы сейчас стеснены в средствах, – заявлял он платежеспособному жильцу, – но внесите в срок квартирную плату, всякое промедление влечет за собой потерю на процентах, которую закон нам не возмещает.
После длительного изучения своенравных прихотей жильцов, которые представлялись ему сплошь сумасбродами, ибо, сменяясь, они обычно разрушали то, что было сделано их предшественниками, словно царствующие династии, Молине даровал жильцам свою собственную хартию и свято ее соблюдал. К слову сказать, старикашка-домовладелец никогда не производил ремонта: печи у него не дымили, лестницы блистали чистотой, потолки оставались белыми, карнизы безупречными, паркеты не прогибались, штукатурка не обваливалась; замки были недавно куплены, все стекла целы, стены не трескались; поломки он замечал, лишь когда жильцы съезжали с квартиры, передача ее домовладельцу происходила в присутствии слесаря, маляра и стекольщика: «Это все народ покладистый, – говорил он, – дорого с вас не возьмут». Впрочем, нанимателю предоставлялось право заново отделывать квартиру; но стоило неосторожному осуществить это право, как Молине начинал день и ночь ломать себе голову, как бы выжить жильца и завладеть отремонтированным помещением: он выслеживал несчастного, подстерегал, пускался во все тяжкие. Он прекрасно разбирался во всех тонкостях парижского законодательства о сдаче помещений в наем. Сутяга и крючкотвор, он писал сладенькие, любезные письма жильцам; но этот стиль, так же как и его приторные, вкрадчивые манеры, скрывали душу Шейлока. Он неизменно требовал платы за полгода вперед, засчитывал ее за последний период найма и изобретал целую систему стеснительных условий. Он проверял, какова обстановка жильца, и прикидывал, может ли она служить залогом. Лишь только появлялся новый жилец, Молине, как сыщик, собирал о нем сведения, ибо он избегал некоторых профессий, малейшие странности жильца его пугали. Когда предстояло заключать договор с квартирантом, он обдумывал его целую неделю, опасаясь что-либо упустить и попасть впросак. Тому, кто не знал его как домовладельца, Жан-Батист Молине казался добрым, услужливым человеком; играя в бостон, он не пилил неумелого партнера; смеялся над тем, над чем смеются все буржуа, болтал о том, о чем все болтают: о возмутительном поведении булочников, обвешивающих покупателей, о попустительстве полиции, о семнадцати геройских депутатах «левой». Молине читал «Здравый смысл священника Мелье» и ходил к обедне, не в силах решить спора между деизмом и христианством, но он никогда не подавал просфоры и всегда возмущался наглыми поборами духовенства. Неутомимый кляузник, он осаждал бесконечными письмами газеты, но те их не печатали и оставляли без ответа. Словом, Молине вел себя, как всякий почтенный буржуа, который торжественно кладет в камин рождественское полено, играет в короли, изощряется в первоапрельских шутках, в хорошую погоду прогуливается по бульварам, охотно глазеет на конькобежцев, а в дни фейерверков уже в два часа спешит, с булкой в кармане, на площадь Людовика XV, чтобы занять местечко получше.
Батавское подворье, где проживал этот старикашка, возникло в результате одной из тех странных спекуляций, которые становятся непонятными, лишь только они завершены. Это здание монастырского типа с арками и внутренними галереями, сложенное из тесаного камня, с жаждущим влаги фонтаном, разевающим львиную пасть не для того, чтобы извергать воду, а выпрашивать ее у прохожих, – это здание бесспорно было придумано для украшения квартала Сен-Дени неким подобием Пале-Рояля. В этом подворье, затхлом, сдавленном со всех сторон высокими домами, жизнь и движение наблюдаются только днем, это – средоточие темных переходов, которые пересекаются здесь и соединяют квартал Центрального рынка с кварталом Сен-Мартен через знаменитую улицу Кенкампуа; в этих закоулках всегда сыро, люди здесь наживают ревматизм; ночью во всем Париже нет места более пустынного, чем эти, сказали бы мы, торговые катакомбы. Здесь немало мелких мастерских, этих промышленных клоак, очень мало батавов и много бакалейщиков. Окна этого дворца торговли выходят во двор, а потому квартирная плата здесь очень низка. Г-н Молине жил в глубине двора; он поселился на седьмом этаже из гигиенических соображений: ведь воздух чист лишь на высоте семидесяти футов над землей. Отсюда этот достойный домовладелец наслаждался чудесным видом Монмартрских мельниц, прогуливаясь по балкону вдоль желобов, где он разводил цветы, невзирая на запрещение парижской полиции устраивать висячие сады в современном Вавилоне. Квартира его состояла из четырех комнат, не считая расположенных над ней дорогих его сердцу «туалетных помещении»: у него хранился от них ключ, они ему принадлежали, он их сам отстроил, все правила были соблюдены. Уже при входе в квартиру неприличная пустота комнат сразу изобличала скупость этого человека: в передней шесть соломенных стульев, печь, облицованная фаянсом, на стенах, оклеенных обоями бутылочного цвета, четыре гравюры, купленные на аукционе; в столовой два буфета, две клетки, полные птиц, стол, накрытый клеенкой, стулья красного дерева, набитые волосом, барометр; застекленная дверь вела к висячим садам; в гостиной дешевенькие занавески потертого зеленого шелка, мебель, выкрашенная в белый цвет и обитая зеленым утрехтским бархатом. В спальне старого холостяка стояла мебель времен Людовика XV, от долгого употребления потерявшая всякий вид и настолько засаленная, что женщина в белом платье не решилась бы сесть, боясь запачкаться. Камин украшали часы с двумя колонками, между ними помещался циферблат, который служил пьедесталом для изображения богини Паллады, потрясающей копьем, – дань мифологии. На полу повсюду стояли миски с объедками для котов, так что некуда было ступить. Над комодом розового дерева висел портрет, сделанный пастелью, – Молине в молодости. На столах валялись книги и какие-то отвратительные зеленые папки; на этажерке красовались чучела чижиков; убранство комнаты довершала кровать, холодная, как ложе кармелитки.
Цезарь Бирото был очарован изысканной вежливостью Молине, который, закутавшись в халат из серого молетона, кипятил молоко на небольшой железной жаровне и осторожно переливал кофейную гущу из маленького глиняного горшочка в кофейник. Оберегая покой домовладельца, торговец зонтиками сам открыл дверь Бирото. Молине преклонялся перед мэрами и их помощниками и называл их «наши муниципальные власти». При виде начальства он встал и остался стоять с фуражкой в руке, пока великий Бирото не сел в кресло.
– Нет, сударь… Да, сударь… Ах! сударь, если бы я знал, что удостоюсь чести лицезреть среди своих пенатов члена муниципалитета города Парижа, поверьте мне, я почел бы за долг самому явиться к вам, хотя я ваш домовладелец или вот-вот им стану…
Бирото жестом попросил старика надеть фуражку.
– Нет, нет, я не покрою головы, пока вы не присядете и сами не наденете шляпы; вы еще простудитесь – в комнате холодновато, скудные доходы не позволяют мне… Будьте здоровы, господин помощник мэра.
Бирото чихнул, доставая приготовленные акты. Он вручил их Молине и, во избежание проволочек, добавил, что нотариус Роген все составил по форме и за его, Бирото, счет.
– Не смею оспаривать осведомленность господина Рогена, имя его издавна пользуется заслуженной известностью среди нотариусов Парижа; но у меня свои привычки, я веду свои дела сам, пристрастие до некоторой степени простительное, и мой нотариус…
– Но наше дело такое простое, – возразил парфюмер, привыкший к быстрым решениям коммерсантов.
– Простое! – воскликнул Молине. – Ничего не бывает просто в делах по найму. Ах! сударь, ваше счастье, что вы не домовладелец! Ежели б вы знали, до чего неблагодарный народ квартиронаниматели и как надо быть с ними начеку! Возьмем такой случай, сударь, – есть у меня жилец…
С четверть часа Молине рассказывал, как г-н Жандрен, рисовальщик, обманывал привратника на улице Сент-Оноре. Г-н Жандрен позволял себе выходки, достойные какого-нибудь Марата, да еще рисовал картинки, оскорбляющие общественное целомудрие, – полиция закрывала на все глаза, потакала ему! Этот Жандрен, человек глубоко безнравственный, приходил домой с женщинами легкого поведения, так что другим жильцам по лестнице и пройти нельзя было: забава, вполне достойная художника, рисующего противоправительственные карикатуры. А почему он пошел на все эти гадости? Да потому, что его попросили вносить квартирную плату ежемесячно пятнадцатого числа. Дело едва не дошло до суда, так как художник ни гроша не платил и сидел в своей пустой квартире. Молине получал анонимные письма, в них не кто иной, как Жандрен, угрожал убить его ночью в закоулках Батавского подворья.
– Да, сударь, – продолжал Молине, – кончилось тем, что мне пришлось обратиться к господину префекту полиции (я воспользовался случаем и сказал ему несколько слов о необходимости изменения законов в этой области), и он разрешил мне носить пистолеты для ограждения моей личной безопасности.
Старикашка встал, чтобы взять пистолеты.
– Вот они, сударь! – воскликнул он.
– Но, сударь, вы можете не опасаться подобных выходок с моей стороны, – сказал, улыбнувшись, Бирото, и во взгляде, брошенном им на Кейрона, явственно читалась презрительная жалость к Молине.
Старик перехватил этот взгляд и был глубоко оскорблен таким отношением со стороны представителя муниципалитета, который обязан защищать своих подопечных. Кому-нибудь другому он бы еще простил, но не Бирото.
– Сударь, – продолжал он сухим тоном, – один из наиболее уважаемых членов коммерческого суда, помощник мэра, именитый купец не интересуется, конечно, подобными мелочами, ибо это мелочи! Но в данном случае необходимо получить согласие вашего домовладельца графа де Гранвиля на пролом стены, необходимо договориться об условиях восстановления стены по окончании срока найма; наконец, сейчас квартирная плата крайне низка, но она возрастет, квартиры на Вандомской площади вздорожают, они уже сейчас дорожают! Проложат улицу Кастильоне! Я себя связываю… связываю…
– Давайте кончать, – промолвил озадаченный Бирото, – сколько вы просите? Я сам деловой человек и понимаю, что все доводы бледнеют перед высшим доводом – деньгами! Итак, сколько вы просите?
– Справедливую цену, господин помощник мэра. На сколько лет снимаете вы квартиру?
– На семь лет, – ответил Бирото.
– Воображаю, сколько через семь лет будет стоить мой второй этаж! – воскликнул Молине. – Какую цену мне предложат за две меблированные комнаты в таком квартале? Пожалуй, не пожалеют и двухсот франков в месяц, а то и больше. А договором я себя связываю, связываю по рукам и ногам. Ну, пусть будет полторы тысячи франков в год. За эту цену я согласен выделить две комнаты из квартиры господина Кейрона, – сказал он, бросая косой взгляд в сторону торговца, – я подписываю с вами договор на семь лет. Пролом стены идет за ваш счет, если граф де Гранвиль даст свое согласие и откажется от всяких претензий. Вы несете ответственность за последствия этого пролома, я принимаю на себя обязательство восстановить стену, но в виде возмещения вы уплатите мне пятьсот франков: мы все под богом ходим, я не желаю никому кланяться и просить, чтобы мне восстановили стену.
– Условия эти для меня, пожалуй, более или менее приемлемы, – согласился Бирото.
– Теперь дальше, – продолжал Молине, – вы мне отсчитаете hic et nuncсемьсот пятьдесят франков, зачисляемые в уплату за последние полгода, в чем я выдам вам расписку. Э, дабы не потерять гарантий, я согласен принять векселя на небольшие суммы, так называемые квартиронанимательские векселя на какой угодно срок. В делах я сговорчив, тянуть нам не к чему. Итак, по рукам, да еще обусловим, что вы заделаете дверь на мою лестницу и отказываетесь от всяких прав на нее… и на свои средства… закладываете ее кирпичом. Будьте спокойны, я не потребую возмещения расходов по разборке кирпича после истечения срока договора; я включаю их в те же пятьсот франков. Вы увидите, сударь, как я справедлив.
– Мы, коммерсанты, не столь мелочны, – заметил парфюмер, – с такими формальностями дела не сладишь.
– Ах, торговля – статья особая, а тем паче парфюмерия, там все идет как по маслу, – с кислой улыбкой проговорил Молине. – Но в квартирных делах, сударь, в Париже ничего нельзя упускать. К примеру, есть у меня жилец на улице Монторгей…
– Сударь, – перебил его Бирото, – мне очень неприятно, что я мешаю вам завтракать; оставляю вам договор, просмотрите его, я согласен на все ваши требования; подпишем его завтра, а сегодня договоримся окончательно на словах; утром архитектор должен приступить к работе.
– Сударь, – продолжал Молине, поглядывая на торговца зонтиками, – у господина Кейрона истек срок платежа, а он не собирается платить, мы присоединим его обязательства к остальным векселям, и расчеты поведем с января по январь. Так будет удобнее.
– Будь по-вашему, – согласился Бирото.
– Швейцару за услуги, как водится…
– За что же? – возмутился Бирото. – Ведь вы лишаете меня права пользоваться лестницей и парадным… Это несправедливо.
– Но ведь вы квартиронаниматель, – решительно заявил маленький Молине, усевшийся на своего конька, – вы платите налоги на двери и окна, так несите и долю расходов по дому. Когда обо всем договоришься, сударь, все идет гладко. Вы расширяете свою квартиру, значит, дела у вас идут хорошо?
– Неплохо, – подтвердил Бирото. – Но квартиру я расширяю по другой причине. Я приглашаю друзей, чтобы отпраздновать освобождение Франции и отметить награждение меня орденом Почетного легиона.
– А! – воскликнул Молине. – Заслуженная награда!
– Да, – заметил Бирото, – быть может, я заслужил эту награду и монаршую милость, ведь я был членом коммерческого суда, я сражался за Бурбонов тринадцатого вандемьера на ступенях церкви святого Роха, там я был ранен Наполеоном; эти заслуги…
– Стоят подвигов славных солдат нашей армии. Орденская ленточка – красная, ибо она обагрена кровью.
Фраза эта, взятая из газеты «Конститюсьонель», польстила Бирото, и он пригласил Молине на бал. Старик рассыпался в изъявлениях благодарности и почти готов был простить парфюмеру его презрение. Он проводил своего нового квартиранта до лестницы, наговорив ему немало любезностей. Уже во дворе Бирото насмешливо взглянул на Кейрона.
– Я и не подозревал, – сказал он, – что существуют такие жалкие люди! – с языка у него чуть не сорвалось слово «глупые».
– Ах, сударь, – проговорил Кейрон, – не всем же обладать вашими талантами.
Бирото мог легко поверить в собственное превосходство, особенно после встречи с Молине; замечание торговца зонтиками вызвало у него довольную улыбку, и он величественно распрощался с Кейроном.
«Вот и рынок, – подумал Бирото, – займемся орешками».
Побродив бесплодно с час по рынку, Бирото, по совету торговок, отправился на Ломбардскую улицу, где продаются орехи для кондитерских изделий; там от своих друзей Матифа он узнал, что оптовую торговлю орехами ведет некая Анжелика Маду, проживающая на улице Перрен-Гасслен, и что только у нее можно найти настоящие лесные орехи и сочные белые орешки Альпийских гор.
Улица Перрен-Гасслен представляет собой разветвление лабиринта, который расположен в четырехугольнике, образуемом набережной и улицами Сен-Дени, Ферронри и Монне, и является как бы чревом Парижа. Сюда стекаются самые разнообразные товары, все свалено в кучу – вонючие селедки и изящный муслин, шелк и мед, масло и тюль; тут полным-полно маленьких лавчонок, о которых и не подозревает Париж, как не подозревает большинство людей о работе поджелудочной железы. Пиявкой, высасывающей все соки из этих торговых заведений, был некто Бидо по прозванию Жигонне, дисконтер с улицы Гренета. Бывшие конюшни заставлены здесь бочками с маслом, каретные сараи доверху набиты кипами бумажных чулок. Здесь находятся оптовые склады всякой снеди, продаваемой в розницу на Центральном рынке. Анжелика Маду, в прошлом торговка рыбой, лет десять назад занялась торговлей «сухими плодами»; она вступила тогда в связь с одним продавцом орехов, чем долго занимала сплетниц Центрального рынка; некогда она была статной, видной женщиной, но с годами чрезмерно располнела. Жила она в первом этаже желтого полуразвалившегося дома, который подпирали железные крестовины. Покойный сожитель ее умудрился отделаться от всех конкурентов и превратил свою торговлю в монополию; невзирая на кое-какие погрешности в образовании, у преемницы его хватило умения продолжать уже налаженное дело; она расхаживала по своим складам, занимавшим каретные сараи, конюшни и бывшие мастерские, успешно воюя там с насекомыми. У нее не было ни конторы, ни кассы, ни счетных книг, ибо она не умела ни читать, ни писать; на письма, которые она принимала как личное оскорбление, тетка Маду отвечала ударом кулака. Впрочем, это была славная краснощекая женщина; поверх чепца она надевала платок, а своим трубным голосом завоевала уважение ломовых извозчиков, привозивших ей товар; перебранки с ними она заливала белым винцом. Она не знала никаких недоразумений с крестьянами, продававшими ей орехи за наличный расчет, – то был единственный способ столковаться с ними, а летом тетка Маду отправлялась к ним погостить. Бирото нашел эту первобытную торговку среди мешков с лесными и грецкими орехами и каштанами.
– Добрый день, мамаша, – небрежно сказал Бирото.
– «Мамаша»! – возмутилась она. – Ишь ты какой ласковый! Что мы с тобой, детей вместе крестили?
– Я парфюмер, больше того, я помощник мэра второго округа Парижа. Как представитель власти и покупатель я требую вежливого обращения.
– Венчаюсь я и без вашей помощи, – заявила бой-баба, – в ратуше ничего не покупаю, помощникам мэра ничем не надоедаю. Покупатели мне кланяются, и разговариваю я с ними, как мне угодно. А кому не нравится – скатертью дорога!
– Вот плоды монополии! – проворчал Бирото.
– Пополь? Мой крестник! Неужто он набедокурил? Вы поэтому и пожаловали, милостивый государь? – сказала торговка уже чуть-чуть ласковее.
– Нет, я уже имел честь вам доложить, что пришел как покупатель.
– Ладно, как звать тебя, любезный? Я тебя вижу вроде как впервые.
– Видно, дешево вы продаете орехи, если так разговариваете с покупателями, – заметил Бирото и назвал свою фамилию и звание.
– Ага, так это вы знаменитый Бирото, у которого жена красавица. Сколько же вам надо сахарных орешков, дорогой мой?
– Шесть тысяч фунтов.
– Да это все мои запасы, – сказала торговка, хрипя, как осипшая флейта. – Вы, красавец мой, видно, не ленитесь: и замуж девиц выдаете, и духами их прыскаете. Ну, помогай вам бог! Без дела, знать, не сидите. Так-то! Уж таким покупателем, как вы, гордиться буду, и вы займете место в сердце женщины, которая мне всех дороже…
– Какой женщины?
– Добрейшей госпожи Маду.
– Сколько стоят ваши орехи?
– Только для вас, хозяин, – по двадцать пять франков за сто фунтов, если все забираете.
– По двадцать пять франков, – повторил Бирото, – это выйдет полторы тысячи франков! А мне потребуется, возможно, сотни тысяч фунтов в год.
– Вы только взгляните, что за товар. Отборные! – заговорила она, запуская красную руку в мешок с лесными орехами. – И ни одной гнилушки, сударь. Сами подумайте, бакалейщики продают сплошной мусор по двадцать четыре су за фунт, и на четыре фунта подсунут фунт гнилушек. Не нести же мне убытки в угоду вам? Вы, конечно, красавец мужчина, но еще не вскружили мне настолько голову! Коли вам так много надо, сговоримся на двадцати франках; нельзя же отпускать помощника мэра с пустыми руками, этак еще беду на новобрачных накличешь. Вы только пощупайте, что за товар, какой полновесный! И пятидесяти на фунт не пойдет, сочные все, без единой червоточинки!
– Ладно, пришлите мне шесть тысяч фунтов. Плачу тысячу двести франков; деньги – через три месяца. Улица Фобур-дю-Тампль, завтра утром, прямо ко мне на фабрику.
– Поспешу, как невеста к венцу. Всего хорошего, господин мэр, не поминайте лихом. А лучше уж, – прибавила она, провожая Бирото через двор, – выдали бы вы мне векселя сроком на сорок дней, я и так вам много уступила, зачем же мне терять еще на учете! Хоть у папаши Жигонне и доброе сердце, а высасывает он из нас всю кровь, словно паук.
– Так и быть, векселя на пятьдесят дней! Только уговор, взвешиваем не больше, чем по сто фунтов за раз, чтобы не попадались гнилушки. Иначе дело не пойдет.
– Ишь, собака, такого не проведешь, – проворчала Маду, – и против шерсти не погладишь! Видно, научили его прохвосты с Ломбардской улицы. Эти матерые волки сговорились пожирать нас, бедных овечек.
Овечка была пяти футов ростом, трех футов в обхвате и походила на тумбу, на которую натянули полосатое бумажное платье без пояса.
Парфюмер шел по улице Сент-Оноре, строя планы, измышляя способы борьбы с «Макассарским маслом», придумывая наклейки, форму флаконов и пробок, цвет объявлений. А еще говорят, что торговля лишена поэзии! Ньютон меньше думал над своим знаменитым биномом, чем Бирото над «Комагенной эссенцией», – масло уже превратилось в эссенцию, он переходил от одного названия к другому, не понимая их смысла.
Различные проекты роились в его голове, и он принимал это переливание из пустого в порожнее за творческую деятельность. Поглощенный своими мыслями, он не заметил, как миновал улицу Бурдонне и вынужден был вернуться назад, вспомнив о дяде.
Клод-Жозеф Пильеро, торговавший раньше скобяными товарами в лавке «Золотой колокол», был цельной натурой: платье и нрав, ум и сердце, слова и мысли – все соответствовало в нем одно другому. Он был единственным родственником г-жи Бирото и всю свою привязанность сосредоточил на ней и Цезарине, после того как, будучи еще торговцем, потерял жену и сына, а затем – и приемыша, сына кухарки. Жестокие утраты заставили старика обратиться к христианскому стоицизму, и превосходная эта доктрина озаряла ярким и холодным светом зимнего солнца закат его жизни. Его худое, строгое и темное лицо, в тонах которого гармонически сочетались охра и бистр, поразительно напоминало черты бога Времени, – как его изображают живописцы; но укоренившиеся привычки торговца несколько огрубили этот облик и смягчили монументальный, суровый характер божества, который подчеркивают художники, ваятели и ювелиры, украшая каминные часы. Среднего роста, коренастый и плотный, Пильеро был, казалось, создан для долгой трудовой жизни; его широкие плечи указывали на крепкое сложение; сдержанный и даже сухой внешне, он вовсе не был натурой холодной. Спокойные манеры и непроницаемое лицо свидетельствовали о замкнутости; Пильеро скрывал в глубине души чувствительность, чуждую всякой велеречивости и напыщенности. Его зеленые с черными крапинками глаза поражали неизменной ясностью выражения. Изборожденный морщинами, пожелтевший у висков, невысокий и сдавленный лоб обрамляли седые и коротко остриженные волосы, похожие на бобрик. Тонкий рот обличал человека расчетливого и благоразумного, но не скупого. Оживленный взор говорил о довольстве жизнью и завидном здоровье. Наконец, честность, чувство долга, истинная скромность придавали всему его облику уверенность. Шестьдесят лет вел он суровую и трезвую жизнь неутомимого труженика. Его история напоминала историю Цезаря, только Пильеро везло меньше. Прослужив до тридцати лет приказчиком, он вложил свои сбережения в торговлю в то самое время, когда Цезарь вложил свои деньги в ренту; он испытал на себе последствия «максимума», его лопаты, кирки и скобяные товары были реквизированы. Уравновешенный и спокойный характер, свойственная Пильеро предусмотрительность и математические способности помогли ему выработать собственную манеру работать. Большинство сделок он заключал на слово и редко раскаивался. Наблюдательный, как все вдумчивые люди, он изучал своих ближних, не мешая им говорить; нередко он отказывался от выгодных сделок, соблазнявших его соседей, которые потом раскаивались и уверяли, что Пильеро чует мошенников издалека. Он предпочитал скромный, верный заработок крупным, но рискованным спекуляциям. Пильеро торговал каминными решетками, таганами, чугунными и железными котлами, мотыгами и другими земледельческими орудиями. Такой товар ворочать нелегко, он требует от продавцов довольно большого физического напряжения, а доходы мало соответствовали затраченным трудам; Пильеро зарабатывал гроши на этих громоздких изделиях, неудобных и для перевозки, и для хранения на складе. Немало ящиков пришлось ему заколотить, немало товаров уложить и распаковать, немало принять и отправить подвод. Не нашлось бы, пожалуй, другого состояния, нажитого более достойным, более законным, более честным путем, чем состояние Пильеро. Никогда он не запрашивал цену, никогда не гонялся за покупателями. В последние годы он обычно сидел у порога лавки, покуривая трубку, поглядывая на прохожих и наблюдая за работой приказчика. В 1814 году, когда Пильеро бросил торговлю, состояние его равнялось семидесяти тысячам франков, помещенным в государственные бумаги, что давало ему свыше пяти тысяч франков ежегодной ренты; сверх того в запасе у него оставались еще сорок тысяч, которые ему обязался выплатить безо всяких процентов приказчик, купивший у него лавку. Тридцать лет ежегодный оборот Пильеро составлял примерно сто тысяч франков, прибыль его составляла семь процентов от этой суммы, и половину своих доходов он проживал. Таков был его баланс. Соседи, не завидуя столь скромным доходам, хвалили Пильеро за благоразумие, но не понимали его.
На углу улицы Монне и улицы Сент-Оноре помещается кафе «Давид»; сюда старые коммерсанты, вроде Пильеро, заходят вечерком выпить чашку кофе. Усыновление Пильеро сына своей кухарки нередко являлось там темой осторожных шуток, которые разрешают себе люди и по адресу почтенного человека, а хозяин скобяной лавки внушал окружающим большое уважение, хотя и не домогался его, сам себя уважая. Когда же приемный сын Пильеро умер, больше двухсот человек следовало за гробом бедного юноши, провожая его на кладбище. Старик держался мужественно. Сдержанная скорбь его, скорбь сильных людей, которые не любят выказывать свое горе, усилила симпатии обитателей квартала к этому «славному человеку», как его называли, причем слова эти произносились каким-то особенным тоном, углублявшим и облагораживавшим их смысл. Привыкнув к умеренности и воздержанности, Клод Пильеро не поддался соблазнам праздного существования, которое обычно так разлагает парижских буржуа, удалившихся на покой; он не изменил привычного образа жизни и к старости увлекся политикой, причем держался взглядов «крайней левой». Пильеро принадлежал к тем трудовым слоям населения, которые в результате революции приобрели достаток и приобщились к буржуазии. Поставить в вину ему можно было только то, что он придавал слишком большое значение завоеваниям революции, он дорожил своими правами, свободой – этими плодами революции, он был уверен, что его благосостоянию и политическому спокойствию угрожают иезуиты, тайные козни которых разоблачали либералы, а также образ мыслей, приписываемый газетой «Конститюсьонель» брату короля. В своих убеждениях он был так же последователен, как и в жизни; его политические взгляды не страдали узостью, он никогда не оскорблял противников, побаивался придворных и верил в республиканские добродетели; Манюэля он представлял себе чуждым каких-либо крайностей, генерала Фуа считал великим человеком, Казимира Перье – отнюдь не честолюбцем, Лафайета – политическим пророком, Курье – превосходным человеком. Словом, он был склонен к благородным иллюзиям. Этот достойный старик охотно бывал в семейных домах, он навещал Рагонов, свою племянницу, судью Попино, Жозефа Леба, супругов Матифа. На свои нужды он тратил всего полторы тысячи франков в год. Остальные его деньги уходили на добрые дела и на подарки внучатой племяннице. Четыре раза в год он угощал друзей обедом у ресторатора Ролана на улице Азар и возил их в театр. Он вел себя, как те старые холостяки, которых замужние женщины преспокойно заставляют оплачивать свои прихоти, загородные прогулки, ложу в Опере, катание с гор Божон. Пильеро был счастлив, доставляя удовольствие другим, радовался чужой радостью. Продав лавку, он не захотел переменить квартал, к которому привык, и снял в старом доме на улице Бурдонне небольшую квартирку из трех комнат, помещавшуюся на пятом этаже. Подобно тому как причуды Молине наложили отпечаток на странную обстановку его жилища, так простая и чистая жизнь Пильеро сказалась в убранстве его квартиры, состоявшей из передней, гостиной и спальни, – последняя была чуть побольше монашеской кельи и обставлена столь же скромно. В передней – красный натертый пол, окно, задернутое перкалевыми занавесками с красной каймой, стулья красного дерева, обитые красным сафьяном с золотыми гвоздиками; на стенах, оклеенных темно-зелеными обоями, висели картины: «Клятва американцев», «Сражение при Аустерлице» и портрет Бонапарта – первого консула. Обстановку гостиной, безусловно подобранную обойщиком, составляла желтая мебель с розетками, ковер, камин с бронзовой решеткой без позолоты, разрисованный экран, тумбочка с цветочной вазой под стеклянным колпаком и накрытый ковровой скатертью круглый стол, на котором стоял поднос с ликерным сервизом. Новенькая обстановка этой комнаты достаточно красноречиво говорила о жертве, принесенной светским обычаям стариком Пильеро, редко принимавшим у себя гостей. В спальне, простой, как жилье монаха или солдата, людей, хорошо знающих цену жизни, привлекало внимание висевшее над кроватью в алькове распятие с кропильницей. Такое открытое проявление веры у убежденного республиканца казалось трогательным. Хозяйство Пильеро вела старушка, но его уважение к женщинам простиралось так далеко, что он не позволял служанке чистить его башмаки и постоянно отдавал их чистильщику. Одевался Пильеро всегда просто и одинаково. Обычно он носил синий суконный сюртук и такие же панталоны, пестрый бумажный жилет, белый галстук, закрытые туфли; в праздничные дни надевал фрак с блестящими металлическими пуговицами. Он вставал, завтракал, выходил из дому, обедал, уходил снова по вечерам и возвращался домой всегда в определенный час, справедливо считая правильный образ жизни залогом здоровья и долголетия. Никогда Пильеро не затевал политических споров с Цезарем Бирото, Рагонами, аббатом Лоро, – люди этого кружка слишком хорошо знали друг друга и поэтому не рассчитывали обратить один другого в свою веру. Пильеро, подобно своему племяннику и Рагонам, вполне доверял Рогену. Для него парижский нотариус представлялся человеком почтенным, воплощением честности. Пильеро решил принять участие в спекуляции земельными участками лишь после того, как внимательно рассмотрел этот вопрос, что и объясняло смелость Цезаря, боровшегося с предчувствиями жены.
Парфюмер одолел семьдесят восемь ступенек, которые вели к небольшой коричневой двери дядиной квартиры, и подумал, что старик, должно быть, еще достаточно бодр и крепок, если может, не жалуясь, ежедневно взбираться так высоко. Бирото заметил, что синий сюртук и панталоны вынуты из шкафа и старуха Вайян чистит их щеткой; Пильеро, истинный философ, в домашнем сюртуке из серого молетона завтракал у камина, читая отчет о парламентских прениях в газете «Конститюсьонель», называвшейся в те годы «Журналь де коммерс».
– Дядя, – сказал Цезарь, – дело решено, договор составляется. Но если у вас есть какие-либо опасения или сомнения, еще не поздно отказаться.
– К чему отказываться? Сделка выгодная, вот только доходов придется долго ждать, но при верных делах всегда гак бывает. У меня пятьдесят тысяч франков в банке, вчера я получил последние пять тысяч франков за лавку. Ну а Рагоны вкладывают в это дело все свое состояние.
– Как же они будут жить?
– Не беспокойся, проживут помаленьку.
– Дядя, я понимаю, – проговорил растроганный Бирото, пожимая руку суровому старику.
– Как распределяются паи? – неожиданно спросил Пильеро.
– Моя доля будет равна трем восьмым, ваша и Рагонов – одной восьмой; запишу эту сумму в кредит вашего счета, у нас пока еще не составлены нотариальные акты.
– Прекрасно. Но ты, видно, очень богат, мой мальчик, если вкладываешь в это дело сразу триста тысяч франков? Боюсь, ты рискуешь слишком большой суммой, не пострадала бы от этого твоя торговля. Впрочем, тебе виднее. Если тебя постигнет неудача, то знай – рента поднялась до восьмидесяти, и я могу продать ценные бумаги, приносящие две тысячи франков дохода. Но будь осторожен, дружок: если тебе придется прибегнуть к моей помощи, ты тем самым уменьшишь состояние своей дочери.
– Дядя, как просто вы говорите о благороднейших поступках! Вы взволновали меня.
– Генерал Фуа только что взволновал меня совсем по-иному! Ну, ступай, кончай дело: ведь земельные участки не исчезнут, а они нам достанутся за полцены; если даже придется выждать лет шесть, и то мы получим кое-какую прибыль, – ну хотя бы доход с дровяных складов. Итак, нечего бояться потерь. Разве что Роген похитит наши капиталы, но ведь это невозможно…
– Как раз сегодня ночью мне об этом говорила жена, она боится…
– Что Роген украдет деньги? – спросил Пильеро, смеясь. – А почему она так думает?
– Она говорит, что он слишком страдает из-за своего уродства и, как все мужчины, которым недоступна женская любовь, питает страсть к…
Недоверчиво усмехнувшись, Пильеро вырвал из книжки листок, написал на нем сумму и подписался.
– Вот чек на сто тысяч франков – за Рагона и за меня. Бедные люди продали этому проклятому проходимцу дю Тийе свои пятнадцать акций Ворчинских копей, чтобы собрать нужные деньги. Славные люди в затруднении, прямо сердце за них болит. И такие достойные, благородные люди, цвет старой буржуазии, право! Их родственник, судья Попино, ничего не знает, они от него все скрывают, чтобы не мешать ему заниматься благотворительностью. А ведь они трудились, как и я, целых тридцать лет…
– Дай бог, чтобы «Комагенное масло» победило, – воскликнул Бирото, – я буду счастлив вдвойне. Прощайте, дядя, приходите обедать в воскресенье с Рагонами, Рогеном и господином Клапароном. Договор подпишем послезавтра, ведь завтра – пятница, а в пятницу я не хочу начинать…
– Ты придаешь значение подобным суевериям?
– Дядя, я никогда не поверю, что день, когда сын божий был предан смерти людьми, – счастливый день. Ведь бросают же все двадцать первого января свои дела.
– До воскресенья, – резко сказал Пильеро.
«Если б не его политические убеждения, – подумал Бирото, спускаясь по лестнице, – на всем свете не сыскать человека лучше дяди. И надо же было ему связаться с политикой! Что за чудесный был бы человек, забудь он думать о ней. Его упрямство только доказывает, что в мире нет совершенства».
– Уже три часа, – сказал Цезарь, возвратившись домой.
– Сударь, вы принимаете эти обязательства? – спросил Селестен, показывая ему векселя торговца зонтами.
– Да, из шести процентов, без комиссионных. Женушка, приготовь-ка мне одеться, я иду к господину Воклену, ты знаешь зачем. И обязательно – белый галстук.
Парфюмер отдал распоряжения своим приказчикам; Попино в лавке не было, и Цезарь догадался, что его будущий компаньон одевается; быстро поднявшись к себе в комнату, он увидел там «Дрезденскую мадонну», вставленную, по его приказанию, в красивую раму.
– А что, картинка-то недурна, – сказал он дочери.
– Не говори так, папа, тебя засмеют, она прекрасна!
– Как это вам нравится, дочь отца учит!.. Ну, на мой вкус «Геро и Леандр» ничуть не хуже. Мадонна – сюжет религиозный, ей место в часовне, но «Геро и Леандр»… Ах, я куплю эту картину, ведь изображенный на ней флакон с маслом меня вдохновил…
– Папа, я тебя не понимаю.
– Виржини, позови фиакр! – громко крикнул Цезарь, кончив бриться; в это время в комнату вошел Попино, от смущения перед Цезариной прихрамывая еще больше, чем обычно.
Влюбленный не подозревал, что его недостаток уже не существовал для его избранницы. Чудесное доказательство любви, выпадающее на долю только тех, кого обделила природа.
– Сударь, – сказал юноша, – завтра пресс можно будет пустить в ход.
– Отлично! Но что с тобой, Попино? – спросил Цезарь, увидев, как покраснел Ансельм.
– Это, сударь, от радости. Я нашел на улице Сенк-Диаман лавку вместе с конторой, кухней, комнатами наверху и складами – и за все просят только тысячу двести франков в год.
– Надо заключить контракт на восемнадцать лет. А теперь едем к господину Воклену, поговорим по дороге.
Цезарь и Попино сели в фиакр, провожаемые взглядами приказчиков, которые удивлялись их парадному виду и необычной поездке в экипаже и не подозревали о великих планах хозяина «Королевы роз».
– Ну, теперь мы все разузнаем об орешках, – пробормотал парфюмер.
– О каких орешках?
– Вот я и проговорился и выдал тебе свою тайну, – сказал парфюмер, – именно в орешках все дело. Только ореховое масло оказывает благоприятное воздействие на волосы, и никто из парфюмеров до этого еще не додумался. Взглянув на гравюру «Геро и Леандр», я подумал: «Нет, древние неспроста выливали столько масла на голову, они знали, что делают, на то они и древние!» И что бы ни говорили наши умники, я разделяю взгляды Буало на древних. Это и навело меня на мысль об ореховом масле, а тут еще твой родич Бьяншон, лекарский ученик, рассказал мне, что в Медицинской школе его товарищи употребляют ореховое масло, чтобы быстрее росли усы и бакенбарды. Нам недостает только одобрения знаменитого Воклена. Он даст нам необходимые указания, и мы не обманем публику. Я только что с рынка, договорился с торговкой орехами о доставке сырья; через какую-нибудь минуту я буду у величайшего ученого Франции и узнаю у него, как извлекать из орешков квинтэссенцию. Пословица права – крайности сходятся. Видишь, сынок, торговля служит посредницей между природой и наукой. Анжелика Маду скупает орехи, господин Воклен извлекает эссенцию, мы ее продаем. Орехи стоят пять су за фунт, господин Воклен во сто раз повысит их ценность, и мы, быть может, окажем услугу всему человечеству, ибо если тщеславное желание нравиться причиняет человеку большие страдания, то хорошее косметическое средство в таком случае для него благодеяние.
Благоговейное почтение, с каким Попино слушал отца Цезарины, возбуждало красноречие Бирото, и он изрекал самые нелепые сентенции, какие только могут зародиться в голове буржуа.
– Будь почтителен, Ансельм, – сказал парфюмер, когда экипаж свернул на улицу, где жил Воклен, – сейчас мы вступим в святая святых науки. Поставь «Мадонну» в столовой на стуле, где-нибудь на видном месте, но так, чтоб она не слишком бросалась в глаза. Только бы мне не запутаться и не наговорить лишнего! – чистосердечно признался Бирото. – Попино, этот человек оказывает на меня химическое воздействие, его голос вгоняет меня в жар и даже вызывает колики. Он мне столько добра сделал, а в скором времени станет и твоим благодетелем.
От этих слов у Попино мороз пробежал по коже, он двигался так осторожно, словно шел по битому стеклу, с тревогой поглядывая по сторонам. Г-н Воклен был в своем кабинете, когда ему доложили о приходе Бирото. Академик знал, что парфюмер – помощник мэра и пользуется благосклонностью властей; он принял его.
– Вы все же не забываете меня в своем величии? – сказал ученый. – Правда, от химика до парфюмера один шаг.
– Увы, сударь, вы – гений, а я простой человек, невежда. Нас разделяет пропасть. Вам я обязан тем, что вы зовете моим «величием», и я не забуду вас никогда, ни на этом, ни на том свете.
– Ах, на том свете все мы, говорят, будем равны – и короли и сапожники.
– Вы, конечно, имеете в виду королей и сапожников-праведников, – изрек Бирото.
– Это ваш сын? – спросил Воклен, поглядывая на маленького Попино, совершенно сбитого с толку тем, что в кабинете ученого не оказалось ничего необычайного; он ожидал, что увидит здесь какие-нибудь страшилища, гигантские машины, летающие металлы, оживленную материю.
– Нет, сударь, этот юноша мне не сын, но я его очень люблю, он пришел к вам, уповая на вашу доброту, равную вашему таланту, а потому – безграничную! – сказал Цезарь с многозначительным видом. – Прошло шестнадцать лет, и я вновь обращаюсь к вам за советом по исключительно важному для нас вопросу, в котором я, простой парфюмер, ничего не понимаю.
– Говорите, посмотрим.
– Я слышал, вы заняты сейчас изучением строения волос! Вы трудитесь ради славы, меня интересует доход.
– Дорогой господин Бирото, что именно вы хотите узнать? Состав волос?
Воклен взял листок бумаги.
– Я собираюсь вскоре сделать в Академии наук доклад на эту тему. В волосах содержится значительное количество слизистой материи, немного белых и много зеленовато-черных маслянистых веществ, железо, несколько крупинок окиси марганца, известковые фосфаты, очень небольшое количество углекислой извести, кремнезем и значительное количество серы. От различных пропорций этих веществ зависит цвет волос. Так, у рыжих значительно больше зеленовато-черного масла, чем у других.
Цезарь и Попино вытаращили от удивления глаза.
– Девять веществ! – воскликнул Бирото. – Как! в каждом волоске содержатся металлы и масло? Скажи мне это кто другой, а не вы, человек, перед которым я преклоняюсь, я не поверил бы. Как это необычайно! Велика премудрость божья, господин Воклен.
– Волосы, – продолжал великий химик, – продукт фолликулярного органа, который имеет форму мешочка, открытого с обоих концов: одним концом он связан с нервами и сосудами, из другого выходит волос. Некоторые из моих коллег, и среди них господин де Бланвиль, полагают, что волос – омертвевшая ткань, выделенная этим мешочком или кармашком, заполненным мягким веществом.
– Это как бы сгустившийся пот в трубочках, – воскликнул Попино, которого парфюмер легонько толкнул ногой.
Воклен улыбнулся словам Попино.
– Способный малый, не правда ли? – заметил тогда Цезарь, посмотрев на Попино. – Но, господин Воклен, если волосы – омертвевшая ткань, значит, их невозможно оживить, тогда для нас все кончено! Объявление получится нелепое; вы не представляете себе, до чего публика капризна, нельзя же ей сказать…
– Что у нее мусорная свалка на голове, – вставил Попино, желая еще раз потешить Воклена.
– Скорее воздушные катакомбы, – ответил химик, поддерживая шутливый тон беседы.
– А я-то обрадовался, купил орехи! – воскликнул удрученный убытками Бирото. – Но зачем же тогда продают разные…
– Успокойтесь, – сказал, улыбаясь, Воклен, – как я понимаю, речь идет о каком-нибудь составе, предохраняющем волосы от выпадения или от седины. Так вот, работая над волосами, я пришел к следующему выводу.
Попино весь обратился в слух, словно вспугнутый заяц.
– Обесцвечивание волос – этой то ли омертвевшей, то ли живой материи, связано, как я полагаю, с прекращением выделения красящих веществ: этим же явлением объясняется то, что в странах с холодным климатом мех пушных зверей зимой обесцвечивается и становится белым.
– Вот оно что! Слышишь, Попино?
– Очевидно, – продолжал Воклен, – изменение цвета волос зависит от резких изменений окружающей температуры.
– Окружающей температуры, Попино. Запомни, запомни! – воскликнул Цезарь.
– Да, – сказал Воклен, – от смены тепла и холода или от внутренних процессов, которые вызывают те же результаты. Итак, вполне возможно, что мигрени и головные боли поглощают, рассеивают или перемещают питательные соки. Устранить внутреннюю причину – дело врачей. Ну, а способствовать внешнему укреплению волос должны ваши косметические средства.
– Ах, господин Воклен, – с облегчением проговорил Бирото, – вы меня возвращаете к жизни. Я собирался продавать ореховое масло, памятуя о том, что древние употребляли масло для волос, а они знали, что делают, на то они и древние, я согласен с Буало. Вот почему и атлеты умащали себе тело!
– Оливковое масло ничем не хуже орехового! – сказал Воклен, едва слушая Бирото. – Любое масло будет прекрасно предохранять луковицу от вредного воздействия на содержащиеся в ней вещества, я сказал бы содержащиеся в растворе, если бы мы рассматривали химический процесс. Быть может, вы и правы: ореховое масло, как мне говорил об этом Дюпюитрен, способствует росту волос. Я займусь изучением свойств и особенностей различных масел: букового, сурепного, оливкового, орехового и других.
– Выходит, я не ошибся, – торжествующе произнес Бирото. – мое мнение совпало с мнением великого человека. «Макассару» – крышка! «Макассар» – это косметическое средство для ращения волос, пущенное в продажу по дорогой, очень дорогой цене, господин Воклен.
– Милейший господин Бирото, – заметил Воклен, – из Макассара в Европу не доставлено и двух унций масла. Макассарское масло вовсе не способствует росту волос, но малайские женщины ценят его на вес золота, ибо оно сохраняет волосы; они и не подозревают, что в этом отношении китовый жир столь же полезен. Никакие силы, ни химические, ни божественные…
– О! божественные… не говорите так, господин Воклен.
– Но, мой дорогой, основной закон бога – не вступать в противоречие с самим собой: без единства нет власти…
– Ах, это другое дело…
– Никакие силы не восстановят лысому волосы, как нельзя без риска и перекрашивать рыжие или седые волосы; но, расхваливая пользу масла, вы никого не введете в заблуждение, никого не обманете, и я полагаю, что те, кто будет его употреблять, сохранят волосы.
– Значит, вы полагаете, что Королевская Академия наук удостоит его одобрения?..
– Ах, здесь нет и намека на открытие, – возразил Воклен. – А потом шарлатаны столько злоупотребляли именем Академии, что ее одобрение мало что даст. По совести говоря, я не могу рассматривать ореховое масло как какое-нибудь чудо!
– Скажите, как лучше всего извлекать его – вывариванием или давлением? – спросил Бирото.
– Прессуя орехи между горячими плитами, вы получите больше масла, но оно будет менее высокого качества, чем при выжимании на холоде. Втирать масло следует в самую кожу, смазывать волосы недостаточно, оно не окажет тогда никакого действия, – добродушно сказал Воклен.
– Запомни же все, Попино, – воскликнул Бирото, лицо которого пылало от восторга. – Господин Воклен, для этого молодого человека сегодняшний день будет счастливейшим днем его жизни. Он вас знал, он почитал вас, еще не видя. Ах! у нас в доме часто вспоминают вас: имя, которое носишь в сердце, не сходит с уст. Жена, дочь и я сам – мы каждый день молим бога за вас, нашего благодетеля.
– Это слишком! Ведь я сделал такие пустяки, – заметил Воклен, смущенный многословной благодарностью парфюмера.
– Вот еще! – выпалил Бирото. – Вы не можете нам запретить любить вас, хотя и отказываетесь принять от меня какой-либо подарок. Вы, как солнце, дарите нам свет, но люди, озаряемые вами, не в состоянии вас отблагодарить.
Ученый улыбнулся и встал, парфюмер и Попино поднялись в свою очередь.
– Посмотри, Ансельм, вокруг. Запомни хорошенько этот кабинет. Вы разрешите, сударь? Ваше время столь драгоценно, он, быть может, никогда больше не попадет к вам.
– А как идут ваши дела? – спросил Воклен. – Ведь мы с вами, собственно, оба работаем на благо торговли…
– Благодарю вас, неплохо, – отвечал Бирото, направляясь в столовую, куда за ним прошел и Воклен. – Но чтобы пустить в продажу это масло (я думаю назвать его «Комагенной эссенцией»), необходимы значительные средства…
– Эссенция, да еще комагенная, – слишком уж кричащее название. Назовите лучше «Масло Бирото»! Если же вы не хотите выставлять напоказ свое имя, возьмите другое… Но что я вижу… Рафаэлева «Мадонна»… Ах, господин Бирото, видно, хотите поссориться со мной.
– Господин Воклен, – сказал парфюмер, пожимая руки химику, – ценность этого подарка лишь в упорстве, с каким я его искал; понадобилось перерыть всю Германию, прежде чем нашли эту гравюру, отпечатанную на китайской бумаге, без надписи. Я знал, что вам хотелось ее иметь, но у вас не было времени ее разыскивать, я был только вашим коммивояжером. Примите же от меня эту ничего не стоящую гравюру как свидетельство моей глубокой преданности, выразившейся в хлопотах, старании и заботах. Мне хотелось бы, чтобы вы пожелали чего-нибудь, что надо было бы добыть со дна морского, и я мог бы предстать перед вами со словами: «Вот оно!» Не отказывайте мне. Нас так легко забыть, позвольте же всем нам: мне, жене, дочери и будущему зятю напоминать вам о себе этой гравюрой. Глядя на «Мадонну», вы скажете: «Есть на свете простые люди, которые думают обо мне».
– Хорошо. Я принимаю подарок, – сказал Воклен.
Попино и Бирото вытерли слезы, так взволновала их доброта академика, прозвучавшая в этих словах.
– Будьте же до конца великодушны, – сказал парфюмер.
– Чем могу служить? – спросил Воклен.
– Я приглашаю друзей…
Он приподнялся на носках, сохраняя тем не менее смиренный вид.
– …чтобы отпраздновать освобождение Франции и отметить награждение меня орденом Почетного легиона.
– Вот как! – сказал удивленный Воклен.
– Быть может, я заслужил эту награду и монаршую милость; ведь я был членом коммерческого суда, я сражался за Бурбонов тринадцатого вандемьера на ступенях церкви святого Роха, был ранен Наполеоном. Через три недели, в воскресенье, жена дает бал. Посетите же нас, сударь. Окажите честь отобедать с нами в этот день. Для меня это значило бы дважды удостоиться ордена. Я заранее вас извещу.
– Согласен, приду, – сказал Воклен.
– Сердце мое переполнено радостью, – воскликнул парфюмер на улице. – Он придет ко мне. Только не забыть бы того, что он говорил о волосах. Ты запомнил, Попино?
– Конечно, сударь. Да я и через двадцать лет этого не забуду.
– Великий человек! Какой полет мысли, какая проницательность! Как он с полуслова понял наши планы и дал совет, как победить «Макассарское масло». Ага! лжешь, «Макассар»! Ничто не может способствовать росту волос! Попино, богатство плывет нам прямо в руки. Итак, завтра в семь часов будь на фабрике; нам доставят орехи, и мы примемся за выделку масла. Легко Воклену говорить, что всякое масло полезно, но узнай это публика, и все пропало. Если не добавить к нашему средству чуточку орехового масла и духов, так мы не сможем и продавать его по три-четыре франка за четыре унции.
– Вам пожаловали орден, сударь? – спросил Попино, – Какая честь для…
– Для купечества, не правда ли, дружок?
Торжествующий вид Цезаря Бирото, уверенного в удаче, привлек внимание приказчиков, и они многозначительно переглядывались между собой: поездка в фиакре, парадные костюмы кассира и хозяина вызвали у них сами фантастические предположения. Взгляды Цезаря и Ансельма, выражавшие их взаимное удовлетворение, полный надежды взор, два раза брошенный Попино на Цезарину, возвещали нечто необыкновенное и подтверждали догадки приказчиков. Работая с утра до ночи почти в монастырской обстановке, они интересовались и самыми незначительными событиями, как узник интересуется мелкими тюремными происшествиями. Поведение г-жи Бирото, недоверчиво встречавшей победоносные взгляды мужа, наводило на мысль о том, что затевается какое-то новое дело. Унылый вид хозяйки был тем заметнее, что бойкая торговля в лавке обычно доставляла ей удовольствие. А в этот день выручка составляла шесть тысяч франков, ибо кое-кто из должников погасил просроченные счета.
Столовая и кухня с окном во дворик были разделены коридором. В коридор выходила лестница, соединявшая помещение за лавкой с антресолями, где прежде жили Цезарь и Констанс; в этой столовой, напоминавшей маленькую гостиную, они провели медовый месяц. Во время обеда в лавке оставался только рассыльный Раге, но перед десертом приказчики спускались в лавку, а Цезарь с женой и дочерью оставались одни и заканчивали обед, сидя у камелька. Обычай этот Бирото переняли у Рагонов, которые свято блюли старинные купеческие обычаи и привычки и сохраняли между собой и приказчиками то огромное расстояние, которое некогда существовало между мастерами и подмастерьями. Цезарина или Констанс приготовляли парфюмеру чашку кофе, которую он выпивал, сидя у камина в кресле. И тогда Цезарь рассказывал жене о всех событиях дня, обо всем, что видел и слышал в городе; о том, что делается в предместье Тампль, какие затруднения приходится преодолевать на фабрике.
– Жена, – сказал он Констанс, когда приказчики спустились в лавку, – знай, сегодня великий день нашей жизни! Орехи закуплены, гидравлический пресс завтра будет пущен в ход, сделка на земельные участки заключена. Вот спрячь это, – сказал он, передавая ей банковский чек Пильеро. – Я договорился о переделке помещения, мы расширим нашу квартиру. Господи, ну и забавного же чудака видал я сегодня в Батавском подворье!
И он описал г-на Молине.
– Я вижу одно, – прервала его излияния жена, – ты задолжал двести тысяч франков!
Не спорю, кошечка, – подтвердил парфюмер с напускным смирением. – И как только мы выкрутимся из долгов, – боже милостивый? Ведь ты, конечно, ни во что не ставишь участки в районе церкви Мадлен, где со временем будет лучший квартал в Париже.
– Со временем, Цезарь.
– Увы, – продолжал он шутку, – мои три восьмых пая через шесть лет будут стоить всего только миллион. Где взять деньги, чтоб уплатить двести тысяч франков? – И Цезарь в притворном ужасе всплеснул руками. – А все-таки мы выпутаемся, и вот кто заплатит, – сказал он, вытаскивая из кармана заботливо припрятанный орех, взятый у тетки Маду. Держа орешек двумя пальцами, он показал его Цезарине и Констанс.
Госпожа Бирото промолчала, но Цезарина удивленно спросила, подавая кофе:
– Ты ведь шутишь, папа?
Парфюмер, как и приказчики, заметил за обедом взгляды, которые Попино бросал на Цезарину, и ему захотелось проверить свои подозрения.
– Ну, дочка, орешек этот вызовет переворот у нас в доме. Сегодня вечером один человек покинет наш кров.
Цезарина взглянула на отца, словно хотела сказать: «А мне-то что за дело!»
– От нас уходит Попино.
Хотя Цезарь не был наблюдательным человеком и приготовил последнюю фразу не только для того, чтобы расставить дочери сети, но и начать разговор об учреждении торгового дома «А. Попино и К°», отцовская любовь помогла ему разгадать смутные чувства дочери, вспыхнувшие в ее сердце, алыми розами окрасившие ей щеки, загоревшиеся в глазах, которые она потупила. Цезарь подумал даже, что между Цезариной и Попино уже произошло объяснение. Но он ошибся: эти дети, как все робкие влюбленные, понимали друг друга без слов.
Некоторые моралисты думают, что любовь – самое непроизвольное, самое бескорыстное, самое нерасчетливое из всех человеческих чувств, за исключением, конечно, чувства материнской любви. Это – глубоко ошибочное мнение. Пусть большинство людей не подозревает истинных причин любви, но всякое физическое или духовное тяготение друг к другу в основе своей зиждется на расчетах рассудка, чувства или чувственности. Любовь – страсть прежде всего эгоистическая. А эгоизм – это прежде всего расчет. Итак, людям, не знакомым с глубоким анализом чувств, может показаться странным и неправдоподобным, что такая красивая девушка, как Цезарина, влюбилась в бедного юношу, хромого и рыжеволосого. Однако подобное явление отнюдь не противоречит арифметике буржуазных чувств. Объяснить это – значит понять обычно поражающие нас браки между статными и красивыми женщинами и невзрачными мужчинами, между тщедушными дурнушками и представительными мужчинами. Каждый, кто страдает каким-нибудь физическим недостатком, будь то косолапость, хромота, горб, крайнее безобразие, красные пятна на щеках, бородавки, недуг Рогена или любое другое уродство, не зависящее от воли родителей, вынужден стать либо человеком опасным, либо воплощением доброты; ему не дано права держаться золотой середины, удела большинства людей. В первом случае ему помогает талант, гений или сила. Человек, творящий зло, заставляет трепетать перед собой, гений заставляет уважать себя, острослов – бояться. Во втором случае он должен суметь внушить любовь к себе, он мирится с женской тиранией, он искуснее в любви, чем люди безупречного сложения.
Воспитанный почтенными буржуа, столь добродетельными людьми, как Рагоны, и своим дядей судьей Попино, Ансельм отличался превосходным характером и поведением, искупая свой незначительный физический недостаток добрыми чувствами. Благородство его стремлений, украшающее юность, восхищало Констанс и Цезаря, и они нередко хвалили Ансельма в присутствии Цезарины. И муж и жена, мелочные в повседневной жизни, обладали возвышенной душой и прекрасно разбирались в вопросах чувств. Их похвалы нашли отклик в сердце девушки, которая, несмотря на свою невинность, прочитала в чистых глазах Ансельма обожание, всегда лестное, каков бы ни был возраст, положение и внешность влюбленного. У маленького Попино было значительно больше оснований любить женщину, чем у какого-нибудь красивого мужчины. Женись он на красавице, он безумно любил бы ее до конца своих дней, любовь подогревала бы в нем честолюбие, он отдал бы жизнь ради счастья своей жены, он сделал бы ее полновластной хозяйкой в доме, он покорился бы ей. Так невольно думала Цезарина, хотя, быть может, и не так откровенно; она с высоты птичьего полета озирала жатву любви и рассуждала путем сравнений: счастье матери было у нее перед глазами, она для себя не желала иной жизни: инстинкт подсказывал ей, что в Ансельме она найдет второго Цезаря, усовершенствованного образованием, как и она сама. В мечтах она видела Ансельма мэром округа, а себя – собирающей пожертвования в своем приходе, как ее мать делала это в приходе св. Роха. В конце концов Цезарина перестала замечать разницу между левой и правой ногой Попино; она способна была спросить: «А разве он хромает?» Ей нравились его чистые глаза, и она с удовольствием следила, как волновал юношу ее взгляд: как он печально опускал взор, в котором загорался целомудренный огонь. Старший клерк Рогена, Александр Кротта, который вращался в деловой среде, приобрел преждевременную опытность и своими цинично-добродушными манерами отталкивал Цезарину, и без того уже возмущенную общими местами его рассуждений. Молчаливость Попино говорила о его кротком нраве, ей нравилась грустная улыбка, с какой он слушал избитые и пошлые разговоры, всегда вызывавшие у нее отвращение. Цезарина улыбалась или грустила, когда улыбался или грустил Попино. Душевное превосходство не мешало Ансельму усердно работать, и его неутомимое трудолюбие нравилось Цезарине: она догадывалась, что бедный, хромой, рыжий Ансельм не терял надежды добиться ее руки, хотя другие приказчики и говорили: «Цезарина выйдет замуж за старшего клерка господина Рогена». Великая надежда доказывает великую любовь.
– Куда он уходит? – спросила Цезарина отца, стараясь выказать безразличие.
– Он откроет свою торговлю на улице Сенк-Диаман! Да поможет ему бог! – ответил Бирото, и восклицание его не было понято ни матерью, ни дочерью.
Когда Бирото испытывал какое-либо затруднение нравственного свойства, он вел себя как насекомое перед препятствием: он обходил его с одной или с другой стороны; так и тут он переменил разговор, решив позднее поговорить с женой о Цезарине.
– Я рассказал дяде о твоих страхах и опасениях по поводу Рогена, он только рассмеялся, – заявил он Констанс.
– Никогда не передавай другим того, о чем мы говорим с тобой наедине, – возмутилась Констанс. – Бедняга Роген, возможно, честнейший в мире человек, ему пятьдесят восемь лет, и он, наверное, больше не думает о…
Она сразу замолкла, заметив, что Цезарина внимательно слушает, и взглядом указала Цезарю на дочь.
– Значит, я правильно поступил, заключив сделку, – заметил Бирото.
– На то ты и хозяин, – ответила она.
Такой ответ всегда выражал ее молчаливое согласие с планами мужа. Цезарь взял Констанс за руку и поцеловал ее в лоб.
– Вот что, – крикнул парфюмер, спускаясь вниз и обращаясь к приказчикам, – закрывайте лавку в десять часов. Вы все должны мне помочь! За ночь мы перенесем мебель со второго на третий этаж. Надо убрать все до последней вещи, чтобы, как говорится, очистить на завтра поле деятельности для архитектора. Попино ушел, не предупредив меня, – сказал Цезарь, не видя его. – Да, ведь он сегодня здесь не ночует, я и забыл. «Он отправился, подумал Цезарь, – записать замечания господина Воклена, а может быть, снять помещение для магазина».
– Мы знаем, хозяин, почему вы переделываете квартиру, – заявил Селестен от имени двух других приказчиков и Раге, стоявших за его спиной. – Позвольте нам, сударь, поздравить вас с честью, которая является честью для всех нас… Попино сказал нам, что вам, сударь…
– Да, голубчики, что скрывать, мне пожаловали орден. Так вот, я приглашаю друзей, чтобы отпраздновать освобождение Франции и отметить награждение меня орденом Почетного легиона. Быть может, я заслужил эту награду и монаршую милость, ведь я был членом коммерческого суда, я сражался за Бурбонов, которых я защищал… в вашем возрасте, тринадцатого вандемьера на ступенях церкви святого Роха… Черт побери, я был ранен Наполеоном, именуемым императором. Я был ранен в бедро, и госпожа Рагон делала мне перевязки. Будьте же отважны, и вас вознаградят. Видите, дети мои, нет худа без добра.
– На улицах больше сражаться не будут, – заметил Селестен.
– Надо надеяться, – сказал Бирото и, воспользовавшись случаем, произнес целую речь, а в заключение пригласил приказчиков на бал.
Перспектива бала воодушевила трех приказчиков, Раге и Виржини и придала им ловкость эквилибристов. Нагруженные мебелью, они сновали взад и вперед по лестницам, ничего не сломав, ничего не перевернув. К двум часам ночи все было закончено. Цезарь с женой легли спать на третьем этаже. В комнате Попино устроились Селестен и второй приказчик. Четвертый этаж на время превратили в мебельный склад.
Весь во власти неослабевающего нервного возбуждения, которое воспламеняет сердца честолюбцев и влюбленных, лелеющих великие замыслы, обычно мягкий и спокойный Попино после обеда не мог устоять на одном месте, словно породистая лошадь перед скачками.
– Что с тобой творится? – спросил его Селестен.
– Какой день выдался сегодня, дружище! Я начинаю самостоятельное дело, – сказал Попино на ухо Селестену, – а господин Бирото награжден орденом.
– Счастливец! Тебе помогает хозяин, – воскликнул Селестен.
Ничего не ответив, Попино исчез, словно увлекаемый буйным ветром, ветром успеха!
– Счастливец? – сказал приказчик, складывавший перчатки дюжинами, своему соседу, проверявшему этикетки. – Просто хозяин заметил, что Попино строит глазки мадмуазель Цезарине; ну, а хозяин-то наш хитер и решил отделаться от Ансельма. Отказать ему – неудобно, из-за родственников. А наш Селестен принимает эту хитрость за великодушие.
Ансельм Попино спустился по улице Сент-Оноре и помчался по улице Дез-Экю, чтобы встретиться с одним молодым человеком: чутье торговца подсказывало ему, что тот станет главным орудием его обогащения. Судья Попино некогда оказал услугу самому ловкому коммивояжеру Парижа, прозванному впоследствии за свое победоносное краснобайство и поразительную расторопность «Прославленным». Сбывая шляпки и парижские модные товары, этот будущий король коммивояжеров в ту пору именовался просто Годиссаром. В двадцать два года он уже выказал себя мастером пускать пыль в глаза. Худощавый, жизнерадостный, проворный, обладая блестящей памятью и столь важным в торговом деле умением уговаривать, он вполне заслуживал достигнутого им впоследствии титула «короля коммивояжеров»; он был истинным французом.
Несколько дней назад Попино, встретив Годиссара, узнал, что тот собирается в дорогу. Надеясь застать его еще в Париже, влюбленный бросился на улицу Дез-Экю, где узнал, что коммивояжер заказал себе место в почтовой карете. Перед тем как распрощаться с дорогой его сердцу столицей, Годиссар отправился посмотреть новую пьесу в театре Водевиль; Попино решил дождаться его. Поручить распространенно орехового масла этому прославленному мастеру рекламы, уже обласканному богатейшими торговыми фирмами, не значило ли это заручиться покровительством фортуны? Попино мог положиться на Годиссара. Коммивояжер, умевший так ловко опутывать самых неподатливых людей – мелких провинциальных торговцев, вдруг впутался в первый заговор против Бурбонов, раскрытый после Ста дней. Годиссара – эту вольную птицу – бросили в тюрьму, предъявили ему тяжелые обвинения. Судья Попино, который вел дело, прекратил следствие, признав, что Годиссар оказался замешанным в заговоре только по легкомыслию и опрометчивости. Будь на месте Попино судья, желавший выслужиться, или какой-нибудь ярый роялист, злосчастный коммивояжер угодил бы на эшафот. Годиссар понимал, что обязан следователю жизнью, и не знал, как выразить признательность своему спасителю. Не смея благодарить судью за правый суд, коммивояжер явился к Рагонам и заявил, что отныне он верный слуга всей семьи Попино.
В ожидании Годиссара, Ансельм, конечно, не преминул осмотреть лавку на улице Сенк-Диаман и узнать адрес владельца, чтобы заключить с ним договор. Попино бродил по темным закоулкам Центрального рынка, размышляя над тем, как добиться скорого успеха; на улице Обриле-Буше ему улыбнулся счастливый случай, предвещавший удачу, и ему захотелось поскорее обрадовать Бирото. Было около полуночи, когда Ансельм, стоявший на часах у «Коммерческой гостиницы», услышал еще издалека, с улицы Гренель, финальный куплет водевиля: то распевал Годиссар, аккомпанируя себе выразительным постукиванием трости по тротуару.
– Сударь, – сказал Ансельм, внезапно появляясь из-за ворот, – на два слова.
– Хоть на десять, – ответил коммивояжер, замахиваясь на мнимого грабителя тяжелой тростью.
– Это я, Попино, – проговорил перепуганный Ансельм.
– Прекрасно, – сказал Годиссар, узнавая его. – Что нужно вам? Денег? Деньги временно в отпуску, но мы их раздобудем. Участвовать в дуэли? Весь к вашим услугам.
И Годиссар запел:
Вот он, смотрите, Французский наш солдат.– Мне нужно было бы поговорить с вами. У вас в комнате нас могут подслушать, лучше пойдемте на набережную Орлож: в этот час там нет ни души, – сказал Попино. – Речь идет об очень серьезном деле.
– Раз это так спешно, идем!
Через десять минут Годиссар узнал тайну Попино и оценил ее значение.
– «Ко мне, цирюльники, торговцы, парфюмеры!» – закричал Годиссар, подражая Лафону в роли Сида.– Я приберу к рукам всех лавочников Франции и Наварры. Ого! идея! Я собирался уезжать, я задержусь и стану представителем парижских парфюмеров.
– Но для чего?
– Чтобы задушить ваших конкурентов, простак! Сделавшись представителем, я заставлю их захлебнуться своими эссенциями, подавиться своими коварными косметическими средствами, я буду восхвалять только ваше масло. Да! да! мы настоящие дипломаты торговли. Великолепно! Ну-с, вашим объявлением я займусь сам. У меня есть друг детства Андош Фино, сын торговца шляпами с улицы Дюкок, того самого старика, благодаря которому я стал коммивояжером. У Андоша – ума палата, он нахватал идеи из всех голов, украшенных шляпами его отца, он литератор, пишет о маленьких театриках в «Вестнике зрелищ». Отец его, старый пройдоха, терпеть не может умников, не верит в ум, и никак ему не втолкуешь, что умом торгуют, что ум приносит капиталы. Старик – круглый невежда по части ума. Он берет молодого Фино измором. Андош – человек способный, на то он мой друг, – с тупицами я имею дело лишь в торговле; так вот Фино составляет объявления для «Верного пастушка», и там ему платят; газеты же, на которые он работает, как каторжник, кормят его обещаниями. Какие там завистники! Все равно как в торговле модными парижскими изделиями. Фино написал чудесную одноактную комедию для знаменитой из знаменитых мадмуазель Марс, которую я действительно люблю! Ну, и что же, чтобы увидеть пьесу на сцене, он вынужден был отдать ее в театр Гетэ. Андош понимает толк в объявлениях, он проникается мыслями купца, он не гордец, он состряпает нам объявление бесплатно! Ей-богу, чашка пунша и пирожные – вот мы и в расчете. Шутки в сторону. Знайте, Попино, я не возьму ни комиссионных, ни проездных, – все оплатят ваши конкуренты, я их околпачу. Давайте договоримся сразу. Успех вашего масла – для меня дело чести. Наградой для меня будет удовольствие быть шафером у вас на свадьбе. Я отправляюсь в Италию, Германию, Англию, повезу с собой афиши на всех языках, расклею их повсюду, в деревнях, на дверях церквей, на всех заборах, какие я знаю в провинции! Оно заблестит, оно загорится, ваше масло, оно умаслит все головы! Свадьбу отпразднуете не на серебре, а на золоте. Вы станете мужем Цезарины, или не быть мне больше прославленным Годиссаром, как прозвал меня папаша Фино за то, что я создал успех его серым шляпам. Продавая ваше «Масло», я остаюсь верен себе, забочусь о человеческой голове; как известно, и масло и шляпы оберегают прическу.
Попино отправился к тетке, у которой должен был ночевать; упоенный грядущим успехом, он находился в таком возбуждении, что улицы, казалось ему, струились маслом. Спал он мало и видел во сне, что волосы его поразительно выросли, и два ангела, словно в мелодраме, развернули перед ним свиток с надписью: «Цезарево масло!» Проснувшись, он вспомнил этот сон и решил так и назвать ореховое масло, видя в этом предзнаменование свыше.
Цезарь и Попино явились на фабрику в предместье Тампль задолго до того, как туда привезли орехи; в ожидании возчиков г-жи Маду торжествующий Попино рассказал о дружественном договоре с Годиссаром.
– Прославленный Годиссар за нас. Быть нам миллионерами! – воскликнул парфюмер, протягивая руку своему кассиру с видом Людовика XIV. когда тот принимал маршала Вира после сражения при Денене.
– Это еще не все, – прибавил счастливый приказчик, доставая из кармана граненый флакончик в форме тыквы, – я нашел десять тысяч таких флаконов, совершенно готовых и отшлифованных, по четыре су за штуку, с рассрочкой платежа на шесть месяцев.
– Ансельм, – торжественно произнес Бирото, любуясь причудливой формой флакона, – вчера в Тюильри, – да, только вчера, – ты сказал мне: «Я добьюсь успеха». Сегодня же я сам говорю тебе: «Ты добьешься успеха!» Четыре су! шесть месяцев рассрочки! оригинальная форма! Не устоять «Макассару»! Вот это удар по «Макассару» так удар! Хорошо, что я скупил все орехи в Париже! Где ты нашел эти флаконы?
– Я бродил по улицам, поджидая Годиссара…
– Как и я когда-то, – перебил его Бирото.
– Иду я по улице Обри-ле-Буше и вижу в окне оптового торговца стеклянными изделиями и ящиками, владельца большого склада, этот флакон… Ах! он меня ослепил как яркий свет, какой-то голос крикнул мне: «Вот то, что тебе нужно!»
– Прирожденный купец! Быть ему мужем Цезарины, – проворчал себе под нос Цезарь.
– Вхожу и вижу тысячи таких флаконов в ящиках.
– Ты попросил показать их?
– Неужели вы считаете меня таким простофилей? – с горечью воскликнул Ансельм.
– Прирожденный купец! – повторил Бирото.
– Я спросил ящички для восковых фигурок Христа. Рассматривая ящички, я подсмеиваюсь над формой флаконов. Раззадорил купца, он постепенно разоткровенничался и признался, что Фай и Бушо, те самые, что недавно обанкротились, затевали выпустить какое-то косметическое средство и заказали флаконы причудливой формы; купец, не доверяя им, потребовал уплаты половины наличными; Фай и Бушо уплатили в надежде на успех; банкротство постигло их во время изготовления флаконов; конкурсное управление, по получении требования об уплате, пошло на мировую: купцу оставили флаконы и задаток, как возмещение расходов по изготовлению нелепого и не имеющего сбыта товара. Флаконы обошлись ему по восьми су, но он был бы рад-радехонек спустить их по четыре су: одному богу известно, сколько проваляются у него на складе эти никому не нужные флаконы. «Не согласитесь ли поставить десять тысяч флаконов по четыре су за штуку? Я бы тогда, пожалуй, избавил вас от этих флаконов; я приказчик господина Бирото». И вот я обхаживаю его, увлекаю, распаляю, подзадориваю – и добиваюсь своего.
– Четыре су! – воскликнул Бирото. – Знаешь, ведь мы можем продавать масло по три франка. Значит, будем зарабатывать по тридцать су на флаконе, оставляя двадцать су розничным торговцам.
– «Цезарево масло»! – воскликнул Попино.
– «Цезарево масло»? Ах, господин влюбленный, вы хотите польстить и отцу и дочери. Ладно, идет. Назовем его «Цезарево масло»! Цезари завоевали мир, они, верно, обладали львиной гривой.
– Цезарь был лысый, – пробормотал Попино.
– Потому, скажут клиенты, что он не пользовался нашим маслом! «Цезарево масло» за три франка. А «Макассарское масло» стоит в два раза дороже. Годиссар за нас; мы выручим сто тысяч франков за год, ибо каждому уважающему себя человеку продадим двенадцать флаконов в год. Это принесет нам по восемнадцать франков! Пусть таких голов наберется восемнадцать тысяч – стало быть, наживем сто восемьдесят тысяч франков. Да мы – миллионеры.
Когда доставили орехи, Раге, рабочие, Попино, Цезарь принялись их колоть, и уже к четырем часам было изготовлено несколько фунтов масла. Попино отправился показать его Воклену, и тот подарил Ансельму рецепт для смеси ореховой эссенции с более дешевыми маслами и духами. Попино тотчас же подал прошение о выдаче ему патента на изобретение и усовершенствование. Признательный Годиссар ссудил Попино деньгами для оплаты гербового сбора, ибо Ансельм во что бы то ни стало хотел участвовать на половинных началах в расходах фирмы.
Успех влечет за собой своего рода опьянение, люди заурядные не в силах ему противостоять. Последствия этого опьянения предугадать нетрудно. Явился Грендо и показал чудесный набросок красками будущей квартиры и ее меблировки. Восхищенный Бирото согласился на все. И тотчас застучали молотки каменщиков, застонал дом, застонала и Констанс. Богатый подрядчик по малярным работам Лурдуа обещал ничего не упустить и предложил украсить гостиную позолотой. Услышав это, Констанс вмешалась в разговор.
– Господин Лурдуа, – сказала она, – у вас тридцать тысяч франков ренты, вы живете в собственном доме, вы можете делать в нем все, что хотите, но мы…
– Сударыня, купечество должно блистать. Не давайте аристократам подавлять себя. Не забудьте, что господин Бирото представитель власти, он у всех на виду…
– Так-то так, но он еще занимается торговлей, – сказала Констанс, не смущаясь присутствием нескольких покупателей и приказчиков, слушавших этот разговор. – Ни я, ни он, ни его друзья, ни враги этого не забудут.
Бирото, заложив руки назад, приподнялся на носках и несколько раз упал на пятки.
– Жена права, – согласился он. – Мы будем скромны в благоденствии. Когда занимаешься торговлей, следует соблюдать умеренность в расходах, сдержанность в роскоши, – закон вменяет нам это в обязанность. Чрезмерные траты недопустимы. Если бы стоимость расширения квартиры, ее убранства перешла известные пределы, это было бы неблагоразумно с моей стороны, и вы сами осудили бы меня, Лурдуа. Я на виду у всего квартала, а люди, которые преуспевают, окружены завистниками и врагами! О! вы скоро сами убедитесь в этом, молодой человек, – сказал он Грендо. – На нас всегда клевещут, не дадим недоброжелателям повода злословить.
– Ни клевета, ни злословие не могут коснуться вас, – напыщенно проговорил Лурдуа, – вы на особом положении и обладаете столь богатым коммерческим опытом, что не можете поступать необдуманно: вы человек дошлый.
– Что верно, то верно, я кое-что смыслю в делах. Знаете, почему я решил расширить квартиру? Уж коли я связываю вас крупной неустойкой в случае запоздания с окончанием работы, так это потому…
– Не знаю.
– Так вот, жена и я, мы приглашаем друзей, чтобы отпраздновать освобождение Франции и отметить награждение меня орденом Почетного легиона.
– Что? что такое? Вам дали крест? – воскликнул Лурдуа.
– Да, быть может, я заслужил эту награду и монаршую милость, ведь я был членом коммерческого суда, я сражался за Бурбонов тринадцатого вандемьера на ступенях церкви святого Роха, был ранен Наполеоном. Милости прошу пожаловать с супругой и дочерью…
– Крайне признателен за оказанную честь, – сказал либерал Лурдуа. – Ну и хитрец же вы, папаша Бирото! Вы хотите быть уверенным, что я сдержу слово, и потому приглашаете меня. Ну, ладно, я возьму самых ловких мастеров, мы разведем адский огонь, чтобы высушить стены; применим особые способы просушки: нельзя же танцевать в сыром помещении. Мы покроем лаком стены и этим устраним всякий запах.
Через три дня все торговцы квартала были взволнованы известием о бале у Бирото. Впрочем, все сами могли видеть леса вокруг дома, необходимые для быстрого перемещения лестницы, деревянные прямоугольные желоба, по которым щебень и мусор сбрасывали в телеги, стоявшие около дома. Спешные работы производились при свете факелов, ибо рабочие трудились и днем и ночью, возбуждая любопытство бездельников и зевак на улице; сплетники, глядя на эти приготовления, предсказывали неслыханный по великолепию бал.
В воскресенье, когда должны были заключить сделку, супруги Рагон и дядя Пильеро пришли часа в четыре дня, после церковной службы. Из-за ремонта, объяснил Цезарь, он пригласил на этот день только Шарля Клапарона, Кротта и Рогена. Нотариус принес газету «Журналь де Деба», в которой по настоянию г-на де ла Биллардиера поместили следующую заметку:
«Нам сообщают, что освобождение страны от оккупации будет с восторгом отпраздновано по всей Франции. В Париже члены муниципалитета почувствовали, что пора вернуть столице тот блеск, который был неуместным во время оккупации. Мэры и помощники их предполагают дать балы; патриотическое их начинание найдет немало подражателей, и поэтому зимний сезон обещает быть блестящим. Среди подготовляемых празднеств много разговоров возбуждает бал у господина Бирото, пожалованного в кавалеры Почетного легиона и известного своей приверженностью королевскому дому. Господин Бирото, раненный 13 вандемьера на ступенях церкви св. Роха и один из наиболее уважаемых членов коммерческого суда, вдвойне заслужил эту милость».
– Как нынче хорошо пишут! – воскликнул Цезарь. – О нас заговорили в газетах, – сказал он Пильеро.
– И что же дальше? – ответил ему старик, который терпеть не мог «Журналь де Деба».
– Эта статья, пожалуй, поможет нам побольше сбыть «Крема султанши» и «Жидкого кармина», – тихо сказала г-же Рагон Констанс, не разделявшая восторгов мужа.
Госпожа Рагон, худощавая высокая женщина с морщинистым лицом, поджатыми губами и тонким носом, напоминала маркизу былых времен. Глаза ее были обведены темными кругами, как у многих старых женщин, переживших немало горя. Ее строгие и полные достоинства манеры, хотя и смягчались приветливостью, внушали глубокое почтение. В ней было что-то странное, привлекающее внимание, но не было ничего комического, все объяснялось ее осанкой и костюмом: она носила митенки, никогда не расставалась с высоким зонтиком, похожим на тот зонтик, с которым прогуливалась в Трианоне Мария-Антуанетта; платья ее, обычно светло-коричневого цвета, – так называемого цвета опавших листьев, – ложились какими-то особенными складками, секрет которых унесли с собой в могилу старые дамы былых времен. Она носила черную мантилью с черными кружевами в крупную квадратную клетку; чепцы старинного покроя окаймляли ее лицо сквозными прошивками и фестонами, напоминавшими ажурную резьбу изящной рамки. Она нюхала табак и поражала при этом своей опрятностью и грацией жестов, которые запоминались молодым людям, имевшим удовольствие наблюдать, как их бабушки и тетушки торжественно ставили возле себя на стол золотые табакерки и стряхивали крупинки табака с косынок.
Господин Рагон был маленький старичок, ростом не больше пяти футов, с лицом щелкунчика, на котором резко выделялись живые глаза, острые скулы, нос, подбородок; зубы он уже потерял, и потому половину его речей нельзя было понять; галантный и жеманный, он изливал потоки слов и не переставал любезно улыбаться, как некогда улыбался красавицам, которых случай приводил в его лавку. Напудренные, тщательно зачесанные волосы вырисовывали у него на черепе снежный полумесяц с вихрами у висков, а сзади заплетены были в перехваченную лентой косичку. Он носил василькового цвета фрак, белый жилет, шелковые панталоны и шелковые чулки, башмаки с золотыми пряжками и черные шелковые перчатки. Самой оригинальной его привычкой была привычка ходить по улицам с непокрытой головой, держа шляпу в руке. Он напоминал не то пристава палаты пэров, не то придверника кабинета короля, – словом, одного из тех людей, которые стоят так близко к власть имущим, что принимают на себя отблеск их сияния, сами пребывая в ничтожестве.
– Ну, Бирото, – сказал он внушительным тоном, – надеюсь, ты, милый мой, не раскаиваешься, что когда-то послушал нас? Разве мы когда-либо сомневались в благодарности наших возлюбленных монархов?
– Вы должны быть счастливы, голубушка, – сказала г-жа Рагон г-же Бирото.
– О да, – ответила прекрасная парфюмерша, которую всегда восхищали старинный зонтик г-жи Рагон, ее чепчики бабочкой, узкие рукава и широкая косынка.
– Цезарина прелестна. Подойди ко мне, милое дитя, – пронзительным голосом произнесла г-жа Рагон, покровительственно глядя на молодую девушку.
– Ну что, займемся до обеда делами? – спросил дядя Пильеро.
– Мы ожидаем господина Клапарона, – ответил Роген, – он одевался, когда я уходил от него.
– Господин Роген, – сказал Цезарь, – вы его, конечно, предупредили, что сегодня нам придется обедать в этой жалкой квартире?
– Шестнадцать лет тому назад он находил ее превосходной, – прошептала Констанс.
– …среди мусора, в окружении рабочих.
– Вы сами увидите, какой это простой и славный малый, – заметил Роген.
– Я поставил Раге сторожить в лавке, – через парадную дверь пройти уже нельзя, вы сами видели, она разрушена, – сказал Цезарь нотариусу.
– Отчего вы не привели с собой племянника? – спросил Пильеро г-жу Рагон.
– Он не придет? – спросила Цезарина.
– Нет, душенька, – ответила г-жа Рагон. – Ансельм, бедняжка, работает, точно каторжный. Меня пугает эта улица Сенк-Диаман, такая мрачная, без солнца, без воздуха; вода в канавах там всегда синяя, зеленая или черная. Загубит там Ансельм свое здоровье. Но когда молодые люди вобьют себе что-нибудь в голову!.. – сказала она Цезарине, жестом показывая, что в данном случае «голова» означает «сердце».
– Так он уже заключил контракт? – спросил Цезарь.
– Еще вчера, и даже скрепил его у нотариуса, – вставил Рагон. – Контракт удалось заключить на восемнадцать лет, но плату требуют вперед за полгода.
– Скажите, господин Рагон, довольны вы мною? – спросил парфюмер. – Я передал Ансельму секрет одного открытия… Словом…
– Мы хорошо знаем тебя, Цезарь, – ответил старичок Рагон, с теплым чувством пожимая руку Бирото.
Роген с беспокойством ожидал прихода Клапарона, манеры и речь которого могли испугать добропорядочных буржуа; он счел за лучшее подготовить умы.
– Вы сейчас познакомитесь с большим чудаком, – сказал он Рагону, Пильеро и дамам, – человеком с очень дурными манерами, но с замечательными способностями, – он выбился из низов лишь благодаря своему уму. Вращаясь в кругу банкиров, он, несомненно, научится приличному обращению. Вы можете встретить его на бульваре или в кафе пьяного, растрепанного, играющего на биллиарде; по виду он отчаянный кутила. И что же? слоняясь по городу, он изучает, обдумывает в это время, как оживить промышленность, оплодотворить ее новыми изобретениями.
– Я это прекрасно понимаю! – воскликнул Бирото. – Самые блестящие мысли приходили мне в голову, когда я бродил по улицам. Ведь так, моя кошечка?
– Время, потерянное днем на поиски и комбинации, Клапарон наверстывает ночью, – продолжал Рагон. – Все талантливые люди ведут странную, просто непостижимую жизнь. И несмотря на такую безалаберность, Клапарон добивается своего, я сам тому свидетель; это он взял измором владельцев наших участков, – они сначала противились, кое в чем сомневались, он их обвел вокруг пальца, изо дня в день выматывал из них душу, и вот – мы заполучили участки.
Характерное «брум, брум», сиплое покашливание, свойственное любителям пропустить стаканчик водки или крепкого ликера, возвестило о появлении самого нелепого персонажа этой истории, оказавшегося впоследствии вершителем судьбы Цезаря Бирото. Парфюмер бросился к узкой, темной лестнице, чтобы велеть Раге закрыть лавку, и поспешил извиниться перед Клапароном, что принимает его в своей прежней столовой, на антресолях.
– Да что там! Мы здесь великолепно полопа… Я хочу сказать, покончим наше дельце.
Как ни старался Роген, но добропорядочные буржуа, супруги Рагон, наблюдательный Пильеро, Цезарина и ее мать в первую минуту были весьма неприятно поражены манерами мнимого «банкира высокого полета».
В двадцать восемь лет этот бывший коммивояжер совершенно облысел и носил парик в мелких завитушках. Однако кудряшки хороши только при девственной свежести лица, молочной белизне кожи, очаровательной женственной грации; а тут они лишь подчеркивали безобразие прыщеватого кирпично-красного лица, обветренного, как у кучера дилижанса; глубокие уродливые складки преждевременных морщин выдавали разгульную жизнь, злоключения которой подтверждали гнилые зубы и угри, испещрившие шершавую кожу. Клапарон напоминал чванливого провинциального актера, выступающего в любых ролях: на истасканной физиономии не держатся больше румяна, и перед вами – лицедей, изнуренный излишествами, с отвисшей губой, с бесстыдным взглядом и развязными манерами; даже совершенно пьяный, он, однако, способен молоть всякий вздор. На физиономии Клапарона как будто еще играли отблески веселого пламени пунша, и ее никак нельзя было назвать лицом делового человека. Ему немало пришлось потрудиться перед зеркалом, чтобы усвоить осанку, соответствующую высокому положению. Дю Тийе присутствовал при сборах Клапарона, волнуясь, как директор театра за дебют своего лучшего актера; он опасался, как бы грубые привычки бесшабашной богемы не выдали истинную сущность мнимого банкира.
– Говори поменьше, – советовал он Клапарону. – Никогда банкир не станет болтать: он действует, думает, размышляет, слушает и взвешивает. Если хочешь, чтобы тебя приняли за банкира, помалкивай или говори о чем-нибудь незначительном. Постарайся, чтобы в глазах у тебя не прыгали чертики, придай важность взгляду; на худой конец сойдешь за глупца, и только. Разговаривая о политике, стой за правительство и отделывайся общими фразами вроде таких изречений: Бюджет обременителен. Соглашения между партиями невозможны. Либералы опасны. Бурбоны должны избегать всяческих осложнений. Либерализм не что иное, как ширма, за которой приходят к полюбовному соглашению. Бурбоны создадут нам эру благоденствия. Мы обязаны если не любить, то поддерживать их. Хватит с Франции политических опытов, и тому подобное. Не налегай на еду, не забывай, что ты должен соблюдать достоинство миллионера. Нюхая табак, не дергай носом, как инвалид; поиграй табакеркой, прежде чем ответить, опусти глаза или возведи их к потолку, – словом, постарайся придать себе глубокомысленный вид. Но главное, брось ты свою скверную привычку все трогать руками. В свете банкир скрывает свою мертвую хватку под личиной усталости. Помни, ты ночи напролет проводишь за работой, ты одурел от расчетов. Ведь чтобы начать какое-либо дело, надо столько собрать сведений, надо столько размышлять! Побольше жалуйся на дела. Дела, мол. обременительны, тяжелы, сложны, затруднительны. Говори только об этом, не вдавайся в подробности. Не вздумай распевать за столом песенки Беранже и пей поменьше. Если напьешься, погубишь свою карьеру. Роген будет следить за тобой; ты очутишься в обществе глубоко нравственных людей, добродетельных буржуа, смотри не отпусти какую-нибудь кабацкую шуточку: всех перепугаешь.
Внушения дю Тийе оказали на ум Шарля Клапарона примерно такое же действие, как новый костюм – на его манеру держаться. Беспечный гуляка привык к удобной и затасканной одежде, которая не стесняла его движений, как слова не стесняли его мыслей: он чувствовал себя связанным в новом костюме, доставленном с запозданием, а потому надетом им сегодня впервые; он держался навытяжку, как солдат на параде, боялся сделать лишнее движение, сказать что-нибудь лишнее, быстро отдергивал руку, потянувшись за бутылкой или какой-нибудь закуской, обрывал фразу на полуслове и привлек внимание Пильеро этим смехотворным разладом с самим собой. Красное лицо Клапарона и его парик в мелких кудряшках не соответствовали его манерам, как его мысли – словам. Но добродушные буржуа решили под конец, что все эти странности объясняются озабоченностью банкира.
– У него столько дел, – повторял Роген.
– Дела не научили его, однако, правилам приличия, – съязвила г-жа Рагон, обращаясь к Цезарине.
Роген, услышав эту фразу, приложил палец к губам.
– Он богат, ловок, поразительно честен, – сказал он, наклонившись к г-же Рагон.
– За такие достоинства ему можно многое простить, – заметил Пильеро.
– Ознакомимся с договором перед обедом, – предложил Роген, – мы здесь одни, никого из посторонних нет.
Госпожа Рагон, Цезарина и Констанс вышли из комнаты, оставив компаньонов – Пильеро, Рагона, Цезаря, Рогена и Клапарона; Александр Кротта зачитал арендный договор. Цезарь подписал обязательство на сорок тысяч франков на имя одного из клиентов Рогена, обеспечивая это обязательство своими земельными участками и фабрикой в предместье Тампль; он передал Рогену без расписки банковский чек Пильеро и на двадцать тысяч франков векселей из своего портфеля; кроме того, он выдал на сто сорок тысяч франков векселей приказу Клапарона.
– Мне незачем выдавать вам расписку, – сказал Клапарон, – вы, как и мы, связаны с господином Рогеном. Продавцы участков получат деньги от него, я обязуюсь только раздобыть недостающие вам для покупки сто сорок тысяч франков – под эти ваши векселя.
– Правильно, – подтвердил Пильеро.
– Ну что ж, господа, не пригласить ли наших дам, без них как-то холодно? – предложил Клапарон и посмотрел на Рогена, словно спрашивая его, не слишком ли это вольная шутка.
– Милостивые государыни!.. О, барышня, конечно, ваша дочь, – воскликнул Клапарон, выпрямившись и посмотрев на Бирото. – Ну, вы, видно, охулки на руку не положите. Она лучше всех роз, которые вы перегоняете на духи, и, может быть, именно потому, что вы перегоняете розы…
– Признаюсь, – перебил его Роген, – я проголодался.
– Превосходно, давайте обедать, – сказал Бирото.
– Итак, мы обедаем, так сказать, в присутствии нотариуса, – напыщенно заявил Клапарон.
– У вас, видно, много дел, – сказал Пильеро, намеренно садясь за стол рядом с Клапароном.
– Чрезвычайно много, просто сотни, – ответил банкир, – и все такие трудные, запутанные, особенно каналы. Ох! уж эти мне каналы! Вы представить себе не можете, сколько хлопот связано с каналами! Но это понятно. Правительство хочет строить каналы. В каналах обычно больше всего заинтересована провинция, но они важны и для всей торговли, сами понимаете! Реки, сказал Паскаль, – это движущиеся дороги. Нам нужны рынки. Рынки зависят от дорог, а дороги сплошь и рядом никуда не годны, необходимо проделать огромные земляные работы, земляные работы прокормят неимущих; следовательно, необходимы займы, которые в конечном итоге полезны бедноте! Вольтер сказал: «Каналы, канарейки, канальи!» Но у правительства на службе инженеры, ему не так-то легко втереть очки, разве только столковаться с ними, а тут еще палата… Ах, сударь, сколько затруднений причиняет нам палата! Там не желают понять, что за вопросами финансовыми скрываются вопросы политические. Везде наталкиваешься на недобросовестность. Поверите ли? Вот, например, Келлеры… Франсуа Келлер – оратор, он громит правительство и по поводу финансов, и по поводу каналов. Вернувшись домой, этот молодчик выслушивает наши предложения, и они ему нравятся, но теперь нужно договариваться с тем самым правительством, на которое он только что нападал. Интересы оратора и банкира сталкиваются, и мы – меж двух огней! Понимаете теперь, почему так тернист наш путь? Ведь надо всех ублажать: и чиновников, и слуг сановников, и депутатов, и министров…
– Министров? – переспросил Пильеро, твердо решивший раскусить этого компаньона.
– Да, сударь, министров.
– Выходит, газеты правы, – заметил Пильеро.
– Ну, вот! Дядя уже увлекся политикой, – сказал Бирото, – господин Клапарон подливает масла в огонь.
– А еще эти проклятые болтуны-газетчики, – продолжал Клапарон. – Сударь, газеты все осложняют; иной раз они и оказывают нам услуги, но сколько раз они заставляли меня работать ночи напролет; я предпочел бы провести эти ночи иначе; в результате я испортил себе глаза, столько пришлось читать и подсчитывать.
– Однако вернемся к министрам, – не унимался Пильеро, надеясь услышать какие-нибудь разоблачения.
– Министры предъявляют поистине правительственные требования. Но что это за блюдо? Амброзия! – прервал себя Клапарон. – Вот соус так соус! Только в порядочном доме его и попробуешь, никогда в кабаке…
При этом слове цветы на чепчике г-жи Рагон подпрыгнули, словно барашки. Клапарон понял, что попал впросак, и захотел поправиться.
– В высших финансовых сферах, – пояснил он, – кабаками называют шикарные модные рестораны – Вери, «Провансальские братья». Так вот, ни жалкие кабатчики, ни наши ученые повара никогда не подадут вам такой нежный соус, – одни потчуют вас водицей с лимонным соком, а другие – химическими растворами.
Весь обед прошел в тщетных попытках Пильеро прощупать Клапарона; старик ничего не обнаружил и счел его за человека опасного.
– Все идет отлично, – шепнул Роген Клапарону.
– Ах! я обязательно переоденусь вечером, – пробормотал Клапарон, – я задыхаюсь.
– Сударь, – обратился к нему Бирото, – нам пришлось превратить столовую в гостиную, ибо через две с половиной недели мы приглашаем друзей, чтобы отпраздновать освобождение Франции и…
– Прекрасно, сударь; я сам предан правительству. Я придерживаюсь принципов status quo, которые применяет великий человек, вершитель судеб австрийского королевского дома. Вот уж действительно молодчина! Сохранять, чтобы приобретать, и главное – приобретать, чтобы сохранять… Всецело разделяю мнение князя Меттерниха и горжусь этим!..
– …И отметить награждение меня орденом Почетного легиона, – продолжал Цезарь.
– Да, да, я знаю. Кто мне говорил об этом? Келлеры или Нусинген?
У Рогена, пораженного таким апломбом, вырвался жест восхищения.
– Ах, нет, я слышал об этом в палате.
– В палате, от господина де ла Биллардиера? – спросил Цезарь.
– Совершенно верно.
– Он очень мил, – шепнул Цезарь дяде.
– Так и сыплет фразами, – возразил Пильеро, – в них, чего доброго, захлебнешься.
– Быть может, я заслужил эту награду… – начал снова Бирото.
– Своими трудами в парфюмерном деле, – вставил Клапарон. – Бурбоны умеют вознаграждать по заслугам. Будем преданы нашим великодушным законным монархам, которые принесут нам неслыханное благоденствие… Поверьте мне, Реставрация понимает, что ей надлежит состязаться с Империей; она совершит мирные завоевания, и все мы будем свидетелями этих завоеваний!
– Сударь, вы, конечно, окажете нам честь пожаловать на наш бал, – сказала г-жа Бирото.
– Ради счастья провести у вас вечер, сударыня, я готов отказаться от миллионов.
– Он действительно отчаянный болтун, – сказал Цезарь дяде.
Меж тем как Бирото, славнейший из парфюмеров, собирался блеснуть в последний раз перед своим закатом, на торговом горизонте робко восходила новая звезда. Юный Попино в этот час закладывал на улице Сенк-Диаман основы своего благосостояния. Улица Сенк-Диаман, небольшая узенькая улица, по которой с трудом проезжают ломовые телеги, одним концом упирается в Ломбардскую улицу, а другим, как раз напротив улицы Обриле-Буше, – выходит на улицу Кенкампуа, славную улицу старого Парижа, столь известную в истории Франции. Несмотря на все неудобства, улицу Сенк-Диаман облюбовали аптекарские и москательные торговцы; таким образом выбор Ансельма Попино был удачен.
В доме, где он обосновался, втором от угла Ломбардской улицы, было настолько темно, что иной раз среди бела дня приходилось зажигать лампы. Начинающий купец накануне вечером вступил во владение этим на редкость грязным и неприглядным помещением. Его предшественник, торговец патокой и сахарным сиропом, оставил следы своей торговли всюду – на стенах, в складах, во дворе. Вообразите большую просторную лавку, тяжелые двери, выкрашенные зеленой краской, обитые железными полосами и испещренные головками крупных гвоздей, похожими на шляпки грибов; окна забраны выгнутыми снизу массивными железными решетками, как в старых булочных, пол выложен большими белыми плитами, частью разбитыми, стены желтые и голые, как в казарме. Кроме того – помещение за лавкой и кухня с окнами во двор; во дворе находился второй склад, который когда-то был, вероятно, конюшней. Внутренняя лестница вела из помещения за лавкой наверх, где были расположены две комнаты с окнами на улицу; здесь Попино намеревался устроить кассу, свой кабинет и контору. Над складом, примыкавшим к стене соседнего дома, были три узкие комнаты с окнами во двор; в них Попино и собирался поселиться. Из окон этих запущенных комнат виден был только темный в закоулках двор, окруженный со всех сторон стенами, которые от сырости даже в самую сухую погоду казались свежевыкрашенными; во дворе между булыжниками застоялась черная зловонная грязь, смешанная с патокой и сахарным сиропом. Только в одной комнате имелся камин; все три даже не были оклеены обоями, пол был выложен каменными плитками.
С раннего утра Годиссар и Попино с помощью маляра, которого разыскал где-то коммивояжер, оклеивали дешевыми обоями отвратительную комнату, где маляр предварительно побелил потолок. Обстановку ее составляли узкая кровать красного дерева, жалкий ночной столик, старинный комод, стол, два кресла и полдюжины стульев – подарок судьи Попино племяннику. Годиссар украсил камин купленным по случаю зеркалом с мутным стеклом. В восьмом часу вечера, усевшись у камина, в котором пылала охапка дров, друзья собрались поужинать остатками завтрака.
– Долой холодную баранину! Она не годится для новоселья, – воскликнул Годиссар.
– Увы! – пробормотал Попино, показывая единственную монету в двадцать франков, которую он берег для оплаты объявления. – Я…
– А у меня… – ответил Годиссар, приставляя к глазу, как монокль, монету в сорок франков.
В эту минуту послышались удары молотка во дворе, пустынном и тихом в воскресные дни, когда все рабочие покидают мастерские и расходятся по домам.
– Вот мой верный слуга с улицы Потри. Видите, – продолжал прославленный Годиссар, – важнее не «я», а «у меня»!
И правда, официант из ресторана и два поваренка принесли в трех корзинках обед и шесть бутылок вина, выбранного со знанием дела.
– Да разве мы справимся со всеми этими яствами? – спросил Попино.
– А наш литератор? – воскликнул Годиссар. – Фино любит пиршества и суету сует, наивное вы дитя. Он явится со сногсшибательным проспектом. Хорошее словечко, а? Ну, а проспекты всегда жаждут. Хочешь получить цветы, поливай посеянные семена. Удалитесь, рабы, – рисуясь, сказал он поварятам, – вот золото.
И жестом, достойным Наполеона, своего кумира, он протянул им десять су.
– Спасибо, господин Годиссар, – ответили поварята, более довольные шуткой, чем деньгами.
– Ты же, сын мой, – сказал он лакею, который остался прислуживать, – разыщи привратницу. Она живет в глубине пещеры, там иногда она стряпает, ради отдохновения, подобно тому как некогда Навзикая стирала белье. Предстань пред ней, преклони колена пред ее чистотой и упроси ее подогреть эти блюда. Скажи ей, что за это ее будет благословлять, а главное – уважать, глубоко уважать, Феликс Годиссар, сын Жака-Франсуа Годиссара, внук Годиссара, потомок многих Годиссаров, презираемых плебеев, его предков. Ступай, и да сопутствует тебе удача, не то получишь такую взбучку, что своих не узнаешь.
Снова раздался удар молотка.
– Вот и остроумец Андош! – возвестил Годиссар.
Вошел толстый, с пухлыми щеками молодой человек среднего роста, сын шляпочника с головы до пят, с расплывчатыми чертами лица, скрывавшими хитрость под маской степенности. Печальное, как у всякого истомленного нуждой человека, лицо его приняло веселое выражение при виде накрытого стола и бутылок с красноречивыми этикетками.
В ответ на возглас Годиссара бледно-голубые глаза его засверкали, он покачал своей огромной головой с калмыцким носом и обернулся к друзьям; с Попино он поздоровался как-то особенно, без заискивания и даже без малейшей почтительности, – как человек, который чувствует себя не на своем месте и не согласен ни на какие уступки. К этому времени Фино уже начинал понимать, что не обладает ни в какой мере литературным талантом, и подумывал о том, чтобы утвердиться в литературном мире иным путем: в роли эксплуататора способностей одаренных людей и делать дела, вместо того чтобы писать плохо оплачиваемые произведения. Как раз в эту пору, убедившись в том, что смиренными просьбами и самоунижением ничего не добьешься, он решил, подобно крупным финансистам, резко изменить курс и усвоить наглые манеры. Он нуждался для начала карьеры в средствах. Годиссар указал ему на возможность нажить деньги, продвигая масло Попино.
– Договаривайтесь за его счет с газетами, но не надувайте Ансельма, иначе я вам враг не на живот, а на смерть. Пусть его деньги даром не пропадут!
Попино с тревогой поглядывал на «сочинителя». Торговый люд смотрит на писателей со смешанным чувством боязни, жалости и любопытства. Хотя Попино получил хорошее образование, но взгляды и предрассудки его родственников, притупляющая ум работа в лавке и кассе сказались на его взглядах, подчинив их нравам и обычаям среды; подобное явление можно наблюдать, следя за изменениями, происходящими за десять лет с сотней школьных товарищей, мысливших примерно одинаково при окончании коллежа или пансиона. Андош принял растерянность Попино за глубокое восхищение.
– Давайте-ка до обеда обсудим как следует проспект, а потом отложим все заботы и выпьем, – предложил Годиссар. – На сытый желудок читать трудненько. Язык ведь тоже участвует в пищеварении.
– Сударь, – сказал Попино, – иной раз проспект – это целое богатство.
– А для такого бедняка, как я, богатство только в проспекте.
– Здорово сказано! – восхитился Годиссар. – У нашего шутника Андоша остроумия хватит на сорок человек.
– На сто, – воскликнул Попино, ошеломленный шуткой Фино.
Нетерпеливый Годиссар схватил рукопись и прочитал громко и напыщенно:
– «Кефалическое масло»!
– Я предпочел бы «Цезарево» или «Кесарево масло», – вставил Попино.
– Друг мой, – возразил Годиссар, – ты не знаешь провинциалов: существует хирургическая операция под этим названием, и провинциалы так глупы, что примут твое масло за родовспомогательное средство. А тогда попробуй докажи им, что они ошибаются.
– Не настаиваю, – заметил автор проспекта, – только позвольте заметить, что «Кефалическое масло» в переводе значит «масло для головы», – и, следовательно, это название вполне выражает вашу мысль.
– Посмотрим, – с нетерпением сказал Попино.
Вот этот проспект, который до сих пор рассылается повсюду в десятках тысяч экземпляров. (Второй исторический документ.)
«КЕФАЛИЧЕСКОЕ МАСЛО»
Золотая медаль на выставке 1827 г.
Патент на изобретение
и усовершенствование
Никакое косметическое средство не способствует росту волос, равно как химический красящий препарат не остается безвредным для вместилища разума. Наука открыла недавно, что волосы представляют собой мертвое вещество и никакими средствами нельзя приостановить ни их выпадения, ни седины. Чтобы предотвратить высыхание волос и облысение, достаточно предохранять корни волос от внешнего влияния воздуха и поддерживать свойственную голове температуру. На основании принципов, установленных Академией наук, и было изготовлено «Кефалическое масло», способствующее сохранению волос, к чему стремились уже древние римляне, греки и северные народы, дорожившие богатой шевелюрой. Исследования ученых доказали, что представители знати, которые раньше отличались длинными волосами, не употребляли никакого иного средства: был только утрачен способ изготовления масла, ныне искусно восстановленный А. Попино, изобретателем «Кефалического масла».
Сохранять волосы, вместо того чтобы добиваться невозможного или вредного на них воздействия, – таково назначение «Кефалического масла». Масло это, препятствующее образованию перхоти, обладает приятным запахом благодаря своему составу, в основу которого положена ореховая эссенция; предохраняя голову от воздействия окружающего воздуха, оно таким образом предупреждает простуду, насморки и всякого рода болезненные явления, вредные для головного мозга. Таким образом, корни волос, содержащие питательную влагу, никогда не подвергаются действию ни холода, ни жары. Волосы – это великолепное украшение, которым так дорожат мужчины и женщины, – у лиц, употребляющих наше масло, сохраняют вплоть до преклонных лет блеск, тонкость, глянец, придающие такую прелесть детским головкам.
Способ употребления напечатан на обертке каждого флакона.
Совершенно бесполезно намазывать маслом волосы; это не только смешной предрассудок, но и неудобная привычка, ибо масло всюду оставляет следы. Достаточно каждое утро, расчесав предварительно волосы щеткой и гребнем, обмакнуть в масло небольшую мягкую губочку и постепенно, разделяя волосы на пряди, смазывать их у корней так, чтобы кожа была покрыта тонким слоем масла.
«Кефалическое масло» продается во флаконах, снабженных подписью изобретателя во избежание подделки. Цена – три франка за флакон. Обращаться к господину А. Попино, улица Сенк-Диаман, Ломбардский квартал – Париж.
Покорнейше просим оплачивать почтовые расходы.
Примечание – Торговый дом «Попино и К°» поставляет также аптечные масла: померанцевое, лавандовое, миндальное, масло какао, кофейное, касторовое и другие».
– Дорогой друг, – сказал прославленный Годиссар, улыбаясь Фино, – написано великолепно. Черт побери! Здорово мы ударились в науку! Мы не виляем, берем быка за рога. Ах! Я вас от души поздравляю. Вот это – полезная литература.
– Изумительный проспект! – с восторгом воскликнул Попино.
– Проспект с первого же слова губит «Макассарское масло», – заявил Годиссар и, встав с важным видом, произнес, отчеканивая каждое слово и подкрепляя его жестами парламентского оратора: «Ничто не способствует – росту – волос! Нет – безвредной – краски – для – волос!» О, о, вот в чем залог успеха: современная наука не опровергает обычаев древних. Убедительно и для старых, и для молодых. Старику вы скажете: «Да, да, сударь, древние греки и римляне были правы, не так-то уж они были глупы, как некоторые думают». А молодому человеку заявите: «Милый юноша, вот еще новое открытие, которым мы обязаны просвещению, мы движемся вперед! Чего только не даст нам еще пар, разные там телеграфы и прочие открытия. Это масло – результат исследований господина Воклена!» А не напечатать ли нам выдержку из сообщения господина Воклена в Академии наук, подтверждающую наши заверения! Вот будет замечательно! А сейчас, Фино, за стол! Закусим и выпьем на славу! Осушим бокал шампанского за успех нашего Попино!
– Мне думается, – скромно сказал автор, – что время легкомысленных и шутливых проспектов миновало; мы вступаем в эру науки, – необходим докторальный, авторитетный тон, иначе не завоюешь публику.
– Вспрыснем же это масло. Язык у меня так и чешется, руки зудят, – я стану представителем всех, кто возится с волосами. Никто из них не дает больше тридцати процентов скидки, надо пойти на сорок процентов, и я берусь продать сто тысяч флаконов в полгода. Я атакую аптекарей и москательщиков, бакалейщиков и парикмахеров, и за сорок процентов они околпачат своих покупателей.
Молодые люди ели, как львы, пили, как мушкетеры, и опьянялись будущим успехом «Кефалического масла».
– Это масло крепко ударяет в голову! – со смехом воскликнул Фино.
Годиссар исчерпал все возможные каламбуры со словами «масло», «волосы», «голова». За десертом среди взрывов гомерического хохота три приятеля, несмотря на тосты и взаимные пожелания всяческого благополучия, расслышали удары дверного молотка.
– Верно, дядя надумал прийти навестить меня! – воскликнул Попино.
– Дядя? – сказал Фино. – А у нас даже нет лишнего стакана!
– Дядя моего друга Попино – судья, – пояснил Годиссар Андошу Фино. – Не вздумай подтрунивать над ним, он спас мне жизнь. Ах, кто побывал в моем положении, лицом к лицу с гильотиной, когда – «чик, и прощай шевелюра!», – прибавил он, жестом изображая движение рокового ножа, – тот вечно будет помнить почтенного следователя, сохранившего ему глотку для шампанского! Даже мертвецки пьяный, он не забудет своего спасителя. Да и ты, Фино, не зарекайся. Может, и тебе понадобится когда-либо господин Попино. Черт побери! не будем же скупиться на поклоны.
«Почтенный следователь» действительно справлялся у привратницы о племяннике. Узнав его голос, Ансельм, чтобы посветить ему, спустился вниз со свечой в руке.
– Здравствуйте, господа, – сказал судья.
Прославленный Годиссар низко поклонился. Фино вперил в судью пьяный взор и нашел его простоватым.
– Здесь не роскошно, – заметил судья, окидывая взглядом комнату. – Ничего, дитя мое, хочешь стать большим человеком – начинай с малого.
– Какой глубокий ум! – шепнул Годиссар Андошу.
– Фраза из газетной статьи! – ответил журналист.
– А! Это вы, сударь! – сказал судья, узнав коммивояжера. – Какими судьбами?
– Сударь, я по мере своих слабых сил хочу способствовать преуспеянию вашего любезного племянника. Мы только что обсуждали проспект, прославляющий его масло, а вот перед вами и автор этого проспекта, который представляется мне лучшим образцом, так сказать, парикмахерской литературы.
Судья взглянул на Фино.
– Сударь, – продолжал Годиссар, – позвольте представить вам господина Андоша Фино, одного из самых выдающихся молодых литераторов, он пишет в правительственных газетах и о высокой политике, и о маленьких театрах. Пока он – орудие в руках других, но будет и сам вершить чужие судьбы.
Фино дернул Годиссара за полу сюртука.
– Отлично, дети мои, – сказал судья, которому остатки невинного пиршества на столе объяснили эти слова. – Дружок, – обратился он к Ансельму, – переоденься, мы сейчас отправимся к господину Бирото, я должен отдать ему визит. Вы с ним подпишете товарищеский договор, я внимательно все обдумал. Фабрика, изготовляющая масло, находится на принадлежащей ему земле в предместье Тампль, и, я полагаю, Бирото должен передать тебе ее в аренду, позднее могут объявиться наследники; когда хорошо обо всем договоришься, недоразумений не бывает. Стены здесь, по-моему, сырые; повесь циновки над кроватью, Ансельм.
– Видите ли, господин судья, – заговорил Годиссар с вкрадчивостью придворного, – мы сегодня сами оклеивали стены обоями, они… еще… не просохли.
– Похвальная бережливость, – одобрил судья.
– Послушай, – шепнул Годиссар на ухо Фино, – мой друг Попино добродетельный молодой человек, он проведет вечер с дядюшкой, а мы отправимся к кузиночкам.
Журналист вывернул наизнанку жилетный карман. Попино понял его жест и сунул двадцать франков автору проспекта.
Судью поджидал на углу фиакр, и старик повез племянника к Бирото. Когда они прибыли к Бирото, г-н Пильеро, супруги Рагон и Роген играли в бостон, а Цезарина вышивала косынку. Роген, сидевший напротив г-жи Рагон и Цезарины, заметил, как обрадовалась девушка приходу Ансельма, как щеки ее зарделись, словно спелый гранат, и подмигнул своему старшему клерку.
– Видно, нам сегодня суждено только и делать, что подписывать акты, – заметил парфюмер, когда судья, поздоровавшись, объяснил цель своего визита.
Цезарь, Ансельм и судья поднялись на третий этаж, во временную спальню парфюмера, обсудить условия аренды фабрики и товарищеский договор, составленный стариком Попино. Договор на аренду заключили на восемнадцать лет, соответственно сроку найма помещения на улице Сенк-Диаман, – обстоятельство это, казалось бы малозначительное, позднее послужило на пользу Бирото. Когда Цезарь и судья спустились вниз, старик Попино, удивленный разгромом, царившим в квартире, и присутствием рабочих в воскресный день в доме столь религиозного человека, как Бирото, попросил объяснить ему, что тут творится. Парфюмер только того и ждал.
– Хотя вы и не поклонник светских удовольствий, вы, надеюсь, не осудите нас за то, что мы собираемся отпраздновать освобождение Франции. Но это еще не все. Я приглашаю друзей также и для того, чтобы отметить награждение меня орденом Почетного легиона.
– А! – протянул судья, не имевший ордена.
– Быть может, я заслужил эту награду и монаршую милость, ведь я был членом суда… коммерческого, конечно, и сражался за Бурбонов тринадцатого вандемьера на ступенях…
– Да, знаю, знаю, – проговорил судья.
– …церкви святого Роха, там я был ранен Наполеоном. Надеюсь…
– Охотно приду, – сказал судья. – Если жена будет здорова, я приду с ней.
– Ксандро, – сказал, уходя, Роген своему клерку, – ты и думать перестань о женитьбе на Цезарине. Месяца через полтора оценишь мой добрый совет.
– Почему? – спросил Кротта.
– Бирото собирается истратить тысяч сто на бал, да еще, вопреки моим советам, вкладывает все свое состояние в спекуляцию земельными участками. Через полтора месяца эти люди останутся без куска хлеба. Женись-ка лучше, мой милый, на мадмуазель Лурдуа, дочери подрядчика малярных работ. У нее триста тысяч франков приданого; я приберег для тебя этот выход. Отсчитай мне всего лишь сто тысяч франков, и завтра же можешь получить мою контору.
О великолепном бале, затеваемом парфюмером, газеты протрубили на всю Европу, купечество же узнало о нем совсем иным путем, – по толкам, вызванным ночными работами. Утверждали, что Цезарь Бирото снял три дома, что залы у него будут раззолочены, что к обеду подадут специально по этому случаю изобретенные блюда; одни рассказывали, что купцов на бал не пригласят, что праздник дается лишь для представителей власти; другие строго осуждали честолюбие парфюмера, высмеивали его политические претензии, некоторые даже сомневались, был ли он когда-либо ранен. Немало интриг породил бал во втором округе; друзья не надоедали Бирото, но люди едва знакомые с парфюмером не считались ни с чем в своих притязаниях. Всякое благополучие порождает льстецов. Нашлось немало лиц, которые всеми средствами добивались приглашения. Супруги Бирото были напуганы количеством дотоле неизвестных им друзей. Эта жажда попасть на бал испугала г-жу Бирото, она становилась все мрачнее и мрачнее с приближением дня торжества. Констанс призналась Цезарю, что не знает, как ей себя держать, ее страшили бесчисленные мелочи подобного празднества: где раздобыть серебро, хрусталь, прохладительные напитки, посуду, слуг? И кто будет за всем следить? Она просила Бирото встречать гостей у дверей и впускать только приглашенных, ибо наслушалась странных историй о людях, являвшихся на балы в буржуазные дома и ссылавшихся на каких-то друзей, имена которых они не могли назвать.
За десять дней до знаменательного воскресенья 17 декабря Брашон, Грендо, Лурдуа и Шафару, подрядчик строительных работ, заверили, что квартира будет готова в срок; вечером в маленькой гостиной состоялось забавное совещание между Цезарем, его женой и дочерью: они занялись составлением списка приглашенных и заготовлением пригласительных билетов; присланные типографом еще утром, эти приглашения были отпечатаны изящным шрифтом на розовой бумаге по всем правилам кодекса буржуазной учтивости.
– Ах, как бы не забыть кого-нибудь! – воскликнул Бирото.
– Если мы кого и забудем, – ответила Констанс, – каждый сам себя не забудет. Госпожа Дервиль, никогда у нас не бывавшая, пожаловала вчера во всем параде.
– Она мне понравилась, – заметила Цезарина.
– А до замужества ее положение было еще скромнее моего, – сказала Констанс, – она работала в бельевой лавке на Монмартре и шила сорочки твоему отцу.
– Итак, внесем в список сначала самых знатных, – провозгласил Бирото. – Пиши, Цезарина: герцог и герцогиня де Ленонкур…
– Господи, Цезарь! – взмолилась Констанс. – Не посылай, пожалуйста, приглашений лицам, которых знаешь лишь как поставщик. Не собираешься же ты пригласить княгиню де Бламон-Шоври, а она еще более близкая родственница твоей крестной матери, покойной маркизы д'Юкзель, чем герцог де Ленонкур? Да, может быть, ты думаешь пригласить заодно и обоих Ванденесов, де Марсе, де Ронкероля, д'Эглемона, – ну, словом, всех покупателей? Ты с ума сошел, почести вскружили тебе голову.
– Прости, но уж графа-то де Фонтэна с семьей я приглашу. Еще до памятного дня тринадцатого вандемьера он заходил в «Королеву роз» под именем «Большого Жака» вместе с «Молодцом» – маркизом Монтораном и господином де ла Биллардиером, известным в то время под кличкой «Нантиец». Что за горячие были тогда рукопожатия!.. «Смелей, дорогой Бирото, смелей! Умрем за правое дело!» Мы с ним – старые товарищи по заговору.
– Ну, хорошо, впиши его, – согласилась Констанс. – Надо же господину де ла Биллардиеру и его сыну с кем-нибудь поговорить, если они придут.
– Пиши, Цезарина, – сказал Бирото. – «Primo» – префект департамента Сены; придет он или не придет, дело его, но он глава муниципалитета, а «по месту и честь»! Господин де ла Биллардиер с сыном, мэр. Число приглашенных пиши сбоку. Мой коллега, господин Гране, помощник мэра, с женой. Она ужасная уродина, но все равно, нельзя ее обойти! Господин Кюрель, ювелир, полковник национальной гвардии, с женой и двумя дочерьми. Ну, начальство, кажется, все. Теперь – знать! Граф и графиня де Фонтэн и их дочь мадмуазель Эмилия де Фонтэн…
– Дерзкая особа, она вечно вызывает меня из лавки, и изволь стоять и разговаривать с ней у дверцы кареты в любую погоду, – сказала г-жа Бирото. – Поверь, если она и придет, то лишь для того, чтобы поиздеваться над нами.
– Ну, тогда она, наверно, придет, – сказал Цезарь, жаждавший видеть у себя знатных особ. – Пиши дальше, Цезарина: граф де Гранвиль с супругой, мой домовладелец, самая светлая голова при дворе, как утверждает Дервиль. – Ах, да, господин де ла Биллардиер представит меня завтра графу де Ласепеду, который лично вручит мне орден. Следовало бы послать приглашение на бал и обед великому канцлеру ордена Почетного легиона. Затем – господин Воклен; отметь, Цезарина, – на бал и обед. Да, чтоб не забыть, запиши всех Шифревилей и Протесов. Далее: господин Попино, судья департамента Сены с женой, господин Тирион, придверник кабинета короля с супругой, – это знакомые Рагонов, их дочь скоро выходит замуж за одного из сыновей господина Камюзо от первого брака.
– Цезарь, не забудь Opaca Бьяншона – племянника господина Попино и кузена Ансельма, – напомнила Констанс.
– Ну еще бы! Цезарина уже написала четыре приглашения для Попино. – Господин Рабурден, начальник канцелярии господина де ла Биллардиера, с женой; из того же ведомства – господин Кошен с женой и сыном – компаньон Матифа, да заодно и господин Матифа с супругой и дочерью.
– Супруги Матифа, – заметила Цезарина, – просили за своих друзей – Кольвилей и Гюнне, а также за Сандеров.
– Посмотрим, – ответил Цезарь. – Наш биржевой маклер Жюль Демаре с женой.
– Она будет первой красавицей на балу, лучше всех! – воскликнула Цезарина. – Она мне так нравится.
– Супруги Дервиль.
– Впиши супругов Коклен, преемников дяди Пильеро, – попросила Констанс– Они так рассчитывают на приглашение! Бедняжка заказала у моей портнихи великолепный бальный наряд, тюлевое, расшитое цветами цикория платье на белом шелковом чехле. Хорошо еще, что она не додумалась заказать себе расшитое золотом платье, как на придворный бал! Если их не пригласить, – наживем себе заклятых врагов.
– Внеси их в список, Цезарина; мы должны оказать честь купечеству, мы сами к нему принадлежим. Дальше – супруги Роген.
– Мама, госпожа Роген наверняка наденет бриллиантовое ожерелье, все свои драгоценности и платье, отделанное кружевами.
– Супруги Леба, – диктовал Цезарь. – Затем господин председатель коммерческого суда с супругой и двумя дочерьми. Я забыл о них, перечисляя начальство. Господин Лурдуа с женой и дочерью. Господин Клапарон, банкир, господин дю Тийе, господин Грендо, господин Молине. Пильеро и его домовладелец, супруги Камюзо, богатые торговцы шелком, с сыновьями; один из них – преподаватель в Политехнической школе, другой – адвокат.
– Он скоро получит назначение на пост судьи в провинции, – заметила Цезарина. – Правда, благодаря женитьбе на мадмуазель Тирион.
– Господин Кардо, тесть Камюзо-старшего, с семейством. Подожди, чуть не забыл. Гильомы с улицы Коломбье, тесть и теща Леба; старички будут подпирать стенки. Александр Кротта, Селестен…
– Папа, не забудь господина Андоша Фино и господина Годиссара: эти молодые люди очень нужны господину Ансельму Попино.
– Годиссар! Он был под следствием. Ну, ладно, ведь он через несколько дней покидает Париж и отправляется в провинцию сбывать наше масло… пиши! Ну, а господин Андош Фино, он-то нам зачем?
– Господин Попино говорит, что Фино далеко пойдет, он умен, как Вольтер.
– Сочинитель? Все они безбожники.
– Запишем его, папа: у нас мало танцующих. Затем, ведь он написал прекрасный проспект, расхваливающий ваше масло.
– Он верит в наше масло? – сказал Цезарь. – Внеси его в список, дочка.
– И у меня оказались подопечные, – заметила Цезарина.
– Впиши господина Митраля, нашего судебного пристава, господина Одри, нашего доктора, – конечно, ради соблюдения приличий: он-то не придет.
– Придет ради карт, – сказала Цезарина.
– Надеюсь, Цезарь, ты не забыл пригласить на обед господина аббата Лоро?
– Я ему уже написал, – ответил Цезарь.
– Давайте пригласим еще свояченицу Леба, Августину де Сомервье, – вспомнила Цезарина. – Бедняжка, она так страдает, – Леба говорил, она умирает от горя.
– Вот что значит выйти замуж за художника, – воскликнул парфюмер. – Смотри-ка, мать задремала, – тихо шепнул он дочери. – Баю-бай! спокойной ночи, женушка. А когда будет готово платье для мамы? – спросил он у Цезарины.
– Вовремя, папа. А мама думает, что у нее будет шелковое платье, такое, как у меня; портниха уверена, что обойдется без примерки.
– Сколько всего приглашенных? – громко спросил Цезарь, видя, что жена открывает глаза.
– Сто девять, вместе с приказчиками, – ответила Цезарина.
– Куда мы их всех поместим? – сказала г-жа Бирото. – Но в конце концов это воскресенье когда-нибудь закончится, – простодушно добавила она.
Ничего не делается просто у людей, которые подымаются с одной ступени социальной лестницы на другую. Ни г-жа Бирото, ни Цезарь не хотели заранее осмотреть второй этаж. Цезарь обещал рассыльному Раге новый костюм ко дню бала, если тот будет добросовестно караулить у входа и не пропускать посторонних. Бирото, подобно Наполеону в Компьене, когда к свадьбе его с Марией-Луизой Австрийской обновлялся дворец, желал обозреть все сразу, насладиться неожиданностью. Итак, два старинных врага, сами того не подозревая, столкнулись еще раз, но не на поле сражения, а на почве буржуазного тщеславия. Г-ну Грендо пришлось взять Цезаря под руку и показать ему квартиру, подобно тому как чичероне показывает любопытному путешественнику картинную галерею. Мало того, каждый в доме готовил свой сюрприз. Цезарина, милое дитя, истратила свой скромный капитал в сто луидоров и купила отцу книги. Г-н Грендо как-то утром сказал ей по секрету, что в кабинете Цезаря будет два книжных шкафа – сюрприз, подготовленный архитектором. Цезарина выложила на прилавок книготорговца все свои девичьи сбережения и купила отцу в подарок сочинения Боссюэ, Расина, Вольтера, Жан-Жака Руссо, Монтескье, Мольера, Бюффона, Фенелона, Делиля, Бернарден де Сен-Пьера, Лафонтена, Корнеля, Паскаля, Лагарпа, – словом, трафаретную библиотеку, книги которой заведомо не стал бы читать Бирото. Со страхом ожидала она огромного счета от переплетчика. Знаменитый и не отличавшийся точностью переплетчик-художник Тувенен обещал доставить переплетенные книги к полудню шестнадцатого числа. Цезарина призналась в своем затруднении дядюшке, и Пильеро оплатил счет. Цезарь готовил сюрприз жене – бархатное вишневого цвета платье, отделанное кружевами, о нем-то он и спрашивал у дочери, тайной своей сообщницы. Подарок г-жи Бирото вновь испеченному кавалеру ордена Почетного легиона состоял из двух золотых пряжек и алмазной булавки. Наконец, сюрпризом для всех была заново отделанная квартира, а затем, через две недели, последний, самый большой сюрприз – подлежащие оплате счета.
Цезарь немало размышлял над тем, кому передать приглашения лично, а кому отправить с рассыльным. Он нанял фиакр, уселся в него вместе с женой, надевшей обезобразившую ее шляпу с перьями и последний подарок мужа – кашемировую шаль, предмет ее пятнадцатилетних мечтаний. Принарядившаяся чета парфюмеров в одно утро сделала двадцать два визита.
Цезарь избавил жену от хлопот, связанных с приготовлением различных яств для роскошного празднества. Он заключил дипломатическое соглашение со знаменитым Шеве. Шеве обязался предоставить великолепное серебро, приносившее ему больше дохода, чем иному – сдача земли в аренду, приготовить обед, доставить вина, прислать – под началом благообразного метрдотеля – слуг, образцовых по своему поведению и работе. Он потребовал в свое распоряжение кухню и столовую на антресолях для устройства там штаб-квартиры и брался приготовить к шести часам вечера обед на двадцать персон и великолепный холодный ужин к часу ночи. В «Кафе Фуа» Бирото заказал фруктовое мороженое, которое полагалось подавать на серебряных подносах, в красивых вазочках с позолоченными ложечками. Танрад, другая знаменитость, обязался доставить прохладительные напитки.
– Не беспокойся, – сказал Цезарь жене вечером, накануне празднества, заметив, что она очень волнуется. – Шеве, Танрад и «Кафе Фуа» займут антресоли, Виржини будет охранять третий этаж, лавка будет заперта. Для бала мы отведем только второй этаж.
Шестнадцатого декабря в два часа дня г-н де ла Биллардиер заехал за Цезарем, чтобы направиться вместе с ним в канцелярию капитула ордена Почетного легиона, где Бирото вместе с десятком других кавалеров должен был получить от графа де Ласепеда орден. Мэр застал парфюмера растроганным до слез: Констанс только что преподнесла мужу золотые пряжки и бриллиантовую булавку.
– Как сладко быть столь нежно любимым, – сказал парфюмер, садясь в фиакр, до которого его провожали приказчики, Цезарина и Констанс.
Все они глаз не спускали с Цезаря, облаченного в черные шелковые панталоны, шелковые чулки и новый василькового цвета фрак, который вскоре должна была украсить ленточка, «обагренная кровью», как выразился Молине.
Цезарь вернулся к обеду бледный от радости; он любовался крестом в каждом зеркале, ибо в первом порыве опьянения не удовольствовался ленточкой и без ложной скромности надел орден.
– Жена, – сказал он, – великий канцлер ордена – обаятельный человек; стоило господину де ла Биллардиеру только заикнуться, как он принял мое приглашение, он приедет вместе с господином Вокленом. Господин де Ласепед – великий человек, да, не менее великий, чем господин Воклен: он написал сорок томов! Но он не только писатель, он и пэр Франции. Не забудьте называть его «ваше сиятельство» или «граф».
– Не забудь пообедать! – прервала его Констанс – Право, отец твой, что малое дитя, – пожаловалась она дочери.
Как украшает орден! – сказала Цезарина. – Тебе будут отдавать честь, пройдемся с тобой по улице.
– Да, теперь все часовые должны отдавать мне честь.
В эту минуту вошли Грендо и Брашон. Они предложили Цезарю после обеда вместе с женой и дочерью осмотреть квартиру; старший десятник Брашона уже кончал укреплять в зале розетки для занавесей, а три человека зажигали свечи.
– Понадобится сто двадцать свечей, – заметил Брашон.
– Счет на двести франков от Трюдона, – пролепетала Констанс, но кавалер Бирото одним взглядом остановил ее причитания.
– Ваш праздник будет великолепен, господин кавалер, – сказал Брашон.
Бирото подумал: «Вот уже и льстецы завелись. Недаром предостерегал меня аббат Лоро от их сетей и призывал к скромности. Я всегда должен помнить о своем происхождении».
Цезарь не понял намека богатого обойщика с улицы Сент-Антуан. Одиннадцать раз Брашон безуспешно пытался добиться приглашения для себя, жены, дочери, тещи и тетки, и он сделался врагом Бирото. Уходя, Брашон уже не величал больше парфюмера «господин кавалер».
Генеральная репетиция началась. Цезарь с женой и дочерью вышли из лавки и поднялись к себе по парадной лестнице. Входная дверь была переделана в монументальном стиле, она была превращена в двустворчатую и разделена на равные квадраты, украшенные посредине отлитым из чугуна орнаментом. Теперь такие двери – самые обычные в Париже, тогда же они прельщали новизной. В глубине вестибюля между двумя крыльями лестницы находился столь беспокоивший Бирото цоколь, напоминавший собою своеобразный ящик, где могла бы устроить себе жилище какая-нибудь старуха. Пол в вестибюле был выложен белым и черным мрамором, стены выкрашены под мрамор, сверху спускалась люстра в античном стиле с четырьмя рожками. В отделке квартиры архитектор сочетал богатство и простоту. Узкая красная дорожка подчеркивала белизну ступеней, вытесанных из твердого песчаника, отшлифованного пемзой. С первой площадки открывался вид на антресоли. Внутренняя дверь была выдержана в том же стиле, что и входная, но украшена резьбой.
– Какое изящество! – воскликнула Цезарина. – А между тем ничто не бросается в глаза.
– Мадмуазель, изящество создается соблюдением пропорций между архитектурными украшениями, плинтусами, карнизами и орнаментом; у меня нигде нет позолоты, тона мягкие, не яркие.
– Да это целая наука! – заметила Цезарина.
Вошли в переднюю, просторную комнату с паркетным полом, отделанную и выдержанную в прекрасном стиле. Дальше шла белая с красным гостиная с тремя выходящими на улицу окнами, изящно вылепленными карнизами, с обоями красивого рисунка; тут не было ничего пестрого. На камине белого мрамора с колонками стояли со вкусом подобранные безделушки, не оскорблявшие самого строгого вкуса и прекрасно сочетавшиеся со всей обстановкой. Словом, в гостиной царила та мягкая гармония, создать которую может только художник, искусно соблюдающий определенный стиль убранства даже в мелочах; гармония эта восхищает буржуа, но остается для него непостижимой. Люстра в двадцать четыре свечи бросала отсветы на красные шелковые драпировки, паркет так соблазнительно блестел, что Цезарине захотелось танцевать. Будуар, выдержанный в зеленых и белых тонах, соединял гостиную с кабинетом Цезаря.
– Я поместил здесь кровать, – сказал Грендо, распахивая полог алькова, искусно спрятанного между двумя библиотечными шкафами. – Вы или ваша супруга в случае недомогания сможете иметь как бы отдельную комнату.
– Но откуда тут библиотека? И все книги переплетены… О жена, жена! – воскликнул Цезарь.
– Нет, это – подарок Цезарины.
– Извините растроганного отца, – обратился Бирото к архитектору и принялся целовать дочь.
– Не стесняйтесь, сударь, не стесняйтесь, – ответил Грендо, – вы у себя дома.
Стены в кабинете Цезаря были коричневые, оживленные зеленой отделкой; нежные оттенки убранства создавали гармоничное единство всей квартиры. Основной цвет одной комнаты служил отделкой в другой, и наоборот. В кабинете Цезаря на стене красовалась гравюра «Геро и Леандр».
– Вот ты-то и окупишь все, – весело бросил Бирото, взглянув на картину.
– Эту прекрасную гравюру вам дарит Ансельм, – сказала Цезарина.
Ансельм тоже захотел приготовить сюрприз.
– Славный малый! Он поступил со мною так же, как я с господином Вокленом.
Затем вошли в комнату г-жи Бирото. Здесь архитектор не поскупился на роскошь, которая очаровывает простодушных людей, он сдержал слово и исключительно тщательно осуществил «реставрацию» квартиры. В спальне стены покрывал голубой шелк в белых разводах, мебель была обита белым казимиром с голубой отделкой. На камине стояли часы с изображением Венеры, сидящей на прекрасно высеченной мраморной глыбе; красивый турецкого рисунка бархатный ковер, лежавший в спальне, гармонировал с очень изящной, обтянутой персидской материей, комнаткой Цезарины: там стояло фортепьяно, хороший зеркальный шкаф, узкая девичья кровать со скромными занавесями и все пустячки, столь любезные сердцу молодых девушек. Столовая помещалась за кабинетом Цезаря и спальней его жены; в нее подымались по лестнице: она была выдержана в стиле Людовика XIV; убранство ее составляли часы работы Буля, буфеты с инкрустациями из меди и черепахи; стены были обтянуты материей, прибитой позолоченными гвоздиками. Невозможно описать радость всей семьи, особенно в ту минуту, когда г-жа Бирото, вернувшись в спальню, обнаружила на постели подарок мужа – отделанное кружевами платье вишневого бархата, которое, крадучись, пронесла туда Виржини.
– Господин Грендо, убранство этой квартиры делает вам честь, – сказала Констанс архитектору. – Завтра у нас соберется больше ста человек гостей, и вы от всех услышите похвалы.
– Я введу вас в общество, – прибавил Цезарь. – Вы познакомитесь с цветом купечества, и один вечер принесет вам больше известности, чем целая сотня построенных домов.
Растроганная Констанс больше не жаловалась на расточительность мужа и не осуждала его. И вот почему. Ансельм Попино, которого Констанс считала очень умным и способным человеком, придя утром с гравюрой «Геро и Леандр», заверил ее в успехе «Кефалического масла», ради чего он работал не покладая рук. Влюбленный ручался, что как бы ни были значительны безумные траты Бирото, его доля дохода от продажи масла за какие-нибудь полгода покроет все расходы. После девятнадцати лет треволнений так сладко было порадоваться хоть один день, и Констанс обещала дочери не отравлять счастья Цезаря никакими опасениями и отдаться течению событий. Было около одиннадцати часов вечера, когда ушел Грендо; Констанс бросилась мужу на шею и, расплакавшись от избытка чувств, воскликнула:
– Ах, Цезарь, ты дал мне столько счастья!
– Если бы только оно продлилось… – сказал, улыбаясь, Цезарь.
– Обязательно продлится, я уже больше не боюсь, – ответила г-жа Бирото.
– В добрый час, – сказал парфюмер, – наконец-то ты меня оценила.
Люди, достаточно умные, чтобы понимать собственные слабости, согласятся, что девушка-сирота, восемнадцать лет назад работавшая старшей продавщицей в «Маленьком матросе» на острове Сен-Луи, и бедный туренский крестьянин, пришедший в столицу пешком с палкой в руках, в грубых башмаках с подковками, должны были чувствовать себя счастливыми и удовлетворенными, давая подобный праздник по столь достойному поводу.
– Господи, я согласился бы потерять сотню франков, только бы кто-нибудь пришел к нам сейчас с визитом, – проговорил Цезарь.
– Аббат Лоро, – доложила Виржини.
В комнату вошел аббат Лоро. В ту пору он состоял викарием церкви Сен-Сюльпис. Пожалуй, никогда еще сила духа не проявлялась ни в ком яснее, чем в этом старике священнике, общение с которым оставило неизгладимый отпечаток в памяти всех, кто его знал. Угрюмое лицо его было настолько уродливо, что возбуждало неприязнь, почти отвращение, но аскетический образ жизни этого человека одухотворил его христианскими добродетелями, и черты его, казалось, излучали небесное сияние. Непорочная душа освещала безобразное лицо, и любовь к ближнему облагораживала его, меж тем как порок придавал внешности Клапарона нечто низменное и грубо животное.
Морщинистое чело старика Лоро озарял свет трех благородных человеческих добродетелей: веры, надежды и любви к людям. Речь его была ласкова, нетороплива и проникновенна. Как все парижские священники, он носил темно-коричневый сюртук. Никакие честолюбивые помыслы не омрачали чистоты его души, которую ангелы должны были вознести к божьему престолу. Только кроткая настойчивость дочери Людовика XVI заставила аббата Лоро принять приход в Париже, да и то самый скромный. Тревожным взором окинул он роскошную обстановку гостиной Бирото, улыбнулся трем очарованным буржуа и покачал седой головой.
– Дети мои, – промолвил он, – не пристало мне бывать на суетных празднествах, я должен нести утешение в дома скорбящих. Господин Бирото, я пришел поблагодарить и поздравить вас. Я приду к вам лишь на один праздник – на свадьбу этой милой девушки.
Через четверть часа аббат удалился, и ни парфюмер, ни жена его не осмелились показать старику квартиру. Посещение сурового гостя как бы пролило несколько капель ледяной воды на кипучую радость Цезаря. Каждый лег спать в собственной роскошной комнате, наслаждаясь чудесной и красивой обстановкой. Цезарина помогла матери раздеться перед туалетом с оправленным в белый мрамор зеркалом. Цезарю тотчас же захотелось полюбоваться кое-какими купленными им совершенно ненужными безделушками. Все трое заснули, предвкушая радости завтрашнего дня. Отстояв обедню и вернувшись из церкви, Цезарина и ее мать оделись к четырем часам дня, предварительно передав антресоли во власть официантов, присланных от Шеве. Никогда ни один наряд не был так к лицу г-же Бирото, как бархатное вишневое платье с короткими рукавами, отделанное кружевом; богатая ткань великолепного цвета подчеркивала красоту ее рук, стройных, как у молодой девушки, ее белоснежную грудь и шею, великолепные плечи. Наивное удовлетворение, которое испытывает любая женщина, созерцая себя во всеоружии своих чар, придавало особенную пленительность греческому профилю Констанс, напоминавшему тонкой своей красотой камею. Цезарина, в белом креповом платье, с венком из белых роз на голове и розой у пояса, целомудренно прикрыла плечи и грудь легким шарфом; она свела с ума Попино.
– Эти люди затмили нас, – сказала г-жа Роген мужу, осматривая квартиру.
Жена нотариуса была в бешенстве, потому что не могла сравниться красотой с г-жой Бирото; а ведь любая женщина в глубине души всегда отлично знает, кто лучше – она или соперница.
– Чепуха! Все это недолговечно, и скоро ты сама обрызгаешь грязью эту женщину, когда они разорятся и ей придется плестись пешком по улице! – тихо прошептал Роген жене.
Воклен был отменно любезен, он явился вместе с г-ном де Ласепедом, своим коллегой по Академии, заехавшим за ним в карете. Двое ученых рассыпались перед сияющей парфюмершей в высокопарных комплиментах.
– Вы, сударыня, столь молоды и прекрасны, что бесспорно владеете каким-то секретом, неизвестным науке сказал Воклен.
– Вы здесь почти у себя дома, господин академик, – обратился к нему Бирото. – Да, господин граф, – продолжал он, повернувшись к великому канцлеру ордена Почетного легиона, – я обязан своим состоянием господину Воклену. Честь имею представить вашему сиятельству господина председателя коммерческого суда. – Его сиятельство, граф де Ласепед, пэр Франции, один из великих мужей нашей страны, автор сорока томов, – сказал он Жозефу Леба, сопровождавшему председателя коммерческого суда.
Гости съехались к назначенному часу. Обед прошел так, как обычно проходят званые обеды у купцов: чрезвычайно весело, с добродушными грубоватыми шутками, неизменно вызывающими смех; изысканные яства и тонкие вина были оценены по достоинству. Когда собравшиеся перешли в гостиную пить кофе, было уже половина десятого. Подъехало несколько экипажей с нетерпеливыми любительницами танцев. Через час зал был полон гостей, бал походил на торжественный прием. Г-н де Ласепед и г-н Воклен уехали, к великому огорчению Бирото, который проводил их до лестницы, безуспешно умоляя остаться. Ему удалось удержать судью Попино и г-на де ла Биллардиера. Только три женщины представляли здесь аристократию, финансовый мир и чиновничьи круги: Эмилия де Фонтэн, г-жа Жюль Демаре и г-жа Рабурден, – их ослепительная красота, туалеты и манеры резко выделялись на общем фоне; остальные женщины явились в безвкусных и аляповатых туалетах, поражавших какой-то особенной добротностью тканей, придающей буржуазкам вульгарный стиль, и тем сильнее оттенявших легкость и грацию упомянутых нами трех дам.
Буржуа с улицы Сен-Дени полностью воспользовались своим правом и торжественно выставляли напоказ всю свою комическую глупость. Это были те самые буржуа, которые одевают детей уланами и национальными гвардейцами, покупают «Победы и завоевания», «Солдата-пахаря», умиляются перед «Похоронами бедняка», восторгаются смотрами гвардии, по воскресеньям выезжают к себе на дачу, стараются подражать изысканным манерам аристократов, добиваются муниципальных почестей; они всем завидуют, и вместе с тем это добродушные, услужливые, отзывчивые, чувствительные, сострадательные люди, жертвующие деньги в пользу детей генерала Фуа, в пользу греков, о морском разбое которых они и не подозревают, жертвующие в пользу Шан д'Азиль, хотя Шан д'Азиль уже не существует; они страдают от своей добродетельности, светское общество высмеивает их недостатки, хотя само их не стоит, ибо им – этим добропорядочным мещанам – свойственна сердечность, пренебрегающая условностями; они воспитывают простодушных, трудолюбивых дочерей, наделенных хорошими качествами, которые исчезают при соприкосновении с высшими классами, бесхитростных девушек, среди которых добряк Кризаль охотно выбрал бы себе жену; буржуазия была ярко представлена на балу четой Матифа, москательщиками с Ломбардской улицы, чей торговый дом уже шестьдесят лет поставлял сырье «Королеве роз».
Госпожа Матифа, которая постаралась придать себе достойный вид, танцевала с тюрбаном на голове, в тяжелом пунцовом, расшитом золотом платье, под стать ее гордой осанке, римскому носу, малиновому цвету лица. Г-н Матифа, столь бесподобный на смотрах национальной гвардии, где за пятьдесят шагов бросалось в глаза его круглое брюшко с блестевшей на нем цепочкой от часов и связкой брелоков, был под башмаком у этой купеческой Екатерины II. Толстый и приземистый, с очками на носу, с подпиравшим затылок воротником сорочки, он привлекал внимание баритональным басом и богатством своего лексикона. Никогда он не говорил просто «Корнель», но обязательно – «возвышенный Корнель»; Расин был «сладостный Расин». Вольтер – о, Вольтер! «во всех жанрах он всегда на втором месте, у него больше остроумия, нежели гения, и тем не менее он – гениальный человек!» Руссо – «сумрачная душа, человек непомерной гордыни, кончивший тем, что повесился». Нестерпимо нудно рассказывал он пошлые анекдоты о Пироне, который слывет в кругу буржуазии человеком необычайным. Страстный поклонник кулис, он был несколько склонен к игривости и непристойным разговорам; по примеру старика Кардо и богача Камюзо, он содержал любовницу. Нередко г-жа Матифа, видя, что муж собирается рассказать какой-нибудь анекдот, говорила ему: «Пузанчик, подумай прежде о том, что собираешься рассказать». Она запросто называла его «пузанчик». Эта пышнотелая королева из москательной лавки заставила мадмуазель де Фонтэн изменить своей аристократической выдержке: высокомерная девица не удержалась от улыбки, услышав, как г-жа Матифа сказала: «Не набрасывайся на мороженое, пузанчик, это дурной тон».
Труднее, пожалуй, объяснить разницу между высшим светом и буржуазией, чем буржуазии эту разницу уничтожить. Все эти женщины, стесненные бальными туалетами, чувствовали себя расфранченными и простодушно выражали свою радость, доказывавшую, что бал был редким событием в их хлопотливой жизни; тогда как три дамы, каждая из которых представляла определенный круг высшего света, чувствовали себя совершенно спокойно, не казались нарочито блистающими своими туалетами, не любовались, словно необычайным чудом, своими драгоценностями, не беспокоились о впечатлении, какое они производят; всякая забота о туалете кончалась для них, когда они, в последний раз оглядев себя, отходили от зеркала; на балу их лица не выражали ничего необычайного, они танцевали с той непринужденной грацией, какую неведомые гении запечатлели в античных статуях. Наоборот, остальные женщины, отягощенные заботами, сохраняли вульгарные позы и не знали меры в веселье; взгляды их были излишне любопытны, голоса, не привыкшие к тому легкому шепоту, который придает бальным разговорам неподражаемую пикантность, были чрезмерно громки; главное же – им не была свойственна ни насмешливая серьезность, содержавшая в себе зародыш эпиграммы, ни спокойствие, присущее людям, привыкшим всегда владеть собой. Поэтому г-жа Рабурден, г-жа Жюль Демаре и мадмуазель де Фонтэн заранее предвкушали, как славно они позабавятся на балу у парфюмера; среди всех этих буржуазок они выделялись своей мягкой грацией, безупречной элегантностью туалетов, кокетливым изяществом; они блистали, как блистает примадонна оперы среди тяжелой кавалерии статисток. На них смотрели с растерянностью и завистью. Г-жа Роген, Констанс и Цезарина служили своего рода соединительным звеном между коммерческим миром и тремя аристократическими особами.
Как и на всех балах, на празднике Бирото наступил момент оживления, когда потоки света, веселье, музыка и танцы вызывают опьянение и все эти оттенки исчезают в общем подъеме. Бал становился шумным, и мадмуазель де Фонтэн решила удалиться; но только собралась она опереться на руку почтенного вандейца, как Бирото, его жена и дочь подбежали к ней, чтобы помешать аристократии покинуть их бал.
– Квартира обставлена с большим вкусом, вы меня, право, очень удивили, – заявила парфюмеру дерзкая девица, – поздравляю вас.
Упиваясь всеобщими похвалами и поздравлениями, Бирото не понял обиды, но жена его покраснела и ничего не ответила.
– Настоящий национальный праздник, он делает вам честь, – сказал Камюзо.
– Бал был на редкость удачен, – сказал г-н де ла Биллардиер, солгав по своей обязанности легко и любезно.
Бирото все комплименты принимал за чистую монету.
– Что за восхитительное зрелище! Какой прекрасный оркестр. Вы теперь часто будете давать балы? – спросила г-жа Леба.
– Какая очаровательная квартира! Она отделана по вашему вкусу? – вставила г-жа Демаре.
Бирото, покривив душой, заверил, что обстановка выбрана им самим.
Цезарина, которую приглашали на все танцы, оценила деликатность Ансельма.
– Думай я только о собственном удовольствии, – шепнул он ей, когда выходили из-за стола, – я попросил бы у вас хотя бы одну кадриль, но боюсь, мое счастье обошлось бы слишком дорого и вашему и моему самолюбию.
Однако Цезарина, которая находила походку мужчин неизящной, если они не хромали, решила открыть бал с Попино. Ансельм, ободренный теткой, посоветовавшей ему быть смелее, дерзнул признаться в любви этой очаровательной девушке, танцуя с ней кадриль, но он говорил намеками, к каким прибегают робкие влюбленные.
– Мое состояние зависит от вас, мадмуазель.
– Как вас понять?
– Лишь надежда может побудить меня добиваться его.
– Надейтесь.
– Понимаете ли вы, как много говорит мне это слово? – воскликнул Попино.
– Надейтесь на успех, – ответила Цезарина с лукавой улыбкой.
– Годиссар, Годиссар! – взволнованно говорил после кадрили Ансельм своему другу, с геркулесовой силой сжимая его руку. – Добейся успеха, или я пущу себе пулю в лоб. Успех – это женитьба на Цезарине, она сама так говорит, а ты только посмотри, как она хороша!
– Да, она хорошенькая и притом богата, – заметил Годиссар. – Мы ее подрумяним на нашем масле.
Госпожа Бирото заметила добрые отношения, установившиеся между мадмуазель Лурдуа и Александром Кротта, будущим преемником Рогена; не без сожаления отказывалась она от мысли видеть свою дочь женою парижского нотариуса. Дядя Пильеро, раскланявшись с маленьким Молине, уселся в кресле у книжного шкафа: он посматривал на игроков, прислушивался к разговорам и время от времени подходил к дверям поглядеть на пляску цветочных корзин, на которые походили головы дам, танцевавших мулине. Он держался как истый философ. Мужчины были на редкость неинтересны, за исключением дю Тийе, уже успевшего перенять светские манеры, будущего денди – молодого де ла Биллардиера, г-на Жюля Демаре и официальных лиц. Но среди массы смехотворных физиономий, которым это празднество было обязано своим общим характером, внимание привлекала одна, особенно потертая, словно монета в сто су времен Республики; нелепость этого лица подчеркивал костюм. Читатель, вероятно, догадался, что речь идет о самодуре из Батавского подворья. Молине блистал тонким, пожелтевшим в шкафу, бельем и выставленным напоказ унаследованным от предков кружевным жабо, которое было приколото булавкой с голубоватой камеей; короткие черные шелковые панталоны облегали журавлиные ноги – непрочную опору его тела. Цезарь с гордостью показал ему четыре комнаты, перестроенные архитектором во втором этаже дома.
– Н-да, сударь, это ваше дело! – сказал Молине. – А в таком виде мой второй этаж будет стоить свыше тысячи экю.
Бирото ответил шуткой, но почувствовал словно булавочный укол, – его задел тон старикашки.
«Ко мне скоро вернется мой второй этаж, этот человек разорится!» – таков был смысл замечания Молине, а слова его «будет стоить», точно когтями, царапнули Цезаря.
Бледная физиономия и хищный взгляд домовладельца поразили дю Тийе; внимание его уже ранее привлекала часовая цепочка с навешанным на нее целым фунтом разнообразных звенящих брелоков и зеленый в светлую нитку фрак с нелепо поднятым воротником, который придавал старику сходство с гремучей змеей. Банкир подошел поговорить с этим маленьким ростовщиком, желая узнать, по какому случаю тот решил развлечься.
– Вот, сударь, – заявил Молине, ступая одной ногой в будуар, здесь я нахожусь во владениях графа де Гранвиля; но здесь, – прибавил он, указывая на другую ногу, – я нахожусь в своих собственных владениях, ибо эта комната расположена в моем доме.
Молине охотно пускался в разговоры со всяким, кто его слушал; очарованный вниманием дю Тийе, он, рисуясь, стал рассказывать о своих привычках, о наглости г-на Жандрена и о своем соглашении с парфюмером, прибавив, что без этого не бывать бы балу.
– Вот как! Господин Цезарь уплатил вам квартирную плату вперед? – сказал дю Тийе. – Это не в его привычках.
– О, я его упросил, я умею ладить со своими жильцами!
«Если папаша Бирото обанкротится, – подумал дю Тийе, – этот старикашка бесспорно будет превосходным синдиком конкурсного управления. Его придирчивость – драгоценное качество. Дома он, наверно, как Домициан, развлекается тем, что ловит и давит мух».
Дю Тийе сел за карты, за которые уже засел послушный его требованиям Клапарон. Г-н дю Тийе рассчитывал, что, сидя за карточным столом в тени от абажура, его подставной банкир избежит внимательных взглядов. Разговаривали они друг с другом, как совершенно незнакомые люди, и даже самый подозрительный наблюдатель не заметил бы никакого сговора между ними. Годиссар, хорошо знавший Клапарона, не решился подойти к нему, встретив высокомерный и холодный взгляд выскочки, не пожелавшего поздороваться с товарищем.
Бал, подобно сверкающей ракете, потух к пяти часам утра. К этому времени из ста с лишним фиакров, запрудивших улицу Сент-Оноре, оставалось не более сорока. Гости танцевали уже буланжер и котильон, позднее вытесненные английским галопом. Дю Тийе, Роген, Кардо-младший, граф де Гранвиль, Жюль Демаре играли в буйот. Дю Тийе выиграл три тысячи франков. Наступил рассвет, пламя свечей померкло, и игроки пошли посмотреть на последнюю кадриль. В буржуазных домах последняя вспышка веселья почти всегда сопровождается какими-нибудь крайностями. Важные гости разъехались, опьянение пляской, духота, спирт, скрытый в самых, казалось бы, невинных напитках, смягчили чопорность пожилых дам, они снисходительно принимают участие в кадрили и на минуту предаются безудержному веселью; мужчины разгорячены, развившиеся пряди волос свисают на лица и придают им странное и забавное выражение; молодые женщины становятся легкомысленными, цветы из их причесок опадают. На сцену выступает буржуазный Момус со всеми своими проказами. Раздаются громкие взрывы хохота, каждый отдается веселью, помня, что завтра заботы снова предъявят свои права. Матифа плясал с дамской шляпкой на голове; Селестен передразнивал присутствующих; некоторые дамы с остервенением хлопали в ладоши, когда того требовали фигуры бесконечной кадрили.
– Как они веселятся! – воскликнул довольный Бирото.
– Только бы они ничего не разбили, – шепнула Констанс своему дяде.
– Вы дали блестящий бал, таких балов я не видел, а видывал я их немало, – сказал дю Тийе, прощаясь со своим бывшим хозяином.
Среди восьми симфоний Бетховена есть одна фантазия, величественная поэма, которой заканчивается финал симфонии до минор. Когда после медлительных подступов великого чародея, столь прекрасно понятого Габенеком, по мановению руки вдохновенного дирижера взвивается роскошная завеса над декорацией, смычок выводит восхитительный мотив, в котором воплощается вся пленительная сила музыки; поэты, чьи сердца тогда трепещут, верно, поймут, что бал оказал на Бирото то же действие, какое производят на их души живительные звуки этой финальной мелодии, благодаря которой симфония до минор превосходит своих блистательных сестер. Лучезарная фея, подняв волшебную палочку, несется вперед. Слышится шелест пурпурных шелковых занавесей, раздвигаемых ангелами. Скульптурные двери из золота, подобные дверям флорентийской часовни, поворачиваются на алмазных петлях. Взор ослеплен великолепием открывшихся ему чертогов чудесного дворца, откуда появляются неземные существа. Курятся благовония блаженства, сверкает алтарь счастья, воздух напоен ароматами! Перед вами проносятся нежные существа с божественной улыбкой в белых с голубым туниках, пленяя нечеловеческой красотою лица и воздушной стройностью стана. Порхают амуры с пылающими факелами! Вы чувствуете себя любимым, вы упиваетесь счастьем, вы вдыхаете его, погружаясь в волны гармонии, она струится и изливает на каждого амброзию, которой он жаждет. Сердцем своим вы устремляетесь к тайным надеждам, и на мгновение они осуществляются. Чародей сначала возносит вас на небеса, затем могучей и таинственной силой басов низвергает в болото холодной действительности, чтобы вновь вознести ввысь, когда, взалкав божественных мелодий, душа ваша молит: «Еще!» Смену переживаний человеческой души, отраженную в самых волнующих аккордах этой финальной мелодии, можно назвать историей чувств, пережитых супругами Бирото в вечер их праздника. Коллине сыграл на флейте финал их коммерческой симфонии.
Утомленные, но счастливые члены семьи Бирото задремали под утро, когда замерли отзвуки бала: строительные работы, ремонт, обстановка, угощение, туалеты, оплаченная Цезариной библиотека, все вместе стоило, – чего Цезарь и не предполагал, – сто шестьдесят тысяч франков. Вот как дорого обошлась роковая красная ленточка, пожалованная королем парфюмеру. Случись беда с Цезарем Бирото, и эти безумные траты окажутся достаточными, чтобы предать его в руки исправительной полиции. Купец может быть обвинен в банкротстве по неосмотрительности, если траты его признают чрезмерными. Предстать перед шестым отделением судебной палаты из-за какой-либо пустяковой ошибки или неосторожного шага, пожалуй, страшнее, чем оказаться перед судом присяжных за крупное мошенничество. В глазах некоторых людей лучше быть преступником, нежели глупцом.
II. ЦЕЗАРЬ В БОРЬБЕ С НЕСЧАСТЬЕМ
Через неделю после этого празднества – последней вспышки длившегося восемнадцать лет и готового угаснуть благоденствия Цезарь смотрел из окна своей лавки на прохожих, размышляя о размахе своих коммерческих дел, начинавших тяготить его. Жизнь его до той поры была несложной: он изготовлял и продавал парфюмерные товары или покупал и перепродавал их. Теперь же спекуляция земельными участками, пай в торговом доме «А. Попино и К°», необходимость изыскать сто шестьдесят тысяч франков – а для этого потребуются либо новые операции с векселями, что будет очень не по вкусу жене, либо невероятное преуспеяние Попино, – все пугало беднягу сложностью расчетов; он чувствовал, что в руках у него слишком много клубков и ему не удержать всех нитей. Как поведет Ансельм свое дело? Цезарь относился к Попино, как учитель риторики относится к своему ученику, – не доверял его способностям и сожалел, что не стоит за его спиной. Пинок, которым он наградил Ансельма, чтобы заставить его замолчать у Воклена, показывает, что парфюмер не слишком-то полагался на молодого купца. Бирото, старавшийся ничем себя не выдать жене, дочери или старшему приказчику, походил на простого лодочника с Сены, которому министр неожиданно поручил бы командовать фрегатом. Эти мысли словно туманом окутывали его мозг, мало приспособленный для размышлений, и, стоя у окна, он пытался разобраться в них. В это время на улице показался человек, внушавший ему живейшую антипатию, – его второй домохозяин, маленький Молине. Каждому случалось видеть сны, полные событий, словно отражающие всю жизнь, в которых снова и снова появляется некое фантастическое и зловещее существо – предвестник несчастий, играющий роль театрального злодея. Бирото казалось, что Молине по воле случая суждено сыграть в его жизни такую роль. На празднестве лицо старикашки было искажено дьявольской гримасой и глаза его злобно взирали на пышность торжества. Вновь увидя Молине, Цезарь тотчас же вспомнил о неблагоприятном впечатлении, произведенном на него «старым сквалыгой» (любимое словечко Бирото), ибо, внезапно появившись и прервав ход его размышлений, старикашка вызвал у парфюмера новый прилив отвращения.
– Сударь, – начал маленький человечек своим невыносимо слащавым голоском, – мы столь поспешно состряпали наше соглашение, что вы позабыли поставить на нем свою подпись.
Бирото взял контракт, чтобы исправить упущение. Вошел архитектор; он поздоровался с парфюмером и стал вертеться вокруг него с дипломатическим видом.
– Сударь, – шепнул он наконец Цезарю на ухо, – вы знаете, как трудно приходится всякому начинающему; вы мной довольны, и я был бы вам чрезвычайно признателен, если бы вы со мною рассчитались.
Бирото, оставшийся без гроша, ибо, издержав наличные деньги, он пустил в ход и все свои ценные бумаги, велел Селестену заготовить вексель на две тысячи франков сроком на три месяца и составить расписку.
– Как мне повезло, что вы обязались внести квартирную плату за вашего соседа, – со скрытой насмешкой проговорил Молине. – Привратник предупредил меня нынче утром, что Кейрон сбежал и мировой судья наложил печати на имущество этого молодчика.
«Не попасться бы мне на пять тысяч франков!» – подумал Бирото.
– А ведь все считали, что дела у него идут превосходно, – сказал Лурдуа, который вошел в это время, чтобы вручить парфюмеру счет.
– Коммерсант застрахован от превратностей судьбы, только удалившись от дел, – изрек маленький Молине, тщательно складывая контракт.
Архитектор оглядел старикашку с тем удовольствием, какое испытывает любой художник при виде карикатуры, подтверждающей его мнение о буржуа.
– Когда над головой зонт, обычно думают, что дождя бояться нечего, – сказал Грендо.
Молине посмотрел с подчеркнутым интересом не в лицо архитектору, а на его усы и эспаньолку и преисполнился к Грендо таким же презрением, какое тот испытывал к нему; старикашка задержался в лавке с тем, чтобы, уходя, запустить в архитектора когти. Живя среди своих кошек, Молине многое у них позаимствовал: нечто кошачье было и в его повадках, и в выражении глаз.
Вошли Рагон и Пильеро.
– Мы говорили о нашем деле с судьей, – сказал Рагон на ухо Цезарю, – он утверждает, что при спекуляциях такого рода требуется расписка продавцов и ввод во владение, чтобы всем нам стать законными совладельцами…
– А, вы участвуете в деле с покупкой земли в районе церкви Мадлен? – заинтересовался Лурдуа. – Об этом много толков, – говорят, там будут строиться дома!
Подрядчик-маляр, явившийся, чтобы получить по счету, решил, что ему, пожалуй, выгодней не торопить парфюмера.
– Я вам представил счет, потому что год кончается, – шепнул он Цезарю на ухо. – Но мне не к спеху.
– Да что с тобой, Цезарь? – спросил Пильеро, заметив удивление племянника, который так был огорошен счетом, что не отвечал ни Рагону, ни Лурдуа.
– Ах, пустяки! Я согласился взять у соседа, торговца зонтами, на пять тысяч франков векселей, а он прогорел. Если он подсунул мне негодные векселя, я попался, как олух.
– Ведь я давно вам говорил, – воскликнул Рагон, – утопающий для своего спасения способен схватить за ногу родного отца и топит его вместе с собой. Уж я-то насмотрелся на банкротства! Когда человек прекращает платежи, он еще не мошенник: он становится им позже, – по необходимости.
– Это верно, – заметил Пильеро.
– Если я попаду когда-нибудь в палату депутатов или приобрету какое-либо влияние в правительственных кругах… – начал Бирото, приподнимаясь на носки и опускаясь на пятки.
– Что же вы сделаете? – спросил Лурдуа. – Ведь у вас – ума палата.
Молине, которого интересовало любое обсуждение вопросов права и законности, задержался в лавке; а так как, заметив внимание других, и сам становишься внимательней, – Пильеро и Рагон, знавшие взгляды Цезаря, слушали его так же сосредоточенно, как и трое посторонних.
– Я предложил бы учредить трибунал несменяемых судей с участием прокурора, как в уголовном суде, – сказал парфюмер, – По окончании следствия, во время которого обязанности нынешних агентов, синдиков и присяжного попечителя выполняет непосредственно сам судья, купец может быть признан несостоятельным должником с правом реабилитации или банкротом. Несостоятельный должник с правом реабилитации обязан уплатить все полностью; он становится хранителем как своего имущества, так и имущества жены; а все права его, включая право наследования, принадлежат с этого момента кредиторам; он продолжает вести свои дела в их пользу и под их наблюдением, подписываясь при этом «несостоятельный должник такой-то» – вплоть до полного погашения долга. Банкрот же присуждается, как встарь, к двухчасовому стоянию у позорного столба в зале Биржи с зеленым колпаком на голове. Все его имущество, равно как и имущество его жены, и все его права переходят к кредиторам, а его самого изгоняют из пределов королевства.
– Торговля стала бы надежней, – заметил Лурдуа, – каждому пришлось бы хорошенько подумать, прежде чем заключить какую-либо сделку.
– Существующий закон не соблюдается, – с раздражением сказал Цезарь. – Из ста купцов более пятидесяти так расширяют торговые обороты, что на семьдесят пять процентов не могут покрыть свои обязательства или же продают товары на двадцать пять процентов ниже настоящей цены и этим подрывают торговлю.
– Господин Бирото прав, – поддержал Цезаря Молине. – Действующий закон слишком мягок. Банкрот должен выбрать одно из двух: либо полный отказ от своего имущества, либо бесчестие.
– Черт побери! – воскликнул Цезарь. – Если так будет продолжаться – купец скоро станет заправским вором. Пользуясь своей подписью, он может запускать руку в любую кассу.
– Вы не слишком-то снисходительны, господин Бирото, – заметил Лурдуа.
– Он прав, – сказал старик Рагон.
– Все несостоятельные должники подозрительны, – изрек Цезарь, раздраженный денежной потерей, ошеломившей его, как первый клич охотника ошеломляет преследуемого оленя.
В это время метрдотель принес ему счет от Шеве. Затем явился мальчишка из кондитерской Феликса, лакей из «Кафе Фуа», кларнетист от Коллине – каждый со счетом.
– Час расплаты, – с улыбкой заметил Рагон.
– Да, вы задали пир на славу, – сказал Лурдуа.
– Я занят, – заявил Цезарь всем посланцам, и они удалились, оставив счета.
– Господин Грендо, – обратился Лурдуа к архитектору, заметив, что тот складывает подписанный Бирото вексель, – проверьте и подведите, пожалуйста, мой счет; осталось только произвести обмер – о ценах ведь вы со мной уже условились от имени господина Бирото.
Пильеро посмотрел сперва на Лурдуа, потом на Грендо.
– Архитектор с подрядчиком договаривались о ценах, – шепнул он на ухо племяннику, – хорошо же тебя обобрали.
Грендо вышел, Молине последовал за ним и с таинственным видом обратился к архитектору.
– Сударь, – сказал он Грендо, – хоть вы меня слушали, но, видно, не поняли: желаю вам завести зонт.
Грендо охватил страх. Чем менее законен барыш, тем упорнее за него держатся: такова уж человеческая натура. Архитектор, не жалея времени, с увлечением изучал квартиру парфюмера, вкладывая в это все свои познания, трудов он потратил на десяток тысяч франков, но из-за собственного тщеславия продешевил; и подрядчикам не стоило поэтому больших усилий соблазнить его. Однако самый неотразимый аргумент – возможность поживиться – и хорошо понятая угроза повредить ему клеветою не так сильно на него подействовали, как высказанное Лурдуа соображение о деле с земельными участками в районе церкви Мадлен: Бирото, видимо, не намерен строить там дома, он попросту спекулирует на цене участков. Архитекторы и подрядчики столь же тесно между собой связаны, как драматурги и актеры: они друг от друга зависят. Грендо, которому Бирото поручил договориться о ценах, держал руку подрядчиков против буржуа. Поэтому трое крупных подрядчиков – Лурдуа, Шафару и плотник Торен – заявили, что он прекрасный малый и что работать с ним – одно удовольствие. Грендо стало ясно, что счета, в которых он имел долю, так же как и его гонорар, будут оплачены векселями, а старикашка Молине вселил в него сомнение в надежности этих векселей. И архитектор решил быть безжалостным, как и подобает художникам, людям беспощадным к буржуа. К концу декабря у Цезаря набралось на шестьдесят тысяч франков счетов. Феликс, «Кафе Фуа», Танрад и мелкие кредиторы, которым полагается платить наличными, по три раза присылали к парфюмеру. Подобные мелочи в торговом деле хуже катастрофы, они – ее предвестники. Когда убыток выяснен – размер бедствия определился, но паника не знает границ. Касса Бирото была пуста. Страх охватил парфюмера: за всю его деловую жизнь с ним ничего подобного еще не случалось. Как и все, кого не закалила долгая борьба с нуждой, Цезарь был слаб духом, и положение, столь обычное для большинства мелких парижских торговцев, привело его в полное смятение.
Парфюмер приказал Селестену разослать клиентам счета; но ему дважды пришлось повторить свое приказание, прежде чем старший приказчик исполнил его. Клиенты – как называли торжественно своих покупателей розничные торговцы (Цезарь также употреблял это выражение вопреки протестам жены, заявившей ему в конце концов: «Называй их как знаешь, пусть только платят») – клиенты были большей частью люди богатые, от которых никогда не приходилось терпеть убытков, но платили они по счетам, когда вздумается, и нередко оставались должны Цезарю до пятидесяти – шестидесяти тысяч франков. Младший приказчик взял книгу счетов и начал выписывать самые крупные из них. Цезарь побаивался супруги. Чтобы скрыть от нее уныние, в которое ввергнул его вихрь бедствий, он собирался выйти из дому.
– Добрый день, сударь, – сказал Грендо с развязностью, которую напускают на себя обычно художники, собираясь говорить о денежных делах, по их утверждению им совершенно чуждых. – Мне ни гроша не удалось получить по вашему векселю и приходится просить вас обменять его на звонкую монету. Я крайне сожалею, что вынужден на этом настаивать; но мне не хотелось бы обращаться к ростовщикам – настолько-то я смыслю в коммерции, чтобы понимать, что таким путем я подорву ваш кредит: поэтому в ваших же интересах…
– Сударь, – сказал опешивший Бирото, – говорите, пожалуйста, потише, вы меня просто ошеломили.
Вошел Лурдуа.
– Понимаете, Лурдуа… – обратился к нему Бирото, улыбаясь.
Но он тут же запнулся. Бедняга собирался было, посмеявшись над архитектором, простодушно попросить Лурдуа, – как это может разрешить себе уверенный в своей кредитоспособности купец, – взять вексель у Грендо; но, заметив мрачный вид Лурдуа, он ужаснулся своей неосторожности. Невинная шутка могла оказаться смертельной для его поколебавшегося кредита. Богатый купец в таких случаях берет свой вексель обратно и больше никому его уже не предлагает. У Бирото закружилась голова, словно он заглянул в разверзшуюся перед ним бездну.
– Дорогой господин Бирото. – сказал Лурдуа, увлекая парфюмера в глубь лавки, – обмер произведен, счет мой подведен и проверен, приготовьте мне, пожалуйста, к завтрашнему дню деньги. Я выдаю дочь замуж за молодого нотариуса Кротта, а ему подавай наличными: нотариусам векселей учитывать не полагается, да к тому же я никогда векселей не подписывал.
– Пришлите послезавтра, – гордо ответил Бирото, надеявшийся получить по счетам, – и вы, сударь, также, обратился он к Грендо.
– А почему не сейчас? – осведомился архитектор.
– Я должен рассчитаться с рабочими на фабрике, – ответил никогда прежде не лгавший Цезарь.
Бирото взял шляпу, собираясь выйти вместе с подрядчиком и архитектором. Но едва он переступил через порог, его остановили каменщик, Торен и Шафару.
– Сударь, – обратился к нему Шафару, – нам до зарезу нужны деньги.
– Ну, знаете ли, у меня ведь нет золотых россыпей в Перу, – заявил выведенный из терпения Цезарь, стремительно отходя от них. «Это неспроста! Проклятый бал! Все теперь считают меня миллионером! У Лурдуа был, однако, какой-то странный вид, – подумал он, – тут что-то неладно!»
В полной растерянности он побрел бесцельно по улице Сент-Оноре и на одном из перекрестков наскочил на Александра Кротта, как натыкается на прохожих поглощенный решением задачи математик или баран налетает на барана.
– Ах, сударь, – обратился к нему будущий нотариус, – один вопрос! Передал ли Роген ваши четыреста тысяч франков Клапарону?
– Да ведь все происходило на ваших глазах. Господин Клапарон не дал мне никакой расписки… мои векселя надо было еще учесть… Роген должен был передать ему… моих двести сорок тысяч франков наличными… было условлено, что запродажные будут окончательно оформлены… Господин Попино, судья, полагает… расписка… Но… Почему вы задаете мне этот вопрос?
– Почему я задаю вам подобный вопрос? Да чтобы узнать, где ваши двести сорок тысяч франков – у Клапарона или у Рогена. Роген был связан с вами узами столь многолетней дружбы, что мог бы, щадя вас, передать эти деньги Клапарону, и вы бы счастливо отделались! Но где же у меня голова? Он увез их, конечно, вместе с деньгами господина Клапарона – тот, к счастью, успел ему дать лишь сто тысяч франков. Роген сбежал, от меня он получил сто тысяч франков за свою контору – без всякой расписки, я их доверил ему, как доверил бы вам свой кошелек. Продавцам участков он не дал ни гроша – они только что у меня были. Денег по закладной на ваши земельные участки не оказалось – ни на ваше имя, ни на имя вашего заимодавца: Роген растратил их, как и ваши сто тысяч франков… их у него уже давным-давно не было… Да и вторая ваша сотня тысяч франков также взята; вспоминаю, что сам же ходил за нею в банк.
Зрачки Цезаря непомерно расширились, и все перед его глазами затянулось огненно-красной пеленой.
– Ваши сто тысяч франков, взятые из банка, мои сто тысяч за нотариальную контору, сто тысяч господина Клапарона, – словом, Роген свистнул триста тысяч франков, не считая краж, которые еще обнаружатся, – продолжал молодой нотариус. – Госпожа Роген в отчаянном состоянии, господин дю Тийе не отходил от нее всю ночь. Сам-то дю Тийе дешево отделался! Роген целый месяц приставал к нему, пытаясь втянуть в аферу с земельными участками; но все средства дю Тийе были вложены, к счастью для него, в какую-то спекуляцию банкирского дома Нусингена. Роген оставил жене ужасное письмо – я только что прочел его. Оказывается, он целых пять лет расхищал фонды своих клиентов, и для чего бы вы думали? – для любовницы, Прекрасной Голландки; он расстался с ней за две недели до того, как сбежал. Эта мотовка осталась без гроша, выдала векселя, и вся ее обстановка пошла с молотка. Она укрылась от преследований в одном из заведений Пале-Рояля, и вчера вечером ее убил там какой-то капитан. Бог наказал ее, ведь это она, конечно, поглотила состояние Рогена. Есть женщины, для которых нет ничего святого; подумайте только, пустить по ветру нотариальную контору! Госпожа Роген останется без гроша, если не воспользуется своим законным правом на ипотеку, – имущество этого негодяя обременено долгами. Контора продана за триста тысяч франков. Я воображал, что сладил выгодное дельце! А вместо того заплатил на сто тысяч франков больше, чем следует: расписки у меня нет. Роген допускал такие злоупотребления, которые поглотят, пожалуй, и стоимость конторы, и залог: если же я хотя бы заикнусь о своих ста тысячах франков, – кредиторы решат, что я сообщник Рогена, а ведь, вступая на новое поприще, приходится особенно беречь свою репутацию. Вы получите не больше тридцати за сто. В мои годы влопаться вдруг в такую историю! А Роген-то!.. Человек в шестьдесят лет разорился из-за женщины!.. Старый плут! Три недели назад этот изверг сказал мне, чтобы я не женился на Цезарине, что вы останетесь вскоре без куска хлеба!
Александр мог бы еще долго разглагольствовать: Бирото застыл перед ним в неподвижности, словно громом пораженный. Что ни фраза – удар обухом но голове. Он ничего не слышал, кроме звона погребального колокола, как ничего сперва не видел, кроме полыхавшего перед ним пламени пожара. Александр Кротта, считавший почтенного парфюмера человеком сильным и стойким, был испуган его неподвижностью и бледностью. Преемник Рогена не знал, что нотариус похитил у Цезаря не одно только его состояние. У Бирото, человека глубоко верующего, мелькнула мысль о самоубийстве. В таких случаях кажется логичным покончить с собой – избегнуть тысячи смертей, предпочтя им одну. Александр Кротта взял Цезаря под руку и хотел повести его, но это оказалось невозможным: у парфюмера, как у пьяного, подкашивались ноги.
– Что с вами? – спрашивал Кротта. – Дорогой господин Бирото, мужайтесь! Ведь не все еще потеряно! Вы получите к тому же обратно свои сорок тысяч франков: у заимодавца такой суммы не оказалось в наличии, и она вам выплачена не была – есть основание требовать признания договора недействительным.
– Бал… орден, векселей на двести тысяч… пустая касса… Рагоны… Пильеро… И жена все это предвидела!
Поток бессвязных слов, порожденный нахлынувшими мучительными мыслями и невыносимыми душевными терзаниями, точно градом побил все цветники «Королевы роз».
– Я хотел бы, чтобы с меня сняли голову, – вырвалось наконец у Бирото, – она ни к чему мне… только мешает.
– Бедный панаша Бирото! – воскликнул Александр. – Неужели вам грозит разорение?
– Разорение!
– Ну, не падайте духом, нужно бороться!
– Бороться! – повторил парфюмер.
– Дю Тийе был у вас приказчиком, он человек с головой, он вам поможет.
– Дю Тийе?
– Пойдемте же!
– Господи! Я не хотел бы в таком виде возвращаться домой, – сказал Бирото. – Вы ведь мне друг, – если только существуют на свете друзья, – вы всегда мне внушали симпатию, вы у меня обедали, – ради моей жены прошу вас, Ксандро, помогите мне сесть в фиакр и поедемте со мной.
Новоиспеченный нотариус с трудом втащил в фиакр бесчувственное тело, именовавшееся Цезарем Бирото.
– Ксандро, – сказал парфюмер прерывающимся от слез голосом, ибо из глаз его в эту минуту хлынули слезы и голове его, словно сжатой железным обручем, стало немного легче, – поедем ко мне, вы поговорите вместо меня с Селестеном. Друг мой, скажите ему, что для меня и для моей жены это вопрос жизни. Пусть никто, ни под каким видом, не болтает об исчезновении Рогена. Вызовите Цезарину и попросите ее следить, чтобы при жене не заговорили об этой истории. Нужно остерегаться наших лучших друзей – Рагонов, Пильеро, всех, всех…
Кротта был поражен изменившимся голосом Бирото, он понял, какое значение для парфюмера имело это распоряжение. Улица Сент-Оноре была по пути к дому судьи, и Александр исполнил просьбу парфюмера; Селестен и Цезарина с ужасом увидали в глубине фиакра безмолвного, бледного и словно отупевшего Цезаря.
– Все это должно оставаться в строжайшей тайне, – сказал им парфюмер.
«Ага, – подумал Ксандро, – он, кажется, приходит в себя, а я уж было решил, что ему конец».
Совещание Александра Кротта со следователем длилось долго; послали за председателем нотариальной палаты; Цезаря, словно тюк, перетаскивали с места на место; он не шевелился и не проронил ни слова. В седьмом часу вечера Кротта отвез парфюмера домой. Мысль о том, что ему придется предстать перед Констанс, вернула Цезаря к жизни. Молодой нотариус проявил к нему участие: он прошел вперед и предупредил г-жу Бирото, что с мужем ее приключилось нечто вроде удара.
– У него помутилось в голове, – сказал он с жестом, которым обычно показывают, что человек тронулся, – придется, вероятно, пустить ему кровь или поставить пиявки.
– Этого следовало ожидать, – сказала Констанс, бесконечно далекая от мысли о разорении, – он не принимал в начале зимы прописанной ему микстуры, а два последних месяца работал как каторжный, словно ему нужно было заработать на кусок хлеба.
Упросив Цезаря лечь в постель, жена и дочь послали за стариком Одри, врачом, лечившим Бирото. Одри напоминал мольеровских лекарей: опытный врач и любитель старинных рецептов, он пичкал своих больных всякими снадобьями не хуже любого знахаря. Он явился и, ограничившись наружным осмотром Цезаря, предписал поставить ему немедленно горчичники к подошвам ног: он нашел признаки кровоизлияния в мозг.
– Чем же это могло быть вызвано? – спросила Констанс.
– Сырой погодой, – ответил доктор, которому Цезарина успела шепнуть несколько слов.
Врачам нередко приходится изрекать заведомые глупости, чтобы спасти жизнь или честь окружающих больного здоровых людей. Старый врач, много на своем веку повидавший, понял все с полуслова. Цезарина вышла за ним на лестницу спросить о режиме для больного.
– Тишина и покой, – ответил врач, – а потом, когда голове станет легче, попытаемся дать ему что-нибудь укрепляющее.
Госпожа Бирото провела двое суток у изголовья мужа, который, казалось ей, часто бредил. Его поместили в нарядной голубой спальне жены, и, глядя на драпировки, мебель, на всю дорого стоившую роскошь, Бирото бормотал какие-то непонятные Констанс слова.
– Он помешался, – сказала она дочери, когда Цезарь, приподнявшись на своем ложе, стал торжественным голосом повторять отрывки из параграфов торгового устава.
– «Если траты признаны чрезмерными!..» Снимите драпировки!
После трех ужасных дней, когда боялись за рассудок Цезаря, здоровый организм туренского крестьянина взял верх – в голове у Бирото прояснилось; врач предписал ему сердечные средства и усиленное питание. Однажды, выпив чашку крепкого кофе, Бирото ощутил прилив бодрости и почувствовал себя здоровым. Тогда слегла Констанс.
– Бедняжка! – сказал Цезарь, видя, что она заснула.
– Мужайтесь, папа! Вы такой выдающийся человек, вы, конечно, справитесь с бедой. Все уладится. Ансельм вам поможет.
Слова эти были сказаны таким нежным голосом, Цезарина вложила в них столько любви, сделавшей их еще проникновенней, что они могли бы вернуть мужество самому удрученному человеку, – так спетая матерью колыбельная песня убаюкивает ребенка, у которого режутся зубки.
– Да, дочь моя, я буду бороться; но никому об этом ни слова – ни Попино, хоть он и любит нас, ни дяде Пильеро. Я первым долгом напишу брату; он, кажется, каноник, викарий собора и, верно, ничего не тратит, у него должны водиться деньги. Откладывая хотя бы по тысяче экю в год, он вполне мог скопить за двадцать лет до ста тысяч франков. В провинции священники пользуются большим влиянием.
Цезарина принесла отцу маленький столик; торопясь подать ему все необходимое для письма, она захватила также и оставшиеся приглашения на бал, отпечатанные на розовой бумаге.
– Сожги все это! – крикнул купец. – Только дьявол мог внушить мне мысль дать этот бал. Если не удастся избегнуть катастрофы, все будут считать, что я плут. Да, да, сожги! Без возражений!
Письмо Цезаря Франсуа Бирото
«Дорогой брат!
У меня сейчас такие тяжелые деловые затруднения, что я умоляю тебя прислать мне все деньги, какими ты можешь располагать, даже если бы тебе пришлось их занять для этого.
Твой Цезарь.Твоя племянница Цезарина, – я пишу это письмо в ее присутствии, пользуясь тем, что моя бедная жена уснула, – просит передать тебе привет и нежно тебя целует».
Эта приписка сделана была по просьбе Цезарины, которая отнесла письмо Раге.
– Отец, – сказала она, вернувшись, – здесь господин Леба, он хочет поговорить с вами.
– Господин Леба! – испуганно воскликнул Цезарь, словно, разорившись, он стал преступником. – Судья!
– Дорогой господин Бирото, я принимаю в вас слишком горячее участие, – сказал, входя, богатый суконщик, – мы так давно знаем друг друга, вместе были избраны первый раз в судьи, я не могу не предупредить вас, что у некоего ростовщика Бидо, по прозвищу Жигонне, имеются ваши векселя, переданные ему банкирским домом Клапарона без поручительства. Эти два слова – не только оскорбление, это – смерть вашему кредиту.
– Господин Клапарон желает вас видеть, – доложил вошедший Селестен, – может ли он к вам подняться?
– Сейчас мы узнаем, чем было вызвано это оскорбление, – сказал Леба.
– Сударь, – обратился парфюмер к вошедшему Клапарону, – это господин Леба, член коммерческого суда и мой друг…
– Ах, сударь, вы, стало быть, господин Леба, – перебил Клапарон, – господин Леба из коммерческого суда, господин Леба, к которому хорошо бы попасть на хлеба, есть ведь столько Леба…
– Он видел векселя, которые я вам выдал, – перебивая болтуна, продолжал Бирото, – вы уверяли, что они не будут пущены в обращение, а он их видел с надписью: «без поручительства».
– Ну что ж, – сказал Клапарон, – они действительно не будут пущены в обращение. Они находятся в руках человека, с которым мы вместе ведем множество дел, – у папаши Бидо. Потому-то я и сделал надпись «без поручительства». Если бы векселя должны были быть пущены в обращение, вы бы сделали на них обыкновенную бланковую надпись. Господин судья поймет мое положение. Что такое эти векселя? Цена недвижимости. Кем эта недвижимость должна быть оплачена? Бирото. Почему же вы хотите, чтобы я поручился за Бирото своей подписью? Каждый из нас должен внести свою долю. Так разве недостаточно нашего общего обязательства перед продавцами? Я придерживаюсь незыблемого коммерческого правила: не предоставлю без надобности своего поручительства, как не выдам расписки на не полученную еще сумму. Нужно все предусматривать. Кто даст свою подпись, – платит. А я не хочу быть вынужденным платить трижды.
– Трижды? – воскликнул Цезарь.
– Да, сударь, – ответил Клапарон. – Я поручился уже за Бирото перед продавцами участков, зачем же я буду еще ручаться за него и перед банкиром? Положение у нас сейчас не из легких, Роген увез у меня сто тысяч франков. Моя доля земельных участков обойдется мне таким образом уже не в четыреста, а в пятьсот тысяч франков. Роген увез также двести сорок тысяч франков Бирото. Что бы вы сделали, господин Леба, оказавшись в моем положении? Поставьте себя на мое место. Я имею честь быть вам известным не более, чем мне известен господин Бирото. Слушайте же внимательно. Мы с вами участвуем в деле на половинных началах; вы – вносите вашу долю наличными деньгами; я рассчитываюсь за свою – векселями; векселя эти я предлагаю вам; а вы – исключительно из любезности – беретесь обратить их в деньги. И вот вы узнаете, что банкир Клапарон – человек богатый, уважаемый, наделенный, скажем, всеми добродетелями на свете, что этот достойный Клапарон обанкротился и должен шесть миллионов франков. Согласитесь ли вы в этот самый момент поставить свою подпись на моих обязательствах? Да ведь это было бы безумием! Так вот, господин Леба, Бирото находится в таком именно положении, в какое я предположительно поставил Клапарона. Разве вам не ясно, что помимо уплаты своей доли за участки я, если поручусь за Бирото, вынужден буду уплатить еще и его долг в пределах суммы, на которую им выданы векселя, не получив при этом…
– Кому уплатить? – перебил его парфюмер.
– Не получив при этом его половины земельных участков, – продолжал Клапарон, не обращая внимания на вопрос Цезаря, – ибо никаких преимуществ у меня не будет и мне придется еще покупать тогда его половину. Вот и выходит – платить трижды.
– Но кому же платить? – снова спросил Бирото.
– Держателю векселей, конечно, если бы я сделал передаточную надпись, а с вами случилось бы несчастье.
– Я не прекращу платежей, сударь, – сказал Бирото.
– Прекрасно, – возразил Клапарон. – Но вы ведь были судьей, вы опытный коммерсант, вам известно, что следует все предвидеть, не удивляйтесь же, если я поступаю, как деловой человек.
– Господин Клапарон прав, – заметил Жозеф Леба.
– Я прав, – продолжал Клапарон, – прав с коммерческой точки зрения. Однако речь у нас идет о покупке земли. Так вот, что я должен получить?.. деньги, ибо нам придется платить деньгами. Не будем уж говорить о двухстах сорока тысячах франков, – господин Бирото их достанет, я в этом не сомневаюсь, – сказал Клапарон, глядя на Леба. – Я пришел попросить у вас безделицу – двадцать пять тысяч франков, – продолжал он, обращаясь к Бирото.
– Двадцать пять тысяч франков! – воскликнул Цезарь, чувствуя, что у него кровь леденеет в жилах. – Но за что, сударь?
– Дорогой господин Бирото, мы должны совершить купчую в нотариальном порядке. Насчет оплаты участков мы можем еще между собой столковаться, но объясняться с казной – слуга покорный. Казна пустых слов не любит, долго ждать она не согласна, и нам на этой неделе придется выложить ей сорок четыре тысячи франков гербового сбора. Я, когда шел сюда, никак не ожидал упреков; полагая, что эти двадцать пять тысяч франков могут вас затруднить, я намеревался вам сообщить, что благодаря чистейшей случайности я спас для вас…
– Что? – воскликнул Бирото с явным отчаянием в голосе.
– Безделицу! Двадцать пять тысяч франков в принадлежащих вам векселях разных лиц, которые Роген поручил мне реализовать. Я произвел за вас расходы по их учету и пришлю вам счет; после оплаты вашей доли за совершение купчей вы мне останетесь должны всего лишь шесть или семь тысяч франков.
– Все это мне кажется вполне правильным, – заметил Леба. – Господин Клапарон, видимо, прекрасно разбирается в делах; в отношении незнакомого мне человека я поступил бы на его месте точно так же.
– Господин Бирото от этого не умрет, – сказал Клапарон, – старого волка одним выстрелом не уложишь: мне приходилось видеть волков с простреленной головой, и они бегали… да, черт меня побери! как… ну, как настоящие волки…
– Кто бы подумал, что человек может совершить такую подлость, как Роген! – сказал Леба, пораженный молчанием Цезаря и размахом спекуляции, ничего общего с парфюмерией не имеющей.
– Я чуть было не выдал господину Бирото расписки в получении четырехсот тысяч франков, – сказал Клапарон. – Вот бы я влип! Только днем раньше я вручил Рогену сто тысяч франков. Спасло меня наше взаимное доверие. Всем нам казалось безразличным, где будут наши денежные фонды до окончательного оформления сделки: в нотариальной ли конторе или у меня.
– Лучше всего было бы каждому держать до платежа свои деньги в банке, – заметил Леба.
– Роген был для меня банком, – сказал Цезарь. – Однако он ведь и сам участвовал в деле, – прибавил парфюмер, взглянув на Клапарона.
– Да, но в четвертой доле и то лишь на словах, – ответил Клапарон. – Я уже совершил глупость, позволив ему увезти мои деньги; еще большей глупостью было бы сохранить за ним его долю в участках. Пусть пришлет сперва мои сто тысяч франков, да еще двести тысяч в уплату за свою долю, тогда поглядим! Но он и не подумает, конечно, вкладывать деньги в земельные участки, которые только через пять лет принесут свой первый урожай. Он, говорят, увез всего лишь триста тысяч франков, а ведь, чтобы жить прилично за границей, ему потребуется по меньшей мере пятнадцать тысяч франков годового дохода.
– Грабитель!
– Господи! Но Роген ведь дошел до этого под влиянием страсти, – заметил Клапарон. – Какой старик может поручиться, что устоит и не отдастся во власть своего последнего сумасшедшего увлечения? Никто из нас, благоразумных, не знает, чем он кончит. Последняя-то любовь и бывает безумной! Взгляните на всех этих Кардо, Камюзо, Матифа… Каждый из них обзавелся любовницей! Мы с вами влопались по собственной вине. Зачем мы доверились нотариусу, который занялся спекуляцией? Любой нотариус, любой биржевой маклер или комиссионер, пустившийся в аферы, уже подозрителен. Когда они объявляют себя несостоятельными – это ведь всегда злостное банкротство. Их бы следовало закатать в тюрьму, но они предпочитают укатить за границу. Это будет мне наукой. Право, мы слишком снисходительны, нам, видите ли, неудобно требовать заочного осуждения людей, у которых мы обедали, которые задавали нам балы, словом – людей светских. Никто не подает на них жалоб, – и напрасно!
– Совершенно напрасно, – подхватил Бирото, – закон о несостоятельности и банкротстве должен быть пересмотрен.
– Если я буду вам нужен, – обратился Леба к Цезарю, – я всегда к вашим услугам.
– Господин Бирото ни в ком не нуждается, – заявил неугомонный болтун, у которого дю Тийе открыл шлюзы. (Клапарон повторял урок, очень ловко подсказанный ему дю Тийе.) – Его дело ясно: ликвидация имущества Рогена, как утверждает молодой Кротта, даст кредиторам пятьдесят за сто. Господин Бирото получит сверх того сорок тысяч франков, которых не оказалось у его заимодавца; он может достать еще деньги и под залог своей недвижности. Нам придется внести двести тысяч франков продавцам земельных участков не раньше чем через четыре месяца. Господин Бирото расплатится до тех пор по своим векселям, – ведь для уплаты по ним он не должен был рассчитывать на то, что похитил Роген. А если господину Бирото и будет туговато… что ж, несколько удачных маневров – и он вывернется.
Услыхав, как Клапарон, разбираясь в его деле, приходит к определенным выводам и намечает за него план действий, парфюмер воспрянул духом. Он стал держать себя увереннее, тверже и возымел высокое мнение о способностях бывшего коммивояжера. Дю Тийе счел для себя выгодным прикинуться в глазах Клапарона жертвой Рогена. Он вручил Клапарону сто тысяч франков для передачи Рогену, а нотариус вернул их ему обратно. Обеспокоенный Клапарон был вполне искренен, когда твердил каждому встречному, что Роген нагрел его на сто тысяч франков. Дю Тийе не считал Клапарона вполне надежным человеком; полагая, что в нем сохранилось еще слишком много порядочности и чести, Фердинанд не хотел посвящать его полностью в свои планы; а что Клапарон не сумеет разгадать их, дю Тийе был уверен.
– Ежели наш первый друг не стал бы первой жертвой наших плутней, – где бы мы нашли вторую? – заявил Фердинанд в тот день, когда, выслушав упреки Клапарона, этого коммерческого сводника, он отшвырнул его, как отслужившее орудие.
Леба и Клапарон вышли вместе.
«Я могу еще выпутаться, – подумал Бирото. – Я должен по векселям, срок которым истекает, двести тридцать пять тысяч франков, семьдесят пять тысяч из них за дом и сто семьдесят пять тысяч за земельные участки. Чтобы расплатиться по этим векселям, у меня будет то, что я получу при ликвидации конторы Рогена, – возможно, до ста тысяч франков. Я могу добиться, чтобы ссуду под залог моих участков признали несостоявшейся – итак, всего сто сорок тысяч франков. Надо, стало быть, заработать на «Кефалическом масле» сто тысяч франков и дотянуть с помощью дружеских векселей или кредита у какого-нибудь банкира до того дня, когда мне удастся вернуть потери и когда земельные участки подскочат в цене».
Если человек путем более или менее правильных рассуждений сумеет создать себе в несчастье сладостную поэму надежды и если она станет изголовьем для его усталой головы, – иной раз он бывает спасен. Нередко люди принимают веру, порожденную иллюзиями, за проявление энергии. Надежда, быть может, – залог мужества; недаром же католическая религия возвела ее в добродетель. Разве надежда не служит поддержкой для слабых, помогая им дождаться счастливого случая? Бирото решил отправиться к дяде жены и рассказать ему о своих денежных затруднениях, прежде чем искать помощи у посторонних; дойдя по улице Сент-Оноре до улицы Бурдонне, он ощутил вдруг никогда еще не испытанную им жестокую боль в груди и подумал, что серьезно захворал. Внутри у него все горело. Люди, наделенные чувствительностью, ощущают боль в сердце, а те, кто воспринимает все умом, – страдают от головных болей. В зависимости от темперамента человека его организм в минуты сильных потрясений испытывает боль там, где находится его жизненный центр: у слабых бывают желудочные колики, на Наполеона нападала сонливость. Прежде чем пойти на приступ и завоевать чье-либо доверие, преодолев сперва преграды собственной гордости, люди чести не раз должны ощутить в своем сердце острые шпоры неумолимой наездницы – необходимости. Цезарь два дня терпел такое пришпоривание, прежде чем направился к дяде, да и то решился на этот шаг из родственных чувств: он как-никак обязан был рассказать о своем положении суровому торговцу скобяными товарами. И все же перед дверью Пильеро он почувствовал внезапную слабость, как ребенок у порога дантиста. Но трепетал он потому, что на карту была поставлена вся его жизнь, а не из страха перед минутной болью. Бирото медленно поднялся по лестнице. Он застал старика у камина за чтением «Конститюсьонеля»; около него стоял маленький круглый столик со скромным завтраком: булочкой, маслом, сыром бри и чашкой кофе.
– Вот истинный мудрец! – позавидовал Бирото спокойной жизни дяди.
– Ну, – сказал Пильеро, снимая очки, – я узнал вчера в кафе «Давид» об этой истории с Рогеном и об убийстве его любовницы, Прекрасной Голландки. Надеюсь, что после нашего разговора – ведь мы хотели стать фактическими владельцами земли – ты получил у Клапарона расписку?
– Увы, дяди! Вы бередите мою рану, в том-то и горе, что нет!
– Ах, проклятье! Значит, ты разорен! – воскликнул Пильеро, роняя газету, которую Бирото поспешил поднять, хотя эта газета была «Конститюсьонель».
Пильеро так был захвачен своими мыслями, что его строгое, точно из бронзы отлитое лицо приобрело чеканность медали: он слушал долгий рассказ Бирото, застыв в полной неподвижности, устремив сквозь окно невидящий взгляд на стену соседнего дома. Он слушал и судил, взвешивая, очевидно, все «за» и «против» с беспристрастием нового Миноса, который переплыл через Стикс коммерции, сменив набережную Морфондю на скромную квартирку в четвертом этаже.
– Так как же, дядя? – спросил Бирото, закончив свой рассказ просьбой продать на шестьдесят тысяч франков ренты и ожидая ответа.
– Увы, мой бедный племянник, я не могу этого сделать, ты слишком запутался. Рагоны и я, мы потеряем по пятьдесят тысяч франков каждый. Эти достойные люди, по моему совету, продали акции Ворчинских копей, и раз они понесут убыток, я считаю своим долгом если не вернуть им капитал, то хотя бы помочь им, помочь также своей племяннице и Цезарине. Всем вам, быть может, понадобится кусок хлеба, и вы его у меня найдете…
– Кусок хлеба, дядя?
– Да, да, кусок хлеба! Посмотри правде в глаза: тебе не выпутаться. Из пяти тысяч шестисот франков ренты я могу отдать четыре тысячи, поделив их между вами и Рагонами. Я хорошо знаю Констанс; коль скоро случилась беда, она будет работать не покладая рук, она во всем будет себе отказывать, да и ты тоже, Цезарь!
– Ведь не все еще пропало, дядя!
– Ну, я держусь другого мнения.
– Вы не правы, и я докажу вам это.
– Что ж, буду только рад.
Бирото ушел от дяди, ничего ему не ответив. Он приходил за утешением и за поддержкой, но получил еще один удар, на этот раз, правда, менее сокрушительный, но то был удар не в голову, а в сердце; а ведь в сердце была сосредоточена вся жизнь бедняги. Он спустился уже на несколько ступеней, но потом поднялся обратно.
– Сударь, – холодно сказал он Пильеро, – Констанс ни о чем не знает, сохраните, по крайней мере, все это в тайне. И попросите Рагонов не лишать меня домашнего покоя, – он необходим мне для борьбы с несчастьем.
Пильеро в знак согласия кивнул головой.
– Мужайся, Цезарь! – сказал он. – Ты, я вижу, на меня сердит; но позднее, подумав о жене и дочери, ты поймешь, что я был прав.
Цезарь пал духом, услышав мнение дяди, которого почитал человеком очень проницательным; с высоты своих надежд и упований он низвергся в топкое болото неуверенности. Среди жестоких коммерческих бурь человек, не обладающий, как Пильеро, закаленной душой, становится игрушкой событий: он то прислушивается к чужим мнениям, то действует по собственному разумению, подобно путнику, устремляющемуся за блуждающими огоньками. Он позволяет вихрю закружить себя, вместо того чтобы, зажмурившись, лечь на землю и дать ему пронестись мимо, либо, взвившись вверх, включиться в движение этого вихря и потом из него вырваться.
Бирото среди своих терзаний вспомнил о тяжбе из-за несостоявшегося займа. Он направился на улицу Вивьен к своему стряпчему Дервилю; он хотел как можно скорей начать дело, если тот найдет, что есть надежда добиться признания сделки недействительной. Парфюмер застал Дервиля дома, – он сидел у камина в белом фланелевом халате, спокойный и невозмутимый, как и подобает стряпчему, привыкшему к самым потрясающим признаниям. Бирото впервые заметил эту намеренную холодность; она заставляла остыть любого уязвленного, охваченного страстями человека, лихорадочно трепещущего за свое благосостояние, за жену и детей, болезненно ущемленного в своих жизненных интересах и чести, подобно самому Цезарю, который рассказывал теперь о постигшем его несчастье.
– Если будет доказано, – заявил, выслушав его, Дервиль, – что у Рогена уже не было в наличии той суммы, которую он должен был выдать вам за счет заимодавца, то, поскольку деньги выданы не были, сделка может быть признана недействительной и заимодавец будет взыскивать эту сумму, как и вы свои сто тысяч франков, с залога за контору. Я в таком случае отвечаю за исход процесса, насколько это вообще возможно, ибо заранее выигранных дел не бывает.
Выслушав мнение столь опытного юриста, парфюмер приободрился; он попросил Дервиля добиться судебного решения в течение двух недель. Но стряпчий ответил, что решения об отмене сделки удастся добиться лишь месяца через три.
– Через три месяца! – воскликнул парфюмер, полагавший уже, что часть необходимых ему средств найдена.
– Если мы даже добьемся скорого разбирательства дела, нам не заставить противника шагать с нами в ногу: он воспользуется всеми законными поводами для проволочки; адвокаты не всегда являются в суд; кто знает, быть может, противная сторона пойдет на заочное решение дела? Не все идет так, как нам хочется, уважаемый, – закончил, улыбаясь, Дервиль.
– А как же в коммерческом суде? – спросил Бирото.
– О, между судом коммерческим и судом уголовным и гражданским огромная разница, – ответил адвокат. – Там, у себя, вы решаете все дела сплеча! У нас же в суде все делается по форме. Форма – оплот законности. Пришлось бы вам по вкусу скороспелое решение, которое лишило бы вас сорока тысяч франков? Так вот и ваш противник, увидав, что его деньги в опасности, будет защищаться. Отсрочки – это судебные рогатки.
– Вы правы, – сказал Бирото. Простившись с Дервилем, он вышел от него совершенно убитый.
– Все они правы. Денег! Денег! – стонал он, шагая по улице и разговаривая сам с собой, подобно всем озабоченным людям в неистово клокочущем Париже, который кто-то из современных поэтов назвал кипящим котлом. Когда он вернулся в лавку, приказчик, разносивший счета, встретил его сообщением, что все клиенты, в связи с приближением Нового года, расписавшись в получении счетов, оставили их у себя.
– Значит, негде достать денег! – громко, на всю лавку сказал парфюмер и тут же прикусил себе язык: все приказчики повернули к нему головы.
Так прошло пять дней, пять дней, в течение которых Брашон, Лурдуа, Торен, Грендо, Шафару – словом, все кредиторы, ничего не получившие по своим векселям, – претерпели, подобно хамелеону, ряд превращений, обычных для заимодавца, прежде чем от мирного состояния доверия он перейдет к кровожадной ярости богини войны Беллоны. В Париже люди легко поддаются скупому недоверию, а великодушному порыву уступают лишь с трудом; но, ступив однажды на путь опасений и коммерческих предосторожностей, кредитор доходит до таких гнусностей, которые ставят его ниже должника. Приторная любезность кредиторов сменилась злобным нетерпением, назойливостью, взрывами негодования, леденящим холодом бесповоротного решения, наглостью заготовленной судебной повестки. Брашон, богатый обойщик из Сент-Антуанского предместья, кредитор с задетым самолюбием, – ибо он не был приглашен на бал, – первым протрубил атаку: он требовал уплаты ему долга в двадцать четыре часа, требовал гарантий, и не в виде какой-то там описанной мебели, а в виде закладной на недвижимое имущество в предместье Тампль. Как ни яростны были преследования кредиторов, у Бирото все же бывали минуты передышки. Но вместо того чтобы принять твердое решение и как-то справиться с первыми передрягами, вызванными его тяжелым положением, Цезарь все свои помыслы сосредоточил на том, чтобы жена – единственно, кто мог бы помочь ему советом, – ничего о них не узнала. Стоя у дверей своей лавки, он охранял ее, точно часовой. Он посвятил Селестена в тайну своих временных затруднений, и тот с удивлением и любопытством приглядывался к хозяину: Цезарь терял в его глазах все свое значение, как теряют его в час катастрофы все посредственные люди, преуспевавшие лишь в силу приобретенной сноровки и житейского опыта. Не обладая энергией, необходимой для борьбы с надвигавшейся со всех сторон бедой, Цезарь все же нашел в себе достаточно мужества, дабы разобраться в своем положении. Чтобы рассчитаться за перестройку дома, уплатить за квартиру, произвести срочные платежи, ему требовалось к 30 декабря и к 15 января шестьдесят тысяч франков наличными, из них тридцать тысяч к 30 декабря; все же ресурсы его едва достигали двадцати тысяч франков; ему не хватало, стало быть, десяти тысяч франков. Но положение отнюдь не казалось ему безнадежным, ибо он теперь уже не заглядывал вперед, а жил изо дня в день, подобно искателям приключений. Пока слух о его денежных затруднениях еще не распространился, Цезарь решил предпринять ловкий, по его мнению, ход – обратиться к знаменитому Франсуа Келлеру, банкиру, оратору и филантропу, известному своей благотворительностью и готовностью быть полезным парижскому торговому миру, чтобы удержать тем самым за собой в палате место представителя города Парижа. Банкир был либерал; Бирото – роялист; но парфюмер мерил всех на свою мерку и видел в разнице убеждений только лишнее основание для получения кредита. Если бы от него потребовали гарантий, Бирото рассчитывал попросить у Ансельма тысяч на тридцать векселей – в преданности Попино он не сомневался; получение кредита помогло бы ему выиграть тяжбу и расплатиться с самыми алчными из кредиторов. Парфюмер, человек общительный, привыкший рассказывать перед сном своей милой Констанс о всех своих треволнениях, черпая в этом мужество, и приходивший к правильному решению, только выслушав возражения жены, не мог поговорить о своих затруднениях ни с ней, ни со старшим приказчиком, ни с дядей. И заботы ложились на него двойным бременем. Однако самоотверженный мученик предпочитал терзаться сам, лишь бы не заронить искру тревоги в душу жены; он собирался рассказать ей обо всем, когда опасность минует. У него не хватало решимости на это ужасное признание. Страх за жену придавал ему силу сносить терзания. Каждое утро Цезарь отправлялся в церковь св. Роха и поверял свои горести богу.
«Если по дороге домой я не встречу ни одного солдата – значит, моя молитва будет услышана. Это послужит мне небесным знамением», – думал он, вознеся богу мольбу о помощи.
И Цезарь бывал счастлив, если не встречал солдата. Все же у него было бесконечно тяжело на сердце, и он нуждался в близкой душе, перед которой мог бы излить свою тоску. Цезарине он уже доверился, получив роковое известие, и теперь она полностью была посвящена в его тайну. Они украдкой обменивались взглядами, в которых сквозило отчаяние или надежда, возносили горячие мольбы, задавали участливые вопросы и друг другу отвечали на них, – словом, между ними царило полное взаимопонимание. Для спокойствия жены Бирото притворялся веселым и жизнерадостным. Спросит его о чем-нибудь Констанс, – о! все идет отлично! Попино, о котором Цезарь и думать позабыл, процветает! «Масло» – нарасхват! Векселя Клапарону будут оплачены, беспокоиться нечего. На эту деланную веселость было жутко смотреть. Когда Констанс засыпала на своем пышном ложе, Бирото садился в постели и погружался в мысли о своем несчастье. Иной раз к нему прибегала Цезарина – босиком, в одной сорочке, накинув на белые плечи шаль.
– Ты плачешь, папа, я слышу, – говорила она, обливаясь слезами.
Отправив великому Франсуа Келлеру письмо с просьбой принять его, Бирото впал в такое оцепенение, что дочь повела его погулять по Парижу. Тогда только он впервые заметил громадные красные афиши, расклеенные на улицах, и в глаза ему бросились слова: «Кефалическое масло».
В то время как «Королева роз» трагически клонилась к своему закату, на горизонте в блеске успеха всходило новое светило – «Торговый дом А. Попино». Руководствуясь советами Годиссара и Фино, Ансельм отважно выпустил в продажу свое масло. За три дня на самых видных местах в столице были расклеены две тысячи афиш. Нельзя было не наткнуться на «Кефалическое масло», не прочесть сочиненных Фино лаконичных фраз о том, что заставить волосы вырасти вновь – невозможно, а красить их – опасно, фраз, подкрепленных цитатами из доклада Воклена в Академии наук; то была гарантия продлить жизнь волос, выданная каждому, кто будет пользоваться «Кефалическим маслом». Все парижские брадобреи, парикмахеры и парфюмеры украсили свои двери золоченой рамкой с превосходно отпечатанной на веленевой бумаге рекламой, вверху которой в уменьшенном виде красовалась гравюра «Геро и Леандр» со следующим изречением в виде эпиграфа: «Народы древности сохраняли свои волосы благодаря употреблению «Кефалического масла».
– Он придумал постоянные рамки! Да ведь это – вечная реклама! – пробормотал пораженный Бирото, разглядывая витрину «Серебряного колокола».
– Разве ты не видел у нас в лавке такой же рамки? – спросила его дочь. – Ее принес нам сам господин Попино, а еще он принес и передал Селестену триста флаконов масла.
– Нет, не видел, – ответил Бирото.
– Пятьдесят флаконов Селестен уже продал случайным покупателям, а шестьдесят – нашим постоянным клиентам.
– А! – произнес Цезарь.
Парфюмер, ошеломленный гудением тысячи колоколов, которыми нужда оглушает свои жертвы, жил в состоянии непрерывного головокружения; Попино прождал его накануне целый час и ушел, поговорив с Констанс и Цезариной; он узнал от них, что Цезарь всецело поглощен каким-то крупным делом.
– Ах да, земельные участки!
Попино целый месяц не покидал улицы Сенк-Диаман, проводил ночи напролет и все воскресные дни на фабрике и поэтому не видел, к счастью, ни Рагонов, ни Пильеро, ни своего дяди-судьи. Бедный юноша спал не более двух часов в сутки. Он обходился пока двумя приказчиками, а его разросшемуся делу их требовалось уже четыре. В торговле случай решает все. Кто не оседлает успеха, точно коня, тот проворонит свое счастье. Попино надеялся, что дядя и тетка встретят его с распростертыми объятиями, когда он скажет им через полгода: «Я прочно стал на ноги и сколотил себе состояние», – и что Бирото так же хорошо его примет, когда через шесть месяцев он вручит парфюмеру его долю – тридцать или сорок тысяч франков. Ансельм ничего не знал ни о бегстве Рогена, ни о несчастье, постигшем Бирото, ни о его денежных затруднениях и не мог поэтому обмолвиться каким-нибудь неосторожным словом в присутствии г-жи Бирото. Он обещал Фино по пятьсот франков за рекламу в большой газете – а их было с десяток! – и по триста франков за рекламу в газете помельче – таких тоже было около десяти, – если в каждой из них по три раза в месяц будет упоминаться о «Кефалическом масле». Фино видел, что из этих восьми тысяч франков ему отчислится тысячи три – первая ставка, которую он сможет бросить на необъятный игорный стол спекуляции. И он ринулся, как лев, на своих друзей и знакомых; он проникал по утрам в спальни редакторов, сновал по вечерам во всех театральных фойе, не вылезал из редакций. «Помни о моем масле, дружище, я-то лично ничуть в нем не заинтересован, просто товарищеская услуга кутиле Годиссару». Этой фразой начинался и кончался любой его разговор. Он взял штурмом нижние колонки последних газетных полос, помещая там собственноручно написанные заметки, а гонорар за них оставлял в пользу сотрудников. Хитрый, как статист, стремящийся выбиться в актеры, проворный, словно мальчишка на побегушках, выколачивающий шестьдесят франков в месяц, он строчил льстивые письма, играл на людском самолюбии, оказывал грязненькие услуги редакторам – только бы протолкнуть свои статейки о «Кефалическом масле». Деньги, обеды, заискивания – в своей лихорадочной деятельности он не брезговал ничем. Он подкупал театральными билетами наборщиков, заполняющих в полночь последнюю газетную колонку какой-либо заметкой из кучи «смеси», всегда имеющейся про запас в любой газете; Фино вертелся с озабоченным видом в это время в типографии, словно ему надо было еще раз просмотреть какую-нибудь статью. Приятель всех и каждого, он помог «Кефалическому маслу» одержать верх над «Кремом Реньо», над «Бразильским бальзамом» и другими косметическими средствами, хотя у изобретателей их и хватило гениальности догадаться первыми, какое огромное влияние на публику оказывает повторяющаяся в газетных заметках реклама. В те блаженные времена многие журналисты, подобно волам, не сознавали собственной силы и были заняты актрисами – Флориной, Туллией, Мариеттой и другими. Они всем командовали, но ничего от этого не получали. Андош не добивался ни аплодисментов для актрисы, ни устройства пьесы в театр, ни принятия своего водевиля, ни гонорара за статьи; наоборот, он сам в нужный момент предлагал деньги взаймы и умел кстати пригласить позавтракать; а потому не оказалось ни одной газеты, которая не говорила бы о «Кефалическом масле», не утверждала бы, что оно по составу своему соответствует анализам Воклена, не издевалась бы над теми, кто верит, что можно заставить волосы расти, не предупреждала бы, что красить их опасно.
Заметки эти радовали сердце Годиссара, который, пользуясь газетами, как оружием в своей борьбе с предрассудками, производил в провинции то, что впоследствии с его легкой руки спекулянты стали называть «лихой атакой». Парижские газеты в ту пору безраздельно господствовали в провинции – она, несчастная, собственными органами печати еще не обзавелась. Газеты изучались там тщательнейшим образом, от заголовка до фамилии типографа – строчки, где могла как раз скрываться насмешка людей, преследуемых за убеждения. Опираясь на прессу, Годиссар достиг блестящих успехов в первых же городах, которые он штурмовал своим красноречием. Все провинциальные лавочники пожелали иметь рамки с рекламой и гравюрой «Геро и Леандр». Фино высмеивал «Макассарское масло» в очаровательной шутке, вызывавшей столько смеха в театре «Фюнамбюль»: Пьеро хватает половую щетку, в которой остались одни дырочки, мажет ее «Макассарским маслом», и щетка становится вдруг густой, словно лесная чаща. Эта забавная сценка вызывала хохот всего зала.
Впоследствии Фино, весело посмеиваясь, признавался, что без этой тысячи экю он погиб бы от нищеты и горя. Тысяча экю была для него целым состоянием. Эта газетная кампания помогла ему первому догадаться о могуществе рекламы, которой он потом так широко и умело пользовался. Через три месяца Фино уже был редактором небольшой газетки, а в конце концов купил ее, и она-то послужила основой его состояния. Своим процветанием «Торговый дом А. Попино» обязан был лихой атаке, предпринятой в провинции и за границей прославленным Годиссаром, этим Мюратом коммивояжеров; популярность же свою среди публики фирма приобрела благодаря отчаянному штурму газет, породившему широковещательную рекламу, к которой прибегли, впрочем, также и «Бразильский бальзам», и «Крем Реньо». Этот штурм общественного мнения, положивший начало трем состояниям, трем карьерам, вызвал затем нашествие целого полчища людей, алчущих наживы, ринувшихся на газетную арену, где они и произвели настоящий переворот, создав платные объявления. Но в описываемое нами время реклама «Торгового дома А. Попино и К°» красовалась уже на всех стенах и во всех витринах. Бирото не способен был постигнуть значение этой рекламы и удовольствовался тем, что сказал Цезарине: «Маленький Попино пошел по моим стопам!»; он не понимал того, что времена изменились, не умел оценить могущества новых методов, стремительность и размах которых позволяют несравненно быстрее захватить рынок. Со дня бала Бирото ни разу не был на своей фабрике и не знал, какую кипучую деятельность развил там Попино. Ансельм забрал на фабрику всех рабочих Бирото и сам проводил там ночи напролет. Ему везде мерещилась Цезарина: она сидела на каждом ящике, лежала в каждой отправляемой посылке, смотрела на него со всех накладных. Он говорил себе: «Она будет моей женой», когда, сняв сюртук и засучив рукава по локоть, лихорадочно заколачивал ящики вместо разосланных с поручениями приказчиков.
Продумав всю ночь над тем, что надо сказать и чего не говорить одному из крупнейших представителей банковских сфер, Цезарь отправился на другой день на улицу Гуссэ и с замиранием сердца подошел к особняку банкира-либерала, принадлежавшего к партии, которую обвиняли – и с полным основанием – в стремлении низвергнуть Бурбонов. Парфюмер, как и все парижские торговцы, ничего не знал о людях и нравах банковских сфер. В Париже между высшими банковскими кругами и торговым миром есть связующее звено – второстепенные банкирские дома, удобные для банков посредники, которые служат для них еще одной лишней гарантией. Констанс и Цезарь, никогда не выходившие за пределы своих возможностей, никогда не остававшиеся с пустой кассой, хранившие векселя у себя в портфеле, ни разу не обращались в эти второстепенные банкирские дома; еще меньше они были известны, конечно, в высоких банковских сферах. Возможно, что это ошибка – не заручиться заранее кредитом, хотя бы в нем даже и не было надобности: существуют различные мнения на этот счет. Как бы то ни было, Бирото очень сожалел теперь, что ни разу не пускал в ход свою подпись. Он, впрочем, полагал, что ему, помощнику мэра, человеку причастному к политике и пользующемуся некоторой известностью, достаточно будет назвать себя, чтобы быть принятым; он и не подозревал даже, что аудиенции у этого банкира добиваются не меньше посетителей, чем у короля. Войдя в приемную – преддверие кабинета столь знаменитого во многих отношениях человека, – Цезарь Бирото оказался среди многолюдного общества: тут были депутаты, писатели, журналисты, биржевые маклеры, крупные коммерсанты, дельцы, инженеры, но больше всего было «своих людей», которые, пробравшись сквозь группы посетителей и на особый лад постучавшись в дверь кабинета, входили туда вне очереди.
«Что значу я в этой грандиозной машине?» – подумал Бирото, оглушенный шумом и суетой на этой мельнице идей, выпекавшей для оппозиции хлеб насущный, и где разучивали роли великой трагикомедии, разыгрывавшейся представителями «левой».
Справа от него обсуждали вопрос о займе для окончания работ на основных линиях каналов; заем этот был предложен ведомством путей сообщения, и речь шла о миллионах! Слева – журналисты, которых банкир подкармливал из тщеславия, толковали о вчерашнем заседании палаты и об импровизированной речи патрона. За два часа ожидания Бирото три раза наблюдал, как банкир-политик выходил из своего кабинета, провожая шага на три особо важных посетителей. Последнего из них, генерала Фуа, Франсуа Келлер проводил до самой передней.
«Я погиб!» – с замиранием сердца подумал Бирото.
Когда банкир возвращался обратно в свой кабинет, толпа приближенных, друзей и просителей бросалась к нему, как псы, преследующие красивую суку. Несколько дерзких шавок даже пробрались помимо его воли в святилище. Разговор там длился минут пять – десять, иной раз – четверть часа. Одни уходили огорченные, другие – с подчеркнуто довольным видом или напустив на себя важность. Время шло, и Бирото с тревогой поглядывал на часы. Никто не замечал тайных терзаний, беззвучных воплей человека, сидевшего в золоченом кресле в углу возле камина, у дверей кабинета, этого храма кредита, спасителя от всех зол. Цезарь с болью думал, что не так еще давно и он, правда недолго, был у себя таким же царьком, каким этот человек бывает каждое утро, и измерял всю глубину своего падения. Горестная мысль! Как много невыплаканных слез накипело за этот час! Сколько раз Бирото молил бога расположить к нему банкира, ибо под мягкой оболочкой доступности и напускного добродушия он угадывал в Келлере заносчивость, нетерпеливый деспотизм и самое жестокое властолюбие, повергавшие в ужас кроткую душу парфюмера. Наконец в приемной осталось всего лишь десять – двенадцать посетителей, и Бирото решил, что как только скрипнет дверь кабинета, он встанет, приблизится к знаменитому оратору и скажет ему: «Я – Бирото!» Гренадер, первый ринувшийся на редут у Москвы, проявил не больше мужества, чем потребовалось парфюмеру, чтобы отважиться на этот шаг.
«Все же я помощник мэра», – подумал он, вставая, чтобы назвать себя.
Франсуа Келлер придал лицу своему приветливое выражение; взглянув на орденскую ленточку парфюмера, он, явно стараясь быть любезным, отступил на шаг, распахнул дверь своего кабинета и жестом пригласил Цезаря войти; сам он немного задержался, чтобы поговорить с двумя, вихрем на него налетевшими, посетителями.
– Деказ хочет побеседовать с вами, – сообщил один из них.
– Нужно покончить с павильоном Марсан! Король все прекрасно понимает, он нас поддержит! – воскликнул другой.
– Мы вместе поедем в палату, – изрек банкир, надувшись, как лягушка, старающаяся сравняться с волом.
«Как он успевает еще думать о своих делах?» – удивился потрясенный Бирото.
Лучезарный блеск могущества ослепил парфюмера, как слепит ночную бабочку, любящую сумерки или полутьму ясной ночи, яркий солнечный свет. Цезарь заметил громадный стол, заваленный печатными отчетами о заседаниях палаты, проектами бюджета, раскрытыми комплектами газеты «Монитер», просмотренными и размеченными для того, чтобы бросить в лицо какому-нибудь министру сказанные им некогда, а теперь позабытые слова и заставить его от них отречься под аплодисменты простодушной толпы, не способной понять, что все на свете меняется в зависимости от обстоятельств. На другом столе – груды папок, проспектов, докладных записок, тысячи справок, составленных для человека, чьей кассой стремились воспользоваться все зарождающиеся промышленные предприятия. Королевская роскошь этого кабинета, полного картин, статуй и других произведений искусства; камин, заставленный дорогими безделушками, целые кипы ценных бумаг, – отечественных и иностранных, – все это подавляло Бирото, заставляло его чувствовать собственное ничтожество, усиливало его трепет и леденило кровь. На письменном столе Франсуа Келлера пачками лежали векселя, чеки, торговые циркуляры. Банкир сел и принялся быстро подписывать письма, не требующие просмотра.
– Чему я обязан честью видеть вас, сударь? – спросил он, в то время как его проворная и цепкая рука продолжала сновать по бумаге.
При этих словах человека, к которому прислушивалась вся Европа и который обращался на этот раз к нему одному, бедняге парфюмеру показалось, что ему словно всадили в живот кусок раскаленного железа. На лице у него появилось то искательное выражение, какое финансист уже лет десять наблюдал на лицах людей, старавшихся втянуть его в какую-нибудь аферу, выгодную только для них самих, выражение, сразу же дававшее ему перевес над посетителем. А потому Франсуа Келлер бросил на Цезаря пронизывающий наполеоновский взгляд. Подражание взгляду Наполеона было в то время смешной причудой многих выскочек, которые при императоре были мелкими пешками. Под этим взглядом Бирото – сторонник «правой», ярый приверженец существующего порядка, избиратель-монархист – почувствовал себя так, словно он был товаром, прищелкнутым пломбой таможенного чиновника.
– Сударь, я не хочу злоупотреблять вашим временем и буду краток. Я явился по чисто коммерческому делу – узнать, не могу ли получить у вас кредит. Я – бывший член коммерческого суда, известен в банке, и, если бы в портфеле у меня имелись векселя, я мог бы, как вы сами понимаете, обратиться непосредственно в банк, в правлении которого вы состоите. Я имел честь заседать в коммерческом суде вместе с бароном Тибоном, председателем учетного комитета, и он бы не отказал мне, конечно. Но мне никогда еще не приходилось прибегать к кредиту и подписывать векселя. Подпись свою я сохранил, так сказать, во всей неприкосновенности, а вам известно, как трудно в таких случаях учесть вексель.
Келлер покачал головой, и Бирото счел это знаком нетерпения.
– Сударь, – продолжал он, – вот в чем суть дела. Я вложил капитал в операцию с земельными участками, не связанную с моей торговлей…
Франсуа Келлер, который все еще читал и подписывал бумаги и, казалось, не слушал Цезаря, повернулся к нему и одобрительно кивнул головой. Это придало парфюмеру храбрости. Бирото решил, что дело идет на лад, и облегченно вздохнул.
– Продолжайте, я слушаю вас, – добродушно сказал Келлер.
– Я покупаю половину земельных участков, расположенных в районе церкви Мадлен.
– Да, я уже слышал у Нусингена об этом грандиозном деле, предпринятом банкирским домом Клапарона.
– Так вот, кредит в сто тысяч франков, гарантированный моей долей в этом деле, или моими торговыми предприятиями, – продолжал Бирото, – дал бы мне возможность спокойно дождаться момента, когда я получу прибыль от одной чисто парфюмерной операции. Если понадобится, я могу предложить в обеспечение векселя одной вновь открывшейся фирмы – «Торгового дома Попино», основанного недавно, но…
«Торговый дом Попино», видимо, очень мало заинтересовал Келлера, и Бирото понял, что пошел по ложному пути; он остановился, потом, напуганный молчанием Келлера, продолжал:
– Что же касается процентов, мы…
– Да, да, – сказал банкир, – возможно, что это дело и устроится. Не сомневайтесь в моем желании пойти вам навстречу. Но я ужасно занят, на моих плечах – финансы Европы, палата не оставляет мне свободной минуты, вас не удивит поэтому, что большинство дел я передаю на рассмотрение в свою контору. Спуститесь вниз к моему брату Адольфу, разъясните ему, какие гарантии вы можете предложить; если он одобрит операцию, зайдите ко мне завтра или послезавтра ранним утром, когда я внимательно изучаю дела. Мы будем счастливы и горды заслужить ваше доверие; вы один из тех убежденных роялистов, уважением которых гордятся даже их политические противники…
– Сударь, – воскликнул парфюмер, воспламененный этой ораторской фразой, – я в такой же мере достоин чести, которую вы мне оказываете, как и ордена – знака монаршей милости… Я заслужил его, заседая в коммерческом суде и сражаясь…
– Да, знаю, знаю, – перебил банкир, – ваша репутация говорит за вас, господин Бирото. Вы можете предложить только приемлемое дело, – рассчитывайте на наше содействие.
Приоткрыв незамеченную Бирото дверь, в кабинет заглянула женщина – г-жа Келлер, одна из дочерей графа де Гондревиля, пэра Франции.
– Друг мой, я хотела бы повидать тебя перед тем, как ты поедешь в палату, – сказала она.
– Уже два часа? – воскликнул банкир. – Бой начался. Простите, сударь, нам нужно свалить министерство… Поговорите с братом.
Он довел парфюмера до дверей приемной и приказал одному из слуг:
– Проводите к господину Адольфу.
Положившись на «авось», окрыленный самыми сладостными надеждами, Бирото устремился по лабиринту лестниц вслед за слугой в ливрее, который повел его к менее роскошному, но более деловому кабинету; думая о лестных словах знаменитого человека, казавшихся ему хорошим предзнаменованием, парфюмер удовлетворенно поглаживал подбородок. Цезарь сожалел лишь о том, что враг Бурбонов оказался таким обходительным, наделенным столькими талантами человеком и к тому же великим оратором.
Полный этих иллюзий, он вошел в почти пустой, холодный кабинет, вся обстановка которого состояла из двух секретеров с задвижными крышками и нескольких жалких кресел; убранство его дополняли пыльные занавеси и дрянной ковер. Кабинет этот по отношению к первому был тем же, чем кухня бывает по отношению к столовой, а фабрика – к лавке. Здесь резали и потрошили торговые и банковские предприятия, изучали коммерческие планы и заранее сдирали долю барышей со всех промышленных начинаний, признанных хоть сколько-нибудь выгодными. Здесь подготовлялись те дерзкие комбинации, которыми Келлеры славились в коммерческом мире и с помощью которых они в несколько дней создавали монополии и немедленно их использовали. Здесь изучались пробелы законодательства и бесстыдно обуславливался договорами барыш, именуемый на биржевом языке «жирным куском», – огромные комиссионные, взимаемые за малейшие услуги: за поддержку предприятия своим именем, за предоставленный кредит. Здесь вынашивались мошенничества, искусно прикрытые цветами законности: не взяв на себя никаких обязательств, субсидировали какое-либо сомнительное предприятие, а затем, дождавшись его процветания, требовали в критический момент свои капиталы обратно и, задушив дело, прибирали его к рукам, – жестокий маневр, с помощью которого удалось опутать стольких акционеров.
Братья распределили между собой роли. Наверху Франсуа, блестящий человек, политик, с королевской щедростью расточал любезности и посулы, стараясь сказать каждому что-нибудь приятное. С ним все казалось просто: он был так великодушен на словах, опьянял новичков и неоперившихся еще спекулянтов дурманом своего вкрадчивого красноречия и благосклонности, развивая перед ними их же собственные идеи. Внизу – Адольф, извинившись за поглощенного политикой брата, ловко сгребал ставки с игорного стола; он взял на себя роль человека несговорчивого и требовательного. Чтобы вступить в сделку с этой коварной фирмой, нужно было, таким образом, дважды заручиться ее согласием. Часто милостивое «да», сказанное в роскошном кабинете Франсуа, обращалось в кабинете Адольфа в сухое «нет». Такая система проволочек давала возможность поразмыслить и позволяла нередко поводить за нос неискушенных коммерсантов. Когда Цезарь вошел, брат банкира беседовал с пресловутым Пальма, советчиком и доверенным лицом банкирского дома Келлеров; при появлении парфюмера он вышел из кабинета. Бирото объяснил причину своего прихода, и Адольф, который был еще хитрее брата, – настоящая рысь, с пронзительными глазами, тонкими губами, желчным цветом лица, – наклонил голову и поверх очков окинул Бирото характерным взглядом банкира, сочетанием взгляда коршуна и стряпчего: сумрачный и яркий, он ясен и непроницаем, полон алчности и в то же время равнодушен.
– Пришлите мне документы по делу о покупке участков в районе церкви Мадлен, – сказал Адольф Келлер, – они могут послужить гарантией для открытия вам кредита, но прежде чем открыть его и договариваться с вами о процентах, я должен ознакомиться с ними. Если это дело стоящее, мы можем, чтобы не обременять вас, взамен учетного процента удовольствоваться частью прибыли.
«Ясно, – думал Бирото по дороге домой, – вижу, к чему дело клонится. Мне, как загнанному бобру, придется, видимо, расстаться с клочком своей шкуры. Что ж, лучше лишиться его, нежели погибнуть».
В этот день Бирото возвратился, радостно улыбаясь, и веселость его на сей раз была искренней.
– Я спасен, – сказал он Цезарине, – я получаю у Келлеров кредит.
Лишь 29 декабря Бирото удалось наконец попасть опять в кабинет Адольфа Келлера. Когда парфюмер пришел к нему в первый раз, Адольф уехал осматривать какое-то имение в шести лье от Парижа, которое хотел приобрести великий оратор. В другой раз Келлеры все утро были заняты: дело касалось размещения займа, внесенного на рассмотрение парламента, и они просили господина Бирото зайти в следующую пятницу. Отсрочки убивали парфюмера. Но наступила наконец пятница. Бирото очутился в кабинете; он сидел возле камина против света, падавшего из окна, – по другую сторону камина восседал Адольф Келлер.
– Все это прекрасно, сударь, – сказал Цезарю банкир, указывая на документы. – Но сколько вы уже внесли за участки?
– Сто сорок тысяч франков.
– Деньгами?
– Векселями.
– Они погашены?
– Срок только еще истекает.
– Что же послужит для нас гарантией, если вы заплатили за участки выше их нынешней стоимости? Гарантия это состояла бы лишь в доверии, которое вы внушаете, и в уважении, которым вы пользуетесь. Но в делах руководствоваться чувствами нельзя. Если бы вы уплатили двести тысяч франков, то, предположив даже, что сто тысяч вы переплатили, чтобы получить эти земельные участки, мы имели бы в качестве гарантии за выданные вам под залог сто тысяч вторую сотню тысяч франков. А так, уплатив за вас что следует, мы в результате окажемся собственниками вашей доли; надо, однако, еще выяснить, выгодное ли это дело. Придется ждать пять лет, чтобы капитал удвоился, не лучше ли нам вложить его в банковские операции? Мало ли что может случиться! Вы хотите как-нибудь обернуться, чтобы заплатить по векселям, срок которых истекает, – опасный маневр: вы отступаете, чтобы лучше взлететь; смотрите, как бы в трубу не вылететь. Нет, дело нам не подходит.
Слова эти так потрясли бедного Бирото, точно палач заклеймил его плечо раскаленным железом; парфюмер совершенно потерял голову.
– Послушайте, – обратился к нему Адольф, – брат принимает в вас живейшее участие, он говорил мне о вас. Попробуем разобраться в ваших делах, – продолжал банкир, бросив на парфюмера взгляд куртизанки, которой срочно нужно уплатить за квартиру.
Бирото уподобился старику Молине, над которым сам так высокомерно насмехался. Банкиру доставляло удовольствие выпытывать у бедняги всю подноготную, он допрашивал его, как следователь Попино допрашивал преступников, – и одураченный Цезарь рассказал обо всех своих делах: тут фигурировали и «Двойной крем султанши», и «Жидкий кармин», и дело Рогена, и закладная, по которой не было получено ни гроша. Видя, как сосредоточенно улыбается Келлер, как он кивает головой, Бирото думал: «Он меня слушает, я заинтересовал его, я получу кредит». Адольф Келлер потешался над Бирото так же, как парфюмер потешался над Молине. Поддавшись болтливости, свойственной людям, одурманенным горем, Цезарь обнаружил подлинного Бирото: он показал свою истинную цену, предложив в виде гарантии «Кефалическое масло» и «Торговый дом Попино» – свою последнюю ставку. Простак, обольщенный ложными надеждами, позволил основательно прощупать себя, и Адольф Келлер обнаружил в парфюмере тупицу-роялиста, стоящего на пороге разорения. Келлер был в восторге от неминуемого банкротства помощника мэра их округа, сторонника правительства, человека, только что награжденного орденом; в конце концов он решительно заявил Бирото, что не может ни открыть ему кредит, ни дать о нем благоприятный отзыв великому оратору, своему брату Франсуа. А если бы даже Франсуа, уступая нелепому порыву великодушия, вздумал оказывать поддержку людям враждебных ему убеждений, своим политическим противникам, – он, Адольф, всячески воспротивится тому, чтобы брат разыгрывал из себя такого простофилю; он не позволит ему протянуть руку помощи давнему врагу Наполеона, раненному на ступенях церкви св. Роха. Доведенный до отчаяния Бирото хотел было что-то сказать об алчности представителей банковских сфер, об их черствости и притворном человеколюбии; но он был так подавлен, что лишь с трудом пробормотал несколько слов о Французском банке, откуда Келлеры черпали свои средства.
– Французский банк ни за что не произведет учета векселя, от которого отказывается обыкновенный банкирский дом, – возразил Адольф Келлер.
– Мне всегда казалось, – сказал Бирото, – что банк не отвечает своему назначению: представляя отчет о прибылях, он ставит себе в заслугу, что потерял на парижской торговле всего лишь сто или двести тысяч франков, а ведь он – опекун этой торговли.
Адольф улыбнулся и встал с видом человека, которому разговор наскучил.
– Если бы банк вздумал поддерживать всех прогорающих парижских купцов – то есть коммерсантов из чрезвычайно ненадежного и жульнического торгового мира, он и сам бы через год потерпел крах. Ему и так уж трудно бороться против наплыва дутых ценностей и чрезмерного выпуска акций; где уж тут разбираться в делах всякого, кто ищет помощи.
«Как раздобыть десять тысяч франков, которые нужны мне завтра, в субботу, тридцатого декабря?» – думал Бирото, проходя через двор.
Если тридцать первое – день неприсутственный, принято платить тридцатого. Выйдя из ворот, Бирото сквозь слезы, застилавшие его глаза, с трудом разглядел, что у дома остановилась взмыленная прекрасная английская лошадь; она была впряжена в один из самых изящных кабриолетов, разъезжавших в ту пору по мостовым Парижа. Бирото захотелось попасть под колеса этого кабриолета: он погиб бы от несчастного случая, и этим объяснили бы расстройство в его делах. Цезарь не узнал дю Тийе: стройный, в элегантном утреннем костюме, Фердинанд бросил вожжи слуге и накинул попону на вспотевшую спину своей чистокровной лошади.
– Какими судьбами? – спросил дю Тийе своего бывшего хозяина.
Фердинанд прекрасно знал, что Келлеры навели у Клапарона справки и тот, сославшись на дю Тийе, основательно подорвал установившуюся репутацию парфюмера. Как ни быстро сдержал свои слезы несчастный купец, они были достаточно красноречивы.
– Неужели вы обращались за какой-нибудь услугой к этим разбойникам, к этим душителям торговли? – спросил дю Тийе. – Ведь они пускаются на самые гнусные проделки: скупают, например, индиго, а затем вздувают на него цену или, сбив цену на рис и скупив его по дешевке, диктуют цену рынку; у этих бездушных людей – ни совести, ни чести. Вы, стало быть, не знаете, на что они способны? Если у вас есть какое-нибудь выгодное дельце, Келлеры откроют вам кредит и, дождавшись, когда вы вложите в это предприятие все свои средства, они этот кредит закроют и заставят вас уступить им дело за бесценок. В Гавре, Бордо, Марселе многое могли бы вам порассказать на их счет. Политическая деятельность помогает им покрывать немало мерзостей, поверьте! Потому-то я и эксплуатирую их без зазрения совести. Давайте прогуляемся, дорогой Бирото! Жозеф! Лошадь вся в мыле, надо ее поводить; тысяча экю как-никак деньги! – И дю Тийе направился в сторону бульваров.
– Вот что, дорогой хозяин, – ведь вы же были когда-то моим хозяином, – вам нужны деньги? А эти негодяи требовали от вас гарантий? Я дам вам денег под простой вексель, я ведь вас хорошо знаю. Мое состояние нажито честным путем, ценой невероятных усилий. За ним, – за своим состоянием, – я ездил в Германию. Теперь я могу уже рассказать вам: я скупил долговые обязательства короля с шестидесятипроцентной скидкой, и ваше поручительство сослужило мне тогда немалую службу. А я, – я умею быть благодарным! Если вам нужны десять тысяч франков – они ваши.
– Как, дю Тийе, это серьезно? Вы не шутите? – воскликнул Цезарь. – Да, я действительно несколько стеснен, но это ненадолго…
– Знаю, дело Рогена, – ответил дю Тийе. – Э, я и сам попался на десять тысяч франков, мошенник занял их у меня, чтобы сбежать. Но госпожа Роген вернет их мне из причитающейся ей по закону части. Я посоветовал бедной женщине не глупить и не жертвовать своим состоянием для уплаты долгов, сделанных ради продажной девки; это имело бы еще смысл, если бы она могла расплатиться полностью, но как отдать предпочтение одним кредиторам перед другими? Вы не какой-нибудь Роген, я знаю вас, – сказал дю Тийе, – вы скорее пустите себе пулю в лоб, чем заставите меня потерять хотя бы су. Вот мы и дошли до улицы Шоссе д'Антен, зайдем ко мне.
Выскочка доставил себе удовольствие: он не прошел с Бирото в контору, а повел бывшего своего хозяина через всю квартиру; он проходил по анфиладе высоких покоев медленно, чтобы Цезарь успел разглядеть красивую, роскошно обставленную столовую, увешанную картинами, купленными в Германии, и две гостиные – их великолепное и изящное убранство парфюмер мог сравнить лишь с тем, что ему довелось видеть у герцога де Ленонкура. Буржуа был ослеплен обилием позолоты, произведениями искусства, баснословно дорогими безделушками, драгоценными вазами, тысячью художественных мелочей, перед которыми совершенно померкла роскошь квартиры Бирото; и, зная, во что обошлось ему собственное безрассудство, Цезарь Бирото спрашивал себя: «Где Фердинанд нажил миллионы?»
Он вошел в спальню; сравнительно с ней спальня его жены показалась ему такой же убогой, как комнатка какой-нибудь хористки, ютящейся на четвертом этаже, в сравнении с особняком примадонны. Потолок был затянут фиолетовым атласом, оттененным заложенной в складку белой атласной полосой; белый горностаевый коврик у кровати выделялся красивым пятном на лиловатом фоне левантского ковра. Мебель и все предметы убранства поражали оригинальностью формы и причудливой изысканностью. Парфюмер остановился перед восхитительными часами с Амуром и Психеей; они были сделаны по заказу известного банкира, и дю Тийе удалось раздобыть единственную имевшуюся копию. Бывший приказчик привел наконец своего бывшего хозяина в кабинет – щегольскую, изящную, кокетливую комнату, наводившую скорее на мысль о делах любовных, чем финансовых. Г-жа Роген, вероятно в благодарность за заботы о ее состоянии, преподнесла дю Тийе золотой чеканный нож для разрезания бумаги, малахитовые пресс-папье и множество роскошных, умопомрачительно дорогих безделушек. Великолепный ковер, образец бельгийского искусства, радовал глаз прекрасными узорами, в его густом и мягком ворсе утопала нога. Дю Тийе усадил у камина несчастного оробевшего и ослепленного парфюмера.
– Не желаете ли позавтракать со мной? – спросил банкир.
Он позвонил. Вошел лакей, одетый лучше Бирото.
– Скажите господину Легра, чтобы он поднялся ко мне, затем велите Жозефу вернуться домой, – вы найдете его у особняка Келлеров; зайдите к Адольфу Келлеру и передайте, что я не заеду к нему, а жду его у себя до открытия биржи. Скажите, чтоб подавали завтрак, да поживее!
Слова эти ошеломили парфюмера.
«Как! он посылает за этим страшным Адольфом Келлером, свистнул ему, как собачонке! Он, дю Тийе!»
Грум ростом с ноготок расставил складной столик, такой хрупкий, что Бирото его раньше и не приметил, и подал паштет из гусиной печенки, бутылку бордо и всякие изысканные блюда, появлявшиеся в доме парфюмера лишь по большим праздникам. Дю Тийе наслаждался. Ненависть к единственному человеку, имевшему право презирать его, пышно расцвела в нем; Бирото возбуждал в своем бывшем приказчике то остро волнующее чувство, какое он испытал бы, глядя на ягненка, бьющегося в когтях у тигра. Порыв великодушия коснулся души Фердинанда: он спрашивал себя, не достаточно ли он уже отомщен, и колебался между проснувшимся состраданием и угасавшей ненавистью.
«Мне ничего не стоит уничтожить этого человека как коммерсанта, – думал дю Тийе, – в моих руках жизнь и смерть его самого, его жены, когда-то меня отвергшей, его дочери, добиться руки которой казалось мне некогда верхом удачи. Деньги его достались мне; не удовольствоваться ли тем, что этот жалкий глупец будет держаться на поверхности с помощью каната, конец которого будет у меня?»
У людей честных не хватает такта; прямолинейные и бесхитростные в своей добродетели, они лишены чувства меры. Бирото довершил свою гибель; сам того не подозревая, он разъярил тигра одним своим словом, одной похвалой, одной нравоучительной фразой; своим честным простодушием он пронзил сердце дю Тийе, и банкир вновь стал безжалостным. Когда кассир вошел, дю Тийе указал ему на Бирото.
– Господин Легра, принесите мне десять тысяч франков и заготовьте вексель на эту сумму моему приказу, сроком на три месяца, от имени господина Бирото – вы его знаете.
Дю Тийе положил парфюмеру паштета и налил ему стакан бордо, а тот, почувствовав себя спасенным, судорожно смеялся, теребил цепочку часов и лишь тогда отправлял кусочек в рот, когда бывший приказчик говорил ему: «Почему вы ничего не кушаете?»
Своим поведением Бирото выдавал, как глубока была бездна, в которую ввергла его рука дю Тийе, откуда она его сейчас извлекла и куда могла снова низвергнуть. Когда вернулся кассир и Цезарь, подписав вексель, почувствовал десять банковых билетов в кармане, – он уже не мог больше совладать с собой. Еще только минуту назад его квартал, банк, все должны были узнать о его несостоятельности, ему пришлось бы признаться в своем разорении жене; а теперь все уладилось! Радость избавления была столь же сильной, как мучительный страх перед угрожавшей ему гибелью, – и на глазах бедняги невольно выступили слезы.
– Что с вами, дорогой патрон? – спросил дю Тийе. – Разве вы завтра не сделали бы для меня того же, что я делаю для вас сегодня? Ведь это вполне естественно.
– Дю Тийе! – торжественно и с пафосом провозгласил простак, поднимаясь и беря за руку своего бывшего приказчика. – Полностью возвращаю тебе свое уважение!
– А почему оно было утрачено? – спросил, покраснев, дю Тийе, глубоко уязвленный, несмотря на свое благоденствие.
– Не то чтобы утрачено… – запинаясь, сказал парфюмер, ужаснувшись собственной глупости. – Но мне рассказывали о вашей связи с госпожой Роген. Черт побери! сойтись с чужой женой…
«Околесицу несешь, старый колпак!» – подумал дю Тийе, вспомнив жаргон своей старой профессии. И он мгновенно вернулся к своему плану – уничтожить, растоптать эту добродетель, уронить, смешать с грязью во мнении парижского торгового мира честного и почтенного человека, поймавшего его когда-то на месте преступления. В основе всякого чувства ненависти мужчины к мужчине или женщины к женщине, будь то в политике или в частной жизни, всегда лежит какое-нибудь неожиданное уличающее открытие. Ненавидят друг друга не за причиненный ущерб, не за нанесенную рану, даже не за пощечину – все это поправимо. Но попасться с поличным, совершая подлость!.. Дуэль между подлецом и тем, кто его уличил, может кончиться лишь смертью одного из них.
– О, госпожа Роген? – насмешливо протянул дю Тийе. – Да ведь это только лишний листочек в лавровом венке молодого человека! Понимаю, дорогой патрон: вам, верно, говорили, что она ссужала меня деньгами? Ну, так вот, как раз наоборот, – это я помог ей восстановить состояние, расстроенное в связи с делами ее мужа. Источник моего богатства, как я уже вам докладывал, совершенно чист. У меня не было ни гроша, вам это хорошо известно. Молодые люди иной раз могут оказаться в очень стесненных обстоятельствах, дойти даже до крайней нищеты; и если они, подобно Республике, прибегают иногда к принудительному займу, – что ж, этот долг они впоследствии уплачивают и становятся тогда честнее Франции.
– Это верно, – поспешил согласиться Бирото. – Дитя мое… господь… Ведь это Вольтер, кажется, сказал: «Раскаянье возвел в людскую добродетель».
– Если только, – продолжал дю Тийе, еще глубже задетый этой цитатой, – они не расхищают подло и низко имущества ближнего, как это может случиться, если вы в ближайшие три месяца обанкротитесь и мои десять тысяч франков пойдут прахом…
– Мне обанкротиться?.. – воскликнул Бирото, выпивший три стакана вина, а еще более захмелевший от радости. – Нет, нет… Всем известны мои взгляды на банкротство! Банкротство – смерть для купца! Я бы умер!
– За ваше здоровье! – сказал дю Тийе.
– За твое будущее потомство, – ответил парфюмер. – Почему вы не покупаете у меня в лавке, дю Тийе?
– Сказать по правде, я, честное слово, побаиваюсь госпожи Бирото. Она всегда мне нравилась! И не будь вы моим хозяином, я, право…
– Не ты первый находишь ее красивой, она многим внушала страсть, но она меня любит! Вот что, дю Тийе, друг мой, – продолжал Бирото, – доведите уж дело до конца.
– Что вы хотите этим сказать?
Бирото посвятил дю Тийе в спекуляцию с земельными участками, и тот, прикинувшись изумленным, одобрил эту операцию и похвалил парфюмера за проницательность и дальновидность.
– Я очень рад твоему одобрению; ведь вы, дю Тийе, слывете одной из умнейших голов в банковском мире! Дитя мое, вы могли бы помочь мне получить кредит во Французском банке; это дало бы мне возможность дождаться прибыли от «Кефалического масла».
– Я могу направить вас в банкирский дом Нусингена, – ответил дю Тийе, решивший заставить свою жертву проделать все пируэты пляски, которые приходится обычно проделывать банкротам.
Фердинанд сел к столу и написал следующее письмо:
«Господину барону де Нусингену.
Париж.Дорогой барон!
Податель сего письма, господин Цезарь Бирото – помощник мэра второго округа и один из наиболее известных представителей парфюмерной промышленности Парижа; он желает завязать с вами деловые сношения. Отнеситесь же с полным доверием ко всему, о чем он вас будет просить; оказав ему услугу, вы обяжете тем самым
Вашего друга Ф. дю Тиие».В своей подписи дю Тийе написал вместо «и» краткого простое «и». Для всех, с кем он вел дела, эта умышленная небрежность служила условным знаком. Самые горячие рекомендации, самые настойчивые, неотступные просьбы в его письме ничего в таком случае не стоили. Подобное письмо, в котором дю Тийе коленопреклоненно о чем-либо просил, в котором умоляли, казалось, даже восклицательные знаки, написано было, следовательно, по каким-то веским соображениям, он не мог отказать в рекомендации, но ей не полагалось придавать ни малейшего значения. Увидев вместо «и» краткого простое «и», приятель дю Тийе отделывался от просителя пустыми обещаниями. Немало светских людей с большим весом, как дети, позволяют дурачить себя таким образом всяким дельцам, банкирам, адвокатам, которые пользуются двумя подписями: одной – настоящей, другой – не имеющей силы. На эту удочку попадаются самые проницательные люди. Чтобы разгадать такую уловку, надо испытать на себе различное действие рекомендации действительной и мнимой.
– Вы меня спасаете, дю Тийе, – сказал Цезарь, прочитав письмо.
– Господи! – воскликнул дю Тийе. – Отправляйтесь же за деньгами; ознакомившись с моим письмом, Нусинген отвалит их вам, сколько пожелаете. Сам я лишен, к сожалению, на несколько дней свободной наличности; иначе я не отправил бы вас к этому банковскому магнату, – ведь Келлеры по сравнению с бароном Нусингеном просто пигмеи. Нусинген – это новый Лоу. Мое письмо поможет вам расплатиться пятнадцатого января, а там видно будет. Мы с Нусингеном в самых дружеских отношениях, и он ни за какие миллионы не захочет отказать мне в услуге.
«Это все равно что поручительство на векселе, – думал преисполненный благодарности Бирото, уходя от дю Тийе. – Да, доброе дело даром не пропадает!» – И он пустился философствовать. Все же радость его омрачалась одной неотвязной мыслью. Несколько дней ему удавалось не давать жене заглядывать в торговые книги, он поручил ведение кассы Селестену и сам помогал ему, – мог же он пожелать, чтоб жена и дочь полностью насладились прекрасной квартирой, которую он для них устроил и обставил! Но, вкусив первые радости этого скромного счастья, г-жа Бирото скорее согласилась бы умереть, чем оставить лавку без хозяйского глаза и не наводить самой, как она говорила, порядок в деле. Бирото чувствовал, что зашел в тупик: он истощил уже все уловки, чтобы скрыть от жены денежные затруднения. Констанс очень рассердилась, узнав об отправке счетов, она выбранила приказчиков и обвинила Селестена в желании разорить фирму, решив, что мысль эта всецело принадлежит ему. Селестен, по распоряжению Бирото, ни слова ей не возразил. По мнению приказчиков, г-жа Бирото держала мужа под башмаком: в вопросе о том, кто действительно глава семьи, можно еще обмануть посторонних, но уж никак не домочадцев. Бирото приходилось признаться жене в своих денежных затруднениях – расчеты с дю Тийе нужно было провести по книгам. Вернувшись домой, Цезарь с трепетом душевным увидел Констанс за конторкой; она проверяла сроки векселей и, очевидно, подсчитывала кассу.
– Чем ты собираешься завтра платить? – шепотом спросила она, когда муж сел возле нее.
– Деньгами, – ответил Цезарь, вытаскивая банковые билеты из кармана и передавая их Селестену.
– Откуда у тебя эти деньги?
– Вечером расскажу. Селестен, запишите: конец марта, вексель на десять тысяч франков приказу дю Тийе.
– Дю Тийе! – с испугом повторила Констанс.
– Я пойду к Попино, – сказал Цезарь. – Нехорошо, что я до сих пор у него еще не был. Как его масло? Продается?
– Триста флаконов, которые он дал нам, уже проданы.
– Не уходи, Бирото, мне нужно поговорить с тобой, – сказала Констанс и, схватив Цезаря за руку, повлекла к себе в комнату с поспешностью, показавшейся бы при других обстоятельствах забавной.
– Дю Тийе! – воскликнула она, оставшись наедине с Цезарем и убедившись, что никто, кроме Цезарины, не может их услышать. – Дю Тийе, который стащил у нас тысячу экю… Ты имеешь дело с этим чудовищем дю Тийе… пытавшимся меня обольстить… – прошептала она ему на ухо.
– Юношеские проказы, – заявил Бирото, ставший вдруг вольнодумцем.
– Послушай, Бирото, ты чем-то встревожен, ты не бываешь больше на фабрике. Что-то случилось, я чувствую! Ты должен мне все рассказать, я хочу знать!
– Ну так вот, – сказал Бирото, – мы чуть было не разорились, так обстояло дело еще нынче утром, но теперь все обошлось.
И он рассказал ей о том, что пережил в эти ужасные две недели.
– Так вот причина твоей болезни! – воскликнула Констанс.
– Да, мама, – сказала Цезарина. – Отец проявил редкое мужество. Единственное, чего я хочу, – быть любимой так, как он любит тебя. Он только и думал о том, как бы не причинить тебе горя.
– Мой сон сбылся, – с ужасом сказала бедная женщина, смертельно побледнев и бессильно опускаясь на диванчик, стоявший возле камина. – Я все это предвидела. Ведь говорила же я тебе в ту роковую ночь в нашей прежней спальне, которую ты разрушил, что мы все глаза себе выплачем. Бедняжка Цезарина! Я…
– Ну вот, начинается! – воскликнул Бирото. – Ты отнимаешь у меня мужество, а оно мне так нужно!
– Прости, друг мой, – сказала Констанс, взяв Цезаря за руку и пожимая ее с нежностью, которая потрясла беднягу до глубины души. – Я виновата. Пришла беда, и нужно быть стойкой; я все вынесу безропотно. Никогда ты не услышишь от меня ни единой жалобы. – Она бросилась в объятия Цезаря и воскликнула, обливаясь слезами: – Не падай духом, друг мой! Если понадобится, у меня хватит мужества на нас обоих!
– Мое «Масло», жена, мое «Масло» спасет нас!
– Да поможет нам господь! – сказала Констанс.
– Неужели Ансельм не выручит тебя, папа? – спросила Цезарина.
– Я пойду к нему, – воскликнул Цезарь, потрясенный надрывающим сердце тоном жены, которую он, оказывается, еще недостаточно знал даже после девятнадцати лет совместной жизни. – Успокойся, Констанс. На вот, прочти письмо дю Тийе к господину де Нусингену. Кредит нам обеспечен. К тому времени я выиграю процесс. И у нас ведь есть еще дядя Пильеро, – добавил он, прибегая к спасительной лжи, – не нужно только падать духом.
– Если бы дело было только в этом! – ответила, улыбаясь, Констанс.
Бирото испытывал огромное облегчение, точно выпущенный на свободу узник; но он чувствовал какое-то изнеможение, обычно следующее за напряженной душевной борьбой, когда тратится больше нервной энергии, больше усилий воли, нежели их полагается ежедневно расходовать; тогда приходится, так сказать, заимствовать из основного капитала жизненных сил. Цезарь как-то сразу постарел.
«Торговый дом А. Попино» на улице Сенк-Диаман стал за два месяца неузнаваем. Лавка была заново окрашена. Подновленные шкафы, полные флаконов, радовали глаз каждого опытного торговца, как явный признак процветания. Пол в лавке завален был кипами оберточной бумаги, склад заставлен бочонками с различными маслами, которые стараниями преданного Годиссара сданы были Попино на комиссию. Бухгалтерия и касса помещались наверху, над лавкой. Старуха кухарка готовила еду для Попино и трех его приказчиков. Сам Попино, помещавшийся в маленькой конторе за застекленной перегородкой в углу лавки, поминутно выбегал оттуда в переднике из саржи и зеленых нарукавниках, с пером за ухом, – если только не утопал в ворохе бумаг, как это было в тот момент, когда явился Бирото, заставший его за разборкой почты – целой груды заказов и переводных векселей. Когда бывший хозяин окликнул его: «Ну, как, мой мальчик?» – Попино поднял голову, замкнул на ключ свою каморку и радостно бросился к нему навстречу; кончик носа у Ансельма сильно покраснел: печь в лавке не топилась, а дверь на улицу оставалась открытой.
– Я уж боялся, что вы никогда не придете, – почтительно сказал Попино.
Сбежались приказчики – поглазеть на компаньона их хозяина, столпа парфюмерии, помощника мэра, награжденного орденом. Это безмолвное поклонение польстило Бирото. Цезарь, еще недавно чувствовавший себя у Келлеров таким ничтожным, ощутил теперь потребность подражать им: погладил подбородок, горделиво приподнялся на носках, опустился на пятки и начал изрекать избитые истины.
– Ну что, дружок, рано встаете? – спросил он Попино.
– Да зачастую и вовсе не ложимся, – ответил Ансельм. – За успех нужно цепко держаться.
– А что я тебе говорил? Мое «Масло» – это клад.
– Да, сударь. Но ведь важно еще пустить его в ход. Ваш бриллиант я вставил в достойную оправу.
– Ну, и как же обстоят дела? – осведомился парфюмер. – Есть уже прибыль?
– Как, через месяц? – воскликнул Попино. – Что вы! Милейший Годиссар уехал всего лишь каких-нибудь три недели назад и даже нанял, ничего мне не сказавши, почтовую карету. О, он так нам предан! Мы можем быть благодарны дяде! А газеты, – шепнул он на ухо Бирото, – влетят нам в двенадцать тысяч франков.
– Газеты! – удивился помощник мэра.
– Да разве вы их не читали?
– Нет.
– Так вы ничего не знаете! – сказал Попино. – Двадцать тысяч франков ушло на одни только афиши, рамки и печатные рекламы. Заготовлено сто тысяч флаконов! Ах, сейчас нужно все поставить на карту! Производство мы ведем на широкую ногу. Если бы вы заглянули в предместье, на фабрику – я нередко провожу там ночи напролет, – вы увидели бы механические щипцы для орехов – мое изобретение, и, могу сказать, неплохое. За последние пять дней я на одних только парфюмерных маслах заработал три тысячи франков комиссионных.
– Ну и голова! – сказал Бирото, запустив руку в волосы Попино и взъерошив их, словно Ансельм был еще мальчуганом. – Я это всегда предсказывал.
Вошли покупатели.
– Итак, до воскресенья; мы обедаем у твоей тетушки Рагон, – сказал Бирото и предоставил Попино заниматься делами, поняв, что свежая туша, привлекшая его сюда своим запахом, еще не разделана.
«Вот чудеса! Приказчик за сутки становится купцом, – думал Бирото, который был не менее поражен успехом и самоуверенностью Попино, чем роскошью в доме дю Тийе. – Когда я положил руку на голову Ансельму, он, видите ли, скорчил такую недовольную гримасу, будто он и впрямь уже Франсуа Келлер».
Цезарь не подумал о том, что на них смотрели приказчики, а главе фирмы подобает охранять свой авторитет. Здесь, как и у дю Тийе, добряк в простоте душевной совершил глупость: он не сдержал своих, хотя и искренних, но по-мещански выраженных чувств. Всякого другого, кроме Ансельма, Цезарь этим оскорбил бы.
Воскресному обеду у Рагонов суждено было стать последней радостью девятнадцатилетнего счастливого супружества Бирото, и радостью, ничем не омраченной. Рагоны жили на улице Пти-Бурбон-Сен-Сюльпис, на третьем этаже почтенного старинного дома, в старой квартире с простенками, украшенными танцующими пастушками в фижмах и пасущимися барашками, в духе того самого XVIII века, степенное и важное купечество которого, с его забавными нравами, преклонением перед знатью, преданностью королю и церкви, достойно представляли бывшие владельцы «Королевы роз». Мебель, часы, посуда, белье – все здесь было отмечено печатью старины и потому именно казалось необычным. В гостиной, обитой старинным узорчатым штофом с драпировками из шерстяной материи, с широкими и удобными креслами и дамскими письменными столиками, висел портрет кисти Латура, изображавший Попино, старшину города Сансера, отца г-жи Рагон; удачно воспроизведенный художником, он надменно улыбался, как выскочка в зените своей славы. Дома неизменным дополнением г-жи Рагон была маленькая английская собачка из породы кинг-чарльз, которая выглядела необычайно эффектно на небольшой жесткой софе в стиле рококо, никогда, конечно, не игравшей роли софы, описанной Кребильоном. Среди прочих достоинств Рагоны славились запасом старых вин, правда, почти совсем уже исчерпанным, и ликерами госпожи Анфу, которые некогда привозили г-же Рагон с Антильских островов ее упорные, но, как утверждали, безнадежные обожатели. Не удивительно, что обеды Рагонов так ценились друзьями! Кухарка, старуха Жаннетта, была беззаветно предана своим хозяевам и готова была красть ягоды, чтобы варить для них варенье. Она не относила своих денег в сберегательную кассу, а покупала на них лотерейные билеты, надеясь в один прекрасный день сорвать крупный выигрыш для стариков Рагонов. По воскресеньям, когда в доме собирались гости, она, несмотря на свои шестьдесят лет, с такой легкостью носилась из кухни, где готовила, к столу, за которым прислуживала, что смело могла бы поспорить проворством с мадмуазель Марс в роли Сюзанны из «Женитьбы Фигаро».
К обеду были приглашены: судья Попино, дядюшка Пильеро, Ансельм, трое Бирото, трое Матифа и аббат Лоро. Г-жа Матифа, недавно танцевавшая на балу у парфюмера в тюрбане, на этот раз явилась в синем бархатном платье, толстых бумажных чулках, козловых башмаках, в замшевых перчатках с зеленым бархатным кантом, в шляпе, подбитой розовой тафтой и украшенной цветами примулы. Все десять приглашенных собрались к пяти часам. Старики Рагоны умоляли гостей не опаздывать. Когда эту почтенную чету куда-либо приглашали, обед предупредительно подавали именно в этот час, ибо желудки семидесятилетних стариков не могли уже приноровиться к иному обеденному часу, установленному хорошим тоном.
Цезарина знала, что г-жа Рагон посадит ее рядом с Ансельмом: все женщины, даже ханжи и простушки, прекрасно разбираются в любовных делах. Дочь парфюмера принарядилась, чтобы окончательно вскружить голову Попино. Констанс, с болью в сердце отказавшаяся от зятя-нотариуса, который в ее представлении был чем-то вроде наследного принца, с грустью помогала дочери одеваться. Дальновидная мамаша опустила пониже целомудренную газовую косынку, чтобы слегка открыть плечи Цезарины и показать на редкость изящную линию ее шеи. Корсаж в греческом стиле, заложенный пятью складками и перекрещивавшийся слева направо, мог слегка приоткрываться, обнаруживая при этом очаровательные округлости. Мериносовое платье свинцово-серого цвета с оборками, отделанными зеленым аграмантом, обрисовывало талию, никогда еще не казавшуюся столь тонкой и гибкой. Уши Цезарины украшали золотые филигранные серьги с подвесками. Волосы, поднятые кверху по китайской моде, позволяли любоваться прелестной свежестью кожи с просвечивающими голубыми жилками, под матовой белизной которой, казалось, трепетала сама жизнь. Словом, Цезарина была соблазнительно хороша, и г-жа Матифа не могла удержаться, чтобы не признать этого, не догадываясь, что мать и дочь поняли необходимость обворожить молодого Попино.
Ни Бирото, ни жена его, ни г-жа Матифа – никто не прерывал нежной беседы, которую влюбленные вели вполголоса в амбразуре окна, не замечая холодного ветра, проникавшего сквозь щели. Впрочем, разговор старших заметно оживился, когда судья Попино упомянул о бегстве Рогена, заметив, что это уже второй случай банкротства нотариуса и что в былые времена о таких преступлениях и не слыхивали. При имени Рогена г-жа Рагон толкнула брата ногой, Пильеро заговорил громче, чтобы заглушить слова судьи, и оба они указали ему на г-жу Бирото.
– Я уже все знаю, – печально и кротко сказала друзьям Констанс.
– Сколько же он у вас похитил? – спросила г-жа Матифа у Бирото, смиренно потупившего голову. – Если верить слухам – вы разорены.
– У Рогена было моих двести тысяч франков. Что касается сорока тысяч, которые он якобы занял для меня у одного из своих клиентов, – то из-за них мы судимся.
– Дело будет слушаться на этой неделе, – сказал Попино. – Я подумал, что вы ничего не будете иметь против, если я объясню ваше положение председателю суда; он приказал рассмотреть бумаги Рогена в распорядительном заседании, чтобы выяснить, как давно были растрачены вклады заимодавца, и познакомиться с доказательствами этой растраты, представленными Дервилем, который сам выступает по делу, чтобы избавить вас от расходов.
– Выиграем ли мы тяжбу? – спросила г-жа Бирото.
– Не знаю, – ответил Попино. – Хотя дело поступило в то отделение суда, по которому я числюсь, я воздержусь от его обсуждения, если бы даже меня назначили.
– Неужели могут возникнуть сомнения в таком простом деле? – спросил Пильеро. – Разве в акте не должно быть указаний на передачу сумм и разве нотариус не должен удостоверить, что в его присутствии произведено вручение денег заимодавцем должнику? Попадись Роген в руки правосудия, его отправили бы на каторгу.
– Я считаю, – ответил Попино, – что заимодавец должен получить возмещение из залога за нотариальную контору Рогена и из денег, вырученных за ее продажу; но в суде, даже в более ясных делах, голоса судей делятся иной раз поровну – шесть против шести.
– Как, мадмуазель, господин Роген сбежал? – спросил Ансельм, услышав наконец, о чем говорят вокруг него. – Господин Бирото ни слова не сказал мне об этом, а ведь я готов отдать за него последнюю каплю крови…
Цезарина поняла, что это за него распространяется на всю их семью, и если простодушная девушка и могла ошибиться насчет интонации, то не понять устремленного на нее пламенного взгляда было невозможно.
– Я знаю это, я так ему и говорила; но он все скрыл даже от мамы и доверился только мне одной.
– Вы ему напомнили обо мне в тяжелую минуту? – сказал Попино. – Вы, стало быть, читаете в моем сердце, но все ли вы в нем прочли?
– Быть может.
– Я бесконечно счастлив, – сказал Попино. – Избавьте меня от сомнений, и я через год буду настолько богат, что отец ваш уже не встретит меня так плохо, когда я заговорю с ним о нашем браке. Теперь я буду спать не больше пяти часов в сутки…
– Только не захворайте, – сказала Цезарина с непередаваемым выражением, бросив на Попино взгляд, в котором можно было прочесть все, что она не высказала словами.
– Жена, – сказал, вставая из-за стола, Цезарь, – похоже, что молодые люди любят друг друга.
– Ну и что ж, тем лучше, – серьезным тоном ответила ему Констанс. – Значит, у нашей дочери будет хороший муж, умный и энергичный человек. Талант – лучше всякого состояния.
Она поспешила уйти из гостиной в комнату г-жи Рагон. В нескольких сказанных за обедом фразах Цезарь проявил такое невежество, что вызвал у Пильеро и судьи Попино улыбку; это напомнило несчастной женщине, как беспомощен ее муж в борьбе с бедой. У Констанс было тяжело на душе, она чувствовала инстинктивное недоверие к дю Тийе, ибо, даже не зная латыни, каждая мать понимает смысл выражения: «Timeo Danaos et dona ferentes» Она плакала в объятиях дочери и г-жи Рагон, но не захотела объяснять им причину своих слез.
– Нервы, – сказала она.
Конец вечера старики провели за картами, а молодежь играла в фанты – игра, которая называется «невинной», очевидно, потому, что прикрывает невинные хитрости мещанской любви. Супруги Матифа тоже приняли в ней участие.
– Цезарь, – сказала Констанс по дороге домой, – ступай третьего числа к барону Нусингену. Надо узнать заблаговременно, сможешь ли ты заплатить пятнадцатого. Ведь в случае какого-нибудь затруднения ты не раздобудешь сразу нужные средства.
– Хорошо, жена, пойду, – отвечал Цезарь и, пожав руки Констанс и Цезарине, прибавил: – Дорогие мои кошечки, невеселый новогодний подарок я вам преподнес!
В полутьме фиакра обе женщины не могли видеть лицо бедного парфюмера, но почувствовали, как на руки им закапали горячие слезы.
– Не падай духом, друг мой! – сказала Констанс.
– Все будет хорошо, папенька. Господин Ансельм Попино сказал мне, что готов отдать за тебя последнюю каплю крови.
– За меня, а главное, за мою дочку, не так ли? – подхватил Цезарь, стараясь казаться веселым.
Цезарина пожала отцу руку, давая ему понять, что Ансельм стал ее женихом.
За первые три дня нового года Бирото получили сотни две поздравительных карточек. Этот поток лицемерных знаков дружеского внимания, эти свидетельства мнимой приязни ужасны для людей, чувствующих, что их затягивает водоворот несчастья. Бирото три раза тщетно наведывался в особняк знаменитого банкира. Новый год и связанные с ним празднества вполне оправдывали отсутствие финансиста. В последний раз парфюмер проник до самого кабинета банкира, где старший служащий банка, какой-то немец, заявил ему, что г-н де Нусинген только в пять часов утра вернулся с бала у Келлеров и не сможет в половине десятого начать прием посетителей. Бирото сумел вызвать участие этого служащего и беседовал с ним около получаса. Днем сей министр банкирского дома Нусингена письменно уведомил Цезаря, что барон примет его завтра, 12 января, в полдень. Хотя каждый час ожидания приносил с собой новую каплю горечи, день промелькнул с ужасающей быстротой. Бирото приехал в фиакре и приказал кучеру остановиться неподалеку от особняка, двор которого был полон экипажей. При виде роскоши этого знаменитого банкирского дома у честного малого болезненно сжалось сердце.
«А ведь он дважды прибегал к ликвидации», – подумал Цезарь, поднимаясь по великолепной, украшенной цветами лестнице и проходя по пышно убранным покоям, которыми славилась баронесса Дельфина де Нусинген. Баронесса стремилась соперничать с богатейшими особняками Сен-Жерменского предместья, где она тогда еще не была принята. Барон и его супруга завтракали. Хотя в конторе ожидало множество посетителей, Нусинген заявил, что друзей дю Тийе он готов принять в любое время. Сердце Бирото радостно затрепетало от надежды, когда он увидел, как изменилось при этих словах наглое лицо лакея.
– Исфините, моя торокая, – сказал барон, приподнявшись и слегка кивнув Бирото, – но этот каспатин топрый роялист и плиский трук тю Тийе. В топафок он помошник мэра фторофо окрука и сатает палы с фостошной пышностью. Ты пес сомнения с утофольстфием с ним поснакомишься.
– Мне будет очень лестно поучиться у госпожи Бирото, ведь Фердинанд («Как! – подумал Бирото, – она называет его просто Фердинанд!») так восторженно отзывался о вашем бале; это тем более ценно, что обычно он ничем не восторгается. Фердинанд – критик строгий, значит, все действительно было бесподобно. Скоро ли вы собираетесь дать второй бал? – с самым любезным видом осведомилась баронесса де Нусинген.
– Сударыня, такие небогатые люди, как мы, редко развлекаются, – ответил парфюмер, не зная, насмешка это с ее стороны или простая любезность.
– Кто рукофотил оттелкой фашей кфартиры? Кашется, каспатин Кренто? – спросил барон.
– А, Грендо! Тот красивый молодой архитектор, что вернулся недавно из Рима? – воскликнула Дельфина де Нусинген. – Я без ума от него: он украсил мой альбом такими очаровательными рисунками!
Венецианский заговорщик, подвергавшийся средневековой пытке, вряд ли чувствовал себя хуже в «испанском сапоге», чем чувствовал себя Бирото в обычной своей одежде. В каждом слове ему чудилась насмешка.
– Мы тоше таем непольшие палы, – сказал барон, бросая на парфюмера инквизиторский взгляд. – Как фитите, фсе этим понемношку санимаются.
– Позавтракайте с нами запросто, господин Бирото, – предложила Дельфина, указывая на роскошно сервированный стол.
– Баронесса, я пришел по делу, и я…
– Та, – подтвердил барон, – мы путем иметь маленький телофой раскофор. Фы расрешите?
Утвердительно кивнув головой, Дельфина спросила мужа:
– Разве вы собираетесь покупать парфюмерные товары?
Барон пожал плечами и повернулся к доведенному до отчаяния Цезарю.
– Тю Тийе прояфляет к фам шифейший интерес, – сказал он.
«Наконец-то мы подходим к делу», – подумал несчастный купец.
– С ефо письмом фы имеете полушить ф моем панке кретит, сколько посфолит мое сопстфенное состояние…
Целительный бальзам, содержавшийся в воде, которой ангел напоил в пустыне Агарь, походил, вероятно, на живительную влагу, заструившуюся в жилах парфюмера при этих словах, сказанных на ломаном французском языке. Хитрый банкир, чтобы иметь возможность отказываться от собственных слов, якобы плохо понятых его собеседником, нарочно сохранял ужасное произношение немецких евреев, воображающих, что они говорят по-французски.
– Мы фам откроем текуший шот. Фот как мы поступим, – с чисто эльзасским добродушием сказал этот добрый и достойный великий финансист.
У Бирото уже не оставалось никаких сомнений, – как коммерсант, он хорошо знал, что тот, кто не собирается дать взаймы, не станет входить в подробности сделки.
– Фы сами понимаете, што и от польших и от малых лютей трепуется три потписи. Итак, принесите фекселя прикасу нашефо трука тю Тийе; я неметленно отсылаю их ф панк со сфоей потписью, и ф тот ше тень ф шетыре шаса фы полушите ту сумму, на которую утром потписали фекселя. Ни комиссионных, ни ушотнофо просента, нишефо мне не нушно, только, панкофский просент: путу ошень рат окасаться фам полесным… Но стафлю отно услофие, – сказал он с неподражаемым лукавством, поднося указательный палец к носу.
– Готов принять любые условия, барон, – сказал Бирото, полагая, что речь идет об удержании какой-то части из его прибылей.
– Услофие, которому я притаю ошень польшое снашение: пусть моя супрука перет, как она скасала, уроки у фашей супруки.
– Умоляю вас, барон, не смейтесь надо мной.
– Нет, нет, – с самым серьезным видом продолжал банкир, – ми услофились: фи приклашаете нас на фаш слетуюший пал. Моя шена сафитует, она хотела пы фитеть фашу кфартиру, о которой фсе столько кофорят.
– Господин барон!
– О, если фи нам откасываете, – и я откасыфаюсь иметь с фами тело! Фи в польшой слафе. Та, я снаю, фас сопирался нафестить сам префект Сены.
– Господин барон!
– У фас пыл ла Пиллартиер, камеркер тфора, старый фантеец, – он тоше пыл ранен у серкфи святого Роха.
– Тринадцатого вандемьера, барон!
– У фас пыл каспатин те Лассепетт, акатемик Фоклен…
– Господин барон!..
– Ах, шорт попери, не скромнишайте, каспатин помошник мэра. Король кофорил, как я слышал, што фаш пал…
– Король? – спросил Бирото. Но ему так и не пришлось ничего больше узнать.
В комнату развязно вошел молодой человек; узнав еще издали его шаги, прекрасная Дельфина де Нусинген зарделась.
– Топрый тень, торокой те Марсе! – сказал барон де Нусинген. – Сатитесь на мое место. Ф моей конторе, кофорят, мношестфо посетителей. Я снаю отшефо: фортшинские копи приносят тфойной тифитент. Каспаша те Нусинкен, у фас теперь на сто тысяш франкоф польше тохота. Мошете накупить ceпe всяких нарятов и упоров, штопы стать еще красифее, хотя фы как путто ф этом не нуштаетесь.
– Господи! А Рагоны-то продали свои акции! – воскликнул Бирото.
– Это кто такие? – спросил, улыбаясь, молодой щеголь.
– Фот, – сказал Нусинген, возвращаясь, так как был уже у самой двери, – эти люти, кашется… Те Марсе, это – каспатин Пирото, фаш парфюмер. Он сатает палы с фостошной пышностью, и король накратил ефо ортеном.
Подняв к глазам лорнет, де Марсе сказал:
– Да, правда, его лицо показалось мне несколько знакомым. Вы что же, собираетесь надушить ваши дела какими-нибудь ароматическими веществами, умастить их маслами?..
– Так фот, эти Раконы, – с недовольным видом продолжал барон, – тершали у меня теньки, и я помок пы им состафить cene состояние, но они не сумели потоштать лишний тень.
– Господин барон! – воскликнул Бирото.
Видя, что дело его в очень неопределенном положении, бедняга, не простившись даже с баронессой и де Марсе, устремился за банкиром. Тот уже спускался по лестнице, и парфюмер догнал его только внизу, у входа в контору. Открывая дверь, Нусинген увидел отчаянный жест несчастного купца, чувствовавшего, что он летит в бездну, и сказал ему:
– Так решено? Пофитайтесь с тю Тийе и опо фсем с ним токофоритесь.
Бирото решил, что де Марсе имеет влияние на барона; быстрее ласточки он взлетел вверх по лестнице и проскользнул в столовую, где должны были еще находиться баронесса и де Марсе: ведь когда он уходил, Дельфина ждала кофе со сливками. Кофе стоял на столе, но баронесса и молодой щеголь исчезли. Заметив недоумение посетителя, лакей ухмыльнулся; Бирото медленно спустился по ступенькам к подъезду. Он устремился к дю Тийе, но, как ему сказали, банкир уехал за город, к г-же Роген. Парфюмер нанял кабриолет и щедро заплатил кучеру, чтобы тот быстро, как на почтовых, доставил его в Ножан-сюр-Марн. Однако в Ножан-сюр-Марне привратник сказал ему, что господа уехали обратно в Париж. Бирото вернулся домой совершенно разбитый. Рассказав о своих мытарствах жене и дочери, он поражен был тем, что Констанс, встречавшая обычно зловещей птицей малейшую коммерческую неудачу, принялась нежно утешать его, уверяя, что все образуется.
На другой день Бирото в семь часов утра, хотя только еще рассветало, был уже у дома дю Тийе. Вручив швейцару десять франков, он попросил вызвать камердинера. Добившись чести поговорить с этим важным лакеем, он сунул ему в руку два золотых и упросил провести его к банкиру, как только тот проснется. Эти маленькие денежные жертвы и большие унижения, знакомые придворным и просителям, помогли парфюмеру достигнуть цели. В половине девятого его бывший приказчик, зевая и потягиваясь, вышел к нему с заспанным лицом, извинившись, что принимает его в халате. Бирото очутился лицом к лицу с кровожадным тигром, в котором он все еще упорно видел своего единственного друга.
– Пожалуйста, не стесняйтесь, – сказал Бирото.
– Что вам угодно, милейший Цезарь? – спросил дю Тийе.
С замиранием сердца Бирото передал ему ответ и требования барона де Нусингена; невнимательно слушая его, дю Тийе разыскивал мехи для раздувания огня и бранил лакея, недостаточно быстро растопившего камин.
Лакей прислушивался, и Цезарь, сперва не замечавший этого, в конце концов увидел его любопытную физиономию и смущенно замолчал; но банкир рассеянно бросил:
– Продолжайте, продолжайте, я вас слушаю!
У несчастного Бирото взмокла от пота сорочка. Но его охватил ледяной холод, когда дю Тийе вперил в него пристальный взгляд своих стальных с золотыми прожилками глаз, дьявольский блеск которых пронзил парфюмера до глубины сердца.
– Дорогой патрон, чем же я виноват, что банк отказался учесть ваши векселя, которые переданы Жигонне банкирским домом Клапарона с надписью: «без поручительства»? Как это вас, старого члена коммерческого суда, угораздило попасть впросак? Я прежде всего – банкир. Я могу дать вам денег, но не знаю, примет ли банк мою подпись, и не хочу рисковать. Я существую только благодаря кредиту. Все мы им только и держимся. Хотите денег?
– А можете ли вы дать, сколько мне требуется?
– Зависит от суммы. Сколько вам нужно?
– Тридцать тысяч франков.
– Все шишки на мою голову! – расхохотался дю Тийе.
Услышав этот смех, парфюмер, ослепленный роскошью, окружавшей дю Тийе, подумал, что так может смеяться только богач, для которого подобная сумма – сущий пустяк; он вздохнул с облегчением. Банкир позвонил.
– Попросите сюда ко мне кассира.
– Он еще не приходил, сударь, – ответил лакей.
– Бездельники смеются надо мной! Уже половина девятого, к этому времени можно наворотить дел на миллион франков.
Минут через пять явился Легра.
– Сколько у нас в кассе денег?
– Всего двадцать тысяч. Ведь вы распорядились купить на тридцать тысяч франков ренты с уплатой наличными пятнадцатого.
– Да, правда, я еще не совсем проснулся.
Как-то странно посмотрев на Бирото, кассир вышел.
– Если бы истину изгнали с земли, последнее свое слово она поручила бы сказать кассиру, – заявил дю Тийе. – Не участвуете ли вы в деле, которое открыл недавно маленький Попино? – спросил он после долгого гнетущего молчания, во время которого лоб парфюмера покрылся каплями пота.
– Да, – простодушно ответил Бирото, – а не могли бы вы учесть его векселя на более или менее крупную сумму?
– Принесите мне его векселей на пятьдесят тысяч франков, я помогу вам учесть их под небольшой процент у некоего Гобсека, человека весьма покладистого, когда у него много свободных денег, а их у него всегда вдоволь.
Бирото вернулся домой удрученный, не понимая еще, что банкиры перебрасывали его друг другу, точно мяч; но Констанс уже догадалась, что ни о каком кредите не может быть и речи: если три банкира отказали, все они, стало быть, справлялись о таком видном человеке, как помощник мэра, и рассчитывать на Французский банк больше не приходится.
– Попытайся отсрочить векселя, – сказала она, – пойди к Клапарону, – он твой компаньон; пойди ко всем, у кого есть твои векселя, которым приходит срок пятнадцатого, и попроси отсрочить их. А учесть векселя Попино ты всегда успеешь.
– Завтра тринадцатое! – прошептал совершенно убитый Бирото.
Говоря словами его же собственного проспекта, Бирото обладал сангвиническим темпераментом; волнения и умственное напряжение поглощали у него слишком много сил, восстановить которые мог только сон. Цезарина увела отца в гостиную и, чтобы развлечь его, сыграла «Сновидение Руссо» – прелестную вещицу Герольда, а Констанс села подле мужа с работой. Бедняга уронил голову на подушку дивана и всякий раз, как подымал глаза на жену, видел на губах ее нежную улыбку; так он и уснул.
– Бедняжка! – сказала Констанс. – Сколько ему предстоит пережить терзаний! Только бы у него хватило сил!
– Что с тобой, мама? – спросила Цезарина, заметив, что мать плачет.
– Доченька, я вижу, как надвигается банкротство. Если отцу придется объявить себя несостоятельным, нечего рассчитывать на чью-либо жалость. Будь готова, дитя мое, стать простой продавщицей. Когда я увижу, что ты стойко переносишь удары судьбы, я найду в себе силы начать жизнь сызнова. Твой отец не утаит ни гроша – я знаю его; я также откажусь от своих прав, и все, что у нас есть, пойдет с молотка. Отнеси завтра свои платья и драгоценности к дяде Пильеро, ведь ты, деточка, не несешь никакой ответственности.
Слова эти, сказанные с благочестивым смирением, повергли Цезарину в ужас. Она решилась было повидать Ансельма, но не могла преодолеть своей застенчивости.
На следующий день в девять часов утра Бирото уже был на улице Прованс: теперь его терзала тревога совсем иного рода, чем прежде. Добиваться кредита – самое обычное дело в коммерции. Затевая какое-нибудь предприятие, всегда изыскивают средства; но просьба об отсрочке векселя – это первый шаг к банкротству, и в коммерческой практике он равносилен первому проступку, который в судебной практике ведет виновного сначала в суд исправительной полиции, а затем к уголовному преступлению, подлежащему суду присяжных. Тайна ваших денежных затруднений и вашей неплатежеспособности становится известна всем. Купец, связанный по рукам и ногам, отдает себя во власть другого купца, а милосердие – добродетель, которая на бирже не котируется.
Парфюмер, недавно еще с самоуверенным видом расхаживавший по улицам Парижа, был теперь измучен сомнениями и не решался войти в дом Клапарона; он начинал уже понимать, что у банкиров сердце – всего лишь орган кровообращения. Клапарон с его шумной веселостью казался Цезарю таким бесцеремонным и грубым, что парфюмер боялся к нему подступиться.
«Но он ближе к народу и, может статься, будет менее бездушным!» – таков был первый упрек, подсказанный Бирото его отчаянным положением.
Собрав остатки мужества, Цезарь поднялся по лестнице на неприглядные антресоли, в окнах которых успел заметить порыжевшие от солнца зеленые занавески. На прибитой к дверям овальной медной дощечке черными буквами было выгравировано: «Контора»; Бирото постучался, ответа не последовало, и он вошел. Более чем скромное помещение говорило о скудости, скупости или полной заброшенности. За медной решеткой, укрепленной на некрашеном деревянном барьере, стояли почерневшие столы и конторки, но не видно было ни одного служащего. Пустовавшие столы были уставлены чернильницами с заплесневевшими чернилами, а из этих чернильниц высовывались гусиные перья, растрепанные, как вихры уличных мальчишек, или расходящиеся венчиком, как утренние лучи солнца; тут же навалены были никому, видимо, не нужные папки, бумаги и бланки. Паркет походил на пол в приемной пансиона: сырой, грязный, затоптанный. Следующая комната, на двери которой значилось «Касса», вполне соответствовала нелепому и мрачному виду первой. В одном из углов ее находилась большая дубовая загородка с решеткой из медной проволоки и с задвигающимся окошечком; внутри этой клетки стоял огромный железный сундук, в котором, наверное, уже завелись крысы. За открытой дверью виднелся еще какой-то несуразный письменный стол, а перед ним безобразное зеленое кресло с продавленным сиденьем, из которого торчал конский волос, закручиваясь множеством игривых завитков, как кудряшки на парике самого Клапарона. Главным украшением этой комнаты, служившей, очевидно, гостиной до того, как квартиру превратили в контору банка, был круглый стол, покрытый зеленым сукном; вокруг него стояли старые, обитые черной кожей стулья с некогда позолоченными гвоздиками. В довольно изящном по форме камине и на чугунной его доске незаметно было ни малейших следов копоти, которая свидетельствовала бы о том, что этот камин топили. Засиженное мухами зеркало имело самый убогий вид и вполне гармонировало с часами в футляре из красного дерева, приобретенными, вероятно, с торгов на распродаже мебели какого-нибудь престарелого нотариуса; часы эти не радовали взгляда, и без того уже удрученного видом двух канделябров без свечей и густым слоем пыли, покрывавшей все вокруг. Закопченные обои мышино-серого цвета с розовым бордюром указывали на длительное пребывание в комнате заядлых курильщиков. Все здесь напоминало так называемые «редакционные комнаты» в газетах. Боясь быть нескромным, Бирото трижды постучался в дверь, противоположную той, в которую он вошел.
– Войдите! – крикнул Клапарон, и по звуку его голоса можно было судить о том, как далеко он находился и как пуста была соседняя комната, откуда до парфюмера доносилось потрескивание огня в камине, но где самого банкира, очевидно, не было. Комната эта служила Клапарону личным кабинетом. Между пышным кабинетом Келлера и удивительно запущенным жилищем этого мнимого крупного дельца была не меньшая разница, чем между Версалем и вигвамом вождя племени гуронов. Парфюмеру, уже видевшему величие банка, предстояло теперь познакомиться с шутовской на него пародией.
Клапарон лежал на кровати, которая поставлена была в продолговатой нише, устроенной в задней стене кабинета; комната эта была обставлена довольно изящной мебелью, но испорченной, разрозненной, изломанной, ободранной, загрязненной и приведенной в негодность безалаберными привычками хозяина; при виде Бирото Клапарон запахнул засаленный халат, положил трубку и так поспешно задернул полог кровати, что даже наивный парфюмер усомнился в его целомудрии.
– Присаживайтесь, сударь, – сказал мнимый банкир.
Без парика, с головой, криво повязанной каким-то фуляром, Клапарон показался Бирото особенно отвратительным: распахнувшийся на груди халат приоткрыл белую шерстяную фуфайку, ставшую темно-бурой от долгой носки.
– Не хотите ли позавтракать? – спросил Клапарон, вспомнив о бале у парфюмера и желая отблагодарить его этим приглашением за гостеприимство, а заодно и втереть ему очки.
Круглый стол, с которого были наскоро убраны бумаги, красноречиво говорил о недавней пирушке в приятной компании: на нем красовались устрицы, паштет, белое вино и застывшие в соусе почки в шампанском. Горящие в камине угли бросали золотистые блики на яичницу с трюфелями. Наконец два прибора и салфетки в жирных пятнах, оставленных вчерашним ужином, открыли бы глаза самой святой невинности. Несмотря на отказ Бирото, Клапарон продолжал настаивать, как человек, уверенный в своей ловкости.
– Я кое-кого ждал к себе, но гость мой куда-то пропал, – умышленно громко воскликнул хитрый коммивояжер, чтобы его услышала особа, которая зарылась в постели под одеяла.
– Сударь, – сказал Бирото, – я пришел по делу и долго вас не задержу.
– Я завален работой, – отвечал Клапарон, указывая на секретер с задвижной крышкой и на стол с грудами бумаг, – у меня нет минутки свободной. Принимаю я только по субботам, но для вас, дорогой господин Бирото, я всегда дома. Никак не урву времени ни для любви, ни для прогулок по городу; я теряю всякий деловой нюх: чтобы сохранить его, ведь надобно же иногда и побездельничать. А мне не удается даже побродить по бульварам. Опротивели мне дела, и слышать о них больше не желаю; денег с меня хватит, а вот в счастье всегда нехватка. Хотелось бы мне, клянусь честью, поездить по свету, побывать в Италии! Ах, Италия! Вот благодатный край! Прекрасна, наперекор всем превратностям судьбы! Чудесная страна, где ждет меня величавая и томная итальянка! Всю жизнь обожал итальянок! Была у вас когда-нибудь любовница итальянка? Нет? Так поедем со мной в Италию! Мы увидим Венецию – резиденцию дожей; город этот, к несчастью, попал в руки невежественной Австрии, которая ничего не смыслит в искусствах! Баста! бросим все эти государственные дела, займы, каналы. Я – добрый малый, когда у меня туго набиты карманы. Едем же, черт побери, путешествовать!
– Одно слово, сударь, и я ухожу, – сказал Бирото. – Вы передали мои векселя господину Бидо?
– Вы хотите сказать – Жигонне, милейшему Жигонне? Вот человек, всегда готовый нежно обнять вас… как веревка шею висельника.
– Да, – продолжал Цезарь, – я хотел бы… и тут я рассчитываю на ваше благородство и деликатность…
Клапарон поклонился.
– Я хотел бы получить отсрочку…
– Невозможно, – прервал банкир, – дела я веду не один; нас целый совет, настоящая палата депутатов. Мы, правда, спелись и шипим в один голос, как сало на сковороде. Да, черт побери, мы обо всем совещаемся. Участки в районе церкви Мадлен – это пустяки! Мы орудуем во многих местах. Э, любезнейший, если бы мы не имели доли в участках на Елисейских полях, вокруг достраивающейся биржи, в квартале Сен-Лазар и около Тиволи, мы «не форошали пы телами», как говорит толстяк Нусинген. Что для нас участки около Мадлен? Так, чепуха! Мы, любезнейший, крохоборничать не любим, – сказал он, похлопывая Бирото по животу и обнимая его за талию. – Ну, давайте же завтракать, потолкуем за едой, – прибавил Клапарон, чтобы смягчить отказ.
– Охотно, – ответил Бирото.
«Собутыльнику моему не поздоровится», – подумал парфюмер, надеясь подпоить Клапарона, чтобы выведать, кто же в действительности его компаньоны в деле с земельными участками, начинавшем казаться ему подозрительным.
– Вот и хорошо! Виктория! – крикнул банкир.
На зов явилась женщина, похожая на ведьму и одетая, как торговка рыбой.
– Скажите в конторе, что меня нет дома ни для кого – даже для Нусингена, Келлеров, Жигонне и всех прочих.
– Из конторщиков пока пришел только господин Ламперер.
– Ну что ж, ему ли не знать, как принимают знать, – сказал Клапарон. – А мелюзгу дальше первой комнаты не пускайте. Велите всем говорить, что я обдумываю, как опрокинуть… бокал шампанского.
Напоить бывшего коммивояжера – дело безнадежное. Пытаясь выведать правду у своего компаньона, Цезарь принял его пошлую болтливость за признаки опьянения.
– Вы все еще связаны с этим подлецом Рогеном, – сказал Бирото. – Написали бы вы ему, чтобы он помог пострадавшему из-за него другу, человеку, с которым он каждое воскресенье вместе обедал, которого знает вот уже двадцать лет.
– Роген?.. Он дуралей! Его доля в участках станет нашей! Не горюйте, дружище, все уладится. Расплатитесь пятнадцатого, а там видно будет. Я говорю «видно будет»… (еще стаканчик вина!), а собственно, я-то сам в деле не участвую. По мне хоть и вовсе не платите, я на вас в претензии не буду: мое участие в деле сводится к получению комиссионных за покупку да к доле в барышах, – ведь это я, знаете ли, обрабатываю владельцев участков… Ясно? Компаньоны у вас надежные, мне, милейший, опасаться нечего. Участвовать в делах по нынешним временам можно по-разному! Любое дело требует людей самых разнообразных способностей. Почему бы вам не принять участие в наших делах? Бросьте ваши баночки-скляночки, помаду да гребенки – это же вздор! Ничего не стоящее дело! Стригите публику, займитесь спекуляцией.
– Спекуляцией? – спросил парфюмер. – А это что за промысел?
– Это промысел отвлеченный, – отвечал Клапарон, – промысел, который еще лет десять для большинства останется тайной, так, по крайней мере, утверждает наш финансовый Наполеон – великий Нусинген. Финансист, занимающийся спекуляцией, охватывает всю совокупность цифр, снимает сливки с еще не полученных доходов, это – гениальное постижение, способ регулярно стричь надежду, словом – новая кабалистика! Нас пока всего лишь десять – двенадцать мудрых голов, посвященных в кабалистические тайны этих великолепных комбинаций.
Цезарь открыл глаза и уши, стараясь разобраться в столь сложной фразеологии.
– Послушайте-ка, – продолжал Клапарон, помолчав. – Для таких дел нужны люди. Нужен, например, человек с идеями, у которого гроша ломаного нет за душой, как и у всех людей с идеями. Пораскинув умом, они раскидывают направо и налево деньги, ни о чем не заботясь. Представьте себе свинью, которую пустили по лесу, где растет масса трюфелей. Следом за ней идет молодчик, человек денежный, который ждет, когда раздастся хрюканье, возвещающее о находке. Понятно? Как только человек с идеями напал на выгодное дельце, человек с деньгами, потрепав его по плечу, говорит: «Это еще что такое? Куда лезете, любезный, у вас кишка тонка; вот вам тысяча франков, а пустить дело в ход предоставьте уж мне». Ладно! Тут банкир созывает ловкачей: «За работу, приятели! Рекламу! Врите напропалую!» Ловкачи хватают охотничий рог и трубят что есть мочи: «Сто тысяч франков за пять су!» или «Пять су за сто тысяч франков!» – «Золотые россыпи, угольные копи!» Словом – обычная коммерческая шумиха. Покупаются отзывы людей науки или искусства, и балаган открыт: публика валом валит и получает что положено за свои денежки; а выручка попадает к нам в карман. Свинью загоняют в хлев и насыпают ей картошки, а дельцы загребают банковые билеты и блаженствуют. Так-то, сударь мой! Займитесь делами! Кем вам хочется быть? Свиньей, простофилей, ловкачом или миллионером? Поразмыслите над этим: я изложил вам теорию современных займов… Заходите ко мне почаще. Я весельчак и добрый малый. Наша французская жизнерадостность легкомысленна, но мы умеем быть серьезными; веселье делу не помеха, наоборот. За бутылочкой люди скорее столкуются. Ну-ка, еще бокал шампанского! Лучшая марка, поверьте! Один клиент прислал его мне прямо из Эперне; я распродал когда-то немало его вин, и по хорошей цене (я ведь работал по винной части). Он мне благодарен и шлет подарки даже и сейчас, когда я процветаю. А ведь это редкость.
Бирото, пораженный легкомыслием и беспечностью человека, которого все считали наделенным недюжинным умом и незаурядными коммерческими способностями, не решался его больше расспрашивать. Уже захмелев от шампанского, он все же вспомнил имя, упомянутое дю Тийе, и спросил, кто такой банкир Гобсек и где он проживает.
– Как! Вы уже до этого дошли, сударь? – воскликнул Клапарон. – Гобсек такой же банкир, как парижский палач – лекарь. Он с первого же слова требует пятьдесят процентов. Гобсек из школы Гарпагона: он вам предложит канареек, чучело удава, меха летом и кисею зимой. А какое обеспечение вы ему предложите? Чтобы он принял вексель за одной только вашей подписью, вам придется заложить ему жену и дочь, самого себя – словом, решительно все, вплоть до картонки для шляп, зонтика и калош (вы ведь, кажется, сели в калошу?), вплоть до каминных щипцов, совка для углей и дров из вашего сарая… Гобсек! Гобсек!.. Хорошенькое дело! Кто вас направил к этой финансовой гильотине?
– Господин дю Тийе!
– Вот плут! Узнаю его проделки. Мы ведь были когда-то друзьями, но так рассорились, что теперь даже не раскланиваемся; поверьте – мое отвращение к нему имеет достаточное основание: мне удалось заглянуть в самую глубь его грязной душонки; он мне испортил настроение на вашем чудесном балу. Не выношу его фатовского вида: он, видите ли, живет с женой нотариуса! Подумаешь! Да пожелай я только – у меня будут маркизы, а вот он моего уважения никогда не добьется. Не заслужить ему моего уважения, как не заполучить принцессу к себе в постель. А ведь вы, папаша, забавник: задаете такой бал и через два месяца просите отсрочить векселя! Вы далеко пойдете! Давайте-ка сообща ворочать делами. У вас хорошая репутация – она мне пригодится. Дю Тийе мошенник, ему на роду написано снюхаться с Гобсеком. Но на бирже он плохо кончит. Говорят, он соглядатай старика Гобсека, – значит, ему долго не продержаться. Гобсек притаился в углу своей паутины, точно старый паук, привыкший раскидывать свои тенета в разных странах света. Рано или поздно ростовщик – хлоп! – и проглотит своего подручного, как я – стакан вина. Так ему и надо, этому дю Тийе. Он сыграл со мной шутку… О, за такую шутку стоит повесить!..
Потратив полтора часа на бесплодную болтовню, Бирото решил уйти; бывший коммивояжер приступил в это время к рассказу о приключениях некоего депутата в Марселе: депутат был влюблен в актрису, выступавшую в роли прекрасной Арсены и освистанную сидевшими в партере роялистами.
– Он встает, – рассказывал Клапарон, – выпрямляется во весь рост в ложе и кричит: «Держите свистуна! Коли это женщина – начхать мне на нее; коли мужчина – будем драться; коли ни то ни се – бог ему судья». Знаете, чем кончился весь этот скандал?
– Прощайте, сударь, – сказал Бирото.
– Вам придется еще разок зайти ко мне, – заявил Клапарон. – Первый векселек Кейрона вернулся к нам опротестованный; передаточная надпись – моя, и я уплатил по нему. Я вам его пришлю, дела ведь на первом месте.
Бирото был до глубины души уязвлен этой кривляющейся, холодной любезностью; она поразила его не менее жестоко, чем черствость Келлера и немецкая издевка Нусингена. Развязность этого распутника, его подогретая шампанским циничная откровенность омрачили душу честного парфюмера, ему казалось, что он побывал в каком-то притоне. Сам не сознавая, куда он идет, Цезарь спустился по лестнице и, выбравшись на улицу, побрел по бульварам; дойдя до улицы Сен-Дени, он вспомнил о Молине и направился к Батавскому подворью. Он взобрался по грязной винтовой лестнице, по которой еще недавно поднимался с таким кичливым и высокомерным видом. При мысли о мелочной жадности Молине Цезарь ужаснулся, что придется обратиться к нему с просьбой. Как и при первом посещении парфюмера, домовладелец сидел у камелька, но на сей раз он уже позавтракал и предавался пищеварению. Бирото объяснил цель своего прихода.
– Отсрочить вексель в тысячу двести франков? – с недоверчивой усмешкой спросил Молине. – Ну, уж нет, сударь! Если пятнадцатого у вас не найдется тысячи двухсот франков, чтобы заплатить мне по векселю, значит, вы и за квартиру мне не заплатите? Я буду этим весьма недоволен, я не привык церемониться в денежных делах, квартирная плата – мой доход. Как бы я мог иначе расплачиваться сам? Вы ведь купец и не станете порицать меня за это. В денежных делах нет ни свата, ни брата. Зима нынче суровая, дрова вздорожали. Если вы пятнадцатого не заплатите, ждите в полдень шестнадцатого повесточку. О! Добрейший Митраль, ваш судебный пристав – равно как и мой – пошлет вам повестку в конверте, со всей почтительностью, подобающей вашему высокому положению.
– Сударь, мне никогда еще не приходилось получать судебных повесток! – воскликнул Бирото.
– Лиха беда начало, – ответил Молине.
Нескрываемая злоба старикашки потрясла парфюмера, он почувствовал, что все погибло; в его ушах зазвучал похоронный звон банкротства. Каждый удар колокола воскрешал в его памяти жестокие слова, которыми он, неумолимый законник, клеймил когда-то банкротов. Огненными знаками вспыхивали они теперь в его мозгу.
– Кстати, – сказал Молине, – вы забыли сделать пометку на векселе: «за наем помещения», а такая пометка даст мне преимущественное право на получение долга.
– Мое положение не дозволяет мне нанести в чем-либо ущерб своим кредиторам, – ответил парфюмер, потерявший голову при виде открывшейся перед ним бездны.
– Хорошо, сударь, превосходно! А я-то думал, что жильцы меня уже всему обучили по части их фокусов с квартирной платой. Теперь благодаря вам я буду знать, что нельзя принимать векселей в уплату за квартиру… О, я буду судиться, ибо ответ ваш ясно показывает, что вы не выполните своих обязательств. Случай этот представляет интерес для всех домовладельцев Парижа.
Бирото вышел от него полный отвращения к жизни. Получив отказ, люди со слабой и чувствительной душой тотчас впадают в уныние, а первый успех необычайно окрыляет их. У Цезаря оставалась теперь только одна надежда – на преданность Ансельма Попино, о котором он сразу же вспомнил, оказавшись около рынка Невинных.
«Бедный мальчик, кто бы это мог предвидеть; ведь только полтора месяца назад, в Тюильри, я помог ему стать на ноги!»
Было около четырех часов дня; судейские чиновники в это время покидают обычно здание суда. Старик Попино зашел проведать племянника. Старый служитель правосудия был знатоком человеческой души, глубоким прозорливцем; он угадывал тайные побуждения людей, улавливал скрытый смысл их самых невинных с виду поступков, зародыши преступлений, корни проступков; он испытующе посмотрел на Бирото, который этого даже и не заметил. Парфюмер досадовал, что застал у Ансельма его дядю, и, как показалось судье, был чем-то смущен, озабочен и задумчив. Маленький Попино, как всегда страшно занятый, с пером за ухом, лебезил, по обыкновению, перед отцом Цезарины. Судье почудилось, что избитые фразы, с которыми Цезарь обращался к своему компаньону, говорились просто для отвода глаз и что парфюмер пришел попросить о какой-то важной услуге. Хитрый старик продолжал сидеть в лавке, вопреки желанию племянника; он не уходил, рассчитывая, что парфюмер, чтобы избавиться от него, сам уйдет первым. Когда Бирото действительно удалился, следователь тоже вышел, но заметил, что парфюмер бродит в той части улицы Сенк-Диаман, которая ведет к улице Обри-ле-Буше. Это, казалось бы, незначительное обстоятельство вызвало у него подозрение относительно истинных намерений Бирото; выйдя на Ломбардскую улицу, он увидел, что парфюмер снова зашел к Ансельму, и поспешил туда же.
– Дорогой Попино, – сказал компаньону Цезарь. – Я пришел просить тебя об услуге.
– Что я должен сделать? – с пылкой готовностью воскликнул Ансельм.
– Ах, ты возвращаешь меня к жизни, – вскричал парфюмер, обрадованный этим сердечным жаром, согревшим его среди льдов, в которых он блуждал уже с месяц. – Выплати мне пятьдесят тысяч франков в счет моей доли прибыли; о порядке платежа мы договоримся.
Ансельм пристально поглядел на него, и Цезарь опустил глаза. В этот миг снова появился следователь.
– Дорогой мой… Ах, простите, господин Бирото! Дорогой мой, я забыл тебе сказать…
Властным жестом служитель правосудия подхватил племянника под руку, увлек его на улицу и, хотя тот был в одной куртке, с непокрытой головой, повел в сторону Ломбардской улицы и заставил себя выслушать.
– Дела твоего бывшего хозяина, племянник, настолько пошатнулись, что он, возможно, вынужден будет объявить себя несостоятельным. Прежде чем решиться на этот шаг, даже самые добродетельные люди, за плечами которых сорок лет незапятнанной жизни, стремясь спасти свое доброе имя, уподобляются обезумевшим игрокам. Они идут на все: продают жен, торгуют дочерьми, губят лучших друзей, закладывают то, что им не принадлежит; бегут с отчаяния в игорные дома, лгут, притворяются, рыдают… Словом, мне случалось наблюдать самые необычайные дела. Ты же видел, каким простодушным прикидывался Роген, – воплощенная невинность, хоть без исповеди к причастию допускай. Я не распространяю этих жестоких выводов на господина Бирото; я считаю его человеком порядочным; но если он попросит тебя сделать что-либо противное законам коммерции, подписать, скажем, дружеские векселя и пустить их в обращение, – а это, по-моему, уже первый шаг к мошенничеству, ибо это – векселя фальшивые, – обещай мне ничего не подписывать, не посоветовавшись предварительно со мной. Ты любишь его дочь и уж во имя одной этой любви не должен губить свою будущность. Если господину Бирото суждено разориться, зачем же разоряться еще и тебе? Тогда вы оба лишитесь всяких шансов на успех, связанный с твоим торговым делом, а ведь оно-то и может оказаться для него прибежищем.
– Благодарю вас, дядя, мне все ясно, – сказал Попино, которому стал теперь понятен горестный возглас парфюмера.
Торговец ароматическими и прочими маслами вернулся в свою темную лавку озабоченным. От Бирото не ускользнула эта перемена.
– Окажите мне честь пройти в мою комнату, там нам будет удобнее. Приказчики, хоть и очень заняты, могут нас все же услышать.
Бирото последовал за Попино, точно осужденный, терзаемый неизвестностью, – будет ли приговор отменен или оставлен в силе.
– Мой дорогой благодетель, – начал Ансельм, – не сомневайтесь в моей преданности – она безгранична. Позвольте мне только спросить вас: достанет ли этой суммы для вашего спасения или же эти деньги только отсрочат какую-то катастрофу? Вам нужны векселя сроком на три месяца. Но через три месяца я, конечно, не смогу заплатить по ним.
Бледный и торжественный, Бирото встал и в упор посмотрел на Ансельма.
Испуганный его видом, Попино воскликнул:
– Я подпишу векселя, если вы настаиваете.
– Неблагодарный! – сказал парфюмер, вложив в это слово всю силу негодования, чтобы заклеймить им Ансельма.
Повернувшись, он направился к двери и вышел. Придя в себя от потрясения, в которое повергло его это ужасное слово, Попино бросился вниз по лестнице и выбежал на улицу, но парфюмер уже куда-то исчез. С тех пор этот страшный приговор неумолчно звучал в ушах возлюбленного Цезарины. Перед взором его неотступно стояло искаженное лицо несчастного Цезаря; словом, Попино жил, как Гамлет, бок о бок с грозным призраком.
Бирото, точно пьяный, кружил по улицам квартала. В конце концов он очутился на набережной, пошел вдоль нее, добрался до Севра; здесь обезумевший от горя банкрот переночевал в какой-то харчевне; испуганная жена не решалась его разыскивать. Неосмотрительно поднятая тревога может оказаться в подобных случаях роковой. Благоразумная Констанс подавила свое беспокойство во имя коммерческой репутации мужа; в тревоге и молитвах она прождала его всю ночь. Не умер ли Цезарь? А может быть, увлекаемый последней надеждой, он направился куда-нибудь за пределы Парижа? Наутро она вела себя так, словно причины отсутствия мужа были ей известны; в пять часов пополудни, видя, что Бирото все еще нет, она вызвала дядю и попросила его пойти в морг. Все это время мужественная женщина сидела за конторкой кассы, а дочь вышивала возле нее. Обе сохраняли непроницаемый вид и без улыбки, но и без грусти отвечали покупателям.
Пильеро вернулся в сопровождении Цезаря. Поискав его на бирже, он столкнулся с ним в Пале-Рояле, где Бирото стоял в нерешительности у входа в игорный дом. Было 14 января. Цезарь за обедом ничего не ел. От нервных спазм, сжимавших горло, он не мог проглотить ни куска. Столь же ужасны были и послеобеденные часы. Купец переживал в сотый раз тот жестокий переход от надежды к отчаянию, который, опьяняя душу гаммой самых радостных чувств, ввергает ее затем в глубочайшую печаль и совсем подрывает силы у слабых людей. Дервиль, поверенный Бирото, вошел, запыхавшись, в роскошную гостиную, где жена парфюмера, пустив в ход все свое влияние, с трудом удерживала несчастного мужа, хотевшего отправиться спать на чердак, чтобы, как он говорил, «не видеть свидетельств своего безумия».
– Мы выиграли дело! – объявил Дервиль.
При этих словах искаженное мукой лицо Цезаря просияло, но радость его испугала Пильеро и Дервиля. Жена и дочь, глубоко потрясенные, поспешно вышли в комнату Цезарины, чтобы дать там волю слезам.
– Я, стало быть, могу получить ссуду? – воскликнул парфюмер.
– Нет, это было бы неосторожно, – ответил Дервиль. – Они подают апелляцию, решение суда еще может быть пересмотрено; но уже через месяц у нас будет окончательное постановление.
– Через месяц!
Цезарь впал в забытье, из которого его никто не пытался вывести. В этом странном столбняке, когда тело жило и страдало, а работа сознания приостановилась, в этой случайно полученной Цезарем передышке Констанс, Цезарина, Пильеро и Дервиль справедливо усмотрели милость всевышнего. Благодаря ей Бирото мог пережить жестокие волнения этой ночи. Он сидел в глубоком кресле у камина, напротив поместилась жена, внимательно наблюдавшая за ним; кроткая улыбка на ее устах свидетельствовала о том, что женщины ближе, чем мужчины, к ангельской природе, ибо умеют соединять бесконечную нежность с безграничным состраданием – секрет, известный одним лишь ангелам, посещающим изредка, по воле провидения, наши сны. Цезарина примостилась на скамеечке у ног матери. Время от времени она касалась слегка своими локонами руки отца, стараясь выразить этой лаской ту нежность, которая, высказанная словами, могла бы показаться назойливой в столь критические минуты.
Пильеро сидел в кресле, напоминая изваяние канцлера Лопиталя в перистиле палаты депутатов; этот готовый ко всему философ, на лице которого, казалось, была запечатлена мудрость египетских сфинксов, тихо беседовал с Дервилем. Констанс решила посоветоваться со стряпчим, на скромность которого вполне можно было положиться.
Зная наизусть баланс фирмы, она обрисовала ему шепотом положение вещей. После обсуждения, длившегося около часа и происходившего в присутствии совершенно отупевшего парфюмера, Дервиль, взглянув на Пильеро, покачал головой.
– Сударыня, – начал он со свойственным деловым людям убийственным хладнокровием, – вам придется объявить себя несостоятельными. Допустим даже, что с помощью какого-нибудь ловкого хода вам удастся заплатить завтра долги; но ведь вы должны выплатить по меньшей мере триста тысяч франков, прежде чем сможете заложить свои земельные участки. При пассиве в пятьсот пятьдесят тысяч франков вы располагаете прекрасным, очень доходным, но пока еще нереализуемым активом, и, значит, вам все равно не выдержать. Лучше уж, по-моему, сразу выпрыгнуть в окно, нежели скатиться по лестнице.
– Я того же мнения, дитя мое, – сказал Пильеро.
Госпожа Бирото и Пильеро вышли проводить Дервиля.
– Бедный папа, – сказала Цезарина, приподнимаясь тихонько, чтобы поцеловать отца в лоб. – Ансельму, значит, ничего не удалось сделать, – прибавила она, когда мать и дядя вернулись.
– Неблагодарный! – воскликнул Цезарь; это имя ударило по единственному еще живому месту в его сознании, как молоточек бьет по струне, когда коснешься клавиши рояля.
С того момента, как слово это прозвучало над ним подобно анафеме, Ансельм Попино не знал ни сна, ни покоя. Несчастный юноша проклинал вмешательство дяди и в конце концов отправился к нему. Чтобы заставить сдаться старого, многоопытного служителя правосудия, Ансельм пустил в ход все красноречие любви, надеясь уговорить следователя, человека, от которого слова людские отскакивают, как от стены горох.
– В коммерческой практике принято, – сказал ему Ансельм, – что компаньон-распорядитель выдает компаньону-вкладчику некоторую сумму в виде аванса в счет ожидаемой прибыли, а прибыль у нас несомненно будет. Тщательно разобравшись в своих делах, я вижу, что уже достаточно прочно стою на ногах, чтобы выплатить в течение трех месяцев сорок тысяч франков. Честность господина Бирото служит порукой, что эти сорок тысяч франков пойдут на уплату по его векселям. Поэтому, если он даже обанкротится, кредиторам не в чем будет упрекнуть нас! К тому же, дядя, я готов лучше потерять сорок тысяч франков, чем лишиться Цезарины. Она уже знает, вероятно, о моем отказе и перестанет уважать меня. Я обещался жизнью пожертвовать за своего благодетеля и нахожусь в положении матроса, который должен пойти ко дну вместе со своим капитаном, или солдата, долг которого погибнуть рядом со своим генералом!
– Купец ты плохой, но сердце у тебя золотое, и я тебя уважаю за это, – сказал следователь, пожав руку племяннику. – Я много думал о твоих делах, – продолжал он, – я знаю, ты безумно влюблен в Цезарину, и полагаю, что ты сможешь поступить так, чтобы не нарушить ни законов любви, ни законов коммерческих.
– Ах, дядя, если вы нашли такой способ, вы спасете мою честь!
– Выплати Бирото пятьдесят тысяч франков, и пусть он уступит тебе, с правом обратного выкупа, свою долю в вашем «Масле»; оно ведь представляет теперь имущественную ценность. Запродажную я тебе составлю.
Расцеловав дядю, Ансельм вернулся домой, заготовил векселя на сумму в пятьдесят тысяч франков и устремился с улицы Сенк-Диаман на Вандомскую площадь. В тот самый миг, когда Цезарина, Констанс и Пильеро с удивлением смотрели на парфюмера, пораженные замогильным голосом, которым он произнес слово «неблагодарный», дверь гостиной распахнулась, и появился Попино.
– Мой дорогой и горячо любимый хозяин, – сказал он, вытирая вспотевший лоб, – вот то, о чем вы просили. – И он протянул векселя. – Я хорошо обдумал свое положение, не тревожьтесь, я смогу заплатить. Спасайте, спасайте же ваше доброе имя!
– Я была в нем твердо уверена! – воскликнула Цезарина и, схватив руку Попино, сжала ее с судорожной силой.
Госпожа Бирото заключила Ансельма в объятия. Парфюмер поднялся, как праведник, услышавший трубы Страшного суда. Он словно восстал из гроба! Потом с жадностью протянул руку за пятьюдесятью листочками гербовой бумаги.
– Минуточку! – сказал безжалостный дядя Пильеро, вырвав у Попино векселя. – Одну минуту!
Все четверо членов этой семьи – Цезарь, его жена, Цезарина и Попино, – ошеломленные тоном, которым были произнесены эти слова, и поступком дяди, с ужасом смотрели, как Пильеро рвал и бросал векселя в горящий камин, где их пожирало пламя. Никто из них не успел остановить его.
– Дядя!
– Дядя!
– Дядя!
– Сударь!
Четыре возгласа – вопль четырех слившихся воедино сердец. Дядюшка Пильеро обнял маленького Попино, прижал его к груди и поцеловал в лоб.
– Ну, как не полюбить тебя, ведь сердце не камень, – заявил он. – Если бы ты любил мою дочь и у нее был бы миллион приданого, а у тебя ничего, кроме этого (он указал на черный пепел, оставшийся от векселей), и если бы она тебя тоже любила, – через две недели вы были бы обвенчаны. Твой хозяин, – сказал он, указывая на Цезаря, – сошел с ума. Племянник, – сурово сказал Пильеро, обращаясь к парфюмеру, – племянник, посмотри правде в лицо! В делах важны не чувства, а деньги. Все это – очень возвышенно, конечно, но совершенно бесполезно. Я два часа провел на бирже. У тебя нет ни на грош кредита. Все твердят о твоем разорении, о том, что тебе не удалось отсрочить векселя, о твоем обращении к банкирам и об их отказе, о сумасбродствах, которые ты натворил, забравшись на седьмой этаж к болтливому, как сорока, домохозяину, чтобы просить его переписать вексель на тысячу двести франков, о бале, который ты якобы дал, чтобы скрыть свои денежные затруднения. Дошли даже до утверждений, будто у Рогена никаких твоих денег и не было. Если послушать ваших врагов, – так Роген попросту предлог. Я поручил одному другу разузнать обо всем, и он подтвердил мои опасения. Ждут появления векселей Попино, которого ты для того только будто бы и выделил, чтобы пустить через него в обращение собственные векселя. Словом, на бирже гуляют сейчас клевета и злословие, которые неминуемо навлекает на себя человек, желающий подняться по социальной лестнице ступенькой выше. Ты понапрасну будешь ходить целую неделю из конторы в контору с пятьюдесятью векселями Попино – ничего, кроме унизительных отказов, ты не встретишь. Никто этих векселей брать не станет: ведь неизвестно, на сколько ты выдал вообще векселей, все считают, что ты ради собственного спасения приносишь в жертву бедного юношу. Ты только подорвешь кредит торгового дома Попино, ничего при этом не добившись. Знаешь, сколько рискнет тебе дать за эти пятьдесят тысяч франков самый снисходительный дисконтер? – Двадцать тысяч, только двадцать тысяч, понимаешь? В коммерческих делах бывают иной раз такие моменты, когда надо продержаться на глазах у всех без пищи три дня и делать вид, что ты объелся; тогда на четвертый день ты будешь допущен в закрома кредита. Тебе же трех дней не продержаться; этим все сказано. Соберись с духом, мой бедный племянник, придется тебе объявить себя несостоятельным. Как только приказчики пойдут спать, мы с Попино возьмемся за работу, чтобы избавить тебя от этой пытки.
– Дядя! – взмолился парфюмер, простирая к нему руки.
– Цезарь, ты, стало быть, хочешь дойти до позорного баланса, в котором не останется актива? Твое участие в деле Попино спасет твое доброе имя.
Этот последний роковой луч света заставил наконец Цезаря полностью прозреть и осознать истинные размеры постигшего его несчастья; он упал в кресло, затем опустился возле него на колени. В голове у него помутилось, он словно впал в детство; жена подумала, что он умирает. Став на колени, чтобы поднять мужа, Констанс, однако, увидела, что он сложил руки, возвел глаза к небу и с сердечным сокрушением, в присутствии дяди, дочери и Попино, начал торжественно читать молитву. Она присоединилась к нему: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь».
Слезы выступили на глазах у стоика Пильеро. Цезарина, плача, опустила в изнеможении голову на плечо бледного, неподвижного, как статуя, Попино.
– Сойдем вниз, – сказал бывший торговец скобяными товарами и взял юношу под руку.
В половине двенадцатого они ушли, оставив Цезаря на попечении жены и дочери. Тогда старший приказчик Селестен, распоряжавшийся в лавке в дни этой скрытой бури, поднялся наверх и вошел в гостиную. Заслышав шаги Селестена, Цезарина бросилась к нему навстречу, чтобы он не успел заметить, в каком подавленном состоянии находится его хозяин.
– Среди вечерней почты есть письмо из Тура, – сказал Селестен, – оно пришло с запозданием из-за неточности в адресе. Я решил, что оно от брата господина Бирото, и не стал его распечатывать.
– Отец, – крикнула Цезарина, – письмо от дяди из Тура.
– Ах, я спасен! – воскликнул Цезарь. – Брат мой, брат мой! – твердил он, целуя письмо.
Ответ Франсуа Цезарю Бирото.
Тур, 17-го сего месяца.«Горячо любимый брат, письмо твое глубоко меня опечалило; прочитав его, я отслужил обедню, моля господа во имя крови, пролитой за нас его сыном, нашим божественным искупителем, обратить милосердный взор свой на твои горести. В тот миг, когда я произносил слова молитвы «Pro meo fratre Caesare» глаза мои увлажнились слезами при мысли о том, что я нахожусь, к несчастью, столь далеко от тебя в дни, когда ты нуждаешься в дружеской поддержке брата. Но, подумал я, высокочтимый, достойный господин Пильеро, несомненно, заменит меня. Дорогой Цезарь, не забывай среди горестей своих, что земная жизнь наша полна испытаний и преходяща, наступит день, когда по милосердию божию и предстательству святой церкви воздастся нам за наши страдания, и нас ждет награда за соблюдение евангельских заповедей, за добродетельную жизнь; иначе порядок мира сего был бы лишен смысла. Зная твое благочестие и кротость, я все же повторяю тебе эти истины, ибо случается, что люди, застигнутые, подобно тебе, житейской бурей и носящиеся по губительному морю мирской суеты, позволяют себе, ослепленные страданием, богохульствовать среди бедствий своих. Не проклинай же ни людей, уязвляющих тебя, ни бога, по воле которого к жизни твоей примешана горечь. Не опускай долу взора своего, но возведи очи свои горе, ибо небеса ниспосылают утешение слабым, ибо там богатство бедняков и кара богачам…»
– Да ну же, Бирото, – прервала его жена, – пропусти все это и посмотри, прислал ли он нам что-нибудь.
– Мы будем часто перечитывать это письмо, – сказал купец, вытирая слезы и разворачивая послание, откуда выпал чек казначейства. – Я был твердо уверен в моем милом брате, – прибавил он, поднимая чек.
– «…Я пошел к госпоже де Листомэр, – продолжал он читать прерывающимся от слез голосом, – и, умолчав о том, чем вызвана моя просьба, попросил ее дать мне взаймы все, что она сможет уделить для меня, дабы увеличить плоды моих сбережений. Щедрость ее позволила мне собрать сумму в тысячу франков; я посылаю тебе их ассигновкой главного управляющего окладными сборами города Тура на казначейство…»
– Хороша помощь! – сказала Констанс, взглянув на Цезарину.
– «…Обходясь без некоторых излишеств, я смогу за три года вернуть госпоже де Листомэр четыреста франков, которые она мне ссудила, так что не тревожься, дорогой Цезарь. Посылая все, чем я владею в этом мире, я желаю, чтобы эти деньги помогли тебе счастливо справиться с коммерческими затруднениями, которые, уповаю, окажутся лишь временными. Зная твою деликатность, спешу предупредить все возражения. Не помышляй ни о каких процентах, ни о возврате этой суммы в дни благоденствия – а они вскоре настанут для тебя, если господь услышит мои молитвы, которые я денно и нощно буду воссылать к нему. Основываясь на последнем твоем письме, полученном мною два года назад, я считал тебя человеком богатым и полагал, что могу тратить свои сбережения на бедных; теперь же все, что у меня есть, – твое. Когда утихнет налетевший на тебя шквал, сохрани эти деньги для моей племянницы Цезарины, пусть она, устраиваясь своим домом, приобретет на них какую-либо безделицу на память о старике дяде, который вечно будет молить господа ниспослать свое благословение на нее и на всех, кто ей дорог. Помни, дорогой Цезарь, что я – скромный пастырь, живущий, подобно полевому жаворонку, милостью божьей, смиренно следую своей стезей, стараясь исполнять покорно заповеди нашего божественного спасителя, и мне не много нужно. Так что оставь свою щепетильность и вспоминай обо мне в своем тяжелом положении, как о нежно любящем тебя брате. Его преподобие аббат Шаплу, – я не посвящал его в твои дела, но он знает, что я пишу тебе, – просит меня передать сердечный привет всем членам твоей семьи и желает тебе всяческого благополучия. Прощай, дорогой и возлюбленный брат мой; молю господа, чтобы в твоих тяжелых обстоятельствах он сохранил здоровье тебе, твоей жене и дочери. Желаю всем вам терпения и мужества в ваших испытаниях.
Франсуа Бирото.Приходский священник и викарийкафедрального собора святого Гатиана, в Туре».– Тысяча франков! – в негодовании воскликнула г-жа Бирото.
– Сохрани их! – торжественно и строго произнес Цезарь. – Это все, что у него было. Они принадлежат к тому же нашей дочери и помогут нам прожить, ничего не прося у кредиторов.
– Кредиторы решат, что ты припрятал крупные деньги.
– Я покажу им письмо.
– Они скажут, что оно написано для отвода глаз.
– О господи! – в ужасе воскликнул Бирото. – Ведь и я так думал о несчастных людях, которым приходилось, вероятно, столь же тяжко, как и мне сейчас.
Встревоженные состоянием Цезаря, мать и дочь сидели возле него в глубоком молчании с шитьем в руках. В два часа ночи Попино приоткрыл осторожно дверь гостиной и знаками вызвал г-жу Бирото. Увидев племянницу, Пильеро снял очки.
– Не все потеряно, дитя мое, – сказал он, – есть еще кое-какая надежда; но мужу твоему не вынести волнений, связанных с попытками переговоров, и мы с Ансельмом возьмем эти переговоры на себя. Оставайся завтра в лавке и записывай адреса всех, кому следует по векселям. У нас есть время до четырех часов. Вот мой план: ни господина Рагона, ни меня опасаться не приходится. Предположим теперь, что ваши сто тысяч франков, находившиеся у Рогена, пошли бы действительно на приобретение земельных участков – у вас их так же не было бы, как нет и сейчас. Вы должны уплатить сто сорок тысяч франков по векселям, выданным Клапарону, – платить по ним вам пришлось бы во всяком случае. Разоряет вас, стало быть, не банкротство Рогена. Для уплаты по обязательствам у вас имеются сорок тысяч франков, которые вы рано или поздно сможете получить под свою фабрику, и на шестьдесят тысяч векселей Попино. Так что можно еще бороться, ибо потом вы сможете заложить ваши земельные участки в районе церкви Мадлен. Если ваш главный кредитор согласится пойти вам навстречу, я не пожалею своего состояния, продам ренту, пожертвую последним куском хлеба; и Попино все поставит на карту; вы будете, правда, всецело зависеть от малейшей случайности в торговле. Но от «Масла» можно ждать больших прибылей. Мы совещались с Попино и твердо решили поддержать вас в этой борьбе. О, я с радостью готов питаться черствым хлебом, если только на горизонте забрезжит успех. Но все зависит от Жигонне и компаньонов Клапарона. Мы с Попино часов в семь-восемь утра пойдем к Жигонне и, выяснив его намерения, будем знать, как нам держаться дальше.
Глубоко взволнованная Констанс бросилась в объятия дяди. Ее слезы и рыдания были красноречивее всяких слов. Ни Попино, ни Пильеро не подозревали, что Бидо, по прозвищу Жигонне, и Клапарон были, в сущности, все тем же дю Тийе, который жаждал прочесть в «Ведомостях» нижеследующее ужасное сообщение:
«Решение коммерческого суда об объявлении господина Цезаря Бирото, торговца парфюмерными товарами, проживающего в Париже, улица Сент-Оноре, дом № 397, несостоятельным должником, входит в силу впредь до изменения, с 16 января 1819 года. Присяжный попечитель Гобенхейм-Келлер, агент Молине».
Ансельм и Пильеро просидели над делами Цезаря до рассвета. В восемь часов утра оба самоотверженных друга, один – старый солдат, другой – новоиспеченный подпоручик, – которым лишь по доверенности предстояло познакомиться с жестокими терзаниями тех, кому приходилось подниматься по лестнице Бидо, по прозвищу Жигонне, – в глубоком молчании направились на улицу Гренета. Оба они страдали. Пильеро то и дело проводил рукой по лбу.
Улица Гренета – одна из тех парижских улиц, где множество лавчонок и где дома имеют самый отталкивающий вид. Здесь отвратительно грязно, как бывает обычно в кварталах, изобилующих ремесленными мастерскими, здания поражают своим убожеством. Старик Жигонне жил на четвертом этаже, в доме с окнами в мелких переплетах и с давно не мытыми стеклами. Лестница вела прямо на улицу. Привратница помещалась на антресолях, в каморке, куда свет проникал только из лестничной клетки. Все жильцы, кроме Жигонне, занимались каким-либо ремеслом; беспрестанно сновали туда и сюда рабочие. Ступеньки лестницы – вечно в грязи, жидкой или успевшей уже затвердеть, в зависимости от состояния погоды – завалены были всякими отбросами и сором. На каждой площадке этой зловонной лестницы бросалась в глаза какая-нибудь вывеска – железная табличка, покрытая красным лаком, на которой была выведена золотом фамилия владельца мастерской и изображены образцы его искусства. За дверьми, по большей части открытыми настежь, виднелись помещения – странное сочетание мастерской и жилья, и оттуда доносились дикие крики, свист и рычание – точно в зоологическом саду в четыре часа пополудни, во время кормежки зверей. В мерзкой конуре второго этажа изготовлялись дорогие подтяжки для модных магазинов Парижа, а на третьем, среди омерзительных отбросов, – изящнейшие картонные коробки, украшающие витрины лавок в день Нового года. Жигонне, обладая состоянием в миллион восемьсот тысяч франков, умер на четвертом этаже этого дома, покинуть который его не могли заставить ни уговоры, ни соблазнительные предложения племянницы, г-жи Сайяр, предоставлявшей в его распоряжение квартиру в особняке на площади Рояль.
– Ну, смелее, – сказал Пильеро, дернув ручку звонка в виде козьей ножки, висевшей у серой опрятной двери Жигонне.
Жигонне сам открыл им дверь. Два добровольных опекуна парфюмера, боровшегося с надвигающимся банкротством, прошли через первую комнату – холодную и чинную, с окнами без занавесей. Они уселись втроем во второй комнате; дисконтер расположился у камина с тлеющими под пеплом дровами. Зеленые папки с бумагами ростовщика и почти монашеская строгость затхлого, как погреб, кабинета леденящим холодом наполнили душу Попино. Он рассеянно посмотрел на дешевенькие голубоватые обои с пестрыми цветочками, уже лет двадцать пять покрывавшие стены, и перевел опечаленный взгляд на камин, украшенный часами в форме лиры и высокими синими севрскими вазами, богато оправленными позолоченной медью. Эти обломки крушения, подобранные Жигонне в разгромленном Версале, попали к нему из будуара королевы; но рядом с такими великолепными вещами стояли два жалких подсвечника из кованого железа, и этот чудовищный контраст напоминал об обстоятельствах, вследствие которых здесь очутились столь дорогие вазы.
– Я знаю, что вы пришли говорить не о себе, – сказал Жигонне, – а о великом Бирото. Так в чем же дело, друзья?
– Я знаю, что ничего нового вам не скажешь, – ответил Пильеро. – Мы будем поэтому кратки. У вас имеются векселя, выданные приказу Клапарона?
– Да.
– Не согласитесь ли вы обменять первые пятьдесят тысяч на векселя господина Попино, здесь присутствующего? С процентами за учет, разумеется.
Жигонне снял свой ужасный зеленый картуз, в котором, казалось, родился на свет, обнажил огромную лысину цвета свежего сливочного масла и, скорчив вольтеровскую гримасу, сказал:
– Вы мне хотите уплатить маслом для волос, а на что оно мне?
– Ну, раз вы шутите, остается только повернуть оглобли, – сказал Пильеро.
– Вы говорите, как истый мудрец, каковым вас по справедливости и считают, – льстиво улыбаясь, сказал Жигонне.
– Хорошо, а если я сделаю на векселях господина Попино передаточную надпись? – в качестве последней попытки предложил Пильеро.
– Вы – чистое золото, господин Пильеро, но мне не нужно золота, верните мне мое серебро.
Пильеро и Попино откланялись и вышли. Уже спустившись с лестницы, Попино все еще чувствовал, как дрожат у него ноги.
– И это человек? – спросил он Пильеро.
– Говорят, что да, – отвечал старик. – Запомни на всю жизнь эту короткую встречу, Ансельм! Ты только что наблюдал банк в его неприкрашенном виде. Непредвиденные обстоятельства – это винт давильного пресса, мы – виноград, а банкиры – винные бочки. Спекуляция с земельными участками, видимо, выгодное дело. Жигонне, или кто-то стоящий за ним, хочет задушить Цезаря, чтобы завладеть его долей: этим все сказано, и ничем тут не поможешь. Вот что такое банк: никогда не имей с ним дела!
Это мучительное утро началось с того, что г-жа Бирото первый раз в жизни записала адреса людей, приходивших к ней за своими деньгами, а рассыльного из банка отослала, не уплатив ему; в одиннадцать часов стойкая женщина, довольная уж тем, что ей удалось избавить мужа от этой муки, увидела возвращавшихся Ансельма и Пильеро, которых давно уже ждала со все возраставшей тревогой; Констанс прочла приговор на их лицах: банкротство было неминуемо.
– Он умрет с горя, – вырвалось у несчастной женщины.
– Я ему от души этого желаю, – сурово ответил Пильеро. – Но Цезарь так набожен, что единственный, кто может его сейчас спасти, – это аббат Лоро.
Пильеро, Попино и Констанс не решались дать Цезарю подписать подготовленный Селестеном баланс: они дожидались прихода его духовника, аббата Лоро, за которым пошел один из приказчиков. Приказчики были в отчаянии: они любили хозяина. К четырем часам почтенный пастырь явился, Констанс рассказала ему об обрушившемся на них несчастье, и аббат решительно направился к Цезарю наверх, как солдат, идущий на приступ.
– Я знаю, почему вы пришли! – вскричал Бирото.
– Сын мой, – сказал священник, – ваша покорность воле божьей мне давно известна; но теперь надо доказать ее на деле; устремите же ваши взоры на распятие, не спускайте с него глаз, думая об унижениях, которые претерпел спаситель рода человеческого, о том, как жестоки были его крестные муки, и тогда вы сможете перенести ниспосланные вам богом испытания.
– Мой брат – священник, и он уже подготовил меня, – сказал Цезарь, подавая духовнику письмо, которое как раз перед этим перечитывал.
– У вас достойный брат, – сказал г-н Лоро, – добродетельная и кроткая жена, нежная дочь, два истинных друга – ваш дядя и милый Ансельм, два снисходительных кредитора – Рагоны; все эти добрые души будут лить бальзам на ваши раны и помогут вам нести свой крест. Обещайте же мне проявить стойкость мученика и встретить удар судьбы мужественно.
Аббат кашлянул, чтобы предупредить находившегося в гостиной Пильеро.
– Моя покорность безгранична, – спокойно проговорил Цезарь. – Перед лицом бесчестья я должен думать лишь о том, как смыть его.
Голос несчастного парфюмера и весь его вид удивили Цезарину и священника. Между тем это было вполне естественно. Люди легче переносят несчастье уже случившееся, явное, чем жестокую неуверенность в судьбе, когда каждое мгновение приносит величайшую радость или бесконечное страдание.
– Двадцать два года я спал, а сегодня проснулся со своим дорожным посохом в руке, – сказал Цезарь, становясь снова туренским крестьянином.
При этих словах Пильеро заключил племянника в объятия. Цезарь увидел жену, Ансельма и Селестена. Бумаги, которые держал старший приказчик, были достаточно красноречивы. Цезарь спокойно посмотрел на окружающих; в их опечаленных взорах читалось дружеское участие.
– Одну минуту, – сказал он, снимая свой орден и протягивая его аббату Лоро. – Вы мне вернете этот крест обратно, когда я смогу носить его не стыдясь. Селестен, – прибавил он, обращаясь к приказчику, – приготовьте прошение о снятии с меня обязанностей помощника мэра. Господин аббат продиктует вам письмо, пометьте его четырнадцатым числом и велите Раге отнести господину де ла Биллардиеру.
Селестен и аббат Лоро спустились вниз. Около четверти часа в кабинете Цезаря царило глубокое молчание. Семья была поражена подобной твердостью. Наконец Селестен и аббат вернулись, и Цезарь подписал прошение об отставке. Когда Пильеро подал ему баланс, бедняга не мог подавить нервной дрожи.
– Господи, сжалься надо мной! – проговорил он и, подписав роковой документ, протянул его Селестену.
– Сударь, – сказал тогда Ансельм Попино, омраченное лицо которого озарилось внезапно лучом света, – сударыня, я имею честь просить у вас руки мадмуазель Цезарины.
При этих словах у всех, кроме Цезаря, выступили на глазах слезы; Бирото встал, взял Ансельма за руку и сказал ему глухим голосом:
– Дитя мое, ты не женишься на дочери банкрота.
Пристально посмотрев на парфюмера, Ансельм сказал:
– Если только мадмуазель Цезарина не отказывается выйти за меня замуж, – обещайте, сударь, в присутствии вашей семьи, дать согласие на наш брак в тот день, когда вы будете восстановлены в правах.
Наступило короткое молчание, все с волнением следили за сменой чувств, отражавшихся на измученном лице парфюмера.
– Обещаю, – произнес он наконец.
Ансельм с невыразимой нежностью взял руку Цезарины, которую она ему подала, и запечатлел на ней поцелуй.
– Вы тоже согласны? – спросил он.
– Да, – ответила Цезарина.
– Я, значит, стал наконец членом семьи и по праву могу заняться вашими делами, – с загадочным видом сказал он.
Ансельм поспешил уйти, чтобы не проявить радости, которая шла слишком вразрез с горем его патрона. Он, разумеется, не радовался банкротству Бирото, но любовь так всепоглощающа, так эгоистична! Даже Цезарина в глубине души испытывала волнение, противоречившее горечи, которой было переполнено ее сердце.
– Ну, раз мы уж так далеко зашли, – шепнул Пильеро на ухо Цезарине, – доведем дело до конца.
Госпожа Бирото сделала непроизвольное движение, выражавшее скорее муку, чем одобрение.
– Что ты собираешься дальше делать, племянник? – спросил Пильеро у Цезаря.
– Продолжать торговлю.
– Я бы не советовал, – сказал Пильеро. – Ликвидируй дело, раздай все кредиторам и не показывайся больше на бирже. Я нередко представлял себя в подобном положении. Ведь, занимаясь торговлей, нужно все предвидеть. Купец, не задумывающийся над возможностью банкротства, подобен полководцу, полагающему, что он не может потерпеть когда-нибудь поражения. Такой купец лишь наполовину коммерсант. Нет, я ни за что бы не стал продолжать торговлю. Зачем? Придется постоянно краснеть перед людьми, которых ты ввел в большие убытки, сносить их недоверчивые взгляды и молчаливые упреки! Я понимаю – гильотина!.. Секунда – и все кончено! Но чтобы голова у тебя отрастала и ее каждый день снова рубили – нет, я постарался бы избежать подобной пытки. Многие, обанкротившись, продолжают как ни в чем не бывало вести свои дела. Тем лучше для них! Они, значит, сильнее Клода Жозефа Пильеро. Если поведешь дело на наличные, – а именно так его и приходится вести, – скажут, что ты сумел припрятать денежки; если же ты остался без гроша, тебе никогда больше не оправиться. Нет уж! Отдай свой актив кредиторам, предоставь им продать дело и займись чем-либо другим.
– Но чем же? – спросил Цезарь.
– Ну, поищи какую-нибудь службу, – ответил Пильеро. – Мало ли у тебя влиятельных знакомых? Герцог и герцогиня де Ленонкур, госпожа де Морсоф, господин де Ванденес! Напиши им, пойди к ним; они пристроят тебя в штат королевского двора с окладом в тысячу экю, столько же заработает твоя жена, да и дочь, пожалуй, не меньше Положение не столь уж безнадежное! У вас втроем соберется до десяти тысяч франков в год. За десять лет ты сможешь выплатить сто тысяч франков, так как из заработка вам ничего не придется тратить: твоя жена и дочь будут получать у меня на расходы полторы тысячи франков, а что касается тебя самого – там видно будет.
Над этими мудрыми словами задумалась Констанс, а не Цезарь. Пильеро направился на биржу; она помещалась тогда в деревянной ротонде, вход в которую был с улицы Фейдо. Весть о банкротстве парфюмера Бирото, человека видного и возбуждавшего зависть, успела уже распространиться и вызвала немало толков среди крупных коммерсантов, настроенных в те времена конституционно. Коммерсанты-либералы смотрели на бал Бирото как на дерзкое посягательство на их права. Сторонники оппозиции считали патриотизм своей монополией. Роялистам разрешалось любить короля, но любовь к Франции была привилегией «левых»: народ принадлежал им. Власть была виновна в том, что ее представители праздновали событие, которым либералы желали воспользоваться исключительно в своих интересах. Падение человека, пользовавшегося покровительством двора, сторонника правительства, неисправимого роялиста, 13 вандемьера оскорбившего свободу, восставшего против славной Французской революции, вызвало сплетни и было встречено на бирже с шумной радостью. Пильеро хотел разузнать, каково общественное мнение, разобраться в нем. В одной из самых оживленных групп он увидел дю Тийе, Гобенхейма-Келлера, Нусингена, старика Гильома и его зятя Жозефа Леба, Клапарона, Жигонне, Монжено, Камюзо, Гобсека, Адольфа Келлера, Пальма, Шифревиля, Матифа, Грендо и Лурдуа.
– Вот как надо быть осмотрительным! – сказал Гобенхейм дю Тийе. – Ведь мои родственники едва не открыли кредита Бирото!
– Я попался на десять тысяч франков. Две недели тому назад я дал ему эту сумму под простую расписку, – сказал дю Тийе. – Но он оказал мне когда-то услугу, и я не стану жалеть об этой потере.
– Он поступал не лучше других, ваш племянник, – обратился Лурдуа к Пильеро. – Балы задавал! Я еще понимаю, когда мошенник старается пустить пыль в глаза, дабы внушить доверие; но чтобы человек, слывший образцом порядочности, прибегал к таким заведомо шарлатанским приемам, на которые мы неизменно попадаемся!..
– Вернее, набрасываемся, как пиявки! – пробормотал Гобсек.
– Доверяйте только тем, кто живет в конуре, подобно Клапарону, – заметил Жигонне.
– Ну, – обратился толстяк Нусинген к дю Тийе, – фы хотели сыкрать со мной шутку, посылая ко мне фашефо Пирото. Не понимаю, пошему, – сказал он, поворачиваясь к мануфактуристу Гобенхейму, – этот Пирото не прислал ко мне са пятьютесятью тысяшами франкоф. Я пы их ему тал.
– О нет, барон, – возразил Жозеф Леба. – Вам ведь было хорошо известно, что государственный банк его векселей не принял. Разве вы не направили их в учетный комитет? В деле этого несчастного Бирото, к которому я и сейчас питаю глубокое уважение, есть нечто крайне подозрительное…
Пильеро незаметно пожал руку Жозефа Леба.
– Действительно, все это совершенно необъяснимо, – сказал Монжено, – если только не предположить, что за спиной Жигонне скрываются банкиры, которые хотят задушить дело с участками в районе церкви Мадлен.
– С ним случилось то, что бывает неизменно, когда люди берутся не за свое дело, – заявил Клапарон, перебивая Монжено. – Займись Бирото распространением «Кефалического масла», вместо того чтобы скупать земельные участки в Париже и набивать на них цену, он только потерял бы свои сто тысяч у Рогена, но не обанкротился. Теперь он будет, наверно, работать под фирмой Попино.
– Остерегайтесь Попино, – изрек Жигонне.
Для всех этих негоциантов Роген был «несчастным» Рогеном, а парфюмер – «жалким» Бирото. Одного как бы оправдывала всепоглощающая страсть, вина другого усугублялась его чрезмерными притязаниями. Покинув биржу, Жигонне, по дороге на улицу Гренета, завернул на улицу Перрен-Гасслен и зашел к торговке орехами, г-же Маду.
– Ну как, толстуха? – со свойственным ему напускным добродушием сказал он. – Хорошо идет торговля?
– Помаленьку, – почтительно ответила г-жа Маду, подвигая ростовщику единственное кресло с той раболепной угодливостью, какую она проявляла некогда лишь по отношению к своему «дорогому покойнику».
Тетка Маду могла свалить с ног строптивого или чересчур нахального ломового извозчика, не побоялась бы пойти на приступ Тюильри 10 октября, она подтрунивала над своими лучшими покупателями и способна была бесстрашно обратиться к королю от имени торговок Центрального рынка; но Жигонне Анжелика Маду принимала с глубочайшим почтением. Она робела в его присутствии, дрожала под его сверлящим взглядом. Простые люди долго еще будут трепетать перед палачом, а Жигонне был палачом мелкой торговли. Ничья власть не почитается на Центральном рынке так, как власть человека, дающего деньги в рост. По сравнению с ним люди иных профессий – ничто! Даже правосудие в глазах рынка воплощается в полицейском комиссаре, человеке, с которым можно поладить. Но вид ростовщика, засевшего за своими зелеными папками, заимодавца, которого молят с замиранием сердца, пресекает всякую попытку шутить, сжимает горло, смиряет самый гордый взгляд и внушает почтительность простому люду.
– Вам что-нибудь от меня угодно? – спросила она.
– Ерунда, мелочь; приготовьтесь заплатить по векселям Бирото, куманек обанкротился, все его векселя предъявляются ко взысканию. Я пришлю вам завтра утром счет.
Глаза г-жи Маду сперва сузились, как у кошки, а затем вспыхнули огнем.
– Ах, негодяй! Ах, прощелыга! Явился сюда собственной персоной разводить турусы на колесах: я-де помощник мэра! Ах, мошенник! Так вот как теперь ведут дела! Нет больше у мэров совести! Правительство надувает нас! Ну, погоди же, он у меня заплатит!..
– Что ж, голубушка, каждый выкручивается в таких случаях, как может, – сказал Жигонне, легонько дрыгнув ногой, точно кошка, собирающаяся перескочить через лужицу, – привычка, которой он обязан был своим прозвищем. – Кое-кто из важных шишек тоже прикидывает, как бы половчее выпутаться из этого дела.
– Ладно, ладно, я уж постараюсь выудить свои орешки. Мари-Жанна! Башмаки и шаль! Да поживее! Не то получишь хорошую затрещину.
«Ну, заварится теперь каша в том конце улицы, – подумал Жигонне, потирая руки. – Скандал будет на весь квартал. Дю Тийе будет доволен. Не знаю, чем ему насолил этот бедняга парфюмер? Мне его жаль, как собаку с перебитой лапой. Что это за мужчина, ведь в нем силы – ни на грош!»
В семь часов вечера тетка Маду, словно восставшее Сент-Антуанское предместье, обрушилась на дверь несчастного Бирото и с яростью распахнула ее, ибо быстрая ходьба еще больше распалила торговку.
– Мерзавцы! Подавайте мои деньги! Сейчас же отдайте! Верните мне деньги, а не то я заберу у вас разных товаров на свои тысячу двести франков, – вееров, саше и всякой атласной дребедени! Где это видано, чтобы мэры обкрадывали население! Если вы мне не заплатите, я его на каторгу упеку: пойду к прокурору, весь суд на ноги поставлю! Отдавайте долг. С места не сойду, пока не получу своих денег!
Она сделала вид, что собирается поднять стекло одной из витрин, где разложены были дорогие безделушки.
– Ну и разобрало же тетку Маду, – тихо сказал Селестен стоявшему с ним рядом приказчику.
Торговка услыхала эти слова, – в пылу страсти восприятия наши притупляются или обостряются, в зависимости от строения организма, – и наградила Селестена самой увесистой пощечиной, отпущенной когда-либо в парфюмерной лавке.
– Научись, ангел мой, уважать женщин, – сказала она, – и не задевать людей, которых обкрадываешь.
– Сударыня, – сказала г-жа Бирото, выходя из комнаты за лавкой, где случайно находился ее муж: дядя Пильеро хотел было увести его, но Цезарь дошел в своем самоуничижении до того, что не стал бы противиться, если бы его, согласно закону, посадили в тюрьму. – Сударыня, не кричите ради бога. Прохожие соберутся.
– Пусть их собираются, – закричала торговка, – я им все начистоту выложу. Да вы что, смеетесь? Прикарманиваете мои потом заработанные деньги, мой товар и задаете балы! Вон вы как разодеты, точно французская королева, а шерсть-то на платья стрижете с бедных ягнят вроде меня! Господи Иисусе! Мне бы плечи жгло краденое добро. На мне простая, дешевенькая шаль, да зато она моя! Воры, грабители, верните мне деньги, а не то…
Она бросилась к красивой мозаичной шкатулке с дорогими туалетными принадлежностями.
– Не трогайте этого, сударыня, – сказал, появляясь, Цезарь. – Здесь уже ничего моего нет, все принадлежит кредиторам. Единственная моя собственность – это я сам, и если вы предъявляете на меня права, хотите засадить меня в тюрьму, даю вам честное слово (на глазах у него выступили слезы), что буду ждать здесь судебного пристава с понятыми…
Тон и жесты Бирото, в сочетании с его словами, утихомирили г-жу Маду.
– Мой капитал похитил сбежавший нотариус, и я неповинен в том, что разоряю людей, – продолжал Цезарь, – но я все полностью уплачу вам со временем, хотя бы мне пришлось для этого уморить себя на работе, стать чернорабочим или носильщиком на рынке…
– Ну, вы, видно, честный человек, – заявила торговка. – Простите меня за мои слова, сударыня. Но мне хоть утопиться впору, ведь Жигонне меня изведет, а для расплаты по этим вашим проклятым распискам у меня нет ничего, кроме векселей, срок которым не раньше чем через десять месяцев.
– Зайдите ко мне завтра утром, – сказал, входя в лавку, Пильеро, – я устрою вам учет этих векселей по пяти процентов у одного из моих приятелей.
– Стойте! Да это почтенный папаша Пильеро! Он ведь и впрямь ваш дядя, – обратилась г-жа Маду к Констанс – Ну, значит, вы люди честные, мое добро за вами не пропадет, правда? До завтра, старый Брут, – сказала она бывшему торговцу скобяными товарами.
Цезарь непременно хотел остаться среди развалин своего благополучия: он заявил, что так же будет объясняться со всеми кредиторами. Невзирая на мольбы племянницы, дядюшка Пильеро, хитрый старик, одобрил его решение, а потом заставил парфюмера подняться наверх. Поспешив к г-ну Одри, он объяснил доктору положение вещей, получил рецепт на снотворное, заказал его и вернулся к племяннику, чтобы провести с ним вечер. С помощью Цезарины он уговорил Цезаря выпить с ними вина. Под действием снотворного Бирото уснул; он очнулся через четырнадцать часов на улице Бурдонне, в спальне дядюшки Пильеро, в плену у старика, который сам лег спать на складной кровати в гостиной. Когда застучали колеса фиакра, увозившего Пильеро и Цезаря, мужество покинуло Констанс. Наши силы часто поддерживает лишь сознание, что мы должны служить опорой для существа более слабого, чем мы. Оставшись одна с дочерью, несчастная женщина рыдала так горько, словно оплакивала смерть мужа.
– Мама, – сказала Цезарина, усевшись на колени к матери и ласкаясь к ней, словно котенок, с той милой непосредственностью, которая проявляется лишь в отношениях женщин друг к другу. – Ты говорила, что если я мужественно встречу перемену в своей судьбе, то и ты найдешь силы перенести несчастье. Не плачь же, дорогая мамочка. Я готова пойти служить в какую-нибудь лавку и не буду вспоминать, кем мы были раньше, я стану, как и ты в молодости, старшей продавщицей, и ты никогда не услышишь от меня ни жалоб, ни сожалений о прошлом. Я буду жить надеждой. Разве ты не слыхала, что сказал господин Попино?
– Милый мальчик, он не будет мне зятем…
– Ах, мама!..
– Он будет для меня родным сыном.
– Ну, вот видишь, даже в беде есть кое-что хорошее, – сказала Цезарина, целуя мать, – она помогает нам узнать истинных друзей.
Цезарине удалось в конце концов смягчить горе несчастной женщины, окружив ее нежностью, в которой было теперь что-то материнское. На другой день Констанс отправилась с утра к герцогу де Ленонкуру, одному из камергеров короля, и оставила ему письмо: она просила назначить час, когда он сможет ее принять. Затем она зашла к г-ну де ла Биллардиеру, рассказала ему, в какое положение попал Бирото из-за бегства нотариуса, умоляя поддержать ее просьбу перед герцогом и похлопотать за нее, ибо она опасалась, что сама плохо изложит дело. Она хотела получить место для Бирото, – он был бы самым честным кассиром, если можно говорить о степени честности.
– Король только что поручил графу де Фонтэну одну из важных должностей в управлении министерством двора, времени терять нельзя.
В два часа дня ла Биллардиер и жена парфюмера поднялись по парадной лестнице особняка де Ленонкура на улице Сен-Доминик; они были введены к камергеру, пользовавшемуся особым благоволением Людовика XVIII, – если только верно, что король выказывал кому-либо предпочтение. Любезный прием со стороны вельможи, принадлежавшего к горсточке истинных аристократов, завещанных прошлым веком нынешнему веку, обнадежил г-жу Бирото. Жена парфюмера проявила в своей скорби простоту и душевное величие. Горе облагораживает даже самых заурядных людей, ибо в нем заключено нечто возвышенное, и достаточно быть просто искренним, чтобы отразить на себе его отблеск; а Констанс была женщиной глубоко правдивой. Решено было как можно скорее обратиться с ходатайством к королю.
Во время разговора доложили о приходе г-на де Ванденеса, и герцог воскликнул:
– Вот ваш спаситель!
Господин де Ванденес знал немного г-жу Бирото, ибо раза два заходил к ней в лавку за какими-то безделицами, которые иной раз бывают не менее необходимы, чем вещи самые важные. Герцог сообщил ему о намерении де ла Биллардиера. Узнав о несчастье, постигшем крестника маркизы д'Юкзель, Ванденес тотчас же направился вместе с ла Биллардиером к графу де Фонтэну, попросив г-жу Бирото дождаться их возвращения.
Граф де Фонтэн, как и ла Биллардиер, принадлежал к числу храбрых провинциальных дворян, почти безвестных участников восстания в Вандее. Бирото был ему немного знаком, он встречал его когда-то в «Королеве роз». Люди, проливавшие свою кровь за дело короля, пользовались в те времена привилегиями, которые монарх предпочитал не предавать огласке, чтобы не отпугнуть либералов. Г-н де Фонтэн, один из любимцев Людовика XVIII, был удостоен, по слухам, полного доверия короля. Граф не только твердо пообещал дать Бирото какое-нибудь место, но даже сам направился к герцогу де Ленонкуру, дежурившему в тот вечер во дворце, чтобы испросить для себя короткую аудиенцию у короля, а для ла Биллардиера – аудиенцию у брата короля, который очень любил этого бывшего вандейского дипломата.
В тот же вечер граф де Фонтэн прямо из Тюильри заехал к г-же Бирото сообщить, что муж ее, после соглашения с кредиторами, будет официально зачислен на службу в комиссию погашения государственного долга с окладом в две тысячи пятьсот франков. Все вакантные должности в министерстве двора были уже заняты сверхштатными служащими из дворян, которым места эти были заранее обещаны.
Успех этот разрешал лишь часть задачи, взятой на себя г-жой Бирото. Бедная женщина направилась на улицу Сен-Дени в «Дом кошки, играющей в мяч» – повидать Жозефа Леба. По дороге она повстречала г-жу Роген, ехавшую в великолепном экипаже, по-видимому за покупками. Их взгляды скрестились. Чувство стыда, которое женщина, живущая в роскоши, не могла скрыть при виде женщины разоренной, придало Констанс мужества.
«Нет, никогда я не стану разъезжать на чужой счет в карете», – подумала она.
Жозеф Леба приветливо принял ее, и Констанс попросила его подыскать для Цезарины место в какой-нибудь солидной коммерческой фирме. Леба ничего не обещал; но уже через неделю Цезарина получила место, дававшее ей стол, квартиру и тысячу экю жалованья, – в богатой парижской фирме модных новинок, незадолго перед тем открывшей отделение в районе Итальянского бульвара. Дочери парфюмера была доверена касса и надзор за магазином; Цезарина, в подчинении у которой находилась старшая продавщица, замещала в отделении владельцев фирмы.
Госпожа Бирото посетила в тот же день и Попино; она просила его поручить ей кассу и ведение торговых книг, а также наблюдение за хозяйством. Ансельм понял, что его лавка – единственное место, где жена парфюмера будет окружена подобающим ей уважением и займет достойное ее положение. Великодушный юноша назначил ей три тысячи франков жалованья в год со столом и квартирой – он уступил Констанс свою комнату, которую специально для нее обставил, а сам перебрался в мансарду, где жил до тех пор один из его приказчиков. Прекрасной парфюмерше, только один месяц прожившей в своей роскошной квартире, пришлось поселиться в той отвратительной, выходившей на темный и сырой двор конурке, где Годиссар, Ансельм и Фино положили начало «Кефалическому маслу».
Когда Молине, которого коммерческий суд назначил агентом, пришел принять актив Цезаря Бирото, Констанс, с помощью Селестена, проверила вместе с ним инвентарную опись. Затем мать и дочь, скромно одетые, вышли из лавки и пешком направились к дяде Пильеро, даже не оглянувшись на дом, где прошла значительная часть их жизни. Они молча дошли до улицы Бурдонне и впервые после отъезда Цезаря вместе с ним там пообедали. Обед был невеселый. Каждый успел уже поразмыслить, взвесить тяжесть взятых на себя обязательств, испытать свое мужество. Подобно матросам, глядящим в глаза опасности, все трое готовы были вступить в борьбу с ненастьем. Бирото воспрянул духом, узнав, какое внимание проявили к нему сильные мира сего, устраивая его судьбу; но, услышав о том, что ожидает его дочь, Цезарь заплакал; потом пожал руку Констанс, оценив мужество, с которым жена его снова взялась за работу.
Дядюшка Пильеро, быть может в последний раз в своей жизни, прослезился при виде трогательного зрелища, которое являли собой эти три существа: они крепко обняли друг друга, и Цезарь, самый слабый и самый удрученный из них, подняв руку, воскликнул:
– Будем надеяться!
– Для экономии, – сказал племяннику Пильеро, – ты поселишься у меня; оставайся в моей комнате, и я разделю с тобой кусок хлеба. Одиночество давно тяготит меня, ты мне заменишь бедное дитя, которое я потерял. До твоей Комиссии на улице Оратуар отсюда рукой подать.
– Боже милостивый, – воскликнул Бирото, – вот моя путеводная звезда во мраке непогоды!
Покорившись своей участи, несчастный уже испил до дна чашу горечи. Падение Бирото в этот миг завершилось, и он, приняв его, почувствовал прилив сил.
Объявив о своей несостоятельности, купец, казалось бы, должен заботиться лишь о том, чтобы отыскать во Франции или за границей какой-нибудь тихий уголок, где он мог бы жить, ни во что не вмешиваясь, подобно ребенку, каковым он и является с точки зрения закона, приравнивающего его к несовершеннолетним и воспрещающего ему совершать какие бы то ни было юридические акты как в области гражданского, так и публичного права. На деле же это не так. Прежде чем рискнуть появиться на улице, банкрот ждет охранной грамоты, в которой ему никогда не отказывают ни присяжный попечитель, ни кредиторы, ибо его посадили бы за решетку, встретив без этой охранной грамоты; получив спасительный пропуск, несостоятельный должник расхаживает, как парламентер по вражескому стану – и не любопытства ради, а чтобы помешать осуществлению направленного против него безжалостного закона о банкротах. Любой закон, касающийся частной собственности, порождает множество мошеннических уловок. Как и всякий, чьи интересы находятся в противоречии с каким-либо законом, банкрот стремится обойти этот закон. Состояние гражданской смерти, во время которой банкрот уподобляется куколке бабочки, длится около трех месяцев – время, потребное для совершения формальностей, предшествующих собранию кредиторов, где между ними и должником подписывается мирный договор, полюбовная сделка, называемая соглашением. Уже само это название указывает, что после бури, вызванной столкновением резко противоречащих друг другу интересов, водворяется согласие.
Рассмотрев баланс несостоятельного должника, коммерческий суд назначает присяжного попечителя, который должен блюсти интересы кредиторов как известных, так и еще не объявившихся и охранять в то же время банкрота от притеснений разъяренных заимодавцев; эта двойная роль была бы великолепной, если бы только у присяжных попечителей хватало на нее времени. Присяжный попечитель облекает агента правом налагать арест на капиталы, ценности, товары должника, проверив показанный в балансе актив; затем канцелярия коммерческого суда назначает общее собрание кредиторов, о чем и доводится до сведения публики трубным гласом газетных объявлений. Кредиторам – подставным и настоящим – предлагают собраться и избрать сообща временных синдиков, которые заменяют агента и, в силу допускаемой законом фикции, как бы влезают в шкуру банкрота и становятся им самим: они могут ликвидировать, продавать, вступать в сделки – словом, делать все что угодно в интересах кредиторов, если только несостоятельный должник этому не воспротивится. В большинстве парижских банкротств дело не заходит дальше назначения временных синдиков, и вот почему.
Назначение одного или нескольких постоянных синдиков – самый жестокий акт мести, к которому могут прибегнуть обманутые, осмеянные, одураченные, попавшиеся на удочку, околпаченные, обворованные, облапошенные кредиторы. Хотя кредиторы и бывают обычно облапошены, обворованы, околпачены, пойманы на удочку, одурачены, осмеяны и обмануты, все же в коммерческом мире Парижа нет таких страстей, которые не улеглись бы за три месяца. Только подлежащие оплате торговые векселя могут находиться в обороте столь длительный срок. Через три месяца все кредиторы, измучившись от хлопот и волнений, связанных с банкротством их должника, мирно спят возле своих добрейших женушек. Все это может помочь иностранцу понять, почему в Париже временное часто становится постоянным: из тысячи временных синдиков не наберется и пяти, которые фактически не оказались бы постоянными. Отчего стихает ненависть, вызванная банкротством, станет ясным из дальнейшего. Но необходимо объяснить людям, не имеющим удовольствия быть купцами, как протекает в Париже драма банкротства, дабы им стало понятно, каким образом драма эта превращается в чудовищное издевательство над законом и почему банкротству Цезаря суждено было сделаться поразительным исключением из правила.
В этой захватывающей коммерческой драме три акта: акт первый – агент; акт второй – синдики; акт третий – соглашение. Подобно любому театральному представлению, она являет собой двойное зрелище: постановку, рассчитанную на публику, и скрытые от зрителей технические средства; представление, видимое из партера, и представление, наблюдаемое из-за кулис. За кулисами – банкрот и его поверенный, адвокат кредиторов, синдики, агент и, наконец, присяжный попечитель.
Вне Парижа никто не знает, а в Париже ни для кого не тайна, что член коммерческого суда – самое диковинное из должностных лиц, когда-либо созданных обществом. Такой судья должен опасаться, что в любой момент меч правосудия может обернуться против него самого. Парижу уже довелось видеть, как председатель коммерческого суда вынужден был объявить самого себя несостоятельным. Вместо того чтобы доверить эту почетную должность пожилому, удалившемуся от дел коммерсанту, для которого она являлась бы наградой за честно прожитую жизнь, ее поручают купцу, ворочающему огромными делами, главе какой-нибудь крупной фирмы. На должность судьи, которому надлежит разбираться в бесчисленных коммерческих процессах, лавиной обрушивающихся на столицу, почему-то всегда избирают человека, перегруженного собственными делами. Вместо того чтобы служить переходной ступенью, с помощью которой купец, не возбуждая насмешек, мог бы проникнуть в ряды знати, коммерческий суд составляется из коммерсантов, не удалившихся еще от дел, а потому рискующих пострадать от мести за вынесенный приговор, столкнувшись на деловой почве с недовольной стороной; так Бирото пострадал от мести дю Тийе.
Присяжный попечитель по необходимости оказывается, таким образом, персонажем, к которому обращено множество слов; он их едва выслушивает, думая при этом о собственных делах и передоверяя свои полномочия в делах общественных синдикам и поверенному, за исключением тех интересных случаев, когда надувательство приняло особо любопытную форму и кредиторы или должник, как говорится, «настоящие ловкачи». Персонаж этот, играющий в драме ту же роль, что бюст короля в зале судебных заседаний, бывает между пятью и семью часами утра на своем лесном складе, если торгует лесом; в лавке – если он парфюмер, как был когда-то Бирото; его можно застать еще дома, после обеда, за десертом; но он вечно при этом куда-то торопится. Как правило, это – действующее лицо без слов. Воздадим должное закону: законодательство но этому вопросу создано наспех и связывает руки присяжному попечителю, так что в ряде случаев он вынужден покрывать мошеннические проделки, помешать которым, как это станет ясно из дальнейшего, он не в силах.
Вместо того чтобы блюсти интересы кредиторов, агент может держать руку должника. Каждый кредитор надеется увеличить свою долю, добившись предпочтения у банкрота, который – как все подозревают – припрятал кучу денег. Агент может быть полезен обеим сторонам: банкроту – не топя его окончательно, кредиторам – урвав кое-что для влиятельнейших из них; он, стало быть, старается, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Ловкий агент нередко добивается отмены судебного решения и, скупив векселя, помогает встать на ноги несостоятельному должнику, который подскакивает тогда вверх, как резиновый мяч. Агент переходит на ту сторону, где кормушка лучше, и либо ограждает интересы кредиторов в ущерб должнику, либо жертвует их интересами во имя будущности банкрота. Таким образом, первый акт, где на сцену выступает агент, – уже предопределяет развязку пьесы. Агент и поверенный коммерческого суда могут сыграть в пьесе важнейшую роль, и оба они берутся за исполнение ее, лишь будучи уверены в гонораре. Из тысячи банкротств в девятистах пятидесяти случаях агент держит руку банкрота. В те времена, к которым относится наш рассказ, поверенные являлись обычно к присяжному попечителю и предлагали ему назначить агентом их ставленника, который якобы хорошо знаком с делами банкрота и может примирить интересы заимодавцев с интересами попавшего в беду почтенного человека. И вот уже несколько лет, как опытные присяжные попечители просят указать им желательного кандидата в агенты, с тем чтобы отвести его кандидатуру и самим назначить человека, кажущегося им порядочным.
Во втором акте появляются на сцене кредиторы – подставные и настоящие, – чтобы избрать временных синдиков, которые, как уже было сказано, фактически оказываются постоянными. На собрании кредиторов право голоса имеют и те, кому следует пятьдесят тысяч франков, и те, кому причитается пятьдесят су: голоса там подсчитываются, но не взвешиваются. Собрание это, где присутствуют и подобранные банкротом подставные кредиторы, – они-то уж наверняка никогда не пропускают выборов, – намечает кандидатов, из числа которых присяжный попечитель, председатель, не имеющий никакой власти, обязан выбрать синдиков. Таким образом, присяжный попечитель почти всегда получает синдиков, удобных банкроту, – второе злоупотребление, обращающее трагедию банкротства в одну из наиболее шутовских комедий, пользующихся покровительством закона. «Попавший в беду почтенный человек», становясь хозяином положения, облекает в законную форму заранее обдуманную им кражу. Впрочем, мелкие парижские торговцы обычно не заслуживают подобных упреков. Если какой-нибудь лавочник прекращает платежи, то, поверьте, бедняга продал уже шаль жены, заложил столовое серебро, сделал все, что мог, и разорился дотла, так что не имеет даже возможности уплатить поверенному коммерческого суда, который, кстати сказать, очень мало о нем тревожится.
По закону, соглашение, снимающее с купца часть его долга и возвращающее ему право вести дела, должно быть принято при голосовании большинством кредиторов, которым принадлежит большая часть суммы претензий. Достигнуть такого решения – задача нелегкая, так как тут сталкиваются противоположные интересы; поэтому должнику, синдикам и поверенному приходится проявлять немалые дипломатические таланты. Самое заурядное, обычное ухищрение состоит в том, что должник предлагает части кредиторов, образующей требуемое законом большинство, некую добавочную мзду, помимо полагающегося им по соглашению дивиденда. Бороться с этим грандиозным жульничеством невозможно: тридцать сменивших друг друга коммерческих судов убедились в этом на собственном опыте и, наученные им, решились в конце концов признавать недействительными дутые векселя. Банкроты жалуются на это «насилие», но судьи надеются оздоровить таким образом нравственную атмосферу конкурсных управлений; однако они сделают ее еще хуже: кредиторы изобретут какой-нибудь еще более жульнический прием, который члены коммерческого суда заклеймят как судьи и будут пользоваться им в своих интересах как купцы.
Другой, весьма распространенный способ, которому мы обязаны выражением солидный и законный кредитор, состоит в создании фиктивных кредиторов, подобно тому как дю Тийе создал фиктивный банкирский дом; в конкурс вводится в таких случаях определенное количество Клапаронов, за которыми скрывается банкрот; уменьшив, таким образом, долю настоящих кредиторов, он сколачивает себе средства на будущее и в то же время обеспечивает необходимое для соглашения количество голосов и требуемую по закону сумму претензий.
Дутые и незаконные кредиторы – это то же, что подставные избиратели на выборах. Что может поделать солидный и законный кредитор с дутыми и незаконными? Вывести их на чистую воду и избавиться от них? Хорошо. Но чтобы изгнать незаконно втершегося дутого кредитора, кредитор солидный и законный должен забросить свои дела и обратиться к поверенному коммерческого суда; вышеуказанный же поверенный, почти ничего на этом деле не зарабатывая, предпочитает «руководить» конкурсами, а порученную ему тяжбу ведет в высшей степени небрежно. Чтобы изгнать дутых кредиторов, приходится вникать в запутанные операции, обращаться к событиям давно минувшим, рыться в торговых книгах, добиваться через суд, чтобы мнимый кредитор представил свои книги, выявлять неправдоподобие фиктивной сделки и доказать это перед судьями, выступать в суде, бегать, суетиться, подогревать немало холодных сердец; такую донкихотскую борьбу приходится вести с каждым дутым и незаконным кредитором, который, будучи уличен в том, что он дутый, удаляется, раскланявшись с судьями и заявив им: «Простите, но вы ошибаетесь, я очень солидный кредитор». И все это нисколько не нарушает прав несостоятельного должника, который может подать на Дон-Кихота жалобу в суд. Тем временем собственные дела Дон-Кихота приходят в расстройство, и ему самому чуть ли не угрожает банкротство.
Вывод: несостоятельный должник сам назначает синдиков, сам проверяет свои долговые обязательства, сам устраивает соглашение.
Приняв все это во внимание, каждый поймет, какие возможности открывает банкротство для всяческих интриг, фокусов Сганареля, выдумок Фронтена, врак Маскариля и плутней Скапена. Сочинителю, пожелавшему описать их, любое банкротство может дать материал, которого хватило бы на четырнадцать томов новой «Клариссы Гарлоу». Достаточно привести хотя бы один пример.
Знаменитый Гобсек, наставник всех этих Пальма, Жигонне, Вербрустов, Келлеров и Нусингенов, участвуя однажды в конкурсном управлении и намереваясь круто разделаться с надувшим его купцом, получил от него векселя, подлежавшие оплате после соглашения; векселя эти вместе с приходившейся на долю ростовщика частью дивиденда полностью покрывали его претензии к банкроту. Стараниями Гобсека было достигнуто соглашение о снятии с несостоятельного должника семидесяти пяти процентов его долга. Остальных кредиторов, таким образом, обошли в пользу Гобсека. Но так как купец подписал выданные Гобсеку векселя уже будучи банкротом, то есть незаконно, то ему удалось распространить и на них установленную соглашением семидесятипятипроцентную скидку, и Гобсек – сам великий Гобсек! – лишь с трудом получил пятьдесят процентов. С тех пор он при встрече неизменно отвешивал своему должнику иронически почтительный поклон.
Все сделки, заключенные несостоятельным должником в последние десять дней до банкротства, могут быть опорочены; и вот предусмотрительные люди заблаговременно договариваются с теми из кредиторов, которые, так же как и банкрот, заинтересованы в том, чтобы поскорее достичь соглашения. Кредиторы-хитрецы отправляются к кредиторам-простакам или кредиторам, чрезмерно загруженным делами, описывают им предстоящее соглашение в самых мрачных красках и скупают у них векселя банкрота за полцены против того, что они будут стоить при окончательной ликвидации. Таким путем они умудряются вернуть свои денежки, получая, кроме дивиденда, причитающегося им по их собственным претензиям, еще и половину, треть или четверть дивиденда по скупленным ими обязательствам.
Банкротство захлопывает более или менее плотно все входы в дом, где после грабежа все еще остается несколько мешков с деньгами. Благо купцу, который, изловчившись, проникнет туда через окно, крышу, погреб или пролезет в какую-нибудь щель и, захватив один из мешков, увеличит таким образом свою долю! Среди разгрома, когда кричат, как при переправе через Березину: «Спасайся, кто может!» – нет больше разницы между законным и незаконным, истинным и ложным, честным и бесчестным. Человеком восторгаются, если он сумел себя обеспечить. А «обеспечить» себя – значит захватить какие-нибудь ценности в ущерб прочим кредиторам. Вся Франция полна была шумных споров по поводу грандиозного банкротства, разразившегося в одном из провинциальных городов; дело это поступило в королевский суд; судьи, имевшие текущие счета у банкротов, запаслись непромокаемыми плащами такой прочности, что от мантии правосудия не осталось ничего, кроме лохмотьев. Ввиду сомнения в беспристрастии судей пришлось передать разбирательство дела в другой судебный округ, ибо в городе, где произошло банкротство, не оказалось ни одного неподкупного члена суда, ни одного беспристрастного присяжного попечителя или агента.
Эта ужасающая коммерческая неразбериха прекрасно известна всему парижскому торговому миру, и любой купец, если только он не пострадал на слишком уж значительную сумму, как бы мало он ни был загружен делами, принимает чужое банкротство, как несчастный случай, от которого никто не застрахован; списав свои потери со счета прибылей и убытков, он, не тратя времени даром, продолжает обделывать свои дела. А мелкие торговцы, которые в последних числах каждого месяца не знают, как свести концы с концами, и упорно гонятся за удачей, страшатся одной мысли о долгом и разорительном судебном процессе; не пытаясь разобраться в этом процессе, они, по примеру крупных коммерсантов, покорно склоняют голову и подсчитывают свои убытки.
Крупные коммерсанты больше уже не прибегают к банкротству, они полюбовно ликвидируют дело: кредиторы берут то, что им соблаговолят предложить, и выдают расписки. Таким путем удается избегнуть бесчестия, судебной волокиты, расходов на поверенных коммерческого суда и обесценения товаров. Каждый считает, что банкротство должника дало бы ему меньше, чем ликвидация. В Париже поэтому больше ликвидации, нежели банкротств.
Второй акт драмы, где действуют синдики, призван доказать их неподкупность и убедить всех в том, что не может быть и речи о каком-либо мошенническом сговоре между ними и банкротом. Но зрителям, почти каждый из которых был синдиком, известно, что синдик – это обеспечивший себя кредитор. Зрители в партере слушают, верят лишь тому, что им выгодно, и после трех месяцев, затраченных на проверку актива и пассива, приходят подписывать соглашение. Временные синдики делают тогда собранию кредиторов небольшой доклад, составленный приблизительно в таких выражениях:
«Господа, всем нам в общей сложности следует миллион. Мы разобрали нашего должника на части, как потерпевший крушение фрегат. Гвозди, железо, дерево, медь дали в общей сложности триста тысяч франков, то есть тридцать процентов того, что он нам должен. Мы счастливы, что налицо оказалась такая сумма, ибо должник мог нам оставить и не более сотни тысяч франков. Мы объявляем его поэтому новым Аристидом, присуждаем ему поощрительную премию, венчаем его лаврами и предлагаем оставить ему его актив, рассрочив на десять – двенадцать лет уплату тех пятидесяти процентов долга, которые он соблаговолил нам обещать. Вот соглашение; подходите к столу и подписывайтесь».
Выслушав это сообщение, ликующие негоцианты обнимаются и поздравляют друг друга. По утверждении соглашения судом должник вновь становится таким же негоциантом, каким был до банкротства: ему возвращается его актив, он продолжает вести свои дела, не лишаясь при этом права вновь объявить себя несостоятельным, чтобы не заплатить обещанных пятидесяти процентов долга; это, так сказать «внучатное», банкротство наблюдается не реже, чем рождение ребенка матерью, за девять месяцев до того выдавшей свою дочь замуж.
Если не удалось прийти к соглашению, кредиторы назначают постоянных синдиков и прибегают к чрезвычайным мерам: объединившись, они приступают сообща к извлечению дохода из имущества и торгового дела должника, присваивая себе и то, что ему предстоит получить в будущем – наследство от отца, матери, тетки и прочее. Эта суровая мера осуществляется с помощью договора о товариществе.
Существуют, таким образом, два вида банкротства: банкротство купца, желающего вернуться к делам, и банкротство купца, который, потерпев крушение, покорно идет ко дну. Разница между ними была хорошо известна Пильеро: он считал – и Рагон разделял его мнение, – что из банкротства первого рода так же трудно выйти незапятнанным, как из банкротства второго рода – богатым.
Посоветовав Цезарю отказаться полностью от своих имущественных прав, Пильеро обратился к самому честному из имевшихся на бирже поверенных коммерческого суда с просьбой описать имущество банкрота, ликвидировать его и передать все ценности в распоряжение кредиторов. Закон обязывает кредиторов в течение всей драмы банкротства содержать несостоятельного должника и его семью. Пильеро довел, однако, до сведения присяжного попечителя, что сам берет на себя заботы о нуждах своего племянника и племянницы.
Дю Тийе подготовил все таким образом, чтобы банкротство обратилось для его бывшего хозяина в длительную агонию. Вот на что он рассчитывал.
В Париже время дорого, и из двух синдиков обычно лишь один занимается делами несостоятельного должника. Другой существует для проформы: он только подписывает документы, подобно второму нотариусу при совершении нотариальных актов. А синдик, занимающийся делами банкрота, сплошь да рядом всецело полагается на поверенного при коммерческом суде. Благодаря этому в Париже при банкротстве первого рода конкурс проводится так быстро, что в установленный законом срок все бывает устроено, улажено, увязано и приведено в порядок! Через три месяца присяжный попечитель уже может повторить жестокие слова некоего министра: «В Варшаве царит порядок!»
Дю Тийе добивался коммерческой смерти парфюмера. Одни уж имена синдиков, назначенных происками дю Тийе, были для Пильеро достаточно показательны. Главный кредитор, г-н Бидо, по прозвищу Жигонне, ни во что не должен был вмешиваться. Вершить же все дела предстояло плюгавому, въедливому старикашке Молине, ничего не терявшему на банкротстве. Дю Тийе бросил труп достойного купца на растерзанье и на съеденье этому маленькому шакалу. После собрания, на котором кредиторы назначили синдиков, маленький Молине вернулся домой, облеченный, как он выразился, доверием своих сограждан; он был в восторге от того, что будет теперь командовать Бирото, словно ребенок, радующийся возможности помучить пойманного кузнечика. Оседлав своего любимого конька – законность, домовладелец попросил дю Тийе не оставлять его своими советами и запасся Торговым уставом. Жозеф Леба, предупрежденный Пильеро, успел, к счастью, своевременно добиться у председателя коммерческого суда назначения присяжным попечителем человека проницательного, известного своей доброжелательностью. И Гобенхейм-Келлер, на назначение которого рассчитывал дю Тийе, был заменен членом коммерческого суда Камюзо, богатым торговцем шелками, либералом, владельцем дома, где проживал Пильеро, и, по слухам, человеком почтенным.
Едва ли не самой мучительной сценой в жизни Цезаря был его вынужденный разговор со старикашкой Молине, казавшимся ему полным ничтожеством; теперь же, в силу юридической фикции, человек этот олицетворял его самого, Цезаря Бирото.
Парфюмеру пришлось отправиться вместе с дядей в Батавское подворье, взобраться на седьмой этаж и снова войти в ужасное жилище Молине, своего опекуна, представителя всех кредиторов, получившего право судить его.
– Что с тобой? – спросил Пильеро, услышав вырвавшееся у Цезаря восклицание.
– Ах, дядя! Вы и не представляете себе, что за человек этот Молине!
– Я уже лет пятнадцать встречаю его иногда в кафе «Давид», он там играет по вечерам в домино; потому-то я и пошел с тобой.
Господин Молине был необычайно любезен с Пильеро, а к банкроту отнесся со снисходительным пренебрежением. Старикашка наметил себе заранее линию поведения, обдумал тон, в котором будет вести разговор, и соображения, которые выскажет.
– Какие вы желаете получить сведения? – спросил Пильеро. – Ведь по претензиям кредиторов никаких спорных вопросов не возникло?
– О! – отвечал Молине. – Долговые обязательства в порядке, все проверено. Все кредиторы – солидные и законные. Но закон, сударь, закон!.. Траты несостоятельного должника не соответствовали его капиталу… Установлено, что бал…
– На котором вы присутствовали, – прервал его Пильеро.
– …обошелся приблизительно в шестьдесят тысяч франков, во всяком случае, такая сумма была израсходована в связи с балом, актив же несостоятельного должника едва превышал в то время сто тысяч франков… Есть основание передать дело несостоятельного должника в особое присутствие уголовного суда с обвинением в банкротстве по неосторожности.
– Вы полагаете? – спросил Пильеро, заметив, в какое уныние повергли Бирото эти слова.
– Сударь, я имею в виду, что ведь господин Бирото был должностным лицом…
– Вы все же, вероятно, не для того пригласили нас, чтобы сообщить, что мы будем привлечены к уголовной ответственности? – спросил Пильеро. – Нынче вечером в кафе «Давид» все смеялись бы над вашим поведением.
Ссылка на мнение кафе «Давид», казалось, сильно припугнула старикашку, и он растерянно посмотрел на Пильеро. Синдик полагал, что Бирото придет один, и собирался разыграть из себя верховного судью, Юпитера-громовержца. Он рассчитывал запугать Бирото приготовленной заранее грозной обвинительной речью и, потрясая над его головой карающим мечом закона, насладиться смятением и ужасом парфюмера, а затем позволить себя разжалобить, смягчиться и преисполнить душу своей жертвы вечной признательностью. Но вместо беззащитной букашки Молине столкнулся со старым коммерческим сфинксом.
– Сударь, – сказал он Пильеро, – тут нет ничего смешного.
– Позвольте, – возразил Пильеро. – Вы проявляете чрезмерную уступчивость, договариваясь с господином Клапароном; в ущерб интересам остальных кредиторов добиваетесь преимущественного удовлетворения собственных претензий. Но я, в качестве кредитора, могу тоже вмешаться в дело. Ведь существует присяжный попечитель.
– Я неподкупен, сударь, – возразил Молине.
– Знаю, – сказал Пильеро, – вы постарались только, что называется, выйти сухим из воды. Вы хитрец, вы поступили тут точно так же, как в деле с одним из ваших жильцов…
– О сударь! – воскликнул синдик, становясь снова домовладельцем, подобно тому как в сказке кошка, обращенная в женщину, бросается на мышь. – Моя жалоба на жильца с улицы Монторгей еще не разбиралась. Там неожиданно возникло одно, так сказать, привходящее обстоятельство. Мой жилец – главный квартиронаниматель. Сейчас интриган этот утверждает, что, так как он уплатил за двенадцать месяцев вперед и прожил в квартире всего лишь год… (тут Пильеро бросил взгляд на Цезаря, словно призывая его быть внимательнее) – то он якобы имеет право вывезти из квартиры свою обстановку. Основание для нового судебного дела. Должен же я, в самом деле, сохранить гарантии до окончательного расчета – возможно, с него потребуется взыскать стоимость ремонта.
– Но, – заметил Пильеро, – по закону мебель квартиронанимателя может служить гарантией для одной лишь квартирной платы.
– И побочных расходов, – воскликнул задетый за живое Молине. – Эта статья закона нашла себе истолкование в уже состоявшихся по этому вопросу судебных решениях. Закон нуждается, однако, в поправках. Я составляю сейчас для его превосходительства министра юстиции докладную записку об этом пробеле в законодательстве. Правительству следовало бы позаботиться об интересах владельцев недвижимости. Мы нужны государству, ведь мы главные плательщики налогов.
– Вы, несомненно, способны просветить правительство, – сказал Пильеро, – но чем мы-то можем просветить вас относительно наших дел?
– Мне желательно знать, – высокопарно и с важностью заявил Молине, – получал ли господин Бирото какие-либо суммы от господина Попино?
– Нет, сударь, – ответил Бирото.
За этим последовало обсуждение вопроса об участии Бирото в «Торговом доме Попино», причем выяснилось, что Попино имел право, не вступая в конкурс, полностью получить с Бирото половину суммы, затраченной на оборудование лавки.
Умело направляемый Пильеро, синдик Молине становился постепенно все мягче в обращении, свидетельствуя тем самым, как дорожит он мнением завсегдатаев кафе «Давид». В конце концов он даже принялся утешать Бирото и пригласил обоих своих посетителей разделить с ним его скромный обед. Если бы бывший парфюмер явился один, он, быть может, обозлил бы Молине, и дело могло принять неблагоприятный оборот. И тут, как во многих других случаях, старик Пильеро оказался для Цезаря ангелом-хранителем.
Торговый устав обрекает несостоятельного должника на жестокую муку; вместе с временными синдиками и присяжным попечителем он обязан присутствовать на собрании, где кредиторы решают его участь. Для человека, способного стать выше обстоятельств, и для купца, стремящегося вернуться к делам, эта тягостная процедура не слишком страшна. Но для людей, подобных Цезарю Бирото, – это пытка, с которой может сравниться лишь последний день приговоренного к смерти. Пильеро приложил все усилия, чтобы облегчить племяннику этот ужасный день.
Вот коммерческие операции, которые с согласия несостоятельного должника произвел Молине. Тяжба о земельных участках на улице Фобур-дю-Тампль была выиграна в королевском суде. Синдики постановили продать эту недвижимость; Цезарь не возражал. Дю Тийе, зная о намерениях правительства соорудить канал, который должен был пройти через предместье Тампль и соединить Сен-Дени с верхним течением Сены, купил участки Бирото за семьдесят тысяч франков. Права Цезаря на его долю земельных участков в районе церкви Мадлен были уступлены Клапарону с условием, что тот не будет требовать от Бирото возмещения половины издержек на заключение договора и суммы уплаченной пошлины, а также оплатит прежним владельцам разницу между полной стоимостью их участков и дивидендом, который они получат по конкурсу. Доля парфюмера в фирме «А. Попино и К°» была продана вышеуказанному Попино за сорок восемь тысяч франков. Лавку «Королева роз» приобрел Селестен Кревель за пятьдесят семь тысяч франков – вместе с контрактом на помещение, обстановкой, товарами, патентами на «Крем султанши» и «Жидкий кармин» и арендой на двенадцать лет фабрики, оборудование которой было ему также продано. Актив составил сумму в сто девяносто пять тысяч франков, к которым синдики прибавили семьдесят тысяч франков, причитавшихся Бирото в результате ликвидации конторы «несчастного» Рогена. Общая сумма актива достигла, таким образом, двухсот пятидесяти пяти тысяч франков. Так как пассив равнялся четыремстам сорока тысячам франков, то кредиторам предстояло получить больше пятидесяти процентов. Банкротство – нечто вроде химического опыта, и ловкий купец старается выйти из него, сохранив свой жирок. Бирото после выпаривания в реторте банкротства вышел из нее с результатом, разъярившим дю Тийе. Вместо банкротства бесчестного, на которое он рассчитывал, дю Тийе увидел банкротство добродетельное. Равнодушный к полученной прибыли – участки в районе церкви Мадлен должны были достаться ему за гроши, – он жаждал увидеть злополучного торговца обесчещенным, уничтоженным, смешанным с грязью. А вместо того кредиторы на общем собрании устроят еще, чего доброго, овацию парфюмеру. По мере того как к Бирото возвращалось мужество, дядя, словно мудрый врач, увеличивая постепенно дозы, знакомил его с действиями синдиков. Каждая из этих безжалостных мер была для Цезаря новым ударом. Купец не может видеть без боли, как обесценивается все, на что он затратил столько усилий и денег. Новости, сообщаемые дядей, повергали Бирото в отчаяние.
– Пятьдесят семь тысяч франков за «Королеву роз»! Но ведь одна только лавка стоила десять тысяч; квартира обошлась мне в сорок тысяч франков, на оборудование фабрики – инструменты, формы, котлы – пошло тридцать тысяч. Да в лавке, даже со скидкой в пятьдесят процентов, на десять тысяч франков товара. А «Крем» и «Кармин»? Да ведь это капитал, не хуже любой доходной фермы!
Горькие сетования несчастного разоренного Цезаря ничуть не пугали Пильеро. Бывший торговец относился к ним, как лошадь относится к ливню, застигнувшему ее у ворот конюшни; пугало его мрачное молчание парфюмера, когда речь заходила о собрании кредиторов. Всякому, кто понимает тщеславие и слабости, свойственные людям любого социального слоя, должно быть ясно, какой жестокой пыткой была для несчастного необходимость появиться в качестве банкрота в здании коммерческого суда, куда он некогда входил в качестве судьи. Подвергаться оскорблениям там, где он привык выслушивать благодарность за оказанную услугу, ему, Бирото, чьи непреклонные взгляды на банкротство известны были всему парижскому торговому миру, ему, провозгласившему: «Купец, объявляющий себя несостоятельным, еще честный человек, но с собрания кредиторов он уже выходит мошенником!» Дядя выбирал подходящие моменты, чтобы приучить Цезаря к мысли, что, согласно требованиям закона, ему придется предстать перед собранием своих кредиторов. Эта необходимость убивала Бирото. Его молчаливая покорность сильно тревожила Пильеро; старик нередко слышал сквозь перегородку, как Цезарь вскрикивал по ночам:
– Ни за что, ни за что! Лучше умереть!
Пильеро, человек сильный простотой своей жизни, понимал чужие слабости. Он решил избавить Бирото от терзаний, которых тот, быть может, не вынес бы, – от неизбежной сцены появления перед кредиторами. Закон в этом вопросе точен, ясен и непреложен. Купец, отказывающийся предстать перед кредиторами, может в силу одного этого быть передан в руки исправительной полиции по обвинению в банкротстве по неосторожности. Однако, требуя обязательной явки несостоятельного должника, закон не может принудить кредиторов явиться. Собрание кредиторов приобретает значение лишь в определенных случаях: если необходимо, например, лишить мошенника-банкрота прав на имущество и подписать договор об учреждении товарищества по делам несостоятельного должника, если имеются разногласия между кредиторами, получившими преимущество, и кредиторами, которых обошли, если соглашение архижульническое и несостоятельный должник нуждается в поддержке сомнительного большинства кредиторов. Но общее собрание кредиторов превращается в простую формальность, если актив несостоятельного должника уже полностью реализован или если мошенник-банкрот уже заранее сговорился с кредиторами. Пильеро обошел всех кредиторов, прося каждого из них уполномочить вместо себя поверенного для участия в собрании. Кредиторы, за исключением дю Тийе, свалив Цезаря, искренне его теперь жалели. Каждый знал, как достойно держал себя парфюмер, в каком порядке нашли его книги, как честно он вел свои дела. Кредиторы были довольны, что среди них не оказалось ни одного «дутого». Молине – сперва агент, потом синдик – нашел в доме Цезаря все, чем владел бедняга, вплоть до гравюры «Геро и Леандр», подаренной Попино, и личных драгоценностей парфюмера: булавки для галстука, золотых пряжек, карманных часов; самый добросовестный человек унес бы их, не боясь погрешить против честности. Констанс также оставила свой скромный ларчик с драгоценностями. Купечество было глубоко поражено столь трогательной покорностью закону. Враги Бирото утверждали, что это – доказательство его глупости, но люди рассудительные справедливо видели в поведении парфюмера проявление безупречной его честности. За два месяца биржа полностью изменила свое мнение о Бирото. Самые равнодушные люди не могли не признать, что это банкротство – одна из редчайших коммерческих диковинок в парижском торговом мире. Кредиторы, зная уже, что им предстоит получать около шестидесяти процентов, согласились выполнить просьбу Пильеро. Поверенных при коммерческом суде немного, и у нескольких кредиторов оказался один и тот же уполномоченный. Стараниями Пильеро число участников этого страшного для Бирото собрания сведено было к минимуму; присутствовать на нем должны были лишь сам Пильеро, Рагон, трое поверенных, двое синдиков и присяжный попечитель.
Утром этого знаменательного дня Пильеро сказал племяннику:
– Цезарь, ты можешь спокойно идти на сегодняшнее собрание, там никого не будет.
Господин Рагон пожелал сопровождать своего должника. Заслышав дребезжащий голосок бывшего владельца «Королевы роз», его бывший преемник побледнел; но добряк раскрыл объятия, Бирото бросился к нему, как дитя бросается в объятия отца, и оба залились слезами. Снисходительность Рагона придала мужество несостоятельному должнику, и он вместе с дядей сел в фиакр. Ровно в половине одиннадцатого все трое прибыли в монастырь Сен-Мерри, в котором помещался тогда коммерческий суд. Зал, где разбирались дела банкротов, был в это время пуст. День и час выбраны были по соглашению с синдиками и присяжным попечителем. Уполномоченные, представлявшие своих клиентов, были уже на месте, и Цезарю Бирото пугаться, казалось, было нечего. Но все же он с трепетом сердечным переступил порог кабинета г-на Камюзо, который оказался случайно его бывшим кабинетом; бедняга с ужасом думал о том, что придется перейти отсюда в зал банкротов.
– Нынче что-то холодновато, – сказал Цезарю Камюзо, – надеюсь, господа, никто не будет возражать против того, чтобы остаться здесь и не мерзнуть в зале? (Он опустил слово «банкротов».) Садитесь, господа.
Все сели, и судья предложил свое кресло смущенному Бирото. Поверенные и синдики расписались.
– Ввиду того что вы полностью отказались от своих имущественных прав, – обратился Камюзо к Бирото, – кредиторы единодушно слагают с вас остаток долга. Соглашение составлено в таких выражениях, что может смягчить вашу скорбь; поверенный ваш не замедлит утвердить соглашение в суде – и вы свободны. Все члены коммерческого суда, дорогой господин Бирото, – продолжал Камюзо, взяв парфюмера за руки, – тронуты вашим положением; проявленное вами мужество не было для них неожиданностью; все до единого отдали должное вашей честности. В несчастье вы показали себя достойным того положения, какое занимали здесь. Я двадцать лет веду коммерческие дела и только второй раз мне приходится видеть разорившегося купца, всеобщее уважение к которому лишь возросло.
Слезы выступили на глазах Бирото; он сжал руки судьи; Камюзо спросил его, что он намерен делать дальше. Цезарь ответил, что будет работать, чтобы полностью расплатиться с кредиторами.
– Если для достижения этой благородной цели вам понадобится несколько тысяч франков, вы их всегда у меня найдете, – сказал Камюзо, – я с радостью предоставлю их в ваше распоряжение, чтоб стать свидетелем столь редкого в Париже явления.
Пильеро, Рагон и Бирото удалились.
– Ну что ж, не так страшен черт, как его малюют, – сказал Пильеро племяннику, выходя из здания суда.
– Это я вас должен благодарить, дядя, – ответил растроганный Бирото.
– Ну вот вы и восстановлены в правах. Зайдем к моему племяннику, – предложил Рагон. – Мы в двух шагах от улицы Сенк-Диаман.
Для Цезаря было жестоким ударом увидеть Констанс в крохотной конторе на низких и темных антресолях над лавкой, где окно на треть было загорожено заслонявшей свет вывеской, на которой значилось:
А. ПОПИНО
– Один из сподвижников Александра Македонского, – с горьким смехом сказал Бирото, указывая на вывеску.
От этого деланного веселья, сквозь которое наивно проглядывало присущее Бирото неистребимое чувство собственного превосходства, семидесятилетний старик Рагон вздрогнул.
Когда Цезарь увидел, как жена его спустилась вниз, чтобы дать Попино на подпись бумаги, он побледнел и не мог удержаться от слез.
– Здравствуй, друг мой, – радостно приветствовала она мужа.
– Я не стану спрашивать, хорошо ли тебе здесь живется, – обратился Цезарь к жене, взглянув на Попино.
– Как у родного сына, – отвечала она таким растроганным голосом, что бывший купец был потрясен.
Бирото обнял Ансельма, расцеловал его и с грустью сказал:
– А я навсегда утратил право назвать его сыном.
– Не будем терять надежды, – сказал Попино. – Ваше масло пошло в ход; я постарался создать ему рекламу с помощью газет, а Годиссар исколесил всю Францию, – наводнил ее объявлениями и проспектами; теперь он в Страсбурге печатает проспекты на немецком языке и собирается совершить набег на Германию. Нам уже удалось продать три тысячи гроссов.
– Три тысячи гроссов! – воскликнул Цезарь.
– Я приобрел по сходной цене участок в предместье Сен-Марсо, там строится фабрика. А ту, что в предместье Тампль, я тоже сохраню за собой.
– Жена, – шепнул Бирото на ухо Констанс, – будь у нас хоть небольшая поддержка – мы бы выпутались.
После этого знаменательного дня Цезарь, его жена и дочь словно сговорились. Несчастный чиновник поставил перед собою цель если и не совсем недостижимую, то требовавшую затраты гигантских усилий, – полное погашение своего долга! Три существа, связанные присущей им всем фанатической честностью, стали скрягами, во всем себе отказывали и дрожали над каждым грошом. Цезарина с юным пылом относилась к порученным ей обязанностям. Она не досыпала ночей, всячески изощряясь, чтобы способствовать процветанию дела, подбирала рисунки для тканей и проявляла при этом врожденный коммерческий талант. Хозяевам приходилось сдерживать ее рвение; они старались отблагодарить ее подарками, но она отказывалась от нарядов и драгоценностей, которые ей предлагали. «Денег!» – упорно твердила она. Все свое жалованье и скромные сбережения она приносила каждый месяц дяде Пильеро. Цезарь и Констанс поступали так же. Все трое не считали себя достаточно умелыми финансистами и не хотели брать на себя ответственность за помещение денег; верховную власть по распоряжению их сбережениями они вручили дяде. Снова став коммерсантом, Пильеро пускал их деньги в оборот, играя на бирже. Как выяснилось впоследствии, старику помогали в этом Жюль Демаре и Жозеф Леба, наперебой спешившие указать ему верное дело.
Живя у дяди, бывший парфюмер не решался его спрашивать, как он распоряжается деньгами, заработанными самим Цезарем, его женой и дочерью. Бирото ходил по улицам опустив голову, стараясь скрыть от посторонних взглядов свое удрученное, осунувшееся, отупевшее лицо. Он упрекал себя даже в том, что носит одежду из тонкого сукна.
– Я, по крайней мере, не ем хлеба своих кредиторов, – говорил он с кротостью дяде. – Ваш хлеб – милостыня, вы мне даете его из жалости, и все же он мне сладок: благодаря вашему милосердию я могу ничего себе не присваивать из жалованья.
Встречая Бирото-чиновника, знакомые купцы не могли обнаружить в нем и следа бывшего парфюмера. Даже люди беспечные должны были задуматься над превратностями судьбы при виде этого человека, на лице которого лежала печать беспросветного горя и в котором, видимо, произвела полный переворот неведомая ему дотоле работа мысли! Беда сломит не всякого. Люди легкомысленные, пустые, ко всему равнодушные никогда не кажутся раздавленными разразившейся над ними катастрофой. Только религия отмечает особой печатью людей, сраженных несчастьем: они верят в будущую жизнь, в провидение, в них есть какая-то, им одним свойственная, умиляющая просветленность – сочетание благочестивой покорности с надеждой; они знают цену того, что ими утрачено, подобно падшему ангелу, плачущему у врат рая. Для несостоятельных должников доступ на биржу закрыт. Цезарь, изгнанный из обители честности, напоминал падшего ангела, молящего о прощении.
Погруженный в благочестивые размышления, которым он предавался под влиянием своего несчастья, Бирото больше года отказывался от всяких развлечений. Хотя он и не сомневался в дружбе Рагонов, его невозможно было уговорить пойти пообедать к ним или к Леба, Матифа, Протесам и Шифревилям, ни даже к самому г-ну Воклену: все они старались принести дань уважения высокой добросовестности Цезаря. Избегая встреч с кредиторами, Бирото предпочитал сидеть в одиночестве у себя в комнате. Сердечная заботливость друзей была для него лишь горьким напоминанием о его положении. Констанс и Цезарина все это время также нигде не показывались. По воскресеньям и в праздники – только в эти дни они и бывали свободны – жена и дочь заходили перед обедней за Цезарем, а потом, выполнив свои религиозные обязанности, оставались с ним у дяди. Пильеро приглашал аббата Лора, в беседах с которым Цезарь черпал силы для выпавших на его долю испытаний, и они проводили время в тесном семейном кругу. Бывший торговец скобяными товарами, сам величайший поборник честности, не мог не одобрить щепетильности Цезаря. Он стремился поэтому расширить круг лиц, среди которых несостоятельный должник мог показаться не краснея и не опуская глаз.
В мае 1821 года семья эта, упорно боровшаяся с постигшей ее бедой, была вознаграждена первым праздником, устроенным для нее властителем ее судеб. Последнее воскресенье мая месяца было годовщиной того дня, когда Констанс дала согласие на брак с Цезарем. Пильеро снял вместе с Рагонами деревенский домик в Со и хотел там весело отпраздновать новоселье.
– Цезарь, – сказал он племяннику в субботу вечером, – завтра мы едем за город, и ты с нами.
Цезарь, у которого был превосходный почерк, переписывал по вечерам бумаги для Дервиля и еще нескольких стряпчих. По воскресеньям, с разрешения духовника, он также работал, как каторжник.
– Нет, – ответил он, – господин Дервиль ждет отчета по опеке.
– Твоя жена и дочь заслуживают награды. Ты встретишь там только друзей – аббата Лоро, Рагонов, Попино с дядей. Пожалуйста, прошу тебя.
Закружившись в вихре дел, Цезарь с женой так ни разу и не собрались съездить в Со, хотя время от времени оба мечтали снова повидать дерево, под которым когда-то едва не лишился чувств старший приказчик «Королевы роз». Цезарь ехал с женой и дочерью в фиакре, которым правил Ансельм Попино; дорогой Констанс бросала на мужа выразительные взгляды, но не могла заставить его улыбнуться. Она шепнула ему на ухо несколько слов, но он в ответ лишь молча кивнул головой. Проявления неизменной и настойчивой нежности жены не разгладили морщин на лице Цезаря; наоборот, оно стало еще угрюмее, и на глазах его выступили слезы, которые он поспешил скрыть. Двадцать лет назад бедняга уже проезжал по этой дороге, но тогда он был богат, молод, полон надежд, влюблен в молодую девушку, столь же прелестную, как Цезарина; тогда он мечтал о счастье, а ныне видел в глубине фиакра свою побледневшую от бессонных ночей самоотверженную дочь, свою мужественную жену, сохранившую лишь следы былой красоты, как сохраняет ее город, залитый лавой во время извержения вулкана. Уцелела одна лишь любовь! Угрюмый вид Цезаря гасил радость в сердцах его дочери и Ансельма, воскрешавших перед его взором очаровательную сцену прошлого.
– Будьте счастливы, дети мои, у вас есть на то право, – страдальческим голосом сказал им отец. – Вы можете любить друг друга со спокойной совестью, – прибавил он.
При этих словах Бирото схватил руки Констанс и покрыл их поцелуями с восторженной и благоговейной нежностью, тронувшей ее больше, чем могли бы тронуть проявления самой бурной радости. Когда они подъехали к домику, где их уже ожидали Пильеро, Рагоны, аббат Лоро и следователь Попино, Цезарь сразу успокоился, ибо слова, взгляды, все обхождение этих пятерых друзей – людей, исключительных по своим душевным качествам, – показывали, что они растроганы, видя, как глубоко Бирото переживает свое несчастье, словно оно случилось с ним только вчера.
– Подите-ка прогуляйтесь по лесу, – сказал дядя Пильеро, соединив руки Цезаря и Констанс, – и возьмите с собой Ансельма и Цезарину; возвращайтесь домой к четырем часам.
– Бедные люди! Наше присутствие их только бы стеснило, – заметила г-жа Рагон, тронутая неподдельным горем своего должника. – Но какая радость ожидает его!
– Это раскаяние без греха, – вставил аббат Лоро.
– Несчастье помогло ему духовно вырасти, – сказал следователь.
Способность забывать – великий дар, отличающий натуры творческие и сильные; забывать – подобно тому как забывает природа, не ведающая прошлого, ежечасно возобновляющая вечное таинство нового рождения. Натуры слабые, как Бирото, продолжают терзаться своими страданиями, вместо того чтобы извлечь из них уроки житейской мудрости; они упиваются своими муками и с каждым днем все больше изводят себя, вновь и вновь переживая былые горести.
Когда обе пары шли тропинкой, ведущей в лес Онэ, увенчивающий один из красивейших холмов в окрестностях Парижа, и перед ними во всем своем очаровании предстала Волчья долина, – чудесная погода, прелесть окружающей картины, первая зелень и сладостные воспоминания о счастливейшем дне его молодости ослабили скорбные струны в душе Цезаря; он прижал руку жены к трепетно бьющемуся сердцу, и в глазах его, утративших стеклянную неподвижность, вспыхнула радость.
– Наконец-то я узнаю тебя, мой бедный Цезарь, – сказала Констанс – Мы, кажется, достаточно скромно живем и можем позволить себе время от времени небольшое удовольствие.
– Имею ли я на это право! – воскликнул бедняга. – Ах, Констанс, твоя любовь – единственное еще оставшееся у меня сокровище… Да, я все потерял, вплоть до веры в себя, у меня нет больше сил, у меня одно только желание – дожить до того дня, когда я расплачусь с земными долгами. Но ты, дорогая жена, ты всегда была моим благоразумием и моей осторожностью, ты все предвидела, и тебе не в чем упрекнуть себя, – ты можешь быть веселой; из нас троих во всем виноват один лишь я. Полтора года назад, на нашем злосчастном балу, ты, моя Констанс, единственная женщина, которую я любил за всю свою жизнь, была, пожалуй, еще красивее, чем тогда, когда юной девушкой прогуливалась со мной по этой тропинке, где сейчас гуляют наши дети… И в полтора года я погубил эту красоту, которой с полным правом гордился. Чем больше я узнаю тебя, тем сильнее люблю… О дорогая! – воскликнул Цезарь с такой мукой в голосе, что Констанс была потрясена до глубины души. – Мне, кажется, было бы легче, если бы ты бранила меня, а не старалась смягчить мое горе!
– Никогда бы не поверила, – отвечала Констанс, – что после двадцатилетнего супружества жена может еще крепче полюбить своего мужа.
Слова эти заставили Цезаря позабыть на мгновение обо всех горестях и преисполнили счастьем его чувствительное сердце. Он почти радостно направился к их дереву, которое случайно уцелело. Супруги уселись под этим деревом, глядя на Ансельма и Цезарину; влюбленные кружили все время по одной лужайке и, видимо, этого не замечали, воображая, что идут вперед.
– Мадмуазель, – говорил Ансельм, – надеюсь, вы не считаете меня таким жадным и низким, что я воспользуюсь долей вашего отца в доходах от «Кефалического масла»! Я, правда, откупил ее, но с любовью сохраняю ее для него же и стараюсь приумножить. Я пользуюсь деньгами господина Бирото для учета векселей; а если попадаются иной раз векселя сомнительные, я их учитываю на свой риск. Мы можем принадлежать друг другу лишь после реабилитации вашего отца, и со всей силой любви я стараюсь приблизить этот день.
Ансельм остерегался посвящать в свою тайну даже будущую тещу. И самые простодушные влюбленные жаждут порисоваться перед любимым существом.
– А скоро этот день настанет? – спросила Цезарина.
– Скоро, – отвечал Попино. Он сказал это таким проникновенным тоном, что целомудренная, чистая Цезарина подставила лоб своему милому, и Ансельм запечатлел на нем жадный, но почтительный поцелуй – столько душевного благородства было в ее порыве.
– Папа, все идет как по маслу, – с лукавым видом шепнула она Цезарю. – Будь поприветливей, поговори с нами, перестань грустить.
Когда дружная семья вернулась в домик Пильеро, даже ненаблюдательный Цезарь заметил в обращении Рагонов какую-то перемену: что-то, очевидно, случилось. Г-жа Рагон встретила их с особенно умильным видом, взгляд ее и самый тон, казалось, говорили Цезарю: «Мы получили долг сполна».
К концу обеда явился нотариус из Со; пригласив его за стол, дядюшка Пильеро взглянул на Бирото, и тот почувствовал, что ему готовят какой-то сюрприз, хотя всей важности этого сюрприза угадать он не мог.
– Племянник, ты, твоя жена и дочь скопили за полтора года двадцать тысяч франков; тридцать тысяч я получил на конкурсе по моим претензиям; для расплаты с кредиторами у нас имеется, стало быть, пятьдесят тысяч франков. Господин Рагон получил на конкурсе тридцать тысяч франков, теперь господин нотариус принес тебе расписку в том, что ты полностью, с процентами, погасил свой долг друзьям. Остальные деньги находятся у Кротта и пойдут на уплату Лурдуа, тетке Маду, каменщику, плотнику и другим наиболее нетерпеливым кредиторам. Что принесет нам будущий год – видно будет. Терпенье и труд все перетрут.
Радость Бирото не поддается описанию; он со слезами бросился в объятия дяди.
– Пусть Цезарь наденет сегодня свой орден, – сказал аббату Лоро Рагон.
Духовник вдел красную орденскую ленточку в петлицу Цезаря, и тот раз двадцать в течение вечера подходил к зеркалу, чтобы полюбоваться собой; удовольствие, написанное на лице его, могло бы насмешить людей высокомерных, но невзыскательным буржуа оно казалось вполне естественным. На следующий день Бирото пошел к г-же Маду.
– А-а! это вы, почтеннейший! – сказала она. – До чего ж вы поседели! Я вас было и не узнала. Вашему брату, однако, особенно горевать не приходится: для вас всегда найдется теплое местечко. Не то что я, грешная, верчусь день-деньской как белка в колесе.
– Но, сударыня…
– Ну, это не в упрек вам сказано, – перебила она, – ведь мы в расчете.
– Я пришел сказать вам, что нынче у нотариуса Кротта я уплачу вам остаток долга, с процентами.
– Вы это всерьез?
– Будьте у нотариуса в половине двенадцатого…
– Вот это честность! все до гроша, да еще по четыре на сто! – воскликнула тетка Маду, с наивным восхищением глядя на Бирото. – Слушайте, папаша, я неплохо зарабатываю у этого вашего рыженького, он – славный малый, не торгуется, чтобы я могла покрыть свои убытки. Давайте-ка я выдам вам расписку, а деньги, старина, оставьте себе. Тетка Маду – горласта, тетка Маду – порох, но в груди у нее кое-что бьется! – воскликнула она, ударяя себя по самым пышным мясистым подушкам, когда-либо известным Центральному рынку.
– Ни за что! – ответил Цезарь. – В законе есть прямые на то указания, и я желаю уплатить вам сполна.
– Что ж, я не заставлю себя упрашивать, – сказала тетка Маду, – но завтра уж я протрублю на весь наш Центральный рынок о вашей честности. Днем с огнем такой не сыщешь!
Подобная же сцена, лишь с небольшим вариантом, произошла и у подрядчика малярных работ, тестя Кротта. Шел дождь; Цезарь поставил мокрый зонт в углу, возле двери. Разбогатевший подрядчик, видя, как по полу его красивой столовой, где он завтракал с женой, растекается лужа, не проявил особой любезности.
– Ну, что вам еще от меня нужно, папаша Бирото? – сказал он резким тоном, словно обращаясь к назойливому нищему.
– Разве ваш зять не говорил вам, сударь?..
– О чем? – нетерпеливо перебил Лурдуа, думая, что речь идет о какой-то просьбе.
– Чтобы вы пришли к нему нынче утром в половине двенадцатого, получили сполна все, что я оставался вам должен, и выдали мне расписку?..
– Ах, это другое дело… Присаживайтесь, господин Бирото. Не закусите ли с нами?..
– Доставьте нам удовольствие, – прибавила г-жа Лурдуа.
– Дела, стало быть, идут на лад? – спросил толстяк Лурдуа.
– Нет, сударь, чтобы скопить немного денег, мне приходилось завтракать одним лишь хлебцем; зато, надеюсь, со временем я возмещу ущерб, причиненный мною людям.
– Да вы и впрямь человек порядочный, – сказал подрядчик, отправляя в рот кусок хлеба с паштетом из гусиной печенки.
– А что поделывает ваша супруга? – спросила г-жа Лурдуа.
– Она ведает кассой и торговыми книгами у господина Ансельма Попино.
– Бедные люди! – тихо сказала мужу г-жа Лурдуа.
– Если я вам понадоблюсь, дорогой господин Бирото, – сказал Лурдуа, – милости просим, заходите, постараюсь помочь вам…
– Вы мне понадобитесь сегодня в одиннадцать часов, сударь, – сказал Бирото, уходя.
Такое начало придало банкроту мужества, но не вернуло ему покоя: слишком много треволнений вносило в его жизнь желание восстановить свое доброе имя. С лица его совсем сбежал прежний румянец, глаза потускнели, щеки ввалились. Старые знакомые встречали иногда Бирото в восемь часов утра, когда он шел на улицу Оратуар, или в четыре часа пополудни, когда он возвращался домой, – бледный, боязливый, совершенно седой, в сюртуке, который он носил со времени своего падения и берег, как бедный подпоручик бережет свой мундир; случалось, что кто-либо его останавливал, и он бывал этим явно недоволен: беспокойно оглядываясь, норовил, словно вор, проскользнуть вдоль стен незамеченным.
– Все знают, как вы живете, – говорили ему. – И все жалеют, что вы, ваша жена и дочь так себя изводите.
– Дайте же себе передышку, – уговаривали его другие, – ведь денежные раны не смертельны.
– Но душевная рана иной раз убивает, – ответил однажды старику Матифа несчастный обессилевший Цезарь.
В начале 1823 года был окончательно решен вопрос о сооружении канала Сен-Мартен. Цены на земельные участки в предместье Тамиль бешено взлетели. Канал по проекту должен был пройти как раз посредине участка дю Тийе, принадлежавшего ранее Цезарю Бирото. Компания, получившая концессию на прорытие канала, готова была заплатить огромную сумму, если бы банкир мог предоставить свой участок в ее распоряжение к определенному сроку. Но помехой делу был арендный договор, заключенный некогда Цезарем с Попино. Банкир явился на улицу Сенк-Диаман к торговцу парфюмерными и аптекарскими товарами. Дю Тийе относился к Попино с полным равнодушием, но жених Цезарины питал к нему безотчетную ненависть. Он ничего не знал ни о краже, когда-то совершенной удачливым банкиром, ни о гнусных его комбинациях, но какой-то внутренний голос твердил ему; «Этот человек – непойманный вор». Попино не стал бы вести с ним никаких дел, одно уж его присутствие было ненавистно Ансельму, особенно в ту пору, ибо он видел, как дю Тийе наживается на разорении своего бывшего хозяина: цены на участки в квартале Мадлен так поднялись, что можно было предвидеть их неслыханный рост, последовавший в 1827 году. Когда банкир изложил цель своего посещения, Попино посмотрел на него со сдержанным негодованием.
– Я не отказываюсь расторгнуть арендный договор, но вам придется уплатить мне шестьдесят тысяч франков; я не уступлю ни гроша.
– Шестьдесят тысяч франков! – воскликнул, отшатнувшись, дю Тийе.
– У меня арендный договор еще на пятнадцать лет, а замена фабрики другой ежегодно обойдется мне в лишних три тысячи франков. Итак, шестьдесят тысяч франков, или прекратим этот разговор, – заявил Попино, возвращаясь в лавку; дю Тийе последовал за ним.
Разгорелся спор. Упомянуто было имя Цезаря, и, услышав его, г-жа Бирото спустилась вниз. После пресловутого бала она впервые увидела дю Тийе. Банкир невольным жестом выдал свое изумление, заметив, как изменилась его бывшая хозяйка; он потупил глаза, ужаснувшись делу рук своих.
– Господин дю Тийе наживает на ваших участках триста тысяч франков, – сказал Попино парфюмерше, – а нам отказывается уплатить шестьдесят тысяч отступного за расторжение нашего арендного договора…
– Да ведь это три тысячи франков годового дохода! – с пафосом воскликнул дю Тийе.
– Три тысячи франков!.. – просто, но выразительно повторила г-жа Бирото.
Дю Тийе побледнел, Попино взглянул на г-жу Бирото. Наступившее гробовое молчание сделало эту сцену еще более непонятной для Ансельма.
– Вот отказ от аренды, составленный по моему поручению Кротта, – сказал дю Тийе, вынимая из бокового кармана гербовую бумагу, – подпишите его, я выдам чек в шестьдесят тысяч франков на Французский банк.
Попино с нескрываемым изумлением посмотрел на жену парфюмера, ему казалось, что он грезит. Пока дю Тийе за высокой конторкой выписывал чек, Констанс поднялась обратно на антресоли. Банкир и Попино обменялись документами. Дю Тийе ушел, холодно простившись с Попино.
«Благодаря этой необычайной сделке Цезарина через несколько месяцев будет наконец моей женой, – подумал Ансельм, глядя вслед дю Тийе, направившемуся к Ломбардской улице, где его поджидал кабриолет. – Моя бедная Цезарина перестанет надрываться на работе. Подумать только! Стоило г-же Бирото посмотреть на него! Что может быть общего у нее с этим разбойником? Все это в высшей степени странно».
Послав в банк получить деньги по чеку, Попино поднялся наверх, чтобы поговорить с г-жой Бирото; за кассой ее не оказалось; она, очевидно, ушла в свою комнату. Ансельм и Констанс жили в добром согласии, как зять и теща, которые сошлись характерами. И Попино направился в комнату г-жи Бирото с поспешностью, естественной для влюбленного, мечты которого вот-вот осуществятся. Когда молодой купец бесшумно, точно кошка, подошел к своей будущей теще, он был несказанно удивлен, застав ее за чтением письма дю Тийе: Ансельм узнал почерк бывшего приказчика Бирото. При виде зажженной свечи и черного пепла, разлетавшегося по каменным плиткам пола, Попино вздрогнул; он обладал острым зрением и невольно прочел первую фразу письма, которое держала Констанс: «Я обожаю вас, и вы это знаете, радость жизни моей… Так отчего же…»
– Каким, однако, влиянием вы пользуетесь на дю Тийе, если он сразу же пошел на подобную сделку! – сказал Ансельм с судорожным смешком, который вызывается обычно невысказанным и не слишком лестным подозрением.
– Не будем говорить об этом, – ответила Констанс, не сумев скрыть жестокого смущения.
– Хорошо, – сказал совершенно растерявшийся Попино, – давайте поговорим о близком конце ваших страданий. – Повернувшись на каблуках, Ансельм отошел к окну и, глядя во двор, стал барабанить пальцами по стеклу.
«Ну что ж, – подумал он, – если она и любила дю Тийе, разве не должен я вести себя как порядочный человек?»
– Что с вами, мой мальчик? – спросила бедная женщина.
– Чистая прибыль от «Кефалического масла» достигает двухсот сорока двух тысяч франков, – сказал вдруг Попино. – Половина, стало быть, составляет сто двадцать одну тысячу. Если из этой суммы удержать сорок восемь тысяч франков, которые я ссудил господину Бирото, останется семьдесят три тысячи; прибавим к ним шестьдесят тысяч франков за расторжение арендного договора, и у вас будет сто тридцать три тысячи франков.
Госпожа Бирото слушала его в радостном волнении, не смея верить своему счастью. Попино казалось, что он слышит, как сильно бьется ее сердце.
– Я всегда рассматривал господина Бирото как своего компаньона, – продолжал он, – эту сумму мы можем употребить на расплату с его кредиторами. Вместе же с двадцатью восемью тысячами франков ваших сбережений, пущенных в оборот дядей Пильеро, мы будем иметь сто шестьдесят одну тысячу франков. Дядюшка Пильеро не откажется, конечно, дать нам расписку в получении своих двадцати пяти тысяч франков. И нет таких сил человеческих, которые могут помешать мне ссудить своему тестю деньги в счет прибылей будущего года. Тогда составится сумма, необходимая для окончательной расплаты с кредиторами… И… его доброе имя будет восстановлено.
– Восстановлено! – воскликнула г-жа Бирото, падая на колени. Она выронила письмо и, набожно сложив руки, начала шептать слова молитвы.
– Дорогой Ансельм! Дорогой сын мой! – воскликнула она, перекрестившись. Вне себя от радости, она обняла руками его голову, покрыла лоб поцелуями и горячо прижала юношу к своему сердцу. – Цезарина теперь твоя! Дочь моя будет счастлива! Она бросит службу в лавке, где работает до изнеможения.
– Во имя любви, – сказал Попино.
– О да! – ответила мать, улыбаясь.
– Я открою вам маленькую тайну, – продолжал Попино, искоса поглядывая на роковое письмо. – Я ссудил Селестена деньгами, чтобы помочь ему приобрести вашу лавку, но поставил одно условие. Ваша квартира сохранена в том виде, в каком вы ее оставили. Я давно уже лелею одну заветную мечту, но не ожидал, что нам так повезет: Селестен обязался сдать нам вашу бывшую квартиру, он туда даже не заглядывал; вся обстановка – ваша. Для нас с Цезариной я хочу оставить третий этаж, – она никогда с вами не расстанется. После свадьбы я буду приходить сюда работать с восьми утра до шести вечера. А чтобы обеспечить вас, я приобрету за сто тысяч франков долю господина Бирото в нашей фирме; вместе с его жалованьем вы будете иметь таким образом около десяти тысяч франков годового дохода. Неужели вы не будете чувствовать себя счастливой?
– Замолчите, Ансельм, я с ума сойду от радости!
Ангельская кротость г-жи Бирото, ясный взгляд, чистота линий прекрасного лба убедительно опровергали тысячи мыслей, вихрем проносившихся в голове Ансельма, и он решил разом покончить со своими чудовищными подозрениями. Грех казался несовместимым со всей жизнью и чувствами племянницы Пильеро.
– Моя дорогая, обожаемая матушка, – сказал Ансельм, – ужасное подозрение закралось мне в душу. Если вы хотите, чтобы я был счастлив, вы сейчас же разрушите его. – И, протянув руку, Попино поднял с полу упавшее письмо.
– Я прочел невольно, – продолжал он, пораженный ужасом, отразившимся на лице Констанс, – первые слова этого письма дю Тийе. Они столь странно совпадают с вашим влиянием на него, – ведь вы заставили сейчас этого человека сразу же согласиться на мои непомерные требования, – что каждый дал бы всему этому такое же толкование, какое, против моей воли, нашептывает мне злой дух. Одного вашего взгляда, нескольких слов было достаточно…
– Перестаньте, – воскликнула г-жа Бирото и, отняв у него письмо, сожгла листки на глазах у Ансельма. – Дитя мое, я жестоко наказана за ничтожный проступок. Вы все должны узнать, Ансельм! Я не хочу, чтобы подозрение, внушаемое матерью, могло повредить дочери. Краснеть мне не приходится: то, в чем я собираюсь признаться вам, я могла бы рассказать и мужу. Дю Тийе пытался обольстить меня, я тотчас же предупредила господина Бирото, и он решил уволить Фердинанда. В тот самый день, когда Цезарь должен был отказать ему от места, дю Тийе украл у нас три тысячи франков!
– Я так и думал, – сказал Попино тоном, в котором сквозила вся его ненависть к дю Тийе.
– Ансельм, это признание необходимо было для вашего счастья, для вашего будущего; но пусть оно так же умрет в вашем сердце, как умерло в сердце Цезаря и в моем. Вы не забыли, конечно, какой шум поднял однажды мой муж из-за кассовой ошибки, якобы обнаруженной им! Чтобы не доводить дела до суда и не губить этого человека, он подложил тогда в кассу три тысячи франков, на которые хотел купить мне кашемировую шаль – подарок, который я получила только три года спустя. Этим-то и объясняется мое восклицание. Но, дитя мое, я должна вам признаться в непростительном ребячестве. Дю Тийе написал мне три любовных письма, и чувство было в них выражено так красноречиво, – со вздохом сказала она потупясь, – что я сохранила эти письма просто так… любопытства ради. Я перечла их только раз, не больше. Однако дальше хранить эти письма было бы неосторожно. При виде дю Тийе я вспомнила о них и поднялась к себе, чтобы их сжечь; в тот момент, когда вы вошли, я пробегала последнее письмо. Вот и все, друг мой.
Ансельм опустился на одно колено и поцеловал руку г-жи Бирото; лицо его выражало глубокое чувство, и на глазах у обоих показались слезы. Подняв будущего зятя, Констанс раскрыла объятия и прижала его к своему сердцу.
То был счастливый день для Цезаря. Личный секретарь короля, г-н де Ванденес, зашел к Бирото в канцелярию, чтобы поговорить с ним. Они вышли вместе в маленький дворик кассы погашения государственных долгов.
– Господин Бирото, – сказал виконт де Ванденес, – король узнал случайно о ваших стараниях полностью расплатиться с кредиторами. Его величество тронут столь редкостным поведением и, зная, что вы из самоуничижения перестали носить орден Почетного легиона, поручил мне передать вам его повеление надеть снова орденский знак. Желая, кроме того, помочь вам уплатить долги, король повелел мне вручить вам эту сумму из его личной шкатулки, сожалея о том, что не может оказать вам более существенной помощи. Но пусть все это останется в строжайшей тайне. Его величество полагает, что монарху не следует предавать свои добрые дела огласке, – добавил личный секретарь короля, вручая шесть тысяч франков Бирото, охваченному невыразимым волнением.
Бирото пробормотал в ответ лишь несколько бессвязных слов, и улыбающийся Ванденес удалился, помахав ему на прощанье рукой. Чувство, руководившее бедным Цезарем, столь редко можно встретить в Париже, что жизнь Бирото стала мало-помалу предметом всеобщего восхищения. Жозеф Леба, судья Попино, Камюзо, аббат Лоро, Рагон, глава крупной торговой фирмы, где служила Цезарина, подрядчик Лурдуа, г-н де ла Биллардиер – все заговорили о нем. Общественное мнение переменилось, и теперь Цезаря превозносили до небес.
«Вот воплощенная честность!» – слова эти неоднократно достигали ушей Цезаря когда он проходил по улице, и бывший парфюмер испытывал такое же радостное волнение, как писатель, услышавший за своей спиной: «Вот он!» Для банкира дю Тийе добрая слава Цезаря была что нож острый. Когда в кармане у Бирото оказались пожалованные ему королем деньги, первой же его мыслью было употребить эти деньги на уплату долга своему бывшему приказчику. Он поспешил на улицу Шоссе д'Антен; банкир, возвращавшийся в это время домой, столкнулся на лестнице с бывшим хозяином.
– Ну что, мой бедный Бирото? – с притворным участием спросил дю Тийе.
– Бедный? – гордо переспросил должник. – Напротив, я очень богат. Нынче вечером я лягу спать с чувством удовлетворения, сознавая, что полностью расплатился с вами.
Безупречная честность, прозвучавшая в этих словах, жестоко уязвила дю Тийе. Несмотря на всеобщее почтение, сам он не уважал себя, а неумолчный внутренний голос твердил ему о Цезаре: «Вот человек добродетельный!»
– Расплатиться со мной? Вы, стало быть, снова занялись делами?
Не сомневаясь, что дю Тийе никому не станет рассказывать о его признании, бывший парфюмер ответил:
– Никаких дел, сударь, я больше вести не буду. Разве в человеческих силах было предвидеть то, что со мной случилось? Кто знает, не стал ли бы я опять жертвой какого-нибудь другого Рогена? Но о моей жизни, о поступках моих было доложено королю, он удостоил меня своим сочувствием и, желая поощрить мои усилия, прислал мне только что довольно крупную сумму, которая…
– Вам потребуется расписка? – перебил его дю Тийе. – Вы хотите заплатить…
– Полностью и с процентами; так что я попрошу вас зайти со мной к господину Кротта, отсюда это рукой подать.
– Вы хотите платить в присутствии нотариуса?!
– Но ведь мне не возбраняется, сударь, думать о восстановлении своей репутации, – сказал Цезарь, – а бесспорными считаются только документы, засвидетельствованные у нотариуса…
– Идемте, – сказал дю Тийе, выходя вместе с Бирото. – Идемте, до нотариуса отсюда и впрямь рукой подать. Но где вы только деньги берете? – снова спросил он.
– Я нигде их не беру, а зарабатываю в поте лица своего.
– Вы должны громадную сумму банкирскому дому Клапарона.
– Да, это мой самый крупный долг: боюсь, как бы мне не надорваться на работе, прежде чем удастся заплатить его.
– Никогда вам не заплатить его, – злорадно сказал дю Тийе.
«Он прав», – подумал Бирото.
Возвращаясь домой, Цезарь попал нечаянно на улицу Сент-Оноре; обычно он делал крюк, чтобы не видеть ни своей лавки, ни окон своей прежней квартиры. Впервые после своего падения он вновь увидел дом, в котором прошло восемнадцать счастливых лет его жизни, бесследно сметенных терзаниями последних трех месяцев.
«А я-то был уверен, что проживу здесь до конца дней своих», – подумал он, ускоряя шаги. В глаза ему бросилась новая вывеска:
СЕЛЕСТЕН КРЕВЕЛЬ
Преемник Цезаря Бирото
– Что это мне почудилось? Неужто Цезарина? – воскликнул Бирото, вспомнив, что видел в окне белокурую головку.
Но он действительно видел свою дочь. Влюбленные и Констанс знали, что Бирото никогда не проходит мимо своего бывшего дома. Не имея представления о том, что случилось с Цезарем, они пришли туда, чтобы подготовить квартиру к торжеству, которое собирались устроить в его честь. Пораженный этим странным видением, Бирото остановился как вкопанный.
– Вот господин Бирото смотрит на свою бывшую квартиру, – сказал Молине хозяину лавки, помещавшейся напротив «Королевы роз».
– Бедняга, – ответил бывший сосед парфюмера. – Он задал там бал на славу… Было сотни две карет…
– Я присутствовал на этом балу. А три месяца спустя он обанкротился, и меня избрали синдиком, – сказал Молине.
Бирото кинулся прочь, ноги у него дрожали, но он почти бегом добрался до жилища дядюшки Пильеро. Старик был уже осведомлен о том, что произошло на улице Сенк-Диаман, и опасался, что племянник не выдержит радостного потрясения, связанного с его реабилитацией. Пильеро был ежедневным свидетелем мучений несчастного Цезаря, который не изменил своих незыблемых теорий о несостоятельных должниках и жил в непрестанном напряжении душевных сил. Утраченная честь была для Цезаря Бирото покойником, который мог еще воскреснуть. И эта надежда лишь обостряла его страдания. Пильеро взялся сам подготовить племянника к счастливой вести; когда Бирото вошел к дяде, тот как раз размышлял над тем, как бы это лучше сделать. Радость, с которой Цезарь рассказал об участии к нему короля, показалась Пильеро хорошим предзнаменованием, а удивление Бирото, увидевшего свою дочь в «Королеве роз», помогло старику приступить к разговору.
– А знаешь, Цезарь, чем это объясняется? – начал Пильеро. – Попино решил поскорее жениться на Цезарине. Он не согласен больше ждать и не обязан вовсе из-за твоих преувеличенных понятий о честности растрачивать свою молодость и грызть сухую корку, когда так соблазнительно пахнет вкусным обедом. Попино хочет предоставить тебе средства для окончательной расплаты с кредиторами.
– Он покупает себе жену, – сказал Бирото.
– Разве не похвально желание помочь тестю восстановить свое доброе имя?
– Это дало бы возможность оспаривать… К тому же…
– К тому же, – подхватил дядя, притворяясь рассерженным, – ты можешь губить самого себя, но не имеешь права губить свою дочь.
Завязался горячий спор, причем Пильеро умышленно подливал масла в огонь.
– А если Попино дает тебе эти деньги не в долг, – воскликнул Пильеро, – если он рассматривает тебя как своего компаньона и, не желая обирать, считает, что сумма, которую он выплатит кредиторам, – это твоя часть в доходах от «Кефалического масла», аванс, выданный в счет будущих прибылей…
– Тогда подумают, что я вместе с ним обманул своих кредиторов.
Пильеро сделал вид, что сражен этим доводом. Он достаточно знал человеческое сердце и не сомневался, что ночью достойный человек сам вступит с собой в пререкания, и эта душевная борьба подготовит его к мысли о реабилитации.
– Но почему, – спросил за обедом Цезарь, – Констанс и Цезарина очутились в нашей прежней квартире?
– Ансельм собирается снять ее для себя и Цезарины. Жена твоя вполне одобряет этот план. Чтобы получить твое согласие, они, не предупредив тебя, уже договорились насчет церковного оглашения. Попино утверждает, что если он женится на Цезарине после твоей реабилитации, никакой заслуги с его стороны не будет. Ты принимаешь шесть тысяч франков от короля, а у своих родных ничего брать не желаешь! Я охотно выдал бы тебе расписку в получении всего, что мне следует, – неужели ты мне в этом откажешь?
– Нет, – сказал Цезарь, – но, несмотря на расписку, я продолжал бы беречь каждый грош, чтобы сполна расплатиться с вами.
– Ну, это уж мудрствование, – заявил Пильеро, – в вопросах честности я и сам кое-что смыслю. Что за глупость ты сейчас сказал? Ты что ж, обманешь своих кредиторов, если полностью с ними расплатишься?
Цезарь испытующе посмотрел на Пильеро, и старик с волнением увидел, как широкая улыбка впервые за три года озарила удрученное лицо его несчастного племянника.
– Правда, – сказал Цезарь, – долги будут уплачены… Но ведь это значит продать свою дочь!
– А я хочу, чтобы меня купили! – воскликнула Цезарина, появляясь вместе с Попино в дверях.
Влюбленные услышали последние слова Цезаря, когда в сопровождении г-жи Бирото вошли на цыпочках в переднюю маленькой квартиры дяди. Они объездили в фиакре кредиторов, которым еще не было полностью уплачено, приглашая их явиться вечером в контору Александра Кротта, где заготовлялись тем временем расписки. Неотразимая логика влюбленного Попино одержала верх над чрезмерной щепетильностью Цезаря, упорно продолжавшего называть себя должником и утверждавшего, что, заменяя одни обязательства другими, он просто обходит закон. Но возглас Попино положил конец препирательствам парфюмера со своей совестью:
– Вы, значит, хотите убить собственную дочь?
– Убить собственную дочь!.. – растерянно повторил Цезарь.
– Ну, хорошо, – сказал Попино, – имею я право подарить вам деньги, которые, по совести, считаю вашими? Или вы мне в этом откажете?
– Нет, – отвечал Цезарь.
– Ну, тогда отправимся сегодня вечером к Александру Кротта, и делу конец; мы там подпишем и наш брачный контракт.
Ходатайство о реабилитации с приложением всех необходимых документов было подано Дервилем генеральному прокурору парижского королевского суда.
Весь месяц, пока выполнялись различные формальности по ходатайству Цезаря, – время, потребовавшееся также и для церковного оглашения брака Цезарины и Ансельма, – Бирото был в лихорадочном волнении. Он трепетал, он боялся, что не доживет до великого дня, когда состоится постановление суда. У него, по его словам, без всякой причины начиналось вдруг сильное сердцебиение. Он жаловался на тупые боли в сердце, ослабленном уже горестными переживаниями и изнемогавшем теперь под бременем непомерной радости. Постановление о реабилитации редко встречается в практике парижского королевского суда; такие решения выносятся не чаще одного раза в десять лет. Для людей, относящихся с подобающей серьезностью к современному им общественному порядку, в аппарате правосудия заключено нечто внушительное и величественное. Значение общественных установлений всецело зависит от человеческих чувств, с ними связанных, и от величия, в которое их облекает человеческая мысль. Поэтому, когда народ утрачивает не только религию, но и самую способность верить, когда образование с первых шагов подрывает все устои, приучая ребенка к беспощадному анализу, – наступает упадок нации; ибо она еще являет собой нечто целое лишь в силу низменных материальных интересов и заповедей расчетливого эгоизма. Для Бирото, человека верующего, правосудие было тем, чем оно и должно быть в глазах людей: воплощением самого общества, величественным символом всеми признаваемого закона, независимо от облика, который этот закон принимает, ибо чем старше и дряхлее убеленный сединами судья, тем торжественнее его служение делу, которое требует столь глубокого изучения людей и обстоятельств, что убивает жалость в сердце жрецов правосудия и делает их непреклонными перед лицом животрепещущих человеческих интересов. Все реже встречаются теперь люди, испытывающие глубокое волнение, поднимаясь по лестнице королевского суда в старинном здании парижского Дворца правосудия; бывший купец был как раз из их числа. Мало кто замечал, как величественна эта лестница, расположенная для наибольшего эффекта над наружным перистилем, украшающим Дворец правосудия; она ведет к середине галереи, примыкающей с одной стороны к огромному залу «Потерянных шагов», с другой – к часовне Сент-Шапель, – двум историческим памятникам, по сравнению с которыми все вокруг может показаться убогим и жалким. Часовня Людовика Святого – одно из самых величественных зданий Парижа; вход в нее, находящийся в глубине галереи, романтически мрачен. А вход в огромный зал «Потерянных шагов» весь залит светом; трудно забыть, что с этим залом связана история Франции. Как монументальна лестница королевского суда, если даже на фоне этих великолепных сооружений она кажется внушительной. Сквозь роскошную ограду Дворца правосудия с лестницы видно то место, где приводятся в исполнение судебные приговоры, – что, быть может, и рождает трепет в сердцах посетителей. Лестница эта ведет в обширное помещение, за которым находится зал заседаний первой судебной палаты королевского суда. Представьте же себе волнение Бирото, на которого не могла не подействовать эта величественная обстановка, когда он направлялся в суд в сопровождении своих друзей: Леба, в то время уже председателя коммерческого суда; бывшего своего присяжного попечителя Камюзо; своего прежнего хозяина Рагона и своего духовника – аббата Лоро. Священник подчеркнул своими рассуждениями великолепие сооруженного людьми храма правосудия, придав ему еще больше внушительности в глазах Цезаря.
Философ-практик Пильеро решил заблаговременно усилить радость Цезаря, чтобы застраховать племянника от опасных для него потрясений и неожиданностей этого знаменательного дня. Когда бывший купец заканчивал свой туалет, к нему явились испытанные друзья, считавшие долгом чести сопровождать его в зал суда. При виде этой свиты Цезарь почувствовал удовлетворение и впал в восторженное состояние, которое помогло ему перенести внушительную церемонию судебной процедуры. В зале торжественных заседаний, где собралось двенадцать членов суда, Бирото увидел и других своих друзей.
По оглашении списка дел поверенный Бирото в нескольких словах изложил его ходатайство. Затем, по предложению председателя, поднялся генеральный прокурор, чтобы дать свое заключение. Генеральный прокурор, человек, олицетворяющий общественное обвинение, сам потребовал от имени прокуратуры восстановления чести негоцианта, которой тот, в сущности, и не утрачивал, но как бы отдал на время в залог: исключительный случай в судебной практике, ибо обычно осужденный может быть только помилован. Люди с чуткой душой легко представят себе, с каким волнением слушал Бирото речь г-на де Гранвиля, сводившуюся вкратце к следующему:
– Господа, – сказал прославленный судейский чиновник, – шестнадцатого января 1820 года постановлением коммерческого суда округа Сены Бирото был объявлен несостоятельным должником. Прекращение платежей не было вызвано ни неосторожностью этого купца, ни сомнительными спекуляциями, ни чем-либо иным, что могло бы опорочить его честь. Мы считаем нужным заявить во всеуслышанье, что несчастье это было вызвано одной из тех катастроф, которые, к величайшему прискорбию правосудия и населения города Парижа, участились за последнее время. Нашему веку, в котором долго еще будет происходить брожение пагубных революционных идей, суждено видеть, как парижские нотариусы, отступив от славных традиций прошлого, вызвали за несколько лет такое количество банкротств, какого не было при старой монархии и за два столетия. Погоня за легкой наживой обуяла нотариусов – этих опекунов общественного благосостояния, этих посредников в судейском звании!
За сим последовала длинная тирада, в которой генеральный прокурор, выполняя возложенную на него роль, обрушился на либералов, бонапартистов и прочих врагов престола. События показали впоследствии, что прокурор был прав в своих опасениях.
– Бегство одного из парижских нотариусов, похитившего доверенные ему Бирото деньги, повлекло за собой разорение просителя, – продолжал граф де Гранвиль. – Приговор суда по делу Рогена свидетельствует о том, как недостойно нотариус обманул доверие своих клиентов. Между несостоятельным должником и его кредиторами было достигнуто соглашение. Нужно отметить к чести просителя, что все его коммерческие операции отличались такой безупречной честностью, с какой не приходилось встречаться ни в одном из скандальных банкротств, ежедневно подрывающих деловую жизнь Парижа. Кредиторы Бирото нашли на месте все, что принадлежало несчастному купцу, вплоть до последней мелочи. Они нашли, господа, его одежду, его драгоценности, предметы его личного обихода, и не только его собственные, но также и его жены, отказавшейся полностью от своих прав, дабы увеличить актив. В этих тяжелых для него обстоятельствах Бирото показал себя вполне достойным того уважения, которому он был обязан избранием на муниципальную должность; ибо он состоял тогда помощником мэра второго округа и получил незадолго перед тем орден Почетного легиона; он удостоился этой награды и как преданный роялист, сражавшийся в вандемьере на ступенях церкви святого Роха, которые он обагрил своею кровью, и как член коммерческого суда, уважаемый за свои познания, любимый за дух миролюбия, и, наконец, как скромный муниципальный чиновник, отказавшийся от чести быть мэром, чтобы предоставить эту почетную должность более достойному – высокочтимому барону де ла Биллардиеру, одному из благородных вандейцев, уважать которого Бирото научился еще в дни тяжких испытаний.
– Эта фраза будет еще похлеще моей, – сказал Цезарь на ухо дяде.
А потому кредиторы, получившие по обязательствам Бирото шестьдесят процентов за сто, – ибо этот честный купец, его жена и дочь отказались от всего, чем владели, – выразили свое уважение к нему в соглашении, сложив с него остаток долга. Самая форма соглашения свидетельствует об этом их уважении к должнику и заслуживает внимания суда.
Тут генеральный прокурор прочел мотивировочную часть соглашения.
– При наличии столь благоприятного постановления, господа, многие купцы сочли бы себя свободными от всяких обязательств и гордо расхаживали бы по городу. Но Бирото был далек от этого; не падая духом, он твердо решил подготовить славный день, который ныне для него наступил. Он согласен был на любую жертву. Наш возлюбленный монарх, чтобы дать человеку, раненному на ступенях церкви святого Роха, кусок хлеба, предоставил ему должность; несостоятельный должник откладывал все свое жалованье для удовлетворения кредиторов, ничего не оставляя для собственных нужд, ибо родственники не отказали ему в необходимой поддержке…
Бирото со слезами пожал руку дяде.
– Жена и дочь увеличили сумму его сбережений плодами своих трудов; они всецело присоединились к Бирото в его благородном намерении. Обе они сменили свое прежнее независимое положение на положение подчиненное. Подобные жертвы, господа, заслуживают высокой похвалы, ибо решиться на них особенно трудно. Вот какую задачу поставил перед собой Бирото.
Здесь генеральный прокурор прочел итоги баланса парфюмера, указав, кому и сколько тот оставался еще должен.
– Каждая из этих сумм, господа, была уплачена с процентами, что подтверждается не простыми расписками частных лиц, а документами, заверенными нотариусом, вполне заслуживающими доверия суда; но это не помешало, однако, судебным чинам исполнить свой долг, произведя предписанное законом расследование. Вы вернете Бирото не честь, которой он, в сущности, и не лишался, а лишь утраченные им права, и этим только восстановите справедливость. В нашей судебной практике подобные случаи такая редкость, что мы не можем не выразить просителю нашего восхищения его образом действий, уже заслужившим высочайшее одобрение и поддержку.
Затем прокурор прочел свое заключение, составленное по всем правилам судопроизводства.
Суд, не удаляясь, вынес свое решение, и председатель встал, чтобы огласить его.
– Суд поручает мне, – сказал он в заключение, – выразить господину Бирото чувство удовлетворения, с которым он выносит подобное решение. Секретарь, огласите следующее дело.
Бирото уже почувствовал себя как бы облеченным в парадный мундир, слушая речь прославленного генерального прокурора; но теперь он не мог опомниться от радости: ведь торжественная фраза старшего председателя королевского суда свидетельствовала о том, что даже сердца бесстрастных служителей закона дрогнули от волнения. Цезарь не в силах был шевельнуться; он словно прирос к месту и растерянно смотрел на судей, как на ангелов, вновь распахнувших перед ним врата общественной жизни; дядя взял его под руку и увел в соседний зал. Цезарь, не выполнявший до тех пор желания Людовика XVIII, машинально вдел теперь в петлицу орденскую ленточку Почетного легиона; друзья тотчас же окружили его и с триумфом понесли к карете.
– Куда вы меня везете, друзья мои? – обратился он к Жозефу Леба, Пильеро и Рагону.
– Домой.
– Нет, сейчас три часа; я хочу воспользоваться своим правом и показаться на бирже.
– На биржу, – приказал кучеру Пильеро, сделав при этом выразительный знак Леба, так как заметил у реабилитированного купца встревожившие его симптомы и опасался, как бы тот не сошел с ума.
Бывший парфюмер появился на бирже об руку со своим дядей и Леба – двумя уважаемыми негоциантами. Там уже знали о его реабилитации. Первый, кто увидел трех купцов и следовавшего за ними старика Рагона, был дю Тийе.
– Ах, дорогой патрон, я в восторге, что вам удалось выпутаться из беды. Ведь и я, может быть, немного способствовал этой счастливой развязке, когда безропотно позволил маленькому Попино пощипать себя. Я радуюсь вашему счастью, словно своему собственному.
– Для вас это единственная возможность испытать подобную радость, – сказал Пильеро. – Ведь с вами ничего подобного случиться не может.
– Как прикажете вас понимать, сударь? – спросил дю Тийе.
– Черт побери! Разумеется, в самом лучшем смысле! – вмешался Леба, улыбаясь мстительной насмешливости Пильеро, который хотя и не знал ничего, но угадывал в дю Тийе мерзавца.
Матифа увидел Цезаря. И тотчас же наиболее почтенные купцы окружили бывшего парфюмера и устроили ему настоящую биржевую овацию; Бирото выслушивал самые лестные поздравления, ему жали руку: во многих это возбуждало зависть, а у некоторых – угрызения совести, ибо из ста прогуливавшихся на бирже купцов более пятидесяти прибегали к ликвидации дел. Жигонне и Гобсек, беседовавшие в углу, разглядывали добродетельного парфюмера, вероятно, с не меньшим интересом, чем физики разглядывали первого привезенного им электрического ската. Эта рыба, наделенная свойствами лейденской банки, – любопытнейший представитель животного мира. Вдохнув фимиам своего торжества, Цезарь снова сел в фиакр и поехал домой, где предстояло подписание брачного контракта его дочери Цезарины и преданного Ансельма. Нервный смех Бирото встревожил трех его верных друзей.
Одно из свойственных юности заблуждений – считать всех такими же сильными, как она сама; заблуждение это объясняется, впрочем, ее особенностями: вместо того чтобы рассматривать людей и вещи сквозь очки, юность окрашивает их отблеском собственного огня и готова даже стариков наделять избытком жизненной силы. Попино, подобно Цезарю и Констанс, хранил воспоминание о роскошном бале, устроенном Бирото. Как часто среди тяжелых испытаний последних трех лет Цезарь и Констанс, не признаваясь в том друг другу, вновь слышали оркестр Коллине, видели нарядных гостей и вкушали радость, за которую столь жестоко потом поплатились; так вспоминали, должно быть, Адам и Ева о запретном плоде, принесшем их потомству и жизнь и смерть, ибо как размножаются ангелы, остается, по-видимому, небесной тайной. Попино мог, впрочем, предаваться своим воспоминаниям без всяких угрызений совести и даже с отрадой: ведь в тот вечер Цезарина, еще богатая и завидная невеста, пообещала ему, бедняку, стать его женой. В тот вечер он получил уверенность в ее бескорыстной любви. Вот почему он купил у Селестена перестроенную и отделанную Грендо квартиру, с условием, что преемник Цезаря оставит ее в неприкосновенности. Благоговейно сохранив в этой квартире всю обстановку, вплоть до последних мелочей, принадлежавших Цезарю и Констанс, Ансельм мечтал о том, чтобы и самому задать там бал – отпраздновать свою свадьбу. Он любовно готовился к этому торжеству, но подражал своему прежнему хозяину лишь в необходимых тратах, а не в безумствах: достаточно безумств было уже совершено прежде. Обед и на этот раз был заказан у Шеве, и приглашенные были приблизительно те же. Только канцлера ордена Почетного легиона заменил аббат Лоро, и в числе гостей должен был быть председатель коммерческого суда – Леба; Попино позвал также г-на Камюзо, чтобы отблагодарить его за доброе отношение к Цезарю; а вместо Рогенов приглашен был г-н де Ванденес. Цезарина и Попино рассылали приглашения на свой бал с большим разбором. Обоим им не хотелось устраивать многолюдную свадьбу, и, чтобы не быть задетыми в своих интимных чувствах, как это нередко случается с людьми, обладающими чистым и нежным сердцем, они решили дать бал не в день венчания, а в день заключения брачного контракта. Констанс вновь надела свое вишневое бархатное платье, в котором она блистала всего один лишь вечер. Цезарине же захотелось сделать Попино сюрприз – появиться в том самом бальном туалете, о котором он так часто вспоминал. Словом, квартира Бирото должна была предстать перед ним в том же волшебном виде, которым он упивался когда-то один только вечер. Ни Констанс, ни Цезарина, ни Ансельм не подумали о том, как опасен для Цезаря столь ошеломляющий сюрприз, и, поджидая его к четырем часам, они веселились, точно дети.
После сильного волнения, пережитого Бирото на бирже, этому подвижнику коммерческой честности предстояло испытать еще внезапное потрясение на улице Сент-Оноре. Войдя в свой бывший дом, Цезарь увидел внизу, у лестницы, сохранившейся в полной неприкосновенности, жену в вишневом бархатном платье, Цезарину, графа де Фонтэна, виконта де Ванденеса, барона де ла Биллардиера, знаменитого Воклена, – и в эту минуту какая-то тонкая пелена заволокла глаза парфюмера; дядюшка Пильеро, державший его под руку, почувствовал, как весь он содрогнулся.
– Это слишком, – сказал старик философ влюбленному Ансельму. – Ты наливаешь чересчур много вина – ему столько не выпить.
Сердца всех собравшихся были, однако, преисполнены такой бурной радости, что волнение Цезаря и его спотыкающуюся походку каждый объяснил себе вполне естественным восторженным опьянением – нередко, увы, смертельным.
Когда Цезарь вновь очутился у себя дома и увидел опять свою гостиную, гостей и среди них женщин в бальных платьях – в мозгу его внезапно зазвучал героический финал великой симфонии Бетховена. Эта возвышенно-прекрасная музыка заискрилась и засверкала, запела трубными звуками в его усталом мозгу, для которого ей суждено было стать трагическим финалом.
Изнемогая под бременем захлестнувшей его внутренней гармонии, Цезарь оперся на руку жены и, задыхаясь от прилива крови, шепнул ей на ухо:
– Мне худо!
Испуганная Констанс отвела мужа в свою комнату, куда он добрался с большим трудом; упав там в кресло, он прошептал:
– Господина Одри! Господина Лоро!
Аббат Лоро вошел в сопровождении группы приглашенных – мужчин и нарядных женщин. Пораженные гости молча застыли в дверях. И на глазах всего этого разряженного общества Цезарь сжал руку своего духовника, голова его упала на плечо жены, опустившейся возле него на колени. В груди у него лопнул кровеносный сосуд, и аневризма стеснила его последний вздох.
– Вот смерть праведника, – торжественно провозгласил аббат Лоро, указывая на Цезаря тем неподражаемым жестом, который Рембрандт запечатлел в своей картине «Христос, воскрешающий Лазаря».
Иисус приказывал земле вернуть свою добычу; священнослужитель же указывал небесам на мученика торговой честности, заслужившего вечное блаженство.
Париж, ноябрь 1837 г.
Электронная книга издана «Мультимедийным Издательством Стрельбицкого», г. Киев. С нашими изданиями электронных и аудиокниг Вы можете познакомиться на сайте -book.com.ua . Желаем приятного чтения! Пишите нам: audio-book@ukr.net

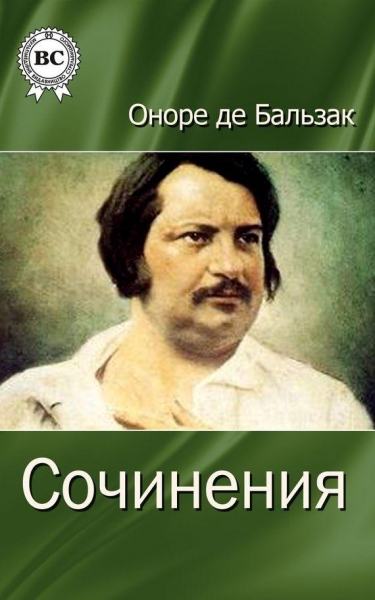






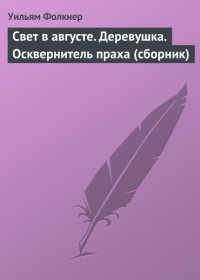
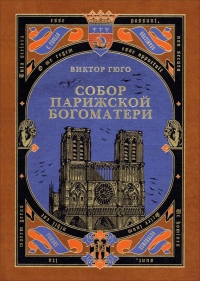
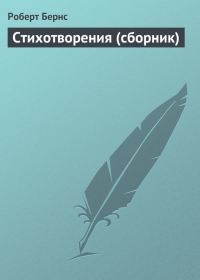
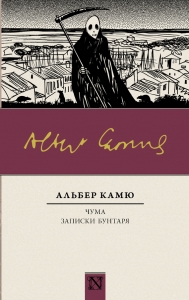


Комментарии к книге «Сочинения», Оноре де Бальзак
Всего 0 комментариев