Тарас Шевченко ЖУРНАЛ
1857
Июня 12
Первое замечательное происшествие, которое я вношу в мои записки, суть следующее. Обрезывая сию первую тетрадь для помянутых записок, я сломал перочинный нож. Происшествие, по-видимому, ничтожное и не заслуживающее того внимания, которое я ему оказываю, внося его как что-то необыкновенное в сию пеструю книгу. Случись этот казус в столице или даже в порядочном губернском городе, то, натурально, он не попал бы в мою памятную книгу. Но это случилося в киргизской степи, т. е. в Новопетровском укреплении, где подобная вещица для грамотного человека, как, например, я, дорого стоит; а главное, что не всегда ее можно достать и даже за порядочные деньги. Если вам удастся растолковать свою нужду армянину-маркитанту, который имеет сообщение с Астраханью, то вы все-таки не ближе как через месяц летом, а зимою через пять месяцев, получите прескверный перочинный ножик и, разумеется, не дешевле монеты, т. е. рубля серебром. А случается и так, и весьма часто, что вместо ожидаемой вами с нетерпением вещи он вас попотчует или московской бязью, или куском верблюжьего сукна, или, наконец, кислым, как он говорит, дамским чихирем. А на вопрос ваш, почему он вам не привез именно то, что вам нужно, он вам пренаивно ответит, что мы люди коммерческие, люди неграмотные, всего не упомнишь. Что вы ему на такой резонный довод? Ругнете его, он усмехнется, а вы все-таки без ножа останетесь. Теперь понятно, почему в Новопетровском укреплении утрата перочинного ножа – событие, заслуживающее бытописания. Но Бог с ним – и с укреплением, и с ножом, и с маркитантом; скоро, даст Бог, вырвуся я из этой безграничной тюрьмы. И тогда подобное происшествие не будет иметь места в моем журнале.
13 июня
Сегодня уже второй день, как сшил я себе и аккуратно обрезал тетрадь для того, чтобы записывать, что со мною и около меня случится. Теперь еще только девятый час, утро прошло как обыкновенно, без всякого замечательного происшествия, увидим, чем кончится вечер. А пока совершенно нечего записать. А писать охота страшная. И перья есть очиненные. По милости ротного писаря я еще не чувствую своей утраты. А писать все-таки не о чем. А сатана так и шепчет на ухо: «Пиши, что ни попало, ври, сколько душе угодно. Кто тебя станет поверять. И в шканечных журналах врут, а в таком, в домашнем, и Бог велел».
Если бы я свой журнал готовил для печати, то, чего доброго, пожалуй, и искусил бы лукавый враг истины, но я, как сказал поэт наш,
Пишу не для мгновенной славы, Для развлеченья, для забавы, Для милых искренних друзей, Для памяти минувших дней.Мне следовало бы начать свой журнал со времени посвящения моего в солдатский сан, сиречь с 1847 года. Теперь бы это была претолстая и прескучная тетрадь. Вспоминая эти прошедшие грустные десять лет, я сердечно радуюсь, что мне не пришла тогда благая мысль обзавестись записной тетрадью. Что бы я записал в ней? Правда, в продолжение этих десяти лет я видел даром то, что не всякому и за деньги удастся видеть. Но как я смотрел на все это? Как арестант смотрит из тюремного решетчатого окна на веселый свадебный поезд. Одно воспоминание о прошедшем и виденном в продолжение этого времени приводит меня в трепет. А что же было бы, если бы я записал эту мрачную декорацию и бездушных грубых лицедеев, с которыми мне привелось разыгрывать эту мрачную монотонную десятилетнюю драму? Мимо, пройдем мимо, минувшее мое, моя коварная память! Не возмутим сердца любящего друга недостойным воспоминанием, забудем и простим темных мучителей наших, как простил Милосердый Человеколюбец своих жестоких распинателей. Обратимся к светлому и тихому, как наш украинский осенний вечер, и запишем все виденное и слышанное и все, что сердце продиктует.
От второго мая получил я письмо из Петербурга от Михайла Лазаревского с приложением 75 рублей. Он извещает меня, или, лучше, поздравляет с свободою. До сих пор, однако ж, нет ничего из корпусного штаба, и я, в ожидании распоряжений помянутого штаба, собираю сведения о волжском пароходстве. Сюда приезжают иногда астраханские флотские офицеры (крейсеры от рыбной экспедиции). Но это такие невежды и брехуны, что я, при всем моем желании, не могу до сих пор составить никакого понятия о волжском пароходстве. В статистических сведениях я не имею надобности, но мне хочется знать, как часто отходит пароход из Астрахани в Нижний Новгород и какая цена местам для пассажиров. Но увы! При всем моем старании я узнал только, что места разные и цена разная, а пароходы из Астрахани в Нижний ходят очень часто. Не правда ли, точные сведения?
Несмотря, однако ж, на эти точные сведения, я уже успел (разумеется, в воображении) устроить свое путешествие по Волге уютно, спокойно и, главное, дешево. Пароход буксирует (одно-единственное верное сведение) несколько барок, или, как их называют, подчалками, до Нижнего Новгорода с разным грузом. На одной из таких барок я думаю устроить свою временную квартиру и пролежать в ней до нижегородского дилижанса. Потом в Москву, а из Москвы, помолившись Богу за Фультонову душу, через 22 часа и в Питер. Не правда ли, яркая фантазия? Но на сегодня довольно.
Нынешний вечер ознаменован прибытием парохода из Астрахани. Но как событие сие совершилось довольно поздно, в девятом часу, то до следующего утра я не получу от него никаких известий. Важного ничего я и не ожидаю от астраханской почты. Вся переписка моя идет через Гурьев-городок. А через Астрахань я весьма редко получаю письма. Следовательно, мне от парохода ждать нечего. Не вздумает [ли] батько кошовый Кухаренко написать мне? То-то бы одолжил меня старый черноморец. Замечательное явление между людьми этот истинно благородный человек. С 1847 года, по распоряжению высшего начальства, все друзья мои должны были прекратить со мною всякое сношение. Кухаренко не знал о таком распоряжении. Но так[же] не знал и о моем местопребывании. И будучи в Москве во время коронации депутатом от своего войска, познакомился со стариком Щепкиным и от него узнал о месте моего заключения. И, благороднейший друг! написал мне самое искреннее, самое задушевное письмо. Через девять лет и не забыть друга, и еще в несчастии друга. Это редкое явление между себялюбивыми людьми. С этим же письмом, по случаю, как он пишет, по случаю получения им Станислава первой степени, прислал он мне на поздравку 25 рублей серебром. Для семейного и небогатого человека большая жертва. И я не знаю, чем и когда я ему воздам за эту искреннюю, нелицемерную жертву.
По случаю этого дружеского неожиданного приветствия я расположил было мое путешествие таким образом. Через Кизляр и Ставрополь проехать в Екатеринодар прямо к Кухаренку. Насмотревшись досыта на его благородное выразительное лицо, я думал проехать через Крым, Харьков, Полтаву, Киев в Минск, Несвиж и, наконец, в село Чирковичи и, обняв своего друга и товарища по заключению Бронислава Залецкого, через Вильно проехать в Петербург. План этот изменило письмо М. Лазаревского от 2 мая. Из письма этого я увидел, что мне, нигде не останавливаясь, нужно поспешить в Академию художеств и облобызать руки и ноги графини Настасии Ивановны Толстой и ее великодушного супруга графа Федора Петровича. Они единственные виновники моего избавления, им и первый поклон. Независимо от благодарности этого требует простая вежливость. Вот главная причина, почему я, вместо ухарской тройки, выбрал тридцатидневное монотонное плавание по матушке по Волге. Но состоится ли оно, я этого еще наверное не знаю. Легко может статься, что я еще в хламиде поругания и с ранцем за плечами попунтирую в Уральск в штаб баталиона № 1. Всего еще можно ожидать. И потому не следует давать слишком много воли своему неугомонному воображению. Но утро вечера мудренее. Посмот[рим], что завтра будет. Или, лучше сказать, что привезет гурьевская почта.
14 июня
Я что-то чересчур усердно и аккуратно взялся за свой журнал. Не знаю, долго ли продлится этот писательский жар? Как бы не сглазить. Если правду сказать, я не вижу большой надобности в этой пунктуальной аккуратности. А так – от нечего делать. На безделья и это рукоделье. Записному литератору или какому-нибудь поставщику фельетона, тому необходима эта бездушная аккуратность как упражнение, как его насущный хлеб. Как инструмент виртуозу, как кисть живописцу, так литератору необходимо ежедневное упражнение пера. Так делают и гениальные писатели, так делают и пачкуны. Гениальные писатели потому, что это их призвание. А пачкуны потому, что они иначе себя и не воображают, как гениальными писателями. А то бы они и пера в руки не брали.
Какое же казусное событие запишу я сегодня? А вот какое. Вчерашний пароход разрешился порядочным мешком целковых и арапчиков. Это третное жалованье гарнизона. Офицеры сегодня же его и получили, и сегодня же отнесли его Попову (маркитанту) и спиртомеру (цаловальнику), а остальное тоже отослали к спиртомору и начали кутить, или, вернее, пьянствовать. Завтра выдадут жалованье солдатам, и солдаты тоже начнут кутить, т. е. пьянствовать. И это продлится несколько дней сряду. И кончится как солдатская, так и офицерская попойка дракой и, наконец, курятником, т. е. гауптвахтой.
Солдаты – самое бедное, самое жалкое сословие в нашем православном отечестве. У него отнято все, чем только жизнь красна: семейство, родина, свобода, одним словом, все. Ему простительно окунуть иногда свою сирую, одинокую душу в полштофе сивухи. Но офицеры, которым отдано все, все человеческие права и привилегии, чем же они разнятся от бедняка солдата? (Я говорю о Новопетровском гарнизоне.) Ничем они, бедные, не разнятся, кроме мундира. И добро бы еще были так называемые старые бурбоны. А то ведь юноши и воспитанники кадетских корпусов. Хорошо должно быть воспитание? Бесчеловечное воспитание. Зато дешевое. А главное, скорое. Восьмнадцатилетний юноша, уж он офицер. Восторг и загляденье матери и опора дряхлого отца. Жалкая мать и глупый отец.
Кажется, Козак Луганский написал книгу под заглавием «Солдатские досуги». Заглавие ложное. У русского солдата досуга не имеется. А если же солдат и встречается с ним иногда, то непременно в кабаке. Какая же, спрашивается, была цель прославленного сочинителя писать подобные досуги? И что нравственного в подобных досугах, если они написаны с натуры (я книги не читал)? А если же это просто сочинение, т. е. фантазия, то опять – какая цель подобной фантазии? А не лучше ли бы сделал почтеннейший автор сих ненужных фантастических досугов, если бы написал истинные досуги линейных, армейских и даже гвардейских молодых офицеров. Этим он оказал бы величайшую услугу чадолюбивым и эполетолюбивым родителям.
15 [июня]
Что же я сегодня занесу в свой журнал? Совершенно нечего занести. А ни-ни, ничего хоть сколько-нибудь выходящего из круга обыденной монотонной жизни. Сегодня поутру начал я рисовать портрет г. Бажанова черным и белым карандашом в киргизской кибитке на огороде. Прекрасное освещение. И я с охото[й] принялся за работу. Черт принес приятельницу – помешала. Я закрыл портфель и вышел из кибитки. Скромная приятельница не утерпела, взглянула одним глазком на мою работу и нашла решительное сходство, если бы рот и нос поменьше. И не удовольствовавшись собственным замечанием, спросила мнения у горничной и у своего фаворита Молчалина А. Это меня решительно взбесило, и я, не простившись, ушел в укрепление. В укреплении видел пьяную официю и выслушал историю о том, как вчерашнего числа раскроил лоб чубуком тесть своему будущему зятю Ч[арцу] тоже по случаю жалованья. Солдатам выдавали жалованье. Мне тоже выдали, я передал его своему еще трезвому дядьке и велел ему сшить из подкладочного холста торбу для дороги. Потом зашел к Мостовскому, выслушал в другой раз историю (с некоторыми прибавлениями) о будущем тесте и зяте, выпил рюмку водки и возвратился на огород. Обедал, после обеда, по доброму обычаю предков, заснул часика два, и тем кончи[ло]сь 15 число июня. О вечере совершенно нечего написать.
16 [июня]
Сегодня воскресенье. Я ночевал на огороде. Поутру был в укреплении. Дождь (весьма редкое явление) помешал мне возвратиться на огород, и я остался обедать у Мостовского. Мостовский один-единственный человек во всем гарнизоне, которого я люблю и уважаю. Человек не сплетня, не верхогляд, человек аккуратный, положительный и в высокой степени благородный. Говорит плохо по-русски, но русский язык знает лучше воспитанников Неплюевского корпуса. Во время восстания поляков в 1830 году служил он в артиллерии бывшей польской армии и из военнопленных зачислен был рядовым в русскую службу. Я много от него слышал чрезвычайно интересных подробностей о революции 1830 года. Достойно замечания то, что поляк рассказывает о собственных подвигах и неудачах без малейших украшений, редкая черта в военном человеке, тем более в поляке. Одним словом, Мостовский – человек, с которым можно жить, несмотря на сухость и прозаичность его характера.
Сегодня же милейшая миледи М[ешкова] сообщила мне, впрочем не по секрету, со всеми подробностями, историю о побоище, происшедшем между будущим тестем и будущим зятем. Из этой истории можно бы выкроить водевиль, разумеется, водевиль для здешней публики. Назвать его можно «Свадебный подарок, или недошитая кофта». Дело вот в чем. Жених в прошедшем месяце отправился в Астрахань купить свадебные подарки для своей невесты. Для этой милой необходимости взял он у своего будущего тестя, такого же голыша, как и сам, последние крохи с тем, чтобы при получении жалованья возвратить эти крохи. Хорошо. Жених возвращается из Астрахани и отдает унтер-офицерше Петровой сшить для своей невесты ситцевое платье и коленкоровую кофту. Хорошо. Унтер-офицерша шьет, а между тем получается на гарнизон жалованье. Но увы! Несчастному жениху выдают на руки всего-навсего два с полтиной, а все остальное удержано в баталионе, по его же собственным распискам. Но герой, как ни в чем не бывало, посылает своего верного раба Григория к спиртомеру за четвертью полугару и с торжествующей физиономией, сопровождаемый Григорием с четвертью в руках, отправляется к будущему тестю. Начинается поздравка с получением жалованья. Но увы! И на старуху бывает проруха. Бедный жених слишком увлекся будущим счастием и в жару мечтаний проговорился, что он получил жалованья всего-навсего только два с полтиной. Разочарованный будущий тесть, тоже в жару негодования, хватил своего милого зятька чубуком по лбу, да так хватил ловко, что кровь полилася с благородного чела. Но чтобы не показать соседям, что между ними вышло контро, они принялися вдвоем бить собаку. Бедная собака! Но этим дело не кончилось. Догадливый раненый герой бежит к портнихе, но увы! платье уже отдано невесте, осталася только недошитая кофта; он отбирает у портнихи этот неоконченный предмет и закладывает жидку-солдату за две чары водки. Премиленький и назидательный мог бы выкроиться водевильчик.
И это гнусное происшествие, не выходящее из круга обыкновенных происшествий в Новопетровском укреплении. И я в этом омуте, среди этого нравственного безобразия, седьмой год уже кончаю. Страшно! Теперь, когда уже узнали о моем освобождении, то ближайшие мои начальники – фельдфебель и ротный командир, не увольняя меня от ученья и караула, позволили мне свободные часы от службы проводить на огороде, за что я им сердечно благодарен. На огороде, или в саду – летняя резиденция нашей комендантши, и все свободное время теперь я провожу в ее семействе; у нее двое миленьких детей, Наташенька и Наденька, и это единственный мой отдых и рассеяние в этом отвратительном захолустье.
17 [июня]
Сегодня, в четвертом часу утра, пришел я на огород. Утро было тихое, прекрасное. Иволги и ласточки нарушали изредка только сонную и сладкую тишину утра. С некоторого времени, с тех пор как мне позволено уединяться, я чрезвычайно полюбил уединение. Милое уединение! Ничего не может быть в жизни слаще, очаровательнее уединения, особенно перед лицом улыбающей[ся], цветущей красавицы матери Природы. Под ее сладким волшебным обаянием человек невольно погружается сам в себя и видит Бога на земле, как говорит поэт. Я и прежде не любил шумной деятельности, или, лучше сказать, шумного безделья. Но после десятилетней казарменной жизни уединение мне кажется настоящим раем. А я все так и не могу ни за что приняться. Ни малейшей охоты к труду. Сижу или лежу молча по целым часам под моею любимою вербою, и хоть бы на смех что-нибудь шевельнулося в воображении. Таки совершенно ничего. Настоящий застой. И это томительное состояние началося у меня с 7 апреля, т. е. со дня получения письма от М. Лазаревского. Свобода и дорога меня совершенно поглотили. Спасибо еще Кулишу, что догадался прислать книг, а то я не знал бы, что с собою делать. В особенности благодарен я ему за «Записки о Южной Руси». Я эту книгу скоро наизусть буду читать. Она мне так живо, так волшебно живо напомнила мою прекрасную бедную Украину, что я как будто с живыми беседую с ее слипыми лирныками и кобзарями. Прекраснейший, благороднейший труд. Бриллиант в современной исторической литературе. Пошли тебе Господи, друже мой искренний, силу, любовь и терпение продолжать эту неоцененную книгу. Прочитавши в первый раз эту алмазную книгу, я дерзнул было делать замечания, но когда прочитал в другой и в третий раз, то увидел, что заметки мои – заметки пьяного человека и ничего больше. Окроме Суботова, т. е. насчет места бывшего дома Богдана Хмельницкого. Но такое ничтожное пятнышко не должно быть замечаемо на драгоценной ткани. Я обещал, начитавшись до отвалу этой книги, послать ее Кухаренку и теперь жалею, что обещал. Во-первых, потому, что я ее никогда не начитаюсь до отвалу. А во-вторых, потому, что поля книги испачканы нелепыми замечаниями. Даст Бог, я ему из Петербурга вышлю чистенький экземпляр.
Вчерашний водевиль кончился, как и следовало ожидать, сегодня миром и гомерической попойкой с песельниками. Интересно знать, чем кончится свадьба. Вероятно, дракой.
18 [июня]
Сегодня я, как и вчера, точно так же рано пришел на огород, долго лежал под вербою, слухал иволгу и, наконец, заснул. Видел во сне Межигорского Спаса, Дзвонковую Криныцю и потом Выдубецкий монастырь. А потом – Петербург и свою милую Академию. С недавнего времени мне начали грезиться во сне знакомые, давно не виданные предметы. Скоро ли увижу все это я наяву? Сновидение имело на меня прекрасное влияние в продолжение всего дня, а тем более, что сегодня гурьевскую, т. е. оренбургскую, почту ожидали. К вечеру действительно почта пришла, но ни мне, ни обо мне ничего не привезла. Опять я спустил нос на квинту. Опять тоска и бесконечное ожидание. Неужели от 16 апреля до сих пор не могли сделать в корпусном штабе насчет меня распоряжения? Холодные, равнодушные тираны! Вечером возвратился я в укрепление и получил приказание от фельдфебеля готовиться к смотру. Это результат давно ожиданной почты и с таким трепетом ожиданной Свободы. Тяжело, невыразимо тяжело! Я одурею, наконец, от этого бесконечного ожидания.
Как быстро и горячо исполняется приказание арестовать, так, напротив, вяло и холодно исполняется приказание освободить. А воля одного и того же лица. Исполнители одни и те же. Отчего же эта разница? В 1847 году в этом месяце меня на седьмые сутки доставили из Петербурга в Оренбург. А теперь, дай Бог, на седьмой месяц получить от какого-нибудь баталионного командира приказание отобрать от меня казенные вещи и прекратить содержание. Форма, но я не возьму себе в толк этой бесчеловечной формы.
19 [июня]
Вчера ушел пароход в Гурьев и привезет оттуда вторую роту и самого баталионного командира. А по случаю прибытия сюда этой важной особы остающаяся здесь рота, к которой принадлежу и я, готовится к смотру. Для этого важного грядущего события мне сегодня пригоняли амуницию. Какое гнусное грядущее важное событие! Какая бесконечная и отвратительная эта пригонка амуниции! Неужели и это еще не в последний раз меня выведут на площадь, как бессловесное животное напоказ? Позор и унижение! Трудно, тяжело, невозможно заглушить в себе всякое человеческое достоинство, стать навытяжку, слушать команды и двигаться, как бездушная машина. И это единственный, опытом дознанный способ убивать разом тысячу себе подобных. Гениальное изобретение! Делающее честь и христианству, и просвещению.
Странно, что даже благоразумные люди, как, например, наш лекарь Никольский, любят посмотреть, как вытягивает носок посиневший от напряжения человек. Не понимаю этого нечеловеческого наслаждения. А наш почтенный Гиппократ, несмотря на зной и холод, целые часы просиживает у калитки и любуется унижением себе подобного. Палач ты, как видно, по призванию и только по названию лекарь.
В детстве, сколько я помню, меня не занимали солдаты, как это обыкновенно бывае[т] с детьми. Когда же я начал приходить в возраст разумения вещей, во мне зародилась неодолимая антипатия к христолюбивому воинству. Антипатия усиливалась по ме[ре] столкновения моего с людьми сего христолюбивого звания. Не знаю, случай ли, или оно так есть в самой вещи, только мне не удалося, даже в гвардии, встретить порядочного человека в мундире. Если трезвый, то непременно невежда и хвастунишка. Если же хоть с малой искрою разума и света, то такж[е] хвастунишка и, вдобавок, пьяница, мот и распутник. Естественно, что антипатия моя возросла до отвращения. И нужно же было коварной судьбе моей так ядовито, злобно посмеяться надо мною, толкнув меня в самый вонючий осадок этого христолюбивого сословия. Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня удачнее казни нельзя было бы придумать, как сослав меня в Отдельный Оренбургский корпус солдатом. Вот где причина моих невыразимых страданий. И ко всему этому мне еще запрещено рисовать. Отнято благородней[шу]ю часть моего бедного существования. Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного, нечеловеческого приговора. А бездушные исполнители приговора исполнили его с возмутительною точностию.
Август-язычник, ссылая Назона к диким гетам, не запретил ему писать и рисовать. А христианин Н[иколай] запретил мне то и другое. Оба палачи. Но один из них палач-христианин! И христианин девятнадцатого века, в глазах которого выросло огромнейшее государство в мире, выросло на началах Христовой заповеди. Флорентинская республика – полудикая, исступленная средневековая христианка, но все-таки как материальная христианка она поступила с своим строптивым гражданином Дантом Альгиери. Боже меня сохрани от всякого сравнения себя с этими великомучениками и светочами человечества. Я только сравниваю материального грубого язычника и полуозаренную средневековую христианку с христианином девятнадцатого века.
Не знаю наверное, чему я обязан, что меня в продолжение десяти лет не возвели даже в чин унтер-офицера. Упорной ли антипатии, которую я питаю к сему привилегированному сословию? Или своему невозмутимому хохлацкому упрямству? И тому и другому, кажется. В незабвенный день объявления мне конфирмации, я сказал себе, что из меня не сделают солдата. Так и не сделали. Я не только глубоко, даже и поверхностно не изучил ни одного ружейного приема. И это льстит моему самолюбию. Ребячество – и ничего больше. Майор Мешков, желая задеть меня за живое, сказал однажды мне, что я, когда буду офицером, то не буду уметь в порядочную гостиную войти, если не выучусь, как следует бравому солдату, вытягивать носка. Меня, однако ж, это не задело за живое. И бравый солдат мне казался менее осла похожим на человека, почему я и мысли боялся быть похожим на бравого солдата.
Вторая, и не менее важная причина моего неповышения. Бездушному сатрапу и наперснику царя пригрезилось, что я освобожден от крепостного состояния и воспитан на счет царя, и в знак благодарности нарисовал карикатуру своего благодетеля. Так пускай, дескать, казнится неблагодарный. Откуда эта нелепая басня – не знаю. Знаю только, что она мне недешево обошлась. Надо думать, что басня эта сплелась на комфирмации, где в заключении приговора сказано: «Строжайше запретить писать и рисовать». Писать запрещено за возмутительные стихи на малороссийском языке. А рисовать – и сам верховный судия не знает, за что запрещено. А просвещенный блюститель царских повелений непоясненное в приговоре сам пояснил, да и прихлопнул меня своим бездушным всемогуществом. Холодное, развращенное сердце. И этот гнилой старый развратник пользуется здесь славою щедрого и великодушного благодетеля края. Как близоруки, или, лучше сказать, как подлы эти гнусные славильщики. Сатрап грабит вверенный ему край и дарит своим распутным прелестницам десятитысячные фермуары, а они прославляют его щедрость и благодеяния. Мерзавцы!
20 [июня]
Сегодня рота придет в Гурьев, а по случаю полноводия в Урале она пройдет прямо на Стрелецкую Косу и сегодня же сядет на пароход. Завтра рано пароход подымет якорь и послезавтра высадит роту в Новопетровской гавани. Держись, наша официя. Гроза, гроза ужасная близится. Баталионный командир, подобно тучегонителю Крониону, грядет на тебя во облаце мрачне, в том числе и на нас бессловесных. В ожидании сего грозного судии и карателя пропившиеся до снаги блажат и умоляют эскулапа выдумать и форменно засвидетельствовать их небывалые немощи душевные и телесные, а паче душевные, и тем спасти их от праведного суда гро[мо]носного Крониона. Но мрачный эскулап неумолим. И только нашего брата солдата, также пропившегося до снаги и не имеющего в чем явиться пред лицо отца-командира, Никольский кладет на койки и прописывает слабительное. Непопулярный эскулап наш намерен сделаться популярным коновалом. Сегодня не без видимого удовольствия сказал смотритель полугоспиталя, что на его попечение, т. е. продовольствие, прибыло семнадцать жильцов. Следовательно, рубль семь гривен в продолжение суток в кармане, не считая отопления и освещения. Не здесь ли скрывается и причина великодушия нашего эскулапа? Шепнуть разве Нагаеву и другим чающим и не могущим вымолить защиты у жестокосердого эскулапа?
К добру ли это я так сегодня расфантазировался? В прежние годы, в эти истинно критические дни, со мною этого не было. Не было, однако же, и того, не в похвалу будь сказано, чтобы я прятался под кровом стонов и воздыханий. В этом случае я никогда не искал медицинского пособия. С трепетным замиранием сердца я всегда фабрил усы, облачался в бронь и являлся пред хмельнобагровое лицо отца-командира сдать экзамен в пунктах, ружейных приемах и в заключение выслушать глупейшее и длиннейшее наставление о том, как должен вести себя бравый солдат и за что он обязан любить Бога, царя и своих ближайших начальников, начиная с дядьки и капрального ефрейтора.
Смешно. Потому смешно, что я освоился с этим отвратительным спектаклем. Но каково было прежде, когда я не умел, а должен был похоронить в самом себе всякое человеческое чувство, сделаться бездушным автоматом и слушать молча, не краснея и не бледнея, слушать нравственное назидание от грабителя и кровопийцы. Нет, тогда это не было смешно. Гнусно! Отвратительно! Дожду ли я тех блаженных дней, когда из памяти моей испарится это нравственное безобразие? Не думаю. Потому что медленно и глубоко врезывалось в нее это безобразие.
Странно еще вот что. Все это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания прошли, как будто не касаясь меня. Малейшего следа не оставили по себе. Опыт, говорят, есть лучший наш учитель. Но горький опыт прошел мимо меня невидимкою. Мне кажется, что я точно тот же, что был и десять лет тому назад. Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась. Хорошо ли это? Хорошо. По крайней мере, мне так кажется. И я от глубины души благодарю моего Всемогущего Создателя, что он не допустил ужасному опыту коснуться своими железными когтями моих убеждений, моих младенчески светлых верований. Некоторые вещи просветлели, округлились, приняли более естественный размер и образ. Но это следствие невозмутимо летущего старика Сатурна, а никак не следствие горького опыта.
Получивши от Кухаренка письмо с приложением 25 рублей, значит, с приложением весьма вещественным, я отблагодарил его письмом же, со вложением собственного поличия, и вторым письмом со вложением, еще менее вещественным. Со вложением небывалого рассказа мнимого варнака под названием «Москалева криныця». Я написал его вскоре по получении письма от батька отамана кошового. Стихи оказались почти одной доброты с прежними моими стихами. Немного упруже и отрывистее. Но это ничего, даст Бог, вырвуся на свободу, и они у меня потекут плавнее, свободнее и проще и веселее. Дождусь ли я этой хромой волшебницы свободы?
21 [июня]
Вперед, вперед, моя исторья, Лицо нас новое зовет.У кого что болит, тот о том и говорит. Сегодня вечером, возвращаясь из огорода в укрепление вместе с комендантом, он мне в сотый раз повторил со всевозможными подробностями историю о коварном друге своем, некоем полковнике Киреевском. Полковник этот Киреевский, как видно, птица высшего полета, а по словам коменданта, настоящий аристократ. А что он птица высокого полета, это я заключаю по тому, что он служил чиновником особых поручений при графе В. А. Перовском и был с ним в весьма близких отношениях. Следовательно, это не какая-нибудь шваль, а человек с достоинством. Потому что такой вельможа, как граф Перовский, какую-нибудь шваль к себе и в прихожую не допустит. А следущее дело показывает, что г[раф] П[еровский] весьма неразборчив на своих приближенных и приближает к своей высокой персоне именно шваль. Да еще какую шваль? Самую грязную, кабашную шваль, прикрытую полковничьим мундиром и 600-ми крепостных душ.
История такого содержания. Ираклий Александрович Усков (наш комендант), будучи хорошо знаком в Оренбурге с помянутым полковником и аристократом Киреевским, просил его, когда он выехал в Петербург, просил он его и лично и письмом из Новопетровского укрепления как в некотором роде химика и знатока фотографического дела. Просил выслать ему из Петербурга камеру со всем необходимым для фотографии. Киреевский изъявил (тоже письмом) самую обязательную готовность услужить другу. И потребовал на эту услугу 350 рублей серебром. Деньги тотчас же были посланы (в сентябре прошлого года). Получено также весьма дружеское письмо о получении этой суммы, с означением месяца и даже числа, в которое непременно получится помянутая камера с прибором и со всеми необходи[мы]ми химическими солями. Тем все и кончилось. Благородный, обязательный друг как в воду канул. Ираклий Александрович между бесконечными предположениями решил, что друг его отправился на пароходе Харона прогуляться в Елисейском парке. Другой причины его молчания и подозревать нельзя. Но чтобы убедиться в этой непреложной истине, я написал, по просьбе Ираклия Александровича, в Петербург приятелю своему Марковичу, чтобы он разведал и сообщил мне, что случилось с таким-то полковником Киреевским. От Марковича еще известие не получено. А из «Русского инвалида» видно, что обязательный друг мая 16 выехал из Петербурга в Москву. А из Оренбурга уведомляют коменданта, что полковник Киреевский принят новым генерал-губернатором Катениным, тоже в чиновники по особым поручениям, но по домашним обстоятельствам подал в отставку. Из всего этого оказывается, что помещик 600 душ крестьян, аристократ, наперсник г[рафа] П[еровского], наконец, полковник Киреевский – подлец и негоднейшая тряпка.
Ираклий Александрович дает мне форменную доверенность получить обратно от Киреевского эти деньги; я охотно готов услужить ему, если не удастся добром и миром, то, делать нечего, бесконечными стезями закона. Во всяком случае я буду очень рад, если удастся мне эта сомнительная операция.
Сегоднишним же числом мне хочется записать, или, как зоологи выражаются, определить еще одно отвратительное насекомое. Но как бы не напичкать мой журнал этой негодной тварью до того, что и порядочному животному в нем места не останется. А впрочем, ничего, это миниатюрное насекомое места немного требует. Это двадцатилетний юноша, сын статского советника Порциенка. Следовательно, тоже птица не низкого полета.
25 [июня]
Только что успел я написать «Следовательно, тоже птица не мелкого полета», как раздалося во всех концах огорода слово «пароход». Я, разумеется, бросил свое писание и побежал в крепость. С пароходом я ожидал оренбургской почты, а с почтой и свободы. Вышло, однако ж, совершенно противное тому, чего я ожидал. Пароход почты не привез, а следовательно, и волшебного, очаровательного слова. А вместо оного слова привез дело в виде рыжей весьма непривлекательной персоны, т. е. привез баталионного командира, первым делом которого было обегать казармы, надавать зубочисток фельдфебелям и прочим нижним чинам, даже до профоса. А ротным командирам и прочей официи, смотря по лицу и образу жизни, – приличное родительское наставление. И после этого нежного, грациозного вступления назначен был формальный смотр той несчастной роте, к которой и я имею несчастие принадлежать. Бедная рота всю ночь готовилась к этому истинно страшному суду и в пять часов утра 23 июня, умытая, причесанная, нафабренная, выстроилась на полянке, точно игрушка, вырезанная из картона. От 5-ти и до 7-ми часов, во ожидании судии праведного, рота равнялась. В 7 часов явился во всем своем грозном величии сам судия и испытывал, или, лучше сказать, пытал ее, несчастную, ровно до 10-ти часов. В заключение спектакля спросил претензию, ругнул в общих выражениях, посулил суд и розги и даже зеленую аллею, т. е. шпицрутены. Для всех гроза прошла, а для меня она еще только собиралась. В числе прочих конфирмованных должен был и я предстать после обеда в 5 часов на вторичное и еще горшее испытание. К этому вторичному испытанию я готовился довольно равнодушно как человек вполовину свободный. Но когда предстал пред неумолимого экзаменатора, куда что девалось. Ниже малейшей тени, ничего похожего на человека, вполовину свободного, во мне не осталось, та же самая мучительная хо[ло]дная дрожь пробежала по моему существу. То же самое, что и в прежние года, чувство – нет, не чувство, а мертвое бесчувствие – охватило меня при взгляде на эту деревянную выкрашенную фигуру. Одним словом, я превратился в ничто. Не знаю, на всех ли так сильно действует антипатия, как на меня? Экзамен повторился слово в слово, как и десять лет тому назад, четверти буквы ни прибавлено, ни убавлено. Зато и я а ни на йот не подвинулся на поприще военного просвещения. Упорство обоюдное и невозмутимое. По примеру прежних годов экзаменатор и блюститель нравственности спросил нас по ра[н]жиру, кто и за что удостоился нести сладкую сердцу обязанность солдата.
– Ты за что? – спросил он у первого.
– За утрату казенных денег, Ваше высокоблаго[ро]дие.
– Да, знаю, ты неосторожно загнул угол. Наде[ю]сь, вперед не будешь гнуть углы, – сказал он насмешливо и обратился к следующему.
– А ты за что?
– По воле родительницы, Ваше высокоблагородие.
– Хорошо. Надеюсь, вперед не будешь и… – и обратился к следующе[му].
– Ты за что?
– За буйные поступки, Ваше высокоблагородие.
– Хорошо. Надеюсь, вперед… и…
– Ты за что? – спросил он у следующего.
– По воле родителя, Ваше высокоблагородие.
– Надеюсь… а ты за что? – спросил он, обращаясь ко мне.
– За сочинение возмутительных стихов, В[аше] высокоблагородие.
– Надеюсь, вперед не будешь…
– А ты за что, за что? – спросил он у последнего. Последний отвечал, что тоже по воле родительницы, и, не выслушавши последнего, он обрат[ил] к нам сильную назидательную речь, замкнувшуюся весьма новой истиной, что за Богом молитва и за царем служба не пропадают.
В заключение церемонии спросил он у ротного командира, почему Порциенко не явился на испытание, на что тот отвечал, что Порциенко болен, т. е. пьян, и находится под сохранением у свинопаса. Все эти конфирмованные, так называемые господа дворяне, с которыми я теперь представлялся пред лицо отца-командира, все они люди замечательные по своим нравственным качествам, но последний субъект, под названием Порциенко, всех их перещеголял. Все их отвратительные пороки вместил в своей подлой двадцатилетней особе. Странное и непонятное для меня явление этот отвратительный юноша. Где и когда успел он так глубоко заразиться всеми гнусными нравственными болезнями? Нет мерзости, низости, на которую бы он не был способен. Романы Сю с своими отвратительными героями – пошлые куклы перед этим двадцатилетним извергом. И это сын статского советника, следовательно, нельзя предполагать, чтобы не было средств дать ему не какое-нибудь, а порядочное воспитание. И что же? Никакого. Хорош должен быть и статский советник. Да и вообще должны быть хороши отцы и матери, отдающие детей своих в солдаты на исправление. И для чего, наконец, попечительное правительство наше берет на себя эту неудобоисполнимую обязанность? Оно своей неуместной опекой растлевает нравственность простого хорошего солдата и ничего больше. Рабочий дом, тюрьма, кандалы, кнут и неисходимая Сибирь – вот место для этих безобразных животных, но никак не солдатские казармы, в которых и без их много всякой сволочи. А самое лучшее – предоставить их попечению нежных родителей, пускай спотешаются на старости лет своим собственным произведением. Разумеется, до первого криминального проступка, а потом отдавать прямо в руки палача.
До прибытия моего в Орскую крепость я и не воображал о существовании этих гнусных исчадий нашего православного общества. И первый этого разбора мерзавец меня поразил своим зловредным существованием. Особенно, когда мне сказали, что он тоже несчастный, такой же, как и я, разжалованный и, следовательно, мой товарищ по званию и по квартире, т. е. по казармам. Слово «несчастный» имело для меня всегда трогательное значение, пока я его не услышал в Орской крепости. Там оно для меня опошлело, и я до сих пор не могу возвратить ему прежнего значения. Потому что я до сих пор вижу только мерзавцев под фирмою несчастных.
По распоряжению бывшего генерал-губернатора, довольно видного политика Обручева, я имел случай просидеть под арестом в одном каземате с колодниками и даже с клейменными каторжниками и нашел, что к этим заклейменным злодеям слово «несчастный» более к лицу, нежели этим растленным сыновьям беспечных эгоистов родителей.
26 [июня]
Два дни уже прошло, как выехал от нас отец-командир наш, но я все еще не могу освободиться от тяжелого влияния, наведенного его коротким присутствием. Этот отвратительный смотр так плотно притиснул мои блестящие розовые предположения, так меня обескуражил, что если бы не Лазаревского письмо у меня в руках, то я бы совсем обессилел под гнетом этого тяжелого впечатления. Но слава Богу, что у меня есть этот неоцененный документ; значит, у меня есть канва, по которой я могу выводить самые прихотливые, самые затейливые арабески.
Надеждою живут ничтожные умы, – сказал покойник Гете. И покойный мудрец сказал истину вполовину. Надежда свойственна и мелким, и крупным, и даже самым материальным положительным умам. Это наша самая нежная, постоянная, до гробовой доски неизменная нянька-любовница. Она, прекрасная, и всемогущего царя, и мирового мудреца, и бедного пахаря, и меня, мизерного, постоянно лелеет доверчивое воображение и убаюкивает недоверчивый ум своими волшебными сказками, в которые всякий из нас так охотно верит. Я не говорю – безотчетно. Тот действительно ничтожный ум, который верит, что на вербе вырастут груши. Но почему же не верить мне, что я хотя к зиме, но непременно буду в Петербурге? Увижу милые моему сердцу лица, увижу мою прекрасную Академию, Эрмитаж, еще мною не виденный, услышу волшебницу оперу. О как сладко, как невыразимо сладко веровать в это прекрасное будущее. Я был бы равнодушный, холодный атеист, если бы не верил в этого прекрасного бога, в эту очаровательную надежду.
Материальное свое существование я предполагаю устроить так, разумеется, с помощию друзей моих. О живописи мне теперь и думать нечего. Это было бы похоже на веру, что на вербе вырастут груши. Я и прежде не был даже и посредственным живописцем. А теперь и подавно. Десять лет неупражнения в состоянии сделать и из великого виртуоза самого обыкновенного кабашного балалаешника. Следовательно, о живописи мне и думать нечего. А я думаю посвятить себя безраздельно гравюре акватинта. Для этого я полагаю ограничить свое материальное существование до крайней возможности и упорно заняться этим искусством. А в промежутке времени делать рисунки сепиею с знаменитых произведений живописи, рисунки для будущих эстампов. Для этого, я думаю, достаточно будет двух лет прилежного занятия. Потом уеду на дешевый хлеб в мою милую Малороссию и примуся за исполнение эстампов, и первым эстампом моим будет «Казарма» с картины Теньера. С картины, про которую говорил незабвенный учитель мой, великий Карл Брюллов, что можно приехать из Америки, что[бы] взглянуть на это дивное произведение. Словам великого Брюллова в этом деле можно верить.
Из всех изящных искусств мне теперь более всего нравится гравюра. И не без основания. Быть хорошим гравером, значит быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе. Значит быть распространителем света истины. Значит быть полезным людям и угодным Богу. Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера. Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галереях без твоего чудотворного резца? Божественное призвание гравера!
Кроме копий с мастерских произведений, я думаю со временем выпустить в свет в гравюре акватинта и собственное чадо – «Притчу о блудном сыне», приноровленную к современным нравам купеческого сословия. Я разделил эту поучительную притчу на двенадцать рисунков они уже почти все сделаны на бумаге. Но над ними еще долго и прилежно нужно работать, чтобы привести их в состояние, в котором они могут быть переданы меди. Общая мысль довольно удачно приноровлена к грубому нашему купечеству. Но исполнение ее оказалось для меня не по силе. Нужна ловкая, меткая, верная, а главное – не карикатурная, скорее драматический сарказм, нежели насмешка. А для этого нужно прилежно поработать.) И с людьми сведущими посоветоваться. Жаль, что покойник Федотов не наткнулся на эту богатую идею, он бы из нее выработал изящнейшую сатиру в лицах для нашего темного полутатарского купечества.
Мне кажется, что для нашего времени и для нашего среднего полуграмотного сословия необходима сатира, только сатира умная, благородная. Такая, например, как «Жених» Федотова или «Свои люди – сочтемся» Островского и «Ревизор» Гоголя. Наше юное среднее общество, подобно ленивому школьнику, на складах остановилось и без понуканья учителя не хочет и не может перешагнуть через эту бестолковую тму-мну. На пороки и недостатки нашего высшего общества не стоит обращать внимания. Во-первых, по малочисленности этого общества, а во-вторых, по застарелости нравственных недугов, а застарелые болезни если и излечиваются, то только героическими средствами, кроткий способ сатиры тут недействителен. Да и имеет ли какое-нибудь значение наше маленькое высшее общество в смысле национальности? Кажется, никакого. А средний класс – это огромная и, к несчастию, полуграмотная масса, это половина народа, это сердце нашей национальности, ему-то и необходима теперь не суздальская лубошная притча о блудном сыне, а благородная, изящная и меткая сатира. Я считал бы себя счастливейшим в мире человеком, если бы удался мне так искренно, чистосердечно задуманный мой бессознательный негодяй, мой блудный сын. Свежо предание, а верится с трудом. Мне здесь года два тому назад говорил Н. Данилевский, человек, стоящий веры, что будто бы комедия Островского «Свои люди – сочтемся» запрещена на сцене по просьбе московского купечества. Если это правда, то сатира, как нельзя более, достигла своей цели. Но я не могу понять, что за расчет правительства покровительствовать невежество и мошенничество. Странная мера!
27 [июня]
От купечества перехожу к офицерству. Переход не резкий, даже гармонический. Эта привилегированная каста также принадлежит среднему сословию. С тою только разницею, что купец вежливее офицера. Он офицера называет: вы, ваше благородие. А офицер его называет: эй ты, борода. Их, однако ж, нисколько не разъединяет это наружное разъединение, потому что они по воспитанию родные братья. Разница только та, что офицер вольтерьянец, а купец старовер. А в сущности одно и то же. Сегодня к вечеру появилися комары на огороде, и я, чтобы избавиться этих несносных насекомых, ушел на ночь в укрепление. Но увы! Неумолимая Немезида преследует меня на каждом шагу. Избегая комаров, я наткнулся на шмелей. С подобающим почтением проходя мимо офицерского флигеля, я услышал новую для меня песню, начинающуюся так:
Коврики на коврики И шатрики на шатрики.Далее я ничего не мог расслышать, потому что певец слишком густо забасил и потому что пьяный Кампиньони, инженерный офицер и отчаянный пьяница, выбежал на площадь, не знаю для какой надобности, и, увидя меня, вздумал оказать мне небольшую услугу, покровительство, познакомив меня с вновь прибывшими офицерами, с лихими ребятами, по его выражению. Для этого схватил он меня за рукав и потащил в коридор. Вновь прибывшие лихие ребята сидели и лежали в одних красных рубахах на разостланной кошме, и перед ними красовалась полуведерная бутыль сивухи. Живая сцена из «Двомужницы» князя Шаховского. Я, чтобы не дополнить собою группы волжских разбойников, вырвался из объятий покровителя и выбежал на площадь. Покровитель выбежал за мною, закричал дежурного унтер-офицера по роте и велел взять меня на гауптвахту за лично нанесенную дерзость офицеру. Приказание офицерское было исполнено в точности. После пробития зори дежурный по караулам доложил коменданту о вновь прибывшем арестанте, и комендант сказал: «Пускай проспится». Итак, я, избегая кровопийц комаров, отдан был на терзание клопам и блохам. Как после этого не верить в предопределение?
Сегодня новый дежурный по караулам разъяснил темное происшествие коменданту, и я милостиво освобожден от беспощадных инквизиторов. Записывая в журнал эту весьма обыкновенную в моем положении трагишутку, я в глубине души прощаю моих гонителей и только молю Всемогущего Бога избавить скорее от этих получеловеков.
Сегодня ожидают пароход с почтою из Гурьева. И никто его не ожидает с таким трепетным нетерпением, как я. Что, если не привезет он мне так долго ожидаемой свободы? Что я тогда буду делать? Придется, во избежание гауптвахты с блохами и клопами, знакомиться со вновь прибывшими офицерами и в ожидании будущих благ пьянствовать с ними. Мрачная, отвратительная перспектива. А если, паче чаяния, привезет эту ленивую колдунью свободу? О, какая радостная, какая светлая перспектива! Иду в укрепление и, на всякий случай, упакую в чувал (торба) мою мизерию, авось либо и совершится.
28 [июня]
Совершилось, только совершенно не то, чего я ожидал. А совершилась мерзость, которую нельзя было предполагать даже в совершителе ее, мерзавце Кампиньони. Пошел я вчера в укрепление, во ожидании парохода, паковать свою мизерию. И как это обыкновенно бывает, когда человек ожидает чего-нибудь хорошего, то на этом хорошем и хорошие строит планы. Так и я, во ожидании вестника благодатной свободы, развернул ковер-самолет, и еще одна, одна только минута, и я очутился бы на седьмом Магометовом небе. Но, не доходя укрепления, [встретился] мне посланный за мною вестовой от коменданта. «Не пришел ли пароход?» – спрашиваю я у вестового. «Никак нет», – отвечает он. «Какая же встретилась во мне надобность коменданту?» – спросил я сам себя и прибавил шагу. Прихожу. И комендант, вместо всякого приветствия, молча подает мне какую-то бумагу. Я вздрогнул, принимая эту таинственную бумагу как несомненную вестницу свободы. Читаю и глазам не верю. Это рапорт на имя коменданта от поручика Кампиньони о том, что я в нетрезвом виде наделал ему дерзости матерными словами. В чем свидетельствуют и вновь прибывшие офицеры. И в заключении рапорта он просит и требует поступить со мной по всей строгости закона, то есть немедленно произвести следствие. Я остолбенел, прочитавши эту неожиданную мерзость. «Посоветуйте, что мне делать с этой гадиной?» – спросил я коменданта, придя в себя. «Одно средство, – сказал он, – просите прощения или, по смыслу дисциплины, вы арестант. Вы имеете свидетелей, что вы были трезвы, а он имеет свидетелей, что вы его ругали». «Я приму присягу, что это неправда», – сказал я. «А он примет присягу, что правда. Он офицер, а вы все еще солдат». У, как страшно отозвалось во мне это, почти забытое, слово. Делать нечего, спрятал гордость в карман, напялил мундир и отправился просить прощения. Простоял я в передней у мерзавца битых два часа. Наконец, он допустил меня к своей опохмелившейся особе. И после многих извинений, прошений, унижений даровано мне было прощение с условием сейчас же послать за четвертью водки. Я послал за водкой, а он пошел к коменданту за рапортом. Принесли водку. А он принес рапорт и привел своих благородных свидетелей.
«Что, батюшка, – сказал один из них, подавая мне пухлую, дрожащую с похмелья руку, – вам не угодно было познакомиться с нами добровольно, как следует с благородными людьми, так мы вас заставили». На эту краткую и поучительную речь уже пьяная компания захохотала, а я чуть-чуть не проговорил: мерзавцы! да еще и патентованные мерзавцы.
29 [июня]
«Широкий бытый шлях из Раю, а в Рай узенька стежечка, та й та колючим терном поросла», – говори[ла] мне, еще ребенку, одна замиравшая старуха. И она говорила истину. Истину, смысл которой я теперь только вполне разгадал.
Пароход из Гурьева пришел сегодня и не привез мне совершенно ничего, ни даже письма. Писем, впрочем, я не ожидаю, потому что верные друзья мои давно уже не воображают меня в этой отвратительной конуре. О мои искренние, мои верные друзья! Если бы вы знали, что со мною делают на расставаньи десятилетние палачи мои, вы бы не поверили, потому что я сам едва верю в эти гнусности. Мне самому это кажется продолжением десятилетнего отвратительного сна. И что значит эта остановка? Никак не могут себе ее растолковать. Мадам Эйгерт от 15 мая из Оренбурга поздравляет меня с свободой. А свобода моя где-нибудь с дельцом-писарем в кабаке гуляет. И это верно, верно потому, что ближайшие мои мучители смотрами, ученьями, картами и пьянством проклажаются, а письменные дела ведает какой-нибудь писарь Петров, разжалованный в солдаты за мошенничество. Так принято искони, и нарушить священный завет отцов из-за какого-то рядового Шевченка было бы противно и заповеди отцов, и правилам военной службы.
На сердце страшная тоска, а я себя шуточками спотешаю. А все это делает со мною ветреница надежда. Не вешаться же и в самом деле из-за какого-нибудь пьяницы отца-командира и достойного секретаря его.
Сегодня празднуется память величайших двух провозвестников любви и мира. Великий в христианском мире праздник. А у нас колоссальнейшее пьянство по случаю храмового праздника.
О святые, великие, верховные апостолы, если бы вы знали, как мы запачкали, как изуродова[ли] провозглашенную вами простую, прекрасную, светлую истину. Вы предрекли лжеучителей, и ваше пророчество сбылось. Во имя святое, имя ваше так называемые учители вселенские подрались, как пьяные мужики, на Никейском вселенском соборе. Во имя ваше папы римские ворочали земным шаром и во имя ваше учредили инквизицию и ужасное автодафе. Во имя же ваше мы поклоняемся безобразным суздальским идолам и совершаем в честь вашу безобразнейшую бакханалию. Истина стара и, следовательно, должна быть понятна, вразумительна, а вашей истине, которой вы были крестными отцами, минает уже 1857 годочек. Удивительно, как тупо человечество.
30 [июня]
Чтобы придать более прелести моему уединению, я решился завестись медным чайничком. И эту мысль привел я в исполнение только вчера вечером, и то случайно. К тихому прекрасному утру на огороде прибавить стакан чаю – мне казалося это роскошью позволительною. С самого начала весны меня преследует эта милая, непышная затея. Но я никак не мог привести ее в исполнение по неимению здесь в продаже такой затейливой вещицы. Только вчера вечером пошел я к Зигмонтовским (поверенный винной конторы и отставной чиновник 12 класса) и, проходя мимо кабака, увидел я оборванного, но трезвого денщика одного из вновь прибывших офицеров с медным чайником в руке такой величины, какой мне нужно.
«Не продаешь ли чайник?» – спросил я его. «Продаю», – отвечает он. «Не хапаный ли?» – «Никак нет-с. Сами барин велели продать. Они думают самовар завести». – «Хорошо, я спрошу. А что стоит?» – «Рубль серебра». «Полтину серебра», – сказал я, сколько мог хладнокровнее, и пошел своей дорогой.
Едва успел я сделать несколько шагов, как он догнал меня и без торгу вручил мне давно желанную посуду. А денщик, получивши полтину серебра, отправился прямо в кабак и через минуту вышел из него со штофом в руке и направился прямо к офицерским квартирам. «Туда и дорога», – подумал я. Проведя вечер в сообществе Телемона и Бавкиды (так я в шутку называю Зигмонтовских), по дороге зашел я к маркитанту, взял у него полфунта чаю, фунт сахару и сегодня в 4 часа утра сибаритствую себе на огороде и вписываю в свой журнал происшествие вчерашнего вечера, благословляя судьбу, пославшую мне медный чайник.
Собираясь путеплавать по Волге от Астрахани до Нижнего, я обзавелся чистой тетрадью для путевого журнала и пологом от комаров, которые неутомимо преследуют путешественника от устьев Волги до самого Саратова. Запасаясь этими необходимыми вещами, мне и в ум не приходил медный чайник. И вчера только, спасибо старику Зигмонтовскому, он объяснил мне важность этой нехитрой посуды во время плавания на речной воде, где необходим крепкий чай во избежание поноса и просто для препровождения времени, как он выразился в заключение. И многим еще кое-чем советовал он мне запастись в Астрахани на дорогу. Но это все лишнее. Я отправлюсь, да не на пароходе, а на одной из барок, буксируемых пароходом, просто отставным солдатом.
Странно, что меня считают здесь все, в том числе и Зигмонтовские, темным богачом. Это, вероятно, потому, что если я делаю долги, разумеется, ничтожные, то в сказанный строк аккуратно их выплачиваю, не прибегая к помощи Израиля, и не закладываю последней рубашки, как это делают многие из офицеров. Когда я сказал Зигмонтовским, что весь мой капитал состоит из 100 рублей серебра, на который я, кроме дорожных издержек, намерен еще сделать в Москве необходимое платье, то они в один голос назвали меня Плюшкиным. Я не нашел нужным разочаровывать их своей нищетою и расстался с ними, как настоящий богач.
Странные старые люди эти Зигмонтовские! Бездетные, старые, одинокие, имеют обеспечивающее даже прихотливую старость состояние, вздумали поселиться в этой безводной, бесплодной пустыне. И добро бы на отдых. Нет, он взял обязанность почти цаловальника. Я думаю, что это необходимая потребность усвоенной в юности физической деятельности или просто жажда к приобретению. Последнее, может быть, только вполовину, потому что в нем незаметно скряжничества, нередко сопровождающего в могилу одинокую, беспомощную старость. Она, т. е. Зигмонтовская, мне очень нравится; это добродушно улыбающаяся, гостеприимная кубическая старушка, бывшая немка, а теперь православная. Он тоже добродушный старик, но пренаивный и самый безвредный лгунишка. Например, он очень простодушно и каждый раз с новыми вариациями рассказывает, какие он прошел мытарства, пока достиг настоящего звания. Происхождение свое ведет он от какого-то короля польского Сигизмонда, вероятно, Третьего. О ближайших предках он не упоминает, равно как и о виновнике собственного существования. Детство тоже покрыто мраком неизвестности. Первую часть юности провел он в звании домашнего учителя у известного табачника Онисима Головкина в Петербурге. И в этот-то период его жизни случилось с ним таинственное происшествие, которое разом поставило его на ноги. Происшествие такого сорта. Однажды ночью на улице, ему кажется, что на Литейной, но за достоверность не ручается, схватывают его два гайдука, сажают в карету, завязывают глаза, везут, везут и, наконец, приводят прямо в роскошнейший будуар, надо думать, какой-нибудь графини или княгини. Является, наконец, и таинственная обитательница будуара, вся в дезабилье (собственное выражение), только лицо покрыто маской. По совершении таинства любви, завязывают ему опять глаза, сажают в карету, привозят на то самое место, где взяли, и один из гайдуков вручает ему пачку ассигнаций – не более, не менее как 20 тысяч. Долго он думал, какую основать будущность на этом незыблемом фундаменте и, хладнокровно отринув почести и злато, вступил (внемля внутреннему призванию) в скромный кружок поклонников Мельпомены, где имел блестящий успех в ролях Эдипа, Фингала, Димитрия Донского и в «Ябеде» Капниста – к несчастию, не помнит, в какой именно роли. Но по проискам знаменитого учителя Каратыгина, Яковлева, должен был оставить избранное поприще и вступить в морскую службу, разумеется, лейтенантом. Здесь он совершил плавание (два раза) вокруг света и один только раз к Южному полюсу вместе с Лазаревым. И что во время этих плаваний он узнал досконально, откуда добывается деревянное масло, неправильно называемое прованским. Вот где его родник. Между Ливорно и Сингапуро (удивительное знание географии!) есть остров Прованс. А на этом острове Провансе растет огромное масличное дерево, из которого и выпускают масло, как у нас, например, весною сок из березы. Островом и деревом владеет англичанин, француз и итальянец, а мы и немцы уже от них получаем этот дорогой продукт. Из корабля переселился он в земский одесский суд, неизвестно в каком ранге. Тут он вел жизнь отчаянно[го] кутилы, попал в сонмище декабристов и был сослан бессрочным арестантом в крепость Измаил, где в скором времени сделался правой рукой коменданта и по стечению удивительных обстоятельств был переведен в город Астрахань в звании квартального надзирателя. Но не всегда чистые обязанности по долгу этого звания заставили его подать в отставку и принять от питейной конторы звание поверенного в Новопетровском укреплении, где его окрестили именем спиртомора.
Кампиньони, мой покровитель, не меньший враль, но вредный и бессовестный. Заврался однажды до того, что назвал себя племянником графа Закревского, московского г[енерал]-губернатора, и кандидатом Дерптско[го] университета. Чтобы разом озадачить и уничтожить дерзкого лгунишку, Зигмонтовский разом махнул в ротмистры лейб-гусар и в ближайшие родственники фельдмаршалу графу Гудовичу. Знай наших!
Но несмотря на этот невинный недостаток, он все-таки добрый и наивный старик. А она также добрая, кроткая, невинная говорунья и немножко сентиментальная старушка. И я их не иначе называю, как Телемон и Бавкида. Они получают вместе с Никольским «Петербургские ведомости». И я частенько приношу им с огорода укроп, петрушку и тому подобный злак, пью чай, прочитываю фельетон и выслушиваю волшебные похождения наивного Телемона, за что и пользуюсь полной доверенностью Бавкиды.
1 июля
Сегодня послал я с пароходом письмо М. Лазаревскому. Быть может, последнее из душной тюрьмы – дал бы Бог. Я много виноват пред моим нелицемерным другом. Мне бы следовало отвечать ему на письмо его от 2 мая тотчас же по получении, т. е. 3 июня. Но я в ожидании радостной вести из Оренбурга, которую хотелось мне сообщить ему первому, прождал напрасно целый месяц и все-таки должен был ему написать, что я не свободен, и до 20 июля, а может быть и августа, такой же точно солдат, как и прежде был, с тою только разницею, что мне позволено нанимать за себя в караул и ночевать на огороде, чем я и пользуюсь с благодарностью. До 20 июля я удалил от себя всякие возмутительные помышления. И наслаждаюсь теперь по утрам роскошью совершенного уединения и даже стаканом, правда, неказистого, но все-таки чая. Если бы еще хорошую сигару вот[к]нуть в лицо, такую, например, как прислал мне 25 штук мой добрый друг Лазаревский, тогда бы я себя легко мог вообразить на петергофском празднике. Но это уж слишком. А сегодня действительно в Петергофе праздник. Великолепный царский праздник! Когда-то давно, в 1836 году, если не ошибаюсь, я до того был очарован рассказами об том волшебном празднике, что, не спросясь хозяина (я был тогда в ученьи у маляра, или так называемого комнатного живописца, некоего Ширяева, человека грубого и жестокого) и пренебрегая последствиями самовольной отлучки (я знал наверное, что он меня не отпустит), с куском черного хлеба, с полтиною меди в кармане и в тиковом халате, какой обыкновенно носят ученики-ремесленники, убежал с работы прямо в Петергоф на гулянье. Хорош, должно быть, я был тогда. Странно, однако ж, мне и вполовину не понравился тогда великолепный Самсон и прочие фонтаны и вообще праздник, против того, что мне об нем наговорили. Слишком ли сильно было воспламенено воображение рассказами, или я просто устал и был голоден. Последнее обстоятельство, кажется, вернее. Да ко всему этому я еще увидел в толпе своего грозного хозяина с пышною своею хозяйкой. Это-то последнее обстоятельство вконец помрачило блеск и великолепие праздника. И я, не дождавшись иллюминации, возвратился вспять, совершенно не дивяся бывшему. Проделка эта сошла с рук благополучно. На другой день нашли меня спящим на чердаке, и никто и не подозревал о моей самовольной отлучке. Правду сказать, я и сам ее считал чем-то вроде сновидения.
Во второй раз, в 1839 году, посетил я петергофский празд[н]ик совершенно при других обстоятельствах. Во второй раз, на Бердовском пароходе, сопровождал я в числе любимых учеников, Петровского и Михайлова, сопровождал я своего великого учителя Карла Павловича Брюллова. Быстрый переход с чердака грубого мужика-маляра в великолепную мастерскую величайшего живописца нашего века. Самому теперь не верится, а действительно так было. Я из грязного чердака, я, ничтожный замарашка, на крылья[х] перелетел в волшебные залы Академии художеств. Но чем же я хвалюся? Чем я доказал, что я пользовался наставлениями и дружеской доверенностью величайшего художника в мире? Совершенно ничем. До его неуместной женитьбы и после уместного развода я жил у него на квартире, или, лучше сказать, в его мастерской. И что же я делал? Чем занимался я в этом святилище? Странно подумать. Я занимался тогда сочинением малороссийских стихов, которые впоследствии упали такой страшной тяжестью на мою убогую душу. Перед его дивными произведениями я задумывался и лелеял в своем сердце своего слепца Кобзаря и своих кровожадных гайдамаков. В тени его изящно-роскошной мастерской, как в знойной дикой степи на[д]днепровской, передо мною мелькали мученические тени наших бедных гетманов. Передо мной расстилалася степь, усеянная курганами. Передо мной красовалась моя прекрасная, моя бедная Украина во всей непорочной меланхолической красоте своей. И я задумывался, я не мог отвести своих духовных очей от этой родной чарующей прелести. Призвание, и ничего больше.
Странное, однако ж, это всемогущее призвание. Я хорошо знал, что живопись – моя будущая профессия, мой насущный хлеб. И вместо того чтобы изучить ее глубокие таинства, и еще под руководством такого учителя, каков был бессмертный Брюллов, я сочинял стихи, за которые мне никто ни гроша не заплатил и которые, наконец, лишили меня свободы, и которые, несмотря на всемогущее бесчеловечное запрещение, я все-таки втихомолку кропаю. И даже подумываю иногда о тиснении (разумеется, под другим именем) этих плаксивых, тощих детей своих. Право, странное это неугомонное призвание.
Не знаю, получу ли я от Кухаренка здесь его мнение насчет моего последнего чада («Москалева криныця»). Я дорожу его мнением чувствующего, благородного человека и как мнением неподдельного, самобытного земляка моего. Жаль мне, что я не могу теперь посетить его на его раздольной Черномории. А как бы хотелось. Но что делать. Сначала уплачивается долг, потом удовлетворяется голодная нужда, а на остатки покупается удовольствие. Так, по крайней мере, делают порядочные люди. А я и тенью боюся быть похожим [на] безалаберного разгильдяя. Кутнул и я на свой пай когда-то. Довольно.
Пора, пора душой смириться, Над жизнью нечего глумиться, Отведав горького плода.В прошлом году получалась здесь комендантом «Библиотека для чтения». Бывало, хоть перевод Курочкина с Беранже прочитаешь, все-таки легче станет. А нынче, кроме фельетона «П[етербургских] ведомостей», совершенно ничего нет современно литературного. Да и за эту тощую современность нужно платить петрушкою и укропом. Хоть бы редька скорее вырастала, а то совестно уже стало потчевать стариков одним и тем же продуктом.
2 [июля]
Две случайно сделанные мною вещи так удачно, как редко удаются произведения глубоко обдуманные. Первая вещь – это сей журнал, который в эти томительные дни ожиданий сделался для меня необходим, как страждущему врач. Вторая вещь – это медный чайник, который делается необходимым для моего журнала, как журнал для меня. Без чайника, или без чая, я как-то лениво, бывало, принимался за сие рукоделье. Теперь же, едва успею налить в стакан чай, как перо само просится в руку. Самовар – тот шипением своим возбуждает к деятельности, это понятно. Правда, я не имел случая испытать на себе это благодетельное влияние самовара. Но имел случай существенно убедиться в этом волшебном влиянии на других. А именно. Был у меня во время оно приятель в Малороссии, некто г. Афанасьев, или Чужбинский. В 1846 году судьба столкнула нас в «Цареграде», не в Оттоманской столице, а в единственном трактире в городе Чернигове. Меня судьба забросила туда по делам службы, а его по непреодолимой любви к рассеянности или, как он выражался, по влечению сердца. Я знал его как самого неистового и неистощимого стихотворца, но не знал скрытого механизма, которым приводилось в движение это неутомимое вдохновение. И тогда только, когда поселились мы, во избежание лишних расходов, во-первых, а во-вторых, чтобы, как товарищи по ремеслу, созерцать друг друга во все минуты дня и ночи, тогда только узнал я тайную пружину, двигавшую это истинно неутомимое вдохновение. Пружина эта была шипящий самовар. Сначала я не мог взять в толк, почему мой товарищ по ремеслу не спросит, когда ему вздумается, стакан чая из буфета, как я это делаю, а непременно велит подать самовар. Но когда я рассмотрел приятеля поближе, то оказалось, что он, собственно, не самовар велел подавать, а велел подавать вдохновение, или пружину, приводящую в движение эту таинственную силу. Я прежде удивлялся, откуда, из какого источника вытекают у него такие громадные стихотворения, а оказалось, что ларчик просто отворялся.
Мы прожили с ним вместе весь Великий пост, и не оказалось в городе не только барышни, дамы, даже старухи, которой бы он [не написал] в альбом не четырехстишие какое-нибудь (он мелочь презирал), а полную увесистую идиллию. Если же альбома не обреталось у какой-нибудь очаровательницы, как, например, у старушки Дороховой, вдовы известного генерала 1812 года, то он преподносил ей просто на шести и более листах самое сентиментальное послание.
Но это все ничего. Кто из нас без слабостей? А главное дело в том, что когда пришлося нам платить дань обладателю «Цареграда», то у товарища по ремеслу не оказалось наличной дани. И я должен был заплатить, не считая другие потребления, но, собственно, за локомотив, приводивший в движение вдохновение, 23 рубля серебром, которые, несмотря на дружеское честное слово, и до сих пор не получил. Вот почему я существенно узнал действие шипящего самовара на нравственны[е] силы человека.
В моем положении естественно, что я постоянно нуждался в копейке. И я писал ему в Киев два раза о помянутых 23 руб., но он даже стихами не ответил. Я так и подумал, что увы! Россия лишилась второго Тредьяковского. Но я ошибся. Прошлой зимой в фельетоне «Р[усского] инвалида» вижу на бесконечных столбцах бесконечное малороссийское стихотворение, по случаю, не помню, по какому именно случаю, – помню только, что отвратительная и подлая лесть русскому оружию. Ба, думаю себе, не мой ли это приятель так отличается. Смотрю, действительно он, А. Чужбинский. Так ты, мой милый, жив и здоров, да еще и подличать научился. Желаю тебе успеха на избранном поприще, но встретиться с тобою не желаю.
Не помню, кто именно, а какой-то глубокий сердцеведец сказал, что вернейший дружбометр есть деньги. И он сказал справедливо. Истинная, настоящая дружба, которая высказывается только в критических, трудных случаях, и она даже требует этого холодного мерила. Самый живой, одушевленный язык дружбы – это деньги. И чем более нужда, тем дружба искреннее, прогоняющая эту голодную ведьму. Я был так счастлив в своей, можно сказать, коловратной жизни, что неоднократно вкушал от плода этого райского дерева. И в настоящее, мне кажется, самое критическое, время я получаю 75 рублей – за что? За какое одолжение? Мы с ним виделись всего два раза. Первый раз в Орской крепости; второй раз в Оренбурге. Пошли, Господи, всем людям такую дружбу и такого друга, как Лазаревский. Но искорени эти плевелы, возросшие на ниве благороднейшего чувства. Искорени друзей, подобных Афанасьеву, Бархвицу и Апрелеву. Положим, это дрянь, мелочь, и Бархвиц и Афанасьев, но Апрелев – это крупный, видный человек. Это не какой-нибудь чугуевский улан или забулдыга линейный поручик, а ротмистр кавалергардского ее величества полка. Сибарит и обжора, известный в столице. Это, как говорится, видное лицо. С этим видным лицом познакомился я в 1841 году у одного земляка моего, у некоего Соколовского. Первое впечатление было в его пользу. Молодой, свежий, румяный толстяк (я, не знаю почему, особенно верую в доброкачественнос[т]ь подобного объема и колорита людей). И чтобы довершить свое очарование, я вообразил его еще и либералом. Вот мы знакомимся, потом дружимся, переходим на «ты» и, наконец, входим в финансовые отношения. Он мне заказывает свой портрет. И я ему позволяю приезжать ко мне на сеансы с собственным фриштиком, состоящим из 200 устриц, четверти холодной телятины, 6 бутылок портеру и 1 бут. джину. Все это съедалось и выпивалось в продолжение сеанса самым дружеским образом. Третий сеанс начался у нас на «ты» и кончился шампанским. Я был в восторге от друга-аристократа. Кончились сеансы, отправился я к другу за мздой; друг занят, никого не принимает; другой раз то же самое, третий, четвертый, и так до десяти раз – все то же самое. Я плюнул другу на порог да и ходить перестал. Таких друзей у меня было много и, как на подбор, все люди военные. Я уверен, что если бы Афанасьев не был прежде уланом, он мог бы писать стихи без помощи самовара, и мы бы с ним расстались иначе.
Вера без дел мертва есть. Так и дружба без существенных доказательств – пустое, лукавое слово. Блаженны, стократ блаженны друзья, которых жизнь была осенена радужным сиянием улыбающегося счастия, и голодная нужда своим железным посохом испытания ни разу не постучала в дверь их бескорыстной дружбы. Блаженны, они и в могилу сойдут, благословляя друг друга.
3 [июля]
Сегодня во сне видел я Лазаревского. Будто бы он приехал за мною в укрепление и, несмотря на мои доводы о невозможности оставить мне укрепление без пропуска, увез меня насильно, не позволив проститься даже с Мостовским. Вскоре очутились мы в каком-то русско-татарско-немецком городе, вроде Астрахани. И верблюды, и [а]нглизированные лошади по улице ходят, и фонтаны бьют, и кумыс продают, и папиросная фабрика, и театр, наконец – вечер, ночь. Лазаревский скрылся, ищу его, спрашиваю и просыпаюся. Проснувшися, я обрадовался, что это только сон и что я, слава Богу, не дезертир. А иначе опять бы меня вооружили лет на десять за престол и отечество. Нужно будет зайти к сотнику Чеганову посмотреть в сонник, что значит видеть во сне самовольную отлучку.
Сегодня, т. е. 4 июля, когда я, по обыкновению, встал в три часа, согрел свой чайник, налил стакан чая и взялся за перо, начали собираться дождевые тучки. А через несколько минут пошел тихий, меланхолический дождик, и я, оставив всякое писание и мечтание, любуюся этим прекрасным и чрезвычайно редким здесь явлением. Ветер из Астрахани, т. е. норд-вест. Можно надеяться, что дождик усилится и продлится за полдень. Какая была бы благодать для этой безводной пустыни.
4 [июля]
Ночевал на огороде, в комендантской беседке. Это моя теперишняя резиденция. Вскоре по пробитии вечерней зори пошел тихий дождик, и по этому случаю я ранее обыкновенного лег спать. Под тихий гармонический шум падающих на крышу беседки капель дождя я сладко задремал. И видел во сне покойника Карла Павловича Брюллова и с ним вместе товарища своего Михайлова. Сначала в какой-то огромной галерее, в которой, кроме какого-то эскиза Гвидо Рени, ничего не было, и который Михайлов собирался копировать. Потом перешли мы в мастерскую, что в портике, вместе с Карлом Павловичем. Тут тоже ничего не было, кроме большого, во всю залу натянутого и загрунтованного полотна, как это делается для декораций, и к стене приклеенной грубо раскрашенной литографии Калама с подписью Рио-Джанейро. Потом Карл Павлович пригласил нас на Лукьяновский ростбиф, как это бывало во времена незабвенные. Но ударил гром, и я проснулся. Пошел проливной дождь. Затворив двери и окна беседки, я снова уснул. Во второй сеанс увидел я в Москве Михайла Семеновича Щепкина, таким же свежим и бодрым, как видел я его в последний раз в 1845 году. Говорили о театре, о литературе. Я ему заметил, почему он не продолжает свои «Записки артиста», начало которых напечатано в первой книжке «Современника» за 1847 год. На что он мне сказал, что жизнь его протекла так тихо, счастливо, что не о чем и писать. Я хотел ему на это возразить что-то, но мы очутились в Новопетровском укреплении и встретились с П. А. Кулишем, собирающим какие-то тощие растения. Я как хозяин захлопотал о обеде и пошел искать полевой спаржи, которой здесь и в помине нет. Но новый удар грома разбудил меня, и я уже не мог заснуть.
С недавнего времени мне начали представляться во сне давно виденные мною милые сердцу предметы и лица. Это, вероятно, оттого, что я об них теперь постоянно думаю. Ложась спать вчера, я думал о «Осаде Пскова» и о «Гензерихе» Брюллова. И увидел во сне самого их великого творца. Довольно. Утро после ночной грозы тихое, свежее, редкое в здешней знойной пустыне утро. И я буду большой руки тетеря, если проведу его за своим журналом.
5 [июля]
Голенький ох, а за голеньким Бог. Из моей библиотеки, которую я знаю наизусть всю и которую уже давно упаковал в ящик, не нашлося книги, достойной сопутствовать мне в моем радостном одиноком путешествии по Волге. Ригельмана «История Донского войска» показалась мне слишком старою спутницей, и я упаковал ее на самый спуд. Что же делать без книги в таком медленно-спокойном путешествии, как плавание по Волге, от Астрахани до Нижнего? Это меня беспокоило. И в самом деле, что я буду делать целый месяц без хоть какой-нибудь книги? Но фортуна, эта гордая повелительница повелителей мира, эта безглазая царица царей, – сегодня мой лакей, хуже – бердичевский фактор.
Насладившись прекрасным свежим утром на огороде, я в девятом часу пошел в укрепление. Мне нужно было взять хлеба у артельщика и отдать высушить на сухари для дороги. Прихожу в ротную канцелярию, смотрю, на столе рядом с образцовыми сапогами лежат три довольно плотные книги в серой подержанной обертке. Читаю заглавие. И что же я прочитал? «Estetyka czyli umnictwo piękne przez Karola Libelta». В казармах! Эстетика! «Чьи это книги?» – спрашиваю я писаря. «Каптенармуса унтер-офицера Кулиха». Отыскал я вышерекомого унтер-офицера Кулиха. И на вопрос мой, не продаст ли он мне «Umnictwo piękne», он отвечал, что оно принадлежит мне. Что Пшевлоцкий, уезжая из Уральска на родину, передал ему, Кулиху, эти книги с тем, чтобы они были переданы мне. И что он, Кулих, принес их с собою сюда, положил в цейхгауз и забыл про их существование, и что вчера только они попались ему на глаза, и что он очень рад, что теперь может их препроводить по принадлежности. Для вящей радости я послал за водкой, а книги положил в свою дорожную торбу.
Видимое, осязательное дело услужливой факторши фортуны. Итак, по милости этой слепой царицы царей я имею в дороге чтение, на которое вовс[е] не рассчитывал. Чтение, правда, не совсем по моему вкусу, но что делать, на безрыбьи и рак рыба. Я, несмотря на мою искреннюю любовь к прекрасному в искусстве и в природе, чувствую непреодолимую антипатию к философиям и эстетикам. И этим чувством я обязан сначала Галичу и окончательно почтеннейшему Василию Ивановичу Григоровичу, читавшему нам когда-то лекции о теории изящных искусств, девизом которых было: побольше рассуждать и поменьше критиковать. Чисто Платоновское изречение.
С Либельтом я немного знаком по его «Деве Орлеанской» и по его критике и философии. На первый взгляд он мне показался мистиком и непрактиком в искусствах. Посмотрим, что дале будет. Боюсь, как бы вовсе не раззнакомиться.
6 [июля]
Видел во сне Академию художеств. Михайлов показывал мне какую-то неоконченную копию и потом скрылся от меня вместе с копиею. Из Академии я вышел на Большой проспект и, не доходя церкви Андрея Первозванного, встретился с семейством здешнего коменданта и от радости проснулся.
Третьего дня вечером был я случайным зрителем, кажется, последней сцены из водевиля под названием «Недошитая кофта». Я не хотел было вносить в мой журнал эту балаганную сцену, но как она оказалася важною по своему неожиданному результату, то я и заношу ее со всею пошлою точностию в мою неизменную хронику.
Сие событие совершилось 5 числа текущего месяца. В отсутствие родителя нареченной жениху пришла благая мысль попотчевать свою будущую супругу серенадой со всеми онерами. Для этого собрал он из двух рот песельников, также со всеми онерами: с бубном, тарелками, ложками, треугольником и еще с какими-то погремушками. И когда был пропет, разумеется, с танцами, весь репертуар солдатских песен и даже «После батюшки остался сиротою молодец» с небольшими изменениями, восторженному этой последней песней жениху, которая изображала в некотором роде его собственное положение, ему захотелося, чтобы ребята маненько его покачали. Почему же и не так. Ребята принялись за дело, и, о судьба-злодейка! Когда верные и усердные ребята затянули десятое ура! – в воротах показался комендант. Протяжное громкое ура вдруг оборвалося, и верные, неизменные ребята бросили своего отца-командира среди улицы, а сами скрылися где кто мог. Положение жениха действительно критическое, и тем более критическое, что он без нежного участия своей возлюбленной нареченной не мог стать на ноги по случаю бесхитростной радости, или, проще, он был мертвецки пьян.
На другой день рано является с рапортом к коменданту отец нареченной и просит на законном основании избавить его опозоренную дочь, а равно и все его семейство, от гнусного, безобразного пьяницы-жениха, подпоручика Чарца. На такое законное требование резолюция еще не воспоследовала.
Каково же быть порядочному и семейному человеку комендантом этого заграничного гнездилища безграничных мерзостей? Быть судьей и разбирателем этих бесконечных ежедневных гадостей. А он как начальник обязан пачкаться в этой вонючей грязи. Отвратительная обязанность.
7 [июля]
Видел сегодня во сне Москву, не встретил никого знакомых и храма Спаса не видал. Был на Красной площади и Василия Блаженного не видал. Искал в Гостином дворе ивановского полотна для рубах и не нашел. Так и проснулся. Проснувшись, я по обыкновению нагрел свой чайник, положил чаю и начал вытирать стакан, как является ко мне мой дядька и объявляет мне повеление фельдфебеля немедленно явиться к пригонке амуниции. «Да ее недавно пригоняли», – говорю я. «Не могу знать-с, приказано», – отвечает он.
Итак, для воскресения не удалось мне чайком побаловать себя. Прихожу в укрепление и узнаю, что вчера пришел какой-то татарин из Астрахани с казенным провиантом и распустил слух, что в конце августа месяца в Астрахань дожидают великого князя Константина Николаевича и что по этому случаю в Астрахани делаются большие приготовления для встречи августейшего гостя. Капитан Косарев, заведующий двумя ротами 1 баталиона, тотчас смекнув делом и чтобы не ударить в грязь лицом, вчера же, с помощию писаря Петрова, назначил почетный караул, в число которого, по протекции писаря Петрова, назначен и я. Головоломная эта задача была кое-как решена к рассвету, а с восходом солнца (несмотря на воскресенье) приказано пригнать амуницию и, как будет готова, вывести людей на смотр перед телячье лицо капитана Косарева и верного его сподвижника писаря Петрова.
Сказано – сделано. К 7 часам все было готово, в полной амуниции люди были выведены на полянку, в том числе и я, в 7 часов явился сам капитан Косарев во всем ослином величии и после горделивого приветствия подошел прямо ко мне, благосклонно хлопнув меня по плечу, и сказал: «Что, брат, отставка? Нет, мы еще из тебя сделаем отличного правофлангового, а потом и с Богом». И тут же отдал приказание капральному ефрейтору заняться со мной маршировкой и ружейными приемами часика четыре в день. Я ужаснулся, услышав это благосклонное приказание. Вот тебе и безмятежное уединение на огороде.
Тот же самый татарин вместе с накладной привез коменданту письмо из Астрахани, в котором его уведомляют, что адмирал Васильев получил известие из Петербурга, чтобы его высочество в Астрахань не ожидали и, следовательно, не трепетали. Комендант, узнавши о распоряжении предупредительного капитана Косарева, натянул ему нос и даже погрозил ему гауптвахтой, если он вперед осмелится тревожить людей без его ведома. Тем все и кончилось. И я, как ни в чем не бывало, встал сегодня по обыкновению в 3 часа утра, нагрел свой чайник, очинил новое перо и занес сей невероятный казус в мою верную хронику. Господи, настанет ли наконец для меня час искупления? Настанут ли когда-нибудь для меня те блаженные дни, когда я буду читать эти отвратительные правдивые сказания, как ложный сон, как небывалую небылицу?
8 [июля]
Сегодня ушла почтовая лодка в Гурьев. Ветер зюйд-вест. В среду или в четверг она должна быть на Стрелецкой Косе, 15 верст от Гурьева. В субботу получит последнюю оренбургскую почту. Воскресенье попразднует, а в понедельник в обратный путь. Как раз через неделю. При благополучном ветре ее должно ожидать 17-го или 18-го числа. И никак не дальше 20. Неужели она для меня ничего не привезет? Не может быть. Это было бы уже умышленное тиранство.
Сегодня же поутру пригласил я к себе на огород унтерофицера Кулиха, того самого, что принес мне из Уральска «Umnictwo piękne» Libelta. Разговор наш, разумеется, вертелся на баталионе и в особенности на 2-й роте, которая два года назад тому ушла отсюда и которая теперь сюда возвратилась. И тогда, и теперь я имею несчастие состоять в этой роте. Начиная с бывшего тогда ротного командира поручика Обрядина, мы перебрали всю роту поодиночке и, наконец, дошли до рядового Скобелева. Этот рядовой Скобелев, несмотря на свое прозвание, был мой земляк, родом Херсонской губернии. И в особенности мне памятен по малороссийским песням, которые он пел своим молодым мягким тенором удивительно просто и прекрасно. С особенным же выражением он пел песню:
Тече річка невеличка З вишневого саду.Я забывал, что я в казармах слушаю эту очаровательную песню. Она меня переносила на берега Днепра, на волю, на мою милую родину. И я никогда не забуду этого смуглого полунагого бедняка, штопающего свою рубаху и уносившего меня своим безыскусственным пением так далеко из душной казармы.
По сложению своему и по манерам он не был похож на бравого солдата, за что я его особенно уважал. Но он пользовался в роте славою честного и смышленого солдата. И несмотря на смуглое, аляповатое и оспою изрытое лицо, в его лице светилася отвага и благородство. И я любил его как земляка и как честного человека, независимо от песен. Он был, как он мне говорил по секрету, беглый крепостной крестьянин. Попался в бродяжничестве, сказался не помнящим родины и семейства и был зачислен в солдаты, где и дали ему прозвище Скобелева, в честь известного балагура Русского инвалида Скобелева. Так об этом-то бедняке Скобелеве Кулих мне рассказал следующу[ю] возмутительную повесть.
Вскоре по прибытии 2 роты в г. Уральск командир роты поручик Обрядин взял к себе в постоянные вестовые рядового Скобелева как трезвого и благонадежного, но слабого по фронту солдата. А рядовой Скобелев неумышленно сделался поверенным сердечных тайн своего командира и постоянным лакеем его любовницы. Не прошло и полгода, как неуклюжий лакей Скобелев также неумышленно сделался любовником любовницы своего повелителя. И однажды, в минуты сердечных излияний, коварная изменница открыла Скобелеву, что два месяца тому назад на его имя получены Обрядиным из Москвы 10 рублей серебром от какого-то его бывшего товарища (вероятно, по бродяжничеству), теперь лавочного сидельца. И в доказательство истины слов своих показала ему конверт с пятью печатями. Поручик же Обрядин, будучи еще баталионным адъютантом и казначеем, не только подозреваем, но даже был уличаем в краже подобных присылок. Но он как-то умел концы в воду прятать и слыть вообще порядочным человеком. Скобелев, узнавши такую проделку отца-командира, явился к нему с пустым пакетом в руках требовать вынутых из него денег. Отец-командир попотчевал его пощечиной, а он отца-командира оплеухой. Будь это сам на сам, тем бы и кончилось, но как эта сцена была представлена при благорожденных зрителях, при офицерах, то сконфуженный поручик Обрядин, арестовав рядового Скобелева, подал баталионному командиру рапорт о случившемся. Вследствие рапорта произведено следствие, а вследствие следствия поручику Обрядину велено подать в отставку, а рядового Скобелева предали военному суду. А по приговору военного суда рядовой Скобелев прошел по зеленой аллее, как выражаются солдаты, сквозь 2000 шпицрутенов и сослан в Омск на семь лет в арестантские роты. Печальное и, к несчастью, не единственное в этом роде происшествие.
Бедный Скобелев! Родился ты и вырос в невольничестве. Вздумалось тебе попробовать широкой, сладкой вольной воли, и ты залетел в Эдикуль (так обыкновенно называют солдаты Новопетровское укрепление). Залетел ты в мою семилетнюю тюрьму певуньей-птицей из Украины как будто для того только, чтобы своими сладкими заунывными песнями напомнить мне мою милую, мою бедную родину. Бедный, несчастный Скобелев. Ты честно, благородно возвратил пощечину благородному вору, грабителю, и за это честное дело прошел ты сквозь строй и понес тяжелые кандалы на берега пустынного Иртыша и Оми. Встретишь ли в своей новой неволе такого внимательного и благодарного слушателя, товарища твоих заунывных сладких песень, как я был? Встретишь, и не одного такого же, как и ты, невольника-сирому, земляка, варнака заклейменного, который прольет слезу благодарности на твои тяжелые кайданы за отрадные, сердцу милые, родные звуки. Бедный, несчастный Скобелев.
9 [июля]
Перед закатом солнца заштилело. А в сумерки поднялся свежий ветер от нордоста, прямо в лоб нашей почтовой лодке. Она теперь в открытом море бросила якорь, а когда подымет, Бог знает. Нордост здесь господствующий ветер. Он может простоять долго и продлит мою и без того длинную неволю далеко за предначертанную мною границу, т. е. за 20-е июля. Грустно, невыразимо грустно. В продолжение ночи я не мог заснуть; меня грызла и гоняла, как на корде, вокруг огорода самая свирепая тоска. На рассвете я пошел к морю, выкупался и тут же на песке заснул. Видел во сне покойника Аркадия Родзянку в его Веселом Подоле, близ Хорола. Показывал он мне свой чересчур затейливый сад. Толковал о возвышенной простоте и идеале в искусствах вообще и в литературе в особенности. Ругал наповал грязного циника Гоголя, и в особенности «Мертвые души» казнил немилосердо, потом потчевал какими-то герметически [за]купоренными кильками и своими грязнейшими малороссийскими виршами вроде Баркова. Отвратительный старичишка. Разбудил меня мелкий тихий дождик, и я прибежал на огород мокрой курицей.
Говорят, о чем наяву думаешь, то и во сне пригрезится. Это не всегда так. Я, например, Аркадия Родзянку видел всего один раз, и то случайно, в 1845 году, в его деревне Веселый Подол, и он мне в несколько часов так надоел своею глупой эстетикой и малороссийскими грязнейшими и глупейшими стихами, что я убежал к его брату Платону, к его ближайшему соседу и, как водится, злейшему врагу. Я забыл даже, что я виделся когда-то с этим сальным стихоплетом, а он мне сегодня во сне пригрезился. Какая же связь между моими вчерашними грустными мечтами и между этим давно забытым мною человеком? Каприз нашей нравственной природы, и совершенно никакой логической связи. И оракул сотника Чеганова едва ли объяснит загадку подобных сновидений. Пойду, однако ж, на всякий случай, посмотрю в это зерцало сокровенных таинств натуры.
10 [июля]
Ветер все тот же. Тоска та же самая. Дождь продолжает омывать новую луну. Такие длинные любезности здесь с ним редко случаются. Я недвижимо пролежал весь день в беседке и слушал однотонную тихую мелодию, производимую мелкими и частыми каплями дождя о деревянную крышу беседки. Принимался несколько раз дремать, но неудачно. Проклятые мухи со всего огорода слетелись в беседку и не дают покоя. Принимался несколько раз строить воздушные замки на своих будущих эстампах акватинта также неудачно. «Гензерих» и «Осада Пскова» Брюллова мне особенно не удавались. Нужно избегать на первый раз наготы. Нужен опыт и опыт, а иначе эта очаровательная брюлловская нагота выйдет в эстампе безобразие. Я не желал бы, чтобы мои будущие эстампы были похожи на парижский эстамп акватинта с картины «Последний день Помпеи». Топорный, безобразный эстамп. Поругано, обезображено гениальное произведение.
В таком скверном настроении унывающей души вспомнил я про «Umnictwo piękne» Либельта, принялся жевать: жестко, кисло, приторно. Настоящий немецкий суп-вассер. Как, например, человек, так важно трактующий о вдохновении, простосердечно верит, что будто бы Иосиф Вернет велел себя во время бури привязывать на марсах к мачте для получения вдохновения. Какое мужицкое понятие об этом неизреченно божественном чувстве. И этому верит человек, пишущий эстетику, трактующий об идеальном, возвышенно-прекрасном в духовной природе человека. Нет, и эстетика сегодня мне не далась. Либельт, он только пишет по-польски, а чувствует (в чем я сомневаюсь) и думает по-немецки. Или, по крайней мере, пропитан немецким идеализмом (бывшим, не знаю как теперь?). Он смахивает на нашего В. А. Жуковского в прозе. Он так же верит в безжизненную прелесть немецкого тощего, длинного идеала, как и покойный В. А. Жуковский.
В 1839 году Жуковский, возвратившись из Германии с огром[ною] портфелью, начиненною произведениями Корнелиуса, Гессе и других светил мюнхенской школы живописи, нашел Брюллова произведения слишком материальными, придавляющими к грешной земле божественное, выспреннее искусство. И обращаясь ко мне и покойному Штернбергу, случившемуся в мастерской Брюллова, предложил зайти к нему полюбоваться и поучиться от великих учителей Германии. Мы не проминули воспользоваться сим счастливым случаем. И на другой же день явилися в кабинете германофила. Но Боже! Что мы увидели в этой огромной развернувшейся перед нами портфели. Длинных безжизненных мадонн, окруженных готическими тощими херувимами, и прочих настоящих мучеников и мучеников живого, улыбающегося искусства. Увидели Гольбейна, Дюрера, но никак не представителей живописи девятнадцатого века. До какой степени, однако ж, помешались эти немецкие идеалисты-живописцы. Они не заметили, что в архитектуре Кленца, для которой они творили свои готические безобразные творения, и тени нет напоминающего готическую архитектуру. Странное, непонятное затмение.
«Umnictwo piękne» Либельта спрятал я в дорожную торбу и снова привел свою фигуру в горизонтальное положение. Что дальше будет, не знаю.
Незабвенные, золотые дни, мелькнули вы светлым, радостным сновидением передо мною, оставив по себе неизгладимый след чарующего воспоминанья. Мы были тогда с Штернбергом едва оперившиеся юноши и, рассматривая эту единственную коллекцию идеального безобразия, высказывали вслух свое мнение и своим простодушием довели до того кроткого, деликатного Василия Андреевича, что он назвал нас испорченными учениками Карла Павловича и хотел было уже закрыть портфель перед нашими носами, как вошел в кабинет князь Вяземский и помешал благому намерению Василия Андреевича. Мы продолжали с невозмутимым равнодушием перелистывать портфель и были награждены за терпение первоначальным эскизом «Последнего дня Помпеи», ловко начерченным пером и слегка попятнанным сепиею. За этим гениальным очерком, почти не измененным в картине, следовало несколько топорных чертежей Бруни, которые ужаснули нас своим заученным, однообразным безобразием. И где и из какого тлетворного источника почерпнул и усвоил г. Бруни эту ненатуральную манеру? Неужели это одно желание быть оригинальным так страшно обезобразило произведения неутомимого Бруни? Жалкое желание. Грустный результат. И этот человек мечтал еще равняться с Карлом Великим! (так обыкновенно называл Брюллова В. А. Жуковский).
Один мой знакомый, не художник и даже не записной, а так просто любитель изящного, смотря на «Покров Божией Матери», картину Бруни, в Казанском соборе, сказал, что если бы он был матерью этого безобразного ребенка, что валяется на первом плане картины, то он не только взять на руки, боялся бы подойти к этому маленькому кретину. Замечание чрезвычайно верное и ловко высказано. А «Медный змий» его? Это толпа безобразных и самых бесталанных актрис и актеров. Я видел эту картину в подмалевке, и она меня ужаснула. Неприятное, но все-таки впечатление. Оконченная же эта огромная картина не произвела на меня даже и этого неприятного чувства. А ведь цель ее была уничтожить «Последний день Помпеи». Колоссальное, но, увы, неудачное намерение.
11 [июля]
В полночь переменился ветер. Отошел к норд-весту.
Я полюбовался прозрачными исчезающими облаками и лег спать. Проснулся до восхода солнца. Небо было чисто. Только одна-единственная звездочка, как алмаз, горела высоко на востоке. Это должна быть Аврора. Солнце не успело выглянуть из-за горизонта, и она исчезла. Я весело принялся за свой чайник. И когда все было готово для моего утреннего одинокого пиршества, я очинил внимательно перо, развернул свой журнал и, что называется, полбуквы не мог написать, так мне вдруг сделалось весело. И я, напившись чаю и наслушавшись чириканья веселых ласточек, отправился в укрепление заказать торбу для сухарей и взять второй том Либельта. Зашел к Мостовскому, он мне предложил стакан чаю, от которого я не имел силы отказаться, потому что чай был с лимоном – неслыханная роскошь в этой пустыне. За чаем сообщил он мне о начавшемся следствии над женихом и невестой. Следствие началось медицинским освидетельствованием невесты, как водится, в присутствии понятых. Причем лекарь Никольский сострил, найдя невесту нерастленною, что подало повод к грубым насмешкам над женихом. Мерзость!
Заказавши торбу для сухарей, я окончательно упаковал свою мизерию, взял второй том Либельта и три оставшиеся сигары, из числа тех 25 сигар, что прислал мне Лазаревский вместе с сепиею. Отличные сигары, настоящие гаванские. Возвратившись на огород, я по обыкновению до обеда лежал под своею любимою вербою и читал Либельта. Сегодня и Либельт мне показался умеренным идеалистом и более похожим на человека с телом, нежели на бесплотного немца. В одном месте он (разумеется, осторожно) доказывает, что воля и сила духа не может проявиться без материи. Либельт решительно похорошел в моих глазах. Но он все-таки школяр. Он пренаивно доказывает присутствие Всемогущего Творца Вселенной во всем видимом и не видимом нами мире. И так хлопочет об этой старой, как свет, истине, как будто это его собственное открытие.
За обедом было веселее обыкновенного. Комендант подтрунивал над моими сборами в поход, другие ему вторили более или менее любезно, но вообще вся компания была, как говорится, в своей тарелке. После обеда я, также по обыкновению, заснул под своей фавориткою вербою, а перед вечером надел чистый китель, соломенную шляпу-самодельщину и пошел на туркменские бакчи (баштаны), и, несмотря на скудость зелени, мне и бакчи понравились. Я зашел к хозяевам в аул. Около кибиток играли с козлятами нагие смуглые дети, визжали в кибитках женщины, должно быть ругались. А за аулом мужчины творили свой намаз перед закатом солнца. Вечер был тихий, светлый. На горизонте чернела длинная полоса моря, а на берегу его горели в красноватом свете скалы, и на одной из скал блестели белые стены второй батареи и всего укрепления. Я любовался своею семилетнею тюрьмою. Возвращаясь на огород, набрел я на тропинку, на уже засохшей грязи которой видны были отпечатки миниатюрных детских ножек. Я любовался и следил этот крошечный детский след, пока он не исчез в степной полыни вместе с тропинкою. На огород пришел я к вечернему чаю и попотчевал Ираклия Александровича (коменданта) и Николая Ефремовича (смотрителя полугоспиталя) своими заветными сигарами. И сам закурил остальную. Все, начиная с Наташеньки, немало удивились, увидев в моем лице торчащую дымящуюся сигару. А нянька Авдотья, уральская казачка, та совершенно во мне разочаровалась, она до сих пор думала, что я по крайней мере часовенный. А я такой же еретик-щепотник, как и другие. Все же вообще находили, что мне сигара к лицу и что с сигарой в лице я похож на вояжера порядочного тона. Такому удачному сравнению я и не думал противуречить. И мысленно переносился на палубу парохода «Меркурия» или «Самолета». А о скромно[й] расшиве, о бурлацких песнях, о преданиях про Сеньку Разина забыл и думать.
Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна. Но все не впрок.Отуманенный лестию, я, против обыкновения и, разумеется, во вред желудку, не имел силы отказаться от пельменей. Пельмени были мастерски приготовлены, и я оказал им неложную честь. После ужина я долго гулял вокруг огорода. И мало-помалу освобождаясь от влияния самолюбия, привел, наконец, свой гордый дух в нормальное состояние и тихо запел гайдамацкую песню:
Ой поїзжає по Україні та козаченько Швачка… От этой любимой моей песни я незаметно перешел к другой, не менее любимой: Ой ізійди, зійди, ти зіронько та вечірняя…Эта меланхолическая песня напомнила мне тот вечер, когда я и молодая жена Кулиша пели в два голоса эту очаровательную песню. Это было на другой день после их свадьбы, в роковом 1847 году. Увижу ли я эту прекрасную блондинку? Запою ли с нею эту задушевную песню?
Воспоминания меня убаюкали, я сладко заснул. И видел во сне Новгород-Северский (вероятно, вследствие недавнего чтения «Алексея Однорога»). По улице ездили в старосветском огромном берлине огромные рыжие пьяные монахи, и между ними очутился мой трезвый друг Семен Гулак-Артемовский. Это все пельмени так наметаморфозили.
12 июля
Одиннадцатым нечетным, но счастливым для меня числом кончился первый месяц моего журнала. Какой добрый гений шепнул мне тогда эту мысль? Ну, что бы я делал в продолжение этого минувшего бесконечно длинного месяца? Хотя и это занятие мимоходное, но все-таки оно отнимает у безотвязной скуки несколько часов дня. А это важная для меня теперь услуга. В первые дни не нравилось мне это занятие, как не нравится всякое занятие, пока мы его себе не усвоим, не смешаем его с нашим насущным хлебом. Сначала я принимался за свой журнал, как за обязанность, как за пунктики, как за ружейные приемы. А теперь, и особенно с того счастливого дня, как завелся я медным чайником, журнал для меня сделался необходимым, как хлеб с маслом для чая. И не случись этого несносного ожидания, этого тягостного бездействия, мне бы в голову никогда не пришло обзавестись этой эластической мебелью, на которой я теперь каждое [утро] так безмятежно отдыхаю. Справедливо говорится: нет худа без добра.
Сегодня утром, записавши счастливое одиннадцатое число, я вздумал попробовать ветчины собственного приготовления. Для этого я выпил фундаментальную рюмку водки, закусил молодой редькой, потом уже приступил к собственному произведению. Ветчина оказалась превосходною, свежею, несмотря на то, что приготовлена еще в генваре месяце. Первого генваря текущего года получил я первое радостное письмо из Петербурга от графини Толстой. И с того же дня начал готовиться в дорогу. Так как путешествовать мне предстояло, может быть, и теперь еще предстоит по серебряным берегам Урала, где благочестивые уральцы, а особенно уралки, нашему брату [не]раскольнику воды напиться не дадут, то я и заготовил для трудного пути сей необходимый копченый продукт. Не знаю, чем восхищается в уральцах этот статистико-юмористик и вдобавок враль Небольсин? Грязнее, грубее этих закоренелых раскольников я ничего не знаю. Соседи их, степные дикари киргизы, тысячу раз общежительнее этих прямых потомков Сеньки Разина. А помянутый враль в восторге от их общежития и мнимого гостеприимства. Верно, ему пьяному в грязном погребке диктовал какой-нибудь Железнов статейку под названием «Уральские казаки», а он под веселую руку записал да и посвятил еще В. И. Далю. Бессовестны, вредны и подлы, наконец, такие списатели.
Попробовавши дорожного продукта и найдя оный более нежели удовлетворительным, я самодовольно успокоился под своей фавориткою вербою и принялся за Либельта. Он сегодня мне решительно нравится. Или он в самом деле хорош, или он мне только кажется таким потому, что мне вот уже другой день даже вовсе непривлекательные предметы кажутся привлекательными. Блаженное состояние. Либельт, например, весьма справедливо замечает и высказывает эту, правда, не совсем моложавую истину, коротко, изящно и ясно, что религия и древних и новых народов всегда была источником и двигателем изящных искусств. Это верно. А вот это так не совсем. Он, например, человека-творца в деле изящных искусств вообще, в том числе и в живописи, ставит выше натуры. Потому, дескать, что природа действует в указанных ей неизменных пределах, а человек-творец ничем не ограничен в своем создании. Так ли это? Мне кажется, что свободный художник настолько же ограничен окружающею его природою, насколько природа ограничена своими вечными, неизменными законами. А попробуй этот свободный творец на волос отступить от вечной красавицы природы, он делается богоотступником, нравственным уродом, подобным Корнелиусу и Бруни. Я не говорю о дагеротипном подражании природе. Тогда бы не было искусства, не было бы творчества, не было бы истинных художников, а были бы только портретисты вроде Зарянка.
Великий Брюллов черты одной не позволял себе провести без модели, а ему, как исполненному силою творчества, казалось бы это позволительным. Но он, как пламенный поэт и глубокий мудрец-сердцеведец, облекал свои выспренные светлые фантазии в формы непорочной вечной истины. И потому-то его идеалы, полные красоты и жизни, кажутся нам такими милыми, такими близкими, родными.
Либельт сегодня мне решительно нравится. В продолжение десяти лет я, кроме степи и казармы, ничего не видел и, кроме солдатской рабской речи, ничего не слышал. Страшная, убийственная проза. И теперь случайный собеседник Либельт – самый очаровательный мой собеседник. Искренняя, сердечная моя благодарность унтер-офицеру Кулиху.
Как начался приятно, так и кончился этот второй для меня день приятно. Вечер был тихий, прекрасный. Для моциону я обошел два раза укрепление. Начал было и третий обход, только у второй батареи остановил меня уральский казак своею старинной песней про Игнашу Степанова сына Булавина. Первый стих песни мне чрезвычайно нравится:
Возмутился наш батюшка, Славный тихий Дон, От верховьица Вплоть до устьица.Эта песня, собственно, донская, но она усвоена и уральцами как братьями по происхождению. Я немало удивился, услышав в первый раз здесь эту песню, потому что приходящие сюда на службу уральцы большею частию народ бывалы[й] в Москве и в Петербурге и поют все модные нежные романсы, захваченные ими в салонах на Козихе и в Мещанских и Подьяческих улицах. Так я немало удивился, услыхав этого отступника от закона моды.
С удовольствием слушал я незримого певца, пока он замолчал и, вероятно, заснул, чему и я благоразумно последовал. На рассвете приснилося мне, будто бы приеха[л] в Новопетровское укрепление фельдмаршал Сакен вместе с другом своим митрополитом киевским Евгением и потребовал меня к себе. Но так как у меня не оказалось солдатского облачения, кроме шинели, и то без эполет, то пока нашивали эполеты, я проснулся. И был сердечно рад этой неудаче.
13 [июля]
Сегодня суббота, ветер все тот же – норд-вест. Это хорошо, значит волею-неволею лодка должна дождаться оренбургской почты. Чем ближе ко мне это радостное событие, тем делаюсь я нетерпеливее и трусливее. Семь тяжелых лет в этом безвыходном заточении мне не казались так длинными и страшными, как эти последние дни испытания. Но все от Бога. Заглушив в себе по мере возможности это ядовитое сомнение, я принялся за моего неизменного друга Либельта и с наслаждением пробеседовал с ним до самого вечера. Вечером пошел я опять ко второй батарее в надежде услышать вчерашнего Баяна. Но вчерашний Баян обманул мои ожидания. Я возвратился на огород, лег под своей заветною вербою и, сам не знаю, как это случилося, уснул и проснулся уже на рассвете. Редкое, необыкновенное событие! Такие дни и такие события я должен вносить в мою хронику, потому что я вообще мало спал, а в последние дни сон меня решительно оставил.
14 [июля]
Сегодня воскресенье, ветер все тот же. Не пора ли отойти к норд-осту? О как бы он меня обрадовал, если бы хоть к завтрему отошел. Лучше решительный удар обуха, нежели тупая деревянная пила ожидания.
В полдень ветер засвежел и отошел к норду. Добрый знак. Сегодня третьи сутки, как я не посещал вертепа мерзостей, т. е. укрепления. И это теперь мое единственное счастие, что я безнаказанно могу делать такое укрывательство. И чтобы не видеть еще сутки топорной декорации вертепа и его пьяных разбойников, я не побрился и не пошел к обедне. А перед вечером, во избежание встречи с теми же разбойниками (они по праздникам имеют обыкновение нарушать спокойствие обитателей огорода), я, надевши чистый белый чехол на фуражку и положивши в карман огурец и редьку, отправился к Телемону и Бавкиде. Телемон, вопреки своему постоянному расположению духа, был не в духе. И Бавкида, вопреки своей постоянной улыбке, была тоже не в духе и даже не показала мне своей новой соломенной шляпки, о которой я слышал стороною. Я вспомнил пословицу: «Не вовремя гость – хуже татарина» и взялся за фуражку. Но Телемон остановил меня, просил садиться и также просил свою печальную Бавкиду подать на пробу недавно полученного из Астрахани варенья, а сам принес кружку холодной воды. И после первой апробации поведал мне свое горе. Неосторожный или жадный лоцман, взявшийся представить ему товар из Астрахани, нагрузил свою утлую ладью так грузно, что при первом свежем ветре должен был половину груза выбросить в море. К несчастию Телемона и Баквиды, их товары лежали на палубе, состоящие из двух ящиков горячих напитков и 30 мешков муки, и, разумеется, первые полетели за борт. Уцелели только ничтожные мелочи, как-то: варенья, лимоны, соленые огурцы и соломенная шляпка. Откровенная беседа, как исповедь, умиляет наше тоскующее сердце. Старики, рассказавши мне про постигшее их несчастие, пришли в свое нормальное положение. Телемон простодушно начал врать о какой-то стычке с французами в 1812 году, а Бавкида показала мне шляпку и даже мантилью, а на прощанье подарила мне лимон, с которым я имею радость сегодня, т. е. в понедельник, пить чай, записывая сей визит и грустное событие, совершившееся в ущерб торговле моего Телемона и Бавкиды.
Вчера, как я сегодня узнал, несмотря на воскресенье и хорошую погоду, ни один из официю имеющих не появлялся на огороде. Странная, непонятная антипатия к благоухающей зелени. Они предпочитают пыль и несносную вонючую духоту в укреплении прохладной тени, цветам и свежей зелени на огороде. Непонятное затвердение органов. Настоящие суровые сыны Беллоны. Одно, чем я могу растолковать себе это отсутствие обоняния и зрения у суровых детей Беллоны, это всепокоряющая владычица водочка. На огороде, извольте видеть, хотя и можно пропустить рюмочку-другую, потому что сам комендант предлагает, но не[ль]зя нализаться как следует. Не потому, чтобы это было неприлично, а потому, чтобы не очутиться в Калабрии, т. е. на гауптвахте. Так что же и в самом деле за удовольствие посещать огород. Не лучше ли дома втихомолку нализаться так, чтобы в глазах позеленело. Вот тебе и огород с цветами и с благоуханием.
Независимо от этой глубокой политики, в великороссийском человеке есть врожденная антипатия к зелени, к этой живой блестящей ризе улыбающейся матери природы. Великороссийская деревня – это, как выразился Гоголь, наваленные кучи серых бревен с черными отверстиями вместо окон, вечная грязь, вечная зима! Нигде прутика зеленого не увидишь, а по сторонам непроходимые леса зеленеют. А деревня, как будто нарошно, вырубилась на большую дорогу из-под тени этого непроходимого сада. Растянулась в два ряда около большой дороги, выстроила постоялые дворы, а на отлете часовню и кабачок, и ей ничего больше не нужно. Непонятная антипатия к прелестям природы.
В Малороссии совсем не то. Там деревня и даже город укрыли свои белые приветливые хаты в тени черешневых и вишневых садов. Там бедный неулыбающийся мужик окутал себя великолепною вечно улыбающеюся природою и поет свою унылую задушевную песню в надежде на лучшее существование. О моя бедная, моя прекрасная, моя милая родина! Скоро ли я вздохну твоим живительным, сладким воздухом? Милосердый Бог – моя нетленная надежда.
15 [июля]
Ветер все тот же норд. Хоть бы на одну четверть румба отошел к осту, все бы мне легче было. В продолжение двухлетнего плавания по не исследованному еще Аральскому морю я одного раза не взглянул на компас, а в эти последние бесконечно длинные дни и ночи я изучил его во всех самомалейших направлениях. О ветер, ветер, если бы ты мог сочувствовать моему неусыпному горю, ты бы еще третьего дня отошел к норд-осту, и сегодня я бы уже сидел с карандашом в руке на палубе аргонавто[м] татарского корабля, идущего к берегам Колхиды, т. е. к Астрахани, и в последний раз рисовал бы вид своей тюрьмы. Хорошо, если бы так. А если иначе, тогда что? Тогда я и сам не знаю что.
Вчера вечером обошел я два раза укрепление и, придя на огород, прилег усталый под своей заветною вербою с крепким намерением вздремнуть хоть полчасика. Я уже другие сутки глаз не смыкаю. Но Морфей, по обыкновению, изменил мне, и я лежал себе под вербою и рассеянно слушал болтовню огородников, недалеко от [меня] расположившихся на травке. Между ними был уральский казак, он-то и владел разговором или болтовнею. После разных случаев, случившихся с рассказчиком в разных походах, свел он речь на колдунов, мертвецов и, наконец, на самоубийц. Он рассказал историю о каком-то самоубийце, которая меня совершенно не интересовала, но меня заинтересовало религиозное поверье уральских казаков о душе самоубийцы, которое он при этом случае рассказал. Самоубийцу хоронят без всяких церковных обрядов и не на общем кладбище, а выносят далеко в поле и закапывают, как падаль. В дни поминовения усопших родственники несчастного или просто добрые люди выносят и посыпают его могилку хлебным зерном – житом, пшеницею, ячменем и прочая для того, чтобы птицы клевали это зерно и молили Бога о отпущении грехов несчастному. Какое поэтически христианское поверье.
За моей памяти в Малороссии на могилах самоубийц совершался обряд не менее поэтический и истинно христианский, который наши высшие, просвещенные пастыри, как обряд языческий, повелели уничтожить.
В Малороссии самоубийц хоронили также в поле, но непременно на перекрестной дороге. В продолжение года идущий и едущий мимо несчастного покойника должен был что-нибудь бросить на его могилу. Хоть рукав рубашки оторвать и бросить, если не случилось чего другого. По истечении года, в день его смерти, а более в Зеленую субботу (накануне Троицына дня), сжигают накопившийся хлам как очистительную жертву, служат панихиду и ставят крест на могиле несчастного.
Может ли быть чище, возвышеннее, богуугоднее молитва, как молитва о душе нераскаявшегося грешника? Религия христианская, как нежная мать, не отвергает даже и преступных детей своих, за всех молится и всем прощает. А представители этой кроткой, любящей религии отвергают именно тех, за которых должны бы молиться. Где же любовь, завещанная нам на кресте нашим Спасителем-Человеколюбцем? И что языческое нашли вы, лжеучители, в этом христианском всепрощающем жертвоприношении?
В требнике Петра Могилы есть молитва, освящающая нареченное или крестовое братство. В новейшем требнике эта истинно христианская молитва заменена молитвою о изгнании нечистого духа из одержимого сей мнимой болезнию и о очищении посуды, оскверненной мышью. Это даже и не языческие молитвы. Богомудрые пастыри церкви к девятнадцатому веку стараются привить двенадцатый век. Поздненько спохватились.
Туркменцы и киргизы святым своим (аулье) не ставят, подобно батырям, великолепных абу (гробниц), на труп святого наваливают безобразную кучу камней, набросают верблюжьих, лошадиных и бараньих костей. Остатки жертвоприношений. Ставят высокий деревянный шест, иногда увенчанный копьем, увивают этот шест разноцветными тряпками, и на том оканчиваются замогильные почести святому. Грешнику же, по мере оставленного им богатства, ставят более или менее великолепный памятник. И против памятника, на двух небольших изукрашенных столбиках, ставят плошки, в одной по ночам ближние родственники жгут бараний жир, а в другую плошку днем наливают воду для птичек, чтобы птичка, напившись воды, помолилась Богу о душе грешного и любимого покойника. Безмолвная поэтическая молитва дикаря, в чистоте и возвышенности которой наши просвещенные архипастыри, вероятно бы, усомнились и запретили бы как языческое богохуление.
16 [июля]
После заката солнца заштилело, и в первом часу ночи ветер поднялся от зюйд-оста. Ветер тихий и ровный. Такой самый, какой нужен для нашей почтовой лодки. Дождавшись рассвета, я вскарабкался на самую высокую прибрежную скалу и просидел там до тех пор, пока мне захотелось есть, т. е. до полудня. Не увидевши на горизонте ни заветного, ни какого паруса, я в унынии пришел на огород и в ожидании обеда принялся за свою ветчину подорожнюю. Копченый продукт мой с каждым днем умаляется. Еще несколько дней ожидания, и от него останутся ни к чему годные руины. Хорошо, если я поеду через Астрахань. Там есть лавки сарептских колонистов, а между ими, вероятно, есть и колбасные. Без колбасы немец и дня не проживет. Следовательно, копченый продукт можно пополнить. А если придется прогуляться через Гурьев и Уральск, по злачным и серебряным берегам благочестивого Урала, тогда что? Аппетит в торбу, а зубы на полку. Или, во избежание голодной смерти, прикинуться ворожейкой, а лучше всего мучеником за веру, расстригою-попом: тогда, как по щучью веленью, все явится перед тобой, начиная с каймака и джурмицы и оканчивая свальным грехом. Мать единственную дочь свою предложит святому мученику за веру для ночной забавы. Отвратительно! Хуже всяких язычников.
В 1848 году, после трехмесячного плавания по Аральскому морю, возвратились в устье Сырдарьи, где должны были провести зиму. У форта на острове Косарале, где занимали гарнизон уральские казаки, вышли мы на берег. Уральцы, увидев меня с широкою, как лопата, бородою, тотчас смекнули делом, что непременно мученик за веру. Донесли тотчас же своему командиру, есаулу Чарторогову. А тот, не будучи дурак, зазвал меня в камыш да бац передо мною на колени. – Благословите, говорит, батюшка, мы, говорит, уже все знаем. – Я тоже, не будучи дурак, смекнул, в чем дело, да и хватил самым раскольничьим крестным знамением. Восхищенный есаул облобызал мою руку и вечером задал нам такую пирушку, какая нам и во сне не грезилась. Вскоре после этого казуса, уже обривши бороду, отправился я в Раим, главное тогда укрепление на берегу Сырдарьи. В Раиме встретили меня уральцы с затаенным восторгом. А отрядный начальник их, полковник Марков, тоже не будучи дурак, испросив мое благословение, предложил мне 25 рублей, от которых я неблагоразумно отказался и этим, по их понятиям, беспримерным бескорыстием подвинул благочестивую душу старика отговеться в табуне в кибитке по секрету и, если возможность позволит, приобщиться святых таин от такого беспримерного пастыря, как я.
Чтобы не нажить себе хлопот с этими седыми беспримерными дураками, я поскорее оставил укрепление и уже аккуратно, каждую неделю два раза, брею себе бороду. Случись это глупое, смешное происшествие где-нибудь на берегах Урала, где были бы женщины, я не разделался бы так легко с этими изуверами. Весь фанатизм, вся эта мерзость гнездится в их распутных дочерях и женах. В Уральске постоянно набит острог беглыми солдатами, их мнимыми пресвитерами. И несмотря на явные улики, они благоговеют перед этими разбойниками и бродягами. И это не простые, а почетные, чиновные казачки. Непонятная закоснелость.
После полудня отошел ветер к зюйд-весту, прямо в лоб почтовой лодке.
17 [июля]
Ветер все тот же, как заколдованный. Перед вечером по направлению Астрахани на горизонте показался пароход. В укреплении засуетились, увидя это неожиданное явление, а в особенности капитан Косарев с своим почетным караулом и с ординарцами. Но кого несет пароход? Никому положительно не известно, но все, даже самые умеренные фантазеры, догадывались, что ежели не великого князя Константина Николаевича, то непременно адмирала Васильева, губернатора астраханского. Последней догадки, или предположения, капитан Косарев сначала и слушать не хотел, не внимая доводам ученого друга своего, лекаря Никольского, о невозможности такого чисто исторического события в таком темном уголке империи, как наше укрепление. И ученый муж подкрепил свое мнение историческим фактом, сказавши, что после Петра Великого [никто] из членов царской фамилии не посетил не только полуострова Мангишлака, даже знатного портового города Астрахани. Против этого аргумента сказать было нечего. Но сметливый капитан Косарев нашелся, сказавши: «Ну что ж, если и не великий князь, так по крайней мере губернатор, все же особа в генеральском чине, и почетный караул необходим». На такое простое, по-видимому, слово даже ученый муж полез в карман за возражением. Но увы, пока ученый эскулап рылся в своем умственном кармане, таинственная загадка разрешилась. Прискакал казак с пристани и донес коменданту, что на пароходе, кроме его командира лейтенанта Поскочина, никого не имеется. Гора мышь родила.
Комендант послал тарантас за командиром парохода и велел его просить к себе на огород. А я, чтобы мой поход в укрепление не втуне совершился, зашел в казармы и побрился. Потом зашел к Мостовскому. Посмеявшись над совершившимся, мы по поводу подобного же происшествия, случившегося в 1847 году в Орской крепости, перенесли наш разговор в Орскую крепость, как ему, так и мне хорошо памятную. И Мостовский своим неживописным слогом так живо описывал эту неживописную пустынную крепость, что я заслушался его. И первые темные дни моей неволи просветлели и улыбнулись в моем воспоминании. Неужели и для настоящего моего положения придет когда-то светлое, улыбающееся воспоминание? Факт перед глазами, а все-таки не верится.
В девятом часу вечера возвратился я на огород и застал еще моряков, громко любезничавших с комендантшею. Но мне так опротивели эти пустые хвастунишки, астраханские моряки, что я, издали заслышав их громкие голоса, сделал полоборота направо и до пробития зори обошел вокруг укрепления. Несвоевременная прогулка утомила меня и прежде времени, к великому моему удовольствию, уложила спать. За что я в душе поблагодарил любезных астраханских мореходов.
Сон мой не был, однако ж, так спокойный, как я ожидал. В продолжение ночи я несколько раз просыпался и наблюдал ветер. Перед рассветом ветер затих, и я в надежде на его непостоянство успокоился и заснул. Во сне видел Кулиша, Костомарова и Семена Артемовского, будто бы я встретил их в Лубнах во время Успенской ярманки. Кулиша и Костомарова в обыкновенных, а Артемовского в каком-то театральном костюме. В этом фантастическом наряде он представлялся на улице Петру Великому, а я тут же для Кулиша рисовал молодого слепого лирныка в тирольском костюме. Продолжению этой безалаберщины помешал мой услужливый дядька. Он принес мне на огород новый китель и разбудил меня, за что наградил я его большим огурцом и редькой.
Ветер не изменил моей надежде. К утру отошел к зюйд-осту. Пароход поутру вышел из гавани и направился к Кизляру. Я проводил его глазами на горизонт, принялся за свой чайник и потом за журнал.
18 [июля]
Кончивши сказание о вчерашнем событии, я [подумал] о рюмке водки и о умеренном куске ветчины, как присылает за мной Бажанова, просит на чашку кофе. Наш Филат чему и рад. Пошел я. Прихожу. Комендантша тут же. После поздорованья речь началась о вчерашних гостях. Я спросил о цели их кратковременного пребывания на наших берегах. И на прямой мой вопрос получил ответ довольно косвенный и перепутанный, как водится, отступлениями, ни к чему не ведущими. Одним словом, я выслушал из милых уст такую чепуху, какой иному не удастся выслушать и в модном салоне. Гостей оказалось не двое, как я полагал, а пятеро. Кроме флотских, командира парохода и его штурмана, весьма образованного (по словам рассказчиц) молодого человека, еще трое штатских, два ученые, а третий доктор. И что пароход ходит около наших берегов для каких-то наблюдений, и что штатские ученые должны быть не ученые, а просто политические шпионы, потому что говорили все о влиянии на здешнюю Туркменскую орду. Один из них, что помоложе, блондин с длинными волосами à la мужик, может быть, и действительно ученый, потому что вместе с Данилевским и другими участвовал в экспедиции Бера. И что точно так же, как и Бер, собирает степной полынь и другие травы. И что он спрашивал обо мне, но так двусмысленно, что милые собеседницы даже косвенно не умели удовлетворить его любопытства, и, как я догадываюсь, ловко отстранивши этот, по их понятиям, щекотливый вопрос, они, как водится, перенесли свою болтовню в Астрахань прямо в персидские лавки с канаусом и другими недорогими материями.
Если это был сколько-нибудь порядочный человек, то какое понятие получил он о нашем бонтон[е], о сливках здешнего дамского общества. Заплесневшие, прокисшие сливки.
Собравши такие положительные сведения о вчерашних таинственных посетителях, я, разумеется, перестал об них думать и до самого обеда лежал под вербою и читал Либельта. О ветре я также старался не думать. Он из меня душу вытянет, этот проклятый зюйд-вест. На одни сутки, на полсуток отойди он к осту, и я свободен. Невыносимая пытка!
За обедом опять завязался разговор о таинственных путешественниках. И благодаря коменданту он вполовину пояснил это загадочное событие. В числе вчерашних гостей не было главного двигателя всей этой суматохи, именно астронома, который остался на пароходе и делал вычисления. Звездочет сей прислан гидрографическим департаментом п[р]оверить астрономические пункты на берегах Каспийского моря, определенные в прошлом году каким-то не совсем дошлым звездочетом. Вот настоящая цель неожиданного прибытия парохода к нашему берегу. А два ученые мужи, которые сделали честь огороду и его милым обитательницам своим посещением, [не кто иные], как один чиновник, мнимый политический агент, отправляющийся на службу в гебрийский город Баку, а другой – учитель словесности при астраханской гимназии, пользующийся свободным каникулярным временем, и чуть ли еще не земляк мой, потому что передал мне поклон через здешнего плац-адъютанта, за что я ему сердечно благодарен.
Таинственное происшествие, к немалому удивлению наших романических дам, объяснилось очень просто и даже прозаически. Но новость, которую сообщил коменданту плывущий в Баку чиновник, мне кажется просто сочинением будущего великого администратора. Он сообщил, и даже с подробностями, что образовалась коммерческая компания пароходства на Каспийском море, на началах Триестской Ллойды, и что уже вызывает морских офицеров служить на ее пароходах с правом чинопроизводства, и что уже назначены три директора, и что он, сей будущий великий администратор, едет в Баку занять место помощника при директоре, некоем бароне Врангеле, с содержанием 1500 рублей сереб[ром] в год. Что будет делать эта Ллойда [на] Каспийском озере? И какое доверит поручение этому помощнику директора, выпущенному в настоящем году, по его словам, из петербургского университета?
С закатом солнца ветер отошел к зюйд-осту, но слабый, безнадежный. Кончится ли, наконец, это гнусное существование, это однообразное записывание однообразнейших, бесконечных дней?
19 [июля]
С закатом солнца ветер засвежел и отошел к норду.
Обрадовавшись такому неожиданному явлению, я принялся ходить вокруг укрепления. И до пробития зори обошел четыре раза. Значит, я сделал без присесту 12 верст. Прогулка порядочная, но я не почувствовал и тени усталости. Ночь лунная, прекрасная, и я не перенес своего лагеря в беседку, оставив его под вербою, чтобы удобнее было наблюдать ветер по флюгеру, вертящемуся на голубятне. Часы в укреплении пробили 12, ветер не переменился и не ослабел. Добрый знак. В надежде на добрый знак я задремал и на крыльях волшебника Морфея [перелетел] в Орскую крепость, и в какой-то татарской лачуге нашел М. Лазаревского, Левицкого и еще каких-то земляков, играющих на скрипках и поющих малороссийские песни. Я присоединил свой тенор к капелии, и мы пели стройно и согласно:
У степу могила з вітром говорила…Не кончивши этой песни, мы начали другую, а именно «Петруся», и я так громко пропел стихи —
Люблю, мамо, Петруся, Поговору боюся, —что капелия замолчала, а я на последней ноте проснулся. Очнувшись от этого сладкого сновидения, я посмотрел на флюгер. Ветер, слава Богу, все тот же, не переменился. Поворочался, прочитал сколько помню стихов из песни про счастливого белолицого соперника Грыця, снова заснул, моля Морфея продолжить прерванное милое сновидение.
Морфей исполнил мою молитву, только не совсем. Он перенес меня в какой-то восточный город, утыканный, как иглами, высокими минаретами. В тесной улице этого восточного города встречаю я будто ренегата Николая Эврестовича Писарева в зеленой чалме и с длинною бородою. А безрукий Бибиков и рядом с ним Софья Гавриловна Писарева сидят на балконе и тоже в турецком костюме. Они что-то говорили о Киевском пашалыке. Но мне на лицо вскочила холодная лягушка, и я проснулся. Перенеся одр свой в беседку, я снова было скорчился под шинелью, но при всем моем старании заснуть не мог. У меня все вертелся перед глазами ренегат Писарев с своим всемогущим покровителем и с своею бездушной красавицей супругой. Где он? И что теперь с этим гениальным взяточником и с его целомудренной помощницей? Я слышал здесь уже, что он из Киева переведен был в Вологду гражданским губернатором и что в Вологде какой-то подчиненный ему чиновник публично в церкви во время обедни дал ему пощечину. И после этой истинно торжественной сцены неизвестно куда скрылся так громогласно уличенный взяточник.
В ожидании утра я на этом полновесном фундаменте построил каркас поэмы вроде «Анджело» Пушкина, перенеся место действия на Восток. И назвал ее «Сатрап и Дервиш». При лучших обстоятельствах я непременно исполню этот удачно проектированный план. Жаль, что я плохо владею русским стихом, а эту оригинальную поэму нужно непременно написать по-русски.
Есть еще у меня в запасе один план, основанный на происшествии в Оренбургской сатрапии. Не присоединить ли его как яркий эпизод к «Сатрапу и Дервишу»? Не знаю только, как мне быть с женщинами. На Востоке женщины – безмолвные рабыни. А в моей поэме они должны играть первые роли. Их нужно провести, как они и в самом деле были, немыми, бездушными рычагами позорного действия.
Если бы я знал, что эта общипанная «Ласточка» (название почтовой лодки) не принесет мне свободы, я сегодня же приступил бы к делу, вопреки поговорке: тише едешь, дальше будешь.
Пока я записывал свои сновидения, ветер отошел к весту и «Жаворонок» (другая почтовая лодка) на всех парусах полетела в Гурьев. Несносный ветер, мучительная неизвестность.
20 [июля]
Ильин день. Илия-космат; так пишется он в Библии.
Должно быть этот библейский циник был безграмотный, потому что не оставил по себе, подобно другим пророкам, писанного пророчества. У палестинских магометан (если верить Норову) он пользуется таким же почетом, как у евреев и христиан.
Ильин день. Ильинская ярманка в Ромни, теперь, кажется, в Полтаве. В 1845 году я случайно видел это знаменитое торжище. Три дня сряду глотал пыль и валялся в палатке покойного Павла Викторовича Свички. Сам он себя называл только огарком от большой свички и сальным огарком. Это был сын того самого полковника Свички, что, шутки ради, закупил во время конт[ра]ктов в Киеве все шампанское вино без всякой коммерческой цели, а так, чтобы подурачить польских панов, приехавших в Киев с единственной целью покутить. А в своем местечке Городище (Пирятинского уезда) он учредил заставу, чтобы не пропускать никого, ни идущего, ниже в берлине едущего, не накормив его до отвалу и не напоив до положения риз. После таких шуток натурально, что после большой Свечки едва остался маленький огарок. Да и тот скоро погас. Мир праху твоему, мой благородный друже!
Тогда же я в первый раз видел гениального артиста Соленика в роли Супруна («Москаль-чаривнык»). Он показался мне естественнее и изящнее неподражаемого Щепкина. И московских цыган тогда же я в первый и в последний раз слышал и видел, как они отличались перед ремонтерами и прочею пьяною публикою и как в заключение своего дико-грязного концерта они хором пропели:
Не пылит дорога, Не дрожат листы, Подожди немного, Отдохнешь и ты, —намекая этим своим пьяным покровителям, что им тоже не мешало бы отдохнуть немного и с силами собраться для завтрашнего пьянства.
Думал ли великий германский поэт, а за ним и наш великий Лермонтов, что их глубоко поэтические стихи будут отвратительно дико петы пьяными цыганками перед собором пьянейших ремонтеров? Им и во сне не снилась эта грязная пародия.
Что же я еще видел тогда замечательного на этом замечательном торжище? Кажется, ничего больше. Познакомился с распутным стариком Якубовичем (отцом декабриста) и с его меньшим сыном Квазимодо, которому дал на честное слово до завтра два полуимпериала и которые, разумеется, пропали. Еще познакомился с одним из бесчисленных членов фамилии Родзянки. И на третий день моего пребывания в Ромни купил на жилет какой-то материи, фунт донского балыка и с непоименованным Родзянкою выехал из этого омута на Ромодановский шлях.
Вот и все, что я на досуге припомнил о роменской ярманке по поводу Ильина дня.
20-е июля – день, в который я предполагал проститься с моею тюрьмою, так написал и Лазаревскому и Кухаренку, а ветер, олицетворенная судьба, распорядилася иначе. Что делать, посидим еще за морем да подождем погоды. В продолжение Ильина дня и ночи ветер не шелохнулся. Мертвая тишина.
21 [июля]
Записавши роменские воспоминания, я по случаю воскресенья пошел в укрепление побриться и от первого, унтер-офицера Кулиха, услышал, что в 9-м часу утра пришла почтовая лодка. Побрившись, скрепя сердце, я возвращался на огород и, выходя из укрепления, встретил смотрителя полугоспиталя Бажанова, и он первый поздравил меня с свободой. 21 июля 1857 года в 11 часов утра.
В первом часу получил Залецкого письмо от 30 мая.
От трех часов пополудни до трех часов пополуночи под вербою с Фиялковским пили чай и лимоновку и на выдержку прочитали несколько мест Либельта и нашли, что подобные книги пишутся для арестантов, которым даже Библии не дают читать. Замечание довольно резкое и почти верное. Но об этом на досуге.
22 [июля]
По случаю сего радостного для меня события можно бы оставить небольшой пробел в сей прозаической хронике. Но так как в физической моей деятельности, или, лучше сказать, бездействии, не последовало решительной перемены и, как кажется, раньше 8 дня августа не должно ожидать сицевой перемены, то во избежание решительного бездействия, а паче соблазнительной лимоновки, и буду, не нарушая заведенного порядка, по утрам нагревать свой чайник и число за числом стройно, как солдатская шеренга, вести свой журнал. От безделья и это рукоделье.
Сегодня комендант сказал мне, что он не может дать мне пропуск от Новопетровского укрепления через Астрахань до Петербурга, потому что он не имеет приказа по корпусу о моем увольнении, и если таковой приказ не получится на следующей почте, то предполагаемое мною живописное, спокойное и дешевое путешествие Волгою не состоялось. Но это поправная беда. В Оренбурге, с помощию друзей моих Бюрно и Герна, я восстановлю свои оскудевшие фина[н]сы. Жаль только, что ненужное удаление от прямого пути заставляет меня отказаться от желания видеть в нонешнем году художественную выставку в Академии, опоздаю, а еще больше жаль, что я должен отстрочить радостное свидание с Лазаревским и прочими моими земляками-друзьями. А еще более жаль мне, что совершенно лишние 1000 верст отдалят от меня минуту блаженнейшего счастия. Минуту, в которую я сердечною слезою благодарности омочу руку моей благороднейшей заступницы графини Настасии Ивановны и ее великодушного супруга графа Федора Петровича. О мои незабвенные благодетели! Без вашего человеколюбивого заступничества, без вашего теплого, родственного участия к моей печальной судьбе меня бы задушил всемогущий сатрап в этом безотрадном заточении. Благодарю вас, мои заступники, мои избавители. Вся радость, все счастие, вся моя светлая будущность суть ваше нетленное добро, мои единые, мои святые заступники!
Графу Федору Петровичу с это[й] же почтою я напишу письмо. О как бы мне не хотелось писать этих бездушных каракуль, которые выражают только одну чопорную ве[ж]ли[во]сть и ничего больше. Графине Настасии Ивановне я не могу теперь писать: все, что бы я ни написал ей, это и тени не выскажет того восторженно сладкого чувства благодарности, которым переполнено мое сердце и которое я могу излить только слезами при личном моем свидании с нею.
Лазаревскому вместо письма пошлю эти две тетради моего журнала, пускай читает с Семеном во ожидании меня, его искреннего счастливого друга.
На сегодня довольно. Пойду в укрепление, достану свежих чернил от Кулиха, новое перо и бумаги на третью тетрадь для сего журнала. Настала новая эпоха, в моей старой жизни должно быть все новое.
23 [июля]
Кулих, снабдивш[и] меня бумагою, пером и чернилом, предложил мне с собою пообедать, быть может, в последний раз. На такой трогательный довод сказать было нечего, и я согласился тем охотнее, что и Фиялковский, веселый и умный малый, случился тут же и тоже не отказывался от солдатской трапезы. Кулих как каптенармус к обыкновенным щам и каше прибавил кусок жареной баранины, я достал из кармана большой огурец (без этого лакомства я не являюсь в укреплении). А Фиялковский тоже достал из кармана и поставил на стол бутылку с водкой. Непышно, но с аппетитом и так искренно-весело мы пообедали, как дай Бог всем добрым людям так каждый день обедать. За обедом и после обеда Фиялковский забавно подтрунивал над Кулихом, его чином и в особенности над его тепленьким местом. Кулих, чтобы отделаться от неистощимого Фиялковского, обратился ко мне с вопросом, как мне нравится книга, которую он принес для меня из Уральска. Я, разумеется, сказал, что очень нравится, на что Фиялковский страшно захохотал и громогласно назвал Либельта просто дурнем за то, что он написал такую книгу. Пшевлоцкого за то, что он купил эту книгу, а Кулиха дубельтовым дурнем за то, что он 500 верст нес на плечах своих эту пустую увесистую книгу. Кулих не на шутку обиделся такой нецеремонной критикой и требовал ясных доказательств на такую грубую клевету. Чтобы утишить возникавшую ссору, я пригласил приятелей к себе на огород пить чай. Предложение было принято, и мы отправились под мою вербу. Либельт лежал у меня под подушкой, и я во ожидании чайника предложил Фиялковскому прочесть вслух страничку из сего великого творения. Он охотно это исполнил. Кулих не поверил слышанному. Он думал, что Фиялковский импровизирует и продолжает трунить над его тяжелою ношею. Вырвал у него из рук книгу и прочитал сам весь параграф «О фантазии». «Что?» – спросил Фиялковский наивно изумленного Кулиха. «Пшевлоцкий, – отвечал он, – цивилизованный дурень, вот и все». Насмешки Фиялковский возобновил с прежней силою, пока не остановил его своим приходом общий наш приятель Кампиньони. Этот бессовестный пьяница ради рюмки лимоновки не постыдился подойти к нам и поздравить меня с получением свободы. Мы встали и разошлись в разные стороны, предоставив в полное распоряжение незваного гостя чайник и бутылку с лимоновкой. Вежливость за вежливость.
Ночь была лунная, тихая, очаровательная ночь. Я долго гулял по огороду. А нежные наши дамы (комендантша и Бажанова), из опасения простудиться, сидели за сальным огарком в вонючей киргизской кибитке и, разумеется, сплетничали. Им бы предложить эстетику Либельта, что бы они из нее сделали? Наверное, папильотки. И это естественно. Для человека-материалиста, которому Бог отказал в святом, радостном чувстве понимания Его благодати, Его нетленной красоты, для такого получеловека всякая теория прекрасного ничего больше, как пустая болтовня. Для человека же, одаренного этим божественным разумом-чувством, подобная теория также пустая болтовня, и еще хуже – шарлатанство. Если бы эти безжизненные ученые эстетики, эти хирурги прекрасного, вместо теории писали историю изящных искусств, тут была бы очевидная польза. Вазари переживет целые легионы Либельтов.
24 [июля]
Перед рассветом прошел сильный дождь с грозою, и около огорода в запруженную балку налилося с каменных оврагов столько воды, что можно плавать порядочной лодке, что мы и пробовали с Ираклием Александровичем после обеда. Жаль, что в этой лощине песчаный грунт, и вода на поверхности его не может удержаться долго. А какое бы было украшение и польза этому безводному месту.
Вечером капитан Косарев объявил мне, с претензией на благодарность, что он, по приказанию коменданта, отдал приказ по полубаталиону о моем увольнении. За что я нижайше благодарил господина коменданта.
25 [июля]
Весь день провел в гостях у Мостовского на ближней пристани. Он арестован на неделю по распоряжению окружного начальника артиллерии генерала Фреймана, вследствие кляуз своего цейхвахтера, отвратительнейшего надворного советника Мешкова. Арест Мостовского ничего больше, как маска. А надворному советнику велено подать в отставку и передать свою подполковничью должность нижнему чину, какому-то фейерверкеру Михайлу Иванову. Это в своем роде маска.
Перед вечером приехал на пристань комендант и взял меня с собою на огород. А ввечеру еще раз покатались мы на лодке по дождевому ставу.
26 [июля]
Сегодня во весь день и до половины ночи работал я над письмом графу Федору Петровичу и ничего не мог сделать с этим неудающимся письмом. Мне хочется высказаться как можно проще и благороднее, а оно выходит или высокопарно до смешного, или чувствительно до нелепого, или, наконец, льстиво до подлого, но никак не выходит то, чего бы мне хотелось. Это, вероятно, оттого оно у меня не клеится, что я еще не пришел в себя от радости; нужно подождать, еще время терпит, раньше 8 августа почта не отправится из укрепления. Время еще терпит. Записать разве черновое на память и исподволь на досуге поправить во избежание поговорки: поспешить – людей насмешить, как я это сделал моим ответом на письмо графини Настасии Ивановны от 12 октября минувшего года, которым она первая известила меня о предстоящей свободе и на которое я хватил ей такую восторженную чепуху (второпях, разумеется), что она сочла меня или с ума спятившим, или просто пьяным. А чтобы этого и теперь не случилось, то напишу сначала черновое письмо, а попростывши немного, напишу и беловое.
«Ваше сиятельство,
граф Федор Петрович.
Вашему великодушному заступничеству и святому, человеколюбивому участию графини Настасии Ивановны обязан я моей новою жизнию, моим радостным обновлением. Я теперь так счастлив, так невыразимо счастлив, что не нахожу слов достойно выразить вам мою сердечную, мою бесконечную благодарность. Без вашего человеколюбивого, христианского участия в моей безотрадной судьбе меня задушили бы в этой широкой тюрьме, в этой бесконечной безлюдной пустыне. А теперь я свободен, теперь независимо ни от чией воли я строю свое радужное будущее, свое безмятежное грядущее. Какая радость, какое полное счастие наполняет мою душу при мысли, что я снова увижу Академию, увижу вас, моего единого спасителя, и слезами радости и благодарности омочу ваши чудотворящие руки. Молю Милосердого Господа сократить путь и время к этому беспредельному счастию. А теперь, Боже Всемогущий, услыши мою чистую, искреннюю молитву и надолго-долго продли ваши драгоценные дни для славы божественного искусства и для счастия людей, близких вашему любящему сердцу.
21 июля получено здесь официальное известие о моем освобождении. В тот же день я просил коменданта дать мне пропуск через Астрахань до Петербурга, но он без воли высшего начальства не может этого сделать. И я для получения драгоценного этого паспорта должен побывать еще раз в Оренбурге и сделать по этому случаю 1000 верст лишних почти по пустыне. Но Господь Милосердый, помогавший мне исходить во всех направлениях эту безлюдную пустыню, не оставит меня и на этом теперь коротком пути. Грустно только, что этот ненужный путь отдалит по крайней мере на месяц радостную минуту свидания с вами и с графиней Настасией Ивановной, главной виновницей моего счастия.
Всемогущий и Премилосердый Господь не оставил меня здоровьем в этом долголетнем и суровом испытании; и любовь, которую я с раннего детства бессознательно питал к прекрасным искусствам, теперь посылает Он мне любовь сознательную и светлую и крепкую, как алмаз. Живописцем-творцом я не могу быть, об этом счастии неразумно было бы и помышлять. Но я, по приезде в Академию, с Божию помощию и с помощию добрых и просвещенных людей, буду гравером à la aquatinta и, уповая на милость и помощь Божию и на ваши советы и покровительство, надеюсь сделать что-нибудь достойное возлюбленного искусства. Распространять посредством гравюры славу славных художников, распространять в обществе вкус и любовь к доброму и прекрасному – это чистейшая, угоднейшая молитва Человеколюбцу Богу. И посильно бескорыстная услуга человеку. Это мое единственное, непреложное стремление. На большее я не могу надеяться. И только буду просить не оставить меня вашим просвещенным содействием в этой моей милой лучезарной надежде.
Целую руку моей святой заступницы г[рафини] Н[астасии] И[вановны], целую вас, ваше семейство, целую все близкое вашему доброму сердцу и остаюсь по гроб благодарный художник Т. Шевченко».
Я не мог себе отказать в радости подписать под этим черновым письмом «художник Т. Шевченко». В продолжение 10 лет я писался и подписывался «рядовой Т. Шевченко». И сегодня в первый раз написал я это душу радующее звание.
27 [июля]
Сегодня за обедом Ираклий Александрович сообщил мне важную художественную новость, вычитанную им в «Русском инвалиде». Новость эта для меня интересна своею неновостью. «Инвалид» извещает, что наконец колоссальное чудо живописи, картина Иванова «Иоанн Креститель» окончена! И была представлена римской публике во время пребывания в Риме вдовствующей императрицы Александры Федоровны. И по словам самого художника, в газете сказано скромного, произвела фурор, какого он не ожидал. Дай Боже нашому теляти вовка зъисты. Но мне что-то страшно за автора «Марии Магдалины». Двадцатилетний труд сохранил ли сочность и свежесть жизни, не увял ли он, как южный роскошный цветок от долгого и ненужного поливания? Не заплесневел ли он, как хмельное пиво от долгого брожения? Боже сохрани всякого артиста от такого печального и запоздалого урока.
Еще будучи в Академии, я много слышал об том колоссальном, тогда уже почти оконченном труде. Художники нерешительно говорили об нем. Аматоры решительно восхищались, в том числе и покойный Гоголь. Карл Павлович Брюллов никогда ни слова не говорил о картине Иванова, самого же Иванова в шутку называл немцем, т. е. кропуном. А кропанье, по словам великого Брюллова, верный признак бездарности, с чем я не могу согласиться в отношении Иванова, глядя на его «Марию Магдалину».
Восторженное письмо Гоголя ничего не сказало художнику, ни даже опытному знатоку об этом произведении. Теоретики все одним миром мазаны. Граф де Кенси написал отличнейший трактат о «Юпитере Олимпийском» – статуе Фидия. Издал его in folio великолепно, для своего времени (в начале текущего столетия), и если бы не приложил к своему роскошному изданию рисунков, художники бы подумали, что душа самого великого Фидия говорит устами вдохновенного графа. Но неуклюжие изобличители-рисунки испортили все дело. Как после этого верить этим восторженным теоретикам? Говорит как будто бы и дело, а делает черт знает что. Почтенному графу, вероятно, нравились эти рисунки-уроды, если он приложил их к своему ученому трактату.
Как бы я был рад, если бы картина Иванова опровергла мое предубеждение. К коллекции моих будущих эстампов à la aquatinta прибавился бы еще один великолепный эстамп.
О картине Моллера «Иван Богослов проповедует на острове Патмосе во время праздника бакханалий», о которой я случайно прочитал в «Русском инвалиде», что она показывается в Петербурге публично в пользу раненных в Севастополе. Не знаю, почему я имею выгоднее понятие о картине Моллера, чем о многолетнем произведении Иванова.
28 [июля]
Еще вчера, т. е. в субботу вечером, уговорились мы с Фиялковским провести сегоднишний воскресный [день] где-нибудь подальше от противного укрепления, и для сей уединенной радости назвали место в балке, в глубоком диком овраге, верстах в пяти от укрепления, где можно найти и защиту от солнца под скалами, и родниковую свежую воду. Уговорились мы идти туда рано и провести весь день в ущельях этого мрачного оврага. Насчет провианта положено было, чтобы он взял кусок сырой баранины, фунтов 5-ть, для кебаба, хлеба соразмерную долю и бутылку водки. А я – чайник, чаю, сахару, стакан и 5-ть огурцов. Все улажено как нельзя лучше, и дешево и забористо. И я уже по своему обыкновению сибаритствовал умственно в объятиях мрачного оврага. Прошла ночь, настало утро, и солнышко взошло, а Фиялковский не является на огород, как мы условились. Я ждать-пождать, а его все нет как нет. Я нагрел чайник и принялся за чай, не переставая смотреть на укрепление. Наконец ругнул я изменника хорошенько и принялся строчить новую тетрадь. А Андрий Обеременко (огородник от подвижной команды и близкий мой земляк), которого я пригласил с собою в балку в виде товарища и мехоноши, выпивши вместо стакана чаю рюмку водки, принялся ругать проклятого нечестивого ляха.
Поусумнившись достаточно в достоинстве многолетнего труда Иванова, я закрыл тетрадь и пошел в укрепление разрешать задачу, заданную мне паном Фиялковским. Прихожу, а он сидит на крылечке около казарм и ругает Дахмищина, солдата-жида, за то что он не дает ему более 20 копеек за койку. «А что же ты, – говорю я, – про балку забыл?» «Постой, дай кончить гандель», – говорит он. Кончивши гандель, он признался мне, что от заката до восхода солнца тянул штоса и протянулся до снаги. Кулих даже подушку взял. Пособолезновав немного о его неудаче, я предложил снова путешествие в балку уже в 3 часа после обеда, взявши на свой кошт и хлеб, и мясо, и водку. Он охотно согласился, и мы, сказавши друг другу «непременно», расстались. Взял я у артельщика в долг 5 фунтов баранины, столько же фунтов хлеба и, возвратясь на огород, послал Оберем[ен]ка в кабак за водкою.
После обеда я по обыкновению вздремнул немного под вербою, и ровно к трем часам собрались мы с Обеременком в дорогу. Собравшися, уселись мы снова под вербою, пробило 4 часа, нема нашего пана Фиялковского. Андрий молча посмотрел на меня и принялся снова за свою люльку-буруньку. Пробило и пять часов, а пана Фиялковского не видать. Андрий снова посмотрел на меня и уже не вытерпел – плюнул. Прошло еще полчаса, и Андрий начал розташовувать торбу с провиантом и, вынимая баранину, проговорил: «Понапрасну тилько добро знивечилы. Сказано – лях, – прибавил он как бы про себя, – невира. То так и пропаде, так и здохне невирою». Я не нашел нужным убеждать Андрия в противном, велел ему отдать баранину в комендантскую кухню и просить повара зажарить ее к вечеру, а сам пошел на ближнюю пристань навестить заключенного друга Мостовского.
Проходя мимо первой батареи, или флагштока, я увидел внизу под скалою кучку солдат, играющих в орлянку. Сначала я не обратил внимания на эту весьма обыкновенную картину. Но мне как будто шепнул кто-то, не здесь ли Фиялковский? Всматриваюсь и глазам не верю. Мой Фиялковский, спустив с правого плеча шинель, с ловкостью знатока дела бросил что-то вверх, кружок игроков быстро поднял головы и потом медленно опустил, крикнувши: «Орел!» Фиялковский нагнулся очистить кон, а я, пожелав ему успеха, пошел далее.
Погостивши у Мостовского до восхода едва ущербленной луны, я собрался в обратный путь. Прощаясь, он благодарил меня за навещение и еще за то, что два года тому назад я не принял его благородного предложения поселиться у него на квартире. Теперь он только понял, какую подлую кляузу мог вывести Мешков из нашего сожительства. У него не дрогнула бы рука воспользоваться силою военных уголовных законов, где сказано, что офицер, позволивший себе фамильярное обращение с нижним чином, предается военному суду. Теперь только он увидел пропасть, от которой я его отвел, зная лучше отвратительного надворного советника Мешкова.
Ночь лунная, тихая, волшебная ночь. Как прекрасно верно гармонировала эта очаровательная пустынная картина с очаровательными стихами Лермонтова, которые я невольно прочитал несколько раз как лучшую молитву Создателю этой невыразимой гармонии в своем бесконечном мироздании. Не доходя укрепления, на каменистом пригорке я сел отдохнуть. И глядя на освещенную луной тоже каменистую дорогу, и еще раз прочитал:
Выхожу один я на дорогу, Предо мной кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, [И] звезда с звездою говорит.Отдыхая на камне, я смотрел на мрачную батарею, высоко рисовавшуюся на скале, и многое, многое вспомнил из моей прошлой невольнической жизни. В заключение поблагодарил Всемогущего Человеколюбца, даровавшего мне силу души и тела пройти этот мрачный, тернистый путь, не уязвив себя и не унизив в себе человеческого достоинства.
Успокоив себя святою молитвою, я побрел тихонько на огород, нарушив глубокую тишину очаровательной ночи песнею:
Та нема в світі гірш нікому, Як сіромі молодому.Не доходя с полверсты до огорода (это уже было в первом часу ночи), меня встретил Андрий Обеременко вопросом: «Де це вас Бог носыть до такои добы?» – У гостях, кажу, був. – «Та я бачу, що в гостях, бо добри люды тилько йдучи з гостей спивають». Я, как будто не слышу его слов, запел:
Іде багач, іде дукач, П’ян шатається, Над бідною голотою Насміхається.– Та годи вже вам, – перебивает меня ласково Андрий, – идить лучче та покладиться спать. – А я продолжаю:
Один веде за чуприну, Другий з тила б’є, — Не йди туди, вражий сину, Де голота п’є.Андрий, убедившись, что я совершенно пьяный, взял меня осторожно под руку, привел к вербе, разостлал свою шинель, нарвал и положи[л] под голову бурьяну, положил меня, перекрестил и ушел. Мне не приходилося разочаровывать старика в его богоугодном подвиге и тем более являть перед ним свои лицедейские качества. Я от души молча поблагодарил его и, недолго поворочавшись, заснул.
29 [июля]
Видел во сне Семена Артемовского с женою, выходящего от обедни из церкви Покрова. На Сенной площади будто бы разведен парк, деревья еще молодые, но огромные, в особенности поразил меня своею величиною папоротник. Настоящий китайский ясень. В парке встретили Кулиша, тоже с женой, и вместе пошли в гости к Михайлу Лазаревскому.
Все, что сердцу дорого, сгруппировалось на этот раз в моем сновидении. И если б не проклятые курчата своим несносным чокотаньем меня разбудили, я непременно бы увидел еще кого-нибудь из дорогих моих друзей. И мало того, что бегают около тебя, визжат, кокочут. Нет, нужно еще тебе на лицо вскочить да за нос ущипнуть. Счастлив ты, храбрый молодец, что не попался мне под руку, а то бы я оторвал смелую голову, чтобы ты знал, как клевать доброго человека, когда он спит и видит во сне такие отрадные, милые серд[ц]у лица.
Разбуженный так некстати чубатеньким нахалом, я встал и ушел в беседку с твердым намерением продолжить прекрасное видение. Но при всем моем желании этот проект мне не удался. Солнце, которое другой раз так вяло, медленно подымается из-за горизонта, тут как на смех быстро выскочило, как бы желая поощрить бесчеловечный поступок чубатого нахала и поднять на ноги смиренно в углах дремавших мух. Делать нечего. Трудно противу рожна прати, делать нечего, я встал, уготовал себе трапезу, т. е. чай, и пошел искать человеколюбивого Андрия, так любовно успокоившего меня вчера под вербою. Чтобы столь милосердый подвиг достойно оценить, я думал его попотчевать
Чаєм шклянкою І горілки чаркою.Но увы! Это доброе намерение мне не удалось. Андрий (чего я никак не ожидал) спал сном праведника в своей темной землянке. Зная из недавнего опыта, как невежливо и нехорошо нарушать чужой покой, я оставил Андрия в покое, вполне уверенный, что старик позволил себе вчера лишнюю чарку, что с ним если и случается, то весьма, весьма редко. Артиллерийский огородник, его друг и товарищ по землянке, приятно рассеял мое не совсем выгодное предположение в отношении Андрия. Он сказал мне, что прошлой ночью Андрий был очередным ночным сторожем огорода и, разумеется, во всю ночь не спал. Так теперь и пополняет ущерб.
Делать нечего. Чаю шклянку и горилки чарку отложил до другого разу, а теперь напишу несколько строк в моем журнале на память о тебе, мой настоящий, простой, благородный земляк.
Вскоре по прибытии моем в укрепление, я заметил в солдатской публике (другой публики в укреплениях не имеется), в этой однообразной жалкой публике, совершенно не солдатскую фигуру. Походка, физиономия, даже шапка-чабанка – все в нем обличало моего земляка. Спрашиваю, что это за человек такой. Мне отвечают, что это Андрий, госпитальный служитель и хохол. Этого-то мне и нужно. Физиономия его показалась мне более суровою, нежели вообще у земляков моих. И потому-то я начал с ним сближаться издалека и осторожно. Удостоверившись от его ближайшего начальства, от унтер-офицера Игнатьева и капитана Балагурова, смотрителя полугоспиталя, что Андрий Обеременко примерной честности и трезвой жизни человек, я начал искать случая поговорить с ним наедине по-своему. Но он как будто бы заметил мои маневры и, как казалось, старался отклонить от себя эту честь. Меня это более подстрекало на сближение.
Большую часть бессонных ночей в Новопетровском укреплении провел я, сидя на крылечке у офицерского флигеля. Однажды, это было зимой часу в третьем ночи, сижу я по своему обыкновению на крылечке, смотрю – из лазаретной кухни выходит Андрий. Он тогда занимал должность хлебопека и квасника. Завидное место огородника я уже ему выхлопотал. «А що, – говорю я, – Андрию, и тоби, мабуть, не спыться?» «Та не спыться, матери его ковинька», – сказал он. Я затрепетал, услыша его чистый, неиспорченный родной выговор. Я попросил его посидеть трохи со мною, на что он неохотно согласился. Разговор начал я, как это обыкновенно водится между солдатами, спросом, которой земляк губернии и т. д. На мой спрос Андрий отвечал, что он губернии Киевской, повита Звенигородского, из села Ризанои, «тут, коло Лысянки, колы чувалы», – прибавил он; а я прибавил, что не тилько чував, а сам бував и в Лысянци, и в Ризаний, и в Русаливци, и всюды. Одним словом, оказалось, что мы самые близкие земляки. «Я сам бачу, – сказал он, – що мы свои, та не знаю, як до вас приступыты, бо вы все то з офицерами, то з ляхами тощо. Як тут, думаю, до его пидийты. Може, воно й сам який-небудь лях, та так тилько ману пускає». Я принялся снова уверять его, что я настоящий его земляк, искренно желал продолжать разговор, но пробило 3 часа, и он ушел топить печь для хлебов и для квасу.
Так началося наше личное знакомство с Андрием Обеременком. И чем далее – более узнавали мы друг друга и более привязывались друг к другу. Но наружные отношения наши остались те же самые, что и в первое наше свидание. Он себе не позволял ни одного шагу наружного сближения, ни тени ласкательства, как это делали другие. Подозревая во мне, не знаю почему, богача-земляка и даже родственника коменданта, Андрий наравне с другими верил во все это, но при других он даже не кланялся со мною, чтобы не подумали другие, что он навязывается ко мне в друзья. Местом наших постоянных свиданий было помянутое крылечко, а время – ночь, когда все, кроме перекликавшихся часовых, спало. Невозмутимо холодная и даже суровая наружность его обличала в нем человека жесткого, равнодушного. Но это маска. Он страстно любит маленьких детей, а это верный знак сердца кроткого, незлобивого. Я часто как живописец любовался его темно-бронзовой усатой физиономией, когда она нежно льнула к розовой щечке младенца. Это была одна-единственная радость в его суровой одинокой жизни. Независимо от его простого благородного характера, я полюбил его за то, что он в продолжение двадцатилетней солдатской пошлой, гнусной жизни не опошлил и не унизил своего национального и человеческого достоинства. Он остался верным во всех отношениях своей прекрасной национальности. А такая черта благородит и даже неблагородного человека. Если мелькали светлые минуты в моем темном долголетнем заточении, то этими сладкими минутами я обязан ему, моему простому благородному другу Андрию Обеременку.
Пошли же тебе Господи, мой неизменный друже, скорый конец испытанию. И поможи тебе Пресвятая Матерь Всех Скорбящих пройти эти безводные пустыни, напиться сладкой Днепровой воды и вдохнуть в измученную грудь живительный воздух нашей прекрасной, нашей милой родины!
В продолжение дня я не видался с Андрием. Перед вечером пошел я нарисовать вид первой батареи с того самого места, с которого я ночью любовался ею, возвращаясь от Мостовского. Когда-нибудь сделаю акварельный рисунок. Уже стемнело, когда я возвратился на огород. Под вербою сидел Андрий и встретил меня таким вопросом: «А що мы будем робыть з отым мнясом?» – «З яким?» – «А що на льоди другый день валяється». – «Собакам його выкинуть. А як не смердыть, то повечеряем». – «Я вже вечеряв». «А я не хочу вечерять», – сказал я и уже хотел идти в беседку. «А знаете що?» – сказал Андрий, останавливая меня. «Не знаю що». – «Ходимо з отым мнясом завтра раненько в балку та поснидаем до ладу». – «Добре, ходимо». – «Та не берить з собою отого цыгана, отого проклятого ляха. Нехай вин сказыться». – «Добре, не визьмемо никого». И мы расстались.
5 [августа]
В 5-ть часов вечера приплыл я на самой утлой рыбачьей ладье в город Астрахань. Все это так нечаянно и так быстро совершилось, что я едва верю совершившемуся. Я, как во сне виденную, припоминаю теперь прогулку мою в балку с Андрием Обеременком, после которой на другой день, т. е. 31 июля, Ираклий Александрович внезапно согласился дать мне пропуск прямо в Петербург. На другой же день он сдержал свое слово, а на третий, т. е. 2 августа в 9 часов вечера, оставил [я] Новопетровское укрепление. И после трехдневного благополучного плавания по морю и по одному из многочисленных рукавов Волги прибыл в Астрахань.
6 [августа]
Астрахань – это остров, омываемый одним из протоков Волги, перерезанный рядом вонючих болот, называемых рекою Кутумом, и каналом, ни в чем не уступающим реке Кутуму. Полуостров этот окружен густым лесом мачт и уставлен живописными бедными лачугами и серыми, весьма неживописными деревянными домиками с мезонинами, не похожими на лачуги потому только, что из них выглядывают флотские и вообще официальные физиономии. Всю эту огромную безобразную серую кучу мусору венчают зубчатые белые стены Кремля и стройный великолепный пятиглавый собор московской архитектуры 17-го столетия. Таков город Астрахань. Но не таким он мне представлялся, когда я, подходя к Бирючей Косе (главная застава в устьях Волги), увидел сотни, правда, безобразных кораблей, нагруженных большею частию хлебом; мне представлялась Венеция времен дожей, а оказалось – гора мышь родила. А проток Волги, окружающий Астрахань и сообщающий ее с Каспийским морем, глубиной и шириной Босфору не уступит. Но проток этот омывает не Золотой Рог, а огромную кучу вонючего навоза. Где же причина этой нищеты (наружной) и отвратительной грязи (тоже наружной) и, вероятно, внутренней? Где эта причина? В армяно-татарско-калмыцком народонаселении или в другой какой политическо-экономической пружине? Последнее вероятнее. Потому вероятнее, что и другие наши губернские города ничем не уступают Астрахани, исключая Ригу.
Из множества частных пароходов теперь ни одного нет в Астрахани по причине Макарьевской ярманки. Пароход «Меркурий» возвратится в Астрахань не прежде 15 августа, а к 20 августа нагрузится и пойдет в Рыбинск и меня довезет до Нижнего. А пока я волею-неволею делаюся соглядатаем сего нарочито грязного города.
7 [августа]
Ай да Астрахань! Ай да портовый город! Ни одного трактира, где бы можно хоть как-нибудь пообедать, а о квартире в гостинице и говорить нечего. Зашел я в одну сегодня из так называем[ых] гостиниц на Косе Герап (на астраханском Золотом Роге), спросил чего-нибудь поесть. И запачканный вертлявый половой отвечал мне, что все, что прикажете, все есть, кроме чаю. А на поверку оказалось, что ничего не имеется, кроме чая, даже обыкновенной ухи. Это в Астрахани, в городе, который половину огромного русского царства кормит осетриной! И если бы не приехал сюда, по делам службы, двумя месяцами прежде меня, Новопетровского укрепления плац-адъют[ант] Бурцов, то мне пришлось бы ночевать если не на улице, так в калмыцкой кибитке. Они здесь так же чисты, как и грязные лачуги, но гостеприимнее. Спасибо Бурцову, он приютил и накормил меня в этом негостеприимном улусе.
8 [августа]
На человека, прозябавшего, как я, семь лет в нагой пустыне, всякий, даже богоспасаемый город Белебей (самый ничтожный городишка Оренбургской губернии), должен бы был сделать приятное впечатление. Со мной случилося не так. Стало быть, я не совсем еще одичал. Это хорошо. Сегодня поутру вышел я в город с намерением отыскать колбасную лавку, чтобы запастись прочной провизией для дороги и попристальнее всмотреться в наружность города. Проходя по Московской улице (Невский проспект), у меня начало сглаживаться первое неприятное впечатление. Улица хоть куда. Дома большею частию трехэтажные, украшенные снизу, как водится, вывесками, преимущественно голубыми с золотом. Из лавок, преимущественно галантерейных, выглядывают вяло красивые армянские, а изредка и персидские выразительные физиономии. Гостиный двор, несмотря на массу, здание легкое и даже грациозное, здание во вкусе Гваренги. Губернаторский дом тоже здание массивное, в отношении к частным домам, бельэтаж а-ля ренессанс, смотрит весело, вроде бонтонного отеля, поддерживаемый массивною галереєю аркад, под которыми помещаются лавки с разными благородными товарами, в том числе и с кумысом. Сначала меня это поразило своей дисгармонией – в жилище представителя верховной власти лавки с разными товарами, в том числе и с кумысом. Странно. Но как мирная промышленность не может иначе процветать, как под эгидою власти, то я на этой мысли помирился и пошел далее. Обойдя вокруг покрытый пылью сквер, я вышел в дру[гу]ю, параллельную Московской, улицу, уже менее украшенную вывесками и армянами. Из этой ничем особенно не примечательной улицы я взял налево и, перейдя деревянный мост, очутился за Кутумом.
Пройдя шагов сто по улице, перед домом, наружностию своей напоминающим загородный трактир средней руки, деревянный, одноэтажный, с бельведером, и по широкой, окружающей бельведер галерее, усатый кавалер в сером пальтосак и с серебряным Георгием прохаживается и с достоинством посматривает на снующихся плебеев, калмыков и татар. Настоящий гренадер под фирмою Лон-лакея. Не дворянское ли это астраханское собрание? – подумал я и хотел идти далее, как мне мелькнула в глазах над воротами желтая табличка с надписью: «Дом Сапожник[ов]а». Не будь Александр Александрович Сапожников бриллиантового звездою астраханского горизонта и безмездным астраханским метрдотелем, я зашел бы к нему, как старому знакомому, но эти великолепные его недостатки меня остановили.
За домом и садом Сапожникова видны вдали лачуги. Я как живописец люблю шляться по этим грязным живописным закоулкам, но как человек, искренно любящий человека, я перед домом миллионера сделал налево кругом и вскоре очутился в центре города.
В центре города, т. е. на Московской улице, зашел я в гостиницу под фирмою «Москва», спросил себе пару чаю и уселся в компании татар и армян. Машину накрутил какой-то молодец в солдатской шинели, и она задребезжала увертюру «Роберта-Дьявола». Несмотря на отсутствие всякой гармонии, меня тронула, и до слез тронула, эта изуродованная красавица мелодия. Значит, я давно уже не слушал ничего и похожего на музыку. Барабан и горн очерствил мой слух, но не очерствил сердца, воспринимающего прекрасное.
После увертюры «Роберта» машина зашипела «Уж как веет ветерок». Я и это шипение прослушал с наслаждением и, почти примиренный с Астраханью, заплатил пятиалтынный за чай, вышел на улицу.
Московская улица. Существует ли хоть один губернский город в России без Московской улицы? Кажется, нет. А без колбасной лавки существуют многие губернские города, в том числе и портовый город Астрахань. Дрянь, никуда не годный портовый город Астрахань. Я обошел все главные и неглавные улицы. Прочитал всех цветов большие и малые вывески, говорившие большею частию о продаже чихиря и панских товаров, но ни одна из них не сказала о продаже копченых колбас. Эх, немцы, немцы сарептские, и вы акклиматизировались, а я наверняка рассчитывал на вашу стойкую колбасолюбивую натуру.
После обеда, по наставлению Авдотьи, кухарки Бурцова, пошел я отыскивать немецкую булочную, в которой, по ее словам, продаются и немецкие колбасы. Топография города уже мне более или менее известна. И я, по указаниям той же Авдотьи, без особенного труда нашел немецкую булочную. Добродушная круглая физиономия немца вытянулась и осторожно улыбнулась, когда я вместо булки спросил колбасу. Но как я не шутя спрашивал, то немец не шутя и отвечал мне, что он булочный, но не колбасный мастер, и что колбасного мастера во всем городе нет ни одного, и что если в сарептской лавке я не найду этого товару, то до самого Саратова я не увижу ни одной колбасы. Но так как сарептская лавка, по сказаниям того же немца, весьма не близка к центру города, то я и отложил мои поиски до завтрашнего дня.
Сегодня 8-е августа. Сегодня выйдет почтовая лодка из Новопетровского укрепления в Гурьев-городок и возьмет с собою Фиялковского и прочих освобожденных вместе со мною. Желаю тебе лучшей будущности, Фиялковский, ты вполне ее достоин. На расставаньи он и Мостовский дали мне свои будущие адресы, но едва ли у нас завяжется когда-нибудь переписка, потому что я не принадлежу к касте пустомелей, а они, как люди более меня практические, тоже не будут переливать из пустого в порожнее. Но я всегда сохраню воспоминание об вас, мои благородные друзья.
9 [августа]
В 5 часов утра пошел я от нечего делать на косу (пристань) проведать моих новопетровских аргонавтов, так быстро переплывших со мною Хвалынское море. Рыбу они свою продали, купили хлеба и с этим золотым руном отплывут завтра к пустынным берегам полуострова Мангишлака. Желаю вам счастливого плавания, бесстрашные плаватели. Поклонитеся от меня прибрежным скалам, на которых я провел столько бессонных ночей. Поклонитеся от меня коменданту и благородному Мостовскому. И больше никому.
Простившись с аргонавтами, я прошел на малые исады (съестной базар). Кроме фрукт[ов], огородной зелени и хлеба печеного, на этих исадах я ничего не заметил, мясо не продается по случаю поста, а рыба продается на лодках. Публика рыночная, как и везде, перекупки, повара и кухарки, изредка попадается заплывшая жиром купчиха-гастрономка да такого же содержания особа духовного чина, сугубо рачащая о плоти греховной. У щеголя краснобородого кизылбаша купил я за 5 копеек серебра 5 головок чесноку (это добро доставляется сюда из Персии) и отправился в Кремль полюбоваться вблизи красавцем собором. Он, как щеголь 17-го века, красуется в кружевах перед всем городом.
По слухам знаю я о существовании книги под названием «Описание города Астрахани». Но о приобретении ее здесь, на месте, и помышлять нечего. Город, не имеющий книжной лавки, значит, и читателей не имеет. А как бы кстати иметь теперь в руках эту книгу. Там, верно, помещены документальные сведения о времени построения Кремля и собора, как главные украшения города. Кто же мне заменит эту дорогую книгу? К кому обратиться мне с моим любопытством? И как ранняя обедня еще не отошла, то я пошел прямо в собор с целию встретить там священника и обратиться к нему с моей антикварской любознательностью. К счастию моему, я встретил самого ключаря собора отца Гавриила Пальмова. Так он мне рекомендовался. Но удовлетворить мое любопытство сегодня он не мог по недостатку времени и назначил мне свидание в соборе в воскресенье после поздней обедни. Подожду.
10 [августа]
Ходил в контору «Меркурия» узнать, скоро ли прилетит этот сын Юпитера. И мне сказали, что его ожидают не ближе 15 августа, а к 20 августа выйдет обратно в Нижний. Ожидание, как всякое ожидание, несносно. Но к этому ожиданию лепятся еще издержки, которые я думал устранить, прилепившись у Бурцова на квартире. А он, как на грех, вздумал жениться (это общая слабость Новопетровского гарнизона). 17 августа у него свадьба, и я, разумеется, оказался совершенно лишним человеком. С целью отыскать себе угол на несколько дней, пошел я шляться по переулкам вокруг конторы «Меркурия». Здесь все заперто, кроме скворешниц на высоких шестах, свидетельствующих о жилищах меломанов. Постучался я в несколько запертых ворот наугад, потому что билетиков здесь над ворота[ми] не приклеивают, как это водится в порядочных городах. После долгих поисков удалось мне открыть наемный чулан с миниатюрным окном, выходящим прямо на помойную яму. На безрыбьи и рак рыба, на безлюдьи и Фома человек, говорит пословица. Вследствие этой мудрой пословицы, с завтрашнего дня я но чую в чулане за 20 коп. серебра в сутки, 6 рублей в месяц чулан с помойною ямой! Да это хоть и в Сан-Франциско, так впору.
Давши задаток, я пришел к Бурцову, и, по случаю духоты и пыли на улице, я пробыл весь день в комнате, написал радостные письма друзьям моим Лазаревскому и Герну. Кухаренку напишу завтра. Ожидаю от него ответа на «Москалеву криныцю». Не знаю, что значит его молчание?
Перед вечером вышел я, как говорится, и себя показать и на людей посмотреть. Вышел я на набережную канала. Здесь это Англинская набережная, в нравственном отношении, а в физическом – деревянная, досчатая. Канал сам по себе дрянь. Но как дело частного лица, это произведение гигантское, капитальное. Я не мог добиться время его построения, узнал только, что он построен на кошт некоего богатого грека Варвараци. Честь и слава покойному эллину. Так на этой-то набережной по вечерам рисуется цвет здешнего общества.
Женщины здешние ненатурально белы и преимущественно чахоточны. Мужчины вообще в белых фуражках с кокардою, не исключая и мужчин гражданского ведомства. Непонятная любовь к ливрее. Нередко попадаются львы и львицы, эти повсеместные плотоядные не климатизируются, они и здесь такой же шерсти, как и в Архангельске, как и везде. Плебейская же физиономия калмыка и татарина здесь редко покажется, ее место на исадах и в грязных переулках. Всматриваясь пристальнее в господствующую здесь узкоглазую физиономию калмыка, я нахожу в ней прямодушное, кроткое выражение. И эта прекрасная черта благородит этот некрасивый тип. Вернейшие слуги и лучшие работники здесь суть калмыки. Любимый цвет – желтый и синий, пища – какая угодно, не исключая и падали. Место жительства – кибитки, а занятия – рыбная ловля и вообще тяжелая работа. Мне понравились эти родоначальники монгольского племени.
11 [августа]
После поздней обедни в соборе обязательный отец Гавриил показал мне ризницу собора, замечательную немногими, но по достоинству работы и старины весьма редкими вещами. Первое, что он мне показал, это плащаница, шитая шелками и золотом, времен Ивана Грозного и, по преданию, отбитая у Марины Мнишек. 2. Печатное, плохо сохранившееся Евангелие 1606 года. 3. Сакос, шелками и золотом шитый, епископа Иосифа, убиенного Разиным. 4. Фелон, шелками и золотом шитый, того же епископа. 5. Архиерейский посох удивительно тонкой работы, дар царя Бориса Годунова. 6. Серебряный ковш искусной работы, дар царя Петра Первого 1701 года. Огромный потир венецианской работы 1705 года. Время заложения собора – 1698 года, и освящения – 1710 года 14 августа. На вопрос мой, кто был архитектором этого колоссального и прекрасного собора, отец Гавриил отвечал – простой русский мужичок. Не мешало бы Константину Тону поучиться строить соборы у этого русского мужичка. Я, разумеется, не противуречил и спросил его о времени построения Кремля. Он отвечал: «Борисом Годуновым. А малый Троицкий собор построен царем Иваном Грозным вскоре после взятия у татар Астрахани», – прибавил он, замыкая ризницу. И на том спасибо.
12 [августа]
В 7 часов утра пришел сверху пароход «Князь Пожарский», принадлежащий компании «Меркурия». Я пошел в контору справиться о его обратном рейсе. Определительно в конторе мне ничего не сказали. Хотел взять билет, и его не дали за отсутствием главного приказчика. В надежде на скорое отплытие и по случаю умеренной духоты, я пошел шляться из улицы в улицу, не теряя надежды отыскать хоть какую-нибудь колбасную лавку. Но увы! Кроме пыли, смраду и вечной вывески – продажа чихиря, я ничего не встретил.
Чем дальше в лес, тем больше дров. Возвращаясь из сарептского магазина, в котором все есть, кроме копченой колбасы и сарептской горчицы в банках, ругнул я моих приятелей-немцев, разумеется, выйдя на улицу. Полюбовался вычурно-грубой старой архитектурой церкви Рождества Богородицы, морского ведомства. И по наставлению отца Гавриила пошел отыскивать градскую библиотеку. Против губернаторского сквера прочитал я на бледно-голубой вывеске: «Публичная библиотека для чтения». «Браво, – подумал я, – в Астрахани публичная библиотека. Стало быть, и чтецы имеются». Замарашка мальчуган указал мне вход в это святилище, и я благоговейно поднялся во второй этаж и вступил в единственную залу библиотеки. Библиотекарь, в сертуке с красным воротником и с гренадерскими усами, которого я принял за полицейского чиновника, сказал мне, что книги Рыбушкина «Описание города Астрахани» в настоящее время в библиотеке не имеется, а что она находится у бухгалтера общественного призрения Васильева. Я объяснил ему, что я нездешний, но он все-таки послал меня в приказ общественного призрения. Делать нечего, отправился к помянутому бухгалтеру Васильеву. И от сего почтенного старичка получил надежду прочитать книгу Рыбочкина завтра в 9 часов утра.
13 [августа]
Переночевал кое-как в новой квартире, или, вернее, в чулане. Поутру пошел отворить ставню, и меня какой-то сытый бородач окатил помоями из полоскательной чашки и меня же выругал за то, что меня чорт носит спозаранку под окнами. Я ругнул его бородатым старым ослом и отправился к Бурцеву чай пить. После чая написал Кухаренку письмо, нарочито небольшое. И с лоскутком бумаги и кусочком карандаша пошел в Публичную библиотеку для чтения. Библиотекарь с красным воротником и гренадерскими усами объявил мне, что бухгалтер Васильев не сообщил еще желаемой мною книги. Я остался ждать, потому что бухгалтер Васильев вчера сам мне обещал представить книгу в библиотеку непременно к 9 часам.
В ожидании «Описания города Астрахани» Рыбушкина я спросил каталог Публичной астраханской библиотеки. Каталог тоже был на дому у какого-то важного лица (не у Сапожникова ли?), и так без каталога в руках я увидел на полках запыленный «Вестник Европы», длинную фалангу «Московского телеграфа», в нескольких экземплярах графа Хвостова, Державина, Карамзина, «Дух законов» и Свод законов с прибавлениями, а остальные полки завалены творениями Дюма и Сю не в подлиннике. О манускриптах, касающихся истории города и края, я, не знаю отчего, совестился спросить.
Но что всего интереснее было для меня в этой Публичной библиотеке – это «Русский вестник», журнал, уже несколько лет издаваемый, а я его сегодня в первый раз вижу. В какой же я дикой пустыне прозябал до сих пор.
Первая книжка «Русского вестника» за 1856 год попалась мне в руки, оглавление мне понравилось. Там были выставлены имена Гоголя, Соловьева, Аксакова, имена, хорошо известные в нашей литературе. Я развертываю книгу, и мне попалась литературная летопись. Читаю, и что же я читаю? Наша славная-преславная Савор-Могила раскопана. Нашли в ней какие-то золотые и другие мелочи, не говорящие даже, действительно ли это была могила одного из скифских царей.
Я люблю археологию. Я уважаю людей, посвятивших себя этой таинственной матери истории. Я вполне сознаю пользу этих раскапываний. Но лучше бы не раскапывали нашей славной Савор-Могилы. Странная и даже глупая привязанность к безмолвным, ничего не говорящим курганам. Во весь день и вечер я все пел:
У степу могила З вітром говорила. Повій, вітре буйнесенький, Щоб я не чорніла.14 [августа]
В продолжение ночи шел проливной дождь. И из пыльной, серой Астрахани поутру я увидел Астрахань черную, грязную. Вооружившись туркменским чапаном, я пошел к Бурцову пить чай. Потом отнес на почту письмо и пошел в библиотеку. Но сия Публичная библиотека, вероятно, по случаю дождя и грязи была заперта. И я, поклонившись дверям сего недоступного таинственного святилища, ушел восвояси с миром, дивяся бывшему.
И что мне этот Рыбочкин так завяз в зубах. Интереснейшее в Астрахани и без его указаний я видел (соборную ризницу), а об остальном стоит ли хлопотать? Не стоит.
15 и 16 [августа]
В день Успения Пр[есвятой] Б[ого]р[одицы] встретил я в Астрахани старого моего бывшего профессора Киевского университета, дражайшего и любимейшего нашего поэта, и встретил я его с величайшею радостию в такой далекой стороне, которого я встретил, как отца, как брата, как величайшего друга, и имел счастие прожить с ним несколько дней почти вместе.
Воспитанник Киевского университета
Иван Клопотовский
В тот же день и я был осчастливлен встречею с любимым и уважаемым мною поэтом Тарасом Григорьевичем Шевченко, с которым я провожу эти дни, что оставит во мне глубокое воспоминание навсегда.
Воспитанник того же университета
Степан Незабитовский
Я запишу в своем дневнике, что 16 августа я провел день с поэтом Малороссии Шевченко.
Евгений Одинцев
Августа 16
С душевным восторгом я встретил и провел несколько часов с моим милым батьком, старым казаком Тарасом Григорьевичем Шевченко, за что очень благодарен Богу, что Он довел меня быть вместе с ним.
Федор Чельцов
17 [августа]
Иван Рогожин из дружбы к Перфилу поступил за него на полгода в солдаты; но как ни хитер и ни изворотлив был бес, но никак не мог примениться к порядку, и его, бидного, драли, як Сидорову козу, так что, когда прошло уже полгода, ему стыдно было показаться к своему набóльшему. Бедный бес не рассчитал, что как наденет ранцы, то выходит крест, и так ему поистине пришлось несть крест Господень, а Перфил, когда услышал от него рассказ о службе, сказал ему: «В чужие сани не садись». С тех пор ни один бес уже не хотел служить в солдатах; а ты ж то, батьку, десять лит пробув в ных. Офицеры, як почулы от Перфила о том, что Рогожин за него пробыл полгода, выразили свой восторг словами: «Знатно, и бес побывал в наших руках».
Скрепил Иван Рогожин
Фельдфебель Перфил
18 [августа]
В. Кишкин, встреча со старым знакомым.
19 [августа]
Lekarz Karol Nowicki Paweł Radziejowski Tytus Szalewicz20 [августа]
Krasomówstwo niewielu otrzymało w udziale; mnie zaś, pozbawionimu tego Boskiego daru, pozostaje w milczeniu tylko podziwiać i hołdować twórczej twej potędze, Swięty narodowy wieszczumęczeniku Małejrosii. Twoja dzisiejsza przytomność wśród nas zupełnie szczęśliwym mnie czyni i chwile obecne nigdy się w mej pamięci nie zatrą. O, stokroć, stokroć błogosławię ten drogi dzień, w którym niebo pozwoliło mi osobiście poznać się z tobą, gorliwy i nieulękły opowiadaczu słowa prawdy. Niech że słów tych kilka przypominają ci […] poetomalarzu głęboką czcią poważającego ciebie Tomasza Zbrożka.
23 [августа]
С 15 по 22 августа был у меня в грязной и пыльной Астрахани такой светлый, прекрасный праздник, какого еще не было в моей жизни. Земляки мои, большею частию кияне, так искренно, радостно, братски приветствовали мою свободу и до того распростерли свое гостеприимство, что лишили меня свободы самому вести свой журнал и взяли эту обязанность на себя. Благодарю вас, благородные бескорыстные друзья мои. Вы подарили меня такою радостию, таким полным счастием, которое едва вмещаю я в моем благодарном сердце. И память об этих счастливейших днях я вношу не в прозаический журнал мой. Я внесу в сокровищницу моего сердца.
15 же августа вечером Зброжек случайно у Сапожниковых проговорился, что я в Астрахани. И 16 августа я возобновил старое знакомство с Александром Александровичем. Это уже был не шалун-школьник в детской курточке, которого я видел в последний раз в 1842 году. Это уже был мужчина, муж и, наконец, отец прекрасного дитяти. А сверх всего этого, я встретил в нем простого, высокоблагороднейшего, доброго человека. Черта, характеризирующая семейство Сапожниковых. Он, не знаю как надолго, оставляет Астрахань и до Нижнего Новгорода предложил мне каюту на абонированном им пароходе «Князь Пожарский». Пятирублевый билет, взятый мною, я возвратил в контору пароходной компании «Меркурий» с тем, чтобы он был отдан первому бедняку безденежно. Капитан парохода «Князь Пожарский» Владимир Васильевич Кишкин распорядился так, что вместо одного бедняка поместил на барже пять бедняков, не могших заплатить за место до Нижнего даже по цалковому. Черта практически благородная.
25 августа
Парохода «Князь Пожарский» буфетчик Алексей Панфилов Панов, отпущенник г-на Крюкова.
27 [августа]
Ночи лунные, тихие, очаровательно поэтические ночи! Волга, как бесконечное зеркало, подернутая прозрачным туманом, мягко отражает в себе очаровательную бледную красавицу ночи и сонный обрывистый берег, уставленный группами темных деревьев. Восхитительная, сладко успокоительная декорация! И вся эта прелесть, вся эта зримая немая гармония оглашается тихими задушевными звуками скрипки. Три ночи сряду этот вольноотпущенный чудотворец безмездно возносит мою душу к творцу вечной [гармонии] пленительными звуками своей лубочной скрипицы. Он говорит, что на пароходе нельзя держать хороший инструмент, но и из этого нехорошего он извлекает волшебные звуки, в особенности в мазурках Шопена. Я никогда не наслушаюсь этих общеславянских, сердечно, глубоко унылых песен. Благодарю тебя, крепостной Паганини. Благодарю тебя, мой случайный, мой благородный. Из твоей бедной скрипки вылетают стоны поруганной крепостной души и сливаются в один протяжный, мрачный, глубокий стон миллионов крепостных душ. Скоро ли долетят эти пронзительные вопли до твоего свинцового уха, наш праведный, неумолимый, неублажимый Боже?
Под влиянием скорбных вопиющих звуков этого бедного вольноотпущенника пароход в ночном погребальном покое мне представляется каким-то огромным, глухо ревущим чудовищем с раскрытой огромной пастью, готовою проглотить помещиков-инквизиторов. Великий Фультон! И великий Ватт! Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется, как школьник леденцом. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное гениальное дитя. Мое пророчество несомненно. Молю только многотерпеливого Господа умалить малую часть своего бездушного терпения. Молю его коснуться своим свинцовым ухом хоть одной полноты этого душу раздирающего вопля, вопля своих искренних, простосердечных молителей.
28 [августа]
Со дня выхода парохода из Астрахани, т. е. с 22 августа, я не могу ни за что, ни даже за свой журнал, приняться аккуратно, как это было в Новопетровском укреплении. Я все еще не могу и не желаю освобождаться из-под влияния, произведенного на меня в Астрахани моими земляками. И повторившего это чудное влияние Александром Александровичем Сапожниковым и всеми сопутствующими ему его родственниками и друзьями. Все они, начиная с хозяйки (Нины Александровны) и хозяина, все они так дружески просты, так внимательны, что я от избытка восторга не знаю, что с собою делать, и, разумеется, только бегаю взад и вперед по палубе, как школьник, вырвавшийся из школы. Теперь только я сознаю отвратительное влияние десятилетнего уничижения. Теперь только я вполне чувствую, как глубоко во мне засела казарма со всеми ее унизительными подробностями. И такой быстрый и неожиданный контраст мне не дает еще войти в себя. Простое человеческое обращение со мною теперь мне кажется чем-то сверхъестественным, невероятным.
Берега Волги от Царицына и Дубовки с часу на час делаются выше, живописнее, очаровательнее. И я не сделал еще ни одного очерка. Недосуг. Все книги всех русских журналов за текущий год добрейший Александр Александрович предложил к моим услугам, и я только сегодня начал читать «Королеву Варвару» Попова. И только начал. А журнал свой, который в эти дни должен бы был наполняться такими очаровательными событиями, я совсем оставил, извиняя себя невозможностью писать по случаю вздрагивания палубы. О как бы я желал продлить это сладкое состояние, это чувство животворного, очаровательного бездействия.
Я оставил знойную степь в кителе и туркменском верблюжьем чапане. В Астрахани я думал только о пологе от комаров. А север, к которому стремлюсь, мне и в голову не приходил. И сегодня я мог бы быть порядочно наказан за невнимание к беловласому Борею, если бы не выручил меня Александр Александрович. В продолжение ночи дул свежий норд-ост, и к утру сделалось порядочно холодно, так порядочно, что не прочь бы был и от тулупа. А у меня, кроме кителя и помянутого чапана, совершенно ничего не оказалось. Александр Александрович, спасибо ему, предложил мне свое теплое пальто, брюки и жилет. Я с благодарностию принял все это, как дар, ниспосланный мне свыше, и через минуту явился на палубе преображенным в настоящего денди. Бог да наградит тебя, мой добрый Саша, за это братски дружеское преображение!
29 [августа]
Берега Волги с каждым часом делаются выше и привлекательнее. Я попробовал сделать очерк одного места с палубы парохода, но, увы, нет никакой возможности. Палуба дрожит, и контуры берегов быстро меняются. И я с своим давнишним новопетровским предположением рисовать берега матушки Волги должен теперь проститься. Сегодня с полуночи и до восхода солнца пароход грузился дровами около Камышина, и я едва успел сделать легонький очерк камышинской пристани с правым берегом Волги. Дров взято до Саратова, и, значит, я ближе Саратова ничего не сделаю. Выше Камышина в 60 верстах на правом берегу Волги лоцман парохода пока[за]л мне бугор Сеньки Разина. Это было на рассвете, и я не мог хорошо рассмотреть этой замечательной, но неживописной местности. Исторический бугор этот, – я не знаю, почему его называют бугром, – он и на вершок не выше окружающей его местности. И если бы лоцман мне не указал его, я и не заметил бы этой ничтожной твердыни славного лыцаря Сеньки Разина, этого волжского барона и, наконец, пугала московского царя и персидского шаха. Открытые большие грабители испугались скрытого ночного воришки! Так белоголового великана хищника беркута пугает иногда ничтожный нетопырь.
Самое плоское суздальское изображение прославленного предмета так же интересно, как и самое изящное произведение живописи. Сознавая эту истину, мне еще досаднее, что я не мог сделать ниже слабого очерка с этого весьма прославленного бугра. Солнце еще не всходило, а бугор оставался за нами верстах в де[с]яти, и я должен был довольствоваться небольшим фантастическим рассказом несловоохотливого лоцмана.
Волжские ловцы и вообще простой народ верит, что Сенька Разин живет до сих пор в одном из приволжских ущелий близ своего бугра, и что (по словам лоцмана) прошедшим летом какие-то матросы, плывшие из Казани, останавливались у его бугра, ходили в ущелье, видели и разговаривали с самим Семеном Степановичем Разиным. Весь он, сказывали матросы, оброс волосами, словно зверь какой, а говорит по-человечьи. Он уже начал было рассказывать что-то про свою судьбу, как настал полдень, и из пещеры выполз змий и начал сосать его за сердце, а он так страшно застонал, что матросы от ужаса разбежались куда кто мог. А за то его, приба[ви]л лоцман, ежеденно змий за сердце сосет, что он проклят во всех соборах, а прокля[т] он за то, что убил астраханского архиерея Иосифа. А убил он его за то, что тот его волшебству сопротивлялся.
По словам того же рассказчика, Разин не был разбойником, а он только на Волге брандвахту держал и собирал пошлину с кораблей и раздавал ее неимущим людям. Коммунист, выходит.
30 [августа]
Из уважения к имениннику и принятому обычаю дарить именинников, я сегодня подарил Александру Александровичу портрет его тещи m-me Козаченко. Портрет сделан в один сеанс белым и черным карандашами довольно аляповато, но не лишен экспрессии. Именинник, по обыкновению своему, был весел и любезен, а гости его, в том числе и нас, Господи, устрой, также охулки на руку не положили, и нецеремонная милая гармония царила на палубе «Князя Пожарского».
Ввечеру от саратовской пассажирки, некоей весьма любезной дамы Татьяны Павловны Соколовской, случайно узнал я, что Н. И. Костомаров уехал за границу. А мать его живет в Саратове. Я просил у нее адрес Костомаровой и…
31 [августа]
Едва пароход успел остановиться у Саратовской набережной, как я уже был в городе, и по указаниям обязательной m-me Соколовской я, как по писаному, без помощи дорого[го] извозчика нашел квартиру Татьяны Петровны Костомаровой. Добрая старушка, она узнала меня по голосу, но, взглянувши на меня, усумнилась в своей догадке. Убедившись же, что это действительно я, а не кто иной, она привитала, как родного сына, радостным поцелуем и искренними слезами.
Пароход простоял в Саратовской пристани до следующего утра, и я с полудня до часу пополуночи провел у Татьяны Петровны. И, Боже мой, чего мы с ней ни вспомнили, о чем мы с ней ни переговорили. Она мне показывала письма своего Николаши из-за границы и лепестки фиалок, присланные ей сыном в одном из писем из Стокгольма от 30 мая. Это число напомнило нам роковое 30 мая 1847 года, и мы, как дети, зарыдали. В первом часу ночи я расстался с счастливейшею и благороднейшею матерью прекраснейшего сына.
1 сентября
Петр Ульянов Чекмарев
Новый месяц начался новым приятнейшим знакомством. За полчаса до поднятия якоря явился в капитанской каюте, и в моем временном обиталище, человек некрасивой, но привлекательно-симпатической наружности. После монотонно произнесенного: «Петр Ульянов Чекмарев», он сказал с одушевлением: «Марья Григорьевна Солонина, незнаемая вами ваша милая землячка и поклонница, поручила мне передать вам ее сердечный сестрин поцелуй и поздравить вас с вожделенной свободой». И тут напечатлел на моей лысине два полновесных искренних поцелуя, один за землячку, а другой за себя и за саратовскую братию. Долго я не мог опомниться от этого нечаянного счастия, и, придя в себя, я вынул из моей бедной комочы какую-то песенку и просил своего нового друга передать эту лепту моей милой, сердечной землячке. Вскоре начали подымать якорь, и мы расстались, давши друг другу слово увидеться будущею зимой в Петербурге.
2 [сентября]
Пятнадцать лет не изменили нас, Я прежний Сашка все, ты также все Тарас.Александр Сапожников
Сегодня в 7 часов утра случайно собрались мы в капитанской каюте и слово за слово из обыденного разговора перешли к современной литературе и поэзии. После недолгих пересудов я предложил А. А. Сапожникову прочесть «Собачий пир» из Барбье Бенедиктова, и он мастерски его прочитал. После прочтения перевода был прочитан подлинник, и общим голосом решили, что перевод выше подлинника. Бенедиктов, певец кудрей и прочего тому подобного, не переводит, а воссоздает Барбье. Непостижимо! Неужели со смертию этого огромного нашего Тормоза, как выразился Искандер, поэты воскресли, обновились? Другой причины я не знаю. По поводу «Собачьего пира» наш добрый, милый капитан Владимир Васильевич Кишкин достал из своей заветной портфели его же, Бенедиктова, «Вход воспрещается» и с чувством поклонника родной обновленной поэзии прочитал нам, внимательным слушателям. Потом прочитал его же «На новый 1857 год». Я дивился и ушам не верил. Много еще кое-чего упруго свежего, живого было прочитано нашим милым капитаном. Но я все свое внимание и удивление сосредоточил на Бенедиктове. А прочее едва слушал.
Итак, у нас сегодня из обыкновенной болтовни вышло необыкновенно эффектное литературное утро. Приятно было бы повторять подобную импровизацию. В заключение этой поэтической сходки А. А. Сапожников вдохновился и написал двустишие, грациозное и братски искреннее.
Ночью против города Волжска (место центральной конторы дома Сапожниковых) пароход на несколько часов остановился. А. А. сошел на берег и в скором времени возвратился на пароход с своим главным управляющим Тихоном Зиновьевичем Эпифановым. Белый с черными бровями, свежий, удивительно красивый старик, с прекрасными манерами, и тени не напоминающими русского купца. Он мне живо напомнил своей изящной наружностию моего дядю Шевченка-Грыня.
3 [сентября]
Не забывайте любящего вас И. Явленского.
Ел, пил, спал. Во сне видел Орскую крепость и корпусного ефрейтора Обручева. Я так испугался этого гнусного ефрейтора, что от страха проснулся и долго не мог прийти в себя от этого возмутительного сновидения.
4 [сентября]
В продолжение ночи пароход грузился дровами против города Хвалынска: одно-единственное место на берегах Волги, напоминающее древнее название Каспийского моря. Поутру, снявшись с якоря, мы собрались в каюте нашего доброго капитана, и после недлинного прелюдия составилось у нас опять литературно-поэтическое утро. Обязательный Владимир Васильевич прочитал нам из своей заветной портфели несколько животрепещущих стихотворений неизвестных авторов и, между прочим, «Кающуюся Россию» Хомякова. Глубоко грустное это стихотворение я занес в свой журнал на память о наших утренних беседах на пароходе «Князь Пожарский».
КАЮЩАЯСЯ РОССИЯ
Неуклони сердце твое в словеса лукавствия непщевати о гресех твоих. Тебя призвал на брань святую, Тебя Господь наш полюбил, Тебе дал силу роковую, Да совершишь ты волю злую Слепых, безумных, буйных сил. Вставай, страна моя родная, За братьев! Бог тебя зовет Чрез волны гневного Дуная Туда, где, землю огибая, Шумят струи Эгейских вод. Но помни, быть орудьем Бога Земным созданьям тяжело; Своих рабов Он судит строго, А на тебе, увы, как много Грехов ужасных налегло. В судах черна неправдой черной И игом рабства клеймена, Бесчестной лести, лжи тлетворной И лени мертвой и позорной И всякой мерзости полна! И, недостойная избранья, Ты избрана; скорей омой Себя водою покаянья, Да гром двойного наказанья Не грянет над твоей главой. С душой коленопреклоненной, С главой, лежащею в пыли, Молись молитвою смиренной И раны совести растленной Елеем плача исцели. И встань потом, верна призванью, И бросься в пыл кровавых сеч. Борись за братьев крепкой бранью, Держи сталь крепкой Божьей дланью, Рази мечом, то Божий меч.А. Хомяков
5 [сентября]
Берега Волги более и более изменяются, принимают вид однообразный и суровый. Плоские возвышенности правого берега покрыты лесом, большею частию дубовым. Кое-где изредка блестят белые стволы берез и серые матовые стволы осины. Древесный лист заметно желтеет. Температура воздуха изменяется, холодеет. Как бы она меня не захватила врасплох. Сегодня был первый утренник. Ноги прозябли. Нужно будет в Самаре купить коты и дубленый полушубок. Ничего не читаю и не рисую. Рисовать не дает машина своим неугомонным шумом и трепетанием, а читать – ненаглядные берега Волги. Во сне видел церковь святыя Анны в Вильне и в этой церкви молящуюся милую Дуню, чернобровую Гусиковскую. Это, верно, вследствие чтения «Королевы Варвары Радзивилл». Г. Попов – историк нового и прекрасного стиля. Он, кажется, ученик Соловьева. Нужно будет прочитать его в «Русском вестнике» «Турецкую войну при царе Федоре Алексеевиче». Мне теперь много нужно прочитать. Я совершенно отстал от новой литературы. Как хороши «Губернские очерки», в том числе и «Мавра Кузьмовна» Салтыкова, и как превосходно их читает Панченко (домашний медик Сапожникова), без тени декламации. Мне кажется, что подобные, глубоко грустные произведения иначе и читать не должно. Монотонное, однообразное чтение сильнее, рельефнее рисует этих бездушных, холодных, этих отвратительных гарпий. Я благоговею перед Салтыковым. О Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостию возрадовалася бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих. Други мои, искренние мои! Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За этого поруганного бессловесного смерда!
6 [сентября]
В 10 часов утра «Князь Пожарский» бросил якорь у набережной города Самары. Издали эта первой гильдии отроковица весьма и даже весьма неживописна. Я вышел на берег и пошел взглянуть поближе на эту чопорную юную купчиху и купить коты. На улице попался мне И. Явленский, и мы сообща пустилися созерцать город. Ровный, гладкий, набеленный, нафабренный, до тошноты однообразный город. Живой представитель царствования неудобозабываемого Николая Тормоза.
Как из любопытства, так и вследствие вопиющего аппетита, это случилося часу около второго, мы велели извозчику ехать к самому лучшему трактиру в городе; он и поехал и привез нас к самому лучшему заведению, т. е. трактиру. Едва вступили мы на лестницу сего заведения, как оба в один голос проговорили: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» – т. е. салом, гарью и всевозможной мерзостью. У нас, однако ж, хватило храбрости заказать себе котлеты, но увы, не хватило терпения дождаться этих бесконечных котлет. Явленский бросил половому полтинник, ругнул маненько, на что тот молча с улыбкою поклонился, и мы вышли из заведения. Огромнейшая хлебная пристань на Волге, приволжский Новый Орлеан! И нет порядочного трактира. О Русь!
После мнимого завтрака мы поехали в лавки. В лавках, даже в лавочках не оказалось такого товару, какой мне был необходим (коты), и мы отправились на пароход.
В капитанской каюте на полу увидел я измятый листок старого знакомца «Русского инвалида», поднял его и от нечего делать принялся читать фельетон. Там говорилось о китайских инсургентах и о том, какую речь произнес Гонг, предводитель инсургентов, перед штурмом Нанкина. Речь начинается так: «Бог идет с нами. Что же смогут против нас демоны? Мандарины эти – жирный убойный скот, годный только в жертву нашему Небесному Отцу, Высочайшему Владыке, Единому Истинному Богу». Скоро ли во всеуслышание можно будет сказать про русских бояр то же самое?
В Самаре живет богатый купец Светов. Глава секты молоканов. Правительство (кроткими мерами) заставляло его принять православие, но он, несмотря на кроткие меры, решительно отказался от православия и изъявил желание принять кальвинизм. На что, однако ж, правительство не изъявило своего желания и оставило его в покое, запретив ему и его секте торговать (одна из кротких мер).
7 [сентября]
В 10 часов утра при свежем норде с дождем и снегом мы оставили Самару. От Самары вверх начинает подыматься левый берег Волги: это плоская возвышенность Жигулевских гор. Через два часа мы подошли к воротам Жигулевских гор. Это ущелье, сузившее Волгу до одной версты; за горами, как за рамой, открылась нам новая, доселе не виданная панорама, испятнанная темно-синими полосами. Это обитатель севера, сосновый лес. На первый план этой [панорамы] из-за ущелья, поросшего черным лесом, высунулась обнаженная отдельная гора. Это Царев Курган; народное предание говорит, что Петр Первый, путешествуя по Волге, останавливался на этом месте и в[с]ходил на эту гору, вследствие чего она и получила название Царева Кургана.
Гора эта своею формою и величиною напомнила мне такую же гору близ Звенигородки, Киевской губернии, в селе Гудзивци. И Гудзивскую гору, быть может, какой-нибудь помазанник-пройдоха освятил своим восшествием, но земляки мои как-то тупо сохраняют в своей памяти подобные освящения. Они (земляки мои) чуть ли не догадываются, что если царь взойдет на такую гору, то, верно, недаром, а уповательно для того, чтобы несытым оком окинуть окрестность, на которой (если он полководец) сколько в один прием можно убить верноподданных. А если он, Боже сохрани, агроном, то это еще хуже, особенно если окрестность окажется бесплодною, то он высочайше повелит ее сделать плодоносною, и тогда потом и кровью крепостного утучнится бесплодный солончак. Земляки мои, верно, не без причины не освящают своей памятью подобных урочищ.
Не мог я дознаться, на каком народном предании основываясь, покойный князь Воронцов назвал в своих Мошнах гору обыкновенную Святославовою горою, с которой будто бы этот пьяный варяг-разбойник любовался на свою шайку, пенившую святый Днепр своими разбойничьими ладьями. Я думаю, это просто фантазия сиятельной башки и ничего больше. Сиятельному англоману просто пожелалося украсить свой великолепный парк башнею вроде маяка, вот он и сочинил народное предание, приноровив его к местности, и аляповатую свою башню назвал башнею Святослава. А Михайло Грабовский (не в осуд будь сказано) чуть-чуть было документально не доказал народного предания о Святославовой горе.
Капитан наш, спасибо ему, догадался сегодня из своей каюты-ажур сделать посредством кошом каюту-темницу и учредил в ней чугунную печь, и я теперь буквально нахожусь в теплых объятиях друга.
Вот тебе и волжские комары, которых я так боялся.
8 [сентября]
Утро ясное, тихое, с морозцем. Левый берег Волги от самого Царева Кургана заметно понижается, и сегодня рано я его увидел таким точно, как и до Самары: ровный, плоский, однообразный. Правый берег по-прежнему угрюмо возвышен и покрыт мелким лесом. Если бы и можно было рисовать, то совершенно рисовать нечего, кроме разве огромной расшивы, стоящей на якоре посредине Волги, как на зеркале.
Я рассчитывал, что казенные смотровые сапоги послужат мне по крайней мере до Москвы, а они и до Симбирска не дотянули, изменили, проклятые, то бишь казенные. Иван Никифорович Явленский заметил этот ущерб в моем весьма нещегольском костюме и предложил мне свои сапоги из чисел запасных, за что я ему сердечно благодарен. Сапоги его пришлись мне по ноге, и я теперь щеголяю почти в новых сапогах, вдобавок на высоких каблуках, что мне не совсем нравится, но дареному коню в зубы не смотрят.
9 [сентября]
Симбирск – от видишь, А неделю идешь.Бурлацкая поговорка
С восходом солнца далеко, на пологой возвышенности, упирающейся в Волгу, показался Симбирск, т. е. несколько белых пятнышек неопределенной формы. Матрос вахтенный, указывая мне на беленькие пятнушки, проговорил бурлацкую поговорку, которую я тут же и записал. От Сенгилея до Симбирска 50 верст, и это пространство мы прошли не в продолжение недели, но в продолжение битых десяти часов. «Князь Пожарский» сегодня как-то особенно медленно двигался вперед. А может быть, мне это так показалось, потому что Симбирск не сходил с горизонта, в котором мне хотелося побывать засветло, взглянуть на монумент Карамзина. Симбирск же вместо того, чтобы приблизиться ко мне, он, увы! совершенно скрылся за непроницаемой завесой, сотканной из дождя и снега. Мерзость эта усиливалась, вечер быстро близился, и я терял надежду видеть на месте, видеть музу истории, которую я видел только в [г]лине в мастерской незабвенного Ставассера. Чего я боялся, то и случилось. Едва к пяти часам «Князь» положил свой якорь у какой-то досчатой пристани, прочая декорация была закрыта дождем с снегом. Несмотря на все это, я решился выйти на берег. Черноземная, моя родная грязь по колена, и ни одного извозчика. Промочивши в луже и грязи ноги, я возвратился, нельзя сказать, благополучно, на пароход.
Другой раз я проезжаю мимо Симбирска, и другой раз не удается видеть мне монумент придворного историографа. Первый раз в 1847 меня провез фельдъегерь мимо Симбирска. Тогда было не до монумента Карамзина. Тогда я едва успел пообедать в какой-то харчевне, или, вернее сказать, в кабаке. Во мне была (как я после узнал) экстренная надобность в Оренбурге, и потому-то фельдъегерь неудобозабываемого Тормоза не дремал. Он меня из Питера на осьмые сутки поставил в Оренбург, убивши только одну почтовую лошадь на всем пространстве. Теперь же, в 1857 году, вместо экстренности – ночь и с такими отвратительными вариациями, что глупо бы и думать о монументе Карамзина.
По случаю двадцатиоднолетней супружеской жизни Катерины Никифоровны Козаченко за завтраком побороли мы двух великанов, под именем пироги, с разными удивительными внутренностями, и по этому-то необыкновенному случаю обедали поздно, ровно в 7 часов, и ровно в 7 часов положил рядом с «Князем» якорь пароход «Сусанин». Капитан «Сусанина» Яков Осипович Возницын был приглашен самим хозяином к обеду. По случаю неудачи видеть Симбирск и монумент Карамзина, у меня родился и быстро вырос великолепный проект: за обедом напиться пьяным. Но увы, этот великолепный проект удался только вполовину.
После обеда зашли мы в капитанскую светелку (так называют волжские плаватели (матросы) напалубную капитанскую каюту) и принялися за чай. Между прочими интересными разговорами за чаем Возницын сказал, что он после закрытия волжской навигации едет в свое поместье (Тверской губернии) по случаю освобождения крепостных крестьян. Он хотя и либерал, но, как сам помещик, проговорил эту великолепную новость весьма не с удовольствием. Заметя сие филантропическое чувство в помещике Тверской губернии, я почел лишним завести разговор с помещиком о столь щекотливом для него предмете. И не разделив восторга, пробужденного этой великой новостью, я закутался в свой чапан и заснул сном праведника.
В 6 часов вечера приходил к капитану нашему нек[и]й герр Ренинка [м]пф, агент компании фирмы «Меркурий». Пошлая, лакейско-немецкая [физиономия], и ничего больше! А между прочим, эта придворно-лакейская физиономия принадлежит статскому советнику и председателю какой-то палаты, чуть ли не казенной!
10 [сентября]
Вчерашний мой великолепный, вполовину удавшийся проект сегодня, и то уже, слава Богу, только вечером, удался, и удался с мельчайшими подробностями, с головной болью и прочим тому подобным.
11 [сентября]
Так как от глумления пьянственного у Тараса колеблется десница и просяй шуйцу – но и оная в твердости своей поколебася (тож от глумления того ж пагубного пьянства), вследствие чего из сострадания и любви к немощному приемлю труд описать день, исчезающий из памяти ослабевающей, дабы оный был неким предречением таковых же будущих и столпом якобы мудрости (пропадающим во мраке для человечества – не быв изречено литерами), мудрости, говорю, прошедшаго; историк вещает одну истину и вот она сицевая: Борясь со страстьми обуревающими – и по совету великого наставника – «не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста, блажен убо» – и совлекая ветхого человека – Тарас, имярек, вооружася духом смирения и удаливыйся во мрак думы своея – ретива бо есть за человечество – во един вечер, – был причастен уже крещению духом по смыслу Св. Писания «окрестивыйся водою и духом – спасен будет», вкусив по первому крещению водою (в зловонии же и омерзении непотребного человечества – водкою сугубо прозываемое) – был оный Тарас зело подходящ по духу св. Еван. – пропитан бе зело; не остановился на полупути спасения, глаголивый «Елицым во Христа крестистися – во Христа облекостеся». Не возмогивый – по тлению и немощи телесне – достичи сего крайнего предела идеже ангелы уподобляется – Тарас зашел таки далеко, уподобясь тому богоприятному состоянию, коим не все сыны Божии награждаются, иже на языце порока и лжи тлетворной мухою зовется. И бе свиреп в сем положении, не давая сомкнуть мне зеницы в ночи – часа одного – и вещая неподобные изреки, греховному миру сему, изрыгая ему проклятия, выступая с постели своей бос и в едином рубище яко Моисей преображенный, иже бе писан рукою Брюно, выступающим с облак к повергшемуся во прах израильтянину, жертвоприносящему тельцу злату. В той веси был человек некий – сего излияния убояхуся – шубкой закрыся – и тут же яко мельчайшийся инфузорий легким сном забывся. – Тут следует пробел, ибо Тарас имел свидетелем своего величия и торжества немудраго некоего мужа – мала, неразумна и на языке того ж злоречия кочегаром зовомого, кой бе тих и тупомыслен на дифирамбы невозмутимого Тараса. – В.Кишкин.
P. S. Далее не жди тож от Тараса, о! бедное, им любимое человечество! никакого толку и большого величия, и мудрого слова, ибо – опохмелившийся, яко некий аристократ (по писанию крестивыйся водкою; опохмеление не малое и деликатности не последней водка вишневая счетом пять (а он говорит 4, нехай так буде), при оной цыбуль и соленых огурцов велие множество.
12 [сентября]
Погода отвратительн[а]я. «Князь Пожарский» и «Сусанин» положили на ночь якорь в Спасском затоне. Это зимняя стоянка парохода Меркуриевской компании. Здесь устроены мастерские, квартиры для капитанов, помещение для мастеровых, школа и кабак. Местность прекрасная, окруженная молодыми дубовыми рощами, и, несмотря на холодную погоду, в рощах сохранилася свежая зелень и некоторые цветы, из которых я набрал маленький букет и, как истинный Терсис Посошков, преподнес его милейшей баронессе Медем, одной из пассажирок «Князя Пожарского» и жене одного из капитанов Меркуриевской компании. Милая, привлекательная женщина.
Утро ясное, с морозом до пяти градусов. К двенадцати часам дня погода по-вчерашнему изменилась в перемежающий дождь с снегом. «Князь Пожарский» благополучно перешел Красновидовский перекат (мели) и в одиннадцать часов вечера положил якорь в десяти верстах от Казани.
13 [сентября]
Казань-городок — Москвы уголок.Эту поговорку слышал я в первый раз в 1847 году на почтовой станции в Симбирской губернии, когда препровождался я на фельдъегере в Оренбург. Какой-то упитанный симбирский степняк, описывая моему препроводителю великолепие города Казани, замкнул свое описание этою ловкою поговоркою. Сегодня поутру увидел я издали Казань, и давно слышанная поговорка сама собою вспомнилась и невольно проговорилась. Едва пароход успел положить якорь, как я выскочил на берег, поместился за четвертак в татарской тележке и пустился в город. Как издали, так и вблизи, так и внутри Казань чрезвычайно живо напоминает собою уголок Москвы: начиная с церквей, колоколен до саек и калачей, – везде, на каждом шагу, видишь влияние белокаменной Москвы. Даже башня Сумбеки, несомненный памятник времен татарских, показалась мне единоутробною сестрою Сухаревой башни. Большая улица (конечно, Московская), ведущая в Кремль, смахивает на Невский проспект своею чопорностью и торцовой мостовою. Улица эта начинается великолепным зданием университета, украшенного грандиозными тремя ионическими портиками. Жаль, что этому прекрасному зданию недостает площади. Оно бы много выиграло, и монумент певца Екатерины не красовался бы на дворе в миниатюрном палисаднике, меланхолически созерцаемый рудою коровою.
Полюбовавшись вместе с рудою коровою статуею сплетателя торжественных од и иной гнусной лести, я, проходя через двор, встретил студента с порядочно синим подбородком, почему и заключил, что он не новичок в здешней аудитории. На этом основании я обратился к нему с вопросом, не помнит ли он Посяду и Андруского, переведенных в 1847 году из Киевского университета в Казанский. Он сказал, что не помнит, и советовал мне обратиться к старому сторожу Игнатьеву. Я вежливо поблагодарил его за наставление, но, не находя нужным применить к делу это милое наставление, я вышел на улицу. Выйдя на улицу, я услышал глухой шум барабана и увидел густую толпу народа, провожавшего на казнь преступника. Чтобы не встретить эту гнусную процессию, я своротил в переулок и в числе бегущих смотреть эту процессию я увидел молодую девушку с шарманкою за плечами и ободранного мальчика с тамбурином в руках. Мне сделалось не грустно, а как-то особенно скверно, и я опять за четвертак взял татарскую тележку и возвратился на пароход.
Возвращаясь на пароход, я увидел в правой стороне от дороги памятник, воздвигнутый над костями убитых при взятии Казани царем Иваном Лютым. Это усеченная пирамида с портиками, поставленная будто бы на том самом месте, где стоял шатер царя Лютого. Печальный памятник.
14 [сентября]
По случаю принятия нового груза пароход наш простоял до 11 часов утра у казанского берега. Пользуясь этим редким случаем и хотя пасмурною, но не мокрою погодою, я вышел на берег и сделал два абриса: общий вид Казани и вид на Волгу против Казани и села Услон. Возвращаясь на пароход, купил я у смазливой перекупки соленого отваренно[го] ляща. И придя на пароход, задал себе настоящий плебейский пир. Кроме ляща и новопетровской ветчины, заключил я свой пир головкой чесноку с черным хлебом и провонял не только капитанскую светелку, всего «Князя Пожарского». Сопутники мои бегали от меня, как черт от ладану. Одна только милая хозяйка и добрейшая ее мамаша Катерина Никифоровна Козаченко нашли, что чеснок хотя и воняет, но не так несносно, чтобы при встрече со мною необходимо было закрывать нос, и еще более, чтобы доказать им, господам, не любящим чесноку, что чеснок вещь не только не противная, но даже приятная, обещалися заказать обед с чесноком и обкормить хулителей. Милейшая Катерина Никифоровна.
Против города Свияжска прошли благополучно Васильевский перекат (мель) и встретили пароход «Адашев» Меркуриевской же компании. Он буксирует две баржи с дровами и одну из них посадил на мель. «Князь Пожарский» попытался было стащить ее с мели, но безуспешно, и, пройдя несколько верст вперед, положил якорь на ночь, из опасения сесть на Вязовском перекате. Выше устья Камы Волга заметно сделалася уже и мельче.
15 [сентября]
Проспал я ровно до девяти часов утра. Надо думать, что это случилось со мною под глухой шум «Князя Пожарского», потому что со мною этого прежде не случалося, ни даже под нетрезвую руку. Это на диво долгое спание заключилось отвратительным сновидением. Будто бы Дубельт с своими помощниками (Попов и Дестрем) в своем уютном кабинете перед пылающим камином меня тщетно навращал на путь истинный, грозил пыткой, и в заключение плюнул и назвал меня извергом рода человеческого. Едва успел он произнести этот милый эпитет, как явился в полном мундире капитан Косарев и сделал мне почти палочный выговор за то, что я опоздал на ученье. Тем и кончилось это позорное сновидение. Меня разбудил гром падающего якоря, т. е. цепи, перед Ураковским перекатом.
Пользуясь сей непродолжительной стоянкой и продолжительным тихим переходом через сей Ураковский перекат, я нарисовал белым и черным карандашом, довольно удачно, портрет Михайла Петровича Комаровского, будущего капитана будущего парохода А. Сапожникова, за то, что он подарил мне свои бархатные теплые сапоги.
В 10 часов вечера «Князь Пожарский» положил якорь перед Гремячевским перекатом.
За ужином Нина Александровна наивно рассказывала содержание «Дон Жуана» Байрона, который она прочитала на днях в французском переводе. И еще милее и наивнее просила своего мужа учить ее английскому языку.
16 [сентября]
СОБАЧИЙ ПИР
(ИЗ БАРБЬЕ)
Когда взошла заря и страшный день багровый, Народный день настал; Когда гудел набат и крупный дождь свинцовый По улицам хлестал; Когда Париж взревел, когда народ воспрянул И малый стал велик; Когда, в ответ на гул старинных пушек, грянул Свободы звучный клик! Конечно, не было там [видно] ловко сшитых Мундиров наших дней; Там действовал напор, лохмотьями прикрытый, Запачканных людей. Чернь грязною рукой там ружья заряжала, И закопченным ртом В пороховом дыму там сволочь восклицала: «Ебена мать, умрем!» А эти баловни в натянутых перчатках, С батистовым бельем, Женоподобные, в корсетах на подкладках, Там были ль под ружьем? Нет! Их там не было, когда, все низвергая И сквозь картечь стремясь, Та чернь великая и сволочь та святая К бессмертию неслась! А те господчики, боясь громов и блеску И слыша грозный рев, Дрожали где-нибудь вдали за занавеской, На корточки присев! Их не было в виду, их не было в помине При общей свалке там. Затем, что, видите ль, свобода не графиня И не из модных дам, Которая, нося на истощенном лике Румян карминных слой, Готова в обморок при первом падать крике, Под первою пальбой. Свобода – женщина с упругой, мощной грудью, С загаром на щеке.17 [сентября]
Вчера мне ничто не удалось. Поутру начал рисовать портрет Е.А. Панченка, домашнего медика А. Сапожникова. Не успел сделать контуры, как позвали завтракать. После завтрака пошел я в капитанскую светелку с твердым намерением продолжать начатый портрет, как начал открываться из-за горы город Чебоксары. Ничтожный, но картинный городок. Если не больше, так по крайней мере на половину будет в нем домов и церквей. И все старинномосковской архитектуры. Для кого и для чего они построены? Для чувашей? Нет, для православия. Главный узел московской старой внутренней политики – православие. Неудобозабываемый Тормоз по глупости своей хотел затянуть этот ослабевший узел и перетянул. Он теперь на одном волоске держится.
Когда скрылися от нас живописные грязные Чебоксары, я снова принялся за портрет. Но принялся вяло, неохотно. Принялся для того, чтобы его кончить, и кончил, разумеется, скверно.
От этой первой неудачи я с досады лег спать и проспал прекрасный вид села Ильинского. Ввечеру, когда «Князь Пожарский» положил на ночь якорь и все успокоилось, я, чтобы хоть чем-нибудь вознаградить две неудачи, принялся переписывать «Собачий пир», как вошел в светелку А. С[апожников] с К[ишкиным] и П[анченко] и ни с сего ни с того составился у нас литературный вечер. Капитан наш вытащил из-под спуда «Полярную звезду» 1824 года и прекрасно прочитал нам отрывок из поэмы «Наливайко», а Сапожников – отрывки из поэмы «Войнаровский». Потом А[лександр] А[лександрович] пригласил нас ужинать. И как это случилося в 12 часов, то за ужином оказалась именинница, а именно бабушка Любовь Григорьевна Явленская. Поздравили, и не один, и не два, а три раза поздравили. Потом начали отсутствующих имен[ин]ниц поздравлять, и я таки порядком напоздравлялся.
Несмотря на последнее вчерашнее событие, я сегодня проснулся рано и, как ни в чем не бывало, принялся за свой журнал, и пока братия еще в объятиях Морфея, буду продолжать «Собачий пир» до новой перепойки.
С зажженным фитилем, приложенным к орудью, В дымящейся руке! Свобода – женщина с широким, гордым шагом, Со взором огневым, Под гордо вьющимся по ветру красным флагом, Под дымом боевым; И голос у нее – не женственный сопрано, Но жерл чугунный ряд, Ни медь (звон) колоколов, ни палка барабана Его не заглушат! Свобода – женщина, но в сладострастьи щедром Избранникам своим верна, Могучих лишь одних к своим приемлет недрам Могучая жена. Ей нравится плебей, окрепнувший в проклятьях, А не гнилая знать, И в свежей кровию дымящихся объятьях Ей любо трепетать. Когда-то ярая, как бешеная дева, Явилась вдруг она, Готовая дать плод от девственного чрева, Грядущая жена. И гордо вдаль она, при кликах исступленья, Свой совершая ход, И целые пять лет горячкой вожделенья Сжигала свой народ! А после кинулась вдруг к палкам, к барабану, И маркитанткой в стан К двадцатилетнему явилась капитану: «Здорово, капитан!» Да, – это все она! Она с отрадной речью Являлась нам в стенах, Избитых ядрами, испятнанных картечью, — С улыбкой на устах; Она – огонь в глазах, в ланитах жизни краска, Дыханье горячо, Лохмотья, нищета, трехцветная повязка Чрез голое плечо! Она! В трехдневный срок французов жребий вынут! Она! Венец долой! Измята армия, трон скомкан, опрокинут Кремнем из мостовой! И что же? О позор! Париж, столь благородный В кипеньи гневных сил, Париж, где некогда великий вихрь народный Власть львиную сломил, — Париж, который весь гробницами уставлен Величий всех времен! Париж, где камень стен пальбою продырявлен, Как рубище знамен! Париж, отъявленный сын хартий, прокламаций, От головы до ног Обвитый лаврами, апостол в деле наций, Народов полубог! Париж, что некогда, как светлый купол храма Всемирного, блистал, Стал ныне скопищем нечистоты и срама, Помойной ямой стал, Вертепом подлых душ, мест ищущих в лакеи Паркетных шаркунов, Просящих нищенски для рабской их ливреи Мишурных галунов; Бродяг, которые рвут Францию на части И сквозь плевки, толчки, Визжа, зубами рвут издохшей тронной власти Кровавые клочки! Так вепрь израненный, сраженный смертным боем, Чуть дышит в злой тоске, Покрытый язвами, палимый солнца зноем, Простертый на песке; Кровавые глаза померкли, обессилен Могучий зверь. Поник; Отверстый зев его шипучей пеной взмылен И высунут язык… Вдруг рог охотничий пустынного простора Всю площадь огласил, И спущенных собак неистовая свора Со всех рванулась сил! Завыли жадные! Последний пес дворовый Оскалил острый зуб И с визгом кинулся на пир ему готовый, На неподвижный труп! Борзые, гончие, лягавые, бульдоги: «Пойдем!» – и все пошли: «Нет вепря короля! Возвеселитесь, боги! Собаки короли! Пойдем! Свободны мы! Нас не удержат сетью, Веревкой не скрутят! Суровый сторож нас не приударит плетью, Не крикнет: «Пес, назад!» За те щелчки, толчки хоть мертвому отплатим! Коль не в кровавый сок Запустим морду мы, так падали ухватим Хоть нищенский кусок! Пойдем!» И начали из всей собачьей злости Трудиться что есть сил; Тот пес щетины клок, а тот кровавой кости Обгрызок ухватил, И рад бежать домой, вертя хвостом мохнатым, Чадолюбивый пес, Ревнивой суке в дар и в корм своим щенятам Хоть что-нибудь принес. И бросив из своей окровавленной пасти Добычу, говорит: «Вот, ешьте! Эта кость – урывок царской власти! Пируйте! Вепрь убит».Бенедиктов
18 [сентября]
Вчера праздновали именины милейшей бабушки Любовь Григорьевны Явленской. Сегодня празднуем день рождения ее милейшего внучка А. А. Сапожникова. А пока еще не грозит завтрак, то я по-вчерашнему воспользуюся безмятежным утром и перепишу еще одно стихотворение из заветной портфели нашего обязательнейшего капитана.
РУССКОМУ НАРОДУ
1854 ГОДА
– Меня поставил Бог над русскою землею, — Сказал нам русский царь. – Во имя Божие склонитесь предо мною, Мой трон – Его алтарь! Для русских не нужны заботы гражданина, Я думаю за вас! Усните. Сторожит глаз царский властелина Россию всякий час. Мой ум вас сторожит от чуждых нападений, От внутреннего зла, Пусть ваша жизнь течет вдали забот в смиреньи, Спокойна и светла! Советы не нужны помазаннику Бога, Мне Бог дает совет. Гордитесь, русские, быть царскими рабами. Закон ваш – мысль моя! Отечество вам – флаг над гордыми дворцами, Россия – это я. Мы долго верили, в грязи восточной лени И мелкой суеты Покорно цаловал ряд русских поколений Прах царственной пяты. Бездействие ума над нами тяготело. За грудами бумаг, За перепискою мы забывали дело В присутственных местах. В защиту воровства, в защиту нераденья Мы ставили закон; Под буквою скрывались преступленья, Но пункт был соблюден; Своим директорам, министрам мы служили, Россию позабыв, Пред ними ползали, чинов у них просили, Крестов наперерыв. И стало воровство нам делом обыденным, Кто мог схватить, тот брал, И тот меж нами был всех более почтенный, Кто более украл. Развод определял познанье генерала — Глуп он или умен, Церемониальный марш и выправка решала, Чего достоин он. Бригадный командир был лучший губернатор, Отличный инженер, правдивейший сенатор, Честнейший человек; Начальник, низшие права не признавая, Был деспот, полубог; Бессмысленный сатрап был царский бич для края. Губил, вредил, где мог; Стал конюх цензором, шут царский – адмиралом, Клейнмихель графом стал! Россия отдана в аренду обиралам… Что ж русский? Русский спал… Кряхтя, нес мужичок, как прежде, господину Прадедовский оброк, Кряхтя, помещик нес вторую половину Имения в залог, Кряхтя, по-прежнему дань русские платили Подьячим и властям; Качали головой, шептались, говорили, Что это стыд и срам, Что правды нет в суде, что тратят миллионы, — России кровь и пот, — На путешествия, киоски, павильоны, Что плохо все идет. Потом за ералаш садились по полтине, Косясь по сторонам; Рашели хлопали, бранили Фреццолини, Лорнировали дам И низко кланялись продажному вельможе Отечества сыны! Иль удалялись в глушь прадедовских имений В бездействии жиреть, Мечтать о пироге, беседовать о сене, Животным умереть, А если кто-нибудь, средь общей летаргии Мечтою увлечен, Их призывал на брань за правду и Россию, — Как был бедняк смешон! Как ловко над его безумьем издевался Чиновный фарисей, Как быстро от него, бледнея, отрекался Вчерашний круг друзей! И под анафемой общественного мненья, Средь смрада рудников, Он узнавал, что грех прервать оцепененья Тяжелый сон рабов. И он был позабыт; порой лишь о безумце Шептали здесь и там: «Быть может, он и прав…да жалко вольнодумца, Но что за дело нам?»Спасибо Ивану Никифоровичу Явленскому за то, что он отказался от завтрака и помог мне кончить превосходное прелюдие к превосходнейшему стихотворению, которое я, если Бог поможет, перепишу завтра.
19 [сентября]
Не хвалися идучи на рать, А хвалися идучи с рати.Вчера вечером путешественники и путешественницы сыграли по последней пульке преферанса в кают-компании «К[нязя] Пожарского», рассчиталися и расплатилися до денежки за все пульки, сыгранные в продолжение рейса, т. е. от 22 августа. Покончивши эту статью, сели за ужин, приготовленный из последней провизии. Поужинали, разумеется, в последний раз в кают-компании. Выпили последний херес, мадеру и, кажется, шампанское, составили проект завтрашнего обеда в Нижнем Новеграде и разошлися спать. Хорошо. С рассветом «К[нязь] Пожарский» поднял якорь, свистнул, фыркнул и весело захлопал своими огромными колесами. Хорошо. Берега быстро меняют свои контуры. Пролетаем мы мимо красивого по местоположению села Зименки помещика Дадьянова и замечательного по следующему происшествию. Прошедшего лета, когда поспело жито и пшеница, мужичков выгнали жать, а они, чтобы покончить барщину за один раз, зажгли его со всех концов при благополучном ветре. Жаль, что яровое не поспело, а то и его бы за один раз покончили бы. Отрадное происшествие. Так вот, летим мы во весь дух мимо этого замечательного села. Как вдруг левое колесо перестало вертеться и из «К[нязя] Пожарского»-дельфина сделалась черепаха. «Что случилось?» – раздался общий голос. «Шатун лопнул!» – раздался в ответ одинокий голос машиниста. Я смекнул, что прежде вечера мы не будем в Нижнем Новграде, т. е. прежде вечера не будем обедать; смекнувши делом, я пошел в капитанскую светелку, выпил добрую чару лимоновки, закусил остатком новопетровской ветчины, взял какую-то газету, лег да и заснул себе с Богом. Просыпаюсь, а наш «К[нязь] Пожарский» стоит себе, тоже с Богом, на Телячьем броде. Собачий брод кое-как переполз, а Телячий невмоготу стало. Что делать? Паузиться, т. е. перегружаться. Пауза эта длится до сих пор, т. е. до первого часу ночи. А путешественницы и путешественники пробавляются натощак в ералаш в ожидании нижегородского обеда.
20 [сентября]
Пауза продолжалась за полночь. С рассветом «К[нязь] Пожарский» поднял якорь и, как подстреленный орел, захлопал одним колесом своим. Взошло солнце и осветило очаровательные окрестности Нижнего Новаграда. Я хотел было хоть что-нибудь начертить, но увы, дрожание палубы при одном колесе еще ощутительнее, а серые сырые тучки не замедлили закрыть животворяще[е] светило и задернуть прозрачным серым туманом живую декорацию. Декорация от тумана сделалася еще очаровательнее, но рисовать ее решительно невозможно: тучки небесные, вечные странницы, пустили из себя такую мерзость, что я укрылся в капитанскую светелку и принялся за свои чувалы (торбы).
В одиннадцать часов утра «К[нязь] Пожарский» положил якорь против Нижнего Новогорода. Тучки разошлися, и солнышко приветливо осветило город и его прекрасные окрестности. Я вышел на берег и без помощи извозчика, мимо красавицы 17 столетия, цер[к]ви с[в]. Георгия, поднялся на гору. Зашел в гимназию к Боб[р]жицкому, бывшему студенту Киевского университета; не нашел его дома, я пошел в Кремль. Новый собор – отвратительное здание. Это огромная квадратная ступа с пятью короткими толкачами. Неужели это дело рук Константина Тона? Невероятно. Скорее это произведение самого неудобозабываемого Тормоза. Далее. Приношение благодарного потомства гражданину Минину и кн. Пожарскому. Копеечное, позорящее неблагодарное потомство приношение! Утешительно, что этот грошовый обелиск уже переломился.
Из Кремля зашел я опять к Бобржицкому и опять не застал его дома. Из гимназии пошел я искать в Покровской улице дом Сверчкова, квартиру А. А. Сапожникова. Нашел. И только что успел поздравить с временным новосельем хозяйку, хозяина и вообще сопутниц и сопутников, как является Николай Александрович Брылкин (главный управляющий компании пароходства «Меркурий») и по секрету от других объявляет, сначала хозяину, а потом мне, что он имеет особенное предписание полицеймейст[е]ра дать знать ему о моем прибытии в город. Я хотя и тертый калач, но такая неожиданность меня сконфузила. Позавтракавши кое-как, я отправился на пароход, поблагодарил моего доброго друга капитана за его обязательности, взял свой пачпорт и передал его вместе с вещами Н. А. Брылкину. Успокоившись немного, я в третий раз пошел к Бобржицкому и на сей раз нашел его дома с широко распростертыми объятиями. В 8 часов вечера я отправился к Н. А. Брылкину, провел у него часа два времени в дружеской беседе, взял у него для прочтения «Голос[а] из России», лондонское издание, и отправился к Павлу Абрамовичу Овсянникову на мою временную квартиру.
21 [сентября]
Добрые мои новые друзья, Н. А. Брылкин и П. А. Овсянников, посоветовали мне прикинуться больным, во избежание путешествия, пожалуй, по этапам, в Оренбург, за получением указа об отставке. Я рассудил, что не грех подлость отвратить лицемерием, и притворился больным. До первого часу лежал, читал «Голоса из России» и дожидал медика и полицеймейстера. А в первом часу махнул рукою и отправился к Сапожниковым. После обеда проводил моих добрых, милых спутников и спутниц до почтовой конторы и простился с ними. Они в почтовых каретах отправились в Москву. Когда увижу[сь] я с вами, прекраснейшие люди? Просил Комаровского и Явленского цаловать в Москве моего старого друга М. С. Щепкина, а Сапожникова просил в Петербурге целовать мою святую заступницу графиню Н. И. Толстую. Вот тебе и Москва! Вот тебе и Петербург! И театр, и Академия, и Эрмитаж, и сладкие дружеские объятия земляков, друзей моих Лазаревского и Гулака-Артемовского! Проклятие вам, корпусные и прочие командиры, мои мучители безнаказанные! Гнусно! Бесчеловечно! Отвратительно гнусно!
В 7 часов вечера зашел я к Н. А. Брылкину, встретил у него Овсянникова и Кишкина и дружеской откровенной беседой заглушил вопли так внезапно, так гнусно, подло уязвленного сердца. Если бы не эти добрые люди, мне бы пришлось теперь сидеть за решеткой и дожидать указа об отставке или просто броситься в объятия красавицы Волги. Последнее, кажется, было бы легче.
22 [сентября]
Сегодня, как и вчера, погода дрянь, слякоть и мерзость. На улицу выйти нет возможности. Из-за стены Кремля показывает собор свои безобразные толкачи с реповидными верхушками, и ничего больше не видно из моей квартиры. Скучно. Медика и полицеймейст[е]ра по-вчерашнему дожидал и, не дождавшися, пошел к Н. А. Брылкину обедать. После обеда, как и до обеда, лежал и читал «Богдана Хмельницкого» Костомарова. Прекрасная книга, вполне изображающая этого гениального бунтовщика. Поучительная, назидательная книга! Историческая литература сильно двинулась вперед в продолжение последнего десятилетия. Она осветила подробности, закопченные дымом фимиама, усердно кадимого перед порфирородными идолами.
23 [сентября]
Погода постоянно скверная. Я постоянно лежу и читаю Зиновия Богдана. Прекрасная, современная книга! От нечего делать нарисовал сегодня портрет В. В. Кишкина удовлетворительно. Обедал по обыкновению у Н. А. Брылкина, и по обыкновению после обеда читал и спал.
24 [сентября]
Н. А. Брылкин ездил в Балахну с мистером Стремом, американским инженером, посмотреть на строящийся там пароход и баржи для компании «Меркурий». От нечего делать и я напросился им сопутствовать. Щегольской, новенький пароход «Лоцман» в полдень поднял якорь и понес нас вверх по Волге. С разными остановками в 5-ть часов вечера мы, наконец, остановились у Балахны. Едва успел вскарабкаться на кучу бревен и взглянуть на эту родительницу бесчисленных живописных расшив, как инспектация кончилась, и я пошел к «Лоцману».
Из рассказов я узнал, что Балахна одна из главных верфей на берегах Волги, то же, что на Оке Дедново, где строился голландскими мастерами первый русский корабль «Орел». В десятом часу возвратилися в Нижний, пообедали или поужинали и разошлися спать.
25 [сентября]
Утро было хотя и неясное, по крайней мере без ветру и дождя. Воспользовавшись сиею бесцветною погодой, я с крылечка моей квартиры начертил верхушку церкви с[в]. Георгия. Хоть что-нибудь да делал.
26 [сентября]
Опять дождь, опять слякоть. Настоящее безвыходное положение. Старинны[е] нижегородские цер[к]ви меня просто очаровали. Они так милы, так гармонически пестры, и отвратительная погода не дает мне рисовать их. Я, однако ж, сегодня перехитрил упрямую погоду. Рано поутру пошел в трактир, спросил себе чаю и нарисовал из окна Благовещенский собор. Древнейшая в Нижнем церковь. Нужно будет узнать время ее построения. Но от кого? К пьяным косматым жрецам не хочется мне обращаться, а больше не к кому. Нижний Новгород во многих отношениях интересный город и не имеет печатного указателя. Дико! По-татарски дико!
27 [сентября]
Проходя мимо церкви святого Георгия и видя, что двери церкви растворены, я вошел в притвор и в ужасе остановился. Меня поразило какое-то безобразное чудовище, нарисованное на трехаршинной круглой доске. Сначала я подумал, что это индийский Ману или Вешну заблудил в христианское капище полакомиться ладаном и деревянным маслицем. Я хотел войти в самую церковь, как двери растворилися и вышла пышно, франтовски разодетая барыня, уже не совсем свежая, и, обратя[ся] к нарисованному чудовищу, три раза набожно и ко[ке]тливо перекрестилась и вышла. Лицемерка! Идолопоклонница! И наверное блядь. И она ли одна? Миллионы подобных ей бессмысленных, извращенных идолопоклонниц. Где же христианки? Где христиане? Где бесплотная идея добра и чистоты? Скорее в кабаке, нежели в этих обезображенных животных капищах. У меня не хватило духу перекреститься и войти в церковь; из притвора я вышел на улицу, и глазам моим представилась по темному фону широкого луга блестящая, грациозно извивающаяся красавица Волга. Я вздохнул свободно, невольно перекрестился и пошел домой.
28 [сентября]
Нарисовал портрет мамзель Анхен Шауббе. Гувернантка Брылкиных, очень милая молодая немочка, резвая, наивная, настоящий мальчик в юбке.
Прочитал комедию Островского «Доходное место». Не понравилось. Много лишнего, ничего не говорящего. И вообще аляповато, особенно женщины не натуральны. В скором времени ее будут давать на здешней сцене. Нужно будет посмотреть.
Перед вечером требовала меня зачем-то полиция, но я не пошел.
29 [сентября]
Солнце сегодня взошло светло, весело. Я пошел в Кремль и начал рисовать соборную колокольню, но руки так озябли, окоченели, что я едва мог сделать общий абрис. Пользуясь улыбкою осеннего дня, я после завтрака отправился к Печерскому монастырю с намерением нарисовать эту живописную обитель. Выбрал точку. Прилег отдохнуть. И, лелеемый теплыми лучами солнца, задремал, и так плотно задремал, что проснулся уже перед закатом солнца. Возвращаясь на квартиру мимо Георгиевского публичного сада, я зашел в сад, встретил много гуляющей публики обоих полов и всех возрастов. Между женщинами, как на подбор, ни одной не только красавицы или хорошенькой, даже сносной не встретил. Уроды и, как кажется, большей частию старые девы. Бедные старые девы!
30 [сентября]
В ожидании незваного гостя, г. полицеймейстера, я предложил сеанс моему доброму хозяину Павлу Абрамовичу Овсянникову. Портрет был окончен к двум часам довольно удачно, а г. Лапа (так прозывается) к нам не жаловал. Погода прекрасная. Я вышел на бульвар. Между прочей публикой встретил я на бульваре детей – три девочки и мальчик. Прехорошенькие и резвые дети. Костюм их показался и странным и жалким. На девочках были какие-то коротенькие легенькие дырявые мантильки, дворянско-немецкого покроя. Ручонки нагие, и почти босиком. На мальчике поярковая серая шляпа с пером, мантилька такая же, как и на девочках, а башмаки еще хуже. Вообще показались мне они похожими на труппу младенцев-комедиантов. Я дошел с ними до кондитерской, купил им сладких пирожков на полтину и познакомился. Зовут их: Катя (самая бойкая), Надя и Дуня, а мальчика Саней; дети они некоего Арбеньева, театрального музыканта. Значит, я немногим ошибся. На расставаньи они просили меня к себе в гости, и я, разумеется, обещал прийти.
Расставшись с детьми, вспомнил я Алексея Панфилыча Панова, крепостного Паганини на «Князе Пожарском». Он зимует в Нижнем и квартирует где-то против архиерейского дома. С Георгиевской набережной пошел я к архиерейскому дому с целию найти квартиру и навестить моего возлюбленного виртуоза. Квартиры виртуоза я, однако ж, не нашел, а мимоходом зашел в архиерейский сад. Это преимущественно липовая роща, обнесенная деревянным забором, посередине которой красуется, вроде казармы, огромное трехэтажное здание (архиерейская келья). Невдалеке от здания между деревьями беседка с колоколами, и в другой стороне, также между деревьями, четыре улья обделаны наподобие надгробных памятников. Везде пусто и уныло, физическая гниль и нравственный застой на всем отражается. Скверно. Придя на квартиру, я на сон грядущий прочитал «Рассказ маркера» граф[а] Толстого. Поддельная простота этого рассказа слишком очевидна.
1 октября
Грязь, туман, слякоть и прочая атмосферическая гадость, вследствие чего я предложил сеанс г. Грасу, зятю Н. А. Брылкина. Сеанс на половине был прерван приходом г. Лапы и г. Гартвиг[а]. Первый – бравый и любезный гвардейский полковник и полицеймейстер. Второй – не бравый, но не менее любезный полицейский медик. Оба поляки или литвины, и оба не говорят по-польски. Гартвиг, спасибо ему, без малейшей формальности нашел меня больным какой-то продолжительной болезнью, а обязательный г. Лапа засвидетельствовал действительность этой мнимой болезни, и после взаимных нецеремоний мы расстались. Вследствие этого обязательного визита я представляю себе мое возвращение в Оренбург сомнительным.
С сегоднишнего дня начинаются здесь спектакли, и после обеда Н. А. Брылкин пригласил меня в свою ложу. Давали народную сантиментально-патриотическую драму Потехина «Суд людской – не Божий». Драма – дрянь с подробностями. Г. Мочалова, независимо от своей бедной натянутой роли, мне понравилась. У ней есть движения настоящей артистки. Г. Климовский, как и роль его, приторен. Водевиль – «Коломенский нахлебник». Водевиль балаганный и исполнен был соответственно своему назначению. Маленький оркестр в антрактах играл несколько номеров из «Дон Жуана» Моцарта прекрасно, может быть, потому, что это очаровательное создание трудно сыграть не прекрасно. Зала театра небольшая, но отделана просто и со вкусом. Публика, в особенности женская, замечательно неблестящая и немногочисленна.
2 [октября]
Утро ясное, тихое, с морозом. Нужно было вчера начатый порт[рет] г. Граса сегодня кончать, я и принялся за работу с тем, чтобы скорее кончить и идти к Печерскому монастырю с целию нарисовать его. Но, увы, монастырь этот мне не дается. Кончивши портрет, я нечаянно, но нелицемерно позавтракал, прилег на минутку вздохнуть и проспал ровно до двух часов. Непростительное свинство! Едва успел я проснуться, как вошел Н. А. Брылкин и предложил мне идти с ним на бульвар погулять перед обедом. На бульваре встретили мы некоего господина Якоби. Н[иколай] А[лександрович] отрекомендовал меня сему господину Якоби. Он просил нас к себе обедать, и мы не отказались. Г. Якоби – один из нижегородских аристократов, весьма любезный и довольно едкий либерал и вдобавок любитель живописи. Он показал мне свой альбом, ничем особенно не замечательный, и картину, плохо освещенную, картину с большими достоинствами, изображающую молящегося какого-то молодого святого; выражение лица прекрасно. По уверению хозяина, эта драгоценность принадлежит кисти Гверчино, а по-моему, она больше похожа на хорошую копию с Доменикино Цампиери. Но я хозяину не сказал моего мнения, по опыту зная, как трудно противуречить знатокам живописи. На расставаньи он взял с нас слово быть завтра вечером в клубе при выборе старшин, где обещал меня познакомить с своими товарищами и угостить музыкой. Я не прочь и от музыки, и от знакомства, в особенности от знакомства. Мне необходима денежная работа, а иначе я должен буду обратиться опять за святыми финансами к моему искреннему М. Лазаревскому. Попробую, не удастся ли устранить эту необходимость.
3 [октября]
Русские люди, в том числе и нижегородцы, многим одолжились от европейцев и, между прочим, словом клуб. Но это слово совершенно не к лицу русскому человеку. Им бы лучше было одолжиться подобным словом, а оно, верно, существует в китайском языке, одолжиться бы у китайцев и японцев, если они отринули свое родное слово посиделки, удивительно верно изображающее русские дворянские сборища. У европейцев клуб имеет важное политическое значение, а у русских дворян это даже и не мирская сходка, а просто посиделки. Они собираются посидеть за ломберными столами, помолчать, поесть, выпить, и если случай поблагоприятствует, то и по сусалам друг друга смазать.
После выбора старшин любезнейший г. Якоби представил меня своим товарищам, в том числе генералу Веймарну и г. Кудлаю (полицейместер № 2). Генерал Веймарн замечателен тем, что он не похож на русского генерала, а похож вообще на прекрасного простого человека, а г. Кудлай, кроме того, что не похож на полицеймейст[е]ра, как и товарищ его Лапа, замечателен тем, что он друг и дальний родственник моего незабвенного друга и товарища покойного Петра Степановича Петровского. Многое и многое разбудил он в моем сердце своим живым воспоминанием о прекрасных минувших днях. Мы с ним до того увлеклись минувшим, что не заметили, как настоящие посиделки кончились. В заключение усоветовали мы писать к брату покойного моего друга, к Павлу Степановичу Петровскому, чтобы он, отложа всякое попечение, навестил бы нас в Нижнем Новеграде. И, если можно, захватил бы с собою и моего искреннего Михайла Лазаревского.
4 [октября]
Додвенацети чесов вел Себя хорошо Некончивше потрет адилаиди Алексеевне брилкиной попросил я униколая Александровича брылкина екапажа снамереньям зделать очайныя везита, пришлого дома выридился спомощию павла обрамовича овсяникова как первой статейной франт начил свою визидацыю Г. веймора Г. веймар наперьвой раз показалса мне вдомашнем виду человеком окуратном нонечопорном. вели мы речей о том что унас пути соопщенели вроссии болие нежели гнусны например 1843 году в Чернигови набазари продавали муку 20 ко серб пуд. А вместечко гомели туже самую му продавали 1 срб. пуд поговоривши апутей сообщеньи, мы, слегка коснулиса, и воено сословья – одним словом совсем отвратительне что конечно неподлежит немалейшем сомненью заключившим нашева обоюднаго любезничиство таким мнением овоеном сословии я простился Г. Генералом и поехал гдотору градвингу.
5 [октября]
Михайло – хороший слуга, но в секретари не годится, малограмотен. Я хотел по примеру Юлия Цезаря и работать, т. е. рисовать, и диктовать, но мне ни то, ни другое не удалось. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. Пословица очень справедлива. Не знаю, умел Юлий Цезарь рисовать? А диктовать, говорят, он мог разом письма о пяти совершенно разных предметах, чему я почти не верю. Но не о том речь, а речь о том, что у меня и сегодня еще колеблется де[с]ница от позавчерашня глумления пьянственного, и я вчера только вид показывал, что я будто бы рисую, а где там, и фон не мог конопатить. Так только, абы-то.
Остановились мы на том, как я приехал к доктору Гартвигу.
6 [октября]
Вчера только я успел обмокнуть перо в чернило, [чтобы] описать визит мой доктору Гартвигу и перейти к нецеремонному визиту г. Кудлаю, как дверь с шумом растворилася и вошел в комнату сам Кудлай. Разумеется, я положил омоченное в чернило перо, встретил дорого[го] светского гостя в подштанниках и после лобызаний вдарились сначала в обыкновенный пустой разговор, а потом перешли к воспоминаниям о Питере, о покойном Петровском и о великом Брюллове. Воспоминания наши были прерваны приходом слуги от Н.А. Брылкина с предложением обеда. Я проводил моего гостя, оделся и отправился к Н[иколаю] А[лександровичу] обедать. После обеда резвушка мамзель Анхен Шауббе [предложила] сопутствовать ей в театр. Я с удовольствием принял ее предложение и во второй раз слушал музыку Моцарта из «Дон Жуана» и в первый раз видел драму Коцебу «Сын любви», о существовании которой я знал по слуху. Драма моей резвой сопутнице очень понравилась, как произведение Коцебу, а мне, к ужасу моей дамы, тоже понравилась, только не совсем. За что я и получил из улыбающихся уст восторженно[й] немки название грубого варвара, неспособного сочувствовать ничему прекрасному и моральному. Роль Амалии, дочери барона, исполняла артистка московского т[еат]ра госпожа Васильева, натурально и благородно, а прочие, кроме г. Платонова (роль барона), лубочно. За драмою последовала «Путаница»; по-здешнему хорошо, а по-моему – тоже лубочно. Спектакль кончился в первом часу, к удовольствию публики вообще и моей спутницы в особенности.
7 [октября]
Мороз закалил, наконец, непроходимую грязь, это хорошо. Нехорошо только то, что если он установится, то лишит меня возможности нарисовать здешние старинные церкви, которые мне так понравились. Вследствие уже не слякоти, а преждевременного гостя мороза, я сидел дома. Написал Михайлу Лазаревскому о притче, случившейся со мною в Нижнем Новегороде, и просил прислать мне сколько-нибудь денег, потому что я на публику здешнюю плохо надеюся.
8 [октября]
Пользуясь хорошею погодою, я позавтракал сыто и пошел гулять. Обогнувши два раза Кремль и полюбовавшись окрестными видами и коническими старинными колокольнями, как лисица виноградом, зашел к моему поставщику чтения, к милейшему Константину Антоновичу Шрейдерсу, бывшему студенту Киевского университета и в некотором роде земляку моему. Встретил у него некоего барона Торнау, полковника генерального штаба, человека либерала, прекрасно и неутомимо говорящего. Во время последней войны он был при русском посольстве в Вене военным агентом. Следовательно, ему есть о чем говорить. Жалею, что разговор его длился не более получаса, он здесь проездом и, кроме [того], торопился на обед к губернатору.
Барон Торнау, между прочим, рекомендовал мне на всякий случай своего близкого приятеля, известного путешественника, Петра Егоровича Ковалевского, в настоящее время начальника азиатского департамента, по уверению барона, человека царем любимого, а следовательно, и много могущего.
9 [октября]
Сегодня поутру любезнейший Н. А. Брылкин принес мне давно жданное «Краткое историческое описание Нижнего Новагорода», составленное некоим Н. Хранцовским. Но так как сегодня погода довольно сносная, то я, оставя сию интересную [книгу] до вечера, отправился к Печерскому монастырю. Кое-как набросал вид монастыря, я с окоченелыми руками прибежал домой. Позавтракал, поотогрелся и принялся за книгу. Книга хорошая и достаточно знакомит с историею края и города. Жаль, что г. Хранцовский об архитектурных памятниках и вообще о памятниках старины говорит слишком экономно. Но и за то спасибо. Печерский монастырь, что я сегодня рисовал, построенный при царе Федоре Ивановиче в 1597 [г.] вместо разрушившегося древнего монастыря, основанного архимандритом Дионисием.
10 [октября]
Сегодня погода не поблагоприятствовала моему доброму намерению рисовать Архангельский собор в Кремле, и я предложил сеанс Н.А. Брылкину и нарисовал его портрет.
11 [октября]
А сегодня с горем пополам отправился поутру рисовать Архангельский собор, озяб до слез и ничего бы не сделал, если бы не попался мне на глаза генерал Веймарн, командир учебного карабинерного полка и, разумеется, главный хозяин в казармах, под которыми я расположился рисовать. Я рассказал ему о своем горе, и он обязательно позволил мне поместиться у любого окна в казармах, чем я и воспользовался с благодарностью. Поработавши, отправился я обедать к Н.К. Якоби. Вместо десерта он угостил меня брошюрой Искандера лондонского второго издания «Крещеная собственность». Сердечное, задушевное человеческое слово! Да осенит тебя свет истины и сила истинного Бога, апостол наш, наш одинокий изгнанник!
12 [октября]
Окончил вчера начатый рисунок Архангельского собора. Оригинальное, красивое и самое древнее, прекрасно сохранившееся здание в Нижнем Новегороде. Собор этот построен во время великого князя нижегородского Юрия Всеволодовича в 1227 году.
13 [октября]
Рисовал карандашами портрет Анны Николаевны Поповой, слывущей здесь красавицей первой стати. Действительно, она красивая и еще молодая женщина, но увы, маненько простовата. Может быть, и к лучшему. Первый портрет рисую за деньги, за 25 рублей. Посмотрим, что дальше будет. Не худо б, если б этаких тароватых красавиц было погуще в Нижнем. Хоть бы на портного заработал.
После сеанса отправился обедать к Н.К. Якоби, а после обеда отправился в театр. Спектакль был хоть куда. Васильева, в особенности Пиунова была естественна и грациозна. Легкая игривая роль ей к лицу и по летам. Увертюра из «Вильгельма Телля» была и[с]полнена прекрасно. Словом, спектакль был блестящий.
Каковы-то теперь спектакли в Питере, на Большом театре? Хоть бы одним глазом взглянуть, одним ухом послушать.
14 [октября]
К величайшему удовольствию красавицы и ее благоверного сожителя и, в особенности, к своему собственному удовольствию, сегодня я портрет окончил, отдал и весело вечер провел с моим милым капитаном В.В. Кишкиным. На днях он едет в Петербург. Когда же я поеду в Петербург? Отвратительное положение. Немногим лучше, чем в Новопетровском укреплении.
15 [октября]
При ветре и морозе нарисовал вид двух безыменных башен, часть Кремлевской стены и вид на Заочье. В целом вышел порядочный рисунок. Я тороплюся сде[ла]ть побольше эскизов на случай, если придется мне здесь зазимовать, так чтобы была хоть какая-нибудь работа. Обедал у Н. К. Якоби. Первую часть вечера провел у Брылкиных, а вторую с Овсянниковым в клубе за «Пчелой» и бутылкой эля. В клубе познакомился с некоим г. Варенцовым. Это инспектор института благородного при здешней гимназии и товарищ по университету Н. И. Костомарова. От него я узнал, что Костомаров еще не возвратился из-за границы в Саратов и что Кулиш издал второй том «Записок о Южной Руси».
16 [октября]
От нечего делать зашел я сегодня к Варенцову. Заговорили, разумеется, о Костомарове, и он сообщил мне (по известиям, полученным им из Москвы), что будто бы в Москве между молодежью ходит письмо Костомарова, адресованное на имя государя. Письмо, исполненное всякой истины и вообще пространнее и разумнее письма Герцена, адресованного тому же лицу. Письмо Костомарова якобы написано из Лондона. Если это правда, то наверное можно сказать, что Н[иколай] И[ванович] сопричтен к собору наших заграничных апостолов. Благослови его, Господи, на сем великом поприще!
От Варенцова зашел я к новому знакомому, некоему Петру Петровичу Голиховскому, милому, любезному человеку. Он здесь мимоездом из Питера в Екатеринбург. Он отрекомендовал меня своей эффектной красавице жене. Она – мужественная брюнетка, родом молдаванка, и такой страстно-чувственно-электризующей красоты, какой я не встречал еще на своем веку. Удивительная огненная женщина. П. П. Голиховский между прочим сообщил мне, что в Париже образовался русский журнал под названием «Посредник», редактор Сазонов. Главная цель журнала – быть посредником между лондонскими периодическими изданиями Искандера и русским правительством и еще – обнаруживать подлости «Пчелы», «Le Nord» и вообще правительственные гадости. Прекрасное намерение. Жаль, что это не в Брюсселе или не в Женеве. В Париже как раз коронованный Картуш по-дружески прихлопнет это новорожденное дитя святой истины.
От красавицы Голиховской зашел я к красавице Поповой и остался у нее обедать. Но эта красавица не молдаванке чета, она показалась мне сладкою, мягкою, роскошною, но далеко не такою полною жизни красавицей, как бурная, огненная молдаванка.
После обеда у Поповых зашел я к Н. К. Якоби и познакомился у него с некоим симбирским барином Киндяковым, родственником Тимашева, теперешнего начальника штаба корпуса жандармов. Так как Киндяков едет в Петербург, то я и попросил его узнать от своего родственника, долго ли еще продлится мое изгнание и могу ли я когда-нибудь надеяться на совершенную свободу?
У Якоби же встретился я и благоговейно познакомился с возвращающимся из Сибири декабристом, с Иваном Александровичем Анненковым. Седой, величественный, кроткий изгнанник в речах своих не обнаруживает и тени ожесточения против своих жестоких судей, даже добродушно подтрунивает над фаворитами коронованного фельдфебеля, Чернышевым и Левашевым, председателями тогдашнего верховного суда. Благоговею перед тобою, один из первозванных наших апостолов!
Говорили о возвратившемся из изгнания Николае Тургеневе, о его книге, говорили о многом и о многих, и в первом часу ночи разошлись, сказавши до свидания.
17 [октября]
Сегодня получил письмо от М. Лазаревского и два письма от милого моего, неизменного Залецкого. Лазаревский пишет, что он виделся с графиней Настасией Ивановной и что они усоветовали, в случае воспрещения мне въезда в столицу, просить письмом графа Ф[едора] П[етровича], чтобы он исходатайствовал мне это разрешение через президента нашего М[арию] Н[иколаевну] для Академии художеств, классы которой я буду с любовию посещать, как было во время оно. Добрые, благородные мои заступники и советники.
Залецкий, кроме обыкновенного своего сердечно-искреннего прелюдия, пишет, что рисунки мои получил все сполна, что некоторые из них уже пристроил в добрые руки и деньги 150 рублей переслал на имя Лазаревского. Неутомимый друг! Знакомит он меня еще с какой-то своей землячкой-литвинкой, недавно возвратившейся из Италии с огромным грузом изящных произведений. Для меня и за глаза подобные явления очаровательны, и я сердечно благодарю моего друга за это письменное знакомство.
Что значит, что Кухаренко мне не пишет? Неужели он не получил моего поличия и мою «Москалеву криныцю»? Это было бы ужасно досадно.
Упившись чтением этих дружеских милых посланий, вечером, вместе с Овсянниковым, отправились мы к огненной молдаванке. Страшная, невиданная женщина! Намагнетизировавшись хорошенько, мы пожелали ей счастливой дороги до нелюбимого ею Екатеринбурга и расстались, быть может, навсегда. Чудная женщина! Неужели кровь древних сабинок так всемогуще бесконечно жива? Выходит, что так.
18 [октября]
Написал и отослал письма моим милым друзьям М. Лазаревскому и Б. Залецкому.
19 [октября]
В клубе великолепный обед с музыкою и повальная гомерическая попойка…
20 [октября]
Ночь и следующие сутки провел в очаровательном семействе madame Гильде.
22 [октября]
Вздумалось мне просмотреть рукопись моего «Матроса». На удивление безграмотная рукопись, а писал ее не кто иной, как прапорщик О[ренбургского] О[тдельного] корпуса, баталиона № 1, г. Нагаев, лучший из воспитанников Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. Что же посредственные и худшие воспитанники, если лучший из них безграмотный и вдобавок пьяница? Проклятие вам, человекоубийцы – кадетские корпуса!
23 [октября]
При свете великолепного пожара вечером часу в 9-м встретился я с А. К. Шрейдерсом. Он сообщил мне, что обо м[н]е получена форменная бумага на имя здешнего военного губернатора от командира Оренбургского Отдельного корпуса. Для прочтения сей бумаги зашли мы в губернаторскую канцелярию к правителю канцелярии, милейшему из людей, Андрею Кирилловичу Кадинскому. Бумага гласит о том, что мне воспрещается въезд в обе столицы и что я обретаюсь под секретным надзором полиции. Хороша свобода. Собака на привязи. Это значит, не стоит благодарности, в[аше] в[еличество].
Что же я теперь буду делать без моей Академии? Без моей возлюбленной акватинты, о которой я так сладко и так долго мечтал. Что я буду делать? Обратиться опять к моей святой заступнице графине Настасье Ивановне Толстой? Совестно. Подожду до завтра. Посоветуюсь с моими искренними друзьями, с П. А. Овсянниковым и с Н. А. Брылкиным. Они люди добрые, сердечные и разумные. Они научат меня, что мне предпринять в этом безвыходном положении.
24 [октября]
Сегодня мы усоветовали так. На неопределенное время остаться мне здесь, по случаю мнимой болезни, а тем временем писать графу Ф. П. Толстому и просить его ходатайства о дозволении мне жительства в Петербурге хотя на два года. В продолжение двух лет я с помощию Божиею успею сделать первоначальные опыты в моей возлюбленной акватинте.
25 [октября]
Продолжаю по складам прочитывать и поправлять «Матроса» и ругать безграмотного переписчика, пьяницу прапорщика Нагаева. Прочитывая по складам мое творение, естественно, что я не могу следить за складом речи. Убедился только в одном, что название этого рассказа необходимо переменить. Пока не придумаю моему «Матросу» другого, более приличного имени, назову его так: «Прогулка с пользою и не без морали».
26 [октября]
Заходил к Варенцову и взял у него для прочтения два номера, 2 и 3, «Русской беседы». В эпилоге к «Черной раде» П.А. Кулиш, говоря о Гоголе, Квитке и о мне грешном, указывает на меня как на великого самобытного народного поэта. Не из дружбы ли это?
Во 2 номере «Русской беседы» я с наслаждением прочитал трехкуплетное стихотворение Ф. Тютчева:
Эти бедные селенья, Эта скудная природа — Край родной долготерпенья, Край ты русского народа! Не поймет и не заметит Гордый взор иноплеменный, Что скользит и тайно светит В наготе твоей смиренной. Удрученный ношей крестной, Всю тебя, земля родная, В рабском виде Царь Небесный Исходил, благословляя.27 [октября]
Несколько дней сряду хорошая ясная погода, и я сегодня не утерпел, пошел на улицу рисовать. Я нарисовал церковь пророка Илии с частию Кремля на втором плане. Церковь пророка Илии построена в 1506 году в память огненного стреляния, спасшего Нижний от татар и ногаев.
28 [октября]
Сегодня погода тоже почти позволила мне выйти рисовать на улицу. Нарисовал я кое-как церковь Николая за Почайной, построенную в 1372 году. Вероятно, тоже в ознаменование какого-нибудь кровопролития. По дороге зашел я к моему любезному доктору Гартвигу, застал его дома, позавтракал, выпил отличнейшей вишневки собственного приготовления и в старом изорванном нижегородском адрес-календаре прочитал, что в Княгининском уезде Н[ижегородской] губернии в селе Вельдеманове от крестьянина Мины и жены его Марьяны в 1605-м году в мае месяце родился знаменитый патриарх Никон.
29 [октября]
Ходил к Трубецкому, весьма милому князю-человеку, и не застал его дома.
Обедал у Н. К. Якоби, а после обеда в театре слушал между прочим увертюру из «Роберта» Мейербера в антрактах какой-то кровавой драмы. Возможно ли двадцатиинструментным, вдобавок нетрезвым, оркестром исполнять какую бы то ни было увертюру? А тем более увертюру «Роберта» Мейербера? Прости им, не видят бо, что творят. К концу кровавой драмы половина ламп в зале погасла, и тем кончился великолепный спектакль.
30 [октября]
Пользуясь погодой, я совершил прогулку вокруг города с удовольствием и не без пользы. В заключение прогулки нарисовал Благовещенский монастырь. Старое, искаженное новыми пристройками здание. Главная церковь, колокольня не совсем уцелели от варварского возобновления. Осталися только две башни над трапез[н]ой неприкосновенными. И какие они красавицы! Точно две юные, прекрасные, чистые отроковицы грациозно подняли свои головки к Подателю добра и красоты и как бы благодарят Его, что Он заступил их от руки новейшего архитектора. Прекрасное, ненаглядное создание!
Благовещенский монастырь основан в XIV столетии св. Алексеем митрополитом. К этому времени принадлежат и прекрасные башни. Соборная церковь монастыря построена в 1649 году. Местоположение монастыря очаровательное.
31 [октября]
Сегодня только наконец дочитал своего «Матроса». Он показался мне слишком растянутым. Может быть, оттого, что я по складам его читал. Прочитаю еще раз в новом экземпляре, и если окажется сносным, то пошлю его к М. С. Щепкину, пускай где хочет, там его и приютит.
Вечером И. П. Грас познакомил меня с Марьей Александровной Дороховой. Директриса здешнего института. Возвышенная, симпатическая женщина! Несмотря на сво[ю] аристократическую гнилую породу, в ней так много сохранилось простого, независимого человеческого чувства и наружной силы и достоинства, что я невольно [сравнил] с изображением Свободы Барбье (в «Собачьем пире»). Она еще мне живо напомнила своей отрывистой прямою речью, жестами и вообще наружностию моего незабвенного друга, к[няжну] Варвару Николаевну Репнину. О если бы побольше подобных женщин-матерей, лакейско-боярское сословие у нас бы скоро перевелось.
1 ноября
Рисовал портрет М. А. Дороховой, и после удачного сеанса по дороге зашел к Шрейдерсу, встретил у него милейшего М. И. Попова и любезнейшего П. В. Лапу. Выпил с хорошими людьми рюмку водки, остался обедать с хорошими людьми, и с хорошими людьми за обедом чуть-чуть не нализался, как Селифан. Шрейдерс оставлял меня у себя отдохнуть после обеда, но я отказался и пошел к madame Гильде, где и положил якорь на ночь.
2 [ноября]
Возвращаясь домой с благополучного ночлега, зашел я проститься к Варенцову. Он сегодня едет в Петербург. У меня было намерение послать с ним в Москву своего «Матроса», но переписчик мой тоже с добрыми людьми загулял, и рукопись остановилась. Досадно. Придется подождать Овсянникова. Когда я сбуду с рук этого несносного «Матроса»?
Придя домой и от нечего делать раскрыл генварскую книжку «О[течественных] з[аписок]», и какая прелесть случайно попалася мне на глаза. Это стихотворение без названия З. Тур.
Во время сумерек, когда поля и лес Стоя[т] окутаны полупрозрачной дымкой, С воздушных ступеней темнеющих небес Спускается на землю невидимкой Богиня стройная с задумчивым лицом. Для ней нет имени. Она пугливей грезы; Печальный взор горит приветливым огнем, А на щеках заметны слезы. С корзиною цветов, с улыбкой на губах, Она украдкою по улицам проходит, И озирается на шумных площадях, И около дворцов пугливо бродит. Но увидав под крышею окно, Где одинокая свеча горит, мерцая, Где юноша, себя и всех забыв давно, Сидит, в мечтах стих жаркий повторяя, Она порхнет туда и, просияв, войдет В жилище бедное, как мать к родному сыну, И сядет близ него, и счастье разольет, И высыплет над ним цветов корзину.3 [ноября]
Сегодня воскресенье, и я, как порядочный человек, причепурився и вышел из дому с намерением навестить моих добрых знакомых. Зашел я к первому мистеру Гранду, англичанину от волоска до ноготка. У него, у англичанина, я в первый раз увидел сочинения Гоголя, изданные моим другом П. Кулишем. Друг мой немного подгулял. Издание вышло немного мужиковато, особенно портрет автора до того плох, что я удивляюсь, как знаменитый Иордан позволил подписать под ним свое прославленное имя.
У него же, у Гранда, и в первый же раз увидел я «Полярную звезду» Искандера за 1856 год, второй том. Обертка, т. е. портреты первых наших апостолов-мучеников, меня так тяжело, грустно поразили, что я до сих пор еще не могу отдохнуть от этого мрачного впечатления. Как бы хорошо было, если бы выбить медаль в память этого гнусного события. С одной стороны – портреты этих великомучеников с надписью «Первые русские благовестители свободы», а на другой стороне медали – портрет неудобозабываемого Тормоза с надписью «Не первый русский коронованный палач».
4 [ноября]
Кончил сегодня портреты М. А. Дороховой и ее воспитанницы Нины, побочной дочери Пущина, одного из декабристов. Удивительно милое и резвое создание. Но мне как-то грустно делается, когда я смотрю на побочных детей. Я никому, и тем более заступнику свободы, не извиняю этой безнравственной независимости, так туго связывающей этих бедных побочных детей. Простительно какому-нибудь забубенному гусару, потому что он только гусар, но никак не человек. Или какому-нибудь помещику-собачнику, потому что он собачник и только. Но декабристу, понесшему свой крест в пустынную Сибирь во имя человеческой свободы, подобная независимость непростительна. Если он не мог стать выше обыкновенного человека, то не должен и унижать себя перед обыкновенным человеком.
5 [ноября]
Сегодня окончательно проводил Варенцова в Петербург и сегодня же через него получил письмо от Костомарова из Саратова. Ученый чудак пишет, что напрасно прождал меня две недели в Петербурге и не хотел сделать ста верст кругу, чтобы посетить меня в Нижнем. А сколько бы радости привез своим внезапным появлением. Ничего не пишет мне о своих глазах и вообще о своем здоровьи.
6 [ноября]
Написал письмо Костомарову и моим астраханским землякам-друзьям. Хотя погода и не совсем благоприят[ст]вовала, но я все-таки отправился на улицу. С некоторого времени мне, чего прежде не бывало, нравится уличная жизнь, хотя нижегородская публика ни даже в воскресный ясный [день] не показывается на улице, и Большая Покровка, здешний Невский проспект, постоянно изображает собою однообразный длинный карантин. А я все-таки люблю побродить час-другой вдоль этого пустынного карантина. Откуда же эта нелепая любовь к улице? После десятилетнего поста я разом бросился на книги, объелся и теперь страдаю несварением в желудке. Другой причины я не знаю этому томительному нравственному бездействию. Рисовать ничего порядочного не могу, не придумаю, да и помещение мое не позволяет. Рисовал бы портреты, за деньги не с кого, а даром работать совестно. Нужно что-нибудь придумать для разнообразия. А что – не знаю.
Погрузившись в это мудрое размышление или сочинение, я нечаянно нат[к]нулся на дом Якоби. Зашел, пообедал, и после обеда отправился в гостиную на чай к старушкам, т. е. madame Якоби и ее неумолимо говорливой сестрице. В числе разных, по ее мнению, чрезвычайно интересных приключений ее быстроминувшей юности она рассказала мне о Лабзине, о том самом конференс-секретаре Академии художеств, который предложил Илью Байкова, царского кучера, выбрать в почетные члены Академии, потому что он ближе Аракчеева к государю. За эту остроту Аракчеев сослал его в Симбирск, где он и умер на руках моей почтенной собеседницы. Мне приятно было слышать, что этот замечательный мистик-масон до самой могилы сохранил независимость мысли и христианское незлобие.
После Лабзина речь перешла на И. А. Анненкова, и я из рассказа моих собеседниц узнал, что происшествие, так трогательно рассказанное Герценом в своих воспоминаниях про Ивашева, случилося с супругою И. А. Анненкова, бывшей некогда гувернанткой, мадмуазель Поль.
Она жива еще и теперь. Меня обещали старушки познакомить с этою достойнейшею женщиною. Не знаю, скоро ли я удостоюсь счастия взглянуть на эту беспримерную святую героиню.
Дюма, кажется, написал сантиментальный роман на эту богатырскую тему.
По поводу портрета М. А. Дороховой и ее воспитанницы Ниночки, которые я на днях рисовал, старушки сообщили мне, что мать Ниночки – простая якутка и теперь еще жива в Ялуторовске, а что отец ее, г. Пущин, служит где-то на видном месте в Москве и что он женился на богатой вдове, некоей madame Коцебу, собственно для того, чтобы достойно и прилично воспитать свою Ниночку. Отвратительный отец.
7 [ноября]
На днях как-то проходил я через Кремль и видел большую толпу мужиков с открытыми головами перед губернаторским дворцом. Явление это показалось мне чем-то необыкновенным, и до сегоднишнего дня я не мог узнать его содержания, а сегодня Овсянников рассказал мне, в чем было дело.
Крестьяне помещика Демидова, того самого мерзавца Демидова, которого я знал в Гатчине кирасирским юнкером в 1837 году и который тогда не заплатил мне деньги за портрет своей невесты, теперь он, промотавшийся до снаги, живет в своей деревне и грабит крестьян. Кроткие мужички, вместо того, чтобы просто повесить своего грабителя, пришли к губернатору просить управы, а губернатор, не будучи дурак, велел их посечь за то, чтобы они искали управы по начальству, т. е. начинали с станового.
Интересно знать, что дальше будет.
8 [ноября]
Рисовал сегодня до обеда портреты м[есье] и м[адам] Якоби, а вечером пошел к Веймарну; у него сегодня полковой праздник и, следовательно, пиру[ш]ка. Войдя в первую комнату, я совершенно растерялся, меня поразила [толпа] военных людей. Я этих почтенных господ давно уже, слава Богу, не встречаю. В особенности один между ними так живо напомнил мне своею толсто[ю] телячьею рожею капитана Косарева, что я чуть-чуть не вытянул руки по швам и не возгласил: «Здрав[и]я желаю, ваше благородие!» Из этого отвратительного состояния вывел меня сам гостеприимный хозяин, пригласив меня в гостиную; между прочими гостями в гостиной встретил я И. А. Анненкова, и в продолжение вечера я не расставался с ним.
9 [ноября]
Окончил портреты Якоби.
10 [ноября]
Получил от Кулиша книги: «Записки о Южной Руси», два тома, и «Чорну раду». Какой милый оригинал должен быть этот г. Жемчужников. Как бы я счастлив был увидеть человека, который так искренно, нелицемерно полюбил мой милый родной язык и мою прекрасную бедную родину.
11 [ноября]
Сегодня у меня день великий, торжественный, радостный день. Сегодня получил я письмо от моей святой заступницы гра[фини] Н. И. Толстой, дружеское, родственное письмо. За что она меня удостоивает этого неизреченного счастия? И чем я воздам ей за этот нечаянный светлый, сердечный праздник? Слезы радости и чистая молитва – твоя единая награда, моя благородная, моя святая заступнице.
Она советует мне написать графу Ф[едору] П[етровичу] письмо и просить его ходатайства о разрешении явиться мне в столице. Это была моя первая мысль, но мне совестно было беспокоить старика. А теперь решительно решаюсь. Еще просит она передать поклон В. И. Далю, от ее самой и от какого-то г. Жадовского. С Далем я здесь не виделся, хотя с ним прежде и был знаком, и теперь придется очима лупать. И поделом.
12 [ноября]
Ответивши на письмо моей святой заступницы, причепурился я и отправился к В. И. Далю. Но почему-то, не знаю, прошел мимо его квартиры и зашел к адъютанту здешнего военного губернатора, к Владимиру Федоровичу князю Голицыну, весьма милому молодому человеку, раненному под Севастополем. Вслед за мной зашла к нему сестра его, чернобривое, милое задумчивое создание. О чем грустит, о чем задумывается эта едва развернувшаяся сантифолия?
От князя зашел я к его зятю Александру Петровичу Варенцову, пообедал, послушал машинной музыки и отправился в театр. Все было порядочно, кроме г-жи Васильевой. Она, бедняжка, думала очаровать зрителей своим фанданго и совсем не надела панталон. Какое варварское понятие об искусстве. Г-н Климовский в роли Филиппа IV был прекрасен, одет изящно и верно портрету этого испанского государя. А вообще драма «Мать испанка» – так себе, дюжинная драма.
13 [ноября]
Сегодня написал, а завтра отошлю просительное письмо графу Ф. П. Толстому. Прошу его просить кого следует о дозволении мне жить в Петербурге и посещать классы Академии. Письмо, кажется, мне удалось. Овсянников говорит, что при нужде я мог бы занять видное место между кропателями просьб. Посмотрим, пожнем ли желаемые плоды от сего хитрого сочинения.
Сегодня же написал письмо М. С. Щепкину. Прошу свидания с ним где-нибудь на хуторе в окрестностях Москвы. Как бы я рад был [увидеть] этого славного артиста-ветерана.
14 [ноября]
Начал портрет м[адам] Варенцовой. Плотная, кавалергард-мадам. Ничего женственного, ни даже самого обыкновенного кокетства.
15 [ноября]
Получил письмо от моего милого Бронислава, жалуется, что его отец захворал, и рекомендует мне какую-то свою приятельницу Елену Скирмонд, любительницу изящных искусств, мечтательницу и вообще женщину эксцентрическую. Это тоже нехорошо. Но все же лучше, нежели моя новая знакомая м[адам] Варенцова, правда, она тоже женщина эксцентрическая. Только она сосредоточилась не на поэзии, не на изящных искусствах, а на конюшне и на псарне. А может быть, и это своего рода поэзия.
16 [ноября]
Кончил портрет своей отчаянной амазонки и начал ее милое чадо. Мальчик лет пяти, избалованный, будущий собачник, камер-юнкер и вообще человек дрянь.
17 [ноября]
Сделал визитацию В. И. Далю, и хорошо сделал, что я, наконец, решился на эту визитацию. Он принял меня весьма радушно, расспрашивал о своих оренбургских знакомых, которых я не видел с 1850 года, и в заключение просил заходить к нему запросто, как к старому приятелю. Не промину воспользоваться таким милым предложением, тем более, что мои нижегородские знакомые начали понемногу пошлеть.
18 [ноября]
После неудачного, вялого сеанса у м[адам] Варенцовой зашел я по соседству к ее больному брату, князю Голицыну, и застал у него его меньшую милую, задумчивую сестру. Впечатление неудачного сеанса как ветром свеяло. Полюбовавшись на это кроткое создание, я во весь день был счастлив. Какое животворно чудное влияние красоты на душу человека.
19 [ноября]
К общему великому удовольствию сегодня, наконец, я окончил портрет гусароподобной м[адам] Варенцовой и ее будущего собачника-сына. Она чрезвычайно довольна портретом, потому что он похож на какую-то кокетливую нимфу в амазонке с хлыстом, а я еще больше доволен, что, наконец, развязался с этою неуклюжею Бобелиною.
26 [ноября]
Я хотел было совсем оставить свой монотонный журнал, но сегодня совершилось со мною то, чего прежде никогда не совершалось. Шрейдерс, Кадинский и Фрейлих просили меня нарисовать их портреты и предложили деньги вперед. Я никогда не брал денег вперед за работу, а сегодня взял, и, добре помогорычовавши, отправился я в очаровательное семейство м[адам] Гильде и там переночевал. И там украли у меня деньги, 125 руб. И поделом, вперед не бери незаработанных денег. Поутру прихожу домой, другое горе: ночью проехал Федор Лазаревский. Был у Даля, посылал искать меня по всему городу и, разумеется, меня не нашли. И теперь его карточка лежит у меня на столе, как страшный упрек на совести.
27 [ноября]
Волей-неволей сегодня я должен был обедать у Даля и сочинять необыкновенное происшествие, случившееся со мною прошедшей ночью. Но вместо фигурной лжи я сказал ложь лаконическую: я сказал, что ездил в Балахну с Брылкиным, так, ради собственного удовольствия, и тем покончил дело.
28 [ноября]
Жаль мне стало незаработанных денег. В такой досаде отправился я к Кудлаю просить полицейского участия в моем горе. Кудлай сам нездоров, не может выйти из квартиры, но обещался мне завтра прислать одного из своих сподручников, какого-то отъявленного доку. Посмотрим, сотворит ли чудо вышереченный дока.
29 [ноября]
Сегодня поутру в ожидании полицейского доки написал я М. Лазаревскому письмо и насчет роковой ночи повторил ему ту же самую ложь, что и В. И. Далю. Одна ложь ведет за собою другую, это в порядке вещей.
Часу в первом явился ко мне дока, я рассказал ему, в чем дело, и посулил за труды 25 рублей. Но увы, при всем его старании результату никакого. Что с воза упало, то пропало. Следовательно, об этом скверном анекдоте и думать больше нечего. Я так и сделал. Пошел к Шрейдерсу обедать, с досады чуть опять не нализался. После обеда зашел к той же коварной мадам Гильде (какое христианское незлобие!), отдохнул немного в ее очаровательном семействе и в семь часов вечера пошел к князю Голицыну. У Голицына встретил я львов здешней сцены, актеров Климовского и Владимирова. Болтуны и, может быть, славные малые.
Князь прочитал нам свое «Впечатление после боя». Неважное впечатление. После «Впечатления» зашла речь о переводах Курочкина из Беранже. И я прочитал им наизусть не перевод, а собственное произведение. А чтобы не забыть это прекрасное создание поэта, то я вношу его в мой журнал.
Как в наши лучшие года Мы пролетаем без участья Помимо истинного счастья! Мы молоды, душа горда… Как в нас заносчивости много! Пред нами светлая дорога. Проходят лучшие года. Проходят лучшие года, Мы все идем дорогой ложной Вслед за мечтою невозможной, Идем, неведомо куда. Но вот овраг, – вот мы споткнулись… Кругом стемнело… оглянулись — Нигде ни звука, ни следа. Нигде ни звука, ни следа. Ни светлых дней, ни сожаленья, На сердце тяжесть оскорбленья И одиночество стыда. Для утомительной дороги Нет силы, подкосились ноги. Погасла дальняя звезда. Погасла дальняя звезда! Пора, пора душой смириться! Над жизнью нечего глумиться, Отведав горького плода; Или с бессильем старой девы Твердить упорно: где вы, где вы? Вотще минувшие года! Вотще минувшие года Не лучше ль справить честной тризной! Не оскверним же укоризной Господний мир – и никогда С бессильной злобой оскорбленных Не осмеем четы влюбленных, Влюбленных в лучшие года.В. Курочкин
30 [ноября]
Сегодня начал портреты в группе своих щедрых приятелей. Не знаю, будет ли толк из этой затеи, приятели неаккуратны в сеансах, обстоятельство важное при работе. Посмотрю, что дальше будет, и если сеансы затянутся, то нарисую отдельно каждого карандашом и тем покончу мой счет с приятелями. Чего бы мне больно не хотелось, и тем более, что предполагаемый рисунок сепиею очень удачно сгруппировался. И мне бы хотелося достойно заплатить им свой долг.
1 декабря
Получил письмо от М. С. Щепкина, в котором он предлагает мне свидание в селе Никольском (имение его сына) или же, если я не имею лишних денег на эту поездку (125 рублей были у меня совершенно лишние), то он обещает сам приехать ко мне в Нижний. Как бы он возвеселил и меня, и своих нижегородских поклонников. Напишу ему, пускай едет сюда и пускай на здешней бедной сцене тряхнет стариною. Теперь же, кстати, здесь дворянские выборы. После сеанса у Шрейдерса и после обеда у Фрейлиха случайно попал я на полупьяный музыкальный вечер к путейскому офицеру Ультрамарку и услышал там виртуоза на фортепьяно, какого я и не подозревал услышать здесь в захолустьи. Виртуоз этот некто господин Татаринов. Между прочим он сыграл несколько номеров из «Пророка» и из «Гугенотов» Мейербера и вознес меня на седьмое небо.
2 [декабря]
Сегодня сделал я визит вдохновенному моему виртуозу Татаринову и видел у него, чего я также не воображал увидеть в Нижнем. Я увидел у него настоящего, великолепнейшего Гюдена. Такие две прекраснейшие нечаянности разом – наслаждение редкое и высокое. И какие же варвары нижегородцы: они знают Татаринова только как чиновника при компании, строящей железную дорогу. А о картине Гюдена и даже о самом Гюдене никто и не слыхивал, кроме старика Улыбашева, с которым я сегодня познакомился в театре. Это известный биограф и критик Бетговена и самый неизменный посетитель здешнего театра.
3 [декабря]
Три дня сряду нечаянности и самые приятные нечаянности. Это великая редкость в здешней монотонной жизни. Сегодня посетил меня Густав Васильевич Кебер. Гость совершенно неожиданный. Он большой приятель Ф. Лазаревского, и тот, уезжая из Нижнего, поручил ему увидеться со мною, и добрейший Густав Васильевич сегодня исполнил поручение своего и моего друга. Если бы больше подобных нечаянностей, как бы прекрасно текли дни нашей жизни.
4 [декабря]
Написал письма Щепкину и Кулишу. Прошу их, друзей моих великих, отложить всякое житейское или служебное попечение и приехать ко мне недели на две, а аще совесть не зазрит, то и больше. Как бы я счастлив был, если б сбылось мое желание. Авось-либо и сбудется.
8 [декабря]
В продолжение этих четырех дней писал поэму, названия которой еще не придумал. Кажется, я назову ее «Неофиты, или первые христиане». Хорошо, если бы не обманул меня Щепкин, я ему посвящаю это произведение, и мне бы ужасно хотелося ему прочитать и услышать его верные дружеские замечания. Не знаю, когда я примусь за «Дервиша и Сатрапа», а поползновение большое чувствую к пи[санию].
9 [декабря]
В компании честных артистов Климовского, Владимирова и Платонова праздновал именины общей и в особенности театральной красавицы, по имени Анны Дмитревны, а по прозванию не знаю, и праздновал без хитрости, т. е. приличным случаю и месту продолжением, – яснее, в ущерб очаровательному семейству мадам Гильды.
10 [декабря]
Сегодня вечером Варенцов возвратился из Петербурга и привез мне от Кулиша письмо и только что отпечатанную его «Граматку». Как прекрасно, умно и благородно составлен этот совершенно новый букварь. Дай Бог, чтобы он привился в нашем бедном народе. Это первый свободный луч света, могущий проникнуть в сдавленную попами невольничью голову.
Из Москвы Варенцов привез мне поклон от Щепкина, а от Бодянского поклон и дорогой подарок, его книгу «О времени происхождения славянских письмен» с образчиками древнего славянского шрифта. Сердечно благодарен О[сипу] М[аксимовичу] за его бесценный подарок. Эта книга удивительно как пополнила современную нашу историческую литературу.
Еще привез он для Н. К. Якоби свинцовым карандашом нарисованный портрет нашего изгнанника, апостола Искандера. Портрет должен быть похож, потому что не похож на рисунки в этом роде. Да если бы и не похож, то я все-таки скопирую для имени этого святого человека.
12 [декабря]
Сегодня видел я на сцене «Станционного смотрителя» Пушкина. Я был всегда против переделок, и эту переделку пошел смотреть от нечего делать. И что же: переделка оказалась самою мастерскою переделкою, а исполнение неподражаемо. В особенности сцены второго акта и последняя сцена третьего были так естественно трагически исполнены, что хоть бы и самому гениальному артисту так впору. Исполать тебе, господин Владимиров. Исполать тебе и тетенька Трусова, ты так естественно зло исполнила роль помещицы Лепешкиной, что сама Коробочка перед тобой побледнела. Вообще ансамбль драмы был превосходен, чего я никак не ожидал. И если бы не усатые отставные гусары-помещики пьяные шумели в ложе, то я вышел бы из театра совер[шенно доволен].
Кстати о помещиках. Их теперь нахлынуло в Нижний на выборы видимо и невидимо. И все без исключения с бородами и усами, в гусарских, уланских и других кавалерийских мундирах. Пехотинцев и флотских незаметно. Говорят между собою только по-французски. Пьянствуют и шумят в театре и, слышно, составляют оппозицию против освобождения крепостных крестьян. Настоящие французы!
13 [декабря]
Получил письма от Щепкина и от Лазаревского. Старый друзяка пишет, что он приедет ко мне колядовать на праздник. Добрый, искренний друг! Он намерен подарить несколько спектаклей нижегородской публике. Какой великолепный праздничный подарок!
Лазаревский между прочим пишет, что он получил на мое имя 175 рублей через Льва Жемчужникова, с оговоркой – не объявлять мне своего имени. Жертва тайная, великодушная! Чем же я заплачу вам, добрые, великодушные земляки мои, за эту искреннюю жертву? Свободной, искренней песней, песней благодарности и молитвы!
Сегодня же принимаюсь за «Сатрапа и Дервиша», и если Бог поможет окончить с успехом, то посвящу его честным, щедрым и благородным землякам моим. Мне хочется написать «Сатрапа» в форме эпопеи. Эта форма для меня совершенно новая. Не знаю, как я с нею слажу?
14 [декабря]
Вечером отправился к старику Улыбашеву с благою целью послушать музыку. Старик прихворнул и не принимал гостей. Возвращаясь домой, попалась мне на улице недавняя именинница и, не совершенно против желания, затащила меня в маскарад. Явление редкое и оригинальное в Нижнем. Это танцкласс Марцинкевича в Петербурге со всеми подробностями. Небольшая разница в костюмах. Там пьяные черкесы заключают спектакль, а здесь просто офицеры с помощию приезжих помещиков-французов. Одним словом, блестящий маскарад!
15 [декабря]
Через В. И. Даля получил письмо от Федора Лазаревского. Пишет он, что незабаром поедет опять куда-то через Нижний, и просит меня не ездить в Балахну. Не поеду. Цур ий!
16 [декабря]
Ввечеру отправился я к В. И. Далю засвидетельствовать ему глубокое почтение от Ф. Лазаревского. После поздорованья и передачи глубочайшего почтения одна из дочерей его села за фортепьяно и принялася угощать меня малороссийскими песнями. Я, разумеется, был в восторге не от уродливых песень, а от ее наивной вежливости. Заметив, что она довольно смело владеет инструментом, я попросил ее сыграть что-нибудь из Шопена. Но так как моего любимца налицо не оказалось, то она заменила его увертюрою из «Гугенотов» Мейербера. И, к немалому удивлению моему, исполнила это гениальное произведение лучше, нежели я ожидал. Скромная артистка удалилась во внутренние апартаменты, а мы с В[ладимиром] И[вановичем] между разговором коснулись как-то нечаянно псалмов Давида и вообще Библии. Заметив, что я неравнодушен к библейской поэзии, В[ладимир] И[ванович] спросил у меня, читал ли я Апокалипсис. Я сказал, что читал, но увы, ничего не понял; он принялся объяснять смысл и поэзию этой боговдохновенной галиматьи и в заключение предложил мне прочитать собственный перевод Откровения с толкованием и по прочтении просил сказать свое мнение. Последнее мне больно не по душе. Без этого условия можно бы, и не прочитав, поблагодарить его за одолжение, а теперь необходимо читать. Посмотрим, что это за зверь в переводе?
17 [декабря]
Получил письмо от П. Кулиша. Он отказывается от свидания со мною здесь, не по недостатку времени и желания, но во избежание толков, которые могут замедлить мое возвращение в столицу. Я с ним почти согласен. От журнала, о котором я ему писал, он наотрез отказался. Готовит материалы для третьего тома «З[аписок] о Южной Руси» и что-то начал писать серьезного, но что такое, не говорит.
Вечером был на бенефисе г. Климовского. И несмотря на порядочное исполнение, все-таки «Дообеденный сон» Островского мне не понравился. Повторение, и повторение вялое. Прочее так себе шло, кроме попурри, пропетого в антракте бенефициантом, вдобавок собственного сочинения.
18 [декабря]
Читал и сердцем сокрушился, Зачем читать учился.Читая подлинник, т. е. славянский перевод Апокалипсиса, приходит в голову, что апостол писал это Откровение для своих неофитов известными им иносказаниями, с целию скрыть настоящий смысл проповеди от своих приставов. А может быть, и [с] целию более материальною, чтобы они (пристава) подумали, что старик рехнулся, порет дичь, и скорее освободили бы его из заточения. Последнее предположение мне кажется правдоподобнее.
С какою же целию такой умный человек, как В[ладимир] И[ванович], переводил и толковал эту аллегорическую чепуху? Не понимаю. И с каким намерением он предложил мне прочитать свое бедное творение? Не думает ли он открыть в Нижнем кафедру теологии и сделать меня своим неофитом? Едва ли. Какое же мнение я ему скажу на его безобразное творение? Приходится врать, и из-за чего? Так, просто из вежливости. Какая ложная вежливость.
Не знаю настоящей причины, а вероятно, она есть. В[ладимир] И[ванович] не пользуется здесь доброй славою, почему – все-таки не знаю. Про него даже какой-то здешний остряк и эпиграмму смастерил; вот она:
У нас было три артиста, Двух не стало, это жаль. Но пока здесь будет Даль, Все как будто бы не чисто.19 [декабря]
Monsieur Брас (учитель французского языка в гимназии) рассказал мне сегодня недавно случившееся ужасное происшествие в Москве. Трагедия такого содержания.
Ловкий молодой гвардеец по железной дороге привез в Москву девушку, прекрасную, как ангел. Привез ее в какой-то не слишком публичный трактир. Погулял с нею несколько дней, что называется, на славу и скрылся, оставив ее расплатиться с трактирщиком, а у нее ни денег, ни паспорта. Она убежала из дому с своим обожателем с целью в Москве обвенчаться, и концы в воду. Трактирщик посмотрел на красавицу и, как человек бывалый, смекнул делом, подослал к ней сводню. Ловкая тетенька приласкала ее, приголубила, заплатила трактирщику долг и взяла ее к себе на квартиру. На другой или на третий день она убежала от обязательной старушки и явилась к частному приставу, а вслед за нею явилась и ее покровительница. Подмазала частного пристава, а тот, несмотря на ее доводы, что она благородная, что она дочь генерала, высек ее розгами и отправил в рабочий дом на исправление, где она через несколько дней умерла. Ужасное происшествие! И все это падает на военное сословие. Отвратительное сословие!
20 [декабря]
С благотворительною целью составляется спектакль из благородных субъектов под непосредственной дирекцией г. Голынской и г. Варенцова. Спектакль составят живые картины и концерт.
Г. Варенцов меня как живописца пригласил сегодня на репетицию, собственно, для живых картин, т. е. для освещения этих бестолковых картин. Я по простоте души и попробовал осветить одну из них так, что главная фигура в свету, а прочие в полутоне. Освещение вышло довольно эффектно. Но жалкие маменьки подняли шум, почему одна такая-то освещена, а наши дочки разве хуже ее, что их совсем не видно, что их только по афише будут знать. Я плюнул и хотел уйти, но меня остановила Марья Александровна Дорохова и просила поставить и осветить ее Ниночку. Ниночка, не красавица, явилася в картине очаровательною. Чадолюбивые маменьки хотя и заметили, в чем дело, но все-таки не согласились оставить своих дочерей в полутоне.
Сегодня должен выехать из Москвы М. С. Щепкин. Ах, как бы он хорошо сделал, если бы выехал. Послезавтра я имел бы радость поцеловать моего старого, моего единого друга!
21 [декабря]
Сегодня получил письмо от М. С. Щепкина. Он сегодня выехал из Москвы, и послезавтра я обниму моего старого, моего искреннего друга. Как я счастлив этой нелицемерной дружбой! Не многим из нас Бог посылает таку[ю] полную радость, и весьма, весьма немногие из людей, дожив до семидесяти лет, сохранили такую поэтическую свежесть сердца, как М[ихайло] С[еменович]. Счастливый патриарх-артист!
Сегодня же получил письмо от моей святой заступницы, от графини Настасии Ивановны Толстой. Она пишет, что письмо мое, адресованное графу Ф[едору] П[етровичу], на праздниках будет передано М[арии] Н[иколаевне]. И сообщает мне адрес Н. О. Осипова. Боже мой! Скоро ли я увижу мою Академию? Скоро ли обниму мою святую заступницу?
Спектакль с благотворительной целью сошел хорошо, кроме живых картин и народного гимна. Ниночка Пущина была очаровательна.
24 [декабря]
Праздникам праздник и торжество есть из торжеств!
В три часа ночи приехал Михайло Семенович Щепкин.
29 [декабря]
В 12 часов ночи уехал от меня Михайло Семенович Щепкин. Я, Овсянников, Брылкин и Олейников проводили моего великого друга до первой станции и ровно в три часа возвратилися домой. Шесть дней, шесть дней полной, радостно-торжественной жизни! И чем я заплачу тебе, мой старый, мой единый друже? Чем я заплачу тебе за это счастие? За эти радостные сладкие слезы? Любовью! Но я люблю тебя давно, да и кто, зная тебя, не любит? Чем же? Кроме молитвы о тебе, самой искренней молитвы, я ничего не имею.
30 [декабря]
Я все еще не могу прийти в нормальное состояние от волшебного, очаровательного видения. У меня все еще стоит перед глазами городничий, Матрос, Михайло Чупрун и Любим Торцов. Но ярче и лучезарнее великого артиста стоит великий человек, кротко улыбающийся друг мой единый, мой искренний, мой незабвенный Михайло Семенович Щепкин.
1858
1 генваря
Дружески весело встретил Новый год в семействе Н.А. Брылкина.
Как ни весело встретили мы Новый год, а придя домой, мне скучно сделалось. Поскучавши немного, отправился я в очаровательное семейство мадам Гильде, но скука и там меня нашла. Из храма Приапа пошел я к заутредни; еще хуже – дьячки с похмелья так раздирательно пели, что я заткнул уши и вышел вон из церкви. Придя домой, я нечаянно взялся за Библию, раскрыл, и мне попался лоскуток бумаги, на котором Олейников записал басню со слов Михайла Семеновича. Эта находка так меня обрадовала, что я сейчас же принялся ее переписывать. Вон она:
На улице и длинной и широкой И на большом дворе стоит богатый дом. И со двора разносится далеко Зловоние кругом. А виноват хозяин в том. «Хозяин наш прекрасный! но упрямый, — Мне дворник говорит. — Раскапывать велит помойную он яму, А чистить не велит». Зачем раскапывать заглохшее дерьмо? И не казнить воров, не предавать их сраму? Не лучше ль облегчить народное ярмо, Да вычистить велеть помойную-то яму.Сочинение этой басни приписывают московскому актеру Ленскому. Это не похоже на водевильный куплет. Басня эта так благодетельно на меня подействовала, что я, дописывая последний стих, уже спал.
Сегодня же познакомил я в семействе Брылкина милейшую Катерину Борисовну Пиунову (актрису). Она в восторге от этого знакомства и не знает, как меня благодарить.
Как благодетельно подействовал Михайло Семенович на это милое и даровитое создание. Она выросла, похорошела, поумнела после «Москаля-чаривныка», где она сыграла роль Тетяны, и так очаровательно сыграла, что зрители ревели от восторга, а М[ихайло] С[еменович] сказал мне, что она первая артистка, с которой он с таким наслаждением играл Михайла Чупруна, и что знаменитая Самойлова перед скромной Пиуновой – солдатка.
2 [января]
Обязательнейший Олейников сегодня сообщил мне стихотворение Курочкина на смерть Беранже, но так скверно переписанное, что я едва мог прочесть. Прочитал, однак, и записал на память. Прекрасное, сердечное стихотворение.
16-е ИЮЛЯ 1857 ГОДА
Зачем Париж волнуется опять? На площадях и улицах солдаты, Народных масс не может взор обнять, Кому хотят последний долг воздать? Чей это гроб и катафалк богатый? Тревожный слух в Париже пролетел, Угас поэт – народ осиротел. Великая скатилася звезда, Светившая полвека кротким светом Над алтарем страданья и труда! Простой народ простился навсегда С своим родным учителем-поэтом, Воспевшим блеск его великих дел. Угас поэт – народ осиротел. Зачем же блеск и роскошь похорон? Мундиры войск и ризы духовенства? Тому, кто жил так искренно, как он, Певец любви, свободы и равенства, Несчастным льстил, но с сильными был смел, Угас поэт – народ осиротел. Зачем певцу напрасный фимиам? И почестей торжественных забава? Не быть ничем хотел он в жизни сам, И в бедности нашла любимца слава. И слух о нем далеко прогремел! Угас поэт – народ осиротел. Народ всех стран; страданье, труд И сладких слез над звуками – отрада, И в них, поэт, тебе великий суд! Великому великая награда, Когда, свершив завидный свой удел, Угас поэт – народ осиротел.3 [января]
Получил от Кулиша письмо со вложением 250 рублей. Деньги эти выручены им за рисунки, которые я послал из Новопетровского укрепления Залецкому для продажи. Залецкий передал их Сераковскому, от Сераковского я не имел об них никакого известия и совершенно потерял их из виду. Не знаю, как они попали в руки Кулиша, и тот нашел им какого-то щедрого земляка-любителя, и мне как будто подарил 250 рублей к Новому году. Спасибо ему.
4 [января]
Весь день был посвящен писанию писем.
Обязанность скучная, но неизбежная. Написал полдюжины посланий, в том числе и автору «Семейной хроники», приславшему мне с Михайлом Семеновичем экземпляр своей очаровательной хроники. Кулишу при письме послал свои «Неофиты». Интересно мне знать его мнение о сем новом моем произведении.
В 8-мь часов вечера проводил своего хозяина Овсянникова в Петербург и отправился на бал-маскарад к Варенцову, директору театра, и познакомился там с доктором Рейковским, ученым и весьма и[н]тересным человеком.
5 [января]
Возвратился почталион из Москвы, который сопровождал Михайла Семеновича. Привез мне от него письмо и четыре экземпляра своего портрета для раздачи своим нижегородским друзьям. Письмо свое заключает он печальным известие[м], полученным на пороге своего дома, о смерти сына Димитрия, умершего за границей.
6 [января]
Пиунова сегодня в роли Простушки (водевиль Ленского) была такая милочка, что не только московским – петербургским, парижским бы зрителям в нос бросилась. Напрасно она румянится. Я ей скажу об этом. С роли Тетяны (в «Москали-чаривныке») она, видимо, совершенствуется, и если замужество ей не попрепятствует, из нее выработается самостоятельная великая артистка.
7 [января]
Круликевич, возвращаясь на родину из изгнания (с берегов Сырдарьи), узнал случайно о моем пребывании в Нижнем и сегодни посетил меня. Между многими неинтересными степными новостями он сообщил отвратительно интересную новость. Побочный сын гнилого сатрапа Перовского собственноручно зарезал своего денщика, за что был только разжалован в солдаты; но мелкая душонка [не вынесла] и этого всемилостивейшего наказания, он вскоре умер или отравил себя. Туда й дорога. Выходит, яблоко недалеко от яблони упало. Мать этого малодушного тигренка, жена какого-то паршивого барона Зальц и купленная блядь растленного сатрапа Перовского, однажды, собираясь к обедне, рассердилась за что-то на горничную да и хватила ее утюгом в голову. Горничную похоронили, и тем дело покончил всемогущий сатрап. О Николай, Николай! Какие у тебя лихие сподручники были. По Сеньке шапка.
8 [января]
С сегоднишнего числа я занимаю две квартиры. Прежнюю у Овсянникова и новую у Шрейдерса. Остается наделать долгов, а спрятаться есть куда.
9 [января]
На новосельи у Шрейдерса нарисовал сегодня портрет Олейникова с условием, чтобы он написал фельетонную статейку для «Московских ведомостей» о пребывании М. С. Щепкина в Нижнем. Хорошо, если бы не соврал.
10 [января]
Нарисовал портрет Шрейдерса, и довольно удачно. Часть долга, значит, уплачена. Нужно еще нарисовать Фрейлиха и Кадинского, и тогда квиты. Но когда это случится, не знаю.
11 [января]
Сегодня суббота. По субботам я и милейшая К.Б. Пиунова обедаем у М.А. Дороховой. Но сегодня я должен о[т]казаться от этой радости, и моя милая компаньонка отправилась сам-друг с портретом М. С. Щепкина, присланный им в подарок Марье Александровне, а я поехал провожать до первой станции, по Казанской дороге, моего привлекательно-благородного капитана В.В. Кишкина.
Грустно расставаться с такими добрыми людьми, как этот симпатический Кишкин. Я, возвратившись домой, чувствовал себя совершенным сиротой. Но тягостное мое одиночество недолго длилось. Я вскоре вспомнил, что я один из счастливцев мира сего. М. С. Щепкин, уезжая из Нижнего, просил меня полюбить его милую Тетясю, т. е. Пиунову, и я буквально исполнил его дружескую просьбу. А сегодня, прощая[сь] со мною, Кишкин со слезами на глазах просил меня полюбить его кроткую любимицу Вареньку Остафьеву. И после таких милых обязанностей я скучаю. Дурень, дурень, а в школи вчився. Остафьева выехала куда-то из города, и я в 6-ть часов вечера отправился к Пиуновой. Застал ее дома. Продиктовал ей стихи Курочкина «Как в наши лучшие года», а она прочитала мне некоторые вещи Кольцова и потом чуть-чуть не все басни Крылова. Я в восторге был от этого импровизированного литературного вечера и пришел домой совершенно счастлив. Она любит чтение, значит, она далеко пойдет в своем искусстве. Дай Бог, чтобы сбылось мое пророчество.
12 [января]
Не ради воскресенья и светского пошлого визита пошел я к П. М. Голынской (племянница здешнего губернатора), а по просьбе моего искреннего Михайла Семеновича пошел я передать ей его портрет и приятельский поклон. В огромной гостиной старушку Шаховскую и Голынскую окружали [столь] холодные, официальные, чопорные фигуры, что после приветствия и самого коротенького присеста и на меня пахнуло холодом от этой честной компании. Вышел сам губернатор, я поздравил его с получением через плечо Анны, раскланялся и вышел вместе с Э.А. Бабкиным. Заехал к Бабкину на квартиру, взял у него Пушкина и Гоголя и повез к Пиуновой. Прочитал ей «Сцены из рыцарских времен» и отогрел губернаторским холодом обвеянную душу. Она прочитала мне «Каменного гостя», и потом мы поехали к Брылкиным обедать, после обеда М.А. Грас повезла ее в театр, куда последовал и я, совершенно доволен таким теплым, прекрасным окончанием холодно начавшегося дня.
13 [января]
Бабкин подарил мне прекрасную акватинту, изображающу[ю] смерть Людовика XVI, а я сегодня, за это назидательное изображение, изобразил его собственную персону и довольно удачно. Вечер провел у милейшего юноши виртуоза-виолончелиста Весловского и, возвратясь домой, нашел у себя на столе письмо Сергея Тимофеевича Аксакова. Самое любезное, самое сердечное письмо.
В заключение любезностей он пишет, что «Матрос» мой, наконец, пошел в ход, он передал его Каткову, редактору «Русского вестника». В ожидании будущих благ принимаюсь переписывать вторую часть «Матроса».
14 [января]
Сегодня случайно зашел я к Пиуновой, речь зашла о конце ее театрального года, о возобновлении контракта. Ей, бедняжке, ужасно не хочется оставаться в Нижнем, а не знает, куда девать себя. В Казань ей и хотелось бы, но она боится там какой-то Прокофьевой, не соперницы, но ужасной интриганки. В таком ее горе я предложил ей посильные услуги. Я напишу письмо директору Харьковско[го] театра и буду просить Михайла Семеновича Щепкина о ее заступничестве. Как бы это хорошо было, если б удалося ей переселиться в Харьков.
15 [января]
Не откладывая в длинный мешок, сегодня же я написал и директору Харьковского театра и моему великому другу. Каков-то будет результат из моих нехитрых затей?
16 [января]
Только что хотел заключить письмо моему великому другу, да вспомнил, что сегодня не почтовый день. Оставил послание и принялся за «Матроса». Несносно скучная работа. Литераторам должны платить не за писание, а за переписывание собственных произведений.
Вечером возвратился я из театра и нашел у себя письмо моего гениального друга. И хорошо, что я своего письма не кончил. Между прочим он пишет мне, что рисунки мои он уж пустил в ход. Спасибо ему, неутоми[мо]му.
17 [января]
Окончил неоконченное письмо, отправил на почту и принялся за «Матроса». Несносная работа, когда я ее кончу.
18 [января]
К немалому моему удивлению, сегодня встретил я у Брылкина давнишнего и нелицемерного своего поклонника В.Н. Погожева. Он здесь по делам службы, и завтра едет в Москву.
19 [января]
Сегодня повторилась моя люби[ми]ца в роли Тетяны. Очаровательна, как и в первый раз. Но Климовский в роли Чупруна и по выговору, и по мимике – вандал. Лапти плел, варвар, и только мешал моей милой Тетяси.
20 [января]
Проводил в Петербург до[к]тора Кутерема, Кебера, Шрейдерса, Фрейлиха и Н. А. Брылкина в Казань и на компанейский завод близ Казани. Сегодня у меня день провод.
21 [января]
Бенефис милочки Пиуновой. Полон театр зрителей и очаровательная бенефициантка – прекрасная тема для газетной статейки. Не попробовать ли? Попробуем наудалую.
22 [января]
Проездом из Петербурга в Вятку на службу посетил меня сегодня Яков Лазаревский. Он недавно из Малороссии. Рассказал о многих свежих гадостях в моем родном краю, в том числе и о грустном Екатеринославском восстании 1856 года, и про своего соседа и родственника Н.Д. Белозерского. Этот филантроп-помещик так оголил сво[их] крестьян, что они сложили про него песню, которая кончается так:
А в нашого Білозера Сивая кобила, Бодай же його побила Лихая година. А в нашого Білозера Червоная хустка, Ой не одна в селі хата Осталася пустка.Наивное, невинное мщение!
23 [января]
«Дочь второго полка» – глупейшее произведение Доницетти. Либретто тоже нелепо и неестественно. Покойному нашему тормозу, надо думать, очень нравилось это топорное произведение. Да не по его ли заказу оно и родилося на свет Божий? При нем, я помню, когда-то в Петербурге оперетка эта исполнялась с большей дисциплиной. Теперь она и это существенное свое достоинство утратила. Что бы сказал на это Тормоз? Он бы Гедеонова на месяц на гауптвахту упрятал.
Старуха Шмитгоф в роли Марии безобразна, а мой любимец Владимиров в роли старика, дворецкого маркиза, был тоже безобразен.
24 [января]
Получил письма от Кулиша и от М. Лазаревского.
25 [января]
Получил письмо от Костомарова с выговором за молчание. Я действительно виноват перед ним на сей раз. Но что писать? О чем писать? Что я здесь скучаю и ничего не делаю? И не могу, наконец, ничего делать. Лучше молчать, нежели переливать из пустого в порожнее.
26 [января]
Встретил Масляницу катаньем за город.
Я предложил это удовольствие милейшей Пиуновой с семейством. Она согласилась. И мы поехали в село Бор, напилися чаю в каком-то кабаке, и на обратном пути она все пела известную свадебную или святочную песню:
Меня миленькой он журил-бранил, Он журил-бранил, добром говорил, Ай люли-люли, выговаривал. Не ходи, девка молода, замуж, Наберись, девка, ума-разума, Ума-разума да сундук добра, Да сундук добра, коробок холста.Жидовское начало в русском человеке. Он без приданого не может даже полюбить.
27 [января]
В церкви Покрова отпели тело Д. А. Улыбашева, знаменитого критика и биографа Бетговена и Моцарта.
28 [января]
Николай Петрович Болтин, губернский дворянский предводитель, изъявил желание познакомиться со мною. Я удовлетворил его любезному желанию и не раскаиваюсь. Он человек здраво и благородно мыслящий, горячо сочувствующий вопросу о крепостных крестьянах, и усердно хлопочет о составе комитета, который должен порешить это дело в Нижегородской губернии.
29 [января]
Аляповатый бенефис г-жи Васильевой и сплетни.
30 [января]
Любимая и многоуважаемая Катерина Борисовна!
Я сам принес вам книги, и принес их с тем, чтобы вы их прочитали. Но вы, не прочитавши их, прислали мне назад. Как объяснить мне ваш поступок? Он ставит меня решительно в тупик, особенно, если принять в соображение наш сегоднешний разговор. Уж не ответ ли это на мое предложение? Если это так, то я прошу вас высказать мне его яснее. Дело слишком для меня важно. Я вас люблю и говорю это вам прямо, без всяких возгласов и восторгов. Вы слишком умны для того, чтобы требовать от меня пылких изъяснений в любви, я слишком люблю и уважаю вас, чтобы употреблять в дело пошлости, так принятые в свете. Сделаться вашим мужем для меня величайшее счастье и отказаться от этой мысли будет трудно. Но если судьба решила иначе, если я имел несчастие не понравиться вам и если возвращенные мне вами книги выражают отказ, то, нечего делать, я должен покориться обстоятельствам. Но во всяком случае ни чувства мои, ни уважение к вам не изменятся, и если вы не можете или не хотите быть моей женою, то позвольте мне оставить себе хоть одно утешение – остаться вашим другом и постоянною преданностью и почтительностью заслужить ваше доброе расположение и уважение.
В ожидании ответа, который должен решить мою участь, остаюсь преданный вам и глубоколюбящий.
Тарас Шевченко
31 [января]
Я совершенно не гожусь для роли любовника. Она, вероятно, приняла меня за помешанного или просто за пьяного и вдобавок за мерзавца. Как растолковать ей, что я ни то, ни другое, ни третье и что не пошлый театральный любовник, а искренний, глубоко сердечный ее друг. Сам я ей этого не умею рассказать. Обращуся к моему другу М. А. Дороховой. Если и она не вразумит ее, тогда я самый смешной и несчастный жених.
1 февраля
Получил письмо от М. С. Щепкина с двумястами рублей и с самой сердечной готовностию переселить мою прекрасную невесту в Харьков. Он желает знать ее условия, а она не желает свидания со мной. Но так как это свидание не любовное, а деловое, то оно и необходимо. Делать нечего, принимаюсь опять за послание.
2 [февраля]
Дело мое не так плохо, как я думал. Она приняла мое внезапное предложение за театральную сцену. Настоящая актриса, она во всем видит свое любимое искусство, даже во мне она открыла сценического артиста тогда, когда я менее всего был похож на актера. Я действительно тогда был похож на помешанного или, скорее, на пьяного, а она, бедняжка, приняла меня за лицедея. Но перемелется – мука будет.
Все это объяснил мне ее отец, который явился на мое приглашение по поводу письма Михайла Семеновича. Старик не высказал прямо своего мнения насчет моего сватовства, но согласился со мною, что ей необходимо чтение, и взял у меня «Губернские очерки» и несколько ливрезонов Гогарта. Добрый знак.
В заключение спектаклей дана была драма «Парижские нищие». Роль Антуанетты исполнила она, и исполнила лучше, нежели в первый раз, но я не аплодировал. А почему, и сам не знаю. Мне казалось, она выше всяких аплодисментов. Но я этого никому не сказал.
3 [февраля]
Ниночка Пущина именинница. Вчера я уведомил Пиунову об этом с намерением увидеться и поговорить с нею, но политика мне не далась. Возлюбленная моя явилась, поздравила именинницу и через полчаса уехала, и [я] успел, и то уже в передней, пожать и поцаловать ее руку и не проговорить ни слова. Лукавое создание! Теперь я тебе не западню, а капкан поставлю. Посмотрим, кто кого перехитрит?
Тут же при ней прочитал я вслух уже напечатанную статейку собственного изделия о ее бенефисе. Быть может, ей не понравилось мое нельстивое рукоделье, и она поторопилась уехать. Да не плюнуть ли мне на эту сердечную затею? Не плюй в колодязь, придется воду пить.
4 [февраля]
Лучше хоть что-нибудь, нежели ничего.
Другой день нет спектаклей, бедных нижегородских спектаклей. И будто чего-то необходимого недостает.
5 [февраля]
Я видел ее во сне. К добру ли это? Будто бы она слепая нищая, но такая молодая и хорошенькая. Стоит у какой-то ограды или забора и протягивает руку Христа ради. Я хотел подойти с какою-то мелкою монетою, но она внезапно исчезла. Это продолжение роли Антуанетты. Ничего больше.
Вечером был у Татаринова. Белов и Татаринов играли в четыре руки увертюру из «Вильгельма Телля» и из «Фрейшица», а потом некоторые вещи духовного содержания Гайдена. Божественный Гайден! Божественная музыка!
После музыки зашла речь о театре и о таланте моей возлюбленной Пиуновой. Сначала слушал я с удовольствием расточаемые ей похвалы, но потом так мне грустно стало, что я хотел уйти. Что бы это значило? Не ревность ли? Глупо, нелепо ревновать актрису к зрителям, ее истинный любовник должна быть публика, а муж – друг.
В заключение вечера хозяин прочитал нам песню Беранже, переведенную Ленским, под названием «Старый холостяк». Мне она очень понравилась, потому, может быть, что я, если не одружуся с моей возлюбленной артисткой, должен буду вступить в эту непочтенную категорию.
СТАРЫЙ ХОЛОСТЯК
(БЕРАНЖЕ)
Десятый час, пора на боковую, Маланьюшка, поди ко мне, душа; Сем, я тебя разочек поцелую… Кухарочка, а как ведь хороша! Мне кажется, ты видишь и по взгляду, Что стал бодрей я в эти шесть недель… Свари-ка мне с ванилью шоколаду Да приготовь мою постель. Маланьюшка, ты не дивись нимало, Что я хочу служанкой быть любим: Я в старину ухаживал бывало За личком дрянь перед твоим. Что есть любовь, пять лет не знал я сряду, А прежних чувств все не проходит хмель. Свари-ка мне с ванилью шоколаду Да приготовь мою постель. Дружочек, будь со мною без отлучки. Ты с этих пор на кухне не слуга, И можно ли, чтоб эти щечки, ручки Коптилися весь день у очага. Я дам тебе хорошую награду, Одену так, как лучшую мамзель… Свари-ка мне с ванилью шоколаду Да приготовь мою постель. Что слышу я? Опять ответ всегдашний: «Да полноте! Как можно! Стыд какой!» Сударыня, я знаю ваши шашни С Петрушкою, племянника слугой!.. В знакомстве с ним ни складу нет, ни ладу, Того смотри, что сядешь тут на мель… Свари-ка мне с ванилью шоколаду Да приготовь мою постель. Маланьюшка! Ты на мое желанье Без дальних слов должна бы отвечать, Вот, видишь ли, я скоро завещанье Духовное намерен написать. Чем приводить хозяина в досаду, Пойми, мой друг, его благую цель… Свари-ка мне с ванилью шоколаду Да приготовь мою постель. А! Наконец, мои приятны ласки… Но… Как я слаб!.. Проклятие судьбе!.. Не плачь, душа: я не боюсь огласки И немощен женюся на тебе. Пожалуйста, в крови моей прохладу Хоть как-нибудь поразогрей, мамзель… Свари-ка мне с ванилью шоколаду Да приготовь мою постель.6 [февраля]
М. А. Дорохова сегодня репетировала предстоящий акт выпускным своим юным питомицам. Юные питомицы в зеленых платьицах и белых пелеринках числом [23] чинно сидели на скамейках, вроде театральных зрителей, и благоговейно внимали, как их досужие подруги исполняли на фортепиано руколомные пьесы. Между прочим, была исполнена на двух инструментах, весьма недурно, увертюра из «Вильгельма Телля». Потом прочитаны стихи по-французски, по-немецки, и в заключение девица Беляева прочитала русские стихи собственного сочинения на тему – благодарность за воспитание. Для ее возраста стихи хороши, за что я ей обещался подарить сочинения И. Козлова, если найду в Нижнем. В заключение пропет был хором так называемый народный гимн, и репетиция тем кончилась.
Все это обыкновенно дурно, но вот что отвратительно. В залах института, кроме скамеек и грозного лубочного изображения самодержца, ни одной картины, ни одной гравюры. Чисто, гладко, как в любом манеже. Где же эстетическое воспитание женщины? А оно для нее, как освежающий дыхание воздух, необходимо. Душегубцы.
После этой театральной репетиции зашел к М[арье] А[лександровне]. Встретил у нее старого моего знакомого, некоего г. Шумахера. Он недавно возвратился из-за границы и привез с собою 4 № «Колокола». Я в первый раз сегодни увидел газету и с благоговением облобызал.
7 [февраля]
Сегодня получил письмо, да еще страховое, от директора Харьковского театра. Он весьма любезно просит меня сообщить ему условия Пиуновой и ее самое поторопить приездом. Сердечно рад, что мне удалося это дело. Вечером пошел я обрадовать ее этим любезным письмом и поговорить окончательно об условиях и о времени выезда в Харьков. Ее самой не застал дома, а глупая мамаша так меня приняла, что я едва ли когда-нибудь решуся переступить порог моей милой протеже. Необходимо прибегнуть к письменным объяснениям.
8 [февраля]
Она прислала за мной, чтобы объясниться по поводу харьковского предложения. Я, разумеется, охотно согласился на это деловое свидание, имея в виду и любовное. Но увы! Старая ворчунья мамаша одного шагу не ступила из комнаты, и я должен был ретироваться с одними поручениями. Она предпочитает с отцом ехать в Харьков. Это стеснит ее денежные средства, потому что отец должен оставить контору, от которой получает 30 рублей в месяц. Но, вероятно, мамаша и ей навязла в зубах.
9 [февраля]
После беспутно проведенной ночи я почувствовал стремление к стихословию, попробовал и без малейшего усилия написал эту вещь. Не следствие ли это раздражения нерв?
I
ДОЛЯ
Ти не лукавила зо мною, Ти другом, братом і сестрою Сіромі стала. Ти взяла Мене, маленького, за руку І в школу хлопця одвела До п’яного дяка в науку. – Учися, серденько, колись З нас будуть люде. – Ти сказала. А я й послухав, і учивсь, І вивчився. А ти збрехала. Які з нас люде? Та дарма, Ми не лукавили з тобою, Ми просто йшли; у нас нема Зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, Мій друже щирий, нелукавий! Ходімо дальше, дальше слава, А слава – заповідь моя.II
МУЗА
І ти, пречистая, святая, Ти, сестро Феба молодая! Мене ти в пелену взяла І геть у поле однесла. І на могилі серед поля, Як тую волю на роздоллі, Туманом сивим сповила. І колихала, і співала, І чари діяла… І я… О чарівниченько моя! Мені ти всюди помагала, І всюди, зоренько моя, Ти не марніла, ти сіяла! В степу безлюднім, в чужині, В далекій неволі, Ти в кайданах пишалася, Як квіточка в полі. Із казарми смердячої Чистою, святою Вилетіла, як пташечка, І понадо мною Полинула, заспівала, Моя сизокрила… Мов живущою водою Душу окропила. І я живу, і надо мною Своєю Божою красою Витаєш ти, мій херувим, Золотокрилий серафим, Моя порадонько святая! Моя ти доле молодая! Не покидай мене. Вночі, І вдень, і ввечері, і рано Витай зо мною… і учи, Учи неложними устами Хвалити правду. Поможи Молитву діяти до краю. А як умру, моя святая! Моя ти мати, положи Свого ти сина в домовину… І хоть єдиную сльозину В очах безсмертних покажи.III
СЛАВА
А ти, задрипанко, шинкарко, Перекупко п’яна! Де ти в ката забарилась З своїми лучами? У Версалі над злодієм Набор розпустила. Чи з ким іншим мизкаєшся З нудьги та з похмілля? Горнись лишень коло мене Та витнемо з лиха, Гарнесенько обіймемось, Та любо та тихо Пожартуєм, чмокнемося Та й поберемося, Моя крале мальована, Бо я таки й досі Коло тебе мизкаюся. Ти хоча й пишалась І з п’яними королями По шинках шаталась, І курвила з Миколою У Севастополі… Та мені про те байдуже. Мені, моя доле, Дай на себе надивитись, Дай і пригорнутись Під крилом твоїм, і любо З дороги заснути.10 [февраля]
Получил письмо от кошового батька Я. Кухаренка от 7 августа. Оно из Екатеринодара прогулялось через Новопетровское укрепление и Оренбург и только сегодня достигло своей цели. А все-таки лучше позже, нежели никогда. Кухаренко не знал о моей резиденции. А я не знал, как растолковать себе его молчание. А теперь все объяснилось.
И. А. Усков из Новопетровского укрепления пишет, что у них все обстоит благополучно. Не завидую вашему благополучию.
В. Н. Погожев пишет из Владимира, что он на днях виделся в Москве с М. С. Щепкиным и что он ему читал наизусть какую-то мою «Пустку». Совершенно не помню этой вещи. А слышу об ней уже не в первый раз.
11 [февраля]
М. С. Щепкин с сокрушением сердца пишет мне о моем безалаберном и нетрезвом существовании. Интересно бы знать, из какого источника он почерпнул эти сведения. Стало быть, и у меня не без добрых людей. Все же лучше, нежели ничего.
Благодарю тебя, мой старый, мой добрый, но чем тебя разуверить, не знаю.
Далее он пишет о перемещении Пиуновой в Харьков. Он сомневается, чтобы ей дали там требуемое ею содержание. Будет досадно, если не состоится это перемещение. Подождем, что скажет Иван Александрович Щербина.
Боже мой, как бы мне хотелося вырвать ее из этой тухлой грязи.
12 [февраля]
Сегодня нарисовал портрет Кадинского. Остается нарисовать Фрейлиха и квиты.
14 [февраля]
Кончил, наконец, вторую часть «Матроса». Переписыванье – это самая несносная работа, какую я когда-либо испытывал. Она равняется солдатскому ученью. Нужно будет прочитать еще это рукоделье, что из него выйдет? Как примет его С. Т. Аксаков? Мне ужасно хочется ему нравиться, и только ему. Странное чувство!
15 [февраля]
Приглашал запиской свою мучительницу обедать у М. А. Дороховой. Сказалась больной, несносная лгунья. Мне необходимо с ней поговорить наедине до выезда из Нижнего, а как это устроить, не придумаю. Писать не хочется, а кажется, придется писать. Опять видел ее во сне слепою нищею, только уже не у церковной ограды, как в первый раз, а в живой картине, в малороссийской белой свитке и в красном очипке.
16 [февраля]
Отправивши на почту письма Кухаренку и Аксакову, зашел в собор послушать архиерейских певчих. Странно, или это с непривычки, или оно так есть. Последнее вернее. В архиерейской службе с ее обстановкою и вообще в де [ко]рации мне показалось что-то тибетское или японское. И при этой кукольной комедии читается Евангелие. Самое подлое противуречие.
Нерукотворенный чудовищный образ, копия с которого меня когда-то испугала в церкви Георгия. Подлинник этого индийского безобразия находится в соборе и замечателен как древность. Он перенесен из Суздаля князем Константином Васильевичем в 1351 году. Очень может быть, что это оригинальное византийское чудовище.
Вечером были живые картины в театре, которые я не пошел смотреть, несмотря даже на то, что в них участвовала моя несравненная. Я боялся увидеть византийский стиль в этих картинах. Опасения мои основательны. Г. Майоров малейшего понятия не имеет в этом простом деле. В театральном кафе, или, как его здесь называют, в кабаке, встретил старика Пиунова, которому, как он мне сказал, очень бы хотелось, чтобы его Катя что-нибудь прочитала в следующее воскресенье на сцене. Я обещал порыться в российской поэзии. Порылся. И выбор мой пал на последнюю сцену из «Фауста» Гете, перевод Губера. Она прочитает хорошо, только нужно будет одеть ее сообразно с местом и временем. Жаль, что нет под рукою Реча. Да достану ли еще и книгу Губера в этом затхлом городе.
17 [февраля]
Не без труда, однако же, достал «Фауста» Губера. Послал книгу моей артистке и часа через три являюся к ней в полной уверенности, что она уже наизусть читает роль Маргариты. Ничего не бывало. Она нашла почему-то неудобной эту сцену для чтения. На зов матери вышла из комнаты, а я с полчаса проболтал с отцом и ушел, как несолоно хлебал. Замечательная простота нравов.
18 [февраля]
Проездом из Киева в Иркутск посетили меня земляки мои Волконский и Малюга. Они едут в звании медиков заслуживать казне за воспитание. Какая нелепость посылать молодых медиков в такую даль от центра просвещения. Где средства на будущее развитие? Варварство!
Малюга сообщил мне, что Марко Вовчок – псевдоним некоей Маркович и что адрес ее можно достать от Данила Семеновича Каменецкого, поверенного Кулиша в Петербурге. Какое возвышенно прекрасное создание эта женщина. Не чета моей актрисе. Необходимо будет ей написать письмо и благодарить ее за доставленную радость чтением ее вдохновенной книги.
19 [февраля]
В шесть часов утра приехал Шрейдерс из Петербурга, привез мне письмо от Лазаревского, песни Беранже Курочкина и четыре экземпляра моего портрета, фотографированного с моего же рисунка.
В 12 часов в зале дворянского собрания происходило торжественное открытие комитета, собранного для окончательного решения свободы крепостных крестьян. Великое это начало благословлено епископом и открыто речью военного губернатора Н. А. Муравьева, речью не пошлою, официальною, а одушевленною, христианскою, свободною речью. Но банда своекорыстных помещиков не отозвалася ни одним звуком на человеческое святое слово. Лакеи! Будет ли напечатана эта речь? Попрошу М. А. Дорохову, не может ли она достать копию.
20 [февраля]
Один экземпляр моего нерукотворенного образа подарил М. А. Дороховой, он ей не понравился, выражение находит слишком жестким. Просил достать копию речи Муравьева, обещала.
21 [февраля]
Писал Лазаревскому, чтобы он свои письма ко м[н]е адресовал на имя М. С. Щепкина в Москву.
Начал переписывать свою поэзию для печати, писанную с 1847 года по 1858 год. Не знаю, много ли выберется из этой половы доброго зерна.
22 [февраля]
Третий раз вижу ее во сне и все нищею.
Это уже не вследствие роли Антуанетты, а вследствие каких данных – не уразумею. Сегодня представилась мне она грязною, безобразною, оборванною, полунагою, и все-таки в малороссийской свитке, но не в белой, как прежде, а в серой, разорванной и грязь[ю] запачканной. Со слезами просила у меня и милостыни, и извинения за свою невежливость по случаю «Фауста» Губера. Я, разумеется, простил ее и в знак примирения хотел поцаловать, но она исчезла. Не предсказывают ли эти ночные грезы нам действительную нищету?
23 [февраля]
Сон в руку. Возвращаясь с почты, зашел я к Владимирову и услышал, что моя возлюбленная Пиунова, не дождавшись письма из Харькова, заключила условие с здешним новым директором театра, с г. Мирцовым. Если это правда, то в какие же отношения поставила она меня и Михайла Семеновича со Щербиною? В отвратительные!
Вот она где, нравственная нищета, а я боялся материальной. Дружба врозь и черти в воду. Кто нарушил данное слово, для того клятва не существует.
24 [февраля]
Получил письмо от Кулиша с дороги в Бельгию, с хутора Матроновки около Борзны. Он предлагает мне рисовать сцены из малороссийской истории, из песен и из современного народного быта. Рисунки, которые бы можно было вырезать на дереве, печатать в боль[шо]м количестве, раскрашивать и продавать по самой дешевой цене. Мысль его та, чтобы заменить в нашем народе суздальское изделие. Прекрасная, благородная мысль, но она может осуществиться только при больших деньгах и принести даже материальную пользу. Теперь я не могу приняться за такую работу. Для этого нужно жить постоянно в Малороссии, чтобы была разница между моими рисунками и суздальскими. И потому еще, что я не теряю надежды быть в Академии и заняться любимой акватинтой.
Я так много перенес испытаний и неудач в своей жизни, казалось бы, пора уже освоиться с этими мерзостями. Не могу. Случайно встретил я Пиунову, у меня не хватило духу поклониться ей. А давно ли я видел [в ней] будущую жену свою, ангела-хранителя своего, за которого готов был положить душу свою? Отвратительный контраст. Удивительное лекарство от любви – несамостоятельность. У меня все как рукой сняло. Я скорее простил бы ей самое бойкое кокетство, нежели эту мелкую несамостоятельность, которая меня, а главное, моего старого знаменитого друга поставила в самое неприличное положение. Дрянь госпожа Пиунова! От ноготка до волоска дрянь!
Завтра Кудлай едет во Владимир, попрошу его взять и меня с собой. Из Владимира как-нибудь доберусь до Никольского и в объятиях моего старого искреннего друга, даст Бог, забуду и Пиунову, и все мои горькие утраты и неудачи. Отдохну и на досуге займусь перепиской для печати моей невольничьей поэзии. А сегодня перепишу чужую не поэзию, но довольно удачные стишки, посвященные памяти неудобозабываемого фельдфебеля.
Когда он в вечность преселился, Наш незабвенный Николай, К Петру апостолу явился, Чтоб дверь ему он отпер в Рай. – Ты кто? – спросил его ключарь. – Как кто? Известно, русский царь. – Ты царь? Так подожди немного; Ты знаешь, в Рай тесна дорога И узки райские врата, Смотри, какая теснота! – Что ж это все за сброд? – Простой народ! Аль не узнал своих? Ведь это россияне, Твои бездушные дворяне, А это – вольные крестьяне. Они все по миру пошли И нищими к нам в Рай пришли. Тогда подумал Николай: – Так вот как достается Рай! И пишет сыну: – Милый Саша! Плоха на небе участь наша. И если подданных своих ты любишь, То их богатства поубавь. А если хочешь в Рай ввести, То всех их по миру пусти.25 [февраля]
В 7-мь часов утра получил письмо Лазаревского. Он пишет, что мне дозволено приехать и жить в Петербурге. Лучшего поздравления с днем ангела нельзя желать.
В три часа собрались к обеду Н. Брылкин, П. Брылкин, Грас, Лапа, Кудлай, Кадинский, Фрейлих, Климовский, Владимиров, Попов, Товбич. За обедом было и шумно, и весело, и изящно, потому что компания была единодушна, проста и в высокой степени благородна. За шампанским я сказал спич: сначала поблагодарил гостей моих за сделанную мне честь и в заключение прибавил, что я не буду на Бога в претензии, если буду встречать всюду таких добрых людей, как они, теперь сущие со мною, и что память о них навсегда сохраню я в моем сердце.
Праздник мой совершился в квартире добрейшего К. Шрейдерса.
Вечером пошел я проводить отъезжающего в Петербург Климовского, с которым предполагал и сам отправиться в гости к М. С. Щепкину, но письмо Лазаревского меня вовремя остановило.
26 [февраля]
Товбич предложил мне прогулку за 75 верст от Нижнего. Я охотно принял его предложение, с целию сократить длинное ожидание официального объявления о дозволении жить мне в Питере. Мы пригласили с собой актера Владимирова и некую девицу Сашу Очеретникову, отчаянную особу. Скверно пообедали на мой счет в трактире Бубнова и пустилися в дорогу.
27 [февраля]
В селе Медновке, цели поездки Товбича, пробыли мы до 8 часов вечера. Тут встретился я с путейским капитаном Петровичем, приехавшим туда по одному делу с Товбичем. Петрович по происхождению серб, образованный, прямой и сердечный человек, хорошо разумеющий и глубоко сочувствующий всему современному. Мне больно, что я прожил столько времени в Нижнем и только сегодня встретился с этим редким человеком.
28 [февраля]
В 7 часов утра возвратились мы благополучно в Нижний. Поездка наша была веселая и не совсем пустая. Саша Очеретникова была отвратительна, она немилосердно пьянствовала и отчаянно на каждой станции изменяла, не разбирая потребителей. Жалкое, безвозвратно потерянное, а прекрасное создание. Ужасная драма!
1 марта
На имя здешнего губернатора от министра внутренних дел получена бумага о дозволении проживать мне в Петербурге, но все [е]ще под надзором полиции. Это работа старого распутного японца Адлерберга.
2 [марта]
Получил письмо от графини Н. И. Толстой. Она пишет, что ее сердечное желание наконец исполнилось и что она с нетерпением ждет меня к себе. Доброе, благородное создание! Чем я воздам тебе за добро, которое ты для [меня] сделала? Молитвою, бесконечною молитвою!
Овсянников просит, чтобы [подождал] его здесь до 7 числа. Подожду. А если он обманет, прокляну и без денег уеду.
3 [марта]
Давно ожидаемую книгу «Детство Багрова внука» сегодня получил с самою лестною надписью сочинителя. Книга была послана из Москвы 7 февраля и пролежала до сегодня у сухого Даля. Могла бы и навсегда остаться у него, если бы я сегодня случайно не зашел к нему и не увидел ее. Он извиняется рассеянность[ю] и делами. Чем хочешь извиняйся, а все-таки ты сухой немец и большой руки дрянь. И что вздумалося Сергею Тимофеевичу делать моим комиссионером Даля? Тогда как ему мой адрес известен. Не думал ли он через это познакомить меня с ним? Добрейший Сергей Тимофеевич!
4 [марта]
В ожидании Овсянникова и полицейского пропуска в Питер принялся переписывать «Видьму» для печати. Нашел много длинного и недоделанного. И слава Богу, работа сократит длинные дни ожидания.
5 [марта]
Послал письмо графине Н. И. Толстой. Писал ей, что 7 числа в 9 часов вечера оставлю Нижний Новгород. Сбудется ли это? Это будет зависеть от Овсянникова, а не от меня. Глупо. Продолжаю работать над «Видьмою».
6 [марта]
Я слишком плотно принялся за свою «Видьму», так плотно, что сегодня кончил, а работы было порядочно, и, кажется, порядочно кончил. Переписал и слегка поправил «Лилею» и «Русалку». Как-то примут земляки мои мою невольническую музу?
Часов в 7 вечера явился ко мне жандармский унтер-офицер и предложил довезти меня за 10 рублей до Москвы. Сердечно благодарен за предложение. Он отвозил в Вятку какого-то непокорного отцу своему капитана Шлипенбаха. И на обратном пути искал себе попутчика и нашел меня в Нижнем. Еще раз спасибо ему.
Условившись в цене и времени выезда, я пошел к Кудлаю поторопить его насчет полицейского пропуска. Кудлая не застал дома и по дороге зашел к Вильде, где встретил Татаринова, мамзелей Шмитгоф и брата их, молодого, весьма талантливого скрипача и сценического артиста. После ужина хозяин, прощаясь со мной, подарил мне на память несколько миниатюрных медальонов, копии с известных скульптурных произведений древних и новых, сделанных разными художниками. Милый и умный подарок.
7 [марта]
От часу пополудни до часу пополуночи прощался с моими нижегородскими друзьями. Заключил расставанье у М. А. Дороховой ужином и тостом за здоровье моей святой заступницы графини А. И. Толстой.
10 [марта]
В три часа пополудни 8 марта оставил Нижний на санях, а во Владимир приехал 9-го ночью на телеге. Кроме этого весьма обыкновенного явления в настоящее время года, ничего особенного не случилось, кроме легкого воспаления в левом глазе и зуда на лбу. Во Владимире я взял розовой воды и думал все покончить этим ароматическим медикаментом. А вышло не так, как я думал.
Во Владимире на почтовой станции встретил А.И. Бутакова, под командою которого плавал я два лета 1848 и 49 по Аральскому морю. С тех пор мы с ним не видались. Теперь он едет с женою в Оренбург, а потом на берега Сырдарьи. У меня при одном воспоминании об этой пустыне сердце холодеет, а он, кажется, готов навсегда там поселиться. Понравилась сатана лучше ясна сокола.
В 11 часов вечера приехал в Москву. Взял № за рубль серебра в сутки в каком-то великолепном отеле. И едва мог добиться чаю, потому что уже было поздно. О Москва! О караван-сарай! Под громкою фирмою – отель. Да еще и со швейцаром.
11 [марта]
В 7 часов утра оставил я караван-сарай со швейцаром и пустился отыскивать своего друга М. С. Щепкина. Нашел его у старого Пимена в доме Щепотьевой и у него поселился, и, кажется, надолго, потому что глаз мой распух и покраснел, а на лбу образовалося несколько групп прыщей. Облобызав моего великого друга, отправился я к доктору Ван-Путерену, моему нижегородскому знакомому. Он прописал мне английскую соль, зеленый пластырь, диету и по крайней мере неделю не выходить на улицу. Вот тебе и столица! Сиди да смотри в окно на старого безобразного Пимена.
12 [марта]
Посетил меня доктор Ван-Путерен, прибавил еще два лекарства для внутреннего и наружного употребления. И посулил мне по крайней мере неделю заточения и поста. Веселенькая перспектива!
Вслед за доктором посетил меня почтеннейший Михайло Александрович Максимович. Молодеет старичина, женился, отпустил усы да и в ус себе не дует.
Вечером, по настоянию моих гостеприимных хозяев, сошел я вниз в гостиную с повязанной головой, где встретил несколько человек гостей, и между ними Кетчера, Бабста и Афанасьева, с которыми тут и познакомил меня хозяин. Время быстро прошло до ужина. Подали ужин, гости сели за стол, а я удалился в свою келию. Проклятая болезнь!
13 [марта]
Доктор Ван-Путерен уехал сегодня в Нижний; рекомендовал мне своего приятеля, какого-то немца, которого я, однако ж, не дождался и просил М[ихайла] С[еменовича] пригласить медика, какого он лучше знает, потому что болезнь моя не шутя меня беспокоит. М[ихайло] С[еменович] пригласил доктора Мина. Завтра я его дожидаю.
Навестил меня Маркович, сын Н. Марковича, автора «Истории Малороссии», и М. А. Максимович с брошюрою «Исследование о Петре Конашевиче Сагайдачном». Сердечно благодарен за визит и за брошюру.
14 [марта]
Отправил Лазаревскому два рисунка, назначенные для преподнесения М[арии] Н[иколаевне].
После обеда явилися ко мне два доктора, хорошо еще, что не вдруг. Приятель Ван-Путерена прописал какую-то микстуру в темной банке, а Мин – пильнавскую воду и диету. Я решился следовать совету последнего.
Дмитрий Егорович Мин – ученый переводчик Данта и еще более ученый и опытный медик. Поэт и медик. Какая прекрасная дисгармония.
У старого друга моего М[ихайла] С[еменовича] везде и во всем поэзия, у него и домашний медик поэт.
15 [марта]
Вчера было у меня два доктора, а сегодня ни одного. Мне, слава Богу, лучше, скоро, может быть, они для меня будут совсем не нужны. Как бы это хорошо было. Надоело смотреть в окно на старого Пимена.
М[ихайло] С[еменович] ухаживает за мною, как за капризным больным ребенком. Добрейшее создание! Сегодня вечером пригласил он для меня какую-то г. Грекову, мою полуземлячку, с тетрадью малороссийских песень. Прекрасный, свежий, сильный голос, но наши песни ей не дались, особенно женские. Отрывисто, резко, национальной экспрессии она не уловила. Скоро ли я услышу тебя, моя родная задушевная песня?
Петр Михайлович, старший сын моего великого друга, подарил мне два экземпляра – фотографические портреты апостола Александра Ивановича Герцена.
16 [марта]
Нарисовал портрет, не совсем удачно, М[ихайла] С[еменовича]. Причиной неудачи были сначала Максимович, а потом Маркович. Пренаивные посетители. Им и в голову не пришла поговорка, что не вовремя гость – хуже татарина. А кажется, люди умные, а простой вещи не понимают.
После обеда посетил меня Д. Е. Мин и, кроме диеты и пильнавской воды, ничего не присоветовал. Дня через три обещает выпустить на улицу. Ах, как бы было хорошо!
17 [марта]
Сегодня опять посетили меня оба медика и, слава Богу, кроме диеты и сидения в комнате, ничего не прописали. Я, однако ж, и этого немного не исполнил. Вечером втихомолку навестил давно не виданного друга моего, княжну Варвару Николаевну Репнину. Она счастливо переменилась, потолстела и как будто помолодела. И вдарилася в ханжество, чего я прежде не замечал. Не встретила ли она в Москве хорошего исповедника?
18 [марта]
Кончил переписывание или процеживание своей поэзии за 1847 год. Жаль, что не с кем толково прочитать. М[ихайло] С[еменович] в этом деле мне не судья. Он слишком увлекается. Максимович – тот просто благоговеет перед моим стихом, Бодянский тоже. Нужно будет подождать Кулиша. Он хотя и жестко, но иногда скажет правду; зато ему не говори правды, если хочешь сохранить с ним добрые отношения.
В первом часу поехали мы с М[ихайлом] С[еменовичем] в город. Заехали к Максимовичу. Застали его в хлопотах около «Русской беседы». Хозяйки его не застали дома. Она была в церкви. Говеет. Вскоре явилася она, и мрачная обитель ученого просветлела. Какое милое, прекрасное создание. Но что в ней очаровательнее всего, это чистый, нетронутый тип моей землячки. Она проиграла для нас на фортепьяно несколько наших песен. Так чисто, безманерно, как ни одна великая артистка играть не умеет. И где он, старый антикварий, выкопал такое свежее, чистое добро? И грустно, и завидно. Я написал ей на память свой «Весенний вечер», а она подарила мне для ношения на шее киевский образок. Наивный и прекрасный подарок.
Расставшись с милою, очаровательною землячкою, заехали мы в школу живописи, к моему старому приятелю А. Н. Мокрицкому. Старый приятель не узнал меня. Немудрено, мы с ним с 1842 года не видались. Потом заехали в книжный магазин Н. Щепкина, где мне Якушкин подарил портрет знаменитого Николая Новикова. Потом приехали домой и сели обедать.
Вечером был у О. М. Бодянского. Наговорились досыта о славянах вообще и о земляках в особенности, и тем заключил свой первый выход из квартиры.
19 [марта]
В 10 часов утра вышли мы с Михайлом Семеновичем из дому и, несмотря на воду и грязь под ногами, обходили пешком по крайней мере четверть Москвы. Я не видал Кремля с 1845 года. Казармовидный дворец его много обезобразил, но он все-таки оригинально прекрасен. Храм Спаса вообще, а главный купол в особенности безобразен. Крайне неудачное громадное произведение. Точно толстая купчиха в золотом повойнике остановилася напоказ среди белокаменной. Из Кремля прошли мы на Большую Дмитровку, зашли к Елене Константиновне Станкевич, моей старой знакомой; напилися чаю, отдохнули и пошли в книжный магазин Н. М. Щепкина. Из магазина возвратилися опять к Станкевич, где я встретил еще одну мою старую знакомую Олимпиаду Ивановну Миницкую. Пообедали у Станкевич и в 6 часов вечера благополучно пешком же возвратилися восвояси, дивяся бывшему.
20 [марта]
Мой неразлучный спутник и чичероне М[ихайло] С[еменович] сегодня ставил себе банки, и я один от 10 до 4 часов месил московскую грязь. Поутру велел я кучеру вымазать себе сапоги добрым дегтем. Вооружился и по Тверской отправился в Кремль. Полюбовавшися старым красавцем Кремлем, прошел я к юному некрасавцу Спасу с целию посмотреть скульптурные работы. Но меня и на двор не пустили. «Не приказано», – сказал сторож. Я ему не противоречил и возвратился в Кремль. Полюбовавшись еще раз стариком, вышел я на Ильинку и потом на Покровку. Зашел к А. А. Сапожникову, моему спутнику из Астрахани до Нижнего. Болен, никого не принимает. И хорошо делает, потому что я весь облеплен грязью. Расспросил у будочника дорогу к почтамту, поплелся тихонько к Мокрицкому. Отдохнул у него, полюбовался эскизами незабвенного друга моего, покойного Штернберга, и пошел к уральскому казачине Савичу. Взял у него летопись Велички, которую он получил от О.М. Бодянского два года тому назад для пересылки [мне] и держал у себя, сам не знает, с каким намерением. От Савичева зашел в харчевню, напился чаю с кренделями и Страстным бульваром вышел на Дмитровку. Потом к старому Пимену, и ровно в 4 часа пришел домой.
Вечером М[ихайло] С[еменович] был гото[в] на новые подвиги, и мы отправились к Станкевичам. Весело, нецеремонно поболтали о Малороссии, о днях минувших, и на расставаньи В. А. Станкевич подарил мне экземпляр стихотворений Тютчева.
21 [марта]
В 10 часов утра не пешком, а в пролетке пустились мы с М[ихайлом] С[еменовичем] Москву созерцать. По дороге заехали к сыну его Николаю. Выпили по стакану чаю и потягли далее. Заехали также по дороге к Кетчеру, встретили там Бабста. Кетчер подарил мне все издания своей компании, кроме своего перевода Шекспира, – он еще в типографии. А Бабст подарил свою речь о умножении народного капитала, издание той же компании. Выпили у Кетчера по рюмке сливянки и поехали к Якушкину. Хозяина не застали дома, а милейшая хозяйка подарила нам по экземпляру портрета к[н]. Волконского, декабриста, и мы раскланялись и поехали к Красным воротам, к Забелину. Это молодой еще человек, самой симпатической кроткой физиономии, обитающий не в квартире, а в библиотеке. Он не совсем здоров, и я не решился просить его показать мне Оружейную палату, где он служит помощником Вельтмана. От Забелина поехали мы в книжный магазин Н[иколая] М[ихайловича], и тут расстался я с моим путеводителем.
Грешно роптать мне на судьбу, что она затормозила мой поезд в Питер. В продолжение недели я здесь встретился и познакомился с такими людьми, с какими в продолжение многих лет не удалось бы встретиться. Итак, нет худа без добра.
Вечер провел у своей милой землячки М. В. Максимович. И несмотря на Страстную пятницу, она, милая, весь вечер пела для меня наши родные задушевные песни. И пела так сердечно, прекрасно, что я вообразил себя на берегах широкого Днепра. Восхитительные песни! Очаровательная певица!
22 [марта]
Радостнейший из радостных дней. Сегодня я видел человека, которого не надеялся увидеть в теперешнее мое пребывание в Москве. Человек этот – Сергей Тимофеевич Аксаков. Какая прекрасная, благородная старческая наружность! Он нездоров и никого не принимает. Поехали мы с М[ихайлом] С[еменовичем] сегодня поклониться его семейству. Он узнал о нашем присутствии в своем доме и, вопреки заповеди доктора, просил нас к себе. Свидание наше длилось несколько минут. Но эти несколько минут сделали меня счастливым на целый день и навсегда останутся в кругу моих самых светлых воспоминаний.
После постного обеда в Троицком трактире отправился я домой с намерением приготовиться к ночному кремлевскому торжеству. Намерение мне не удалось. Прочитав статью в 3 № «Полярной звезды» о записках Дашковой, в 11 часов я отправился в Кремль. Если бы я ничего не слыхал прежде об этом византийско-староверском торжестве, то, может быть, оно бы на меня и произвело какое-нибудь впечатление, теперь же ровно никакого. Свету мало, звону много, крестный ход, точно вяземский пряник, движется в толпе. Отсутствие малейшей гармонии и ни тени изящного. И до которых пор продлится эта японская комедия?
В 3 часа возвратился домой и до 9 часов утра спал сном праведника.
23 [марта]
Христос воскрес!
В семействе М[ихайла] С[еменовича] торжественного обряда и урочного часа для разговен не установлено. Кому когда угодно. Республика. Хуже, анархия! Еще хуже, кощунство! Отвергнуть веками освященный обычай обжираться и опиваться с восходом солнца. Это просто поругание святыни!
В 10-м часу пришел к М[ихайлу] С[еменовичу] с праздничным поклоном актер Самарин и сообщил ему очень миленькую эпиграмму Щербины, которую при сем и прилагаю.
Боже! В каком я теперь упоеньи С «Вестником Русским» в руках, Что за прекрасные стихотворения. Ах! Тут Данилевский, Плещеев таинственный, Майков наш флюгер-поэт. Лучше же всех несравненный, единственный Фет! Много нелепостей патетических, Множество фраз посреди. Много и рифм. Но красот поэтических — Жди!24 [марта]
Еще раз виделся с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым и с его симпатическим семейством и еще раз счастлив. Очаровательный старец! Он приглашает меня к себе в деревню на лето, и я, кажется, не устою против такого искушения. Разве попечительная полиция воспрепятствует.
От Аксаковых заехали к В.Н. Репниной. А от нее к актеру Шумскому. Вкусили священной пасхи с вестфальской колбасой и поехали к Станкевичам. Не застали дома. Отправились в книжный магазин Н.М. Щепкина и ком., где и осталися обедать. Обед был званый. Н[иколай] М[ихайлович] праздновал новоселье своего магазина и по этому случаю задал пир московской учено-литературной знаменитости. И что это за очаровательная знаменитость! Молодая, живая, увлекающаяся, свободная! Здесь я встретил Бабста, Чичерина, Кетчера, Мина, Кронеберга-сына, Афанасьева, Станкевича, Корша, Крузе и многих других. Я встретился и познакомился с ними, как с давно знакомыми родными людьми. И за всю эту полную радость обязан я моему знаменитому другу М. С. Щепкину.
В 8 часов вечера отправились к купцу Варенцову, музыканту и любителю искусств. Тут встретился я с некоторыми московскими художниками и музыкантами и, послушавши Моцарта, Бетговена и других великих представителей слышимой гармонии, в 11 часов удалились восвояси, дивяся бывшему.
25 [марта]
Многоуважаемый М. А. Максимович задал мне обед, на который пригласил, между прочими, и ветхих деньми товарищей своих Погодина и Шевырева. Погодин еще не так стар, как я его воображал себе, Шевырев старше и, несмотря на седенькую свою благопристойную физиономию, почтения к себе не внушает. Сладкий до тошноты старичок. В конце обеда амфитрион прочел в честь мою стихи собственного сочинения. А после обеда милейшая хозяйка пропела несколько малороссийских песен, и восхищенные гости разошлись хто куда, а я заехал к Сергею Тимофеевичу Аксакову с намерением проститься. Он спал, и я не имел счастия облобызать его седую прекрасную голову. До 9-ти часов пробыл я у Аксаковых и с наслаждением слушал мои родные песни, петые Надеждой Сергеевной. Все семейство Аксаковых непритворно сердечно сочувствует Малороссии и ее песням и вообще ее поэзии. В 9-ть часов с Иваном и Константином Аксаковыми поехал я к Кошелеву, где встретился и познакомился с Хомяковым и со стариком декабристом к [н.] Волконским. Кротко, без малейшей желчи рассказал он мне некоторые эпизоды из своей 30-тилетней ссылки и в заключение прибавил, что те из его товарищей, которые были заточены поодиночке, все перемерли, а те, которые томились по нескольку вместе, пережили свое испытание, в том числе и он.
26 [марта]
В 9-ть часов утра расстался я с Михайлом Семеновичем Щепкиным и с его семейством. Он уехал в Ярославль, а я, забравши свою мизерию, поехал к железной дороге и в 2-ва часа, закупоренный в вагоне, оставил я гостеприимную Москву. В Москве более всего радовало меня то, что я встретил в просвещенных москвичах самое теплое радушие лично ко мне и непритворное сочувствие к моей поэзии. Особенно в семействе С. Т. Аксакова.
27 [марта]
В 8 часов вечера громоносный локомотив свистнул и остановился в Петербурге. В 9 часов я был уже в квартире моего искреннейшего друга М. М. Лазаревского.
28 [марта]
По снегу и слякоти пешком обегал я половину города почти без надобности. На перепутьи зашел в гостиницу Клея и нашел там только что приехавшего из Москвы Григория Галагана. Он передал мне письмо Максимовича с его стихами, читанными им за обедом 25 марта, записку на получение «Русской беседы» и моего в Москве обретшегося «Еретика», т. е. «Яна Гуса», которого я считал невозвратно погибшим. В 3 часа возвратился я домой и обнял моего задушевного Семена Артемовского. А через полчаса я был уже в его доме, как в своей родной хате. Много и многое мы вспомнили и переговорили, а еще большего не успели ни вспомнить, не переговорить. Два часа мелькнули быстрее одной минуты. Я расстался с моим милым Семеном, и в 6-ть часов вечера вместе с Лазаревским отправились мы к графине Н. И. Толстой.
Сердечнее и радостнее не встречал меня никто и я никого, как встретились мы с моей святой заступницей и с графом Федором Петровичем. Эта встреча была задушевнее всякой родственной встречи. Многое хотелось мне пересказать ей, и я ничего не сказал. В другой раз. Бутылкой шампанского освятили мы святое радостное свидание и в 8 часов расстались.
Вечер провели мы у В. М. Белозерского, моего соузника и соседа по каземату в 1847 году. У него встретил я моих соизгнанников оренбургских – Сераковского, Станевича и Желяковского (Сову). Радостная, веселая встреча. После сердечных речей и милых родных песен мы расстались.
29 [марта]
В 10 часов утра явился я казанским сиротой к правителю канцелярии обер-полицеймейстера, к земляку моему И. Н. Мокрицкому. Он принял меня полуофициально, полуфамильярно. Старое знакомство сказалося в скобках. В заключение он мне посоветовал сбрить бороду, чтобы не произвести неприятного впечатления на его патрона графа Шувалова, к которому я должен явиться как главному моему на[д]зирателю.
От Мокрицкого я опять пошел гранить уже высушенную мостовую и упражнялся в сем хитром ногодельи до 12-ти часов, а в 12 часов с М. Лазаревским поехали к Василю Лазаревскому. На удивление симпатические люди эти прекрасные братья Лазаревские, и все ше[с]ть братьев как один замечательная редкость. Василь принял меня как давно невиданного своего друга. А мы с ним в первый раз в жизни встречаемся. От земляк, так земляк!
Вечером отправились мы в цирк-театр смотреть и слушать живописную лекцию геологии профессора Роде. Лекция мироздания прекрасна. И астрономические картины почти не лишни, но к чему эти аляповатые суздальские виды городов и зданий, оскорбляющих искусство? И к чему эти живые вертящиеся ситцевые узоры, оскорбляющие науку? Странно! А еще более странно то, что публика рукоплещет этой балаганной пошлости. Толпа. Да еще столичная толпа!
30 [марта]
Заказал фотографический портрет в шапке и тулупе для М. А. Дороховой. Искал квартиру Бабста и не нашел. Жаль. Несмотря на возмутительную погоду, прошел на Васильевский остров, зашел к художнику Лаврову и от него узнал о смерти Павла Петровского. Отвратительная новость. Бедная старуха мать, она не переживет этой страшной новости.
Вечером графиня Н[астасья] И[вановна] представила меня своим знакомым, собравшимся у нее в этот вечер порядочной толпою. Они приветствовали меня как давно ожиданного и дорогого гостя. Спасибо им. Боюся, как бы мне не сделаться модной фигурой в Питере. А на то похоже.
31 [марта]
С художником Лукашевичем был в Эрмитаже. Новое здание Эрмитажа показалось мне не таким, как я его воображал. Блеск и роскошь, а изящества мало. И в этом великолепном храме искусств сильно напечаталась тяжелая казарменная лапа неудобозабываемого дрессированного медведя.
В три часа возвратился домой и под влиянием виденного привел себя в горизонтальное положение, как вошел ко мне мой старый, незабытый, но из виду потерянный знакомый и щирый земляк Л. Н. Дзюбин. Вспомнили старину и отправилися в отель «Париж» обедать. После обеда прошлись по Невскому и на сегоднишний день расстались.
Вечер провел у Семена.
1 апреля
Обманывают и обманываются. Хорошо, если бы это случалось только первого апреля. Откуда взял свое начало этот нелепый обычай?
Долго шлялся по Невскому проспекту без всякой цели. Потом прошел на Бассейную, нашел квартиру Кокорева, а самого хозяина не нашел дома. Обедал у Белозерского. После обеда получил записку от графини Н[астасьи] И[вановны] и вечером отправился к ней. Никакой эк[с]тренности. Ей просто хотелося меня видеть. Доброе создание! К графине заехал Сошальский и увез меня к имениннице землячке М[арье] С[тепановне]. Мы с нею не видалися с 1845 года. Едва заметно постарела. На удивление прочная землячка.
2 [апреля]
В первом часу Сошальский повез меня к землячке Ю. В. Смирновой. Я знал ее наивной, милой институткой в 1845 году. А теперь черт знает что. Претензия на барыню, а в самом деле и на порядочную горничную не похожа. От Смирновой заехали к Градовичу. Тоже старый знакомый. От Градовича зашел я уже без Сошальского в Палкин трактир, пообедал и отправился домой.
Вечером в цирке-театре смотрел и слушал «Бронзового коня». Великолепная постановка и больше ничего. Один старик Петров и Семен со славою поддержали «Бронзового коня». А прочее чепуха.
3 [апреля]
НАВУХОДОНОСОР
(ИЗ БЕРАНЖЕ. В. КУРОЧКИНА)
В давнопрошедшие века, До Рождества еще Христова, Жил царь под шкурою быка. Оно для древних это ново, Но так же точно льстил и встарь, И так же пел придворных хор: Ура! да здравствует наш царь Навуходоносор! Наш царь бодается – так что ж? И мы топтать народ здоровы, Решил совет седых вельмож. Да здравствуют рога царевы! Ведь и в Египте государь Был божество с давнишних пор. Ура! Да здравствует наш царь Навуходоносор! Державный бык коренья жрет, Вода речная ему пойло, Как трезво царь себя ведет! Поэт воспел бычачье стойло. И над поэмой государь Мыча уставил мутный взор. Ура! Да здравствует наш царь Навуходоносор! В тогдашней «Северной пчеле» Печатали неоднократно, Что у монарха на челе След виден думы необъятной, Что из сердец ему алтарь Воздвиг народный приговор. Ура! Да здравствует наш царь Навуходоносор! Бык только ноздри раздувал, Упитан сеном и хвалами, Но под ярмо жрецов попал… И, управляемый жрецами, Мычал рогатый государь — За приговором приговор. Ура! Да здравствует наш царь Навуходоносор! Тогда не выдержал народ. В цари избрал себе другого, Как православный наш причет, Жрецы – любители мясного… Как злы-то были люди встарь! Придворным-то какой позор! Был съеден незабвенный царь Навуходоносор! Льстецы царей! Вот вам сюжет Для оды самой возвышенной, Да и цензурный комитет Ее одобрит непременно. А впрочем… слово «государь» Не вдохновляет вас с тех пор, Как в бозе сгнил последний царь Навуходоносор!Только что успел я положить перо, дописавши последний куплет этого прекрасного и меткого стихотворения, как вошел ко мне Каменецкий, за ним Сераковский, а за ним Кроневич, в заключение Дзюбин, который и пригласил меня обедать. Вот тебе и письма. Нужно где-нибудь спрятаться.
После не совсем умеренного обеда вышли мы на улицу и, пройдя несколько шагов, встретили мы вездесущего вечного жида, брехуна Элькана. После продолжительной прогулки мы с ним расстались, и по его указаниям пошли искать квартиру актера Петрова и, разумеется, не нашли. Ругнули всеведущего Элькана и по дороге зашли к Бенедиктову. Встретил он меня непритворно радостно, и после разнородных разговоров он по моей просьбе прочитал нам некоторые места из «Собачьего пира» (Барбье), и теперь только я уверился, что этот великолепный перевод принадлежит действительно Бенедиктову.
4 [апреля]
Каменецкий сообщил мне все мои сочинения, переписанные Кулишем, кроме «Еретика». Нужно будет сделать выбор и приступить к изданию. Но как мне приступить к цензуре?
В 3 часа пообедал с Дзюбиным, тоже не совсем умеренно, и вечер провел у Семена.
5 [апреля]
Приезжа[л] Смаковский просить меня обедать с ним и с Дзюбиным. Я спал. Меня, спасибо, не збудили. И я под предлогом болезни не поехал на лукулловский обед. Бог с ними. С непривычки можно сурьезно захворать. Вечер провел у Галагана.
6 [апреля]
Имел великое несчастие облачиться во фрак и явиться к своему главному надзирателю графу Шувалову. Он принял меня просто, неформенно, а главное, без приличных случаю назиданий, чем сделал на меня выгодное для себя впечатление.
При этом удобном случае познакомился с женою правителя канцелярии обер-полицеймейстера И. Н. Мокрицкого. Она урожденная Свичка и настоящая моя землячка. Мы с нею встретились как старые знакомые.
Расставшись с милейшей землячкою, прошел я в Академию художеств на выставку. Пейзажи преимущественно перед другими родами живописи мне бросились в глаза. Калам имеет сильное влияние на пейзажистов. Самого Калама две вещи не первого достоинства.
Вечер провел у графини Н[астасьи] И[вановны]. Слышал в первый раз игру Антония Кон[т]ского и лично познакомился с поэтом Щербиною.
7 [апреля]
Было намерение съездить в Павловск к старику Бюрно. Но этому доброму намерению невинно поперечил художник Соколов, к которому я зашел по дороге, пробыл у него до 4-х часов и опоздал на железную дорогу. Непростительная рассеянность!
Вечером пошли с Михайлом до Семена и не застали его дома.
8 [апреля]
Воспользовавшись хорошею погодою, пустился я пешком в Семеновский полк искать квартиру Олейникова. Квартиру нашел, а хозяина не нашел и прошел в Бассейную к Кокореву. И сего откупщика-литератора не нашел дома. По дороге зашел на Литейную к Василю Лазаревскому, отдохнул немного и пустился пешком же в Большую Подьяческую к Семену обедать. После обеда вышли на улицу и случайно зашли к бедному бесталанному генералу Корбе. Плачет, бедный, не о том, что из службы выгнали, а о том, что Станислава не дали. Бедный, несчастный человек!
Вечером зашел к Кроневичу, к моему соизгнаннику, и между многими поляками встретил у него и людей русских, между которыми и две знаменитости: графа Толстого, автора солдатской севастопольской песни, и защитника Севастополя генерала Хрулева.
Последняя знаменитость мне показалась приборканою.
9 [апреля]
Квитался за неумеренный ужин Кроникевича.
10 [апреля]
Посетил московского знакомого, некоего Безобразова. Потом Рамазанова и Михайлова, хотел пройти на выставку, да не удалось. Царь помешал. Смотрел в цирке-театре «Москаля-чаривныка». Очаровательный Семен. А прочие чушь.
11 [апреля]
Поручил Каменецкому хлопотать в цензурном комитете о дозволении напечатать «Кобзаря» и «Гайдамаки» под фирмою «Поэзия Т. Ш.». Что из этого будет?
Зашел по пути к певцу-актеру Петрову. Он только потолстел, а она, увы! из миленькой Анны Яковлевны сделалась почтенная, но все-таки милая старушка. Непрочный пол! Забежал к Семену, выпил рюмку водки и пошел к Корбе обедать. Скучно и грязно, как у старого холостяка, и вдобавок у военного. Вечером у Белозерского слушал новую драму Желяковского (Совы) и с успехом доказал Сераковскому, что Некрасов не только не поэт, но даже стихотворец аляповатый.
12 [апреля]
Снег, слякоть, мерзость; невзирая на все это, отправились мы, т. е. я, Семен и М. Лазаревский, в Академию смотреть выставку. Во избежание простуды завернули к Смурову, выпили по рюмке джину и проглотили по десятку устриц. С выставки пошли мы на званый обед к графине Н[астасье] И[вановне], данный ею своим близким многочисленным приятелям по случаю моего возвращения. За обедом граф Ф[едор] П[етрович] сказал коротенькое слово в честь милостивого царя. А в честь моего невольного долготерпения сказал почти либеральное слово Николай Дмитриевич Старов. Потом Щербина и в заключение сама графиня Н[астасья] И[вановна]. Мне было и приятно, и вместе неловко. Я не чаял себе такой великой чести. Для меня это было совершенно ново. Семен заметил, что за столом все были бледны, тощи и зелены, кроме несчастного изгнанника, т. е. меня. Забавный контраст.
После обеда повез меня Сошальский к землячке М. С. Гжесевич, а часу в первом к Борелю. А от Бореля к Адольфине, где я его и оставил.
13 [апреля]
От Н. Д. Старова поехали мы с Семеном к М. В. Остроградскому. Великий математик принял меня с распростертыми объятиями как земляка и как надолго отлучившегося куда-то своего семьянина. Спасыби йому. Остроградский с семейством едет на лето в Малороссию. Пригласил бы, говорит, и Семена с собою, но боится, что в Полтавской губернии сала не хватит на його продовольствие.
Обедал у Семена, вечер провел у графини Н[астасьи] И[вановны]. Слушал стихотворения Юлии Жадовской. Жалкая, бедная девушка!
14 [апреля]
Семен познакомил меня с весьма приличным юношею, с В. П. Энгельгардтом. Многое и многое пошевелилось в душе моей при встрече с сыном моего бывшего помещика. Забвение прошедшему. Мир и любовь настоящему.
Вечером Грицько Галаган познакомил меня с черниговскими землячками, с Карташевскими. Не жеманные, милые, настоящие землячки.
15 [апреля]
По желанию графини Н[астасьи] И[вановны] представлялся шефу жандармов к[н.] Долгорукову. Выслушал приличное случаю, но вежливое наставление, и тем кончилась аудиенция.
Вечер провел у земляка Трохима Тупыци, где встретился с Громекою, автором статьи «О полиции и о взятках», и познакомился с стариком Персидским, с декабристом.
16 [апреля]
Грицько Галаган приехал просить записать ему мой «Весенний вечир». Я охотно исполнил его желание, а он, чтобы не остаться у меня в долгу, записал прекрасное стихотворение Хомякова.
И. Н. Дзюбина познакомил я с Семеном, а он, чтобы тоже не остаться в долгу, вздумал попотчевать меня каким-то молодым генералом Крыловым, земляком из Харькова. Несмотря на молодость и любезность, генерал оказался далеко не симпатичным. А обед его, почти царский, тоже показался как-то приторным.
Вечером Мей прислал мне тот самый «Весенний вечер», который я поутру записал для Галагана, в русском переводе собственного изделия. Спасибо ему.
СТИХОТВОРЕНИЕ ХОМЯКОВА
Тебя избрал на брань святую, Тебя Господь наш полюбил, Тебе дал силу роковую, Да сокрушишь ты волю злую Слепых, безумных, буйных сил. Вставай, страна моя родная, За братьев Бог тебя зовет. Чрез волны буйного Дуная, Туда, где, землю огибая, Шумят струи Эгейских вод! Но помни: быть орудьем Бога Земным созданьям тяжело, Своих рабов он судит строго, А на тебе, увы! как много Грехов ужасных налегло! В судах черна неправдой черной И игом рабства клеймена, Безбожной лести, лжи тлетворной, И лени гнусной и позорной, И всякой мерзости полна. О! недостойная избранья, ты избрана, Скорей омой себя водою покаянья, Да гром двойного наказанья Не грянет над твоей главой. С душой коленопреклоненной, С главой, лежащею в пыли, Молись молитвою смиренной, И раны совести растленной Елеем плача исцели. И встань потом, верна призванью, И бросься в пыл кровавых сеч, Держи стяг Божий крепкой дланью, Рази мечом, то Божий меч.17 [апреля]
Н. Д. Старов прислал М. Лазаревскому написанное слово, сказанное им в честь мою на обеде у графини Н. И. Толстой. Как вещь дорогую для меня заношу его в мой журнал.
«Признательное слово Т. Г. Шевченку.
Несчастие Шевченка кончилось, а с тем вместе уничтожилась одна из вопиющих несправедливостей. Мы не нарушим скромности тех, чье участие способствовало этому добру и приобрело благодарность всех, сочувствующих достоинству блага… Мы скажем, что нам отрадно видеть Шевченка, который среди ужасных, убийственных обстоятельств, в мрачных стенах казармы смердячои – не ослабел духом, не отдался отчаянию, но сохранил любовь к своей тяжкой доле, потому что она благородна. Здесь великий пример всем современным нашим художникам и поэтам, и уже это достойно обессмертить его!..
Позвольте же предложить тост признательности за Шевченка, который своими страданиями поддержал то святое верование, что истинно нравственную природу человека не в силах подавить никакие обстоятельства!..
Н. Старов
12 апреля,
1858».
В. М. Белозерский познакомил меня с профессором Кавелиным. Привлекательно симпатическая натура.
Тот же Белозерский познакомил меня с тремя братьями Жемчужниковыми. Очаровательные братья!
Вечером в цирке-театре слушал оперу «Жизнь за царя». Гениальное произведение! Бессмертный М. И. Глинка! Петров в роли Сусанина по-прежнему хорош, и Леонова в роли Вани хороша, но далеко не Петрова, которую я слышал в 1845 году.
18 [апреля]
Получил милейшее письмо от милейшего Сергея Тимофеевича Аксакова, на которое буду отвечать завтра, – сегодня я увлекся своею «Лунатикою». Если бы не помешал обязательный Сошальский, то я кончил бы «Лунатику». Но, увы, нужно было оставить невещественное слово и приняться за вещественное дело, т. е. за увесистый обед.
Вечером с тем же обязательным Сошальским поехали мы к милой и талантливо-голосистой певице мадмуазель Грубнер. Там встретился я с Бенедиктовым, Даргомыжским и с архитектором Куз[ь]миным, старым и хорошим знакомым. Музыкальное наслаждение заключилось смешным и приторным мяуканьем Даргомыжского. Точно мышонок в когтях кота. А ему аплодируют. Странные люди эти меломаны. А еще страннее такие певцы, как Даргомыжский.
19 [апреля]
Вчера Сошальский пригласил меня с Михайлом на борщ с сушеными карасями и на вареныки. А сегодня графиня Н[астасья] И[вановна] просит запиской к себе обедать и обещает познакомить с декабристом бароном Шейгелем. Мы предпочли декабриста борщу с карасями и за измену были наказаны бароном. Он не пришел к обеду. Одичалый барон.
За обедом познакомился я с адмиралом Голенищевым. Адмирал – товарищ графа Ф[едора] П[етровича]. Простой и, кажется, хороший человек.
Вечер провел у Галагана. Он прочитал описание своего будынка, збудованого им в старом малороссийском вкусе в Прилуцком уезде. Барская, но хорошая и достойная подражания затея.
20 [апреля]
Обедал у Н. Д. Кавелина и там же познакомился с Галаховым, составителем русской хрестоматии.
21 [апреля]
Без всякой цели до обеда шлялся по городу. Вечером пошел в театр. Спектакль вообще был хорош, а увертюра «Вильгельма Телля» очаровательна. Хваленый тенор Сетов ниже всякой посредственности. Просто дрянь. А ему аплодируют. Семен в роли отца Линды де Шамуни очень хорош.
Из театра зашел к Белозерскому и застал у него К. Д. Кавелина. С разговора о минувшей и будущей судьбе славян мы перешли к психологии и философии. И просидели до трех часов утра. Школьничество. Но очаровательное школьничество!
22 [апреля]
Тоже без всякой цели шлялся до обеда, только уже не один, а с Семеном. Вечером с Семеном же пошли к землячке М. Л. Мокрицкой и до второго часу с удовольствием переливали из пустого в порожнее.
23 [апреля]
Вчера условились мы с Семеном, чтобы сегодня часу в первом ехать посмотреть дачи. Ровно до двенадцати часов была погода хорошая, потом пошел дождь, затяжной, как его называют. Мы просидели весь день дома, читали Гумбольда «Космос» и, глядя в окно, повторяли поговорку: «Вот те, бабушка, и Юрьев день».
24 [апреля]
Предположения мне никогда не удаются, а не могу отказать себе в удовольствии сочинять предположения. Сегодня, например. Выходя из дому, я располагал провести время до обеда так. Сначала зайти в Академию посмотреть выставку, потом зайти к Иордану, своему будущему профессору, потом к барону Клодту и в заключение к графине Н[астасье] И[вановне] и у нее остаться обедать. Таков был проек[т]. А случилось вот как. В первой зале в Академии встретился мне Зимбулатов и Бориспольц, мои старые и искренние друзья. Наскоро обошли мы выставку, отправились к Зимбулатову и время до обеда провели в воспоминаниях. Я совершенно доволен неудачею.
Вечером собрались мы с Михайлом к брату его Василю, да зашли к Семену и там провели вечер. Тоже неудача.
25 [апреля]
В 10 часов утра пошел проститься с А. Н. Мокрицким, отъезжающим в Москву. По дороге зашел к М. И. Сухомлинову, да по дороге же зашел к барону Клодту, полюбовался монументом неудобозабываемому и прошел в Академию на выставку. В первой зале встретился с Жемчужниковым, а в последней – с Семеном. Из Академии поехали с Семеном на Петербургскую сторону искать дачу. Дачу нашли, оставили задаток и в 6 часов вечера приехали домой. Вечером с Семеном же были у Н. И. Петрова, слушали бесконечные и бесплодные толки о эмансипации.
26 [апреля]
На обеде у Сошальского лично познакомился с поэтом Курочкиным и с братом его Николаем, достойным молодым человеком. Поэт Курочкин много обещает в будущем. Дай Бог, чтобы сбылись мои надежды.
27 [апреля]
Обещался обедать у художника Лукашевича и по рассеянности соврал.
28 [апреля]
Сошальский подарил мне часы стенные. А Василь Лазаревский – термометр. По милости добрых людей главные инструменты имею для опытов над акватинтой. Когда же я примусь за самые опыты?
29 [апреля]
Зашел к Дзюбину. Не застал его дома, спросил завтрак и оставил ему за угощение случившуюся со мною рукопись «Послание к мертвым, живым и ненарожденным землякам», надписавши: «На память 1 мая», тоже по рассеянности.
30 [апреля]
Пошли с Семеном в Летний сад с намерением посмотреть монумент Крылова. По дороге зашли в Казанский собор посмотреть картину Брюллова. Но увы, она так умно, удачно поставлена премудрыми попами, что и кошачьими глазами видеть ее невозможно. Отвратительно! По дороге зашли в Пассаж, полюбовались шляющимися красавицами и алеутскими болванчиками и прошли в Летний сад. Монумент Крылова, прославленный «Пчелой» и прочими газетами, ничем не лучше алеутских болванчиков. Бессовестные газетчики! Жалкий барон Клодт! Вместо величественного старца он посадил лакея в нанковом сюртуке с азбучкой и указкою в руках. Барон без умысла достиг цели, вылепивши эту жалкую статую и барельефы именно для детей, но никак не для взрослых. Бедный барон! Оскорбил ты великого поэта и тоже без умысла.
Оскорбленные бароном, мы взяли ялик и поплыли на биржу. Полюбовались величественной биржевой залой, прошли в сквер, посмотрели на обезьян и попугаев и зашли на постоянную выставку художественных произведений. Бедный Тыранов, он и свое болезненное маранье тут же выставил. Грустное, тяжелое впечатление!
Находившись до упаду, мы на ялике переплыли Неву, прошли часть бульвара, в окнах магазина Дациаро полюбовались акватинтами, взяли извозчика и отправились домой обедать.
Вечером был у Белозерского и у Кроневича.
1 мая
Решили мы с Семеном провести день как-нибудь, а вечером отправиться в Екатерингоф посмотреть праздничную публику. Часу в первом пошли мы в Академию на выставку и зашли к графине Н[астасье] И[вановне]. Не застали ее дома и прошли к Остроградскому с намерением там и пообедать. Не удалось. М[ихайло] В[асильевич] и его благоверная В. Д. больны, а дети гулять ушли. Мы последовали их примеру и, пошлявшись по набережной Невы, возвратились домой.
В 8 часов вечера вместо Екатерингофа зашли к Белозерскому и весело проболтали до первого часу.
2 [мая]
Были с Семеном в Эрмитаже, в отделении древней и новой скульптуры. Я не воображал в таком количестве остатков древней скульптуры в Эрмитаже, вероятно, они собраны со всех дворцов. Прекрасная мысль. В отделении новой скульптуры меня очаровал Танерини своей умирающей Душенькой и обидно разочаровал покойник Ставассер своей неуклюжей русалкой. Смотрели музей древностей, библиотеку и на первый раз тем кончили. Внимание утомилось. Залы музея отделаны с большим вкусом, нежели картинная галерея.
Из Эрмитажа прошли мы на выставку цветов. Изумительная роскошь цветов и растений. Но густая толпа хорошеньких зрительниц мешает вполне наслаждаться произведениями флоры. В толпе посетителей встретил старых друзей моих Маслова и толстейшего Сережу Уварова. Не графа, а просто Уварова.
3 [мая]
Был в Эрмитаже один без Семена. Его утомила вчера античная галерея и древности, и он отказался мне сопутствовать. Ледащо! В Эрмитаже встретился и познакомился с знаменитым гравером Иорданом. Он слышал о моем намерении заняться акватинтой и предложил мне свои услуги в этом новом для меня деле. Обрадованный его милым, искренним предложением, я обошел два раза все залы с целию выбрать картину для первой пробы избранного мною искусства. После внимательного обозрения остановился я на эскизе Мурильо «Святое семейство». Наивное, милое сочинение. Я не видал картины этого содержания, которой бы так шло это название, как гениальному эскизу Мурильо. Итак, с Божиею и Иордановою помощию принимаюсь за опыты, а потом и за Мурильо.
В 4 часа оставил я Эрмитаж и зашел на выставку цветов. Волшебный переход! В продолжение нескольких часов внимательного созерцания произведений великих мастеров я утомился, отяжелел духом, и вдруг живая, свежая прелесть природы и искусства благотворно охватывает меня и обновляет. Разнообразная зелень, массы свежих роскошных цветов, музыка и в довершение очарования – толпы прекрасных, молодых и свежих, как цветы, женщин. Я обещался в 5 часов обедать у Уваровых, и пробыл в этом раю до 6 часов. О столица!
Вечером передавал мои впечатления Семену и его милейшей Александре Ивановне.
4 [мая]
Был у Ф. Й. Иордана. Какой обязательный, милый человек и художник и вдобавок живой человек, что между граверами большая редкость. Он мне [показывал] в продолжение часа все новейшие приемы гравюры акватинты, изъявил готовность помогать мне всем, что от него будет зависеть. Я расстался с ним вполовину будущим гравером.
От Иордана зашел ненадолго к графине Н[астасье] И[вановне], а от нее прошел к граверу и печатнику Служинскому, тоже за сведениями; застал его за обедом, и о деле не было речи.
Зашел к старым друзьям, к Уваровым, с целью у них обедать. Старик Уваров сообщил мне, что сопутник мой от Астрахани до Нижнего, А. А. Сапожников, здесь и завтра уезжает в Москву. Я пустился к нему, застал его дома, но он меня не принял по случаю скорого обеда. Это меня немного сконфузило, я отряхнул прах от ног своих и по дороге зашел к черниговскому земляку своему Н. И. Петрову, где и пообедал нараспашку.
Вечером поехали с Семеном к графине Н[астасье] И[вановне], где и пробыли до бела дня.
5 [мая]
В Эрмитаже встретил товарища по Академии Михайлова, бывшего фаворита К. П. Брюллова. Обойдя картинную и античную галерею, зашли мы в «Лондон» позавтракать. До выезда своего из Рима в Мадрид Михайлов часто виделся с К. П. Брюлловым в Риме. И рассказал про его изумительное, неслыханное скаредничество. Великий Брюллов великого Рембрандта перещеголял в этом таинственном искусстве. Расставшись с Михайловым, пошел я обедать к Лукашевичу. Тоже ученик и любимец великого Брюллова. Лукашевич повторил мне слова Михайлова с вариациями. Кроме нравственного бессилия, нечем растолковать подобное явление.
С Служинским зашел к Н. И. Уткину и не застал его дома. Вечером с М. Лазаревским пошли к Семену и тоже не застали дома.
6 [мая]
С Семеном поехали мы к Энгельгардту и не застали дома. Зашли к Курочкину – тоже, зашли к землячке М. С. Гресевич, и она нас встретила резвая, веселая, молодая, как и десять лет назад. Чудная женщина, ее и горе не берет. А горя у нее немало. Она на днях возвратилась из Москвы и привезла мне три короба поклонов от моих московских друзей. Гостеприимная землячка предложила нам завтрак, а мы не отказались. Плотно позавтракавши и весело поболтавши, мы взялись за шапки, как вошел Громека и с ним еще какой-то киевский земляк. Громека по праву кума вместо ручки поцеловал ножку у хозяйки. Эта нежность нам не понравилась, и мы вскоре ушли.
Семен за какой-то надобностию зашел к Юзефовичу, оберсекретарю синода, и меня потащил с собою. Новый знакомый, несмотря на приветливость, мне не понравился, быть может, потому, что он родной брат предателя – киевского Юзефовича.
Расставшись с новым знакомым, поехали мы обедать тоже к новым знакомым, к Степановым из Харькова. После обеда Семен пошел в театр, а я к Сухомлинову, где встретил старого знакомого и земляка академика Никитенка. Из декламатора, актера, профессора Никитенко превратился в простого любезного старика, в разговоре не избегающего даже малороссийских выражений. Приятное превращение!
7 [мая]
От 10 до 12 часов Семен с своим учеником пел разные дуэты, а А[лександра] И[вановна] им аккомпанировала на фортепиано, а я слушал и по временам аплодировал. С каким трепетным наслаждением я воображал подобную сцену в Новопетровском укреплении. А теперь, когда осуществилось мое лихорадочное ожидание, я смотрю и слушаю как самую обыкновенную вещь. Странный человек вообще, в том числе и я. После дуэтов вышли мы с Семеном на улицу без всякой цели. Зашли случайно в музыкальный магазин Пеца, поболтали и потом зашли к художнику Соколову; полюбовались рисованными нашими земляками и землячками и пошли к Дзюбину, не застали его дома; зашли к М. Лазаревскому, тоже не застали дома. Возвратились к Семену и, дождавшись Юзефовича с семейством, принялися обедать.
8 [мая]
Написал письмо Н. А. Брылкину, отослал на почту и собрался идти в Эрмитаж работать, как вошел Н. Курочкин и Вильбуа. План мой внезапно изменяется. Вместо Эрмитажа пошли мы к Семену потолковать насчет постановки на сцену оперы Вильбуа. Семена не застали дома. Зашли к Софье Федоровне – то же самое. Зашли в трактир, пообедали и разошлись.
9 [мая]
Было намерение вытащить Дзюбина в Павловск, он не согласился, и я пустился пешком на Крестовский к Старову. В ожидании обеда обошел с Ноздровским половину Крестовского и Петровского острова. Пообедал и пешком же возвратился домой.
Вечером были с Семеном у миленькой Гринберг. Она много и прекрасно пела. Досадно, что она мала ростом, для сцены не годится, а какая бы славная, пламенная была актриса.
10 [мая]
Начал работать в Эрмитаже. В добрый час сказать, в худой помолчать. Во втором часу пошел на Англинскую набережную проводить Сухомлинова за границу. Простившись с Сухомлиновым, зашел к Н. И. Петрову. У него случился билет для входа в Исакиевский собор, и мы отправились, и нас не впустили, потому что билет подписан Васильчиковым, а не Гурьевым. Китайский резон.
11 [мая]
Работал в Эрмитаже до трех часов. Обедал с Желяковским у Белозерского, и за успех будущего польского журнала «Слово» выпили бутылку шампанского. Вечером с Семеном отправились к графине Н. И. Толстой и возвратились в четыре часа утра. К великой радости хозяйки, последний весенний вечер был оживлен, как обыкновенно, и необыкновенно весел. Семен и мадмуазель Гринберг были душою общей радости.
12 [мая]
Проводил Грицька Галагана в Малороссию и пошел к графине Н[астасье] И[вановне] с целью устроить себе постоянную квартиру в Академии. Она обещает. И я верю ее обещанию. Расставшись с Н[астасьей] И[вановной], зашел ненадолго к художнику Микешину и потом к Глебовскому. Счастливые юноши и пока счастливые художники!
По приглашению Троцины и прочих земляков пришел я к Дюссо в 5 часов обедать и неожиданно встретил нижегородских моих приятелей Лапу и Бабкина. После обеда ездили с Троциною и Макаровым кое-куда неудачно.
13 [мая]
Заказал медную доску. По дороге зашел к Курочкину и не застал его дома. Зашел к землячке Гресевич – то же самое. Зашел к Градовичу и в дверях встретил сестру Троцины, сегодня возвратившуюся из-за границы. Свежая и здоровая. Поездки за границу старых больных дев без прислуги должно принять за нормальное лекарство.
DO BRATA TARASA SZEWCZENKI
Wieszczu ludu – ludu synu, Tyś tem dumny, boś szlachetny, Bo u skroń twych liść wawrzynu, Jak ton pień twych, smutny, świetny. Dwa masz wieńce męczenniku, Oba piękne, chociaż krwawe, Boś pracował nie na sławę, Lecz swe braci słuchał krzyku. Im zamknięto w ustach jęki — Ach! I jęk im liczon grzechem! Tyś powtórzył głośnem echem Zabronionych jęków dźwięki. I nad każdym tyś przebolał I przepłakał nim urodził, — Lecz duch z wyżyn się okolał I duch pierś twą oswobodził. Smutny wieszczu! patrz cud słowa! Jako słońca nikt nie schowa, Gdy dzień wzejdzie, tak nie może Schować słowa nikt z tyranów; — Bo i słowo jest też Boże I ma wieszczów za kapłanów. Jak przed grotem słońca pryska Ciemnej nocy mrok i chłód, Tak zbawienia chwila bliska, Kiedy wieszczów rodzi lud!Antoni Sowa
Забіліли сніги, заболіло тіло ще й головонька, Та ще й головонька. Ніхто не заплаче по білому тілу, по бурлацькому, Та й по бурлацькому. Ні отець, ні мати, ні брат, ні сестриця, ні жона його, Та й ні жона його; Ой тілько заплаче по білому тілу товариш його, Та й товариш його. Прости мене, брате, вірний товаришу, можеть я умру, Та й можеть я умру. Зроби мені, брате, вірний товаришу, з клен-древа труну, Та з клен-древа труну. Поховай мене, брате, вірний товаришу, в вишневім саду, Та в вишневім саду; В вишневім садочку, на жовтім пісочку під рябиною, Та й під рябиною. Рости, рости, древо тонке, високеє, кучерявее, Та й кучерявее; Та іспусти гілля зверху до коріння, лист додолоньку, Та й лист додолоньку; Покрий теє тіло бурлацькеє біле ще й головоньку, Та ще й головоньку. А щоб теє тіло бурлацькеє біле та й не чорніло, Та й не чорніло Од буйного вітру, од ясного сонця та й не марніло, Та й не марніло.Вечером был у Желяковского, и он мне записал свое прекрасное стихотворение. А Каменецкий записал малороссийскую песню. Первая песня, которую я знаю без рифмы.
14 [мая]
Дни нечаянных встреч. Третьего дня с Лапой, вчера с Троциной, а сегодня прихожу к графине Н[астасье] И[вановне] обедать и встречаюсь с моим единым, моим незабвенным другом М. С. Щепкиным. Он приехал сюда по случаю юбилея Гедеонова и, не зная моего адреса, искал меня в Академии и зашел к графине, зная, что я там бываю. Догадливый мой великий друг.
После обеда графиня со всем семейством и мы с нею отправились к адмиралу А. В. Голенищеву. Старик был в восторге от неожиданного гостя. Тут же встретил я и познакомился с декабристом бароном Штенгелем, с тобольским другом М. Лазаревского.
15 [мая]
Обещался быть у М[ихайла] С[еменовича] в 7-мь часов утра и проспал до 10-ти. Хорош приятель. Ушел в Эрмитаж и работал до трех часов. Вечером пошел до Семена и не застал дома.
16 [мая]
Не умывшись, поехал к М[ихайлу] С[еменовичу], но он уже исчез. С горя зашел к Курочкину – спит. Зашел к Энгельгардту – в ванне. Пошел к меднику, взял доску и на авось зашел к землячке М[арье] С[тепановне], застал дома. Наболтавшись досыта, провел ее к Градовичам и пошел домой. Вечером восхищался пением милочки Гринберг; с Сошальским и Семеном в восторге заехали ужинать к Борелю и погасили свои восторги у Адольфины. Цинизм!
17 [мая]
Из приюта Адольфины в 7 часов утра отправился к М[ихайлу] С[еменовичу], застал еще в халате. Наговорились и уговорилися обедать у К. Д. Кавелина, что и исполнили в 4 часа. Вечером был у Семена и не застал дома. Гульвиса!
18 [мая]
Очаровательная Александра Ивановна Артемовская сегодня именинница. М. Лазаревский купил для нее роскошный букет цветов, а я отнес ей и преподнес. И я в барышах, и она не вправе сказать, что я поздравил ее с пустыми руками. И вежливо, и дешево.
Отобедав у именинницы, я с Лазаревским вскоре отправились к графине Н[астасье] И[вановне] и нашли там М. С. Щепкина. Великий друг мой по просьбе графини прочитал монолог «Скупого рыцаря» Пушкина, «Фейерверк» и рассказ охотника из комедии Ильина. И прочитал так, что слушатели видели перед собою юношу пламенного, а не 70-летнего старика Щепкина. Гениальный актер и удивительный старик. По обещанию и я с горем пополам прочитал им свои «Неофиты». Не знаю, насколько они меня поняли. По крайней мере, внимательно слушали.
19 [мая]
В 12 часов проводил моего великого друга М. С. Щепкина на Московскую железную дорогу. На Михайловском театре смотрел Садовского в роли Расплюева («Свадьба Кречинского»). После Щепкина я не знаю лучшего комика. Самойлов далеко уступает Садовскому. Г. Снеткова 2[-я] просто кукла. Как бы хороша была в этой роли моя незабвенная Пиунова.
20 [мая]
До трех часов работал в Эрмитаже. Обедал у моих старых друзей Уваровых. Сергей Уваров, веселейший толстяк на свете, сказал следующий экспромт разносчику апельсинов:
Напрасно, разносчик, в окно ты глядишь Под бременем тягостной ноши. Напрасно ты голосом звонким кричишь: «Лемоны, пельцыны хороши!» Не обольщай меня мечтой Плодов привозных из чужбины, Нет, душу полную какой-то пустотой Не соблазнят златые апельсины. Я отжил жизнь свою давно, И все души моей желанья Сосредоточивши в одно Разоблаченно[е] от счастья ожиданье. Напрасно, разносчик, в окно ты глядишь…Вечером был у Семена, и милейшая Александра Ивановна играла лучшие места из «Трубадура». Очаровательно играла.
Повернувся я з Сибірі, Та не маю долі, Хоч, здається, не в кайданах, Та не маю волі. Слідять мене злії люди День, час і годину, — Прийде туга до серденька, То ледве не згину. Комісари, ісправники За мною ганяють; Більше вони людей вбили, Чим я грошей маю. Зовуть мене розбойником, Кажуть, що вбиваю, — Я нікого не вбив іще, Бо сам душу маю. Возьму гроші в багатого, Убогому даю, І так людей поділивши, Сам гріха не маю. Маю жінку, маю діток, Однак їх не бачу; Як згадаю про їх долю, То гірко заплачу. Треба мені в лісі жити, Треба стерегтися, Хоть, здається, світ широкий, Та ніде подіться.Сочинение этой весьма немудрой песни приписывают самому Кармелюку. Клевещут на славного лыцаря. Это рукоделье мизерного Падуры.
13 [июля]
СОН
На панщині пшеницю жала, Втомилася. Не спочивать Пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало У холодочку за снопом; Розповила, нагодувала, Попестила і, ніби сном, Над сином сидя, задрімала. І сниться їй той син Іван І уродливий, і багатий, Не одинокий, а жонатий На вольній, бачиться: бо й сам Уже не панський, а на волі Та на своїм веселім полі Удвох собі пшеницю жнуть, А діточки обід несуть… Та й усміхнулася небога. Прокинулась – нема нічого. На Йвася глянула, взяла, Його гарненько сповила; Та щоб дожать до ланового, Ще копу дожинать пішла… Остатню, може; Бог поможе, То й сон твій справдиться. Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


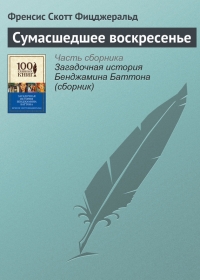


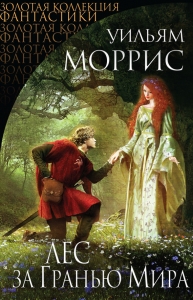


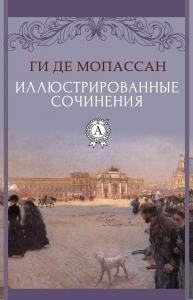


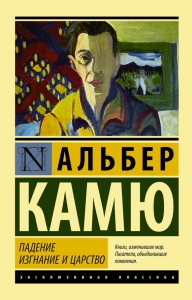
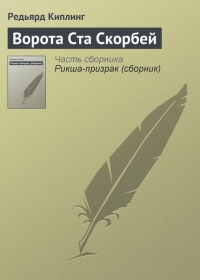
Комментарии к книге «Журнал», Тарас Григорьевич Шевченко
Всего 0 комментариев