Александр Дюма, Теофиль Готье, Понсон дю Террайль Железная маска (сборник)
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2015
* * *
Теофиль Готье Капитан Фракасс
1
Замок нищеты
На склоне одного из голых холмов, нарушающих унылое однообразие ландов[1] между местечками Дакс и Мон де Марсан, во времена царствования Людовика XIII[2] стояла дворянская усадьба. Таких усадеб немало в Гаскони, и местные поселяне почтительно именуют их замками.
Две круглые башни с коническими кровлями защищали торцы здания, а на фасаде виднелись глубокие выемки – следы существовавшего в прошлом подъемного моста. Мост был разобран, после того как время засыпало оборонительный ров, однако сами сторожевые башни и причудливые флюгера на них в виде ласточкиных хвостов придавали строению вид феодального владения. Темнолиственный плющ до половины оплел одну из башен, прекрасно сочетаясь с цветом каменной кладки, как бы поседевшей от древности.
Взглянув издали на этот замок, чьи острые контуры отчетливо выделялись в небесной лазури над зарослями дрока и вереска, путник мог принять его за солидное гнездо некоего провинциального дворянина. Но, подойдя ближе, он убеждался, что это далеко не так. Дорога, ведущая к усадьбе, по мере подъема по склону превращалась в узкую аллею, наполовину заросшую сорными травами и напоминающую потускневший галун на изношенном плаще. Лишь две колеи, заполненные дождевой водой и лягушками, служили подтверждением того, что некогда тут проезжали щеголеватые экипажи. Однако беспечность здешних земноводных и их многочисленность свидетельствовали о том, что они давным-давно живут здесь без всяких тревог. Что касается иных следов на этой белесой полоске земли, орошенной недавно прошедшим ливнем, то даже самый искушенный глаз не обнаружил бы здесь следов человека, а заросли кустарников, осыпанные крупными каплями, выглядели совершенно девственными.
Черепичная кровля замка почернела и покрылась бугристыми, словно следы проказы, пятнами. Местами черепица осы́палась, открыв взору наполовину сгнившие стропила. Ржавые флюгера едва поворачивались и все показывали различное направление ветра, слуховые окна были заколочены досками, но и сами эти доски посерели и растрескались. Башенные бойницы до половины засыпал щебень, отколовшийся от разрушающейся каменной кладки. Из двенадцати фасадных окон восемь были также заколочены, а переплеты остальных до того одряхлели, что при малейшем дуновении ветра дребезжали и ходили ходуном. Штукатурка в простенках между окнами осы́палась и обнажила расползающиеся кирпичи и блоки песчаника, между которыми почти не оставалось скрепляющего раствора, унесенного злокозненными ветрами и дождями. Двери главного входа обрамляли каменные наличники со следами затейливой резьбы, стертой временем и небрежением хозяев, а выше, над дверным проемом, красовался затейливый герб, разобраться в котором мог бы только самый искушенный знаток геральдики. Филенки дверей еще хранили лохмотья старой краски цвета бычьей крови, они как бы краснели за собственное убожество, ибо открывалась в них только одна половина. Впрочем, этого было вполне достаточно для немногочисленных гостей, лишь изредка посещавших замок. К ступеням было прислонено старое каретное колесо – последнее напоминание об экипаже, рассыпавшемся в прах, судя по всему, еще во времена предыдущего царствования. Бесчисленные гнезда ласточек облепляли верхушки труб и углы оконных проемов.
И, если бы не тонкая струйка дыма, выходившая из каминной трубы и тут же сворачивавшаяся спиралью – в точности так, как это рисуют дети, когда хотят изобразить обитаемое жилье, – можно было бы решить, что усадьба совершенно пуста. Впрочем, обед, который готовился на таком огне, вряд ли мог быть обильным: любой немецкий наемник надымил бы своей трубкой куда больше.
Дым был единственным признаком жизни, который подавал дряхлый замок. Так лекарь подносит зеркало к губам больного, чтобы по затуманившемуся стеклу узнать, жив он еще или уже мертв. Дверь не сразу уступала гостю: она сопротивлялась и скрежетала на проржавевших петлях, словно старуха в самом дурном расположении духа. За ней открывался взгляду род стрельчатого свода. Свод этот был намного древнее остального здания, на его граните был высечен гербовой барельеф, сохранившийся намного лучше герба над дверями. Изображал он трех золотых аистов на голубом поле, но прочие детали было нелегко рассмотреть из-за царившего здесь сумрака. К стене были прикреплены закопченные железные подставки для факелов и такие же кольца, к которым приезжие когда-то привязывали лошадей. Сейчас на этих кольцах лежал толстый слой пыли.
Далее располагались еще две двери: одна вела в покои первого этажа, другая – в просторное помещение вроде кордегардии, где, возможно, в прошлом располагалась стража замка. В этом помещении имелся выход во двор – пустынный, печальный и холодный. Двор был окружен высокими каменными стенами, покрытыми темными полосами – следами зимних дождей. В углах этого запущенного двора среди щебня, осыпавшегося с карнизов, превосходно чувствовали себя крапива, дикие злаки, болиголов и мелкие алые маки, а между плитами, словно щетка, пробивалась густая трава.
Лестница с балюстрадой, столбики которой были увенчаны каменными шарами, вела в сад, расположенный значительно ниже уровня двора. Ступени ее были истерты и местами разбиты, они шатались под ногами, и связывали их между собой только корни трав и пласты испанского мха. На верхней террасе лестницы росли очиток, желтые левкои и дикие артишоки.
Сад же, по мере того, как вы углублялись в него, мало-помалу превращался в непроходимую чащу, настоящий девственный лес. За исключением дюжины грядок на расчищенной площадке, где наливались бледно-зеленые, с листьями в синеватых прожилках, кочаны капусты и высились золотые подсолнухи, дикая природа окончательно завладела этим заброшенным уголком и со свойственной ей тщательностью истребила все следы человеческой деятельности.
Необрезанные деревья жадно раскидывали во все стороны ветви. Кустики буксуса, чье назначение заключалось в том, чтобы обрамлять аллеи, превратились в деревца, позабыв о ножницах садовника. Семена, случайно занесенные порывами ветра, прорастали здесь с той могучей энергией, что свойственна сорнякам, заглушая садовые цветы и редкие растения. Колючие ветви терновника переплетались над тропинками, цепляясь за платье прохожего и не позволяя проникнуть вглубь сада, словно преднамеренно скрывая это сумрачное убежище грусти и безнадежности. Ведь всякий знает: скорбь не любит посторонних глаз и воздвигает вокруг себя различные преграды.
Но если бы вы, не обращая внимания на царапины от колючек и пощечины от свисающих ветвей кустарников и деревьев, добрались до конца старинной аллеи, больше похожей на глухую лесную тропу, то оказались бы перед нишей в склоне, выложенной морскими раковинами наподобие естественных гротов. К высаженным здесь между камнями растениям – ирисам, шпажникам и черному плющу – ныне прибавились иные: спорыш, лиатрис и дикий виноград. Все они образовали густые заросли, почти до половины скрывающие мраморное изваяние античного божества – не то Флоры, не то Помоны. В свое время статуя была очень изящна, к ней приложил свою руку большой мастер, но с годами она утратила нос и часть лица и стала похожей на саму Смерть. В корзине, которую несчастная богиня держала в руках, вместо цветов выросли ослизлые грибы, тело ее покрылось пятнами мха, а мраморное углубление фонтана возле ее ног заполнилось дождевой водой и толстым слоем ядовито-зеленой ряски. Сам фонтан в виде львиной морды больше не извергал струю воды, так как водопровод засорился или окончательно разрушился.
Этот, как тогда выражались, «приют сельских утех», несмотря на крайнюю запущенность, свидетельствовал о том, что прежние владельцы замка располагали некоторым достатком и обладали изящным вкусом. Если бы привести в порядок эту скульптуру, выяснилось бы, что она исполнена в духе флорентийского Ренессанса и является удачным подражанием работам итальянских скульпторов, прибывших во Францию вслед за знаменитыми Россо Фьорентино и Франческо Приматиччо. Это и была, по всей вероятности, эпоха, когда здешний дворянский род, ныне совершенно разоренный, находился в полном расцвете и благоденствовал.
Позади грота высилась стена, сплошь увитая зеленью и покрытая пятнами сырости. Перед ней виднелись остатки трельяжа – садовой решетки, призванной скрывать камень за завесой широколиственных ползучих и вьющихся растений. Стена эта замыкала сад, а за ней расстилались вересковые ланды с их унылым низменным горизонтом.
Когда вы возвращались к замку, становилась видна его тыльная сторона, еще более разрушенная и облупившаяся, чем главный фасад. Очевидно, последние владельцы усадьбы тратили остатки своих скудных средств только на то, чтобы хоть мало-мальски сохранить внешнее благообразие здания.
В конюшне, где легко разместились бы десятка два лошадей, стояла одна-единственная отощавшая кляча, похожая на обглоданный скелет. Извлекая из яслей языком и редкими желтыми зубами завалявшиеся там редкие соломинки, она время от времени бросала косые взгляды на ворота конюшни. На пороге псарни дремал единственный пес, чья шкура была настолько велика для его исхудавшей плоти, что он болтался в ней, как в мешке. В целом это животное походило на скверно набитое чучело. Морда его лежала на костлявых передних лапах; казалось, пес настолько привык к одиночеству и безлюдью, что не настораживался даже от сильного шума, как иные собаки.
В верхнюю часть замка вела огромная лестница с деревянной балюстрадой и двумя площадками – по одной на каждом этаже. До второго этажа лестница была каменной, а выше – наполовину кирпичной, наполовину деревянной. На стенах вдоль лестничных маршей сквозь пятна плесени проступала декоративная живопись, искусно исполненная в серых тонах. Она изображала пышные архитектурные рельефы с хорошо проработанной светотенью и перспективой. Напрягшись, можно было различить ряд атлантов, поддерживавших лепной карниз, с консолей которого спускался орнамент из виноградных листьев и лоз, образуя своего рода арку, сквозь которую проглядывало едва синеющее небо и неведомые страны, созданные потеками дождевой воды на штукатурке. В нишах красовались бюсты римских императоров и прочих исторических персон, но все это выглядело до того блекло, смутно, расплывчато, словно рукой художника водили призраки, а описывать все это надо было бы не словами, а отзвуками слов. Казалось, что эхо на этой пустынной лестнице с испуганным удивлением откликается на звук человеческих шагов.
Далее дверь, обитая пожелтевшей саржей[3], которая держалась только на нескольких гво́здиках с позолоченными шляпками, вела в комнату, служившую столовой в те незапамятные времена, когда здесь еще обедали. Могучая дубовая перекладина делила ее потолок на две части, а те, в свою очередь пересекали декоративные балки, промежутки между которыми были покрыты голубой краской, поблекшей от пыли и паутины, до которой никогда не добирались ни метла, ни тряпка. Над громадным камином ветвился лес оленьих рогов, а с потемневших полотен на стенах угрюмо смотрели портреты рыцарей в кирасах, чьи шлемы услужливо держали пажи. Там и сям вы наталкивались на пристальные взгляды сеньоров в бархатных симарах[4], чьи головы лежали на круглых плоеных воротниках, словно голова Иоанна Крестителя на серебряном блюде. Встречались там и владетельные вдовы в старомодных нарядах, смертельно бледные из-за выцветания красок и походившие то на вампиров, то на сов. Портреты эти, написанные провинциальными мазилами третьей руки, казались особенно чудовищными из-за полной беспомощности авторов. Некоторые из них были вовсе без рам, на других виднелись тонкие багеты с потемневшей позолотой. Но на всех в углах был изображен родовой герб и обозначены даты жизни оригинала. Впрочем, независимо от эпохи, особой разницы между ними не было: на полотнах, потемневших от лака и покрытых пылью, свет был желтым, а тени черными, как сажа; два-три портрета от плесени приобрели вид разлагающихся трупов, тем самым подтверждая полное равнодушие последнего отпрыска знатного и доблестного рода к своим пращурам. По вечерам в неверном свете ламп или свечей эти немые и неподвижные образы наверняка превращались в жуткие и смешные привидения.
Ничего не могло быть печальнее этих портретов, прозябающих в пустых покоях, этих полустертых отражений тех, кто давным-давно гнил в земле. Все они привыкли к мрачному уединению, и любое живое существо показалось бы оскорбительно реальным в этой мертвецкой.
Посреди обеденной залы стоял стол из почерневшего грушевого дерева на витых ножках, подобных колоннам Соломонова храма. Древоточцы пробуравили их своими ходами во всех направлениях, а на поверхности стола лежал слой пыли, на котором можно было бы писать пальцем, из чего следовало, что столовые приборы появлялись здесь не слишком часто.
Два буфета из того же материала, украшенные затейливой резьбой, были, скорее всего, приобретены в ту же эпоху процветания вместе со столом. Они располагались у противоположных стен столовой, как бы дополняя друг друга. Их полупустые полки украшали выщербленная фаянсовая посуда, разрозненное стекло и несколько керамических фигурок работы Бернара Палесси, изображающие рыб, крабов и раковины, покрытые зеленой глазурью. Из сидений пяти или шести стульев, обитых лысоватым бархатом, который когда-то был алым, но от времени и частого употребления порыжел, вылезало их содержимое. Ножки их были неравной длины, от этого стулья хромали, как изувеченные ветераны, вернувшиеся домой с полей сражений. Только бесплотный дух мог без риска для жизни усидеть на таком стуле; видимо, они и служили седалищами этому сонму предков, который по ночам покидал свои рамы и располагался вокруг стола за воображаемыми яствами. Легко представить их бесконечные горькие беседы об упадке и разорении славного рода, которые ведутся здесь в долгие зимние ночи…
Из обеденной залы можно было проникнуть в следующий покой, поменьше размерами. Стены здесь были украшены фламандскими шпалерами[5]. Это были отголоски былой роскоши – но протертые, изношенные до основы, выцветшие и расползающиеся на глазах. Пожалуй, только сила привычки удерживала нити, из которых они были сотканы, вместе. Деревья на них выглядели то желтыми, то синими, цаплю, стоявшую на одной ноге на одной из шпалер, почти прикончила моль, фламандскую ферму с колодцем, увитым побегами хмеля, почти невозможно было различить, а на бесцветной физиономии охотника на уток уцелели только ярко-красные губы, и это сделало его похожим на нарумяненного и напудренного покойника. Сквозняк, беспрепятственно проникавший в эту комнату, шевелил шпалеры, и они подозрительно колыхались. Если бы здесь оказался Гамлет, принц Датский, он непременно выхватил бы шпагу и с криком: «Крыса!» пронзил бы злополучного Полония, затаившегося за одной из шпалер.
Тысячи едва различимых шорохов и шепотов беспрестанно тревожили слух и разум посетителя, который рискнул бы проникнуть сюда. Голодные мыши грызли кожу и шерсть, древоточцы точили балки и деревянные части мебели, порой та или иная половица, словно соскучившись и желая размяться, издавала внезапный треск, невольно заставлявший вздрогнуть и испуганно оглядеться.
Весь угол этой комнаты занимала кровать с балдахином, опирающимся на пузатые колонны. Занавески балдахина из белых с зеленым рисунком стали грязно-желтыми и посеклись на сгибах; их страшно было коснуться и раздвинуть, чтобы, чего доброго, не увидеть притаившееся в сумраке чудовище или коченеющую под истлевшей простыней фигуру с заострившимся носом, костлявыми скулами, сложенными на груди руками и вытянутыми, как у изваяний на средневековых гробницах, ногами. До чего же призрачным становится все, что служило человеку, в его отсутствие! Также вполне можно было бы представить и что-нибудь наподобие красавицы, спящей вечным сном, или заколдованной принцессы, но зловещая неподвижность полуистлевших складок исключала всякое легкомыслие.
Стол черного дерева с медной инкрустацией, выпавшей из углублений, мутное зеркало с отпавшей амальгамой, словно утомленной тем, что давно не видит человеческого лица, кресло с тонкой вышивкой – плодом терпеливых усилий какой-нибудь прапрабабки, дополняли меблировку спальни, пригодной только для человека, который не страшится ни духов, ни выходцев с того света.
Свет в обе комнаты – спальню и столовую – проникал через два окна, расположенных со стороны фасада. Проходя сквозь стекла, которые мыли и протирали, должно быть, лет сто тому назад, он приобретал болезненный желто-зеленый оттенок. Длинные шторы, столь же ветхие, как и все остальное, наверняка разорвались бы вдоль, если бы кто-нибудь их отдернул. Вконец затеняя комнаты, они только усиливали впечатление глубокой грусти и меланхолии, которое это место могло произвести на кого угодно.
Открыв дверь, находившуюся в глубине спальни, вы моментально оказывались в пустоте, мраке и неизвестности. Однако мало-помалу глаза привыкали к мраку, который рассеивали только несколько лучей, проникающих чрез щели в досках, коими забиты были окна. Далее простиралась целая анфилада комнат неведомого назначения, совершенно разоренных, с покоробившимся щербатым паркетом, усыпанным битым стеклом, с голыми стенами, на которых лишь кое-где болтались обрывки уже не существующих ковров, с обвалившейся штукатуркой потолков, пропускающей дождевую воду. Здесь правили крысиные синклиты и заседали парламенты летучих мышей. Кое-где вообще опасно было передвигаться, потому что пол прогибался и ходил ходуном под ногами, но мало кому могло прийти в голову забрести в эту обитель пыли, праха и паучьих гнезд. С самого порога в нос ударял затхлый дух плесени и запустения, сырость пронизывала, как в склепе над ледяной бездной могилы, с которой сдвинута надгробная плита. И в самом деле: в этих залах, куда не рисковало заглядывать настоящее, медленно обращался в прах труп прошлого, и отошедшие годы уныло дремали по углам в своих колыбелях из серой паутины.
Выше, на чердаке, обитали совы и филины – создания с кошачьими головами и круглыми, как блюдца, фосфорически мерцающими глазами. Крыша, продырявленная в двадцати местах, позволяла свободно посещать чердак воронам и галкам. А по вечерам эти пыльные твари с воплями, галдежом и уханьем отправлялись добывать пропитание, наводя страх на людей суеверных, ибо в этой крепости голода невозможно было найти ничего съестного.
На нижнем этаже не было ничего, кроме полудюжины мешков с соломой, вязанок кукурузных стеблей да нескольких садовых орудий. В одной из комнат лежал тюфяк, набитый сухими кукурузными листьями, поверх которого было брошено тонкое шерстяное одеяло. То была постель единственного слуги, все еще остававшегося в доме…
Поскольку читатель, вероятно, утомился от этой прогулки среди крайней нищеты, запустения и безлюдья, пригласим его в помещение, которое выглядело немного уютнее всего остального замка. Речь о кухне, чья труба как раз и посылала к небу тот легкий дымок, о котором мы поведали выше.
Жидкие желтые языки огня лизали покрытые копотью своды очага, временами дотягиваясь до днища чугунного котелка, висевшего на тагане. Отблески пламени выхватывали из сумрака две или три медные кастрюли на полках. Дневной свет, проникая с крыши через широкую, лишенную колен трубу, голубоватыми бликами ложился на тлеющие угли, от чего даже огонь казался бледнее, он словно коченел в этом едва теплом очаге. Не будь котелок накрыт, дождь падал бы прямо в него, разбавляя и без того жидкую похлебку.
Мало-помалу нагреваясь, вода негромко зашумела, и котелок принялся хрипеть в тишине, как старец, страдающий одышкой. Капустные листья, поднимаясь на поверхность варева вместе с пеной, служили свидетельством тому, что возделанные грядки в саду также внесли свой вклад в это поистине спартанское блюдо.
Старый черный кот, худой, узловатый, как ручка выброшенной метлы, и местами оплешивевший до того, что виднелась его голубоватая кожа, сидел на задних лапах так близко к огню, что его усы чуть ли не дымились, а его зеленые глаза с вертикальными узкими зрачками ни на миг не отрывались от котелка. Уши и хвост кота были коротко обрезаны, отчего он походил на тех японских химер, что украшают кунсткамеры, или на тех фантастических монстров, которых ведьмы, отправляясь на шабаш, оставляют снимать пену и помешивать в котле, в котором варятся колдовские зелья.
Казалось, что кот этот, одиноко сидящий у очага, варит похлебку сам и для одного себя. Кто, если не он, поставил на дубовый стол надтреснутую тарелку, расписанную зелеными и красными цветами, оловянный кубок, исцарапанный как бы кошачьими когтями, и фаянсовый кувшин с голубым гербом на боку – копией того, что виднелся над входной дверью, на гранитном своде и на фамильных портретах. Для кого еще мог быть накрыт этот скромный стол в замке без обитателей? Для домашнего духа, для кобольда[6], хранящего верность полуразрушенному жилищу? И черный кот, глядишь, вот-вот перекинет не слишком чистую салфетку через согнутую в локте лапу и кинется прислуживать этой нечисти!..
Котелок между тем продолжал кипеть, а кот все так же неподвижно сидел у огня, как часовой, которого позабыли сменить. Наконец послышались грузные шаркающие шаги и сопровождающий их глухой кашель, явно принадлежащий старому человеку. Затем заскрипели дверные петли – и в кухню вошел наполовину не то крестьянин, не то слуга. Если судить по одежде, он был и тем, и другим в одном лице.
С его появлением черный кот, по-видимому связанный с ним давней дружбой, покинул пост и принялся тереться об ноги вошедшего, изгибая дугой спину, втягивая и выпуская когти и издавая то хриплое мурлыканье, которое у кошачьей породы служит признаком наивысшего удовлетворения.
– Ладно-ладно, будет тебе, Вельзевул! – сказал старик, наклоняясь, чтобы погладить мозолистой рукой облезлую спину кота и отдать долг вежливости животного. – Я знаю, ты меня любишь, и мы с моим бедным господином слишком одиноки здесь, чтобы не ценить ласку животного, которое хоть и лишено души, а между тем все дочиста понимает.
Покончив с любезностями, кот тотчас устремился к очагу, словно указывая человеку, где именно находится котелок с похлебкой, и устремляя на него взгляд, полный умильного вожделения. Вельзевул уже состарился, слух его ослабел, глаза утратили былую зоркость, а лапы – подвижность. Из-за этого охота на птиц и мышей больше не радовала его добычей, и теперь все его надежды были на котелок, в котором имелась и его доля. Кот это знал и заранее облизывался.
Пьер – так звали старого слугу – взял охапку соломы и бросил ее в едва живой огонь. Сухие стебли затрещали, стали корчиться, и вскоре пламя, выбросив клуб едкого дыма, бодро взвилось, весело треща искрами. Словно все здешние саламандры[7] проснулись и принялись отплясывать свою сарабанду в очаге. Даже кухонный сверчок, обрадовавшись теплу и свету, попытался было подать голос, но никак не мог с ним совладать и издал только одинокий хриплый звук.
Старый слуга опустился на скамью под очажным колпаком, обитым по краям старым зеленым штофом с фестонами, побуревшими от дыма; кот Вельзевул пристроился рядом.
Отблеск огня освещал лицо Пьера, которое выдубили годы, солнце и непогода, сделав его темнее, чем лицо индейца-кариба. Пряди седых волос, выбившиеся из-под синего берета, еще резче подчеркивали кирпичный тон лица старика, и лишь удивительно темные брови создавали контраст снежно-белым волосам. Как у всех басков[8], у него было продолговатое лицо и крючковатый нос, подобный клюву хищной птицы. Глубокие вертикальные морщины, похожие на шрамы от сабельных ударов, избороздили его щеки. Обшитое потускневшим галуном подобие ливреи того цвета, над которым пришлось бы поломать голову даже самому опытному живописцу, наполовину прикрывало замшевую куртку старика, местами залоснившуюся и почерневшую от трения о кирасу, да так, что она стала напоминать пеструю грудку куропатки. Пьер в свое время был солдатом, и теперь, спустя много лет, донашивал остатки военного обмундирования. Его панталоны с короткими штанинами, застегивающимися под коленом, до того истончились, что стали похожи на канву для вышивки, и невозможно было определить, сшиты ли они из сукна, саржи или фланели с начесом. Многочисленные заплаты, сделанные рукой, более привычной к шпаге, чем к иголке, укрепляли самые ненадежные места, подчеркивая заботу обладателя этих штанов об их долголетии. Они отслужили уже три положенных срока, и хотя были некоторые основания предполагать, что некогда они были малиновыми, но утверждать это с уверенностью не решился бы никто. Обувью Пьеру служили веревочные подошвы, прикрепленные шнурками прямо к шерстяным чулкам. Эта грубая обувка, без сомнения, была куда более экономичной, чем сафьяновые башмаки с кисточками и на высоких каблуках.
Одним словом, строгая и опрятная бедность сквозила во всех деталях наряда этого человека и даже в его безропотной позе. Опершись спиной о трубу, он обхватил одно колено своими широкими ладонями, чей цвет напоминал цвет виноградных листьев в конце осени, и неподвижно сидел напротив Вельзевула, который с голодной жадностью следил за тем, что творилось в котелке, страдавшем одышкой.
– Что-то наш молодой хозяин сегодня запаздывает! – наконец пробормотал Пьер, взглянув сквозь закопченные и пожелтевшие стекла единственного окна, освещавшего кухню, на то, как бледнеет и угасает последний отблеск заката на краю горизонта, обложенного тяжелыми дождевыми облаками. – Что за удовольствие разгуливать без конца по ландам! Хотя, если правду сказать, и замок-то наш до того невесел, что скучнее и не сыскать…
В следующую минуту со двора послышался радостный сиплый лай, старая кляча ударила копытом в конюшне и загремела цепью, которой была привязана в стойле, а черный кот раздумал умываться и направился к дверям: именно так и поступает всякое любящее и воспитанное животное, которое хорошо знает свои обязанности и выполняет их с охотой.
Дверь распахнулась. Пьер поднялся и почтительно стащил с головы берет. В кухню вошел молодой господин, которому предшествовал тот самый дряхлый пес, которого мы уже упоминали. Звали его Миро, и сейчас он даже пытался прыгать, но подобные выражения радости были ему уже не по силам.
Вельзевул не испытывал к Миро той неприязни, которую все кошки питают к собачьему племени. Наоборот – он смотрел на него весьма дружелюбно, лишь чуть-чуть выгибая спину. По всему было видно, что знакомы они с незапамятных времен и часто вместе коротают время в здешнем уединении.
Барон де Сигоньяк – а именно он являлся владельцем этого нищего и полуразрушенного замка – был молодым человеком лет двадцати пяти-двадцати шести. Впрочем, на первый взгляд ему можно было дать куда больше, до того строгим и сосредоточенным было выражение его лица. Ощущение бессилия, всегда сопровождающее бедность, изгнало улыбку с его лица и стерло со щек румянец юности. Вокруг померкших глаз лежали тени, а над ввалившимися щеками отчетливо проступали скулы; усы барона, потеряв всякую лихость, не закручивались кверху, а уныло свисали, подчеркивая горькую складку губ. Небрежно расчесанные волосы падали вдоль бледного чела прямыми темными прядями, указывая на полное отсутствие интереса к собственной внешности, что редко встречается в молодых людях. Давняя затаенная печаль наложила на лицо барона страдальческий отпечаток, а ведь оно могло бы выглядеть живым и необыкновенно привлекательным, если бы в нем было хоть немного счастья и уверенности в себе.
Но все это поколебалось, а затем и исчезло под напором бед и неудач. От природы ловкий и сильный, молодой барон двигался с такой вялой медлительностью и неохотой, словно окончательно отрешился от жизни. Каждым машинальным движением, всей своей равнодушной повадкой он показывал, что ему безразлично, куда идти и где находиться.
Голову его украшала старая широкополая фетровая шляпа, смятая и с такими обвисшими полями, что они доходили ему до бровей, и чтобы видеть хоть что-нибудь, молодому человеку приходилось постоянно откидывать голову. Перо, до того ощипанное, что казалось скорее рыбьим хребтом, было воткнуто за ленту и изображало плюмаж, но оно то и дело падало назад, как бы стесняясь самого себя. Пожелтевший воротник из шелковых кружев с искусным рисунком, созданных замечательной мастерицей, был весь в дырах и лежал на вороте камзола, явно скроенного для человека куда более рослого и упитанного, чем изящный Сигоньяк. Руки его утопали в рукавах камзола, как в рукавах рясы, а высокие сапоги с отворотами и стальными шпорами доходили ему до бедер.
Все предметы этого странного одеяния принадлежали покойному отцу барона, умершему несколько лет назад, а теперь сын донашивал обноски, которым впору было отправиться к старьевщику еще при жизни первого владельца. В таком наряде, вышедшем из моды еще в начале прошлого царствования, Сигоньяк имел забавный и вместе с тем трогательный вид. Больше того – он казался своим собственным предком.
К памяти отца молодой барон питал благоговейные чувства, и ему не раз случалось уронить слезу, облачаясь в семейные реликвии, запечатлевшие в каждой складке движения и позы отошедшего к праотцам родителя. Однако ему вовсе не нравилось расхаживать в старье – просто никакого другого платья у него не было, и он даже радовался на первых порах, обнаружив на дне заплесневелого сундука это наследие. Его собственная одежда, которую он носил еще в отрочестве, стала ему коротка и тесна, а отцовская по крайней мере не стесняла движения. Окрестные крестьяне, почитавшие эту одежду вместе со старым бароном, не находили ее смешной и на сыне и смотрели на него с тем же почтением, не замечая ни дыр на полах кафтана, ни зловещих трещин на стенах его замка. При всей своей нищете Сигоньяк в их глазах оставался владетельным господином, и упадок этого знатного рода не поражал их так, как поразил бы человека постороннего. А между тем молодой барон в отрепьях верхом на едва живой кляче и сопровождаемый одряхлевшим псом выглядел жутковато, словно рыцарь-смерть с гравюры Альбрехта Дюрера.
Барон молча уселся за кухонный стол, ответив благосклонным жестом на почтительный Поклон старого Пьера.
Тот моментально снял котелок с тагана, наполнил похлебкой глиняную миску, в которую заранее был нарезан мелкими кубиками черствый хлеб, и поставил ее перед бароном. Такое деревенское блюдо до сих пор еще едят в Гаскони. Затем старик достал из буфета кусок студня, дрожавшего на салфетке, обсыпанной кукурузной мукой, и водрузил дощечку с этим излюбленным здесь кушаньем на стол. Студень и похлебка, в которой плавали несколько ломтиков сала – его хватило бы разве что для мышеловки, – составляли всю скудную трапезу барона.
Сигоньяк ел рассеянно и без особого аппетита, а Миро и Вельзевул расположились по обе стороны его стула и застыли, словно в экстазе, ожидая, не перепадет ли им чего-нибудь с «пиршественного стола». И действительно – время от времени барон бросал Миро кусок хлеба, пропитанный похлебкой, а шкурки от сала достались коту. Вельзевул выразил удовольствие глухим урчанием и тут же выставил перед собой лапу с выпущенными когтями, давая понять всем, что готов до последнего защищать драгоценную добычу.
Покончив с трапезой, барон предался размышлениям, в которых, судя по его лицу, не заключалось ничего приятного. Миро положил голову на колени хозяина и устремил на него мутноватый старческий взгляд, в котором до сих пор светилась искра почти человеческого ума. Этот взгляд говорил, что пес хорошо понимает все, о чем думает его повелитель, и глубоко ему сочувствует. Вельзевул замурлыкал так громко, что стало казаться, будто где-то рядом вертится колесо прялки. Время от времени он издавал жалобное короткое мяуканье, чтобы привлечь внимание барона, но мысленно тот уже был далеко отсюда.
Пьер все еще стоял на почтительном расстоянии, неподвижный, как гранитная статуя на портале кафедрального собора. Он не смел пошевелиться, чтобы не нарушить течение мыслей господина, и ждал, не последуют ли с его стороны какие-нибудь приказания.
Тем временем окончательно наступила ночь, в углах кухни сгустились тени, похожие на огромных летучих мышей, цепляющихся за выступы стен крючковатыми пальцами на концах перепончатых крыльев. Остатки угольев в очаге время от времени раздувал ветер, завывающий в трубе, они бросали странные отблески на людей и зверей, связанных общей печалью, и это еще сильнее подчеркивало мрачное уединение замка. От могучего, пышного и богатого аристократического рода остался лишь одинокий потомок, блуждающий, как тень, в замке-руине, населенном духами предков; из всей многочисленной челяди уцелел один-единственный слуга, и то потому, что он был глубоко предан хозяевам и его некем было заменить. Из своры, в которой в былые времена насчитывалось три десятка собак, не околел лишь один пес, полуслепой и седой от старости, а плешивый черный кот стал как бы воплощением души опустевшего замка.
Наконец барон подал знак Пьеру, что желает отправиться в спальню. Тот, склонившись над очагом, поджег пучок смолистой сосновой лучины – дешевого заменителя свечей, которым пользуются бедные крестьяне, – и зашагал впереди молодого господина. Миро и Вельзевул тоже присоединились к кортежу. Дымный свет горящей лучины выхватывал из тьмы блеклые фрески на стенах и придавал отдаленное подобие живости потемневшим портретам в столовой: их глаза, устремленные на последнего отпрыска рода, казалось, наполняются грустным сочувствием.
Вступив в уже описанную нами спальню, старый слуга зажег маленькую медную масляную лампу с рожком, после чего удалился вместе с Миро. Вельзевул, пользовавшийся некоторыми привилегиями, тут же растянулся на одном из дряхлых кресел. Барон устало опустился в другое – ибо нет ничего утомительнее одиночества, праздности и тоски.
Днем спальня имела вид приюта призраков, но вечером, при слабом и трепетном свете лампы, она выглядела еще более зловеще. Шпалеры приобрели какой-то потусторонний цвет, а охотник с аркебузой навскидку, вытканный на одной из них, приобрел необычайную живость и стал похож на наемного убийцу, подстерегающего жертву, или на вампира с губами, измазанными свежей кровью.
Лампа моргала, язычок ее пламени колебался в спертом сыром воздухе, ветер завывал в коридорах и переходах, словно в органных трубах, и странные пугающие звуки доносились из пустынных комнат.
Погода становилась все хуже, и крупные капли дождя, несомые шквальным ветром, уже барабанили по стеклам в свинцовых переплетах. Порой начинало казаться, что под напором ветра рама вот-вот выгнется и распахнется, словно снаружи кто-то толкает ее могучей рукой. Время от времени к этой симфонии тоски примешивался вопль совы (или сыча), гнездившейся на чердаке, который напоминал крики погибающего ребенка или шум крыльев птицы, привлеченной светом и бьющейся снаружи в стекло окна.
Однако хозяин этого печального жилища, привычный к подобному, не обращал на эти звуки ни малейшего внимания. Только Вельзевул с чуткостью, присущей кошачьему роду, при каждом новом звуке поводил остатками ушей, вздрагивал и начинал пристально всматриваться в темные углы, словно видел там своими узкими, как щели, зрачками нечто недоступное человеческому зрению. Этот черный кот с именем и внешностью самого дьявола мог бы вызвать суеверный страх у человека менее храброго и равнодушного, чем барон. Весь его облик свидетельствовал о том, что во время своих ночных похождений по необитаемым покоям замка он не раз сталкивался с такими вещами, от которых человек поседел бы в мгновение ока.
Взяв с ночного столика небольшой томик, потемневший переплет которого был украшен его фамильным гербом, Сигоньяк начал рассеянно перелистывать страницу за страницей. Глаза его впитывали строку за строкой, но мысли витали далеко отсюда – оды и любовные песни Ронсара, несмотря на превосходные рифмы и искусные обороты, интересовали барона в последнюю очередь. Наконец он уронил книгу и начал медленно расстегивать камзол, как человек, которому не хочется спать и который укладывается в постель только потому, что ему больше нечего делать. Пальцы его двигались так же медленно, как песок впитывает капли ночного дождя или как оседает пыль в полуразрушенном замке, окруженном океаном дрока и вереска. И при этом на десять миль в округе не было ни одного живого существа, не считая старого слуги, с которым он мог бы перемолвиться хоть словом!
Молодому барону, единственному отпрыску рода Сигоньяков, действительно было о чем печалиться. Предки его разоряли себя самыми разнообразными способами – азартной игрой, войнами и бесчинствами, суетным стремлением пустить пыль в глаза; и каждое поколение передавало следующему стремительно таявшее наследство. Лены[9], фермы и земельные наделы, принадлежавшие замку, распродавались по частям; и предпоследний Сигоньяк, отец молодого барона, предприняв невероятные усилия, чтобы восстановить благосостояние семьи, убедился, что на тонущем корабле поздно затыкать пробоины, махнул на все рукой и оставил сыну лишь рассыпающийся замок и несколько десятин тощей земли. Все остальное отошло кредиторам и ростовщикам.
Костлявые руки нищеты качали колыбель ребенка, и ее высохшие сосцы питали его. Лишившись в раннем детстве матери, которая зачахла в обветшалом доме от горьких мыслей о незавидной участи сына, молодой барон не знал ласки и материнской заботы, которой окружают детей даже в самых бедных семьях. Отец, которого он оплакивал совершенно искренне, выражал свое внимание к отпрыску в основном пинками и колотушками. Но теперь одиночество так измучило молодого человека, что он бы только обрадовался, если отцу вновь вздумалось бы поучить его на свой лад. Вспоминая отцовские подзатыльники, он умилялся до слез, ведь это тоже разновидность общения с себе подобными. Уже четыре года минуло, как старый барон покоился под гранитной плитой в фамильном склепе Сигоньяков, и все это время молодой человек провел в полном уединении. Гордость не позволяла ему появляться среди местной знати на празднествах и охотах без соответствующей его титулу экипировки.
И в самом деле: что сказали бы эти провинциальные дворяне, увидев барона де Сигоньяка в одеянии нищего? Те же соображения не позволили ему поступить на службу к какому-нибудь принцу, и многие пребывали в убеждении, что род Сигоньяков пресекся. Трава забвения скрыла все упоминания об этой владетельной семье, некогда высоко чтимой и богатой. Лишь двум-трем людям было известно, что где-то прозябает последний потомок знаменитого, но оскудевшего рода.
Прошло несколько минут, и вдруг Вельзевул начал выказывать признаки беспокойства. Подняв голову, кот тревожно принюхался. Затем он прыгнул на подоконник, поднялся на задние лапы, а передними оперся о переплет, вглядываясь в ветреную тьму ночи, сквозь которую неслись косые потоки дождя. Ноздри Вельзевула раздувались, он негромко пофыркивал.
Вскоре послышалось протяжное рычание Миро, нарушившее безмолвие замка. Должно быть, что-то необычное происходило в здешних окрестностях его, всегда столь безлюдных. Затем Миро хрипло и яростно залаял – и барон, решив быть готовым к любым неожиданностям, накинул и застегнул камзол, который только что бросил на спинку кресла, и выпрямился.
– Что это с Миро? С какой стати пес, который, едва зайдет солнце, уже храпит на соломе, поднял такой шум? Уж не волки ли бродят под окнами? – пробормотал себе под нос молодой человек, пристегивая к перевязи шпагу в тяжелых ножнах, снятую со стены. Кожаный пояс ему пришлось затянуть до самой последней дырочки, потому что тот был приспособлен к талии старого барона, а талия эта была вдвое объемистее, чем у его сына.
И тут раздались один за другим три удара в двери замка, подхваченные эхо в пустых покоях.
Кто мог в такой час нарушить уединение этого жилища и безмолвие бурной ночи? Какой заблудившийся путник осмелился постучать в дверь, которая уже давно ни для кого не открывалась – и не потому, что хозяин не был расположен к гостеприимству, а потому, что ни у кого не было желания гостить здесь? Кому пришло в голову заглянуть в эту резиденцию Великого Поста, в эту цитадель вечной нужды и нищеты?
2
Колесница Феспида[10]
Сигоньяк поспешно спустился с лестницы, прикрывая лампу ладонью от сквозняка, поминутно пытавшегося ее погасить. Свет проникал сквозь его худые пальцы, окрашивая их в прозрачно-алый цвет, а следом за молодым бароном скакал по ступеням черный кот.
Вынув из проушины тяжелый болт и распахнув свободную створку дверей, он очутился лицом к лицу с каким-то незнакомцем. Барон поднял лампу повыше, осветив довольно странного вида господина. Его лысый череп отливал желтоватым глянцем, седая кайма волос прилипла к вискам; мясистый нос, украшенный багровыми прожилками – следствием злоупотребления дарами виноградной лозы, торчал в виде луковицы между парой пронзительных глазок, прячущихся под густейшими и чернейшими бровями; обрюзгшие щеки горели пятнистым румянцем. У незнакомца также имелись толстогубый рот пьяницы и сластолюбца и подбородок с солидной бородавкой, из которой во все стороны торчала жесткая щетина. Эти последние детали завершали облик, вполне достойный быть изваянным в виде маски чудовища где-нибудь под Новым мостом в Париже. Впрочем, все эти малопривлекательные и шутовские черты смягчало выражение добродушного лукавства, а на губах играла любезная улыбка.
Физиономия эта, представшая перед молодым бароном словно на блюде из брыжей сомнительной чистоты, служила венцом тощей фигуре в черном балахоне, которая немедленно сломалась пополам, отвесив преувеличенно учтивый поклон.
Покончив с приветствиями, забавный посетитель, еще прежде, чем с уст Сигоньяка успел сорваться первый недоуменный вопрос, напыщенно и витиевато произнес:
– Благоволите простить мне, благородный господин, что я осмелился постучаться у врат вашей твердыни, не выслав вперед ни пажа, ни карлика, который протрубил бы в рог, возвещая о нашем прибытии, и вдобавок сделал это в столь поздний час! У нужды нет законов – она заставляет даже самых светских людей вести себя как последние варвары!
– Что вам угодно? – довольно сухо спросил барон, которому уже наскучило слушать это словоизвержение.
– Я молю о гостеприимстве для меня и моих товарищей: принца и принцессы, Леандра и Изабеллы, докторов и капитанов, что странствуют из города в город на колеснице Феспида, каковая, влекомая, на античный лад, волами, в настоящее время застряла в грязи буквально в нескольких шагах от вашего замка.
– Если я верно понимаю ваши речи, вы – бродячие комедианты и сбились с пути?
– Трудно яснее и проще истолковать смысл моих слов. Вы, господин, попали в самый центр мишени, – ответил актер. – Надеюсь, ваша милость не отвергнет мою нижайшую просьбу?
– Хотя жилище у меня порядком запущено и я мало чем могу вас порадовать по части ужина, все же здесь вам будет чуть лучше, чем под открытым небом в такую непогоду.
Педант[11] – таково, по-видимому, было амплуа этого старого шута в труппе – снова низко поклонился в знак признательности.
Как раз в это время, Пьер, разбуженный лаем Миро, присоединился к своему господину. Узнав, в чем дело, он зажег фонарь, и все втроем направились к застрявшей колеснице, которая оказалась самой обыкновенной крытой повозкой.
Фат Леандр и Забияка Матамор толкали повозку сзади, а Тиран[12] погонял волов, размахивая своим кинжалом. Актрисы, кутаясь в потрепанные мантильи, ужасались, охали и взвизгивали. Благодаря подкреплению и умелому руководству старого слуги, неповоротливую колымагу вскоре удалось вызволить из колдобины, после чего она, прокатившись под стрельчатым сводом, достигла замкового двора.
Распряженных волов водворили в конюшню по соседству с клячей; актрисы спустились на подножку и, расправив смятые юбки и фижмы, последовали за Сигоньяком наверх, в столовую, облик которой кое-как можно было бы счесть жилым. Пьер отыскал в глубине дровяного сарая полено и несколько охапок валежника, и вскоре в очаге весело затрещало пламя. Хотя было всего лишь начало осени, а одеяния этих дам не слишком промокли, тем не менее ночь была очень прохладной, а сквозняки так и гуляли по столовой.
Комедианты, навидавшиеся в своей бродячей жизни всевозможных помещений, тем не менее с удивлением осматривали это странное обиталище, давным-давно отданное человеком во власть потусторонних сил и невольно казавшееся местом действия кровавых трагедий и драм. Однако, как люди искушенные и благовоспитанные, они не выказывали ни испуга, ни изумления.
– Я могу вам предложить лишь столовые приборы, – заметил наконец молодой барон, – поскольку в моей кладовой и буфетах нечем поужинать даже мыши! Я живу один в усадьбе, никого не принимая, и, как вы видите даже без моих пояснений, удача и достаток давно покинули этот дом.
– Чепуха! – возразил Педант. – На сцене нам подают картонных кур и деревянные бутылки с вином, зато для повседневной жизни мы запасаемся вещами более существенными. Эти муляжи пулярок и воображаемые напитки угробят в два счета чей угодно желудок, а поскольку я являюсь главным провиантмейстером нашей труппы, у меня всегда найдется в запасе если не байоннский окорок, так паштет из дичи, а иной раз даже филейная часть ривьерского теленка с дюжиной бутылок кагора и бордо.
– Славно сказано, Педант! – воскликнул Леандр. – Ступай же за провизией, и, если наш хозяин соблаговолит разделить трапезу с нами, устроим маленький пир. В этих величественных буфетах, похоже, довольно посуды, и наши дамы мигом распорядятся.
Барон де Сигоньяк, слегка ошеломленный таким поворотом событий, только кивнул в знак согласия, и тотчас Изабелла и Донна Серафина, сидевшие у очага, вскочили и принялись расставлять тарелки и стаканы на столе, который Пьер уже успел привести в порядок и покрыть относительно белой, но тоже ветхой скатертью.
Вскоре вернулся Педант, неся в каждой руке по корзине, и торжественно водрузил в центре стола целую крепость со стенами из подрумяненного теста, в недрах которой скрывался гарнизон запеченных перепелов и куропаток. Эту кулинарную твердыню он окружил шестью бутылками, словно бастионами, которые необходимо предварительно одолеть, чтобы добраться до самой крепости. Копченые говяжьи языки и ветчина прикрывали оба фланга.
Вельзевул вскарабкался на один из буфетов и с жадным любопытством следил оттуда за всеми этими приготовлениями, заодно наслаждаясь волшебными запахами невиданно изобильных яств. Его нос, похожий на маленький трюфель, впитывал ароматные испарения, зеленые глаза сверкали. Конечно, кот был бы не прочь подобраться к самому́ столу и принять участие в этой трапезе, достойной самого Гаргантюа и совершенно чуждой привычному для него воздержанию, но его пугали незнакомые лица, и робость брала верх над неукротимым аппетитом.
Решив, что света одной масляной лампы недостаточно, Матамор вышел и отыскал в повозке пару театральных подсвечников. Они были вырезаны из дерева и оклеены золотой фольгой, в каждом имелось по несколько свечей. И когда их зажгли, получилась поистине потрясающая иллюминация. Эти канделябры, по форме напоминавшие библейские семисвечники, обычно ставили на алтарь Гименея в финале всевозможных феерий или на пиршественный стол в «Марианне» Мэре и в «Иродиаде» Тристана.
При свете свечей и пылающего хвороста мертвая комната внезапно ожила. Даже слабый румянец проступил на бледных щеках портретов. И хотя добродетельные вдовы в тугих воротниках и чопорных робронах осуждающе поджимали губы, глядя, как юные актрисы резвятся в их суровом замке, но воины и мальтийские рыцари улыбались из своих рам и явно были рады оказаться на веселой пирушке. Исключение составляли лишь двое-трое седовласых старцев с надутыми минами, на чьих лицах так и осталось злобное и надменное выражение, которое придал им живописец.
Воздух в этом огромном покое вскоре стал мягче и теплее, куда-то исчез неотвязный запах плесени и цвели. Почему-то стало не так заметно, что мебель потерта, а обои ободраны. Бледный призрак нищеты и разрухи, казалось, на время отлучился из замка.
Сигоньяк, которого неожиданное вторжение в его владения поначалу неприятно поразило, теперь с удовольствием отдавался множеству новых и острых ощущений. Изабелла, Донна Серафина и даже Субретка смутно, но сладостно тревожили его воображение и казались барону скорее богинями, спустившимися на землю, чем простыми смертными. Они в самом деле были прехорошенькими женщинами, способными увлечь даже не такого неискушенного новичка, как наш барон. Ему же все это казалось чудесным сном, и он ежеминутно боялся проснуться.
Барон подал руку Донне Серафине и усадил ее по правую руку от себя, Изабелла села слева, Субретка прямо напротив, а Дуэнья рядом с Педантом. Что касается Леандра и Матамора, то они расположились где пришлось. Наконец-то у молодого хозяина усадьбы появилась возможность как следует рассмотреть лица гостей, ярко освещенные пламенем десятка свечей. И конечно же, первым делом его внимание привлекли женщины, а потому будет кстати описать их, пока Педант с боями пробивается к пирогу.
Серафина была молодой женщиной лет двадцати четырех или двадцати пяти. Ей постоянно приходилось играть дам и светских кокеток, поэтому манерами она походила на придворную даму. У нее было овальное, слегка удлиненное лицо и тонкий нос с горбинкой. Выпуклые серые глаза и вишневый рот с раздвоенной, как у Анны Австрийской, нижней губой придавали ей приятный и благородный вид, как и пышные каштановые волосы, двумя волнами ниспадавшие вдоль щек, которые от тепла сейчас рдели нежным румянцем. Длинная прядка, перехваченная тремя черными шелковыми розетками, отделялась с каждой стороны от завитков ее прически, подчеркивая ее воздушное изящество подобно последним мазкам, которые художник наносит на законченную картину. Голову Серафины венчала лихо сидящая фетровая шляпка с круглыми полями и перьями, одно из которых ниспадало на ее плечи, а остальные были закручены вверх; отложной воротник, обшитый алансонскими кружевами, и черный бант обрамляли ворот зеленого бархатного платья с прорезями на рукавах, обшитыми позументом. Сквозь эти прорези виднелся второй рукав из присобранной кисеи; белый шелковый шарф, небрежно переброшенный через плечо, подчеркивал щеголеватую претенциозность ее наряда. В этом одеянии Серафина могла бы играть дерзких и умных героинь комедий плаща и шпаги.
Впрочем, все это было далеко не первой свежести, бархат платья местами уже лоснился от долгого употребления, воротник смялся, и при дневном свете всякий бы заметил, что кружева пожелтели, а золотое шитье на шарфе стало буреть, позумент кое-где протерся до ниток, помятые перья вяло болтались на полях шляпы, волосы развились, а соломинки из повозки самым прискорбным образом затесались в их великолепие.
Но эти мелкие недостатки не мешали Серафине иметь вид королевы без королевства. Ее платье было поношенным, зато лицо было свежим и прелестным. Что касается барона, то туалет Серафины казался ему, непривычному к такому великолепию и не видавшему никого, кроме крестьянок, одетых в домотканые юбки и соломенные шляпы, самым великолепным на свете. К тому же он был слишком поглощен глазами красавицы, чтобы обращать внимание на недостатки ее наряда.
Изабелла была моложе Серафины, как и требовало ее амплуа Простушки. Она явно избегала кричащих нарядов, довольствуясь изящной простотой, что приличествовало ролям девиц незнатного происхождения. У нее было миловидное, почти еще детское личико, шелковистые русые волосы, затененные длинными ресницами глаза, губы сердечком и весьма скромные манеры, скорее естественные, чем наигранные. Корсаж из серой тафты, отделанный черным бархатом и стеклярусом, спускался мысом на юбку того же тона. Гофрированный воротник поднимался сзади над грациозной шеей, на затылке колечками вились пушистые волосы, а вокруг шеи мерцала нитка фальшивого жемчуга. С первого взгляда Изабелла не так привлекала внимание, как Серафина, зато куда дольше удерживала его. Она не ослепляла – она пленяла, а это, безусловно, гораздо важнее.
Субретка вполне оправдывала прозвище morena[13], которым испанцы наделяют темноволосых женщин. Кожа ее была смугло-золотистой, как у настоящей цыганки, а волосы, жесткие и невероятно курчавые, имели цвет угля. Темно-карие глаза Субретки сверкали дьявольским лукавством, а за ярко-алыми губами, словно белые молнии, сверкали такие зубы, которые сделали бы честь и молодому волку. Эта молодая женщина была так худа и стройна, словно постоянно сгорала в пламени собственных страстей, но даже эта худоба была приятна для глаз. Вероятно, она была весьма опытной в делах житейских и любовных и умела передавать записочки интимного свойства не только на сцене, но и за стенами театра. Дама, имеющая такую служанку, должна была быть совершенно уверенной в своей неотразимости; проходя через ее руки, далеко не всякое любовное послание попадало по адресу, а рассеянные влюбленные порой подолгу задерживались в передней. Это была одна из тех женщин, которых подруги находят уродливыми, а мужчины неотразимыми. Они кажутся сотворенными из соли, меда и перца, что не мешает им оставаться холодными и расчетливыми, как ростовщики, когда речь заходит об их собственных интересах. На Субретке был фантастический наряд, синий с желтым, и мантилья из дешевых кружев.
Пожилая Леонарда, «благородная матушка» труппы, была облачена во все черное, как и полагается испанским дуэньям. Оборка громадного чепца окружала ее обрюзгшее лицо с тройным подбородком, которое казалось изъеденным сорока годами беспрестанной гримировки. Щеки имели цвет старого воска, да и сама полнота этой дамы казалась болезненной. Глаза, словно два уголька, хитро поблескивали из-под морщинистых полуопущенных век на этом мертвенном лице. Углы увядшего рта оттеняли темные волоски, которые было бесполезно выщипывать. Лицо «благородной матушки» почти совсем утратило женственность, а в его морщинах запечатлелось множество всевозможных похождений, о сути которых не очень-то и хотелось знать. Эта дама с раннего детства подвизалась на подмостках, знала все тонкости и превратности актерского ремесла и переиграла все роли, завершив карьеру ролями дуэний, с которыми так неохотно мирятся женщины-актрисы, не желающие поддаваться разрушительной силе времени. Леонардо обладала недюжинным талантом, и даже рядом со своими молодыми и хорошенькими товарками умудрялась до сих пор срывать аплодисменты, а те не уставали удивляться, что публика находит в этой старой ведьме.
Такова была женская часть труппы. В ней имелись все персонажи любой комедии, а если исполнителей недоставало, то в пути всегда можно было подобрать какого-нибудь бродячего актера или любителя, которому было лестно сыграть хоть крохотную роль, а заодно оказаться поближе к молодым актрисам. Мужская часть была представлена уже описанным выше Педантом, к которому больше незачем возвращаться, Леандром, Скапеном, трагиком Тираном и хвастуном Матамором.
В обязанности Леандра входило укрощение самых кровожадных тигриц и превращение их в смирных овечек, кроме того он был обязан дурачить всяких там Труффальдино и проходить от пролога до финала торжествующим победителем. Это был еще молодой человек лет тридцати, который на вид казался почти юношей, благодаря неусыпным заботам о своей внешности. Нелегкое это дело – олицетворять в глазах зрительниц идеального любовника, ведь это загадочное и совершенное существо каждая женщина создает по собственному усмотрению. Вот почему Леандр усердно натирал свою физиономию спермацетом, а вечером посыпал ее тальком; его тщательно выщипанные и подбритые брови казались нарисованными тушью, а зубы, начищенные до блеска, сверкали, словно жемчужины, и он поминутно обнажал их до самых десен, вероятно, не зная, что греческая пословица гласит: нет ничего глупее глупого смеха. Злые языки из числа его товарищей по ремеслу утверждали, что он слегка румянился даже вне сцены. Черные волосы, искусно и тщательно завитые, лежали вдоль его щек блестящими спиралями, ничуть не пострадавшими от дождя, и время от времени он наматывал их прядь на палец, демонстрируя заодно холеную белую руку, на которой сверкал бриллиант, слишком большой, чтобы быть настоящим. Отложной воротник камзола открывал стройную, несколько полноватую шею Леандра, подбородок его был выбрит до блеска. Распахнутые полы камзола открывали пышный каскад кисеи, перевитый целым ворохом лент, о сохранности которых он, очевидно, очень заботился. Леандр смотрел взором без памяти влюбленного даже на фамильные портреты в столовой, а передать солонку просил томно замирающим голосом. Каждую фразу он сопровождал вздохом и, говоря о самых обыденных вещах, уморительно жеманничал и закатывал глаза. Но странное дело – женщины находили все эти ужимки обольстительными.
У Скапена было не лицо, а острая лисья морда, хитрая, смышленая и насмешливая: вздернутые углом брови, бойко бегающие глаза, чьи желтые радужки мерцали, как капли золота на шарике ртути и лукавые морщинки в углах век, таящие бездну коварства и плутовства. Его тонкие подвижные губы беспрестанно шевелились, то и дело открывая в двусмысленной ухмылке острые клыки. Когда же он снимал белый в красную полоску берет, под коротко остриженными волосами проступал шишковатый череп, а сами волосы, рыжие и свалявшиеся, как лисья шерсть, дополняли весь его облик пронырливого и кровожадного зверя. Так и тянуло взглянуть, нет ли на руках этого молодчика мозолей от весел каторжной галеры, потому что он наверняка довольно долго писал свои мемуары на волнах пером длиной в пятнадцать футов. Голос его звучал весьма странно: с высоких нот он внезапно, со странными модуляциями и взвизгами, срывался на низкие, озадачивая слушателей и вызывая у них невольный смех. Жесты Скапена, неожиданные, хаотические и стремительные, словно его руками двигала скрытая пружина, пугали своей несообразностью и, по-видимому, должны были удерживать внимание собеседника, а не выражать ту или иную мысль или чувство. Это были манеры лисицы, монотонно кружащей под деревом, не давая опомниться тетереву, который, сидя наверху, не спускает с нее глаз до тех пор, пока не свалится прямо ей в пасть. Из-под серого балахона Скапена виднелись полосы традиционного для этой роли костюма, который он, должно быть, не успел сменить после недавнего представления. Впрочем, не исключено, что из-за скудости гардероба, он носил за порогом театра то же платье, что и на сцене.
Что касается Тирана, то это был невероятно добрый человек, которого природа, видимо шутки ради, наделила всеми внешними признаками крайней свирепости. Никогда еще более кроткая душа не обитала в столь жуткой оболочке. Сходящиеся на переносье черные косматые брови в два пальца шириной, курчавые волосы, густая борода до самых глаз, которую он не брил, чтобы не нуждаться в накладной, когда приходится играть царя Ирода или тирана Полифонта, темная, словно дубленая, кожа – все вместе делало его наружность неописуемо грозной и устрашающей. Подобным обликом художники любят наделять палачей и их подручных, живописуя мучения апостола Варфоломея или усекновение главы Иоанна Крестителя. Зычный бас, от которого дребезжали оконные стекла и прыгали стаканы на столе, усугублял впечатление, производимое этим монстром, облаченным в допотопный черный бархатный кафтан. Недаром в публике случались обмороки, когда он, рыча и завывая, читал стихи Гарнье или Скюдери. К тому же и сложение у него была настолько внушительное, что Тиран был в состоянии заполнить собою трон любых размеров.
Матамор, подвизавшийся в ролях забияки и хвастуна, был худ, костляв, черен и сух, как повешенный в летнюю пору мошенник. Кожа его выглядела, как старый пергамент, небрежно натянутый на костяк; огромный нос, смахивающий на клюв хищной птицы и отливающий таким же роговым блеском, делил пополам его вытянутую физиономию, которую вдобавок удлиняла остроконечная бородка. Лицо его походило на два профиля, кое-как склеенных друг с другом, а узким глазам, чтобы поместиться на нем, пришлось оттянуться к вискам, что делало его похожим на китайца. Подбритые черные брови изгибались, словно запятые, над стремительно бегающими зрачками, а непомерно длинные напомаженные усы были закручены вверх и грозили небесам своими остриями; оттопыренные уши смахивали на ручки кувшина и служили постоянной мишенью для щелчков и оплеух. Весь этот нелепый облик, больше похожий на карикатуру, казалось, был вырезан каким-то шутником из твердого дерева или срисован с тех диковинных птиц и зверей, которые светятся по вечерам в фонарях перед лавками пирожников. Ужимки стали второй натурой Матамора, и, даже покинув подмостки, он расхаживал на прямых ногах, расставляя их циркулем, задирал голову, одновременно упирая в бок одну руку, а другую держа на эфесе шпаги. Наряд его состоял из желтого камзола, сшитого на манер кирасы. Камзол был оторочен зеленым сукном, а рукава имели поперечные прорези на испанский лад; его воротник, укрепленный проволокой и картоном, был велик, как круглый стол, за которым могли бы рассесться все двенадцать рыцарей короля Артура. К этому следует добавить панталоны, собранные буфами, белые козловые ботфорты, в которых тощие ноги Матамора болтались, как флейты странствующего музыканта в футлярах, и, наконец, гигантскую шпагу, с которой он никогда не расставался, хотя один ее кованый эфес весил добрых двадцать фунтов. Поверх всего этого облачения он для пущей важности драпировался в плащ, край которого вечно оттопыривали ножны. Картину довершали два петушиных пера, которые торчали над его серой фетровой шляпой, словно головной убор рогоносца.
Ремесло писателя проигрывает искусству живописца в том, что он может показывать предметы и явления лишь последовательно, одно за другим. Ведь достаточно было даже беглого взгляда, чтобы целиком охватить всех обрисованных нами персонажей, сгруппировавшихся за столом. В этой картине запечатлелись бы все оттенки света и тени, разнообразие поз и выражений лиц, мельчайшие детали костюмов, которых нет в нашем описании, и без того пространном. Но нам так или иначе требовалось познакомить читателей с труппой бродячих комедиантов, так неожиданно нарушивших безмолвие замка барона де Сигоньяка.
Начало ужина прошло в глубоком молчании. Сильный аппетит, как и глубокое чувство, чаще всего безмолвен. Но как только первый, самый свирепый голод был утолен, языки развязались. Молодой хозяин замка, который, должно быть, ни разу не ел досыта с тех пор, как его отняли от материнской груди, может, и хотел бы показаться Серафине или Изабелле мечтательным и влюбленным кавалером, однако не имел для этого времени. Он с величайшим аппетитом продолжал энергично поглощать все, что оказывалось на его тарелке, и трудно было поверить, что сегодня он уже поужинал. Педант, которого забавлял этот могучий аппетит, то и дело подкладывал в тарелку сьера Сигоньяка то крылышко куропатки, то ломоть ветчины, и они моментально исчезали, будто снежинки на раскаленном листе железа.
Вельзевул в конце концов преодолел страх и решился покинуть свою позицию на верхушке буфета. Рассудив при этом, что не так-то просто выдрать его за уши, потому что их у него попросту нет, да и кипятком из кастрюли его едва ли окатят – это была бы уж слишком скверная шутка. Во-первых, отсутствующий у кота хвост сам по себе должен был вызывать сострадание, а во-вторых, за столом сегодня сидели люди большей частью приличные, и сам стол был уставлен невиданными яствами, источавшими дивное благоухание. Прокравшись к столу, прячась в тени и прижимаясь к полу так, что только суставы его лап торчали, как отставленные назад локти над туловищем, Вельзевул замер, словно пантера, подстерегающая газель. Затем он подобрался к стулу, на котором восседал молодой барон, поднялся и, чтобы привлечь внимание хозяина, всеми когтями принялся скрести его колено. Сигоньяк, проникшись сочувствием к своему безропотному другу, который так долго терпел голод, служа своему господину верой и правдой, не оставил призыв кота без внимания: под стол отправились многочисленные птичьи кости и прочие объедки, которые были приняты с бурным восторгом. А вскоре и Миро проник в столовую вслед за Пьером, и обоим досталось немало лакомых кусков.
Жизнь мало-помалу возвращалась в мертвое жилище, наполняя его светом, теплом и беспорядочным шумом. Актрисы, глотнув вина, принялись болтать, как сороки на ветках, превознося таланты друг друга. Педант и Тиран заспорили о сравнительных достоинствах комедии и трагедии. Один утверждал, что гораздо труднее вызвать у почтенной публики смех, чем напугать их допотопными сказками, у которых нет иных достоинств, кроме старины, другой, в свою очередь, доказывал, что шутки и трюки, сочиняемые авторами комедий, только принижают их самих.
Леандр тут же извлек из кармана зеркальце и принялся разглядывать себя в нем с таким же самодовольством, как мифический Нарцисс в водах источника. Вопреки своему амплуа, Леандр вовсе не был влюблен в Изабеллу, а метил куда выше. Он надеялся, что рано или поздно прельстит своей блистательной внешностью и светскими манерами какую-нибудь пылкую вдову-аристократку, и в один прекрасный день раззолоченная карета, запряженная четверней, подхватит его у выхода из театра и умчит в великолепный замок. А там его будет ждать томная красавица в соблазнительном неглиже, сидя за столом, уставленным самыми изысканными блюдами. Осуществилась ли эта мечта хоть однажды? Леандр утверждал, что да, Скапен начисто это отрицал, и по этой причине между ними без конца вспыхивали ожесточенные споры. Несносный Скапен, ядовитый зубоскал, уверял, что, как бедняга ни играл глазами, бросая в ложи пламенные взгляды, как ни смеялся, демонстрируя все тридцать два зуба, сколько он ни напрягал икры и ни изгибал стан, до сих пор ему не удалось искусить ни одну знатную даму, даже сорокапятилетнюю матрону с красными пятнами и бородавками на морщинистом лице.
Поймав Леандра за любованием собственной персоной, Скапен тотчас возобновил привычное зубоскальство, и взбешенный фат в конце концов предложил отправиться в повозку и предъявить всем присутствующим небольшой баульчик, битком набитый надушенными мускусом и ладаном любовными записками, якобы полученными им от целой толпы высокородных дам: графинь, маркиз и баронесс, воспылавших к нему адской страстью. И это не было пустой похвальбой, ибо пристрастие знатных особ ко всяческим гаерам и комедиантам было довольно распространено в те времена, известные своими вольными нравами. Впрочем, Серафина тут же заявила, что на месте этих знатных дам она велела бы как следует высечь Леандра за дерзость и болтливость, а Изабелла шутливо пригрозила, что не выйдет за него замуж в конце очередной пьесы, если он не будет вести себя скромнее.
Ужасное смущение, словно тисками, сдавливало горло нашего барона и мешало ему говорить гладко и связно, и все же Сигоньяк не мог скрыть, как он восхищен Изабеллой: его глаза оказались куда красноречивее уст. Девушка, заметив, какое впечатление она производит на молодого человека, отвечала ему скромными, но благосклонными взглядами – к великому неудовольствию Матамора, втайне влюбленного в нее. Впрочем, ввиду комического амплуа этого господина, особых надежд на взаимность он не питал. Любой другой юноша, более обходительный и дерзкий, чем Сигоньяк, повел бы себя куда решительнее; но бедный барон не учился светским манерам в своем обветшалом замке и, хоть был умен и вполне образован, порой имел довольно растерянный, если не сказать глупый, вид.
Наконец все десять бутылок были опорожнены досуха, и Педант перевернул последнюю, добывая с ее дна последние капли. Матамор, верно расценив этот жест, тотчас отправился за новой партией сосудов, ждавших своего часа в повозке. Барон уже слегка захмелел, однако не мог удержаться и не поднять полный до краев бокал за здоровье прелестных дам. Он-то его и доконал.
Педант и Тиран пили как опытные, испытанные временем пьяницы, то есть они никогда не были вполне трезвы, но и пьяными их назвать никто б не решился. Матамор был по-испански сдержан и напоминал тех идальго, что обедают тремя оливками и ужинают серенадой под гитару. Эта его умеренность имела серьезные основания: он боялся есть и пить вволю, чтобы не расстаться со своей феноменальной худобой – главным комическим средством. Чтобы продолжать существовать как актер на сцене, он постоянно морил себя голодом и постоянно проверял, сходится ли на нем пояс и не прибавил ли он веса со вчерашнего дня. Мученик воздержания во имя худобы, он походил на ходячий скелет и сознательно жил впроголодь. Если бы Матамор постился с благочестивой целью, ему давно было бы приготовлено место в раю, как святым пустынникам Антонию и Макарию.
Зато Дуэнья поглощала еду и питье за троих, ее дряблые щеки и тройной подбородок тряслись и ходили ходуном от мощной работы челюстей, пока еще не потерявших остатки зубов. А что касается Серафины и Изабеллы – те уже зевали наперебой и, за неимением вееров, прикрывали лица своими нежными пальчиками.
Заметив это, барон де Сигоньяк, хотя винные пары кружили ему голову, обратился к дамам:
– Сударыни, я вижу, что учтивость заставляет вас бороться со сном и вы умираете от желания поскорее улечься в постель. Я был бы счастлив предоставить каждой из вас по отдельной спальне, но за́мок, увы, разорен, как и весь мой род… а я его последний представитель… Я уступаю вам мою спальню, единственную, где кровля в порядке и сверху нет течи. Устраивайтесь там вместе с этой почтенной дамой – кровать там достаточно просторна, а ночь уже перешла за половину… Эти же господа останутся здесь и воспользуются для сна креслами и скамьями… Но должен сразу предупредить: не пугайтесь, если от сквозняка вдруг начнут шевелиться шпалеры, или ветер застонет в каминной трубе, или крысы поднимут свою возню. Мой замок – место довольно угрюмое, но привидений и иной нечисти здесь нет.
– На сцене я играю воинственных и бесстрашных героинь, меня не так-то легко испугать! А нашу робкую Изабеллу я постараюсь подбодрить, – смеясь, ответила Серафина и добавила: – А что касается Дуэньи, так она и сама у нас отчасти колдунья, и, если сюда явится хоть сам дьявол, сумеет дать ему достойный отпор.
Сигоньяк взял один из канделябров и проводил дам в спальню, один вид которой и в самом деле навевал жуть. Ветер колебал неверное пламя свечей, и по потолочным балкам метались причудливые и страшные тени, а в неосвещенных углах, казалось, таятся фантастические чудища.
– Недурная декорация для пятого акта трагедии, – заметила Серафина, озираясь по сторонам.
Изабелла, очутившись в промозглой тьме спальни, невольно вздрогнула – не то от холода, не то от страха.
Не раздеваясь, все три дамы юркнули под одеяло. Изабелла улеглась посередине – на тот случай, если из-под кровати вдруг высунется мохнатая и когтистая лапа призрака или оборотня. Ее ко всему привычные подруги вскоре заснули, а девушка еще долго лежала, устремив глаза на смутно виднеющуюся в темноте заколоченную дверь в стене напротив входа. С минуты на минуту Изабелла ожидала, что та распахнется и из разверстого проема хлынут толпы призраков и ночных кошмаров. Однако дверь стояла нерушимо, тень в саване, громыхающая ржавыми цепями, так и не появилась, хотя из пустых покоев время от времени доносились непонятные звуки. В конце концов благотворный сон осыпал золотым песком веки девушки и ее ровное дыхание начало вторить похрапыванию подруг.
Педант уснул за столом, уронив голову на руки и стиснув кулаки. Напротив него, словно церковный орган, храпел Тиран, время от времени бормоча обрывки стихов из полузабытых трагедий. Матамор, откинув голову на спинку кресла и вытянув петушиные ноги в ботфортах завернулся в серый плащ и сразу сделался похож на селедку, упакованную в грубую бумагу. Что касается Леандра, то он спал, держа голову прямо, чтобы не испортить прическу.
Барон де Сигоньяк расположился в единственном свободном кресле. Однако события этого вечера так взволновали его, что он не мог заставить себя уснуть. Две молодые женщины не могут войти в жизнь юноши, не вызвав смутного волнения, в особенности, если этот юноша до той поры жил в полном уединении, лишенный всяческих утех по милости злобной мачехи, которую зовут нищетой.
Вы, возможно, сочтете невероятным, чтобы юноша двадцати с лишним лет не изведал на своем веку ни одного любовного приключения. Но это правда: Сигоньяк был чрезвычайно горд и, поскольку у него не было одежды, приличествующей его титулу и положению, предпочитал отсиживаться у себя в усадьбе. Родители его умерли, а кроме них, ему не на кого было рассчитывать, и он с каждым днем все глубже погружался в свое одиночество и печаль. Порой во время своих одиноких прогулок он встречал дочь богатого владельца соседнего замка – Иоланту де Фуа. Эта дама скакала на белом иноходце, преследуя оленя или косулю, а сопровождали ее чаще всего отец или целая толпа молодых дворян. Лучезарное видение нередко гостило в его снах, но что общего могло быть между богатой и знатной красавицей и захудалым, обнищавшим, убогим баронишкой? Не желая быть замеченным, Сигоньяк при встречах с соседкой старался побыстрее юркнуть в заросли и скрыться, чтобы не вызвать смех ее свиты своей линялой шляпой с изъеденным временем пером, поношенной одеждой и старой смирной клячей, подходящей скорее для сельского священника, чем для дворянина. Согласитесь: нет ничего более обидного для благородного сердца, чем показаться смешным.
Стремясь заглушить зарождающееся помимо его воли чувство к великолепной Иоланте, барон приводил себе все самые веские и суровые доводы, какие только способна внушить бедность. Но преуспел ли он в этом – судить трудно. Сам он считал, что ему удалось отогнать от себя эту несбыточную мечту, решив, что у него и так довольно всяческих несчастий, чтобы добавлять к ним еще и муки неразделенной любви.
Ночь прошла мирно, и лишь Вельзевулу удалось отчаянно напугать Изабеллу, забравшись в кровать к дамам и улегшись прямо у нее на груди.
Сигоньяк же на протяжении всего остатка ночи не сомкнул глаз – то ли оттого, что не привык спать сидя, то ли оттого, что его так взбудоражило присутствие в доме хорошеньких женщин. А может, уже тогда в его голове зародился смутный план, который растревожил его и окончательно прогнал сон. Появление в замке комедиантов представилось ему счастливым случаем, зовом судьбы, подталкивающей его покинуть средневековые руины, в которых бесславно и бесцельно проходили его молодые годы.
Уже занимался день, его голубоватый свет проникал сквозь свинцовые переплеты стекол и придавал огоньку масляной лампы болезненный бледно-желтый оттенок.
Странно выглядели и лица спящих мужчин в этом двойственном освещении: они казались двухцветными, словно средневековые костюмы. Голова Леандра смахивала на восковую копию головы Иоанна Крестителя в парике из шелковой бахромы и с облупившейся, несмотря на стеклянный колпак, раскраской. Крепко сомкнутые веки, сжатые челюсти, острые скулы и заострившийся нос, словно сплюснутый хваткой костлявых пальцев Смерти, сделали Матамора похожим на труп. Багровые пятна и апоплексические прожилки покрывали пьяную физиономию Педанта; нос его из рубинового превратился в аметистовый, а толстые губы покрылись сизым винным налетом. Капли похмельного пота, стекая по рытвинам и бороздам его лба, застревали в дебрях кустистых бровей; дряблые щеки обвисли, как пустые бурдюки. Во сне лицо старого актера казалось отвратительным, а между тем, когда он бодрствовал, оно привлекало к себе живым и умным выражением. Старик сидел, привалившись к краю стола, и больше всего напоминал сейчас дряхлого козлоногого сатира[14], свалившегося после чрезмерных возлияний где-нибудь на краю оврага.
Тиран держался вполне прилично, на его мучнисто-бледном лице, заросшем черной бородищей – лице беззлобного и по-отечески добродушного палача – вчерашний вечер и ночь не оставили никаких следов. Субретка тоже не пострадала от бесцеремонного дневного света – вид у нее был не слишком помятый, и лишь синева вокруг глаз да фиолетовые прожилки, выступившие на щеках, свидетельствовали о скверно проведенной ночи. Солнечный луч, проскользнув между пустыми бутылками, недопитыми бокалами и остатками яств, ласкал подбородок и губы девушки, словно фавн[15], заигрывающий с задремавшей нимфой. Глядя на эту сцену, чопорные вдовы на стенах едва ли не краснели под слоем темного лака: их владения осквернил настоящий табор бездомных бродяг-лицедеев.
От солнечного поцелуя первой пробудилась Субретка. Она мгновенно вскочила на ноги, отряхнулась и привела в порядок юбки, словно прихорашивающаяся певчая пташка свои перышки, затем поправила растрепавшиеся волосы, а обнаружив, что барон де Сигоньяк сидит в кресле и смотрит прямо перед собой бессонным взором, направилась к нему и сделала реверанс по всем правилам театрального искусства.
– Мне бесконечно жаль, – промолвил Сигоньяк, поклонившись, – что состояние моего разрушенного жилища, более пригодного для духов, чем для живых людей, не позволило мне оказать вам лучший прием. Я был бы счастлив, если б эту ночь вы провели на простынях из тонкого голландского полотна под расшитым атласным балдахином, а не мучились в ветхом кресле!
– Да будет вам, сударь! – воскликнула Субретка. – Без вашего гостеприимства нам пришлось бы провести нынешнюю ночь, дрожа от холода под проливным дождем в повозке посреди грязной лужи. Вы с пренебрежением говорите о своем замке, а ведь он просто великолепен по сравнению с теми сараями и овинами, продуваемыми насквозь, где нам, комедиантам, странствующим из города в город, частенько приходится ночевать на охапке гнилой соломы.
Пока барон и Субретка обменивались этими любезностями, Педант внезапно со страшным грохотом рухнул на пол. Кресло наконец не выдержало его тяжести, одна из ножек подломилась, и теперь толстяк, растянувшись во всю длину, беспомощно сучил ногами и руками, словно черепаха, перевернутая на спину, бормоча что-то невнятное. Падая, он невольно вцепился в край скатерти, пытаясь удержаться, и посуда со звоном и дребезгом посыпалась на него. Шум этот разбудил всех без исключения. Тиран, потянувшись и кое-как протерев глаза, поспешил протянуть руку помощи старому комику и привел его в вертикальное положение.
– Подобные вещи просто невозможны с нашим другом Матамором, – произнес Тиран, утробно порыкивая – этот звук заменял ему смех. – Упади он в паучьи тенета, он и их бы не прорвал!
– И в самом деле! – вставил тот, кого назвали этим именем, расправляя свои тощие угловатые конечности, смахивающие на лапки паука-сенокосца. – Не всем дано быть циклопом Полифемом или великаном Каком, грудой мяса и костей вроде тебя или двуногой винной бочкой наподобие нашего Педанта.
В разгар этой суматохи на пороге столовой появились Изабелла, Серафина и Дуэнья. Обе молодые женщины все еще выглядели утомленными, но при свете дня все равно выглядели прелестными. Сигоньяк счел их ослепительными, хотя более придирчивый наблюдатель непременно заметил бы, что их наряды далеко не так свежи, как хотелось бы. Но что значат выцветшие ленты, пожелтевшие кружева, пятна и прорехи, а также некоторый беспорядок в туалетах, когда их обладательницы молоды и прекрасны? Глаза барона, привыкшие созерцать всевозможное старье, покрытое пылью, линялое и заношенное, пренебрегали подобными мелочами. Здесь, в этом мрачном и запущенном замке, Серафина и Изабелла казались ему одетыми, как самые изысканные придворные дамы, а их грациозные фигурки словно вышли из самого чудесного сна.
Что касается Дуэньи, то возраст давал ей важную привилегию – ее безобразие было всегда одним и тем же, ничто не могло изменить эту физиономию, словно вырезанную из твердого дуба, на которой мерцали круглые совиные глаза. Она была одной и той же, что при солнце, что при свечах.
Тут подоспел и старина Пьер, чтобы навести порядок на столе и подбросить дров в камин, где лишь несколько головней, покрытые седым пеплом, едва чадили. Заодно он унес остатки пиршества, которые после того, как голод был утолен, вызывали лишь отвращение.
Пламя, вспыхнувшее в камине и принявшееся лизать чугунную решетку с гербами Сигоньяков, тотчас собрало вокруг себя всю актерскую труппу. Весело пылающий огонь после ночи, проведенной если и не вовсе без сна, то во всяком случае во хмелю, обладает чудодейственной силой. Под воздействием животворящего тепла окончательно исчезли следы усталости, хмурые и помятые лица разгладились. Изабелла простерла к огню руки, зардевшиеся от его отблесков, и сама зарумянилась – куда только девалась ее недавняя бледность! Более выносливая и стойкая Серафина стояла позади нее, словно старшая сестра, оберегающая хрупкую младшую сестренку. Матамор снова впал в прострацию, словно цапля на краю болота: он вытянул к огню одну тощую ногу, поджал другую и уткнулся своим носом-клювом в брыжи. Педант, облизываясь, осматривал одну за другой пустые бутылки, надеясь обнаружить в них хоть каплю живительной влаги.
Молодой хозяин отозвал слугу в сторону и спросил, не сможет ли тот раздобыть в соседней деревне десяток-другой яиц или же пару кур, которых можно было бы насадить на вертел. Пьер кивнул и поспешно бросился исполнять поручение, так как труппа заявила о намерении рано тронуться в путь – ей предстоял длинный перегон, и актеры хотели еще засветло добраться до места ночлега.
– Боюсь, что завтрак ваш будет не слишком обильным и вам придется довольствоваться самой скромной пищей, – сказал Сигоньяк гостям, – но уж лучше позавтракать плохо, чем остаться вовсе без завтрака, поскольку на два лье в округе нет ни постоялого двора, ни даже плохонькой харчевни. Облик моего замка, должно быть, убедил вас, что я далеко не богат, но причина этой бедности – расходы моих предков на войны в защиту французских королей, и мне нечего стыдиться.
– Но это же очевидно! – подхватил Тиран своим громовым басом. – Тот, кто чванится богатством, не всегда осмелится честно рассказать, как он разбогател. Пройдоха-откупщик рядится в парчу и меха, а потомки знатных родов носят рваные плащи. Но сквозь их дыры сверкают доблесть и благородство.
– Но что меня удивляет, сьер барон, – прибавил Педант, – так это то, что вы губите свою молодость в этой дикой глуши. Фортуна, если б и захотела, ни за что не нашла бы вас здесь, и даже если бы ей довелось проезжать мимо этого замка, чья архитектура была столь великолепна лет двести назад, то миновала бы его, даже не заподозрив, что он обитаем! Вам, барон, надо отправляться в Париж, в этот центр Вселенной, приют умников и храбрецов, настоящее Эльдорадо для офранцуженных испанцев и крещеных иудеев, благословенный край, озаренный блеском королевского двора! Там вы могли бы быстро выдвинуться, либо пойдя в услужение к какой-нибудь вельможной особе, либо отличившись иным способом, к чему наверняка представился бы случай.
Эти речи, несмотря на шутовскую высокопарность – своего рода отголосок ролей, сыгранных Педантом, не были лишены смысла. Сигоньяк понимал их справедливость; он и сам не раз, во время своих одиноких прогулок по ландам, размышлял о том же. Но у него не было денег, чтобы предпринять такое путешествие, и он не знал, где их добыть. Он был отважен и горд, но насмешек боялся больше, чем удара вражеской шпаги. Он не следил за модами, но знал, что невероятно смешон в своем допотопном платье. Нужда делает таких людей застенчивыми, и он не сознавал своих достоинств, но видел лишь дурные стороны своего положения. Да, он мог бы воспользоваться покровительством прежних друзей своего отца, но искать их милости было выше его сил. Он скорее умер бы, сидя здесь на старом сундуке, созерцая свой фамильный герб и питаясь, как испанский идальго, зубочистками, чем обратился бы к кому-нибудь с просьбой о займе. Сигоньяк принадлежал к тем людям, которые, сидя натощак в гостях за превосходным обедом, делают вид, что уже сыты, лишь бы кто-нибудь не подумал, что они проголодались.
– Я и сам не раз думал об этом, – ответил наконец барон, – но у меня нет друзей в Париже, а потомкам тех, кто знал моих предков, когда они были богаты и служили при дворе, не нет дела до какого-то захудалого Сигоньяка, который коршуном прилетит в Париж из своей разрушенной башни, чтобы урвать свою долю добычи. Помимо того, не стану скрывать – я лишен возможности появиться там в подобающем моему имени виде, а всех сбережений, моих и Пьера вместе взятых, не хватит даже на то, чтобы добраться до Парижа!
– Но вам вовсе незачем въезжать туда триумфатором, словно римский император на колеснице, запряженной четверкой белых коней. Если наша скромная актерская повозка, запряженная волами, не оскорбляет достоинства вашей милости, едем в столицу вместе с нами, ведь наша труппа направляется именно туда. Кое-кто из тех, что ныне покрыли себя славой и пышным блеском, пришли в Париж пешком, неся узелок с пожитками на ножнах шпаги, а башмаки – через плечо, чтобы подошвы не износились в пути!
Слабая краска вспыхнула на скулах Сигоньяка – отчасти от стыда, отчасти от удовольствия. Если, с одной стороны, достоинство дворянина противилось тому, чтобы принять помощь от нищего гаера, с другой – это чистосердечное предложение тронуло его сердце, ибо отвечало его тайным стремлениям. Вдобавок ко всему он уже опасался, отказав комедианту, обидеть его, а больше того – упустить случай, который наверняка больше не подвернется. Конечно, потомку Сигоньяков не к лицу ехать в колеснице Феспида с бродячими шутами (от одной мысли об этом геральдические львы и единороги, поддерживающие щит его герба, взвыли бы от ужаса), но в конце концов молодому барону уже опостылели нищета и стены его феодального гнезда.
Он все еще колебался, взвешивая все «за» и «против» на весах разума, когда Изабелла, грациозно приблизившись и остановившись перед бароном и Педантом, произнесла то, что положило конец колебаниям молодого человека:
– Поэт, сопровождавший нашу труппу, недавно получил наследство и покинул нас, а вы, господин барон, могли бы его заменить. Я уверена в этом, ибо, листая томик Ронсара, лежавший на столике в спальне, я случайно наткнулась на испещренный помарками сонет, вероятно, вашего сочинения. Значит, для вас не составило бы труда приспосабливать для нас роли, делать купюры и добавления в текстах, а при случае и написать пьесу на заданную тему. У меня как раз сейчас на примете один итальянский сюжет, где для меня могла бы найтись замечательная роль, если бы кто-нибудь взялся его обработать для французской сцены!
Говоря это, Изабелла смотрела на Сигоньяка так нежно и проникновенно, что устоять тот, конечно же, не мог. И только появление Пьера, вошедшего со сковородой, на которой шипела громадная яичница с салом, и с солидным куском ветчины, вывело барона из оцепенения. Актеры расселись за столом и с аппетитом принялись поглощать завтрак. Сигоньяк же только из приличия ковырял в своей тарелке; привыкнув к воздержанию, он был все еще сыт вчерашним ужином, а помимо того – поглощен целым вихрем самых разнообразных мыслей.
Как только с завтраком было покончено и погонщик принялся запрягать волов в повозку, Изабелла и Серафина пожелали взглянуть на сад, который только что обнаружили.
– Тут, однако, есть одна опасность, – молвил Сигоньяк, учтиво подавая дамам руку, чтобы они могли перепрыгнуть через шатающиеся ступени, покрытые мхом, – как бы вам, сударыни, не пришлось оставить несколько лоскутков от ваших юбок на здешних колючках. Справедливо, конечно, что не бывает роз без шипов, но шипы без роз попадаются здесь гораздо чаще!
Сказано это было в тоне меланхолической иронии, которая всегда звучала в речах барона, когда он намекал на свою безысходную бедность и общую запущенность имения. Но заброшенный сад словно обиделся на его слова, и вдруг на одной из веток, протянувшихся поперек заросшей аллеи, вспыхнули два едва распустившихся цветка одичавшей розы. Сорвав их, барон протянул цветы Серафине и Изабелле, добавив:
– Я и не предполагал, что мои цветники столь пышны! Мне казалось, что здесь растут лишь сорные травы, а для букетов годятся лишь болиголов да крапива. Своими чарами вы вызвали к жизни эти два цветка, подобные улыбке на лице отчаявшегося или искре поэзии среди древних руин!
Изабелла бережно приколола цветок шиповника к корсажу, наградив молодого человека долгим благодарным взглядом, чтобы показать, как высоко она ценит его скромное подношение. Серафина же поднесла дикую розу к лицу и стала покусывать ее стебель, словно желая подчеркнуть, что бледно-розовые лепестки не в силах соперничать с пурпуром ее губ.
Отводя ветви, которые могли зацепить платья актрис, барон привел их к изваянию античной богини, смутно белевшему в глубине аллеи. Изабелла пристально разглядывала все вокруг, словно пытаясь навсегда запечатлеть образ этого запущенного сада, странно гармонировавшего с разрушающимся замком. В эти мгновения она представлял себе, сколько бесконечно долгих и безрадостных часов провел Сигоньяк в этом приюте тоски и одиночества, глядя из окна на пустынную дорогу в компании старого пса и старого изувеченного кота.
Однако лицо Серафины выражало лишь холодное презрение, едва прикрытое учтивостью; как ни почитала она титулы, этот дворянин казался ей уж слишком захудалым.
– Здесь кончаются мои владения, – объявил барон, дойдя до грота, близ которого обрастала мхом римская Помона. – Некогда моим предкам принадлежали все те земли, которые вы можете охватить взглядом с вершины этого холма: и пастбища, и вересковые равнины, и поля, и лес, что синеет на горизонте. А теперь у меня осталось ровно столько, чтобы спокойно дождаться часа, когда последний из нашего рода присоединится к предкам в семейном склепе. Он-то и станет нашим последним и единственным имением.
– То, что вы говорите, барон, слишком мрачно для такого чудесного утра, – возразила Изабелла, которую тронула элегическая печаль, звучавшая в словах молодого человека. Чтобы рассеять это впечатление, она весело добавила: – Фортуна – женщина, и хотя кое-кто считает, что она слепа, все же она, с высоты своего колеса, иной раз выделяет в толпе человека хорошего происхождения и высоких достоинств. Главное – вовремя попасться ей на глаза. Решайтесь же, барон, едем с нами! Быть может, пройдет еще несколько лет – и башни замка Сигоньяк, покрытые новой черепицей, обновленные и заново выкрашенные, станут не менее величавыми, чем в прошлом… И право же, мне грустно было бы оставить вас здесь, в этом обиталище сов и ворон! – добавила девушка вполголоса, чтобы Серафина не могла ее услышать.
Тихий свет, струившийся из глаз Изабеллы, окончательно преодолел сопротивление Сигоньяка. Прелесть возможного любовного приключения лишила для него это путешествие того, что могло унизить его достоинство. Иначе говоря, если он из любви к актрисе последует за ней и впряжется в театральную колесницу, его не осудят даже самые щепетильные и изысканные ревнители дворянской чести. Маленький божок, вооруженный луком и колчаном со стрелами порой заставляет богов и героев совершать невероятные поступки и принимать странные обличья: так, Юпитер обратился в быка, чтобы соблазнить Европу; Геркулес сидел с прялкой у ног Омфалы; даже великий Аристотель скакал на четвереньках, неся на спине свою возлюбленную, пожелавшую оседлать философского конька!
Но был ли барон действительно влюблен? Он еще не сознавал этого, зато знал, что отныне свирепая тоска будет глодать его душу здесь, в старом замке, лишь на миг ожившем в присутствии юного и миловидного создания.
Итак, приняв окончательное решение, он попросил актеров немного подождать, а сам отвел старого Пьера в сторону и объявил ему о своем намерении. Верный слуга был жестоко огорчен предстоящей разлукой с хозяином, однако даже он понимал, как тягостно для него оставаться и дальше в замке Сигоньяк. Изо дня в день он с горечью следил за тем, как в унылом бездействии и тупой тоске угасают разум и чувства юноши, и, хотя труппа комедиантов представлялась старику неподобающей свитой для его господина, любой способ попытать счастья был предпочтительнее той мрачной апатии, в которую с каждым годом все глубже погружался молодой барон. Пьер в два счета собрал скромные пожитки своего господина и вложил в его кожаный кошель горстку монет со дна старого ларя, присовокупив к ним, ни слова не говоря, остатки своих нищенских сбережений. При этом барон, возможно, даже не заметил этой жертвы, ибо с другими обязанности в замке старый слуга совмещал также должность казначея, не требовавшую, впрочем, особых трудов и забот.
Тотчас была оседлана белая кляча, на которой Сигоньяк намеревался на протяжении двух-трех миль сопровождать комедиантов, а затем, чтобы скрыть от посторонних глаз отъезд, пересесть в повозку. Пьер пешком должен был следовать за ними, а затем отвести лошадь обратно в конюшню.
Волы уже были в упряжке и, несмотря на ярмо, задирали свои влажные черные морды, с которых серебристыми нитями тянулась слюна. Венчавшие их головы наподобие тиар красно-желтые плетеные покрышки и защищающие животных от назойливых мух холщовые попоны придавали им какой-то особенно торжественный вид. Перед ними стоял, опершись на длинную палку, погонщик – рослый и загорелый, словно итальянский пастух, варвар. Поза его была неотличима от поз древнегреческих героев с античных барельефов, о чем, конечно же, погонщик и не подозревал. Изабелла и Серафина уселись впереди, чтобы любоваться окрестными видами, Дуэнья, Педант и Леандр забрались под навес повозки, предпочитая вздремнуть вместо того, чтобы наслаждаться панорамой гасконских ланд.
Все были в сборе; погонщик огрел своей палкой волов, они опустили головы, уперлись в землю и разом рванули с места. Тяжелая повозка тронулась, ободья затрещали, немазанные оси заскрипели, и свод замкового портала гулко отозвался эхом на перестук копыт.
Замок опустел.
Пока шли сборы и приготовления, Вельзевул и Миро, сообразив, что происходит что-то из ряда вон выходящее, с растерянным и озабоченным видом тревожно метались взад и вперед. Их маленькие мозги силились понять, что делают эти люди, которых неожиданно появилось так много в их пустынном обиталище. Пес бестолково бросался то к старому Пьеру, то к хозяину, вопросительно заглядывал им в глаза и рычал на незнакомцев. Кот – существо более сдержанное и рассудительное – с любопытством обнюхивал колеса повозки и косился на волов, держась от неведомых рогатых зверей на почтительном расстоянии. Затем он уселся напротив старой белой клячи, с которой у них было полное взаимное понимание, и, казалось, принялся выспрашивать у нее, что же на самом деле происходит. Дряхлая лошадь свесила свою шишковатую голову с редкой гривой к коту, а тот задрал к ней мордочку, и оба, казалось, вступили в продолжительную беседу. Что ему наговорила лошадь? Это известно, должно быть, только философу Демокриту, который утверждал, что понимает язык животных. Но как бы там ни было, после этой беседы кот явно уразумел смысл происходящей кутерьмы и передал его Миро посредством хриплого мяуканья. Поэтому, когда барон сел в седло и подобрал поводья, Миро занял место справа от лошади, а Вельзевул слева, и Сигоньяк отбыл из замка своих предков, сопровождаемый эскортом, состоящим из пса и кота. Очевидно, Вельзевул отважился на столь несвойственный кошачьей породе поступок только потому, что угадал, насколько важное решение принял его господин.
Покидая родовое гнездо, барон внезапно почувствовал, как его сердце мучительно сжалось. Он в последний раз взглянул на почерневшие от старости стены, покрытые вездесущим мхом. Все в этом замке было ему знакомо и близко: и башни с ржавыми флюгерами, которые он созерцал часами, изнывая от скуки, и окна опустевших покоев, по которым он расхаживал, словно призрак, пугаясь странного звука собственных шагов, и запущенный сад, где во влажной траве прыгали лягушки, а иной раз выскальзывала из зарослей терновника змея, и часовня с провалившейся кровлей и потрескавшимися арками сводов, возведенная над могилами его отца и матери, чей одухотворенный образ хранился в его памяти, как смутный сон, мелькнувший в раннем детстве. Вспомнились ему и портреты предков, делившие с ним одиночество, и охотник на уток со шпалеры в спальне, и кровать с витыми колонками, где подушка не раз увлажнялась его слезами. Все эти предметы – ветхие, убогие, унылые, пыльные и сонные, обычно внушавшие ему только отвращение и скуку, – теперь вдруг наполнились обаянием, которого раньше он совершенно не ощущал. Барон упрекал себя в неблагодарности к древнему дому, который укрывал его от буйства непогоды и силился устоять, чтобы не рухнуть и не придавить его своими обломками. В его памяти всплывали мгновения горькой радости, печальных забав, улыбчивой грусти. Привычка, эта неторопливая спутница жизни, усевшись на знакомом истертом пороге, скорбно и ласково глядела на него, тихонько напевая ту самую детскую песенку, которую он запомнил еще в детстве – песенку кормилицы. Вот почему, минуя портал, Сигоньяк вдруг почувствовал, как незримая рука вдруг схватила его за полу плаща и потянула обратно.
И позже, когда он уже ехал рядом с крытой повозкой актеров, порыв ветра донес до него свежий запах цветущего вереска, омытого дождем, – сладостный и острый аромат родной земли. Издали доносились серебристые звуки колокола деревенской церкви – они прилетели вместе с тем же ветерком, что нес благоухание ландов. Сигоньяк, охваченный внезапной тоской, несмотря на то, что был всего в нескольких шагах от своего замка, рванул поводья. Белая кляча уже повернула было морду, а Миро и Вельзевул одновременно вскинули головы, как бы почувствовав, что сейчас испытывает их господин, и уставились ему в глаза. Но эта попытка окончилась ничем – Изабелла перехватила взгляд Сигоньяка, и в ее глазах светилось столько томной нежности и неотразимой мольбы, что барон побледнел, затем покраснел и начисто забыл о стенах своего дома, аромате вереска и трепетных звуках колокола, все еще продолжавшего звучать. Барон оставил поводья в покое и сжал коленями бока лошади, заставив ее идти резвее. Борьба завершилась: Изабелла победила.
Вскоре повозка уже катилась по той дороге, о которой мы упоминали на первых страницах, распугивая лягушек из полных дождевой воды колей. Как только волы выбрались на сухой участок пути, им стало легче тащить тяжелую колымагу, в которую они были впряжены, а Сигоньяк из авангарда переместился в арьергард. Возможно, он не хотел, чтобы его слишком откровенное внимание к Изабелле было замечено, но, скорее всего, молодой человек искал уединения, чтобы без помех предаться мыслям, тревожившим его душу.
Остроконечные башни замка Сигоньяк уже наполовину скрылись за купами деревьев. Барон поднялся на стременах, чтобы бросить на них последний взгляд, а опустив глаза, заметил Миро и Вельзевула и прочел на их скорбных мордах все горе, какое только способно выразить осиротевшее животное. Воспользовавшись тем, что Сигоньяк придержал лошадь, пес напряг остатки сил и подпрыгнул, чтобы на прощание лизнуть хозяина. Юноша понял намерение бедного Миро, подхватил его на уровне стремени за загривок, поднял на седло и поцеловал в черный шершавый нос, а тот в знак благодарности облизал его усы. Тем временем более проворный Вельзевул пустил в ход когти взобрался к хозяину, цепляясь за его сапоги и панталоны. Затем он сунул ему подмышку свою черную мордочку и, вращая круглыми желтыми глазами, испустил жалобный вопль, словно умоляя о последней ласке. Барон погладил кота по безухой голове, а тот тянулся и изгибался, чтобы глубже прочувствовать этот знак дружеского внимания.
Что тут скажешь? Наш герой был человеком мягкосердечным и чувствительным, и можете смеяться, но смиренные знаки преданности этих двух созданий, лишенных души, но не чувств, бесконечно тронули его. Две невольные слезы сорвались с его ресниц и упали на головы Миро и Вельзевула – истинных друзей барона в самом глубоком смысле этого слова.
Затем он спустил их на дорогу, и оба зверя еще долго провожали глазами молодого хозяина, который пустил лошадь рысью, чтобы догнать повозку. Только окончательно потеряв его из виду за поворотом дороги, Миро и Вельзевул повернулись и понуро затрусили домой.
Ночная гроза не оставила на здешней песчаной почве тех следов, какие остаются на более плодородных и тучных землях. Но вся природа освежилась и засияла своеобразной суровой красотой. Дождевая влага смыла пыль с зарослей вереска, и теперь его лиловые соцветия покрывали все склоны холмов. Кусты дрока снова закивали своими желто-золотыми цветами, водяные растения широко раскинулись по вновь наполнившимся влагой болотам; даже сосны не так сумрачно покачивали своими темными кронами, источая аромат живицы. Там и сям между небольшими рощами каштанов поднимались к небу дымки, выдавая присутствие крестьянского жилья, а в укромных уголках долины, расстилавшейся сколько хватало глаз, светлыми пятнами выделялись отары овец, охраняемые пастухами. И лишь на дальнем краю горизонта, будто архипелаг белых облаков, слегка подкрашенных лазурью, вырисовывались далекие хребты Пиренеев, чьи очертания были размыты легким осенним туманом.
Местами дорога пролегала между кручами, их склоны белели размытым песчаником, а на гребнях буйно курчавились заросли кустарников, чьи свисающие побеги хлестали по полотняному верху повозки. Местами почва становилась такой рыхлой, что местные жители, пользовавшиеся дорогой, вынуждены были укрепить ее еловыми бревнами, отчего повозку основательно потряхивало, а женщины при этом взвизгивали. Иногда на пути попадались шаткие мостики и непрочные гати через болотины и ручьи. В таких опасных местах Сигоньяк помогал Изабелле, более робкой, чем Серафина и Дуэнья, сойти с повозки. Тиран и Педант, видавшие и не такие виды, безмятежно спали, как ни швыряло между сундуками и баулами. Матамор шествовал рядом с повозкой, чтобы в движении сберечь свою неправдоподобную худобу, о которой он постоянно заботился, и всякий, завидев издали, как он высоко поднимает свои тощие ноги, принял бы его за паука-сенокосца на мокром лугу. Шаги его были так велики, что он то и дело вынужден был останавливаться и дожидаться остальных: привычка комически передвигаться на сцене заставляла его и сейчас изображать из себя какой-то гигантский циркуль.
Повозки, запряженные волами, движутся в ландах неторопливо, так как песок на дороге порой доходит здесь до ступиц колес, а сама дорога отличается от окружающей местности лишь наличием колеи в два фута глубиной. Поэтому, несмотря на то, что терпеливые животные, напрягая все силы, мало-помалу продвигались вперед, понукаемые погонщиком, к полудню путешественники преодолели всего две мили. Правда, это были местные гасконские мили – длинные, как день без какого-либо дела.
Крестьяне – кто с охапкой сена, кто с вязанкой хвороста – попадались все реже, и наконец ланды раскинулись во всей своей безлюдной наготе, столь же дикой, как испанские деспобладос[16] или южноамериканские пампасы.
Не желая больше утомлять своего дряхлого скакуна, Сигоньяк спешился и бросил поводья слуге, чье бронзовое от многолетнего загара лицо побледнело от душевного волнения. Хозяину и верному слуге пришла пора проститься – минута вдвойне тягостная, потому что Пьер знал Сигоньяка со дня его рождения и был ему скорее старшим другом и помощником во всем.
– Да хранит Господь вашу милость! – проговорил Пьер, склонившись к руке, протянутой бароном. – И да поможет он вам вернуть былое благосостояние рода Сигоньяков! А я жалею только о том, что у меня нет возможности сопровождать и оберегать вас!
– Что бы ты делал, мой бедный Пьер, в той неведомой жизни, в которую я вступаю? На такие скудные средства едва ли нам удалось бы прокормиться вдвоем, а в замке ты худо-бедно проживешь: наши арендаторы не позволят умереть с голоду верному слуге их господина. Кроме того, нельзя же оставить замок Сигоньяк на произвол судьбы, чтобы им окончательно завладели стервятники и крысы. Душа этого древнего обиталища еще жива во мне, и, пока сам я жив, у порога нашего родового гнезда должен стоять страж, который не позволит всяким проходимцам метать камни в окна и разбить наш герб.
Пьер понуро наклонил голову в знак согласия. Как многие старые преданные слуги знатных семей, он питал благоговение к обители своих господ, и замок Сигоньяк, несмотря на разруху, нищету и убожество, все еще казался ему великолепнейшим дворцом на свете.
– И потом кто позаботится о Миро и Вельзевуле? О моей верной лошади? – с улыбкой добавил барон.
– Ваша правда, господин барон, – согласился Пьер, беря поводья клячи, которую Сигоньяк на прощание похлопал по холке.
Расставаясь с хозяином, старый конь негромко заржал, и даже после того, как Пьер зашагал по дороге к усадьбе, до Сигоньяка не раз доносился приглушенный расстоянием этот жалобный звук.
Оставшись в одиночестве, барон испытал такое же чувство, как человек, пускающийся в далекое плавание. Друзья остались на берегу, и кто знает, доведется ли их еще увидеть? Это, пожалуй, самые горькие минуты для путешественника. Мир, в котором он жил до сих пор, отступает все дальше, и душе его так одиноко и тоскливо, а глазам до того не терпится увидеть человеческое лицо, что он первым делом спешит присоединиться к попутчикам.
Вот почему молодой барон ускорил шаг и поспешил догнать повозку, которая продвигалась черепашьим шагом; песок скрипел под ее колесами, а ободья, подобно лемехам плуга, вспахивали глубокие борозды.
Приметив Сигоньяка, идущего рядом с повозкой, Изабелла тотчас пожаловалась, что ей надоело сидеть на жесткой скамье, и пожелала размять ноги. В действительности же она хотела одного – легкой болтовней отвлечь молодого человека от тягостных дум и воспоминаний. И, как только девушка оперлась о его руку, печаль, омрачавшая лицо юноши, рассеялась, как туча, насквозь пронизанная солнечным лучом.
Довольно долго молодые люди шли рядом. Изабелла читала Сигоньяку некоторые стихи из своих ролей, которые казались ей слишком неуклюжими и которые следовало бы исправить. Внезапно слева от дороги в зарослях протрубил охотничий рог, под копытами множества коней затрещал валежник, кусты раздвинулись – и на дороге появилась юная Иоланта де Фуа, великолепная, словно Диана Охотница. От быстрой скачки ее лицо разрумянилось, узкие ноздри точеного носа трепетали, а грудь высоко вздымалась под расшитым золотом бархатным корсажем. Порванная в нескольких местах длинная юбка наездницы и многочисленные царапины на боках лошади свидетельствовали, что эта бесстрашная амазонка в пылу охоты скакала, не разбирая дороги. Породистый конь, на котором она сидела, нисколько не нуждался в поощрении и был не менее разгорячен, чем его хозяйка, однако Иоланта горячила его кончиком хлыста с набалдашником из аметиста, на котором был вырезан ее герб, заставляя плясать и вертеться на месте. Это вызвало неудержимый восторг у трех-четырех ее разряженных спутников, которые разразились рукоплесканиями, приветствуя грациозную отвагу прекрасной всадницы.
Наконец Иоланта отпустила поводья и промчалась мимо Сигоньяка, бросив на него взгляд, полный высокомерного презрения.
– Взгляните-ка на барона де Сигоньяка, – крикнула она щеголям, сопровождавшим ее, – он теперь стал рыцарем бродячей комедиантки!
Кавалькада с хохотом унеслась прочь, подняв тучу песка и пыли. Сигоньяк в ярости схватился за рукоять шпаги, но догонять верховых пешком было чистым безумием, да и кому бы он мог бросить вызов – Иоланте?
Впрочем, томная покорность во взгляде юной актрисы вскоре заставила его забыть надменность аристократки.
Остаток дня минул без особых приключений, и к четырем часам пополудни повозка комедиантов добралась до места, где предполагалось остановиться на ночлег…
Тот вечер в замке Сигоньяк был по-особому печален. Лица предков глядели с портретов сумрачней и сварливей, чем обычно, хотя это казалось просто невозможным. Шаги особенно гулко раздавались в пустоте прихожей и под сводами главной лестницы, покои стали как бы еще больше и пустыннее. Ветер зловеще завывал в переходах, а пауки в тревоге и недоумении спускались с потолков на своей паутине. Даже трещины в стенах словно раздвинулись. Старый обветшавший дом понял, что молодой хозяин покинул его, и глубоко огорчился.
Сидя под колпаком очага, Пьер при дымном свете сосновой лучины делил скудный ужин с Миро и Вельзевулом, а на конюшне престарелый белый конь глухо бил копытом в стойле и тыкался мордой в пустую кормушку.
3
Таверна «Синее солнце»
Усталые волы сами остановились перед жалкой кучкой лачуг, которую в другом, не столь диком и отдаленном, месте ни в коем случае нельзя было бы назвать деревней. Селение это состояло из пяти-шести строений, приютившихся под защитой раскидистых деревьев, чьему росту способствовала почва, постоянно удобряемая навозом и всевозможными отбросами. Лачуги были выстроены из глины, хвороста, мелких камней, грубо отесанных бревен и обломков досок и покрыты соломенными кровлями, поросшими мхом и свисавшими почти до земли. Окружали их шаткие навесы, где валялись как попало неуклюжие и облепленные грязью земледельческие орудия. Хижины эти больше походили на свиные хлева, чем на обиталища существ, созданных по образу и подобию божию. Впрочем, здешние свиньи ютились вместе с хозяевами, что лишний раз доказывало отсутствие у этих животных брезгливости.
У дверей хижин топтались ребятишки с раздутыми животами, кривыми ножками и болезненным цветом лица. Одеты они были в рваные рубашонки, слишком короткие спереди или сзади, а то и в распашонки, затянутые шнурками. Собственная нагота нисколько их не смущала, словно обитали в земном раю; глаза под космами нечесаных волос блестели любопытством, как фосфорические зрачки ночных птиц сквозь гущу ветвей. Было заметно, как страх перед чужаками борется в них с соблазном. Им хотелось убежать и спрятаться за какой-нибудь изгородью, но чудесная повозка и ее содержимое словно волшебством удерживали их на месте.
Чуть подальше, на пороге своей лачуги, тощая и мертвенно бледная женщина с обведенными свинцовой синевой глазами укачивала голодного младенца. Ребенок терзал чахлую материнскую грудь, в которой не оставалось ни капли молока. Это задавленное нищетой и явно еще молодое создание мрачным и тупым взглядом уставилось на комедиантов, должно быть не очень понимая, что именно она видит. Сморщенная и сгорбленная старуха, подобие Гекубы, супруги троянского царя Приама, устроилась возле дочери и впала в задумчивую полудремоту, опершись подбородком о колени и обхватив костлявые колени руками, словно древнеегипетское изваяние. Женщина эта была похожа на анатомический препарат, давным-давно позабытый в лабораторном шкафу рассеянным хирургом: суставы ее пальцев походили на игральные кости, раздутые вены сплелись в тугие узлы, сухожилия натянулись, как гитарные струны. От кистей до плеч руки ее напоминали тощие палки, на которых болталась пергаментная кожа, собранная на сгибах глубокими поперечными складками. Пучки щетины торчали на подбородке старухи, уши поросли седым пухом, а брови, словно ползучие растения над входом в пещеру, нависали над глазными впадинами, в которых прятались под морщинистыми веками тусклые зрачки. Безгубый и беззубый рот превратился в едва заметную щель, прятавшуюся во впадине, к которой сбегались со всех сторон лучи морщин.
При виде этого столетнего пугала Педант воскликнул:
– Что за чудовищный, зловещий и отвратительный образ старости! Даже парки[17] показались бы свежими бутончиками рядом с ней! На такую заплесневелую особу даже живая вода не подействует. Это поистине мать Вечности, и само Время успело поседеть с тех пор, как она родилась, если, конечно, мир божий не был сотворен после ее рождения. Ну почему не довелось увидеть ее досточтимому Алькофрибасу Назье[18], когда он создавал свою Панзуйскую сивиллу или ту старуху с лисьим хвостом, которую потрепал лев? Тогда бы он воочию убедился, каким бесчисленным количеством морщин, изъянов, борозд, рытвин и ям может обладать человеческая руина, и превосходно описал бы ее. Эта карга, я уверен в этом, была хороша собой в пору юности, ибо самые старые уродины получаются из самых соблазнительных молодых красоток. Вот и урок для вас, сударыни, – продолжал Педант, обращаясь к Изабелле и Серафине, которые прислушивались к его пространному монологу. – Достаточно шестьдесят раз зиме сменить лето – и вы обратитесь в кошмарных старых ведьм, подобных этой мумии, выползшей из своего саркофага. Как подумаю об этом, прямо тоска берет! Но при этом мне становится вдвое милее моя собственная гнусная рожа, из которой никогда не выйдет трагической маски, а с годами лишь ярче проступит комическая сторона ее безобразия!..
Молодые женщины не любят, когда перед ними возникают, пусть даже в самом туманном будущем, картины старости, болезней или безобразия, что, в сущности, одно и то же. Поэтому обе актрисы, пожав плечами, отвернулись от Педанта, будто им надоела эта глупая болтовня, и направились к повозке, с которой как раз сгружали поклажу. Отвечать что-либо Педанту было излишним: не пощадив собственной внешности, старый шут заранее отмел всякие возражения. Кстати, он нередко прибегал к такой уловке, чтобы язвить и зубоскалить совершенно безнаказанно.
Верные безошибочному инстинкту, который приводит любое животное туда, где его накормили и дали передохнуть, волы остановились перед одним из самых примечательных домов в деревне. Он самоуверенно высился на самом краю дороги, куда не решались сунуться прочие лачуги, стыдясь своей убогой наготы и прикрывая ее купами зелени, точно незадачливые деревенские девицы, застигнутые врасплох во время купания. Сознавая свое превосходство над другими местными постройками, таверна эта старалась привлечь к себе взгляды и, точно руку, простирала свою вывеску над дорогой, надеясь остановить и удержать проезжих.
Вывеска, укрепленная на кованом кронштейне, на котором при нужде можно было бы повесить преступника, была обычным листом ржавой жести, раскачивающимся и скрипящим на ветру. Заезжий живописец-ремесленник изобразил на ней наше дневное светило, но не золотом, а густо-синей краской наподобие тех теней, которыми геральдическое искусство украшает поля гербов. Что вынудило мастера избрать синее солнце эмблемой этого приюта странников? Стремление к оригинальности или отсутствие подходящих материалов? Последнее более правдоподобно: скорее всего, в распоряжении живописца имелась только синяя краска, а чтобы пополнить свои запасы, ему надо было совершить долгое путешествие в какой-нибудь крупный город. Поэтому во всей округе мало-помалу умножилось поголовье синих львов, синих лошадей и синих петухов на вывесках разнообразных харчевен, постоялых дворов и винных лавок. Китайцы, которым нравится, когда артист не слишком подражает природе, наверняка бы одобрили его рвение.
Таверна «Голубое солнце», она же постоялый двор, была крыта черепицей, местами старой и потемневшей, а местами еще совершенно свежей, что свидетельствовало о недавнем ремонте и о том, что в комнатах по крайней мере не течет с потолка в скверную погоду. Обращенная к дороге стена здания была оштукатурена, и эта штукатурка более или менее скрывала трещины и осыпи кладки, придавая таверне вполне опрятный вид. Перекрещенные балки фахверка[19], по обычаю басков, были окрашены в красный цвет. Остальные стены, в отличие от фасада, сохраняли естественный землистый оттенок необожженной глины. Окно в парадном покое было застеклено – большая редкость по тем временам и для тех краев; остальные оконные рамы были затянуты реденькой холстиной или промасленной бумагой, либо закрывались на ночь ставнями, окрашенными в тот же цвет, что и балки фасада.
Примыкавший к дому каретный сарай мог вместить изрядное количество повозок и лошадей. Охапки сена торчали между перекладинами яслей, как между зубьями огромных зубьев гребня, а длинные водопойные корыта, выдолбленные из старых еловых стволов, были наполнены темной торфянистой водой, явно почерпнутой из ближайшего болотца.
Таким образом, у хозяина всего этого великолепия – дядюшки Чирригири – были все основания утверждать, что на десять миль в округе не найти таверны с такими удобными комнатами, с такими запасами снеди и живности, с таким жарким очагом и мягкими постелями, с таким убранством, обилием утвари и посуды, как в «Голубом солнце». На этот счет он и сам не обманывался, и других не вводил в заблуждение, ибо ближайший постоялый двор находился на расстоянии как минимум двух дневных пеших переходов.
Между тем барон де Сигоньяк испытывал мучительные колебания – он все еще стыдился показываться на людях в обществе бродячих комедиантов и поэтому медлил, не решаясь переступить порог таверны, тогда как Педант, Тиран, Матамор и Леандр из почтения к его титулу выстроились у дверей, пропуская молодого человека вперед. И только Изабелла, угадав причину смущения барона, приблизилась к нему с решительным и слегка обиженным выражением на лице:
– Ах, господин барон, – воскликнула она, – я вижу, вы относитесь к женщинам с большей холодностью и подозрительностью, чем Иосиф Прекрасный и Ипполит! Не угодно ли вам предложить мне руку и ввести меня в эту гостиницу?
Сигоньяк учтиво поклонился и поспешил исполнить желание Изабеллы. Девушка кончиками тонких пальцев взялась за потертую манжету барона, легким пожатием ободрив его. Эта дружественная поддержка вернула ему мужество, и он вступил в таверну с победоносным видом – пусть хоть весь мир сейчас таращится на него. Ведь в нашей прекрасной Франции тот, кто сопровождает прелестную женщину, может вызвать лишь зависть, но уж никак не смех.
Хозяин тотчас поспешил навстречу постояльцам и с несколько излишним красноречием, изобличающим близость Испании, предоставил свои владения в их распоряжение. Могучая грудь этого крепыша-баска буквально выпирала из кожаной матросской куртки, стянутой на бедрах широким поясом с медной пряжкой. Месье Чирригири походил бы на закоренелого контрабандиста, но подоткнутый передник и кухонный нож в деревянных ножнах на бедре – атрибуты расторопного повара – как бы смягчали его устрашающий облик, а радушная открытая улыбка уравновешивала сомнительное впечатление, которое производил глубокий шрам, пересекавший лоб хозяина и терявшийся в щетке его густых волос.
Снимая басконский берет и отвешивая поклон, Чирригири невольно открывал для обозрения эту страшную отметину и собранную рубцами кожу по краям шрама, которая так и не смогла полностью затянуть жуткую рану. Надо было обладать недюжинной крепостью, чтобы душа не отлетела через такую пробоину, но Чирригири как раз и был здоровенным малым, а душа его ничуть не торопилась выяснить, что ей уготовано на том свете. Некоторые робкие и недоверчивые путники, возможно, сочли бы ремесло хозяина таверны всего лишь прикрытием для молодца с такой физиономией, но, как мы уже сообщили читателю, «Голубое солнце» было единственным сносным приютом в этих пустынных местах.
Покой, в который вступили Сигоньяк и комедианты, был далеко не так великолепен, как его описывал Чирригири: пол в нем был земляным, а возвышение в центре оказалось не чем иным, как сложенным из крупных камней очагом. Дыра в потолке, перекрытая кованой решеткой, с которой на цепи свешивался крюк для котла, заменяла и колпак, и дымовую трубу, поэтому все верхняя часть этого помещения скрывалась в клубах дыма, медленно уходившего в отверстие, если, конечно, ветер не загонял его обратно. Дым оседал на потолочных балках слоем копоти, какой иной раз можно увидеть на старинных жанровых картинах, и это создавало резкий контраст со свежей штукатуркой фасада.
С трех сторон очага были расставлены деревянные скамьи, устойчивость которых поддерживалась брусками дерева и обломками кирпича, так как пол был бугрист, словно кожа исполинского апельсина. Четвертая сторона оставляла повару свободный доступ к котлу и пламени очага. Там и сям виднелись стулья – странные сооружения, состоявшие из трех колышков, вделанных в округлую дощечку-сиденье, причем один из колышков проходил через сиденье насквозь и поддерживал крохотную поперечинку, которая при нужде могла служить опорой для спины людям неизбалованным. Человек же более требовательный к удобствам наверняка счел бы такую мебель орудием пытки. В углу виднелось некое подобие ларя, завершавшее обстановку, в которой грубость материалов словно состязалась с топорностью работы. Сосновые лучины, вставленные в железные светцы, озаряли помещение красноватым пламенем, и чад от них, поднимаясь, смешивался с клубами очажного дыма. Кровавые блики вспыхивали в темноте на медных кастрюлях и сковородах, висевших по стенам наподобие щитов на бортах римской триремы – и пусть читатель не сочтет это сравнение чрезмерно возвышенным для предметов подобного рода. Большой полупустой бурдюк распластался на полке, как обезглавленное тело. С потолка на еще одном железном крюке зловеще свисал длинный пласт копченого сала, в дыму приобретавший пугающее сходство с висельником.
Вопреки похвальбе хозяина, у этого мрачного вертепа был весьма отталкивающий вид, и одинокому путнику невольно приходили на ум крайне неприятные мысли, вплоть до опасений, что в обычное для здешних мест меню входит паштет из беззащитных постояльцев. Однако труппа комедиантов была слишком многочисленна и сплоченна, чтобы такие страхи могли овладеть ею – эти славные лицедеи в своей кочевой жизни видывали и не такое!
Когда актеры вступили в таверну, на краешке одной из скамей дремала девочка лет восьми или девяти, с виду – сущий заморыш. Она сидела, привалившись к спинке скамьи и свесив голову на грудь, так что спутанные пряди длинных волос закрывали ее лицо. Жилы на ее худенькой шейке, похожей на шею ощипанного цыпленка, напряглись от тяжести всклокоченной головы, руки бессильно свисали, вывернутые ладонями наружу, а скрещенные ноги болтались, не доставая до пола. Эти тонкие, как спички, ноги, с изящными и маленькими от природы ступнями, никогда не знавшие обуви, под влиянием стужи, солнца и ветра приобрели кирпичную окраску. Бесчисленные царапины, свежие и почти зажившие, служили доказательством постоянных странствий в зарослях и чащах колючих кустарников.
Простецкий наряд девочки состоял всего из двух предметов: рубахи из такого грубого холста, какой не годится даже для парусов, и желтого балахона без рукавов, скроенного на арагонский лад из старой материнской бумазейной юбки. Вышитая разноцветной шерстью птичка, обычное украшение подобных юбок, уцелела, ибо прочные шерстяные нити скрепляли прохудившуюся ткань, но производила странное впечатление. Птичий клюв располагался на талии девочки, лапки – у нижней кромки, а тельце, полускрытое складками, имело причудливую форму, как у химер на старинных византийских мозаиках.
Изабелла, Серафина и Субретка уселись на скамью рядом с девочкой, но даже их общая тяжесть оказалась не в состоянии уравновесить массивный корпус Дуэньи, усевшейся на другом конце. Мужчины расселись на других скамьях – на почтительном расстоянии от барона.
Несколько охапок хвороста оживили очаг; огонь загудел, и треск сухих веток, корчившихся в пламени, взбодрил путников, утомленных безостановочным движением на протяжении всего дня. К тому же некоторые из них уже исподволь ощущали воздействие нездоровых болотных испарений, которые особенно губительны в этой местности, окруженной застойными водами.
Месье Чирригири учтиво приблизился к гостям, придав своей зверской физиономии самый приветливый вид.
– Чем прикажете попотчевать вас, господа? Обычно-то у нас есть все, чем можно угодить даже самым знатным гостям. Какая жалость, что вы не приехали хотя бы вчера! Я приготовил кабанью голову с фисташками и пряностями, и она была до того хороша на вид и на вкус, что к сегодняшнему дню от нее не осталось ровным счетом ничего!
– В самом деле, весьма прискорбно, – заметил Педант, облизываясь от одной мысли о подобном деликатесе. – Кабанья голова с фисташками – мое любимейшее блюдо. Уж я бы с огромной охотой испортил бы ею собственный желудок!
– А что бы вы сказали о паштете из дичи, который умяли посетившие мое заведение сегодня утром господа, не оставив ни корочки, ни крошки?
– Я бы сказал, месье Чирригири, что то была великолепная еда, и воздал бы должное несравненному искусству повара. Но позвольте узнать, с какой стати вы разжигаете наш аппетит миражами блюд, от которых остались одни воспоминания? Вместо этих миражей, неспособных нас подкрепить, назовите-ка лучше те блюда, которые у вас имеются. Ибо, когда речь заходит о кухне, прошедшее время вызывает только досаду, а голодному желудку милее всего изъявительное наклонение настоящего времени. К черту прошедшее, там только отчаяние и длительный пост! Пожалейте же горемык, усталых и голодных, как псы, целый день гонявшие оленя, и не терзайте нас рассказами об усопших яствах!
– Вы правы, месье, воспоминаниями сыт не будешь, – подтвердил Чирригири, – я всего лишь сокрушаюсь, что так неосмотрительно растратил свои запасы. Еще вчера моя кладовая ломилась от снеди, а не далее как два часа назад я имел неосторожность отправить в замок шесть горшочков паштета из гусиной печени. И какая это была печень – великолепная, лакомая, поистине грандиозная!
– Из тех блюд, которые достались вашим более удачливым гостям и постояльцам, можно было бы устроить брачный пир в Кане Галилейской! Но не мучайте нас больше! Без всяких риторических отступлений и фигур речи сообщите нам, что у вас осталось после того, как вы столь блестяще описали то, что у вас было.
– Я готов. У меня есть похлебка с гусиными потрохами и капустой, окорок и треска, – отвечал содержатель таверны, готовый покраснеть от растерянности и смущения, словно добрая хозяйка, которую застал врасплох муж, неожиданно вернувшийся домой с целой толпой гостей, пригласив их отобедать.
– В таком случае, – хором вскричала вся оголодавшая труппа, – давайте поскорее треску, давайте окорок, давайте похлебку!
– Зато какова, скажу я вам, моя похлебка! – взбодрившись, раскатистым басом подхватил хозяин. – Гренки поджарены на чистейшем гусином жиру, цветная капуста на вкус – чистая амброзия, в Милане не сыщешь подобной, на заправку пошло сало до того белое, словно снег на вершине Маладетты. Это не похлебка вовсе, а пища богов!
– У меня уже слюнки текут! Подавайте же ее скорее, не то у меня судороги начнутся с голоду! – возопил Тиран с видом людоеда, почуявшего свежую кровь.
– Сагаррига, живо накрывай на стол в большой комнате! – рявкнул месье Чирригири слуге, скорее всего воображаемому, поскольку тот не подал ни малейших признаков жизни, несмотря на настойчивый призыв своего господина. И тут же добавил: – Я уверен, что и ветчина придется по вкусу вашим милостям, поскольку она вполне может соперничать с лучшими ламанчскими и байоннскими окороками. Она как следует уварена в каменной соли, и до чего же аппетитно это мясо, прослоенное розовым жиром!
– Мы верим вам, как Священному Писанию, – перебил Педант, окончательно теряя терпение, – но подавайте же наконец эту вашу диковинную ветчину, иначе здесь не миновать людоедства, как на потерпевших кораблекрушение судах! А ведь мы пока не совершили ни одного преступления, как небезызвестный Тантал[20], и не за что нас истязать призраками неуловимых кушаний!
– Ваша правда, месье, – невозмутимо ответствовал Чирригири. – Эй вы, там, кухонная братия! Пошевеливайтесь, поворачивайтесь, поторапливайтесь! Благородные гости проголодались и не желают ждать ни минуты!
«Кухонная братия» не отозвалась в точности так же, как и упомянутый выше таинственный Сагаррига, по той уважительной причине, что ее вообще не существовало. Единственной прислугой в таверне была высокая, тощая, вечно растрепанная девушка по имени Мионетта, а мнимая челядь, которую беспрестанно окликал месье Чирригири, по его мнению, придавала его заведению солидность, оживляла его и оправдывала непомерно высокую плату за ужин и ночлег. Хозяин «Голубого солнца» до того привык к этому трюку с несуществующими слугами, что и сам уверовал в их существование и порой даже удивлялся, почему они не требуют жалованья. Впрочем, за такую деликатность он мог быть им только признателен.
Судя по вялому перезвону посуды в соседней комнате, ужин еще не был готов, и, желая выиграть время, трактирщик принялся восхвалять треску – эта тема поистине требовала незаурядного красноречия. К счастью, месье Чирригири владел искусством приправлять пресные блюда пряностями своих речей.
– Вы, господа, очевидно, полагаете, что треска – блюдо простонародное и самое заурядное, и не ошибаетесь. Но есть треска и треска. Что касается этой, то она была поймана у самой Новой Земли и выловил ее самый отважный из всех моряков, живущих на берегах Гасконского залива. Эта треска – отборная, белая, удивительного вкуса, без костей, приобретающая особые достоинства, если зажарить на оливковом масле, которое обычно идет к семге, тунцу и сарганам. Наш святейший отец Папа Римский – да отпустит он нам все прегрешения! – не употребляет в пост никакой другой рыбы, кроме этой трески, а постится он по пятницам и субботам и во все другие дни, когда ему надоедает дичь. Пьер Леторба, мой поставщик, снабжает также и его святейшество. Папской треской, черт побери, пренебрегать не годится, и вы, господа, надеюсь, не побрезгуете ею, на то вы и добрые католики!
– Для нас весьма лестно отведать папской трески, – ответил Педант. – Но, дьявол бы меня побрал, когда же эта благословенная рыбка соблаговолит прыгнуть в наши тарелки? Ведь мы, того и гляди, превратимся в дым и туман, как призраки на утренней заре, едва пропоет петух!
– Не годится есть жаркое перед супом. С точки зрения гастрономического искусства это все равно, что ставить повозку впереди лошади, – заметил Чирригири с величайшим презрением. – Если вы, господа, получили хорошее воспитание, то ни в коем случае не совершите подобный опрометчивый поступок. Терпение и еще раз терпение! Похлебка должна покипеть еще минуту-другую!
– Рога дьявола и пупок папы! – нетерпеливо взревел Тиран. – Я согласен даже на самый спартанский супчик, лишь бы его подали немедленно!
Один лишь барон де Сигоньяк хранил молчание и не выражал ни малейшего нетерпения, ведь накануне он поужинал! Постоянно недоедая в своем замке, он достиг высоких степеней монашеского воздержания, и столь частое употребление пищи было его желудку в диковинку. Изабелла и Серафина тоже помалкивали, ибо жадность к пище не к лицу молодым дамам, которые должны, как считают романтические поэты, насыщаться росой, нектаром и цветочной пыльцой. А озабоченный поддержанием своей худобы Матамор вообще был в восторге оттого, что ему удалось затянуть пояс на следующую дырку, в которой вполне свободно гулял язычок пряжки. Леандр то и дело зевал, щеголяя отменными зубами, Дуэнья дремала, и три складки дряблой кожи выпирали валиками из-под ее склоненного на грудь подбородка.
В это время девочка, спавшая на дальнем конце скамьи, проснулась и вскочила. Когда она откинула со смуглого лица свои черные как смоль волосы, стало видно, что сквозь бронзовый загар проглядывает восковая бледность – тусклая, въевшаяся в плоть бледность нищеты. Ни кровинки не было на ее щеках с резко очерченными скулами. Потрескавшиеся обветренные губы девочки были покрыты мелкими чешуйками, а болезненная улыбка открывала мелкие перламутровые зубки. Вся ее жизнь была сосредоточена в глазах.
Эти глаза казались огромными на худеньком детском личике, а тени, ореолом окружавшие их, лишь подчеркивали лихорадочный и таинственный блеск темных зрачков. Белки казались почти голубыми, их резко оттеняли густые длинные ресницы. В ту минуту эти удивительные глаза были словно прикованы к украшениям Изабеллы и Серафины и выражали одновременно детский восторг и свирепую алчность. Маленькая дикарка, разумеется, не подозревала, что все эти мишурные драгоценности не имеют никакой цены. Сверкание золотого галуна и переливы поддельного жемчуга ослепили и зачаровали малышку. Должно быть, за всю свою жизнь она не видела такого великолепия. Ноздри ее хищно раздувались, едва заметный румянец выступил на щеках, недобрая усмешка искривила бледные губы, а зубы временами начинали дробно стучать, словно от лихорадочного озноба.
Никто не обратил ни малейшего внимания на эту маленькую кучку старого тряпья, сотрясаемого нервной дрожью, а ведь это бледное детское личико искажала гримаса таких страстей, что впору было испугаться!
Не в силах преодолеть жгучее любопытство, малышка протянула смуглую ручонку, тонкую и холодную, как лапка обезьянки, коснулась платья Изабеллы и пощупала ткань с нескрываемым наслаждением и каким-то даже сладострастием. Видимо, этот поношенный и местами облысевший бархат сейчас казался девочке самым богатым, самым мягким и прекрасным на свете!
Хотя прикосновение было едва заметным, Изабелла обернулась, увидела малышку и дружелюбно улыбнулась ей. Почувствовав на себе взгляд, девочка мгновенно придала своему личику прежнее тупое и бессмысленное выражение, продемонстрировав такое врожденное мастерство, которое сделало бы честь даже искушенной в своем ремесле актрисе.
– Ну прямо как покров Богоматери на алтаре!.. – протянула она тоненьким сонным голоском.
Затем, опустив густые, как черная бахрома, ресницы, она снова откинулась на спинку скамьи, сложила руки на груди, переплела пальцы и притворилась, что снова спит, сморенная усталостью.
Долговязая неряха Мионетта наконец-то объявила, что ужин готов, и вся компания перешла в соседнюю комнату.
Комедианты воздали должное кухне месье Чирригири и, хотя на столе не было никаких деликатесов, их голод был утолен, равно как и жажда – мужчины подолгу припадали к бурдюку, который после знакомства с ними окончательно опал, словно волынка, из которой вышел весь воздух.
Они уже собирались встать из-за стола, когда на улице послышались яростный лай собак и топот копыт. Затем прогремел троекратный стук в дверь, столь властный и нетерпеливый, что сразу стало ясно: новый гость не из тех, кто привык долго ждать. Мионетта бросилась в прихожую и торопливо отодвинула засов. Дверь распахнулась, и в таверну вошел мужчина, окруженный сворой охотничьих собак. Те, едва не сбив с ног служанку, тотчас принялись метаться, прыгать, скакать и вылизывать остатки пищи с тарелок, в два счета выполнив работу пары судомоек.
Под воздействием хозяйского хлыста, настигавшего без разбора правых и виноватых, вся эта суматоха, как по волшебству, улеглась. Собаки забились под скамьи, тяжело дыша и вывалив языки, иные из них свернулись клубком или вытянулись, положив головы на лапы. А новый гость, державшийся с уверенностью человека, который повсюду чувствует себя как дома, гремя шпорами проследовал в комнату, в которой ужинала бродячая труппа. Хозяин, комкая в кулаке берет, семенил за ним с видом робким и заискивающим, хотя прежде казался человеком не робкого десятка.
Приезжий остановился на пороге, небрежно коснулся перчаткой полей шляпы и обвел равнодушным взглядом комедиантов, которые, в свою очередь, учтиво раскланялись.
С виду ему можно было дать лет тридцать или тридцать пять. Длинные и вьющиеся белокурые волосы незнакомца обрамляли жизнерадостную физиономию, раскрасневшуюся от ветра и быстрой скачки. Глаза у него были ярко-голубые, блестящие и слегка выпуклые, нос слегка вздернутый и раздвоенный на кончике. Рыжеватые короткие усы, напомаженные и закрученные вверх в форме запятых, служили как бы дополнением к эспаньолке, напоминавшей листок артишока. Между усами и бородкой улыбались румяные губы, причем тонкая верхняя сглаживала впечатление брезгливой чувственности, которое производила полная и яркая, изогнутая в форме лука и слегка оттопыренная нижняя. Подбородок был круто срезан, отчего эспаньолка стояла дыбом.
Когда этот господин, сняв шляпу, бросил ее на скамью, стал виден гладкий белый лоб, обычно прикрытый от жгучих солнечных лучей полями шляпы. Из этого можно было сделать вывод, что у его обладателя в прошлом, еще до того, как он покинул двор ради деревенской жизни, был весьма нежный, почти девичий цвет лица. В целом облик незнакомца оставлял приятное впечатление: веселость бесшабашного гуляки смягчала высокомерное и пренебрежительное выражение, присущее вельможам, а элегантный костюм свидетельствовал, что маркиз – ибо таков был титул нового гостя таверны – даже из этой глуши умудрялся не терять связи с лучшими парижскими портными.
Широкий кружевной воротник лежал на отворотах его короткого камзола из ярко-желтого тонкого сукна, расшитого серебряным аграмантом[21]. В разрезе камзола виднелись пышные волны тончайшей батистовой нижней рубахи, ниспадавшей на пояс панталон. Рукава сшитого точно по фигуре камзола открывали рубаху и ее кружевные манжеты до локтя; голубые просторные панталоны, украшенные спереди лентами соломенного цвета, спускались чуть ниже колен – до голенищ сафьяновых сапожек для верховой езды с серебряными шпорами. Голубой, как и панталоны, плащ, отороченный серебряным галуном и подхваченный на одном плече застежкой с шелковым бантом, довершал наряд – возможно, слишком щегольской для этого места и времени года. Однако тому было серьезное оправдание: маркиз был приглашен на охоту красавицей Иолантой де Фуа и по этому случаю разрядился в пух и прах, желая поддержать свою давнюю славу одного из самых изысканных столичных модников.
– Корму – собакам, овса – лошади, ломоть хлеба с ветчиной – мне и каких-нибудь объедков – моему егерю! – весело гаркнул маркиз, присаживаясь к столу рядом с Субреткой, которая приветствовала столь великолепного кавалера пылким взглядом и неотразимой улыбкой.
Месье Чирригири поставил перед гостем оловянный прибор и кубок, который Субретка не замедлила наполнить до краев, а маркиз осушил одним махом. Несколько минут у него ушло на то, чтобы утолить жестокий охотничий голод, который по своей свирепости равен тому, что древние греки зовут булимией[22]. Затем маркиз обвел взглядом стол и обнаружил сидевшего рядом с Изабеллой барона де Сигоньяка, которого он знал в лицо и всего несколько часов назад встретил на дороге, когда вместе с другими участниками охоты разминулся с повозкой комедиантов.
Барон что-то шептал Изабелле, а та улыбалась ему той тонкой, едва уловимой улыбкой, которую можно назвать духовной лаской. Подобная улыбка выражает скорее симпатию, чем веселье или глубокое чувство, но она не могла обмануть человека, привыкшего к женскому обществу, а опыт такого рода у маркиза имелся в избытке. Отныне его уже не удивляло присутствие Сигоньяка в бродячей актерской труппе и презрение, которое прежде внушал ему убогий вид нищего барона, отступило. Намерение следовать за возлюбленной в колеснице Феспида, подвергаясь всем неудобствам, комическим и драматическим превратностям кочевой жизни, представилось ему теперь проявлением романтического склада души и широты натуры молодого человека.
Поэтому маркиз лишь кивнул, дав понять Сигоньяку, что узнал его и сочувствует его намерениям; однако как человек светский не стал открывать инкогнито барона и занялся Субреткой, осыпав ее фейерверком комплиментов, отчасти искренних, отчасти шутливых, на которые та отвечала остроумно и в тон, заразительно смеясь и пользуясь случаем предъявить свои великолепные жемчужные зубки.
Эта встреча в трактире кое-что обещала, и маркиз внезапно решил показать себя страстным любителем и глубоким знатоком театрального искусства. Он принялся сетовать на то, что лишен в деревне наслаждения сценой, которое питает ум, оттачивает речь, учит изысканным манерам и совершенствует нравы. Затем, обращаясь к Тирану – очевидно, приняв его за главу труппы, – маркиз осведомился, нет ли у того иных обязательств, которые помешали бы его актерам представить несколько лучших пьес из своего репертуара в замке Брюйер, где проще простого соорудить подмостки в бальной зале или в оранжерее.
Тиран, добродушно ухмыляясь в свою окладистую бороду, смахивающую на конскую гриву, прогудел, что ничего не может быть легче. Его труппа – одна из наилучших в провинции, и сам он готов служить его светлости. После чего с притворным лукавством добавил, что все они в распоряжении маркиза, начиная от Короля и заканчивая Субреткой.
– Превосходно! – воскликнул маркиз. – А с оплатой затруднений не возникнет – цену назначьте сами. Мыслимое ли дело – торговаться с самой Талией, музой театрального искусства, которую чтит не только Аполлон, но и высоко ценят при дворе, в столице и даже в этом захолустье, где обитают не такие уж неотесанные увальни, как принято считать в Париже.
Произнеся это и напоследок многозначительно стиснув под столом колено Субретки, которая ничуть этим не смутилась, маркиз поднялся из-за стола, надвинул шляпу до бровей, простился с актерами и ускакал в сопровождении егеря и своры гончих. Он спешил опередить труппу, чтобы отдать необходимые распоряжения для ее приема в замке Брюйер.
Время было уже позднее, а в путь предстояло тронуться ранним утром, ибо замок маркиза находился в четырех милях от таверны «Голубое солнце». И если породистому скакуну ничего не стоит одолеть это расстояние в самый короткий срок, усталые волы по песчаным дорогам будут тащиться куда дольше.
На этом дамы удалились в чулан за перегородкой, где на полу было постелено свежее сено; мужчины же остались в большой комнате и, как сумели, расположились на скамьях, табуретах и составленных вместе стульях.
4
Пугала для птиц
Вернемся теперь к нищей малышке, которую мы оставили спящей на скамье глубоким, но скорее всего притворным, сном. Мы имеем полное право на некоторое недоверие, ибо помним ту свирепую жадность, с какой ее горящие глаза пожирали жемчужное колье Изабеллы, поэтому попытаемся проследить за этим полудиким ребенком.
И действительно, как только комедианты разошлись, девочка медленно приподняла свои густые ресницы, обвела пронзительным взглядом все углы комнаты и, убедившись, что здесь уже никого нет, свесила ноги со скамьи, выпрямилась, привычным движением отбросила назад спутанные волосы и, словно тень, скользнула к двери. Открыв ее без малейшего шума, она с теми же предосторожностями закрыла ее за собой, стараясь, чтобы щеколда не опустилась слишком быстро и не звякнула. Затем она беззвучно прокралась вдоль изгороди и обогнула ее.
Убедившись, что никто ее не заметил и таверна осталась позади, девочка бросилась бежать со всех ног, на ходу перепрыгивая через канавы со стоячей водой, стволы поваленных деревьев и так же легко преодолевая густые заросли вереска. Длинные пряди волос хлестали ее по щекам, как черные змеи, и время от времени, падая на лицо, закрывали обзор. Тогда она, не останавливаясь, снова и снова, отбрасывала их назад нетерпеливым жестом. Впрочем, эти неутомимые ножки, как казалось временами, были способны находить знакомую дорогу и без помощи зрения.
Насколько можно было судить в мертвенном свете луны, занавешенной полупрозрачной тучей, словно густой вуалью, местность вокруг была необычайно мрачная и зловещая. Одинокие сосны, стволы которых были испещрены глубокими зарубками для добывания живицы, придавали деревьям сходство с казненными, чьи раны еще кровоточат. Далее простирались темно-фиолетовые вересковые пустоши, над которыми клубился зеленоватый туман, казавшийся в лучах ночного светила толпой привидений, что само по себе могло вселить ужас в людей суеверных или не знакомых с особенностями природы этих диких мест.
Девочка, должно быть давно привыкшая к подобным фантасмагориям, без всякого страха продолжала стремительный бег. Наконец она достигла вершины небольшого холма, увенчанного двумя-тремя десятками елей, образующих совершенно темную рощицу. С тем же проворством, без следа усталости, она поднялась по крутому склону на вершину и зорко оглядела покрытые мраком окрестности. Не обнаружив никаких признаков человеческого присутствия, она сунула два пальца в рот и троекратно свистнула. От подобного посвиста путник, пробирающийся ночью в лесном краю, непременно вздрагивает, хоть и приписывает его совам-неясытям или другим вполне безобидным тварям. Если бы не паузы, подражание голосу дикой птицы могло бы показаться совершенным.
Вскоре неподалеку зашевелилась куча сухих листьев, затем приподнялась, встряхнулась, как просыпающийся зверь, и перед девочкой выросла мужская фигура.
– Это ты, Чикита? – послышался хрипловатый голос. – Что у тебя нового? Я уже перестал тебя ждать, вот и вздремнул малость…
Тот, кого разбудил сигнал Чикиты, оказался жилистым малым лет двадцати пяти-тридцати, сухощавым, подвижным и, казалось, готовым на любое дело. Он мог бы оказаться браконьером, контрабандистом, тайным варщиком соли, вором и даже разбойником. И в самом деле: этими благородными ремеслами он занимался либо попеременно, либо всеми сразу – смотря по обстоятельствам.
Облака разорвались, и бледный свет луны упал на него, как луч света из потайного фонаря. Если бы здесь присутствовал посторонний наблюдатель, теперь он мог бы хорошо рассмотреть его физиономию и наряд. Лицо мужчины – он носил имя Огастен – было темно-бронзовым, как у дикого индейца-кариба, глаза мерцали, как у хищной птицы, а зубы с необыкновенно острыми и длинными клыками сделали бы честь даже молодому волку. Лоб его был туго повязан свернутым платком, словно у раненого, а из под этого платка выбивались густые и жесткие кудри, торчавшие на макушке, словно иглы дикобраза. Корпус мужчины облегал синий бархатный жилет, вылинявший до блеклой голубизны от долгого употребления и усыпанный пуговицами, изготовленными из мелких медных монеток. Широкие холщовые штаны болтались вокруг икр, мускулистых и сухих, как у оленя, и вдобавок стянутых ремнями альпаргат[23]. Костюм его дополнял широкий пояс из красной шерсти, обернутый вокруг тела несколько раз и основательно вздутый на животе – там, очевидно, находились касса и кладовая этой продувной бестии. Сзади из-за пояса торчала громадная валенсийская наваха[24] – одна из тех, чей клинок удерживается медным колечком, а на лезвии столько красных бороздок, сколько убийств на счету владельца. Мы не знаем, сколько пурпурных бороздок имелось на навахе Огастена, но, судя по его внешности, далеко не одна.
Таков был человек, с которым Чикита поддерживала какие-то таинственные отношения.
– Ну как, малышка? Видела ты что-нибудь любопытное в таверне дядюшки Чирригири? – спросил Огастен, ласково проводя мозолистой ладонью по растрепанным волосам девочки.
– К нему приехала большая повозка, запряженная волами и битком набитая людьми, – ответила Чикита. – В сарай внесли пять большущих сундуков, наверно очень тяжелых, ведь чтобы нести каждый, понадобилось два человека.
Огастен хмыкнул.
– Случалось мне видеть, как путешественники для пущей важности набивают сундуки камнями!
– Но у трех молодых дам платья обшиты золотым позументом, – быстро возразила Чикита. – А у самой молодой и красивой на шее нитка белых зерен, и большущих! При свечах они отливают серебристо-розовым цветом, и какая же это красота, какая роскошь!
– Жемчуг, надо полагать! Что ж, недурно! – пробормотал сквозь зубы бандит. – Только б не оказался фальшивым. Теперь его подделывают направо и налево, в особенности в Венеции, а у нынешних господ-любезников нет никаких правил!
– Огастен, голубчик! – вкрадчиво продолжала Чикита. – Когда ты перережешь горло этой красивой даме, отдашь мне ожерелье?
– Только жемчуга на шее тебе и не хватало! Хорош был бы он рядом с твоей замурзанной мордашкой, лохматой головой, драной рубашонкой и юбкой цвета взбесившейся канарейки!
– Ты забыл, сколько раз я выслеживала для тебя добычу?! Сколько бегала по ночам по ледяной росе, и когда поднимался туман с болот, лишь бы вовремя тебя предупредить! И ни разу я не оставила тебя голодным, таскала еду в твои убежища, хоть сама и щелкала зубами от лихорадки, как аист клювом, и из последних сил продиралась сквозь заросли ежевики и дрока!
– Ты отважный и верный друг, малышка, – подтвердил бандит, – и я у тебя в долгу. Но ведь ожерелье-то еще не у нас в руках. Сколько ты там насчитала мужчин?
– Ох, много! Один высокий и толстый, с густой бородищей, другой довольно старый, потом двое худых, из них один похож на лисицу, и еще один молодой, с виду – дворянин, хоть и скверно одет.
– Шестеро, – задумчиво подвел итог Огастен, загибавший пальцы. – Жаль! Раньше это бы меня не остановило. Но теперь я остался один из всей нашей шайки. Есть у них какое-то оружие, Чикита?
– У дворянина – шпага, а у длинного и тощего – рапира.
– Ни пистолетов, ни аркебуз?
– При себе – нет, разве что они оставили их в повозке, – ответила девочка. – Но тогда Чирригири или Мионетта предупредили бы меня.
– Ну, что ж, все-таки попробуем устроить засаду, – наконец решился Огастен. – Пять сундуков, золотое шитье, жемчужное ожерелье… Бывало, приходилось поработать и за два пистоля!
Разбойник и девочка рука об руку направились в еловую рощицу. Там, в самом глухом и тенистом месте они принялись разбрасывать камни, валежник и пласты мха, пока не добрались до присыпанных песком досок. Огастен поднял их одну за другой, отбросил в сторону и спрыгнул в яму, которую доски прикрывали. Был ли это вход в подземелье или пещеру – обычное убежище разбойников? Или тайник, где он хранил награбленное? А может, склеп, куда он сбрасывал тела своих жертв?
Последнее показалось бы любому свидетелю происходящего самым правдоподобным, однако свидетелей у этих двоих не было, за исключением уснувших на верхушках елей галок.
Наклонившись, Огастен порылся на дне ямы, а затем выволок оттуда неподвижную человеческую фигуру, безвольно болтавшуюся у него в руках, словно мертвое тело, и бесцеремонно перебросил ее через край ямы. Ничуть не смущенная ни видом покойника, ни столь бесцеремонным обращением с ним, Чикита схватила его за ноги и оттащила подальше, проявив неожиданную для столь хрупкого и болезненного с виду создания силу. Продолжая в том же духе, Огастен извлек из безвестной усыпальницы еще пять трупов, а девочка уложила их рядом с первым, посмеиваясь, как юная ведьма, готовящаяся к шабашу.
Разверстая могила, бандит, оскверняющий прах своих жертв, ребенок, помогающий негодяю в его гнусном деле – подобная картина на фоне мрачных елей заставила бы содрогнуться любого храбреца.
Снова взвалив на плечо один из трупов, Огастен отнес его на вершину холма и придал ему стоячее положение, воткнув в рыхлую землю кол, к которому тот был привязан. В такой позе труп издалека мог вполне быть принят за живого человека, стоящего неподвижно.
– Что за времена! – со вздохом проговорил Огастен. – Какой упадок! Вместо шайки добрых молодцов, которые мастерски владели и ножом, и аркебузой, у меня остались одни чучела, одетые в лохмотья, пугала для путников на большой дороге. Вот они, мои соратнички! Этого звали Матасьерпес, он был храбрым испанцем, моим закадычным другом, славным малым. Он метил своей навахой физиономии всяких прохвостов, словно кистью, которую окунули в алую киноварь. Между прочим, благородный дворянин, горделивый, как сам сатана, вечно подавал дамам руку, помогая выбраться из кареты и с истинно королевским достоинством обчищал закрома горожан. Здесь его плащ, его пояс, его сомбреро с алым пером. Я выкупил эти вещи у палача как священные реликвии и нарядил в них соломенное чучело, которое теперь заменяет юного героя, достойного совсем иной участи. Бедняга Матасьерпес! Ему страшно не понравилось то, что его приговорили к повешению. Как дворянин он имел право быть обезглавленным, но судьям не удалось взглянуть на его родословную, и ему пришлось расстаться с жизнью, танцуя в петле!
Вернувшись к тайнику, Огастен приволок другое чучело, на голове которого красовался синий гасконский берет.
– А это Искибайвал – прославленный храбрец. Он был горяч в деле, но порой выказывал чересчур много рвения и крушил все и всех подряд – а ради какого дьявола попусту истреблять клиентов? Зато он не был падок на добычу и всегда довольствовался своей долей. Золотом он пренебрегал и любил только кровь! А с каким достоинством он выдержал пытку в тот день, когда его колесовали на площади в Ортезе! Клянусь, сам апостол Варфоломей не так терпеливо сносил мучения, выпавшие на его долю. Это был твой отец, Чикита, – помолись за упокой его грешной души!
Девочка осенила себя знаком креста, и ее губы беззвучно зашевелились, произнося слова молитвы.
Третье чучело имело на голове шлем и, пока Огастен волок его, гремело и лязгало ржавым железом. Поверх его изодранного кожаного колета тускло мерцала помятая кираса, а на бедрах болтались защитные пластины. Бандит деловито протер доспехи рукавом.
– Блеск металла во мраке внушает ужас. Люди думают, что перед ними бродячие наемники, не знающие пощады. А этот был истинный рыцарь большой дороги. Он действовал на ней, словно на поле брани, – хладнокровно, обдуманно, по всем правилам военного искусства. Пистолетный выстрел в упор унес его. Невосполнимая утрата, но я отомщу за его гибель!
Четвертый призрак, закутанный в изношенный до основания плащ, был, как и все прочие, почтен надгробным словом. Он, оказывается, отличался редкой скромностью и испустил дух во время пытки, не пожелав сознаться в своих деяниях и открыть не в меру любопытному правосудию имена своих товарищей.
Лишь по поводу пятого, которого Огастен назвал Флоризелем из Бордо, разбойник воздержался от похвал, ограничившись сожалением и добрыми пожеланиями. Этот Флоризель, первый на Юге Франции ловкач по части карманных краж, оказался удачливее своих собратьев: он не болтался на виселице, его не поливали дожди и не клевали птицы. Ныне он путешествовал за счет короля по морям и океанам на каторжных галерах. Будучи всего лишь простым воришкой среди закоренелых бандитов, лисенком, затесавшимся в волчью стаю, Флоризель тем не менее подавал надежды и, пройдя выучку на каторге, имел надежду стать настоящим мастером, ведь совершенство достигается не сразу. Огастен с большим нетерпением ждал, когда этот славный малый наконец-то сбежит и вернется к нему.
Зато шестому чучелу, толстому и приземистому, облаченному в балахон, подпоясанный широким кожаным ремнем, и широкополую шляпу, досталось место предводителя – впереди всех остальных.
– Это почетное место по праву принадлежит тебе, – обратился к чучелу Огастен, – истинному патриарху лесной вольницы, старейшине воровской братии, королю клещей, фомок и отмычек! О несравненный Лавидалот, мой воспитатель и наставник! Ты посвятил меня в рыцари большой дороги и выпестовал из нерадивого мальчишки-школяра опытного головореза! Ты обучил меня пользоваться воровским наречием, принимать в опасную минуту иной облик, с тридцати шагов попадать из пистолета в сучок на доске, гасить выстрелом свечу, проскальзывать чуть ли не в замочную скважину, невидимкой шмыгать по чужим домам и без всякой волшебной палочки или лозы отыскивать самые хитроумные тайники! Сколько истин преподал ты мне, великий мудрец, какими неотразимыми доводами доказал, что работа – удел дураков и скотов! Зачем злой судьбе понадобилось уморить тебя голодом в пещере, когда все входы и выходы в нее охраняли солдаты, не смея проникнуть в ее глубину? И в самом деле, кому охота, будь он хоть трижды храбрец, соваться в логово раненого льва? Даже умирая, царственный зверь способен прикончить полдюжины молодцов!.. А сегодня тебе, тому, чьим недостойным преемником мне было суждено стать, предстоит взять на себя командование этим потешным отрядом мнимых солдат, соломенных воинов, призраков тех, кого мы потеряли… Но и они, подобно мертвому Сиду[25], способны продолжать свое дело. Даже ваших теней, мои доблестные друзья, хватит, чтобы до нитки обобрать этих проезжих лодырей!
Покончив со своим делом, бандит спустился на дорогу, чтобы взглянуть оттуда, какое впечатление производят его пугала. Вид у соломенных разбойников был весьма свирепый, и кто угодно с перепугу мог обмануться, увидев их во мраке ночи или в предутренней мгле, когда даже старые придорожные ветлы с их корявыми ветвями становятся похожи на людей, грозящих кулаками или заносящих нож.
– Огастен, мне кажется, ты позабыл их вооружить! – напомнила Чикита.
И в самом деле, – спохватился бандит, – как же я это упустил? Правда, и у величайших гениев бывают минуты рассеянности, но это дело поправимое…
Снова сходив к тайнику, он вернулся и вставил в неподвижные руки своих пугал древние обломки мушкетов и аркебуз, ржавые шпаги и даже самые обычные палки, нацелив их на дорогу, словно стволы. С такой экипировкой шайка на вершине холма окончательно приобрела грозное обличье.
– От деревни до ближайшей харчевни, где можно пообедать, перегон довольно длинный, следовательно, выедут они часа в три утра. А когда будут проезжать мимо нашей засады, только-только начнет светать – это время самое благоприятное для наших воинов. Дневной свет мигом выдаст их, а ночной мрак сделает невидимыми. Поэтому, я думаю, нам с тобой стоит немного вздремнуть. Колеса в их повозке наверняка немазаные, и скрип осей, от которого разбегаются даже волки, будет слышен за полмили и разбудит нас. А поскольку наш брат разбойник умеет спать, как кошка, – вполглаза, мы мигом окажемся на ногах!
С этими словами Огастен снова повалился на кучу вырванного с корнями вереска. Чикита прикорнула рядом, натянув на себя край валенсийского плаща, служившего бандиту одеялом. Вскоре ей стало гораздо теплее, лихорадка отступила, зубы перестали стучать, и она отправилась в царство снов.
Следует отметить, что сны эти были вовсе не похожи на обычные детские грезы. Там не порхали розовые ангелы с белыми крылышками вместо шейных платочков, не блеяли чистенькие барашки, украшенные ленточками, и не возводили леденцовые дворцы с колоннами из разноцветных цукатов. О нет! Девочке снилась окровавленная отрубленная голова юной актрисы, которая, держа в зубах жемчужное ожерелье, прыгала, словно мяч, из стороны в сторону, пытаясь увернуться от протянутых рук девочки.
Чикита так металась во сне, что без конца будила Огастена, и тот ворчал, прерывая храп:
– Если ты немедленно не уймешься, малышка, я пинком отправлю тебя в овраг – барахтайся там вместе с лягушками сколько угодно!
Хорошо зная, что Огастен слов на ветер не бросает, девочка наконец затихла. Теперь только их ровное дыхание свидетельствовало о присутствии живых существ в этом Богом забытом месте.
Бандит и его сообщница все еще, как говорится, «пили из чаши забытья» в самом сердце ландов, когда в таверне «Синее солнце» погонщик, постучав своей палкой в окно, разбудил комедиантов и объявил, что пора трогаться в путь…
Актеры кое-как разместились в повозке на громоздящихся повсюду сундуках, и Тиран громогласно сравнил себя с циклопом Полифемом, возлежащим на горном хребте, что, впрочем, ничуть не помешало ему вскоре снова захрапеть. Женщины забрались в самый дальний угол под навесом и вполне сносно устроились на тюке из сложенных декораций. Несмотря на оглушительный скрип осей и ступиц, которые стонали, верещали и хрипели, большинство путников забылись в тяжелой дремоте, в которой тряска, грохот и лязг повозки превращались в бессвязные видения, полные рева хищников и отчаянных воплей их жертв.
Лишь барон де Сигоньяк, возбужденный новизной происходящего и суетой кочевой жизни, так отличающейся от монастырской тишины его родного замка, одиноко шагал рядом с повозкой. Все его мысли были заняты нежной прелестью Изабеллы, чья красота и скромность больше подходили бы благородной девице, чем странствующей актрисе. Он размышлял также и над тем, как добиться ее любви, ничуть не подозревая, что дело уже сделано, что он затронул самые чувствительные струны ее души и эта милая девушка вверит ему свое сердце в то же мгновение, как он об этом попросит.
Но барон был робок и неопытен, поэтому воображал уйму жутких и необычных приключений, самоотверженных подвигов в духе старых рыцарских романов, которые позволят ему получить повод для дерзостного признания, от одной мысли о котором у него перехватывало дыхание. А между тем это признание уже не нуждалось в словах: оно было совершенно ясно выражено пламенем его глаз, дрожью в голосе, вздохами, неловким вниманием, которым он пытался окружить Изабеллу, и общей рассеянностью молодого человека. Он еще не произнес ни слова о своей любви, но у молодой женщины уже не было ни малейших сомнений в ней.
Близилось утро. Вдоль восточного края равнины пролегла полоска бледного рассвета, и на ней четко, несмотря на расстояние, обозначились черные контуры качающегося на утреннем ветерке вереска и даже силуэты трав. Лужи на дороге заблестели, как осколки разбитого зеркала. Отовсюду доносились легкие шорохи – в зарослях проснулась мелкая живность, и в отдалении к сереющему небу потянулись дымки́, свидетельствуя о том, что и в этой пустыне возобновилась деятельная людская жизнь. На фоне быстро розовеющей полоски зари мелькнул странный силуэт, похожий издали на циркуль, которым невидимый геометр взялся измерять ланды. То был пастух на ходулях, без которых ходьба напрямик по здешним болотам и пескам была бы просто невозможной.
Зрелище это было не в диковинку для Сигоньяка и нисколько его не занимало. Но, несмотря на задумчивость, барон все же обратил внимание на крохотный огонек, вспыхнувший вдруг в густой тени еловой рощицы на вершине холма – той самой, где мы оставили спящими Огастена и Чикиту. Это не мог быть светлячок – их пора давным-давно миновала. Версию об одноглазой ночной птице, уставившейся из елового сумрака на проезжих, барон тоже отбросил, посчитав совершенно нелепой. Но что же это? Мерцающий огонек больше всего напоминал ему зажженный перед выстрелом фитиль аркебузы.
Между тем повозка продолжала катиться вперед, и Сигоньяк, приблизившись к холму с еловой рощицей, внезапно различил на склоне странные фигуры, расположившиеся так, словно они находились в засаде. Фигуры эти, еще неясно освещенные первыми проблесками рассвета, он различал довольно смутно и в конце концов ввиду их полной неподвижности решил, что это всего лишь старые пни. Молодой человек посмеялся в душе над своими опасениями и не стал будить остальных актеров, как собирался поначалу.
Повозка прокатилась еще с полсотни локтей, и светящаяся точка, с которой Сигоньяк по-прежнему не сводил глаз, слегка переместилась. Затем взвилось облачко порохового дыма, прорезанное огненной струей, грянул выстрел, и пуля, ударившись о верхнюю часть воловьего ярма, с визгом ушла в небо. Испуганные животные шарахнулись в сторону, потащив за собой повозку, но груда песка, к счастью, остановила колымагу на краю наполненной бурой жижей канавы.
От грохота выстрела и внезапного толчка актеры мгновенно проснулись. Молодые женщины пронзительно завизжали, а Дуэнья, видавшая и не такие виды, из предосторожности переложила всю свою наличность – несколько золотых дублонов – из-за пазухи в башмак.
На краю дороги, прямо перед повозкой, из которой пытались выбраться комедианты, неожиданно выросла мужская фигура. Огастен, обмотав вокруг локтя валенсийский плащ, потряс в воздухе навахой и громовым голосом выкрикнул:
– Кошелек или жизнь! Предупреждаю: всякое сопротивление бесполезно! Малейшее движение – и мой отряд изрешетит всех вас до последнего человека!
Пока бандит диктовал эти традиционные для большой дороги условия, барон, чья древняя кровь не могла стерпеть наглости проходимца, невозмутимо извлек шпагу из ножен и набросился на грабителя. Огастен отражал удары плащом, выжидая удобного момента, чтобы метнуть в противника наваху. Наконец, уперев рукоять ножа в локтевой сгиб, он резким движением пальцев отправил его в полет, целясь в живот Сигоньяка, который, к счастью, не отличался дородностью. Молодой человек сделал быстрое движение – и смертоносное оружие просвистело мимо.
Огастен побледнел: теперь он был безоружен и точно знал, что отряд вороньих пугал не придет ему на помощь. Тем не менее рассчитывая вызвать замешательство и воспользоваться им, он отчаянно закричал:
– Эй, парни! Огонь!
Испугавшись залпа, комедианты отступили и укрылись за повозкой. Даже Сигоньяк при всей своей храбрости втянул голову в плечи.
Все это время Чикита, раздвинув ветки кустов, пристально следила за происходящим. Увидев, в каком опасном положении оказался ее приятель, она бросилась ничком в дорожную пыль и поползла, извиваясь, словно ящерица. Незаметно подобрав наваху, она вскочила на ноги и сунула оружие в руку бандиту. Бледное личико девчушки озарилось дикой гордостью: ее черные глаза метали молнии, ноздри трепетали, как крылья ястреба, губы растянулись, приоткрыв два ряда зубов, сверкавших в зверином оскале. Все ее существо дышало неукротимой яростью.
Огастен снова взмахнул ножом. И очень может быть, что приключения барона де Сигоньяка оборвались бы, едва начавшись, но чья-то стальная рука в самый опасный момент опередила бандита. Эта рука действовала, словно тиски, выкручивая и сминая мускулы, круша кости, от ее могучего напора вздувались жилы и даже кровь выступала из-под ногтей. Огастен отчаянно пытался вырваться; обернуться он не мог – барон тут же всадил бы клинок шпаги в его спину. Он попробовал отбиваться левой рукой, но тут же почувствовал, что, если не прекратит сопротивление, его правая будет сломана или вовсе вырвана из плеча. Боль наконец стала невыносимой, онемевшие пальцы негодяя разжались и выпустили наваху.
Спасителем Сигоньяка оказался Тиран – бесшумно подкравшись сзади, он перехватил руку Огастена. Но в следующее мгновение бородач хрипло вскрикнул:
– Проклятье! Неужели меня укусила гадюка? Я чувствую, как ее ядовитые зубы вонзились в мою икру!
И в самом деле, Чикита, вертевшаяся под ногами во время схватки, изо всех сил вцепилась зубами в его ногу, надеясь, что бородач обернется и Огастен сможет снова схватить нож. Не разжимая могучей клешни, Тиран коротким пинком отбросил девочку шагов на десять. Матамор, походивший в этот миг на кузнечика, согнул под острым углом свои непомерные конечности, наклонился, подхватил наваху, закрыл лезвие и спрятал оружие в карман.
Тем временем солнце показалось из-за горизонта, и под его беспощадными лучами чучела на склоне окончательно утратили сходство с людьми.
– Ну и дела! – воскликнул Педант. – Должно быть, аркебузы этих вояк так и не выпалили по причине ночной сырости! Да и сами-то они не слишком храбры – их предводитель в беде, а они стоят как вкопанные, словно межевые камни у древних кельтов!
– У них есть на то все основания! – крикнул Матамор, взбираясь на пригорок. – Ведь это всего лишь чучела, наряженные в лохмотья, набитые соломой и вооруженные ржавыми железками! Им бы отпугивать дроздов да скворцов от вишневых садов и виноградников!
Несколькими пинками он столкнул всех карикатурных истуканов, и те растянулись в пыли в позах марионеток, брошенных кукольником. Их плоские фигуры казались комичной и в то же время жутковатой пародией на тела павших на поле брани.
– Выходите, сударыни, – сказал барон, обращаясь к актрисам, – никакой опасности больше нет!
Огастен стоял, повесив голову. Он был потрясен провалом своей выдумки, которая обычно безотказно срабатывала – до того были велики глаза у людского страха. К нему растерянно жалась Чикита, испуганная и все еще разъяренная, как ночная птица, которую застал врасплох дневной свет. Разбойник опасался, что актеры, воспользовавшись своим численным превосходством, расправятся с ним или передадут его в руки правосудия. Однако комедия с соломенными пугалами до того развеселила их, что они принялись хохотать. А смех, как известно, по своей природе чужд жестокости; он отличает человека от животных и, как утверждал Гомер, является даром бессмертных и блаженных богов, которые и сами не прочь посмеяться как следует, коротая вечность на Олимпе.
Тиран, человек от природы добродушный, все еще удерживая бандита, обратился к нему тем свирепым театральным басом, которым иногда пользовался и в повседневной жизни, желая нагнать страху:
– Ты, негодяй, перепугал наших дам, и за одно это тебя следовало вздернуть без лишних слов; но, если они по своей доброте простят тебе, я не поволоку тебя к судье. Черствый хлеб доносчика мне не по вкусу, и не мое это дело – доставлять дичь на виселицу. К тому же уловка твоя остроумна и забавна – ловкий способ выуживать пистоль за пистолем у трусливых горожан и поселян. Как актер, я ценю твою изобретательность и потому готов оказать тебе снисхождение. Ты не просто вульгарный и тупой грабитель, и было бы жаль оборвать твою столь изобретательную и блестящую карьеру.
– Увы! – пробормотал Огастен. – Я не смог избрать другую и достоин сочувствия даже больше, чем вам кажется. Из всей моей разбойничьей труппы теперь остался только я, а она, между прочим, была не менее многочисленной, чем ваша, господа. Палач отнял у меня актеров на первые роли, даже вторые и третьи уже некому играть – вот и приходится в одиночку разыгрывать всю драму на большой дороге, говоря на разные голоса и наряжая огородные пугала разбойниками, чтобы проезжим казалось, будто за моей спиной целая шайка. Да, скверная мне досталась доля! Дорога моя пустынна, путников раз-два и обчелся, слава у нее скверная, вся она покрыта ухабами, неудобна и для пеших, и для конных, и для экипажей, а обзавестись лучшей у меня нет средств: на каждом оживленном тракте действует собственная шайка. Некоторые лодыри думают, что путь разбойника усеян розами. Ничего подобного – это сплошные терния! Я бы и сам не прочь стать честным человеком; но как мне сунуться в городские ворота с такой зверской физиономией и в таких жутких отрепьях? Стража мигом ухватила бы меня за ворот, если бы он у меня имелся. Вот и сейчас: дело мое пошло прахом, а ведь оно было так тщательно продумано и устроено. В случае успеха, я мог бы безбедно прожить пару месяцев и вдобавок купить теплую мантилью бедняжке Чиките. Не везет так не везет; видно, я родился под несчастливой звездой. Вчера вместо обеда мне пришлось лишь потуже затянуть пояс, а сегодня вы, господа, своей неуместной храбростью отняли у меня кусок хлеба! И раз уж мне не удалось вас ограбить по-человечески, так не откажите хотя бы в милосердном подаянии!
– Ты, пожалуй, прав, – рассмеялся Тиран, – мы причинили тебе ущерб и должны его возместить. Вот тебе два пистоля – выпей за наше здоровье!
Изабелла достала из повозки большой кусок ткани и протянула его Чиките.
– А я бы хотела не это, а ваше украшение из белых зерен! – проговорила малышка, бросив алчный взгляд на ожерелье актрисы. Изабелла тотчас сняла ожерелье и надела на шею маленькой разбойницы. Онемев от восхищения, Чикита принялась ощупывать смуглыми пальчиками жемчужные зерна, время от времени наклоняя голову, чтобы полюбоваться украшением на своей впалой груди, потом внезапно откинула назад волосы, подняла на Изабеллу сверкающие глаза и с какой-то нечеловеческой твердостью проговорила:
– Вы, мадемуазель, добрая – поэтому я вас никогда не убью…
Одним прыжком девочка перемахнула через канаву, взлетела на холм, уселась там и снова стала разглядывать свое сокровище.
Огастен поклонился, подобрал свои исковерканные пугала, отнес в лесок и зарыл на прежнем месте – до следующего подходящего случая. А когда вернулся погонщик, при первом же выстреле доблестно юркнувший в заросли дрока, предоставив путешественникам выпутываться самим, крытая повозка тяжело тронулась и покатила своей дорогой.
Дуэнья, отвернувшись, вытащила монеты из башмака и снова украдкой водворила их в потайной кармашек за корсажем.
– Вы, господин барон, вели себя, как настоящий герой романа, – сказала Изабелла Сигоньяку. – С вами можно чувствовать себя в полной безопасности где угодно. Как смело вы атаковали этого разбойника, не считаясь с тем, что ему на помощь могла подоспеть целая шайка сообщников, вооруженных до зубов!
– Разве это опасность? Всего лишь небольшая неприятность! – скромно возразил барон, краснея от удовольствия. – Чтобы оградить вас, я разрубил бы от макушки до пояса любого великана, обратил бы в бегство толпу сарацинов, сразился бы в дыму и пламени с чудовищами, гидрами и драконами, прошел бы сквозь колдовские чащи, полные злобной нечисти, сошел бы в ад, как Орфей, и притом без всякой золотой ветви. В свете ваших прекрасных очей мне все было бы под силу, ибо ваше присутствие и даже одна только мысль о вас вливают в меня сверхчеловеческие силы!
Эта речь, возможно, страдала некоторыми преувеличениями, однако дышала искренностью. Изабелла ни на миг не усомнилась, что ради нее Сигоньяк совершит все эти невообразимые подвиги, достойные Амадиса, Эспландиона и Флоримара[26]. И она была права: глубокое чувство диктовало эти восторженные слова барону, который все сильнее влюблялся в нее с каждым часом. А любви, как известно, всегда требуются особенно сильные выражения.
Серафина, слушая Сигоньяка, не могла удержаться от улыбки. Всякая молодая женщина находит смешным объяснение в любви, обращенное к другой, а вот если бы ей самой пришлось выслушать то же самое, то эти слова показались бы ей вполне естественными. Всего на мгновение у Серафины возникло желание испытать силу своих чар на бароне, но она тут же отбросила эту мысль, ибо была убеждена, что красота, подобно бриллианту, должна быть оправлена в золото. Бриллиант у нее имелся, но молодой барон был до того нищ, что всех его средств не хватило бы не только на золотую оправу, но даже на простой футляр. Поэтому кокетка оставила в покое свой арсенал призывных взглядов, решив, что подобные интрижки не годятся для актрис первых ролей, и уставилась на унылый окрестный пейзаж.
В повозке вновь повисло молчание и сон уже мало-помалу смеживал веки путешественников, когда погонщик вдруг объявил:
– А вот и замок Брюйер!
5
В гостях у его светлости
В лучах утреннего солнца замок Брюйер выглядел необыкновенно величественно. Владения маркиза располагались у кромки ландов на полосе плодородных земель, и последние волны песчаных холмов как бы разбивались о каменную стену, за которой виднелись кроны великолепного парка. В отличие от окружающей скудной природы, здесь все дышало изобилием и радовало глаз. Это был поистине райский остров блаженства посреди бескрайнего океана уныния.
Облицованный красным гранитом ров обрамлял ограду замка. Сам ров был заполнен свежей проточной водой, на поверхности которой не было ни следа ряски, что свидетельствовало о заботливом уходе. Через ров был переброшен каменный мост с затейливым парапетом, настолько широкий, что на нем могли разминуться две кареты. Мост вел к великолепной кованой решетке – истинному шедевру кузнечного искусства, словно вышедшему из рук самого бога Вулкана. Створки въездных ворот были укреплены на четырехугольных железных пилонах ажурной работы, верхушки которых были выкованы в форме цветущих кустов, симметрично склонявшихся по обе стороны пилона. Среди этих замысловатых переплетений сверкал герб маркиза: червленые клетки на золотом поле щита, расположенные в шахматном порядке, а по бокам – два щитодержателя в виде дикарей. Верх ворот был усеян остролистыми железными артишоками, отпугивавшими мародеров, которые могли бы попытаться спрыгнуть с моста во внутренний двор замка, минуя решетку. Позолоченные цветы и прочие орнаментальные украшения, со вкусом вкрапленные в строгую простоту темного металла, смягчали неприступно грозный вид кованой ограды и одновременно подчеркивали ее изящество.
Словом, въезд в замок выглядел царственно, и когда лакей в ливрее с гербом маркиза распахнул ворота, волы, запряженные в повозку, нерешительно затоптались на месте, словно ослепленные здешним великолепием и смущенные своим простецким видом. Только с помощью палки удалось сдвинуть их с места. Эти трудолюбивые и мирные животные, видимо, даже не подозревали, что именно хлебопашцы кормят, поят и одевают в шелка вельмож.
И в самом деле, через такие ворота полагалось бы въезжать лишь раззолоченным каретам с бархатными подушками внутри, венецианскими стеклами в дверцах и фартуками от пыли из тонкой кордовской кожи. Но театр везде и всюду пользуется особыми привилегиями, и для колесницы Феспида путь всегда свободен.
Усыпанная ярко-желтым песком аллея – такой же ширины, как и мост, – вела к замку, минуя ухоженные цветники, разбитые по последней версальской моде. Тщательно подстриженная самшитовая изгородь делила этот регулярный сад на прямоугольные участки, на которых, подобно узорам на штофной ткани, в строгой симметрии располагались всевозможные растения. Ножницы садовника ни одному побегу не позволяли подняться над другим, и как ни противилась природа, здесь она была всего лишь безропотной прислужницей искусства. В центре каждого прямоугольника высилась статуя богини или нимфы в игривой позе – в итальянском духе, ловко подделываемом фламандцами. Разноцветный песок служил фоном для растительных узоров, которые и на бумаге не выглядели бы аккуратнее.
На середине сада еще одна аллея такой же ширины пересекалась с первой, но не под прямым углом, а как бы вливаясь в круглую площадку с фонтаном в центре. Фонтан представлял собой груду гранитных глыб, служащую пьедесталом маленькому Тритону, трубящему в раковину и разбрызгивающему хрустальные струи.
Цветники заканчивались шеренгой подстриженных грабов, которые осень уже успела слегка позолотить. Садовник мастерски превратил их в портик с арками, проемы которых открывали далекие перспективы и окрестные виды, словно специально подобранные для услаждения взора. Вдоль главной аллеи темнели вечнозеленые тисы, подстриженные пирамидами, шарами и урнами и выстроившиеся, как слуги для встречи гостей.
Все это великолепие поразило нищих комедиантов, которых нечасто приглашали в подобные усадьбы. Глядя на всю эту неслыханную пышность, Серафина твердо решила дать подножку Субретке и отбить ее у маркиза. Этот герой, как думалось ей, по праву должен принадлежать той, кто играет роли первых любовниц. Да и где это видано, чтобы служанка имела перевенство перед госпожой?
Субретка же, уверенная в своей неотразимости, в которой сомневались женщины, но не сомневались мужчины, чувствовала себя здесь едва ли не полноправной хозяйкой. Она уже убедилась, что маркиз особо выделил ее из всех остальных женщин, и только благодаря ее огненным взглядам в его сердце внезапно пробудился острый интерес к театру.
Изабелла, не имевшая ни корыстных, ни честолюбивых стремлений, взглянула на Сигоньяка, а тот, полный смущения, забился в угол повозки, подавленный окружающим великолепием. Девушка попыталась улыбкой ободрить барона, ибо чувствовала, что разительный контраст между замком Брюйер и нищенской усадьбой Сигоньяков глубоко ранит молодого человека, волею судьбы вынужденного примкнуть к бродячим комедиантам. Женский инстинкт подсказывал ей, что только ласка и участие могут согреть сердце благородного юноши, во всех отношениях достойного лучшей доли.
А в это время Тиран вертел в голове, точно бочонки лото в мешке, цифры гонорара, который следовало бы запросить с маркиза, с каждым оборотом колес повозки добавляя по нулю. Педант облизывал губы, потрескавшиеся от неутолимой жажды, воображая все те бочки, бочонки, кувшины и бутылки самых тонких и изысканных вин, которые наверняка хранятся в погребах столь великолепного замка. Леандр, взбивая черепаховым гребнем примятые букли парика, с замиранием сердца гадал, есть ли в этом сказочном дворце дама средних лет из числа тех, на которых неотразимо действует его облик первого любовника. Вопрос первейшей важности! Однако, припомнив выражение лица маркиза, он поумерил полет своей фантазии, а с ним и вольности, которые уже позволял себе в воображении.
Перестроенный, а на деле отстроенный заново в предыдущее царствование, замок Брюйер возвышался в дальнем конце сада, занимая почти всю его ширину. Стиль его архитектуры был во многом сродни особнякам на Королевской площади в Париже. Он состоял из главного корпуса и двух флигелей, примыкавших к нему под прямым углом. Эти здания как бы очерчивали парадный двор и создавали весьма гармоничный и в известной мере величавый ансамбль. Красный кирпич стен, обрамленных по углам тесаным камнем, выгодно оттенял наличники окон, высеченные из того же превосходного светлого камня. Такими же белокаменными «поясами» отделялись один от другого все три этажа главного здания. Пухлые, кокетливо причесанные скульптурные женские головки благожелательно улыбались с замковых камней, вмурованных в арки оконных проемов. Балконы опирались на мощные консоли. Сквозь блики солнца в хрустально чистых оконных стеклах виднелись богатые ткани штор и драпировок с пышными подборами. Чтобы фасад не казался однообразным, архитектор – достойный продолжатель дела Андруэ Дюсерсо[27] – воздвиг в центре выступающий портик, щедро украсив его и поместив под ним парадные входные двери, к которым вели высокие ступени. Четыре сдвоенные колонны с чередующимися круглыми и квадратными основаниями – из тех, что часто можно увидеть на полотнах Рубенса, любимого мастера королевы Марии Медичи, – поддерживали карниз, также увенчанный гербом маркиза. Карниз этот и кровля портика служили полом для обнесенного балюстрадой просторного балкона, куда можно было попасть из гостиной. Лепные рельефы украшали каменное обрамление и арку двустворчатой полированной главной двери со сверкающей, словно серебро, оковкой, петлями и ручками.
Высокие шиферные кровли, искусно разделанные под черепицу, отчетливо вырисовывались в ясном небе, над ними возвышались симметрично расположенные массивные каминные трубы, украшенные головами кабанов и косуль. Пучки резных листьев, отлитых из свинца, красовались на углах кровель, и на всем этом великолепии весело играло солнце. Несмотря на то, что час был ранний, а погода не требовала регулярного отопления, из труб вился легкий дымок – признак счастливой, изобильной и деятельной жизни. Кухня и другие службы также проснулись: скакали егеря на сытых конях, доставляя дичь к столу; арендаторы в тележках подвозили зелень, овощи и прочую провизию, сдавая ее поварам и кастелянам. Лакеи сновали по двору, словно мыши, передавая или исполняя приказания.
Внешний облик замка радовал глаз, и не только окраской кирпичных и каменных стен, напоминающей свежий румянец на цветущем лице. Все здесь свидетельствовало о прочном и постоянно растущем благосостоянии, а не о прихоти Фортуны, щедро одарившей минутного фаворита. Здесь под покровами новой роскоши дышало богатство, восходящее к давним временам.
Чуть подальше, позади флигелей, колыхались кроны вековых деревьев, чьи вершины уже были тронуты желтизной, тогда как нижние ветви сохраняли сочную зелень. Там тянулся парк, просторный, тенистый, густой, величественный, в свою очередь свидетельствовавший о рачительности предков маркиза. Имея золото, можно за год-другой возвести здание, но нельзя ускорить рост деревьев-великанов, где ветвь прирастает к ветви, как на генеалогическом древе тех родов, которые осеняют их тень.
Разумеется, в сердце барона де Сигоньяка не было зависти – презренного чувства, яд которого быстро впитывается, распространяется по всему телу и достигает тончайших нервных окончаний, извращая самые благородные характеры. Тем не менее он не смог удержаться от вздоха при мысли, что некогда де Сигоньяки стояли выше де Брюйеров, их род был древнее, и хронисты упоминали о нем уже в эпоху Первого крестового похода. Этот замок, нарядный и сверкающий, как молодая девушка, нарядившаяся со всеми причудами изысканной роскоши, невольно казался жестокой сатирой на его бедную заброшенную усадьбу, ставшую гнездом мышей и приютом пауков. Все долгие годы тоски, одиночества и нищеты пронеслись перед внутренним взором молодого барона, и, даже не завидуя маркизу, он не мог не считать его необыкновенно счастливым и удачливым человеком.
Повозка комедиантов остановилась перед ступенями главного входа, и это вывело Сигоньяка из безотрадной задумчивости. Он стряхнул с себя грусть, сделал мужественное усилие и как ни в чем ни бывало спрыгнул на посыпанную песком площадку, подав руку Изабелле и другим актрисам, которым мешали спуститься юбки, раздуваемые утренним ветерком.
Де Брюйер, издали завидевший колымагу, которую неспешно влекли волы, встретил труппу в тени портика. Маркиз был в камзоле и панталонах из бархата цвета песка, отделанных лентами в тон, в серых шелковых чулках и белых тупоносых башмаках на высоких каблуках. Спустившись на несколько ступеней, он, как подобает гостеприимному хозяину, который не обращает внимания на общественное положение гостей, приветствовал комедиантов дружеским и покровительственным жестом. К тому же присутствие в труппе барона де Сигоньяка в известной мер оправдывало такую снисходительность.
В этот миг через прореху в парусине фургона выглянуло задорное личико Субретки, сияющее жизнью и огнем. Глаза ее метали молнии во все стороны. Высунувшись из повозки, опираясь руками о перекладину и при этом показывая едва прикрытую косынкой грудь, плутовка застыла, словно в ожидании, что ей кто-нибудь поможет спуститься. Сигоньяк не заметил этого мнимого замешательства, так как был всецело занят Изабеллой, и Субретка обратила томный взгляд на маркиза.
Хозяин замка не замедлил откликнуться на этот призыв. Сбежав, он приблизился к повозке, чтобы исполнить долг учтивого кавалера, протянул руку и, словно в танце, отставил ногу. Кокетливым кошачьим движением Субретка скользнула к самому краю повозки, на миг застыла, сделала вид, что теряет равновесие, обвила шею маркиза и, как перышко, спорхнула на землю, оставив на песке едва заметный след.
– Прошу простить меня, ваша милость, – пролепетала она, изображая крайнее смущение, которого вовсе не испытывала, – я едва не упала, и мне пришлось схватиться за ваш ворот. Ведь вы сами знаете: когда тонешь или падаешь – цепляешься за что придется. А падение – дело нешуточное, а главное – плохой знак для актрисы!
– Позвольте считать этот случай особой удачей для меня, – ответил владелец замка Брюйер, несколько взволнованный прикосновением соблазнительной женской груди. Серафина, скосив глаза и слегка склонив головку к плечу, наблюдала эту сцену с ревнивой зоркостью, не упуская ни единой мелочи. Зербина – так на самом деле звали Субретку – своим фамильярным маневром обеспечила себе внимание маркиза и, можно сказать, завоевала на него права в ущерб ей, героине первых ролей. Это была непростительная наглость, ставящая с ног на голову всю театральную иерархию. «Что за дрянная тварь! Ей, видите ли, требуются маркизы, без них она неспособна даже выбраться из повозки!» – прошипела про себя Серафина совсем не в той изысканной и жеманной манере, которой обычно пользовалась. Но ведь в пылу досады женщины – будь они хоть примадонны, хоть герцогини, – часто пользуются выражениями, позаимствованными у рыночных торговок.
– Жан, – обратился маркиз к лакею, который приблизился к ступеням по знаку господина, – распорядитесь, чтобы повозку поставили в каретный сарай, а декорации и прочие театральные принадлежности вынули оттуда и сложили под навесом. Сундуки этих господ и дам пусть отнесут в комнаты, которые отвел им дворецкий. Я хочу, чтобы они ни в чем не испытывали недостатка и чтобы обращались с ними в высшей степени почтительно. Ступайте!
Отдав эти указания, владелец замка важной поступью поднялся на крыльцо, не преминув, прежде чем исчезнуть за дверью, бросить игривый взгляд на Зербину, а та ответила томной и неумеренно кокетливой улыбкой, что, по мнению возмущенной Серафины, было уже полным бесстыдством.
Тиран, Педант и Скапен сопроводили запряженную волами повозку на задний двор и с помощью слуг извлекли из ее недр три свернутых в трубки старых холста, на которых были изображены городская площадь, дворец и глухой лес. Затем на свет появились якобы античные светильники для алтаря Гименея, чаша из позолоченного дерева, жестяной складной кинжал, моток красной шерсти, с помощью которого изображались кровоточащие раны, флакон с ядом, урна для праха и прочий реквизит, без которого не обойтись в финалах трагедий.
В колеснице комедиантов можно найти все на свете. И в самом деле: разве театр не та же жизнь в самом сжатом и уплотненном виде, не тот микрокосм, которым грезят философы? Разве не обнимает сцена всю совокупность явлений и судеб, живо отразившихся в зеркале вымысла? Все эти груды пропыленных отрепьев с шитьем из поддельного золота, эти рыцарские ордена из жести и фальшивых камней, поддельные римские мечи в медных ножнах с затупленными клинками, шлемы и короны – что это, если не обноски человечества, в которые облачаются герои прошлого, чтобы на краткий миг ожить при свете рампы? Бескрылому умишку мещанина эти жалкие сокровища ничего не говорят, зато их вполне достаточно для поэта, чтобы в сочетании с волшебными огнями и волшебным языком богов заворожить и заставить волноваться даже самых придирчивых зрителей.
Слуги маркиза де Брюйера, надменные, как и всякая прислуга из знатных домов, едва прикасались кончиками пальцев к театральному тряпью, помогая устанавливать его в сарае под наблюдением Тирана, постоянного режиссера труппы. На лицах этих лакеев было написано нескрываемое презрение, они чувствовали себя униженными, прислуживая каким-то там фиглярам. Но приказ есть приказ – приходится повиноваться, потому что маркиз не терпит ослушников и расправляется с ними вполне по-азиатски, не жалея плети.
Вскоре явился дворецкий и с самым почтительным видом, словно обращаясь к истинным королям и принцессам, вызвался сопровождать актеров в приготовленные для них покои. Эти апартаменты располагались в левом крыле замка, предназначенном для гостей. Туда вела роскошная лестница со ступенями из белого полированного мрамора и просторными площадками. Далее потянулся длинный коридор, выложенный белыми и черными плитками и освещенный окнами в торцах. По обе стороны коридора располагались двери комнат, носивших названия в соответствии с цветом внутренней обивки, которому соответствовал и цвет портьеры снаружи – чтобы гость легко мог отыскать собственное помещение. Там были желтая, красная, зеленая, голубая, серая и коричневая комнаты, комната с гобеленами, комната, обитая тисненой кожей, комната с дубовыми панелями, комната с фресками и еще множество с подобными названиями, которые вы можете выдумать сами, потому что дальнейшее перечисление приличествует скорее обойщику, чем писателю.
Все эти покои были обставлены не только добротно, но даже изысканно. Зербине досталась комната с гобеленами, на которых были вытканы полные сладострастия мифологические любовные сцены, Изабеллу поместили в голубую комнату, ибо голубой к лицу блондинкам, красную получила Серафина, а Дуэнья – коричневую, потому что этот хмурый тон был вполне под стать пожилой даме.
Барону де Сигоньяку предназначалась комната, обитая тисненой кожей, которая находилась рядом с покоем Изабеллы, – тонкий знак внимания со стороны владельца замка. Эта комната, обставленная, пожалуй, даже с роскошью, предназначалась для знатных гостей, а маркиз де Брюйер стремился выделить из среды комедиантов лицо благородного происхождения, в то же время уважая тайну его имени. Прочие лицедеи – Тиран, Педант, Скапен, Матамор и Леандр – также получили по комнате.
Войдя в отведенное ему жилище, где уже находился его скудный багаж, барон изумленным взором обвел пышный покой, в котором ему предстояло провести все время пребывания в замке, и невольно задумался о странности своего положения. В соответствии с названием, стены здесь были обиты богемской кожей с тиснеными по лакированному золотистому полю причудливыми узорами и изображениями неведомых цветов, чьи венчики, стебли и листья были прорисованы отливающими металлом красками и сверкали, словно фольга. Эти роскошные обои покрывали стены от карниза вверху до панели из мореного дуба внизу. Панель украшала искусная резьба в виде чередующихся мелких ромбов и прямоугольников.
Оконные шторы были из желто-красного штофа[28], в тон обоев и орнамента. Таким же штофом была застелена кровать, изголовье которой опиралось на стену, а все прочее выступало в центр комнаты, оставляя проходы по обе стороны. Балдахин и обивка мебели соответствовали всей остальной обстановке как по характеру ткани, так и по расцветке.
Великолепные стулья с прямоугольными спинками и витыми ножками, обитые по краю сидений бахромой на золоченых гвоздиках, стояли вдоль стен, словно ожидая гостей, а глубокие кресла с мягкими подлокотниками, придвинутые к камину, располагали к задушевной беседе. Камин, высокий, глубокий и объемистый, был облицован белым с розоватыми разводами мрамором, в нем уже пылал яркий огонь, что было весьма приятно в столь свежее утро, бросая живые отблески на каминную полку с гербом маркиза де Брюйера. На ней стояли небольшие часы в виде беседки с куполом-колокольчиком и серебряным с чернью циферблатом. В центре циферблата имелось довольно большое отверстие, через которое была видна работа сложного часового механизма.
Середину этого покоя занимал стол на таких же витых, как и у стульев, ножках, покрытый ковровой скатертью турецкой работы. Туалетный столик с венецианским зеркалом, ограненным по краям, был покрыт гипюровой салфеткой, на которой расположился весь арсенал изысканного щеголя.
Только взглянув в это чистое и ясное зеркало, обрамленное резной черепаховой оправой, бедняга Сигоньяк осознал, насколько плачевен его вид. Великолепные покои, сверкающие чистотой и новизной, чудесные предметы и детали обстановки только подчеркивали смехотворное убожество его одежды, которая вышла из моды еще в ту пору, когда отдал богу душу батюшка ныне восседающего на троне монарха. И хотя никто не мог видеть барона в ту минуту, легкая краска заиграла на его худощавых щеках. Прежде он принимал свою бедность как нечто само собой разумеющееся, теперь же она показалась ему комической и он впервые устыдился ее. Ну что ж, стесняться бедности негоже философу или отшельнику, но вполне простительно молодому человеку благородного происхождения.
Намереваясь хотя бы немного принарядиться, Сигоньяк распаковал узел, в который старый Пьер сложил его пожитки. Рассматривая те части одежды, которые там обнаружились, он не признал ни одну из них пригодной для этой цели. Камзол был чересчур длинен, а панталоны коротки, на локтях и коленях ткань пузырилась и была протерта так, что сквозь нее были видны стены. Там и сям зияли разошедшиеся швы, заплатки и пятна штопки прикрывали дыры, словно ставни и решетки окна в тюрьме. Все эти лохмотья до того вылиняли под воздействием стихий, что даже искушенный живописец не рискнул бы определить их цвет. Белье оказалось не лучше. От бесконечной стирки оно так истончилось, что рубашки стали походить на призраки настоящих рубашек. В довершение всех бедствий крысы и мыши, не найдя поживы в кладовой, изгрызли самые приличные из них, сделав ажурными наподобие валансьенских кружев.
Вконец расстроенный результатами обследования гардероба, Сигоньяк не услышал осторожного стука в дверь. После она тихонько приотворилась и в щель просунулась сначала багровая физиономия, а затем и целиком грузная фигура Педанта. Старый комик протиснулся в комнату, сопровождая каждое движение бесчисленными поклонами – подобострастными до смешного, выражавшими отчасти искреннее, отчасти притворное почтение.
Когда он приблизился к барону, тот держал за плечи и, безнадежно качая головой, разглядывал на свет рубаху, ажурную, как витраж в соборе.
– Клянусь Всевышним, у этой рубахи мужественный и победоносный вид! – провозгласил Педант, и Сигоньяк вздрогнул от неожиданности. – Должно быть, она прикрывала грудь самого бога войны Марса во время осады какой-нибудь неприступной твердыни – иначе откуда в ней столько дыр, прорех и прочих славных отметин, оставленных стрелами, дротиками, копьями, и прочими метательными снарядами. Не следует их стыдиться, ваша милость: эти отверстия – уста, которыми глаголет доблесть, тогда как под новехоньким, скроенным по последней придворной моде фламандским или голландским полотном зачастую скрывается только подлость ничтожного выскочки, казнокрада и христопродавца! Многие великие герои, чьи свершения сберегла для нас история, не имели запасов белья. Взять хотя бы Улисса – человека хитроумного, изощренного и многомудрого, когда он предстал перед прекрасной Навсикаей, прикрытый лишь пучком водорослей, о чем нам поведал в своей «Одиссее» господин Гомер…
– К несчастью, – усмехнулся Сигоньяк, – мой дорогой Педант, я похож на этого храброго грека, царя Итаки, только тем, что у меня нет рубашек. В моем прошлом нет никаких подвигов, которые искупали бы мою нынешнюю нищету. Мне ни разу не представилось случая проявить отвагу, и я очень сомневаюсь, чтобы какой-нибудь поэт стал воспевать меня в звонких гекзаметрах. Грешно стыдиться честной бедности, но признаюсь, что мне будет весьма и весьма неприятно появиться перед здешним обществом в таком убогом наряде. Маркиз де Брюйер, разумеется, узнал меня, хотя не подает виду, и может разгласить мой секрет.
– Это и в самом деле досадно, – согласился Педант. – Но, как гласит пословица, лекарства нет только от одной болезни – смерти. Мы, бедные комедианты, кривляющиеся тени людей всех сословий, лишены права быть чем-то, зато умеем казаться. Стоит нам пожелать – и при помощи нашего театрального гардероба мы в два счета принимаем обличье государей, вельмож и придворных кавалеров. Изысканными нарядами мы на несколько часов уподобляемся самым тщеславным и заносчивым из них, а уж затем всякие щеголи и франты начинают подражать нашему бутафорскому блеску, превращая его из поддельного в самый настоящий, заменяя грубый коленкор тонким дорогим сукном, мишуру – золотом, а стекло – бриллиантами. Ибо театр, надо вам знать, – это университет нравов и академия моды. В качестве костюмера нашей труппы, я могу превратить ничтожного слизняка в грозного завоевателя, обездоленного нищего в богатого вельможу, жалкую потаскушку – в знатную даму. И, если вы не против, барон, я испытаю на вас свое искусство. Уж если вы решились разделить нашу скитальческую долю, не побрезгуйте воспользоваться и нашими преимуществами. Сбросьте эти скорбные рубища, которые только скрывают ваши прирожденные достоинства и внушают вам недоверие к себе. У меня в запасе имеется почти новый костюм из черного бархата с лентами цвета апельсина, который нисколько не похож на театральный и не заставит покраснеть даже придворного кавалера. И это потому, что нынче у многих писателей и поэтов вошло в обычай выводить на сцену своих современников, а значит, и одевать их приходится как добропорядочных господ, не на античный либо фантастический лад. К костюму этому найдется у меня и манишка, и шелковые чулки, и башмаки с помпонами, и плащ – и все это скроено по вашей мерке, будто специально для такого случая. Там имеется даже шпага!
– Ну, шпага нам вряд ли понадобится, – возразил Сигоньяк с несколько пренебрежительным жестом, изобличающим достоинство дворянина, которого не могут сломить никакие невзгоды. – При мне всегда отцовский клинок!
– Берегите его как сокровище! – подхватил Педант. – Шпага – верный друг, страж жизни и чести хозяина. Она не покинет его в беде, не в пример льстецам, этим прихвостням богатства. У наших бутафорских мечей клинок и острие затуплены, ибо им положено наносить лишь мнимые раны, которые заживают уже в конце пьесы без всяких бальзамов и целебных снадобий. А шпага защитит вас в любую минуту, как защитила уже однажды, когда этот разбойник большой дороги во главе своры огородных пугал совершил свое смехотворное нападение на нас… А теперь, если позволите, я отправлюсь за вашим нарядом, спрятанным на самом дне сундука, – мне просто не терпится увидеть, как невзрачная куколка превратится в ослепительную бабочку!
Выговорив все это с комической высокопарностью, усвоенной на сцене и перенесенной в повседневность, Педант вышел из покоя и вскоре вернулся с довольно объемистым узлом, который бережно водрузил на стол.
– Если вы, ваша милость, соблаговолите принять старого шута в качестве камердинера, я наряжу и завью вас на славу, – с довольным видом потер руки Педант. – Все дамы тотчас воспылают к вам неукротимой страстью, ибо, не в обиду повару замка Сигоньяк будь сказано, от столь затянувшегося поста в вашей «Башне Голода» вы приобрели вид страдальца, умирающего от любви. Запомните: женщины верят только в тощую страсть. Толстобрюхие воздыхатели не в силах их убедить, будь они хоть трижды записные краснобаи. Только по этой причине, и ни по какой другой, я никогда не пользовался успехом у прекрасного пола и с юных лет пристрастился к бутылке, благо она не насмешничает, не капризничает и не набивает себе цену, а главное – отдает предпочтение толстякам по причине их большей вместимости.
Этими речами добряк Педант, который вне сцены носил имя Блазиус, старался поднять настроение барона. При этом работа языка нисколько не мешала проворству его рук. Рискуя прослыть надоедливым болтуном, он все равно считал, что уж лучше оглушить молодого человека потоком слов, чем позволить ему снова впасть в тягостные раздумья.
Туалет Сигоньяка вскоре был завершен. Театр требует быстрых переодеваний, и у актеров большая сноровка в такого рода превращениях. Наконец, очень довольный результатом своих усилий, старый комедиант схватил барона за кончики пальцев и, словно невесту к алтарю, подвел его к венецианскому зеркалу.
– А теперь извольте взглянуть на вашу милость! – торжественно произнес он.
В первое мгновенье Сигоньяку показалось, что он видит в зеркале чужое отражение. Он невольно обернулся и взглянул через плечо – не стоит ли кто-нибудь позади него. Зеркало повторило его движения, а значит, это, вне всякого сомнения, был он сам. Но не тот прежний Сигоньяк – тощий, грустный, жалкий и смешной в своем убожестве, а изящный и горделивый молодой человек. Старая одежда барона, сброшенная на пол, сейчас напоминала ту невзрачную серую оболочку, которую сбрасывает куколка перед тем, как в обличье златокрылого мотылька, переливающегося киноварью и лазурью, взвиться ввысь. Безвестное существо, заключенное в кокон нищеты, внезапно вырвалось из заточения и засияло под ясными солнечными лучами, падавшими в окно, словно изваяние, с которого скульптор сдернул покрывало. В ту минуту барон де Сигоньяк увидел себя таким, каким нередко воображал себя в мечтах, в которых он был одновременно и героем, и очевидцем необычайных событий. Победоносная улыбка мелькнула на его бледных губах, и юность, давным-давно погребенная под тяжестью невзгод, окрасила румянцем его похорошевшее лицо.
Стоя в двух шагах, Блазиус любовался своим творением, словно живописец, положивший последний мазок на холст.
– Если вы преуспеете при дворе, как я надеюсь, и вернете себе прежнее богатство, а я к тому времени окажусь отставным актером, не откажите пожаловать мне должность хранителя вашего гардероба, – проговорил он, подражая смиренному просителю, и шутовски поклонился преобразившемуся Сигоньяку.
– Я приму к сведению вашу просьбу, – улыбнулся шутке барон. – Вы, господин Педант, – первый человек, попросивший меня о милости!
– После обеда, который будет нам подан отдельно от обитателей замка, мы отправимся к господину маркизу, чтобы предложить ему выбрать пьесы из числа входящих в наш репертуар и узнать, какому помещению в замке суждено превратиться в театр. Вы вполне сойдете за поэта нашей труппы – в провинции не так уж редко можно встретить благородных и просвещенных людей, следующих за колесницей муз ради того, чтобы завоевать сердце какой-нибудь актрисы. В этом нет ничего зазорного, наоборот – такой поступок считается весьма романтичным и галантным. Изабелла вполне подходит на роль предмета вашей страсти: она умна, хороша собой и совершенно добродетельна. Простушки, скажу я вам, ваша милость, весьма часто в жизни похожи на свое театральное амплуа, и, думая иначе, развращенная и кичливая публика сильно ошибается.
С этими словами Блазиус удалился, чтобы привести в порядок собственный костюм, хотя особым щегольством он явно не отличался.
Обольститель Леандр, все еще не оставивший мысль очаровать хозяйку замка, расфрантился в пух и прах в надежде на неожиданное любовное приключение, хотя, по словам Скапена, все подобные приключения кончались для него только разочарованиями, а иной раз и побоями. Актрисам маркиз де Брюйер прислал несколько отрезов шелковых тканей, чтобы те могли пополнить свой театральный гардероб, и они, само собой, пустились во все тяжкие, чтобы явиться перед лицом владельца замка во всеоружии красоты. Принарядившись, актеры отправились в малую столовую, где был сервирован обед.
Маркиз, нетерпеливый по натуре, появился в столовой еще до того, как они встали из-за стола. Однако он не позволил, чтобы комедианты прервали трапезу, и лишь после того, как им подали воду для ополаскивания рук, осведомился у Тирана, какие пьесы они намерены сыграть.
– У нас в репертуаре все драмы покойного Арди, – пробасил, словно из бочки, Тиран, – а также «Пирам» Теофиля, «Сильвия», «Хризеида» и «Сильванир», «Безумство Карденио», «Неверная наперсница», «Филлида со Скироса», «Лигдамон», «Наказанный обманщик», «Вдовица», «Перстень забвения» – словом, все наилучшее, что создано первыми поэтами нашего времени.
– Я уже несколько лет живу вдали от двора и не знаком с новинками, – пожал плечами маркиз. – Поэтому мне трудно судить о таком множестве первоклассных пьес, большинство которых мне вообще неизвестно. Думаю, лучше всего, если вы сами, руководствуясь своим опытом, сделаете выбор. Наверняка он окажется удачным!
– Нам частенько доводилось играть одну пьесу, – ответил Тиран, – которая вряд ли имела бы успех при чтении с листа, но сценическими эффектами, остротой диалога, бесчисленными потасовками и шутовскими трюками она всегда вызывала смех у самой изысканной публики.
– Лучше и не придумаешь, – решил маркиз. – Это именно то, что требуется. И как же называется это выдающееся произведение?
– «Родомонтада[29] капитана Матамора».
– Клянусь честью, превосходное название! А у Субретки там большая роль? – спросил маркиз, подмигнув Зербине.
– О, самая забавная и задорная на свете! Зербина играет ее просто превосходно, неизменно срывая аплодисменты толпы.
В ответ на эту похвалу директора труппы Субретка слегка покраснела. Впрочем, при ее смуглоте, удалось ей это не без труда. Скромность как таковая у нее совершенно отсутствовала. Это снадобье никогда не водилось среди склянок с кремами и притираниями на ее туалетном столике. Тем не менее она потупилась, отчего стали заметнее ее длинные черные ресницы, и, как бы противясь не в меру лестной оценке ее скромной особы, выставила изящную ручку с оттопыренным мизинцем и розовыми ноготками, отполированными до блеска коралловым порошком и замшей.
В эту минуту Зербина была само очарование. Притворная стыдливость всегда служит пряной приправой к изощренной распущенности, и опытный сластолюбец, ничуть не обманываясь, знай себе любуется этой пикантной и лицемерной игрой. Именно таким взглядом маркиз смотрел на Субретку; с остальными женщинами труппы он был рассеянно учтив, как и полагается благовоспитанному мужчине, чей выбор уже сделан.
«Он даже не поинтересовался, какая роль у главной героини! – расстроенно подумала Серафина. – Какое неприличие! Увы, этот вельможа и богач по части ума, воспитания и манер – совершенный нищий. Да и вкус у него самый плебейский. Жизнь в провинции не пошла ему на пользу, а привычка волочиться за всякими стряпухами и пастушками вконец испортила».
Подобные мысли, отражаясь на ее лице, ничуть не красили Серафину. Ее правильные, но суховатые черты становились необычайно привлекательными, когда их смягчали искусно отрепетированные улыбки и легкий прищур глаз, а гримаса разочарования лишь подчеркивала их резкость. Она была, бесспорно, красивее Зербины, но в ее красоте присутствовало что-то надменное, заносчивое, недоброе. Это, возможно, не остановило бы истинную любовь, но легкокрылую прихоть отталкивало мгновенно.
В конце концов маркиз удалился, не удостоив своим вниманием ни донну Серафину, ни Изабеллу, на которую, как он считал, пал выбор де Сигоньяка. Уже на пороге он обратился к Тирану:
– Я распорядился освободить для представления оранжерею – самое просторное помещение в замке. Туда уже, должно быть, доставили доски и козлы для подмостков, драпировки, скамьи – словом, все необходимое для сцены и зрителей. Мои слуги не имеют опыта в таких делах, поэтому командуйте ими, как надсмотрщик на галере гребцами-каторжниками. Они получили приказ повиноваться вам, как своему господину.
Лакей проводил Тирана, Блазиуса и Скапена в оранжерею. На этих троих обычно возлагались все хлопоты по устройству сцены. Помещение оказалось самым подходящим: – оно имело форму вытянутого прямоугольника, что позволяло на одном конце оборудовать сцену, а на оставшемся свободном пространстве расставить рядами кресла, стулья, табуреты и скамьи, сообразно положению зрителей и степени почета, который им следовало оказать. Стены оранжереи были отделаны в виде зеленых решеток для вьющихся растений, за которыми на голубом фоне были изображены античные постройки с колоннами, аркадами и куполами. Во всем была сохранена строгая перспектива, а однообразие ромбов и прямых линий решетки нарушалось виднеющимися кое-где гирляндами из листьев и цветов. Сводчатый потолок, в подражание настоящим небесам, был усеян пухлыми пятнами облаков и пестрыми загогулинами, изображавшими парящих птиц. Такой декор как нельзя лучше соответствовал новому назначению оранжереи.
В дальнем конце на козлах были сооружены слегка наклонные подмостки. По обе стороны сцены установили деревянные опоры для кулис, а ковровые портьеры, которым предстояло заменить занавес, натянули на веревки, переброшенные через два блока, и теперь они могли раздвигаться, собираясь слева и справа в виде драпировки, обрамляющей авансцену. Полоса ткани с вырезанными по нижнему краю фестонами, превратилась в портал и завершила оформление сцены.
Пока актеры и слуги заняты обустройством театра, вернемся к обитателям замка, о которых читателю следует кое-что знать. Мы до сих пор не упомянули о том, что маркиз де Брюйер был женат. Но это не наша вина, и такая забывчивость простительна, ведь он и сам не часто об этом вспоминал. Очевидно, любовь не имела ни малейшего отношения к этому союзу, а его фундаментом стали равное положение в обществе и соседство земельных владений двух семей. По истечении медового месяца, маркиз и маркиза, как и подобает людям благовоспитанным, но не испытывающим сердечного влечения, поставили крест на мифе о семейном счастье и зажили вместе, но на разных половинах замка. При этом они сохраняли доброе согласие и оказывали друг другу всяческое уважение, одновременно пользуясь всей свободой, какую только допускали приличия. Но не следует думать, что маркиза де Брюйер была женщиной безобразной или непривлекательной. О вкусах не спорят, и то, что порой отталкивает мужа, может стать лакомой приманкой для любовника. Любовь носит повязку на глазах, а брак смотрит в оба. А теперь мы представим вас маркизе, чтобы вы сами могли составить о ней представление.
Супруга владельца замка занимала отдельные покои, в которые маркиз не имел права входить, предварительно не оповестив об этом маркизу. Однако мы позволим себе эту нескромность, свойственную писателям всех времен и народов, и, не назвав себя пажу, который, в свою очередь, был обязан оповестить о посетителе камеристку, проникнем в спальню, словно у нас на пальце – перстень лидийца Гига, делавший своего хозяина невидимым.
Спальня маркизы была просторной, высокой, богато обставленной и великолепно отделанной. Стены ее были покрыты фламандскими шпалерами теплых и сочных тонов, изображавшими деяния бога Аполлона. Пунцовые драпировки из узорчатого индийского штофа пышными складками струились вдоль оконных проемов, и, когда солнечный луч пронизывал их, ткань начинала светиться рубиновым пурпуром. Кровать была декорирована тем же штофом, полосы которого были стянуты позументом так, что образовывались аккуратные складки, переливающиеся шелковистым блеском. По краю балдахина располагался ламбрекен[30], украшенный по углам пышными султанами ярко-розовых перьев фламинго. Камин, облицованный зеленым мрамором, был несколько выдвинут вперед и возвышался до самого потолка. Огромное венецианское зеркало в хрустальной раме, грани которой искрились радужными бликами, было вделано в верхнюю часть камина с легким наклоном вперед – то есть навстречу тому, кто в нем отражался. На каминной решетке под огромным колпаком из полированного металла, потрескивая, пылали три массивных полена. Исходившее от них приятное тепло было весьма кстати – в покое таких размеров в это время года довольно прохладно.
По обе стороны туалетного столика маркизы располагались два секретера изумительной работы. Их фасады были инкрустированы перламутром, яшмой и ониксом, колонки – ляпис-лазурью, а недра секретеров скрывали массу потайных ящиков и ящичков, в которые маркиз никогда не посмел бы сунуть нос, даже если бы знал, как открыть секретные замки. За туалетом, в характерном для эпохи Людовика XIII кресле с мягкой спинкой с бахромой на уровне плеч, сидела сама ее светлость мадам де Брюйер.
Две горничные суетились позади маркизы, прислуживая ей: одна держала на весу подушечку с булавками, другая – коробочку с мушками[31].
Хотя сама маркиза утверждала, что ей всего двадцать восемь лет, она уже явно перешагнула за тридцать – за тот рубеж, которого женщины страшатся не меньше, чем мореплаватели – мыса Бурь. Давно ли это случилось? Этого не могла бы сказать и сама маркиза, которая умудрилась так запутать все даты, связанные с ее прошлым, что даже опытный историк поседел бы, пытаясь разгадать эту загадку.
В юности она была брюнеткой с оливковой кожей, но от полноты, возникшей с возрастом, кожа ее посветлела, и надобность в жемчужных белилах и тальковой пудре отпала. Ныне лицо мадам сверкало матовой белизной, которая выглядела несколько болезненной при дневном свете, но совершенно ослепительной при свечах. Лицо ее слегка оплыло, щеки обвисли, однако оно еще сохраняло благородные очертания. Наметившийся второй подбородок весьма плавно переходил в шею. Несмотря на слишком резкую для дамы горбинку, нос маркизы выглядел горделиво, а над выпуклыми карими глазами высоко поднимались узкие дуги бровей, придавая ее взгляду выражение постоянного удивления.
Искусные руки куаферши только что закончили укладывать ее густые черные волосы. Судя по количеству папильоток, валявшихся на ковре вокруг туалетного столика, дело это было непростое. Мелкие, завитые спиралью локончики обрамляли лоб маркизы и курчавились у корней пышных волос, зачесанных назад и образующих подобие прибойной волны. Две пышные пряди, взбитые короткими движениями гребня, ниспадали вдоль щек, служа им изящной рамкой. Кокарда из лент, обшитых стеклярусом, венчала тяжелый узел, туго стянутый на затылке. Волосы были главным украшением маркизы, они позволяли ей делать любые, даже самые затейливые прически, не прибегая к накладным локонам, шиньонам и парикам. Поэтому обладательница этого сокровища охотно позволяла дамам и кавалерам присутствовать при ее туалете.
С полной высокой шеи госпожи маркизы взгляд соскальзывал к ее белоснежным пышным плечам, которые открывал вырез корсажа с парой соблазнительных возвышенностей, видневшихся в нем. Тугой корсет, стягивая талию и приподнимая грудь, сближал те два полушария, что у сочинителей витиеватых сонетов и мадригалов вечно именуются «враждующими братьями», хотя на самом деле причин для вражды у них нет.
Черный шелковый шнурок, продернутый в рубиновое сердечко, окружал шею мадам. На том же шнурке покачивался бриллиантовый крестик, как бы остужая своим видом языческую чувственность, пробуждаемую видом прелестей маркизы, лишь слегка укрытых пышными кружевами.
Поверх белой атласной нижней юбки на госпоже де Брюйер было надето шелковое платье цвета граната, украшенное черными бантами, стеклярусными пряжками и отвернутыми, как на рыцарских перчатках, твердыми манжетами.
Жанна, одна из горничных маркизы, протянула ей коробочку с мушками, которые в ту эпоху были обязательной деталью туалета любой модницы. Мадам де Брюйер наклеила одну из них над уголком рта и принялась искать подходящее место для другой – той, что зовется убийцей, ибо сражает наповал самых стойких кавалеров.
Горничные, сознавая всю важность происходящего, замерли, затаив дыхание, чтобы не спугнуть глубокомысленное раздумье госпожи. Наконец нерешительный пальчик маркизы устремился к цели и крохотная черная звездочка обосновалась у начала левой груди. На «языке мушек» это означало, что путь к устам возлюбленной ведет через ее сердце.
Вполне удовлетворенная, маркиза бросила последний взгляд в зеркало, склоненное над туалетным столиком, поднялась и прошлась по комнате, после чего вынула из шкатулки часы округлой формы – «нюрнбергское яйцо», как их называли тогда, покрытое изящным узором перегородчатой эмали и осыпанное мелкими бриллиантами. Повесив их на цепочку с застежкой, она прикрепила ее к поясу платья вместе с ручным зеркальцем в позолоченной оправе.
– Ваше сиятельство сегодня очаровательны: и прическа, и платье вам к лицу! – проворковала Жанна.
– Вот уж не нахожу, – рассеянно отозвалась маркиза. – Наоборот, мне кажется, что нынче я просто уродина! У меня круги под глазами, а цвет этого платья меня полнит. Может, все-таки надеть черное? Как ты думаешь, Жанна? В черном я выгляжу стройнее.
– Если вашему сиятельству угодно, я надену на вас платье из красновато-коричневой тафты, или цвета спелой шелковицы. Дело это минутное, да только боюсь я, как бы этим мы не испортили весь ваш наряд, ваше сиятельство.
– Ну, смотри, Жанна, – ты будешь виновата, если я отпугну сегодня вечером Амура и моя сердечная жатва окажется скудной… Много гостей пригласил маркиз на представление комедиантов?
– Егеря разосланы верхом по всей округе. Общество соберется многолюдное, съедутся из всех окрестных замков. Не так уж часты в наших краях случаи, позволяющие как следует поразвлечься!
– Твоя правда, – подтвердила маркиза, вздыхая. – Насчет развлечений у нас здесь вечный пост. А видела ли ты этих комедиантов? Есть ли среди них молоденькие, красивые и с пристойными манерами?
– Не знаю, что и ответить вашему сиятельству. От румян, белил и париков лица этих людей становятся похожими на маски. Они очень выигрывают при свечах, но днем вовсе не таковы, какими кажутся на сцене. Все же мне показалось, что один из них и внешностью, и манерами совсем недурен: у него отменные зубы и стройные икры.
– Это, должно быть, первый любовник, Жанна, – заметила маркиза. – На эти роли назначают самых красивых мужчин в труппе, ведь не подобает же какому-нибудь носатому и опухшему нашептывать нежности, а кривоногому преклонять колени для объяснений в любви.
– Ну, это уж совсем никуда не годится, ваша светлость, – со смехом подтвердила горничная. – Мужья – бог с ними, они таковы, каковы есть, а уж любовники должны быть во всем безупречны.
– Потому-то мне и по вкусу эти театральные любезники. Они обучены говорить свободно, с возвышенным красноречием, и умело выражают чувства: томятся у ног жестокой красавицы, призывают в свидетели небеса и преисподнюю, проклинают жестокую судьбу, то и дело выхватывают из ножен кинжал, чтобы в случае отказа вонзить его себе грудь, извергают страсть, словно огнедышащий вулкан. Своими речами они способны преодолеть сопротивление даже самой неприступной добродетели, а их слова на сцене так волнуют, будто обращены прямо к тебе. Порой меня даже раздражает холодность героинь-красоток и я просто вне себя от негодования, что по их милости так страдает замечательный любовник.
– У вашего сиятельства ангельская душа, – ответила Жанна. – Я знаю, вы не в силах видеть чужие страдания. А вот мое сердце давно зачерствело и я бы, пожалуй, охотно взглянула, как на самом деле умирают от любви. Красивыми словами меня уже не убедить!
– До чего же у тебя прозаический и приземленный ум, Жанна! Вечно тебе нужны материальные доказательства. Ты просто не привыкла читать романы и театральные пьесы!.. Если я не ослышалась, ты сказала, что первый любовник этой труппы недурен собой?
– Судите сами, ваше сиятельство, – отвечала камеристка, бросив взгляд за окно. – Этот молодой человек как раз сейчас пересекает двор замка, направляясь, наверно, в оранжерею, где сооружают сцену.
Приблизившись к высокому оконному проему, маркиза увидела Леандра. Тот шел медленно, с отсутствующим видом, словно погруженный в тайные грезы. Он любил казаться меланхоличным, зная, что это привлекает внимание женщин, которые, по своей склонности к состраданию, всегда готовы утешить страдальца.
Оказавшись у самого балкона, Леандр точно рассчитанным движением вскинул голову, что придало его глазам почти магический блеск, и устремил на окно спальни маркизы томный и печальный взгляд, полный тоски по недосягаемой любви, и одновременно выражающий самое искреннее и почтительное восхищение. Приметив за стеклом маркизу, первый любовник широким жестом сорвал с головы шляпу, словно вознамерившись мести ею двор, и отвесил один из тех поклонов, в которых склоняются перед верховными жрицами и богинями и которые только подчеркивают непостижимость расстояния между обителью богов и ничтожным смертным.
Затем он вернул шляпу на место, причем с редкой грацией, и снова приобрел гордый и заносчивый вид кавалера, лишь на мгновение павшего ниц к подножию символа красоты. Все это было проделано отчетливо, точно и не без блеска. Даже настоящий вельможа, всю жизнь вращавшийся в благородном обществе и при королевских дворах, едва ли сумел бы с такой точностью передать каждый оттенок испытываемых им чувств.
Мадам де Брюйер, польщенная этим приветствием, сдержанным и вместе с тем благоговейным и отдающим должное ее высокому положению, не могла удержаться, чтобы не ответить благосклонным кивком и легкой улыбкой.
Эти знаки внимания не ускользнули от Леандра, и он с присущим ему пылом тут же преувеличил их смысл, решив, что маркиза готова в него влюбиться. В его разгоряченном воображении уже сложился целый роман. Вот-вот осуществится мечта всей его жизни! Ему, нищему провинциальному актеру – разумеется, редкостно одаренному, но никогда еще не игравшему при дворе – предстоит любовная интрига со знатной дамой, владелицей поистине герцогского замка!
От этих фантазий в голове у него помутилось, сердце застучало так, словно собиралось выпрыгнуть из груди, и, вернувшись к себе после репетиции, Леандр уселся сочинять высокопарное любовное послание, рассчитывая при случае каким-то образом вручить его маркизе…
Поскольку все роли в «Родомонтаде капитана Матамора» были давным-давно известны актерам, представление могло начаться сразу же, как только закончат съезжаться гости маркиза.
Оранжерея, превращенная в театральный зал, выглядела великолепно. Свечи в настенных жирандолях[32] распространяли мягкий свет, выгодный для женских нарядов и лиц, но не мешающий сценическим эффектам. Позади зрителей на ступенчатом возвышении были расставлены кадки с померанцевыми деревьями. Их листья и плоды, согретые теплом зала, источали тонкий аромат, который смешивался с запахами женских духов – мускуса, бензойной смолы, ириса и амбры.
Массивные кресла в первом ряду, перед самой сценой, занимали Иоланта де Фуа, герцогиня де Монтальбан, баронесса д’Ажемо, маркиза де Брюйер и еще несколько родовитых особ, соперничавших между собой великолепием нарядов. Шелковый бархат и атлас, серебряная и золотая парча, кружева, гипюр, бриллиантовые броши, жемчужные ожерелья, серьги с подвесками, заколки, усыпанные драгоценными камнями, искрились в свете свечей, переливаясь всеми цветами радуги. Но куда ярче бриллиантов сверкали глаза благородных дам. Пожалуй, и при дворе нелегко было бы собрать столь блистательное общество.
Не будь там Иоланты де Фуа, Парису пришлось бы основательно призадуматься, кому из этих красавиц вручить золотое яблоко первенства. Однако само ее присутствие делало любое состязание бесполезным. Вместе с тем эта юная аристократка меньше всего походила на мягкосердечную и снисходительную Афродиту, а скорее на суровую богиню-охотницу Диану. Красота ее была холодна и безукоризненна, в осанке сквозила непреклонная решимость, а ее совершенство могло кого угодно довести до отчаяния. Изящный, слегка удлиненный овал лица этой девушки казался выточенным из агата или оникса, а не сотворенным из плоти, а в его чертах воплощались поистине неземные чистота и благородство. Тонкая и гибкая, словно у лебедя, шея Иоланты девственной линией переходила в плечи, еще девически худощавые, и в снежно-белую грудь, казалось, дышавшую ледниковым холодом. Трудно было представить, чтобы эта грудь могла затрепетать от бурного биения сердца. Губы ее, изящно изогнутые, словно лук Дианы, метали стрелы иронии даже тогда, когда безмолвствовали, а твердый и пронзительный взгляд темно-голубых глаз пресекал всякие поползновения смельчаков.
И вместе с тем очарование этой юной девушки было поистине сокрушительным. Ее дерзостный и ослепительный облик будил несбыточные желания. Ни один мужчина, видевший Иоланту, не мог не влюбиться в нее с первого взгляда, но питать надежду на взаимность и продолжать ее добиваться отваживались лишь немногие.
Как она была одета? У нас не хватит слов и воображения, чтобы достойно описать ее наряд. Скажем только, что одежда облекала ее стан некой лучезарной дымкой, в которой каждый видел не одежду, а лишь ту, на ком она была надета. Образ этот довершали гроздья крупных жемчужин, которые, переплетаясь с золотистыми кудрями девушки, образовывали ореол, сиявший вокруг ее чистого лба.
Позади дам на табуретах и скамьях расположилась местная знать: отцы, мужья и братья красавиц. Кое-кто из них порой изящно склонялся над спинками кресел, нашептывая любезности, другие обмахивались плюмажами своих шляп или, выпрямившись во весь рост и уперев одну руку в бедро, окидывали публику самодовольными взглядами, красуясь своей статью. Гул голосов, словно туман, витал над головами зрителей, которые уже начинали терять терпение. Но тут раздались три мерных удара жезла о подмостки, и тотчас воцарилась тишина.
Занавес торжественно раздвинулся, открыв декорацию, изображавшую городскую площадь – место, чрезвычайно удобное для интриг и случайных встреч в ходе действия простенькой комедии. Выглядело оно как небольшой пятачок, окруженный домами с островерхими кровлями, с выступающими над улицей верхними этажами и оконцами в свинцовых переплетах. Из труб штопором поднимались дымки к облакам, которым уже никакие усилия не могли вернуть первозданную белизну. На углу двух холщовых улиц, кое-как изображенных в уходящей вдаль перспективе, высился дом с настоящей дверью и подлинным окном. На одной из кулис был укреплен балкон, на который можно было попасть по лесенке, невидимой для зрителей. Он предназначался для интимных бесед, свидания и похищений, которые так по душе испанским авторам драм.
Теперь вы видите, что сцена нашей маленькой труппы была совсем недурно оборудована по тем временам. Конечно, знатоки сказали бы, что декорации были намалеваны неумело и грубо. Черепичные крыши резали глаз неуместной яркостью, листва на деревьях перед домами отливала ядовитой зеленью, а голубые просветы между облаками имели цвет медного купороса. Но в целом снисходительный зритель мог довольно легко представить себе, что перед ним – действительно городская площадь.
Рампа с двадцатью четырьмя свечами, с которых был со всей тщательностью снят нагар, ярко освещала снизу эти бесхитростные декорации, явно не привыкшие к такому буйству света. Пестрое зрелище немедленно вызвало в публике гул одобрения.
Действие комедии началось ссорой добропорядочного буржуа Пандольфа с дочерью Изабеллой. Та объявила, что без ума от белокурого красавца Леандра, а потому ни за что не пойдет замуж за капитана Матамора, которого навязывал ей отец. Служанка Зербина, подкупленная Леандром, тут же выступила на ее стороне, и Пандольф принялся ругательски ругать дерзкую Субретку, а она мгновенно находила сотни доводов и возражений и в конце концов присоветовала хозяину самому обвенчаться с Матамором, раз уж он так ему по душе. А она, Зербина, не допустит, чтобы ее молодая хозяйка стала супругой старого филина, носатой образины, которая кирпича просит, тощего пугала, которого заждались в огороде.
До крайности взбешенный Пандольф, желая остаться с дочерью наедине, попытался прогнать Субретку в дом, но та плечом защищалась от его тычков и толчков, не трогаясь с места, и при этом так изгибала стан, так задорно поводила бедрами, так кокетливо взмахивала юбками, что даже настоящая балерина лопнула бы от зависти. На каждый промах неуклюжего Пандольфа она отвечала смехом, показывая все тридцать два жемчужных зуба, ее сильно подведенные глаза сверкали, губы рдели от кармина, а новые юбки, сшитые из тафты, подаренной маркизом, шуршали, взлетали, вспыхивали бликами и, казалось, сыпали искры.
Эта сцена вызвала дружные аплодисменты, и владелец замка Брюйер лишний раз убедился, что не ошибся, остановив выбор на этой девушке – истинной жемчужине среди субреток.
Тем временем на сцене появился новый персонаж, который двигался озираясь, словно из опасения, что его заметят. То был Леандр – бич отцов, мужей и опекунов, любимец жен, дочерей и воспитанниц – одним словом, первый любовник, тот, о ком мечтают, кого ждут и кого ищут, воплощение отвлеченного идеала. Именно ему предстояло осуществить то, что обещают зрителям и читателям поэты, драматурги и романисты: стать олицетворением молодости, страсти и счастья, не зная при этом немощей и болезней, не испытывая ни голода, ни жажды, не страдая от зноя и стужи, не ведая ни страха, ни усталости. Ему предписывалось ни ночью, ни днем не терять способности испускать томные вздохи, без конца лепетать о любви, подкупать дуэний и субреток, карабкаться по веревочным лестницам, хвататься за шпагу при встрече с соперником – и при этом всегда оставаться чисто выбритым, аккуратно завитым, иметь безупречное платье и белье, строить глазки и складывать губы сердечком, как у восковой куклы!
Право слово, трудное ремесло, которое не окупит даже любовь всех женщин без исключения!
Обнаружив Пандольфа на том месте, где он рассчитывал встретить Изабеллу, Леандр замер в позе, которая была тщательно отработана им перед зеркалом, ибо подчеркивала достоинства его внешности: стан слегка наклонен влево, правая нога согнута в колене, одна рука лежит на эфесе шпаги, другая потирает подбородок, да так, чтобы публике при этом был виден блеск крупного бриллианта в перстне. При этом пламенный взор туманится неизвестно откуда взявшейся негой, а легкая улыбка приоткрывает ослепительную эмаль зубов.
В ту минуту он был и в самом деле хорош собой. Новые ленты освежили его костюм, сорочка ослепительной чистоты виднелась между камзолом и панталонами, узконосые башмаки на высоких каблуках, украшенные пряжками, дополняли облик идеального кавалера. Даже желчная и придирчивая Иоланта не увидела в нем повода для насмешки. Воспользовавшись паузой, Леандр через рампу взглянул в зал – на маркизу. Это был один из его наиболее обольстительных взглядов – полный такой страстной мольбы, что благородная дама невольно залилась краской. Когда же он перевел этот взгляд на Изабеллу, он был уже потухшим и рассеянным, чем ясно была продемонстрирована разница между любовью истинной и наигранной.
При виде Леандра Пандольф впал в неописуемую ярость. Он приказал дочери и Субретке немедленно удалиться и не показываться из дома, однако Зербина все же успела передать Изабелле записочку от Леандра с мольбой о ночном свидании. Оставшись с глазу на глаз с разъяренным отцом, молодой человек самым учтивым образом принялся уверять его в чистоте своих помыслов, а также в благородстве своего происхождения, покровительстве сильных мира сего и в наличии связей при дворе. Закончил он тем, что даже смерть не сможет разлучить его с Изабеллой, ибо он любит ее больше жизни. Тем временем эта юная девица, стоя на балконе, с восторгом внимала его речам, выражая свое одобрение грациозными жестами и улыбками.
Тем не менее слащавое красноречие Леандра не подействовало на Пандольфа – с чисто старческим упрямством он гнул свое: либо его зятем станет капитан Матамор, либо его дочь окончит свои дни в монастыре. Не долго думая, старик отправился за нотариусом, чтобы одним махом покончить с этим делом.
Перед тем, как удалиться, Пандольф запер дверь дома, дважды повернув ключ в замке, и теперь Леандр принялся убеждать тотчас появившуюся на балконе красотку, что она должна бежать вместе с ним в обитель одного знакомого ему монаха, который никогда не отказывается сочетать законным браком влюбленных, которым препятствуют деспоты-родители. На это Изабелла, не отрицая, что страсть Леандра производит на нее глубокое впечатление, целомудренно заявила, что детям надлежит почитать тех, кто произвел их на свет, добавив, что монах этот, чего доброго, даже не рукоположен и не имеет права совершать таинства по всем правилам. Вместо этого она поклялась всеми силами сопротивляться намерениям отца: мол, она скорее примет монашеский постриг, чем позволит соединить свою ручку с лапищей капитана Матамора.
Влюбленный отправился уладить кое-какие дела с помощью слуги – расторопного малого, невероятно изобретательного на всяческие плутни, уловки и хитрости, пообещав к вечеру вернуться под окно возлюбленной и дать ей полный отчет.
Едва Изабелла скрылась, как на сцене появился Матамор. Его выход произвел сильный эффект. Этот персонаж обладал удивительным даром заставлять смеяться даже самых закоренелых меланхоликов.
Хотя ничто, как будто, не могло вызвать его гнев, капитан, совершая шаги длиной футов в шесть, устремился к рампе и остановился на авансцене, расставив ноги циркулем и свирепо пожирая глазами публику. При этом он нагло и заносчиво подбоченился, словно готов был бросить вызов всем и каждому, закрутил ус, завращал глазами и звучно запыхтел, будто за некую мнимую обиду готов истребить весь род человеческий.
Ради сегодняшнего представления Матамор извлек из недр своего сундука почти новый испанский костюм, который носил на сцене только по особым случаям, и от его почти карикатурной пышности казался еще нелепее, ибо выглядел, как расфранченный скелет. Костюм этот состоял из скроенного наподобие лат камзола, испещренного красными и желтыми поперечными полосами, которые сходились под углом к середине его груди – туда, где сверкал ряд пуговиц. Мыс камзола спускался до самого паха, а его края и проймы были обшиты толстым желтым жгутом. Такие же красные и желтые полосы закручивались спиралями вокруг рукавов и штанин капитана, отчего его руки и бедра казались увитыми лентами жердями. Натяните на петуха красные чулки – и вы получите полное представление об икрах Матамора. Огромные желтые помпоны болтались на его башмаках с красными прорезями, словно капустные кочаны на грядке; подвязки с бантами неописуемой величины стягивали его голенастые ноги над коленом. Брыжи, поддерживаемые картоном, охватывали его шею и вынуждали беднягу беспрестанно задирать голову, что вполне отвечало духу его заносчивых персонажей. Все это великолепие венчала пародия на шляпу в духе Генриха IV – с загнутым полем и пучком красных и белых куриных перьев. За плечами Матамора развевался плащ тех же цветов, комически оттопыренный исполинской рапирой с тяжеленной чашкой. На конце ее клинка, на который можно было бы нанизать дюжину сарацинов, болталась проволочная розетка тонкой работы, изображавшая паутину – знак того, как редко капитан пользуется своим смертоносным оружием. Те зрители, кто обладал особенно острым зрением, могли разглядеть даже крохотного металлического паучка, который безмятежно болтался на металлической нити.
Матамор, сопровождаемый своим слугой Скапеном, который то и дело рисковал остаться без глаза из-за беспорядочно болтающейся во все стороны рапиры, раздраженно прошелся туда-сюда по сцене, громыхая шпорами, надвигая шляпу на лоб и совершая множество других смехотворных ужимок, которые вызвали безудержный хохот в зале. Наконец он вновь остановился у рампы и начал монолог, обильно пересыпанный похвальбой, преувеличениями и откровенным враньем. Попытаемся передать его здесь вкратце:
– Ныне, Скапен, я позволяю моему смертоносному клинку отдохнуть в ножнах! Пусть пока лекаря умножают население кладбищ, хотя их главным поставщиком все равно остаюсь я и только я! Кто, по-твоему, сверг с престола персидского хана, вытащил за бороду Арморабаккена из его шатра, одновременно сразив десять тысяч неверных? Кто одним пинком сокрушил стены множества крепостей, кто вновь и вновь бросал вызов судьбе, отвешивал оплеухи случаю, предавал огню и мечу всяческое зло? Тому, кто ощипал, словно жирного гуся, Юпитерова орла, который в страхе отказался принять мой вызов, кто шел против пушек с голыми руками, вспарывая облака остриями усов, не грех порой побездельничать и развлечься. Ведь вселенная укрощена, в ней нет больше преград для меня, а парка Атропа лично сообщила мне, что ножницы, которыми она перерезала нити оборванных моим мечом жизней, затупились, и ей пришлось отправить их к точильщику. Итак, Скапен, до поры до времени мне придется обуздать свою воинственную отвагу, прекратить дуэли, войны, избиения, разгромы, опустошения городов и сел, рукопашные схватки с великанами, а также истребление чудовищ подобно Тесею и Гераклу. Я желаю отдохнуть сам и даю передышку Смерти! Но в каких развлечениях проводит досуг бог Арес, этот мелкий скандалист в сравнении со мной? Разумеется, он только и делает, что нежится в объятиях госпожи Афродиты, которая, как известно, отдает предпочтение бесстрашным воинам, пренебрегая хромым мужем-рогоносцем. Вот почему я решил снизойти до обычных человеческих чувств, и, приметив, что Амур не решается направить в такого испытанного храбреца, как я, свою стрелу с золотым наконечником, поощрительно ему подмигнул. Мало того: чтобы она могла глубже вонзиться в мое поистине львиное сердце, я снял кольчугу, сплетенную из колец, которые дарили мне мои знатные и прославленные возлюбленные – богини, императрицы, королевы, инфанты, принцессы и знатные дамы, чтобы их волшебная сила оберегала меня в любых безрассудствах!
Слуга, делавший вид, будто с напряженным вниманием вникает в эту пламенную тираду, ехидно заметил:
– Насколько моему жалкому уму доступны сокровища вашего великолепного красноречия, уснащенного пышными оборотами в азиатском вкусе, вы, ваша доблестнейшая милость, воспылали страстью к какому-то юному бутончику! Иначе говоря – влюбились, как самый обыкновенный смертный!
– Ты прав, – небрежно согласился Матамор. – На это раз ты угодил в самую середку мишени, Скапен, из чего можно заключить, что для слуги смекалка у тебя недюжинная. Да, я проявил слабость и теперь влюблен. Но не бойся – это не поколеблет мою отвагу. Я не Самсон, чтобы позволить женщине остричь себя, и не Геракл, чтобы сидеть за прялкой перед Омфалой. Ха! Пусть бы Далила только попробовала коснуться моих волос! А Омфале осталось бы только одно – покорно стаскивать с меня сапоги да, может, чистить от пыли мой плащ, словно шкуру Немейского льва…
Знаешь ли, Скапен, однажды в часы раздумий, меня посетила одна мысль, довольно обидная для столь отважного сердца: да, я поставил на колени род человеческий, сразив многих и многих, но это коснулось лишь одной его половины. Другая половина – женщины, создания беззащитные – ускользнула от моей власти. Посуди сам: слыханное ли дело рубить им головы, руки и ноги или рассекать пополам до пояса, как я обычно поступаю с врагами-мужчинами? Галантность не предусматривает такого обращения с дамами. Впрочем, мне достаточно покорности их сердец, безоговорочной капитуляции души и расправы над их добродетелью. Число покоренных мною дам превышает количество песчинок на морском берегу и звезд на небе, я вожу за собой четыре сундука с любовными записками, письмами и пространными посланиями, сплю на тюфяке, набитом черными, русыми, рыжими и белокурыми локонами, которыми повсюду одаривали меня возлюбленные. Со мной кокетничала сама богиня Юнона, но я отверг ее, ибо счел изрядно перезревшей за время бессмертия! Но все эти победы для меня не имеют цены, как никому не нужен лавровый венок, в котором недостает хотя бы одного листка. Прелестная Изабелла смеет мне противиться! Разумеется, любые преграды только разжигают страсть, но этакую дерзость я не могу стерпеть и поэтому требую, чтобы она сама, моля о пощаде и помиловании, принесла мне на серебряном блюде золотые ключи от своего сердца. Ступай же Скапен, заставь эту твердыню капитулировать! Даю ей три минуты на размышления!
С этими словами Матамор застыл в позе сломанного циркуля, комизм которой усугубляла его невообразимая худоба.
Окно, однако, так и осталось запертым, несмотря на стук и призывы слуги лакея. Гарнизон крепости, состоящий из Изабеллы и Зербины, был уверен в прочности ее стен, не боялся осады и не подавал признаков жизни. Матамор, казалось, был поражен этим молчанием.
– Кровь и огонь! Небеса и земля! Гром и молния! – взревел он, встопорщив усы, как рассерженный кот. – Этим несчастным не удастся отсидеться! Пусть выбросят белый флаг и протрубят отбой, иначе я одним щелчком разрушу эту жалкую хижину! И поделом упрямице, если она окажется под развалинами! Скапен, друг мой, как по-твоему, чем объяснить это дикое и ничем не обоснованное сопротивление моим чарам, перед которыми ничто не в силах устоять – ни на суше, ни на море, ни на самом Олимпе, обиталище богов?!
– Я объясняю это просто, сударь. Некий Леандр – он, конечно, не так хорош, как ваша милость, но ведь не все обладают хорошим вкусом – вступил в сговор с местным гарнизоном. Так что вы имеете дело с крепостью, покоренной другим завоевателем. Вы взяли в плен отца, а Леандр – дочь. Вот и все!
– Как? Ты сказал – Леандр?! О, не произноси при мне это презренное имя, не то я впаду в бешенство, сорву с небес солнце, поставлю синяк под глазом луне, а заодно, ухватив землю за ось, так тряхну ее, что случится новый Всемирный потоп! Этот жалкий щенок осмеливается прямо у меня под носом ухаживать за Изабеллой, властительницей моих помыслов? Ну, только появись здесь, слюнявый развратник, воришка с большой дороги, я вырву тебе ноздри, распишу крестами твою физиономию, проткну тебя насквозь, разнесу, раздавлю, выпотрошу и растопчу тебя, а напоследок сожгу и развею пепел! Если ты попадешься мне под руку, пока я во гневе, пламя из моих ноздрей отбросит тебя за пределы вселенной! Стать мне поперек дороги! Я содрогаюсь от мысли, сколько бедствий эта дерзость навлечет на несчастное человечество. Справедливо покарать такое преступление я могу лишь одним способом – раскроив могучим ударом всю эту погрязшую в скверне планету… Леандр – соперник Матамора! Даже выговорить страшно подобную ересь, слова застревают в горле и не соединяются одно с другим. Итак, отныне и впредь Леандр – да простится мне, что я вынужден произносить это пропитанное гнусностью имя! – может считать себя покойником! Пусть поторопится заказать себе у каменотеса надгробную плиту, ибо я, пожалуй, по своему великодушию позволю похоронить его по-человечески…
– Клянусь Дианой – легок на помине! – внезапно воскликнул слуга. – Сударь, кажется, господин Леандр собственной персоной приближается к нам! Вот вам и самый удобный случай объясниться с ним начистоту. Представляю, каким великолепным зрелищем станет схватка двух таких храбрецов! Не скрою от вас, что среди здешних учителей фехтования этот дворянин пользуется доброй славой. Лучше поторопитесь обнажить клинок, а я, если дело дойдет до поединка, постою на страже, чтобы нам никто не посмел помешать.
– Кто бы ни вмешался, искры от наших клинков вмиг обратят их в бегство. Кто посмеет сунуться в круг, полный огня и крови? Но ты, Скапен, не удаляйся на большое расстояние: если по досадной случайности мне будет нанесен ощутимый удар, примешь меня в свои объятия, – ответил Матамор, надеявшийся, что поединок, едва начавшись, будет прерван.
– Действуйте отважно, и покончим с Леандром раз и навсегда! – воскликнул слуга, подталкивая своего хозяина вперед. – Ступайте ему навстречу!
Убедившись, что сам отрезал себе все пути к отступлению, Матамор надвинул шляпу на глаза, снова закрутил усы и взялся за эфес рапиры. Приблизившись к Леандру, он смерил его с ног до головы дерзким взглядом. Однако это была всего лишь поза: даже в публике слышали, как стучат его зубы; тощие ноги капитана подгибались, словно стебли тростника на ветру. Подобно всем зайцам, прячущимся в львиной шкуре, рассчитывал он только на то, что раскаты его громового голоса нагонят страху на Леандра.
– Знаете ли вы, сударь, что перед вами – капитан Матамор, потомок славных родов Куэрно де Корнасан и Эскобомбардон де ла Папиронтонда и свойственник по женской линии самого Антея?
– Да хоть бы вы были родом с луны, – презрительно поведя плечами, отвечал Леандр, – мне-то какое дело до этой чепухи!
– Проклятье! Сейчас, сударь, вам будет до этого дело, но лучше, пока не поздно, убирайтесь отсюда, и я пощажу вас. Мне жалко вашей молодости. Только взгляните на меня: я – гроза вселенной, главный поставщик всех могильщиков; там, где я прошел, встает лес могильных крестов. Куда бы то ни было я вхожу через пролом в стене, а выхожу через триумфальную арку, делаю шаг вперед только с выпадом клинка, подаюсь назад лишь парируя удар, а если и ложусь, то это означает одно – враг повержен и пора отдохнуть! Ежели я переправляюсь через реку – значит, это река крови, а мостовые арки – ребра моих соперников. Я наслаждаюсь в гуще битвы, убивая, рубя, круша направо и налево, пронзая одного врага за другим. Я поднимаю в воздух коней вместе с всадниками и, как соломинки, ломаю хребты боевых слонов. Беря крепость приступом, я взбираюсь на стены с помощью пары крючьев и голыми руками вырываю ядра из пушечных жерл. Вихрь, поднятый моим мечом, опрокидывает целые батальоны, а сам Марс, встретившись со мной на поле сражения, спешит убраться, ибо знает, что я могу уложить его на месте, хоть он и зовется богом войны. Иными словами: отвага моя столь беспредельна, и ужас, внушаемый мной, так силен, что до сей поры мне приходилось видеть лишь спины подобных вам храбрецов!
– Это мы исправим! Сейчас вы увидите одного из них в лицо, – объявил Леандр и тут же отвесил Матамору до того увесистую оплеуху, что по всей оранжерее прокатилось эхо.
Бедняга покачнулся и едва не упал, но вторая, не менее оглушительная оплеуха с другой стороны тотчас вернула ему равновесие.
В то же мгновение Изабелла и Зербина появились на балконе. Лукавая Субретка звонко хохотала хватаясь за бока, а ее госпожа любезно кивала Леандру. Тут в глубине сцены показался Пандольф, сопровождаемый нотариусом и, в изумлении растопырив руки и вытаращив глаза, уставился на то, как Леандр колотит Матамора.
– Клянусь чешуей крокодила и рогом носорога, – возопил хвастун, – могила твоя уже вырыта, и мне осталось только столкнуть в нее тебя, прохвост, мошенник, проходимец! Лучше бы ты осмелился дернуть за усы тигра в индийских лесах или ядовитую змею за хвост! Оскорбить действием самого Матамора! На это не отважился бы бог подземного мира Плутон, иначе я сверг бы его с адского престола и завладел Персефоной! Ну же, мой смертоносный клинок, выйди на свет, сверкни на солнце и покарай безрассудного наглеца! Я жажду его крови и, клянусь, своими руками вырву душу из его груди вместе с трепещущим сердцем!
Произнося все это, Матамор отчаянно напрягался, бешено вращал глазами и прищелкивал языком, словно всячески пытаясь извлечь непокорное оружие из ножен. Он весь покрылся потом от бесплодных усилий, но смертоносная сталь, судя по всему, не желала сегодня покидать свое убежище, должно быть, опасаясь сырого воздуха.
Наконец Леандру наскучило смотреть на эти смехотворные попытки, и он дал велеречивому хвастуну такого пинка, что тот отлетел на противоположную сторону сцены, после чего, отвесив изящный поклон Изабелле, удалился.
Матамор остался лежать на спине, болтая в воздухе своими тонкими, как лапки саранчи, ногами. Лишь приняв с помощью Скапена и Пандольфа вертикальное положение и убедившись, что Леандр удалился, он напустил на себя вид человека, буквально захлебывающегося от ярости.
– Ко мне, Скапен! Сделай милость, живо надень на меня парочку железных обручей, иначе я просто лопну от бешенства, взорвусь, как пороховая бомба!.. А ты, коварный клинок, изменивший своему господину в роковую минуту? Вот она, твоя благодарность за то, что я год за годом поил тебя кровью прославленных воинов и бесстрашных дуэлянтов! Мне следовало бы переломить тебя о колено за такую трусость, предательство и вероломство, но я этого не сделаю, ибо ты напомнил мне, что истинный воин должен всегда быть готов к битве. И в самом деле: ведь за эту неделю я не разгромил ни одной армии, не сразил даже самого завалящего дракона или иного чудовища! И вот ржа – эта плесень праздности – покрыла мой меч! На глазах моей избранницы какой-то сопляк осмелился унизить и оскорбить меня! Мудрый урок, поистине нравственное назидание! Отныне я ежедневно перед завтраком буду убивать не менее двух-трех человек, чтобы мое оружие не ржавело в ножнах. А ты, Скапен, не забывай напоминать мне о моем долге!
– Леандр, того гляди, вернется, – отвечал слуга. – А не попробовать ли нам втроем вытащить из ножен эту смертоносную сталь?
Матамор, изогнувшись дугой, уперся в мостовую, Скапен обеими руками схватился за рукоять, Пандольф – за Скапена, а нотариус за Пандольфа. После нескольких отчаянных попыток рапира уступила натиску троих комедиантов, причем двое из них отлетели в одну сторону, а Матамор – в другую. Там он рухнул навзничь, потрясая в воздухе башмаками и не разжимая рук, мертвой хваткой вцепившихся в ножны.
Затем он резво вскочил, завладел рапирой и бешено прошипел:
– Все, теперь Леандру конец. У него остался единственный способ избежать гибели – немедленно перебраться на какую-нибудь далекую планету, ибо я извлеку его даже из земных недр, чтобы пронзить насквозь, если еще прежде того он не обратится в камень от одного моего взгляда!
Несмотря на то что с Матамором приключилась такая смехотворная незадача, упрямец Пандольф продолжал верить в его отвагу и не помышлял отречься от своей нелепой затеи – выдать дочь за этого блистательного воина. Изабелла снова ударилась в слезы, твердя, что предпочтет монастырскую келью такому мужу. Зербина восхваляла Леандра и то и дела клялась своим целомудрием – хороша клятва, нечего сказать! – что сделает все, чтобы эта свадьба не состоялась.
Матамор, по-прежнему ничего не понимавший и не видевший ничего вокруг, кроме собственной блистательной персоны, приписал столь холодный прием избытку девичьей стыдливости у Изабеллы. Но ведь это совершенно естественно – благовоспитанные особы не выставляют свои чувства на всеобщее обозрение. Кроме того, он ведь еще и не начал ухаживать за девушкой по-настоящему, не показал себя во всем блеске!
Однако обе женщины, не желая слушать напыщенного болтуна, скрылись в доме. Матамор, желая казаться галантным кавалером, приказал слуге принести гитару, поставил ногу на тумбу ограды и принялся терзать инструмент, пытаясь извлечь из него хоть какую-нибудь мелодию. Сам же принялся напевать по-испански куплеты какой-то сегидильи[33], но с такими взвизгами и гнусавыми завываниями, что ему мог бы позавидовать даже мартовский кот, обольщающий на крыше свою пушистую пассию. Даже полный кувшин воды, коварно выплеснутый на него Зербиной под предлогом поливки цветов на балконе, не остудил музыкального пыла капитана.
– О, это сама прекрасная Изабелла плачет слезами умиления! – пояснил он публике. – Ведь во мне воин уживается с виртуозом во всех родах искусства, и лирой я владею не хуже, чем мечом!
Но тут на шум явился Леандр, бродивший неподалеку. Чтобы прекратить эту дьявольскую серенаду, он вырвал гитару из рук оцепеневшего от ужаса Матамора и с такой силой хватил его инструментом по черепу, что дека треснула и голова капитана прошла сквозь нее, оказавшись словно в китайской колодке. Не выпуская грифа из рук, Леандр принялся таскать несчастного из стороны в сторону, при этом Матамор ушибался о кулисы и натыкался на лампы и свечи, комически вопя от ожогов. Натешившись, Леандр неожиданно отпустил жертву, и Матамор рухнул плашмя, а гитара при этом выглядела, как сковорода с ручкой, на которой вертелась во все стороны голова злополучного фанфарона.
Но на этом его беды не закончились. Слуга Леандра, известный неистощимой изобретательностью, придумал каверзную уловку, способную расстроить брак Изабеллы и Матамора. С этой целью он удалился, чтобы побеседовать с глазу на глаз с некоей Доралисой. И вот эта кокетливая и легкомысленная особа появилась на сцене в сопровождении братца-бретера, которого изображал Тиран. Бородач принял свое самое свирепое обличье, под мышкой у него торчала пара рапир, сложенных крест-накрест, что придавало им особенно угрожающий вид. Доралиса явилась с жалобой на Матамора, который якобы соблазнил ее и оставил ради Изабеллы, дочери Пандольфа, а такое оскорбление, как известно, можно смыть только кровью негодяя.
– Вам ничего не стоит в два счета справиться с этим головорезом, – стал торопить Пандольф своего будущего зятя. – Для доблестного воина, которого не смутили даже орды сарацинов, это сущая безделица!
После целого ряда забавных отговорок Матамору, скрепя сердце, все-таки пришлось стать в позицию, но при этом он дрожал, как осиновый лист. «Брат Доралисы» первым же ударом вышиб у него из рук рапиру и принялся колотить ею хвастливого болтуна, пока тот не запросил пощады.
И в довершение ко всему на сцене появилась старуха, одетая испанской дуэньей, и, утирая притворные слезы огромным платком, с душераздирающими стонами сунула под нос Пандольфу обязательство жениться на ней, скрепленное поддельной подписью капитана Матамора. Град ударов снова посыпался на несчастного, изобличенного в ряде клятвопреступлений, и все собравшиеся на сцене единогласно приговорили его в наказание за вранье, хвастовство и трусость жениться на Дуэнье. И наконец Пандольф, совсем разочарованный в Матаморе, охотно отдал руку дочери образцовому кавалеру – Леандру.
Яркая буффонада, живо и мастерски разыгранная актерами, сорвала восторженные рукоплескания публики. Мужчины признали Субретку неотразимой, женщины отдали должное сдержанности и грации Изабеллы, а капитану Матамору достались всеобщие похвалы – и внешностью, и смехотворным пафосом, и общей карикатурностью жестов он превосходно подходил к своей роли. Благородные дамы восхищались Леандром, а мужчины сочли его излишне фатоватым. Такое впечатление он обычно и производил на зрителей и, честно признаться, не стремился к иному, ибо наружность свою ценил высоко, а таланту не особенно доверял. Серафина, как всегда, завоевала сердца многих почитателей, и не один из гостей маркиза готов был биться об заклад на собственные усы, что еще не встречал столь красивой девицы.
Стоя за кулисами, Сигоньяк от всей души наслаждался игрой Изабеллы. Вместе с тем временами, уловив нежные нотки в ее голосе, когда она обращалась к Леандру, он испытывал уколы тайной ревности. Барон еще не привык к поддельной театральной любви, под видом которой порой прячутся глубокое отвращение и закоренелая вражда. Поэтому его похвалы по окончании спектакля звучали несколько натянуто, и молодая актриса без труда догадалась о причине.
– Вы так замечательно играете влюбленность Изабелла, что вашу игру можно принять за чистую монету! – заметил Сигоньяк.
– Разве не в этом мое ремесло? – с улыбкой возразила Изабелла. – И разве не поэтому директор труппы подписал со мной контракт?
– Разумеется, – согласился барон, – но мне все время казалось, что вы действительно влюблены в этого фата, который только и умеет, что скалить зубы, как пес, которого дразнят палкой, да щеголять своими икрами.
– Этого требует моя роль. Не могла же я стоять, как изваяние, с кислой и суровой миной! Но если я в чем-то и погрешила против скромности, предписанной благонравной особе, – скажите мне, месье, и я постараюсь исправиться.
– Нет-нет! Вы вели себя в точности как девица безукоризненной нравственности, воспитанная в самых строгих правилах. Поэтому в вашей игре трудно найти хотя бы малейший недостаток – так верно, искренне и правдиво она передает истинные чувства.
– Слуги уже гасят свечи, милый барон! Все разошлись, и скоро мы окажемся в полной темноте. Помогите мне набросить на плечи накидку и не откажите в любезности проводить меня в замок…
Сигоньяк вполне ловко, хоть руки у него и подрагивали, справился с новой для себя ролью поклонника, и оба они покинули зал, где уже не было ни души.
Оранжерея располагалась на некотором расстоянии от замка – рядом с большой группой старых деревьев. Фасад замка с этой стороны выглядел не менее величественно, чем со стороны парадного входа. Поскольку парк располагался ниже регулярного сада с цветниками, к замковому фасаду примыкала терраса, обнесенная балюстрадой с фаянсовыми бело-голубыми вазами, установленными на цоколях. В вазах увядали последние осенние цветы.
В парк с террасы вела лестница с перилами по обе стороны. Расположенная рядом с ней подпорная стена была облицована кирпичом и гранитом, и вся эта архитектурная композиция в целом была весьма живописной, хоть и несколько тяжеловесной.
Было около девяти вечера. Взошла луна, и легкий туман, как серебряная кисея, смягчал и размывал очертания всех предметов, не скрывая их полностью. Некоторые окна в замке светились красноватыми огнями, а те, что оставались темными, переливались в лучах луны, словно рыбья чешуя. Голубоватый блеск ночного светила придавал кирпичным стенам нежно-лиловый оттенок, а камни фундамента окрашивал в жемчужно-серые тона. На шиферных плитках кровли, как на пластинах полированной стали, вспыхивали блики, а черные кружева конька и флюгеров отчетливо вырисовывались на фоне синего бархата неба. Пятна света выхватывали из сумрака листву кустарников, отражались от гладкой поверхности ваз и заставляли вспыхивать алмазами капли росы на газоне, раскинувшемся перед террасой. А дальше взгляду открывалась не менее пленительная картина – аллеи, как на полотнах Брейгеля Бархатного[34], убегали вдаль, теряясь в тумане, и лишь кое-где сквозь легкую мглу мерцали серебристые отсветы то ли от беломраморных статуй, то ли от струй неугомонных фонтанов.
Изабелла и Сигоньяк молча поднялись наверх по лестнице и, завороженные красотой ночи, несколько раз медленно обошли террасу, прежде чем отправиться в отведенные им покои. Место было открытое, терраса располагалась на виду у всего замка, так что добродетели молодой актрисы ничто не угрожало. Да и робость барона служила дополнительным аргументом – Изабелла, несмотря на свое амплуа простушки, была достаточно сведуща в делах любви и знала, что уважение к возлюбленной – главная черта подлинной страсти. Хотя Сигоньяк прямо и не признался в любви к ней, она угадывала его чувства безошибочным женским чутьем.
Эта молодая пара испытывала ту милую неловкость, которая всегда сопровождает зарождающуюся любовь. Прогуливаясь при свете луны в пустынном парке, они вели самый, на первый взгляд, малосодержательный разговор. Если бы кто-нибудь его подслушал, то удивился бы, что молодые люди беседуют о совершенных пустяках и обмениваются самыми заурядными вопросами и неопределенными ответами. Но если слова не выдавали их тайны, то невольная дрожь голосов, длительные паузы, вздохи, доверительный полушепот говорили сами за себя…
Иоланте де Фуа отвели на эту ночь покои рядом с апартаментами маркизы, их окна тоже выходили в парк. Когда юная красавица, отпустив горничных, подошла к окну, чтобы рассеянно взглянуть на луну, сиявшую над верхушками деревьев, она заметила внизу Изабеллу и Сигоньяка, которые прогуливались по террасе, сопровождаемые только собственными тенями.
Высокомерная аристократка, гордая, как и подобает богине, испытывала только презрение к нищему барону де Сигоньяку. Еще совсем недавно она обошлась с ним крайне оскорбительно, и тем не менее Иоланта испытала досаду, обнаружив его под своими окнами с другой женщиной, которой он, без сомнения, нашептывал слова любви. Никто не имел права пренебречь ее несравненной красотой и обратить взор на другую даму, вместо того чтобы молча страдать и тосковать по ней.
В постель она улеглась в отвратительном расположении духа и долго не могла уснуть: влюбленная пара не выходила у нее из головы…
Когда Сигоньяк проводил Изабеллу и уже направлялся к себе, в дальнем конце коридора мелькнула таинственная фигура, закутанная в серый плащ. Край плаща, переброшенный через плечо, закрывал нижнюю часть лица незнакомца, а тень от надвинутой на лоб шляпы не позволяла разглядеть его черты. При виде Изабеллы и барона незнакомец прижался к стене и отвернулся. Актеры к этому времени уже разошлись по своим комнатам, да это и не мог быть ни один из них. Тиран был выше и кряжистее, Педант – толще, Леандр – стройнее, не походил замаскированный незнакомец ни на Скапена, ни на Матамора, чью фантастическую худобу не мог скрыть никакой плащ.
Не желая выглядеть чрезмерно любопытным и смущать кого бы то ни было, Сигоньяк поспешил свернуть в свою комнату, но при этом успел заметить, что дверь комнаты с гобеленами, предоставленной Зербине, слегка приотворена, как если бы ее хозяйка ожидала гостя.
Когда барон заперся у себя, он услышал едва различимый стук башмаков, затем лязг задвижки и понял, что тот, кто таился в коридоре, кутаясь в плащ, достиг цели.
Еще часом позже беззвучно отворилась дверь комнаты Леандра. Актер, убедившись, что коридор пуст, двигаясь на носках, как цыганка, танцующая между разбросанными по полу яйцами, прокрался к лестнице, словно один из тех призраков, что блуждают в старинных замках, спустился и двинулся вдоль стены, прячась в тени. Так он достиг одной из боковых дверей, вышел из замка и направился прямо в парк к одной из лужаек, обнесенных самшитовой оградой, в центре которой высилось изваяние Скромного Амура с пальчиком, прижатым к губам. В этом месте, явно указанном ему заранее, Леандр остановился и застыл в ожидании.
Мы уже говорили о том, что актер, истолковав в свою пользу улыбку, которой маркиза ответила на его великолепный поклон, решился написать послание супруге владельца замка Брюйер, а подкупленная несколькими пистолями Жанна поклялась ему тайно положить это письмо на туалетный столик госпожи.
Мы дословно воспроизводим его, чтобы вы могли составить представление о стиле и манере, которыми Леандр пользовался для обольщения знатных дам. По его собственным словам, в этом искусстве у него не было равных.
«Мадам, или, вернее, светоч красоты, равный богиням! Лишь безнадежно ослепленный Вашими прелестями, я осмелился выйти из тени, в которой мне надлежало бы прозябать, и приблизиться к их сиянию – подобно тому как дельфины всплывают из глубин моря на свет рыбацких факелов и находят погибель, без пощады пронзенные гарпунами. Я знаю, что мне предстоит обагрить волны своей кровью, но с той минуты, как я увидел Вас, жизнь мне не в жизнь и я не страшусь смерти. Неслыханная дерзость – домогаться того, что доступно лишь полубогам, хотя бы это был роковой удар Вашей руки. И я отваживаюсь на это, заранее отчаиваясь, но предпочитаю гнев Ваш высокомерному презрению. Чтобы метко нанести смертельный удар, надо хотя бы взглянуть на свою жертву!
Да, я люблю Вас, мадам, и если это святотатство, я в нем не раскаиваюсь. Господь позволяет боготворить его; звезды благосклонны к восхищению жалкого пастуха; удел высшего совершенства, подобного Вам, – быть любимой теми, кто стоит ниже, ибо равных Вам нет ни на земле, ни на небесах. Я, увы, всего лишь жалкий провинциальный актер, но будь я даже герцогом или принцем, осыпанным всеми дарами Фортуны, я не поднялся бы выше Ваших колен, и между Вашим величием и моим ничтожеством расстояние осталось бы таким же, как от вершины до дна бездны. Вам все равно пришлось бы наклониться, чтобы поднять еще одно любящее сердце!
Смею утверждать, сударыня, что в моем сердце не меньше благородства, чем нежности, и та, что не отвергнет его, обретет в нем пылкую страсть, изысканную тонкость чувств, безусловное почтение и безграничную преданность. И, если бы такое счастье было даровано мне, Вашей снисходительности не пришлось бы опускаться столь низко, как Вам представляется. Волею жестокого рока и ревнивого злопамятства я доведен до того, что вынужден скрываться под актерской личиной, но своего происхождения стыдиться мне не приходится. Не будь на то причин государственной важности, запрещающих мне нарушить тайну моего рождения, все узнали бы, какая славная кровь течет в моих жилах! Любовь ко мне никого не может унизить.
Но довольно об этом, и без того сказано слишком много. Для Вас я навсегда останусь смиреннейшим и почтительнейшим из Ваших слуг, даже если бы меня, как случается в финалах трагедий, признали и возвеличили как члена королевского дома. Пусть едва заметный знак даст мне понять, что моя дерзость не возбудила в Вас презрительного гнева, и я буду готов без колебаний обратиться в пепел на костре моей страсти, разожженном пламенем Ваших очей».
Как знать, что могла бы ответить маркиза на это пламенное послание, которое, скорее всего, было всего лишь подобием многих предыдущих? Для этого надо слишком глубоко знать женское сердце. Но, к несчастью, письмо не дошло до адресата. Увлекаясь знатными дамами, Леандр упускал из виду субреток и забывал о том, что любезность к ним отнюдь бы ему не повредила. Это была серьезная ошибка, потому что горничные, камеристки и служанки имеют большое влияние на своих хозяек, и, если бы пистоли актера сопровождались несколькими поцелуями и комплиментами, та же Жанна, чье самолюбие ни в чем не уступало самолюбию королевы, аккуратнее исполнила бы его поручение.
Камеристка небрежно сжимала письмо в руке, когда на полпути к покоям своей госпожи навстречу ей попался сам маркиз. Он не был чересчур любопытным мужем, и поэтому только из приличия поинтересовался, что это у нее за конверт.
– О, это какие-то пустяки, – отвечала Жанна. – Месье Леандр просил передать его маркизе.
– Леандр, первый любовник труппы? Тот самый, что играет поклонника Изабеллы в «Родомонтаде капитана Матамора»? С какой стати он пишет моей жене? Должно быть, просьба о какой-то милости?
– Не думаю, – сердито проворчала камеристка. – Вручая мне этот конверт, он так вздыхал и закатывал глаза, будто умирает от любви.
– Дай-ка сюда эту цедулку, – велел маркиз, – я сам отвечу ему! А маркизе – ни слова. Эти шуты порой чересчур дерзки, мы слишком балуем их снисходительным обращением, и они начинают забывать свое место.
Вернувшись к себе, маркиз, любивший позабавиться, размашистым аристократическим почерком написал ответ в том же духе, воспользовавшись бумагой, надушенной мускусом, и скрепив его ароматическим испанским воском и печатью с вымышленным гербом. Вернувшись к себе после спектакля, Леандр обнаружил на столе лежащий на самом виду конверт, который доставила сюда неведомая рука. На конверте было начертано: «Господину Леандру». Холодея от восторга, он вскрыл его и прочитал следующие строки:
«Из Вашего красноречивого письма, столь губительного для моего покоя, следует, что богиням суждено любить лишь простых смертных. За час до полуночи, когда все на земле уснет, сама Диана, не страшась нескромных людских взглядов, покинет небеса и спустится к пастуху Эндимиону, но вовсе не на вершину горы Латмос, а в здешний парк, к подножию статуи Скромного Амура. Надеюсь, прекрасный пастух постарается задремать, чтобы пощадить стыдливость бессмертной богини, которая явится окутанная облаком и без сопровождения своих нимф».
Можете представить, какая безумная радость охватила сердце Леандра при чтении этой записки, содержание которой далеко превосходило его самые тщеславные надежды. Он вылил на голову и на руки целый флакон пахучей эссенции, изгрыз половину мускатного ореха, придающего свежесть дыханию, заново вычистил зубы, подвил локоны и отправился в указанное место, где и принялся ждать, переминаясь от нетерпения с ноги на ногу, пока мы поясняли вам все эти обстоятельства.
Лихорадочное ожидание и ночная прохлада вызвали у актера нервную дрожь. Все его чувства были предельно обострены. Он вздрагивал от тени упавшего с дерева листа и при малейшем шорохе напрягал слух, привыкший ловить на лету шепот суфлера. Хруст песка под ногой казался ему оглушительным громовым раскатом, который непременно услышат в замке. Постепенно его охватил самый настоящий мистический ужас; высокие черные деревья растревожили его воображение. Ничего определенного Леандр не боялся, но мысли его принимали все более мрачную окраску. Маркиза все медлила, и у пастуха Эндимиона, по ее милости Дианы, башмаки совсем промокли от ночной росы.
Вдруг ему почудилось, что под чьей-то ногой хрустнула сухая ветка. То явно была не поступь богини – богиням положено скользить на лунном луче и, коснувшись земли, даже не примять былинки.
«Если маркиза не поспешит явиться, то вместо пламенного любовника она рискует найти совершенно остывшего воздыхателя – размышлял Леандр. – Такое томительное ожидание вовсе не способствует подвигам, которых требует Венера!..»
Однако не успел он додумать эту мысль, как из тьмы под деревьями выдвинулись четыре внушительных размеров тени и стали его окружать. Затем, словно по команде, они надвинуись на него и превратились в четверку дюжих каналий – лакеев маркиза де Брюйера. Схватив актера за руки, двое лишили его возможности двигаться, а двое других принялись мерно охаживать его палками, словно выбивая пыльный ковер. Не желая криками привлечь ненужных свидетелей своего поражения, Леандр молчал и стоически терпел боль.
Отколотив как следует злополучного любовника, палачи отпустили его, отвесили глубокий поклон и, не проронив ни слова, удалились.
Какое позорное поражение! Избитый, измочаленный, совершенно растерзанный, Леандр, тихонько охая, прихрамывая, пригибаясь и потирая бока, едва доплелся до замка. И все же в своем несокрушимом тщеславии он ни на миг не заподозрил, что его просто одурачили. Его самолюбие настойчиво требовало, чтобы вся эта история приобрела не комическую, а трагическую окраску. Еще не добравшись до своей спальни, он сумел убедить себя, что ревнивый муж, скорее всего, выследил и перехватил маркизу на пути к месту свидания, а затем, приставив к ее горлу кинжал, вырвал у нее признание. Он живо вообразил, как она, вся в слезах, со спутанными волосами, молит на коленях разъяренного супруга о пощаде и клянется в будущем держать в узде свое пылкое сердце. Покрытый с ног до головы синяками, он тем не менее жалел маркизу, подвергшую себя из-за него такой страшной опасности. А в это время предмет его страсти, ни о чем не ведая, мирно почивал на простынях голландского полотна, сбрызнутых благоуханным сандаловым маслом.
Пробираясь по коридору, Леандр, к величайшей своей досаде, заметил, что дверь комнаты Скапена приотворилась и в щель высунулся любопытный нос проныры. Послышался ехидный смешок, в ответ на который Леандр выпрямился, приосанился и зашагал как можно бодрее. Однако провести эту бестию было не так-то просто…
На другой день труппа начала готовиться к отъезду. Тиран, получивший от маркиза щедрое вознаграждение, успел сменить неуклюжую повозку и волов на фургон, запряженный четверкой лошадей, в котором с удобствами могла разместиться вся труппа вместе с театральным имуществом. Леандр и Зербина проснулись поздно по причинам, которые читателю не надо объяснять, с той разницей, что вид у одного был жалкий и пришибленный, как бы он ни старался бодриться, а вторая тщеславно сияла. Она снизошла даже до того, чтобы оказать некоторые знаки внимания своим подругам, причем Дуэнья то и дело льстиво поддакивала ей, чего никогда не случалось прежде. Скапен, от взора которого ничего не могло укрыться, приметил, что сундук Зербины, будто по волшебству, стал тяжелее чуть ли не вдвое. Серафина же только кусала губы, бормоча под нос: «Жалкая тварь!» – но Субретка пропускала это шипение мимо ушей. Ей было вполне достаточно того, что первая любовница чувствует себя униженной.
И вот фургон наконец тронулся, увозя труппу из гостеприимного замка Брюйер, который все актеры, за исключением Леандра, покидали с сожалением. Тиран подсчитывал в уме полученные пистоли, Педант вспоминал о превосходных винах, которыми утолил-таки свою жажду, Матамор – об аплодисментах, которыми щедро наградила его благородная публика, Зербина тешилась мыслями о шелковых тканях, золотых браслетах и прочих дарах маркиза.
Лишь Изабелла и Сигоньяк думали только о любви и, радуясь тому, что они вместе, даже не удостоили прощальным взглядом шиферные кровли и терракотовые стены замка, мало-помалу уходившие за горизонт.
6
Снежная буря
Что и говорить, комедианты были довольны пребыванием в замке Брюйер. Такие удачи не часто выпадали на их долю. Тиран распределил полученные от маркиза деньги, и теперь каждый не без удовольствия позвякивал пистолями на дне карманов, в которых обычно свистел только ветер. Зербина, продолжая сиять, добродушно отшучивалась от язвительных намеков на могущество ее чар, сыпавшихся со всех сторон. В душе она ликовала, чем приводила в бешенство Серафину. И только Леандр не разделял общего веселья, хоть и силился улыбаться. Впрочем, улыбка эта скорее напоминала оскал побитого хозяином дворового пса. Движения его были скованны, и тряска экипажа вызывала на его лице болезненные гримасы. Он украдкой потирал спину и плечи; эти жесты могли укрыться от кого угодно, но только не от Скапена с его насмешливой проницательностью, который не упускал случая уколоть Леандра за его несносное фатовство.
Возница зазевался, колесо фургона наскочило на большой камень, и это сотрясение заставило злосчастного любовника мучительно застонать. Скапен тут же с притворным сочувствием поинтересовался:
– Мой бедный Леандр, что с тобой? Ты весь помят, а выглядишь точно рыцарь печального образа, уединившийся на голой скале! Можно подумать, что эту ночь ты провел не на мягких перинах и пуховых подушках, а на ложе из корявых сучьев и палок, которые не столько покоят, сколько терзают тело. Ты бледен, подавлен, под глазами у тебя мешки. Похоже, что Морфей и вовсе не посещал тебя минувшей ночью!
– Может, Морфей и отсиживался в своей темной норе, зато малютка Амур любит побродить ночами и без всякого фонаря отыщет нужную дверь, – огрызнулся Леандр, надеясь рассеять подозрения своего недруга.
– Положим, в комедиях я играю исключительно слуг и поэтому не так уж опытен в делах любовных. Мне не случалось волочиться за знатными красавицами, однако поэты и романисты утверждают, что Амур, бог любви, поражает свои жертвы стрелами, а не древком своего лука…
– Что ты хочешь этим сказать? – поспешно прервал его Леандр, встревоженный намеком, который скрывался среди всех этих мифологических тонкостей.
– Ровным счетом ничего. Я просто обратил внимание на твою шею. Хоть ты и стараешься повязывать шейный платок как можно туже, повыше ключицы у тебя имеется характерная черная полоса, которая завтра станет фиолетовой, послезавтра – зеленой и наконец – желтой. Полоса эта чертовски похожа на синяк, оставшийся от удара палкой!
– Палка тут ни при чем, – отвечал Леандр, покраснев до корней волос. – Скорее всего, это какая-нибудь умершая красавица, влюбленная в меня при жизни, наградила меня поцелуем, когда я спал. Известно ли тебе, что поцелуи призраков оставляют на теле ужасающие кровоподтеки?
– Эта таинственная мертвая красавица явилась весьма кстати, – ухмыльнулся Скапен, – но готов поклясться, что такой странный след может образоваться исключительно от палочного удара!
– Жалкий шут! – вскричал Леандр. – Ты просто выводишь меня из терпения! Только из скромности я приписал мертвой то, чему в действительности обязан живой. Хоть ты и притворяешься неучем и невеждой, но тебе наверняка приходилось слышать о всевозможных отметинах страсти – синяках, царапинах, укусах, этих памятках забав, которым предаются пылкие любовники!
– «Memorem dente notam»[35], – вставил Педант, процитировав слова Горация.
– Объяснение, на мой взгляд, убедительное и к тому же подкрепленное ссылкой на классика, – признал Скапен. – Однако полоса эта несколько длинновата – должно быть пасть у этой красотки была преизрядной!
Леандр в раздражении хотел было броситься на Скапена с кулаками, но его спина так болела и все мышцы так ныли, что он решил отложить расправу до более благоприятного времени. Тиран и Педант, привыкшие к этим забавным перепалкам, заставили обоих помириться, и Скапен поклялся никогда больше не касаться этой темы.
– Отныне я изыму из своих речей всякое упоминание о дереве, будь то дубовая кровать, дубинка, палка, пальмовая ветвь и даже густой лес! – заявил он.
Тем временем фургон продолжал двигаться вперед и вскоре достиг перекрестка дорог. Там на травянистом пригорке возвышалось деревянное распятие, грубо вытесанное и растрескавшееся от солнца и сырости, причем одна из рук Спасителя, оторвавшись от тела, зловеще болталась на ржавом гвозде.
Близ этого пригорка расположилась довольно живописная группа, состоявшая из двух человек и трех мулов. Очевидно, они кого-то поджидали. Один из мулов, словно соскучившись без дела, вдруг принялся потряхивать головой, украшенной пестрыми помпонами и кистями, и позвякивать серебряными бубенцами. Кожаные шоры мешали ему видеть дорогу, но он, очевидно, почуял приближение экипажа комедиантов. Длинные уши животного зашевелились с беспокойным любопытством и встали торчком.
– Гляди-ка, коренной запрядал ушами! – заметил один из конюхов. – Видно, повозка уже близко…
И в самом деле – фургон вскоре подкатил к перекрестку. Зербина, сидевшая впереди, бросила быстрый взгляд на людей и мулов, чье присутствие здесь, по-видимому, ничуть ее не удивило.
– Ей-богу, великолепные мулы! – воскликнул Тиран. – Это выносливая испанская порода, из тех, что могут делать по пятнадцать, а то и двадцать миль в день. Будь у нас такие, мы бы в два счета добрались до Парижа. Но с какой стати они здесь торчат? Или это подменная упряжка для какого-нибудь путешествующего вельможи?
– Ничего подобного, – возразила Дуэнья. – Взгляни получше: седло у одного из мулов, того, что в шелковой попоне, снабжено подушками, словно он предназначен для женщины.
– Ну, раз так, значит, здесь готовится похищение, – заключил Тиран. – Кстати, у обоих конюхов в серых ливреях довольно таинственный вид.
– Может, вы и правы, – вмешалась Зербина с загадочной усмешкой на лице.
– А вдруг это одна из наших дам? – заметил Скапен. – Смотрите – старший конюх направляется сюда, будто собирается вступить в переговоры, не прибегая к насилию.
– Я полагаю, никакое насилие им не понадобится! – возразила Серафина, метнув на Субретку презрительный взгляд, который та выдержала с полной невозмутимостью. – Некоторые чересчур покладистые особы сами бросаются в объятия похитителей.
– Не всякого, кто хотел бы, похищают, – парировала Субретка. – Желать недостаточно, надо уметь привлекать!
Беседу прервал конюх. Подав вознице фургона знак остановиться, он обнажил голову, приблизился и учтиво спросил, не в этом ли экипаже находится мадемуазель Зербина.
Субретка проворно, как ящерица, выглянула из-под парусины, сама ответила на заданный вопрос и вслед за тем ловко спрыгнула на землю.
– Мадемуазель, я к вашим услугам, – почтительно проговорил конюх.
Зербина расправила юбки, машинально провела пальчиком вдоль края выреза в корсаже, как бы предоставляя простор груди, и, обернувшись к актерам, проговорила:
– Мои дорогие друзья! Я надеюсь, вы простите меня за то, что я так внезапно вас покидаю. Порой удача сама идет в руки, да так, что было бы чистой глупостью не вцепиться в нее всей пятерней. Упустишь раз – и большее ее не жди. До сих пор Фортуна показывала мне одну лишь хмурую и сварливую физиономию, а нынче на ее лице приветливая улыбка. Я хочу воспользоваться ее благосклонностью, пусть она и окажется мимолетной. Как скромной Субретке мне до сих пор приходилось довольствоваться Скапенами, тогда как господа домогались любви Люсинд, Леонор и Изабелл. Лишь изредка вельможи могли мимоходом потрепать мой подбородок да чмокнуть в щечку, добавив к этому серебряный полулуидор. Но нашелся некто с куда лучшим вкусом, понявший, что вне сцены служанка стоит госпожи, а поскольку амплуа субретки не требует строгой добродетели, я не сочла возможным огорчить этого любезного кавалера. Поэтому позвольте мне забрать из фургона мои пожитки и пожелать вам всяческих удач. Рано или поздно я разыщу вас в Париже, ибо в душе я остаюсь комедианткой и еще никогда надолго не изменяла театру!
Конюхи достали из повозки сундук и баулы Зербины и навьючили их на одного из мулов. Затем Субретка, опершись башмачком на подставленную руку конюха, с такой легкостью прыгнула в седло, словно закончила курс вольтижировки в академии верховой езды. Ударив каблучком в бок мула, она подхватила поводья и уже на ходу помахала на прощание товарищам-актерам.
– Счастливого пути, Зербина! – прокричала ей вслед вся труппа, за исключением Серафины, все еще таившей досаду.
– Какая жалость, – заметил Тиран. – Я бы охотно удержал ее – Зербина просто превосходна на подмостках, но она не знает других обязательств, кроме своих прихотей. Теперь придется переделывать ее роли для Дуэньи или Гувернантки. Наша старушка Леонарда не так презентабельно выглядит, но обладает комическим даром и отлично знает сцену. Одним словом, как-нибудь обойдемся…
Фургон покатил снова, и куда быстрее, чем повозка, запряженная волами. Теперь вокруг расстилалась местность, ничуть не похожая на однообразные пейзажи ландов. Светлые пески сменились темной почвой, щедрее питавшей растительность. Там и сям попадались каменные дома, окруженные садами и живыми изгородями, на которых листва уже облетела, но все еще розовели запоздалые цветы шиповника и голубели созревшие ягоды терна. На обочинах дороги тянулись ввысь пышно разросшиеся деревья. Опавшие листья желтым ковром покрывали траву, а ветерок гнал их по дороге перед лошадьми. Изабелла и Сигоньяк, устав сидеть на скамейках фургона, время от времени выходили и сопровождали экипаж пешком. Матамор последовал их примеру и успел уйти своими саженными шагами далеко вперед. На гребне холма на фоне заката темнел его силуэт, словно вырезанный из черной бумаги и насаженный на его же рапиру.
– Как могло случиться, – спросил Сигоньяк, продолжая идти рядом с Изабеллой, – что вы, обладая всеми достоинствами девицы благородного происхождения – скромностью, рассудительностью, а также изысканностью в речах – оказались связаны с этими комедиантами, людьми, несомненно, порядочными, но держащимися совсем иных привычек и правил?
– То, что мои манеры отличаются некоторым изяществом, вовсе не означает, что я какая-нибудь обездоленная герцогиня или королева, вынужденная ради пропитания подвизаться на подмостках. История моей жизни проста, и, поскольку она тревожит ваше любопытство, я готова ее поведать. Не жестокость судьбы, не семейные бедствия и не романтические приключения привели меня в театр – ничего подобного. Я в нем родилась, иными словами я настоящее дитя кулис. Колесница Феспида – моя кочевая родина. Моя матушка, игравшая в трагедиях королев, была необыкновенно хороша собой. Она так сроднилась со своими ролями, что даже вне сцены не желала слышать ни о ком, кроме королей, принцев, герцогов и прочих вельмож, а свои мишурные короны и скипетры из золоченого дерева считала подлинными знаками власти и могущества. Выходя на подмостки, она так величаво драпировалась в бумажный бархат своих одеяний, что его можно было принять за подлинный королевский пурпур. Из гордости она упорно отвергала ухаживания тех вертопрахов, которые вечно вьются вокруг актрис, как мотыльки вокруг пламени свечи. Однажды некий предприимчивый фат повел себя с ней чересчур развязно, тогда она выпрямилась во весь рост и, словно истинная Томирида, царица Скифии, воскликнула таким властным и надменным голосом: «Стража, взять его!» – что этот франт, опешив, бросился наутек, забыв о своих домогательствах.
В конце концов слух о ее высокомерной неприступности, столь не свойственной актрисам, которым приписывают легкий нрав, дошел до одного очень знатного и могущественного вельможи. Он по достоинству оценил это, рассудив, что отвергать сиюминутные наслаждения свойственно лишь глубокой и возвышенной душе. Он был молод, хорош собой, красноречив, настойчив и окружен ореолом знатности, соответствующей рангу театральной «королевы». Оттого и принят был не сурово, а скорее благосклонно. И вот… Одним словом, в этот раз королева не стала звать стражу, а плод их пылкой любви – перед вами, барон!
– Так вот где исток той несравненной прелести, которой вы так щедро наделены! – галантно воскликнул Сигоньяк. – В ваших жилах течет кровь высокородного аристократа! Но и без вашего рассказа я готов был присягнуть, что так оно и есть!
– Связь эта, – продолжала Изабелла, – длилась намного дольше, чем обычные театральные интрижки. В моей матери принц нашел тот род верности, который проистекает не из корысти, а из любви и гордости. Она никогда ему не изменяла. К несчастью, государственные и династические соображения стали суровым препятствием для этой любви; принцу пришлось уехать, возглавив одно из восточных посольств. А тем временем семья подыскала ему невесту, не менее родовитую, чем он. Он всячески медлил и откладывал свадьбу, но все же был вынужден уступить, ибо знал, что не имеет права ради собственной прихоти прервать длинную вереницу предков, восходящую к Карлу Великому, и допустить, чтобы вместе с ним угас прославленный род. Моей матери предложили целое состояние, чтобы смягчить горечь неизбежного разрыва с возлюбленным. Эти деньги должны были обеспечить ей безбедную жизнь, а мне – содержание и достойное воспитание. Однако матушка даже слышать об этом не захотела. Она заявила, что ей не надобно денег без любви, и лучше уж принцу быть ее должником, чем ей оказаться у него в долгу. Здесь нечего удивляться, ведь она самоотверженно отдала возлюбленному то, чего он никогда не смог бы ей возместить. «Ничего до, ничего после!» – таков был ее девиз.
Таким образом, она вернулась к ремеслу трагической актрисы, но с тех пор начала чахнуть и томиться, не имея утешения, и это продолжалось до самой ее безвременной кончины. Я осталась сиротой в восемь лет; в те времена я играла детей, Амуров и прочие мелкие роли, соответствовавшие моему росту и возрасту. Смерть матери я перенесла невообразимо тяжело, и вечером после ее кончины меня только силой заставили выйти на сцену, чтобы сыграть одного из сыновей Медеи. Позже жгучая скорбь сменилась печалью. Актеры и актрисы нашей труппы были ласковы и баловали меня, то и дело норовя сунуть в мою корзинку какое-нибудь лакомство. Блазиус – он уже тогда был в нашей труппе и казался мне таким же старым и сморщенным, как сейчас, – занялся моим развитием. Он объяснил мне, в чем тайна стиха, показал, как надо говорить и двигаться на сцене, обучил меня декламации, выразительным жестам, мимике – словом, всем тайнам сценического мастерства, которым сам владеет в совершенстве. Наш Педант – всего-навсего провинциальный актер, но он человек образованный и когда-то был школьным учителем, пока его не уволили за пьянство. Мои товарищи по труппе, знавшие меня с колыбели, считали меня сестрой или дочерью, а всяких волокит я умела держать на должном расстоянии – этому научили превратности кочевой жизни. Пожалуй, я и вне сцены оставалась верна амплуа Простушки.
– А помните ли вы, Изабелла, имя той высокородной особы, которой обязаны своим появлением на свет, или позабыли его? – взволнованно спросил Сигоньяк.
– Да, не позабыла. Но открыть это имя, пожалуй, было бы небезопасно для меня, – ответила девушка. – Однако оно навеки запечатлено в моей памяти.
– Нет ли у вас каких-либо доказательств его связи с вашей матушкой?
– Перстень с его гербом, – ответила Изабелла. – Это единственная драгоценность, подаренная им, которую мать сохранила после разрыва с возлюбленным. И то только потому, что значение этой вещи как фамильной реликвии далеко превосходило ее стоимость. Если хотите, я при случае покажу вам ее…
Было бы чересчур утомительно следить за всеми этапами пути фургона комедиантов, тем более что двигался он довольно короткими перегонами и без особо примечательных происшествий.
Итак, пропустим несколько дней и обнаружим наших героев уже в окрестностях Пуатье. Сборы от представлений здесь оказались крайне скудными, и для труппы настали нелегкие времена. Деньги маркиза де Брюйера в конце концов иссякли, закончились и пистоли Сигоньяка, которые были истрачены на общие нужды. Три лошади пали в пути, и теперь вместо четырех крепких коней, резво тащивших фургон, в упряжке осталась одна лошадь, и какая!
Жалкая кляча, чьей пищей служили будто бы не овес и сено, а обручи от бочек – до того ее ребра выпирали, ослабевшие мышцы болтались, словно тряпки, а шерсть под коленями топорщилась от мозолистых наростов. Хомут, под которым почти не оставалось войлока, до крови натирал ее загривок, а бока несчастной твари были иссечены бесчисленными ударами бича. Голова этой лошади была сущей поэмой о скорби и страданиях. Глаза прятались в глубоких впадинах, будто выдолбленных долотом. Скорбный взгляд этих подернутых синеватой дымкой глаз выражал беспредельную покорность. В нем можно было прочесть только полное равнодушие к побоям и сознание бесполезности каких бы то ни было усилий. Вот почему щелканье бича не способно было вернуть несчастной хотя бы искру жизни. Уши ее понуро висели, причем одно из них было рассечено пополам. Прядь пожелтевшей гривы запуталась в узде, натиравшей ремнями костлявые выступы скул. Тяжкое дыхание увлажняло ноздри, а нижняя губа от постоянной усталости брезгливо отвисала. Белая с рыжим крапом шерсть была вся в потеках пота, подобных тем, какие дождь оставляет на стенах домов.
Трудно было вообразить более плачевное зрелище. Лошадь, верхом на которой в Апокалипсисе является всадник-смерть, показалась бы рядом с этим горемычным одром резвым скакуном. Поистине высшей милостью для нее было бы знакомство с живодером. И сейчас она брела, окутанная густым облаком пара, потому что воздух стал заметно холодеть.
Теперь в фургоне ехали только женщины, а мужчины шли рядом с повозкой, чтобы не обременять и без того выдохшуюся клячу. Идти было нетрудно, даже опережая фургон, но все они хранили молчание и кутались в плащи, ибо могли обмениваться разве что неприятными мыслями.
Барон де Сигоньяк совсем было впал в уныние и чуть ли не раскаивался в том, что покинул обветшалое жилище предков. Там он, правда, рисковал умереть с голоду, созерцая свой полустертый родовой герб над очагом, зато не подвергался бы превратностям жизни бродячих актеров.
Он вспоминал о своем преданном Пьере, о коне Байярде, о Миро и Вельзевуле – верных друзьях, деливших с ним одиночество. Сердце у него невольно сжималось, к горлу подкатывал колючий ком – предвестник слез; но стоило барону бросить взгляд на Изабеллу, которая сидела в повозке, кутаясь в мантилью, и к нему снова возвращалось мужество. Девушка улыбалась – казалось, все эти беды нисколько ее не печалят. Что значат телесные страдания и тяготы пути, если душа полна блаженства!
Окрестный пейзаж также не радовал. На переднем плане корчились остовы истерзанных ветрами, искривленных и лишенных вершин старых вязов, чьи черные ветви чертили причудливый узор на фоне изжелта-серого неба, покрытого низкими снеговыми тучами, сквозь которые с трудом пробивался тусклый свет. Далее простирались невозделанные пустоши, окаймленные у горизонта плешивыми холмами или ржавыми полосками лесов. Изредка над одинокой приземистой лачугой, укрытой за сплетенной из прутьев изгородью, поднимался столбик печного дыма. Влажная почва была изборождена, словно шрамами, водоотводными канавами.
В разгар весны эта долина, одетая зеленью, могла бы выглядеть привлекательной. Но сейчас она была полна тоски и зимнего оцепенения. Время от времени на обочине возникала одинокая фигура изможденного поселянина в лохмотьях или старухи, горбящейся под тяжестью вязанки хвороста, что не оживляло ландшафт, а лишь подчеркивало его пустынность. Казалось, единственными бодрыми обитательницами этого края были сороки. Они во множестве прыгали в траве и на обочинах, держа хвосты торчком наподобие сложенного веера, перепархивали с дерева на дерево и оживленно стрекотали при виде фургона – будто обменивались впечатлениями о продрогших комедиантах. Бессердечным птицам не было дела до людских страданий!
Пронзительный ветер свистел в ветвях, рвал тонкие плащи на плечах актеров, хлестал их лица, словно ледяными прутьями. Немного погодя в этих вихрях закружились снежные хлопья, их потоки взвивались, опадали, пересекались, но никак не могли улечься на земле – настолько силен был ветер. Вскоре снег стал таким густым, что перед полуослепшими путниками возникла как бы завеса из белесого мрака. В непрерывном мельтешении снежинок даже самые близкие предметы расплывались и теряли подлинные очертания.
– Надо полагать, небесная стряпуха ощипывает гусей и стряхивает на нас пух со своего передника, – заметил Педант, который плелся позади фургона, чтобы укрыться от ветра. – Гусятина пришлась бы сейчас больше кстати, чем перья. Я бы управился с ней даже без лимона и приправ.
– Да хоть и без соли! – подхватил Тиран. – Мой желудок уже и думать забыл об омлете, который я проглотил под именем завтрака!
Сигоньяку тоже пришлось укрыться за повозкой, и Педант обратился к нему:
– Нечего сказать, господин барон, разгулялась погодка! Мне жаль, что вам приходится делить с нами наши передряги. Но метель – дело временное, и как бы медленно мы ни ползли, все равно приближаемся к Парижу!
– Не так уж я изнежен, и какому-то снегопаду меня не испугать, – отвечал Сигоньяк. – Но кто поистине заслуживает сочувствия, так это наши бедные спутницы, вынужденные терпеть лишения, сравнимые разве что с невзгодами, которые испытывают солдаты в походе.
– Они к этому привыкли, и то, что показалось бы нестерпимым для светских дам и богатых горожанок, их почти не беспокоит.
Метель, однако, усиливалась. Гонимая ветром поземка белым дымом курилась над землей, задерживаясь лишь тогда, когда на ее пути оказывалась преграда: откос, груда щебня, живая изгородь, насыпь у канавы. Там снег мгновенно скапливался и осыпался каскадом по ту сторону препятствия. А иногда, свиваясь в вихревые жгуты, возносился высоко в небо и обрушивался оттуда сплошной лавиной, которую на земле разметывали во все стороны ураганные шквалы. Всего за несколько минут Изабеллу, Серафину и Леонарду замело снегом, хоть они и забились в глубину фургона и забаррикадировались тюками и сундуками.
Ошеломленная яростью снежного бурана, лошадь, задыхаясь, едва-едва продвигалась вперед. Бока ее вздымались, как кузнечные мехи, копыта скользили на каждом шагу. Тиран шагал рядом, держа ее под уздцы своей сильной рукой и не давая упасть. Педант, Сигоньяк и Скапен толкали фургон сзади, Леандр щелкал в воздухе бичом, пытаясь подбодрить несчастную клячу, – бить ее сейчас было бы бессмысленной жестокостью. Что касается Матамора, то он приотстал и вскоре пропал из виду за снежной завесой. Из-за своей феноменальной худобы он был так легок, что не мог преодолеть силу встречного ветра, хоть и взял для этого по булыжнику в каждую руку, а также набил карманы камнями.
Тем временем метель все больше свирепела, кружа вороха белых хлопьев и вздымая их вверх и вниз, словно пенящиеся волны. Она до того разбушевалась, что актеры, как ни спешили добраться до ближайшего селения, все же вынуждены были в конце концов развернуть фургон против ветра. Впряженная в повозку кляча окончательно изнемогла; ноги ее окостенели, мокрое от пота тело сотрясала крупная дрожь. Достаточно было еще одного небольшого усилия – и она рухнула бы бездыханной. И без того в ее ноздрях уже появились капли крови, а глаза заволокла тусклая пелена.
Страх перед темнотой понять легко – во мраке всегда таится ужас. Но белый ужас метели почти непостижим. Невозможно вообразить себе положение отчаяннее того, в каком очутились наши бедные комедианты – страдающие от голода, посиневшие от стужи, ослепленные снегом и затерянные на неведомой дороге среди головокружительных ледяных вихрей, пронизывавших насквозь их тощую одежонку. Пережидая снежную бурю, все они сбились в кучу под навесом фургона и жались друг к другу, пытаясь хоть немного согреться.
Наконец ветер начал утихать, и тучи снега, до сих пор носившиеся в воздухе, начали неторопливо оседать на землю. Всё, куда ни взгляни, покрылось сплошным серебристо-белым саваном.
– А где же наш Матамор? – спохватился Педант. – Неужели ветер унес его обратно на луну?
– В само деле, что-то его не видно, – подтвердил Тиран. – Может, он забился за какой-нибудь сундук внутри фургона. Эй, Матамор! Очнись, если не спишь, и отзовись!
Но Матамор не откликался. Ничто не шевельнулось под грудой старых декораций.
– Эй, Матамор! – трубно взревел Тиран таким могучим басом, который мог бы разбудить семерых спящих отроков вместе с их собакой[36].
– Мы уже давно потеряли его из виду, – заявили актрисы. – Метель слепила нам глаза, и мы не особенно беспокоились, потому что думали, что он идет вместе с вами за фургоном.
– Странное дело, будь я проклят! – фыркнул Педант. – Лишь бы с ним не случилось какого-нибудь несчастья!
– Скорее всего, во время бурана он укрылся за каким-нибудь деревом, – предположил Сигоньяк. – Надо немного подождать, и он, я уверен в этом, догонит нас.
Решено было подождать с четверть часа, а затем отправиться на поиски. Дорога оставалась пустынной – а ведь на фоне такой ослепительной белизны человеческую фигуру легко было заметить даже в сумерках и с большого расстояния. Декабрьская ночь, быстро наступающая после короткого дня, не принесла с собой полной темноты. Блеск снега боролся с мраком, и казалось, будто свет странным образом струится не сверху, а от земли. Горизонт был очерчен резкой белой полосой, заснеженные деревья выглядели словно узоры на замерзших оконных стеклах, и шапки снега время от времени срывались с веток, не нарушая тишины. Это была картина, полная щемящей грусти; где-то вдали завыла собака, будто в этих звуках стремилась выразить всю скорбность пейзажа, его безысходную тоску.
Всякий знает, какое впечатление производит в ночной тишине этот надрывный вой. Животное, инстинктом тесно связанное с душой природы, нередко предчувствует грядущее несчастье и оплакивает его прежде, чем оно воплотится и станет явным. В этом погребальном вое звучит страх будущего и смерти, ужас перед непознаваемым. Ни один храбрец не может слышать эти вопли без невольного озноба.
Вой постепенно приближался, и вскоре в глубине заснеженной пустоши уже можно было различить крупного черного пса, который сидел на снегу, вскинув морду к небесам, и словно полоскал себе горло этим жалостным стоном.
– Должно быть, что-то худое приключилось с нашим бедным Матамором! – всполошился Тиран. – Эта проклятая тварь недаром воет – она чует гибель.
У женщин сжались сердца от мрачного предчувствия. Дуэнья осенила себя знаком креста, а Изабелла начала шептать молитву.
– Надо отправляться на поиски, больше не теряя ни минуты, – решил Педант. – Возьмем с собой фонарь, свет послужит ему путеводным маяком, если он сбился с дороги и заплутал в пустошах. В такую метель, когда все вокруг застлано белой пеленой, можно заблудиться в два счета.
С помощью огнива был высечен огонь, вспыхнул свечной огарок на дне фонаря. Огонек, скрытый вместо стекол за полупрозрачными роговыми пластинками, оказался достаточно ярким, чтобы его можно было заметить издалека.
Тиран, Педант и Сигоньяк отправились искать запропастившегося Матамора, а Скапен и Леандр остались охранять фургон и поддерживать встревоженных женщин. Общее гнетущее настроение усугублял проклятый черный пес, который все еще не унимался, а ветер вверху гудел, словно там катились по камням тяжелые телеги, битком набитые злыми духами.
Буря успела замести все следы, сделав их неразличимыми, да и сама по себе ночная тьма затрудняла поиски. Иногда Блазиус опускал фонарь к самой земле, приметив какой-то смутный отпечаток в сугробе, но чаще всего это оказывался оттиск могучей ножищи Тирана или конского копыта, а вовсе не след Матамора, который весил немногим больше птицы.
Так они прошли около четверти мили, размахивая фонарем, чтобы привлечь внимание исчезнувшего друга, и выкрикивая во всю глотку: «Матамор! Матамор! Матамо-ор!» – но на этот призыв, подобный тому, с каким древние греки обращались к усопшим, прежде чем покинуть место погребения, ответом было только молчание. Иной раз какая-то пугливая птица взлетала с криком и, торопливо прошумев крыльями, исчезала в ночи.
Внезапно Сигоньяк, обладавший исключительно острым зрением, различил под деревом какой-то смутный силуэт, напоминающий человеческий. Однако силуэт не двигался, выглядел неестественно прямым и зловеще неподвижным. Барон сообщил об этом своим спутникам, и они вместе двинулись в указанную им сторону.
Это и в самом деле оказался несчастный Матамор. Он сидел, прислонившись к стволу старого дерева, а его вытянутые длинные ноги были наполовину занесены снегом. Рапира, его постоянная спутница, торчала под таким нелепым углом к его корпусу, что при других обстоятельствах это зрелище могло бы вызвать смех. Но сейчас актерам было не до смеха – когда они приблизились к сидящему, тот даже не шелохнулся и не издал ни звука. Обеспокоенный этим, Блазиус направил луч прямо в лицо Матамору и едва не выронил фонарь, настолько поразило его увиденное.
Все краски жизни покинули это лицо, сменившись восковой бледностью. Нос блестел, как слоновая кость, обтянутые мерзлой кожей виски запали. Иней блестел на бровях и ресницах, а широко раскрытые глаза остекленели. На кончиках усов образовались сосульки, оттянув их книзу. Смертное безмолвие сковало эти уста, скулы заострились, а очертания черепа проступили с пугающей ясностью. Однако это тощее и бледное лицо, на котором привычка гримасничать и бахвалиться оставила жуткие в своем комизме складки, не разгладилось даже теперь. Такова горькая участь шута и комедианта: сама смерть в его присутствии теряет величавость.
Однако Тиран все еще не терял надежды. Схватив Матамора за руку, он тряхнул ее, но успевшая застыть конечность упала с сухим костяным стуком, как рука деревянной марионетки, у которой порвалась нить, приводящая ее в действие. Театр жизни бедняга сменил на подмостки потустороннего мира.
Упорствуя, Тиран, все еще не желавший поверить в то, что Матамор окончательно мертв, спросил у Блазиуса, при нем ли его фляжка. Пропойца Педант никогда не расставался с этой незаменимой вещью, и во фляжке, к счастью, еще оставалось несколько капель вина. Педант вставил ее горлышко между синими губами Матамора, но стиснутые зубы и не подумали разжаться. Темно-красная влага потекла из углов его рта. Все стало очевидным: биение жизни навсегда покинуло эту скромную оболочку, ведь даже самый легкий вздох на таком морозе немедленно превратился бы в облачко пара, которое нельзя было не заметить.
– Зачем тревожить эти бренные останки, – печально проговорил Сигоньяк, – разве вы не видите, что все кончено?
– Увы, да! – отозвался Педант. – Несчастный не менее мертв, чем фараон Хеопс под своей пирамидой. Должно быть, он испугался метели и, не в силах бороться с ветром, укрылся за деревом. А поскольку на его теле не было и двух унций жиру, он вскоре промерз до мозга костей. Чтобы иметь успех в Париже, он изо дня в день уменьшал рацион и отощал, как борзая после доброй охоты. Бедный мой Матамор, отныне и вовеки ты избавился от пинков, пощечин и колотушек, на которые обрекали тебя твои роли. Никто больше не станет смеяться тебе в лицо!
– Но что нам делать с его телом? – вмешался Тиран. – Не можем же мы бросить его у обочины на растерзание волкам, собакам и птицам, хотя поживы тут не хватит им даже на скудный завтрак?
– Разумеется нет, – кивнул Блазиус. – Он был добрым и верным товарищем, а поскольку весу в нем не много, ты возьмешь его за плечи, я за ноги, и вдвоем мы дотащим его до фургона. А завтра, как только рассветет, похороним со всеми почестями в каком-нибудь укромном уголке. Ведь нам, комедиантам, церковь закрыла путь на кладбище и лишила нас удовольствия покоиться в освященной земле. Мы, изрядно повеселившие на своем веку людей самого высшего сорта, осуждены гнить на свалках в компании с дохлыми псами и конской падалью. Господин барон, ступайте вперед и освещайте нам путь!
Сигоньяк кивнул, выразив согласие. Оба актера наклонились, смахнули снег, саваном покрывавший Матамора, и подняли тело, более легкое, чем детский трупик. Затем они двинулись вперед, а барон шагал перед ними и светил фонарем.
К счастью, в столь поздний час на дороге не было ни души. Это погребальное шествие могло бы неминуемо нагнать мистический страх на любого путника. Красноватый свет фонаря отбрасывал на снег длинные уродливые тени, и всякий заподозрил бы тут жестокое преступление или колдовство.
Черный пес умолк, как бы завершив свою роль вестника беды. Гробовая тишина повисла над равниной, ибо снег имеет свойство поглощать звуки.
Те, кто оставался у фургона, первым делом заметили огонек, прыгавший и колебавшийся в руке у Сигоньяка, выхватывая из мрака окружающие предметы и придавая им самые неожиданные и порой пугающие очертания. Тиран и Блазиус, как бы связанные между собой телом Матамора, выглядели в этом освещении жутко и загадочно. Скапен и Леандр, подталкиваемые тревожным любопытством, заторопились навстречу скорбной процессии.
– Ну как? Что с ним? – обеспокоенно спросил Скапен, поравнявшись с товарищами. – С какой это стати Матамор у вас на руках и вдобавок вытянулся, будто проглотил свою рапиру? Он болен?
– Это не болезнь, – обронил Блазиус. – Наоборот – отныне его здоровье несокрушимо! Подагра, чахотка, лихорадка, простуда и желудочные колики больше не властны над ним. Он навсегда исцелился от той болезни, против которой ни один врач, будь он хоть Гиппократ, хоть Гален, хоть сам Авиценна, пока не нашел лекарства. Я говорю о жизни, которая всех и каждого неминуемо ведет к смерти.
– Значит, он мертв! – с горестным изумлением вскричал Скапен, склоняясь к лицу покойника.
– Вполне – или как нельзя более, потому что окоченел он не только от смерти, но и от мороза, – ответил Блазиус со скрытой дрожью в голосе, которая обличала глубокое волнение, не соответствовавшее его иронии.
– Он почил, так будет вернее и больше соответствует духу трагедии, – добавил Тиран. – Но, думаю, вам следовало бы нас подменить, потому что мы несем нашего Матамора уже давно и без всякой надежды на награду. Теперь ваш черед!
Скапен заменил Тирана, Леандр – Блазиуса, хотя обязанности могильщика были ему вовсе не по душе, и мрачный кортеж двинулся дальше. Через несколько минут он достиг фургона, стоявшего на дороге. Невзирая на стужу, Изабелла и Серафина спрыгнули с повозки, где осталась одна Дуэнья, сверлившая тьму своими совиными глазами. При виде Матамора, бледного, окоченевшего, с застывшей маской вместо лица, актрисы испуганно и горестно охнули. Из глаз Изабеллы скатилась пара слезинок, которые тут же замерзли на резком ночном ветру. Девушка сложила на груди свои прекрасные руки, покрасневшие от холода, – и чистосердечная молитва за того, кто так внезапно был поглощен бездной вечности, вознеслась на крыльях веры в сумрачную небесную высь.
Что было делать дальше? Положение становилось все более затруднительным. До селения, в котором актеры надеялись переночевать, оставалось не меньше двух миль. Когда им удастся добраться туда, все дома будут уже на запоре, огни погашены, а жители улягутся спать. С другой стороны, невозможно было оставаться посреди дороги в лютом холоде, без топлива, чтобы развести костер, без пищи, чтобы подкрепиться, и ждать позднего в это время года рассвета в нагоняющем жуть обществе покойника.
Решено было ехать наудачу. Часовой отдых и торба овса, подвешенная Скапеном к морде заморенной клячи, немного взбодрили ее. Лошадь ожила настолько, что, судя по всему, была способна одолеть расстояние до селения. Матамора уложили в глубине фургона и накрыли полотнищем занавеса. Актрисы уселись впереди не без робости, ибо смерть человека, который еще совсем недавно беседовал с вами и забавлял вас, превращает его если не в чудовище, то в некоего злого духа, от которого неизвестно, чего ожидать.
Мужчины снова зашагали рядом с фургоном. Скапен освещал путь фонарем, в который вставили новую свечу, а Тиран твердой рукой вел лошадь, держа под уздцы, чтобы она не спотыкалась. Продвигался фургон не быстро, дорога была трудная, однако спустя два часа внизу под крутым склоном показались первые деревенские дома. Снег запорошил их до самых окон, но, несмотря на тьму, они отчетливо виднелись на фоне неба. Заслышав перестук конских копыт, местные собаки залились лаем и разбудили псов на окрестных фермах, разбросанных по всей равнине. Грянул слаженный хор собачьего поголовья со всей округи.
Немудрено, что к прибытию комедиантов вся деревня уже была на ногах. Головы в ночных колпаках торчали из окон и из приоткрытых верхних створок дверей, так что Педанту быстро удалось договориться о ночлеге для труппы. Ему указали постоялый двор, вернее, покосившуюся лачугу, игравшую роль постоялого двора в этой деревушке, редко посещаемой путешественниками, которые обычно избегали здесь останавливаться.
Находилась она на дальнем конце селения, и бедной кляче опять пришлось поднапрячься, но она уже учуяла конюшню и так усердствовала, что ее копыта даже сквозь слой снега высекали искры из булыжника. Наконец Скапен, подняв фонарь, обнаружил над одной из дверей веточку остролиста вроде тех, что обычно мокнут в церкви в чаше с освященной водой. Ошибки быть не могло – этот символ гостеприимства мог означать только одно.
Тиран забарабанил в дверь, и вскоре послышалось шарканье башмаков по ступеням. Сквозь щель в двери просочился красноватый свет. Створка распахнулась, и, заслоняя пламя сальной свечки высохшей рукой, в проеме возникла дряхлая старуха в рваном неглиже. Поскольку руки у нее были заняты, она придерживала беззубыми деснами край ворота грубой холщовой рубахи, пытаясь, очевидно, скрыть от нескромных взоров свои усохшие прелести. Впустив комедиантов в кухню, старая ведьма поставила свечу на стол, поворошила золу в очаге, чтобы разбудить огонь, и вскоре от углей занялся ярким пламенем пучок хвороста. Потом она поднялась в свою спальню, чтобы надеть юбку и кофту. Толстый работник, протирая заспанные глаза грязными лапищами, отворил ворота, вкатил во двор фургон, выпряг лошадь и отвел ее в конюшню.
– Но ведь не можем же мы бросить беднягу Матамора в конюшне, словно оленя, добытого на охоте! – проговорил Педант. – Чего доброго, дворовые псы доберутся до него. В конце концов, он христианин и мы не должны отказывать ему в ночном бдении над телом.
Покойного внесли в дом, уложили на стол, прикрыв для благообразия плащом. Складки ткани особенно резко подчеркивали неподвижность угловатого мертвого тела, а острый профиль Матамора казался еще более внушительным и страшным. Хозяйка постоялого двора, вернувшись, едва не упала в обморок при виде покойника, так как сочла его жертвой шайки разбойников, а комедиантов – свирепыми убийцами. Простирая дрожащие старческие руки, она принялась умолять Тирана, которого приняла за главаря, сохранить ей жизнь и клялась даже под пыткой хранить тайну. Изабелла постаралась успокоить перепуганную женщину и рассказала, как было дело. Та, опомнившись, принесла еще пару свечей, зажгла их и поставила у изголовья покойника, согласившись бодрствовать над ним до утра вместе с тетушкой Леонардой. Оказывается, в своем селении она считалась непременной участницей всех похорон и до тонкостей знала все подробности траурных обрядов.
Покончив с этим, комедианты перебрались в соседнюю комнату. Ужинали они без всякого аппетита, глубоко подавленные утратой верного товарища. Едва ли не впервые в жизни Педант отставил недопитый стакан, хотя вино было весьма недурным. Случившееся явно поразило его до глубины души, ибо он был из той породы пьяниц, которые хотели бы быть похороненными под винным бочонком, да так, чтобы из крана беспрестанно капало в рот, а он бы только приподнимался в гробу да покрикивал: «Больше открой, больше!»
Изабелла и Серафина прикорнули на тюфяке за перегородкой. Мужчины улеглись на соломе, несколько охапок которой работник притащил из конюшни. Спали все беспокойно, с тяжелыми снами, и поднялись еще затемно – пора было приступать к погребению Матамора.
Ввиду отсутствия савана, Леонарда вместе со старухой-хозяйкой обернули тело обрывком декорации, изображавшей лес. Следы зеленой краски на ветхом холсте, на котором когда-то были грубо намалеваны стволы и ветки, казались в тот миг зеленой травой, рассыпанной вокруг покойного, зашитого и спеленутого, словно египетская мумия.
Вместо носилок использовали широкую доску, уложенную на две короткие жерди, за концы которых взялись Тиран, Педант, Скапен и Леандр. Широкая мантия из черного бархата, усеянная мишурными звездами и полумесяцами и предназначенная для ролей чародеев, послужила пристойным погребальным покровом.
Траурная процессия молча вышла через задние ворота постоялого двора в чистое поле, чтобы избавиться от любопытных взглядов и досужих толков поселян. Все торопились, чтобы как можно скорее достичь того клочка земли, который указала им хозяйка. Там Матамор мог обрести последнее пристанище, не вызвав ничьего недовольства. На этот участок обычно свозили павшую скотину, а также дохлых собак и кошек; никто не счел бы его достойным для погребения человеческого существа, созданного по образу и подобию Божию. Но церковные предписания в те времена были суровы, и фигляр, не допущенный к причастию, не мог упокоиться в освященной земле. Для этого ему пришлось бы отречься от театра и его дел, принести покаяние и провести несколько месяцев в монастыре. Разумеется, Матамору такое и в голову бы не пришло.
Вокруг начинало сереть – утро, ступая по снегам, спускалось с холмов в долину. Холодный свет нехотя гнал ночную тьму, по бледному небу неслись рваные облака. Пораженные видом странного погребального кортежа, в котором не было ни креста, ни священника, и который вдобавок направлялся в сторону, противоположную местной церкви, поселяне, собиравшие хворост в кустарнике, застывали на месте с открытыми ртами, а затем провожали комедиантов подозрительными взглядами, полагая, что перед ними либо еретики, либо колдуны, либо иные нечестивцы. Впрочем, никто не решался произнести это вслух.
Когда процессия оказалась довольно далеко от деревни, работник, тащивший на плече лопату, объявил, что они на месте и можно рыть могилу. Скелеты павшей скотины, занесенные снегом, усеивали здесь все вокруг. Плоть расклевали птицы и растащили бродячие собаки, оставив лишь голые черепа да остовы ребер, выглядевшие как веера, с которых сорвана бумага. Снег сделал их очертания еще более жуткими и причудливыми: казалось, это останки доисторических чудищ или тех тварей, на которых ведьмы отправляются на шабаши.
Актеры опустили носилки на землю, и работник принялся усердно орудовать лопатой, выбрасывая на снег черные комья земли. Похороны зимой по-особому печальны: мертвецы ничего не чувствуют, это очевидно, но тем, кто собрался у свежей могилы, всегда кажется, что бедным усопшим будет неописуемо холодно провести первую ночь в глубоко промерзшей земле.
Тиран сменил слугу, когда тот запыхался; могильная яма быстро углублялась. Она уже была достаточно широка и глубока, чтобы принять в себя тощее тело Матамора, как вдруг поселяне, столпившиеся неподалеку, принялись вопить: «Бей проклятых гугенотов!» – явно намереваясь наброситься на актеров. В их сторону полетело несколько камней, которые, к счастью, никого не задели. Сигоньяк в бешенстве обнажил шпагу и бросился к эти тупым мужланам, угрожая пронзить их одного за другим. На шум из ямы выбрался Тиран, подобрал одну из жердей от импровизированных носилок и принялся от всей души колотить тех, кто замешкался и не отступил от яростного натиска барона. Толпа вмиг рассеялась, вопя и сыпля проклятиями, после чего можно было завершить похоронный обряд.
Опущенное на дно ямы тело Матамора, туго обернутое обрывком «леса», больше напоминало не человека, а мушкет или аркебузу, упакованную в зеленую ткань, которую норовят спрятать подальше от чужих глаз. Когда первые комья мерзлой земли посыпались на жалкие останки актера, расчувствовавшийся Педант не смог удержать слезу, скатившуюся с его пористого красного носа в отверстую могилу, как жемчужина. Вздохнув, он скорбно произнес вместо пространной надгробной речи:
– Увы! Бедный, бедный Матамор!
Добряк Педант и не подозревал, что в точности повторяет слова Гамлета, принца Датского, сказанные им в ту минуту, когда он держал в руках череп Йорика, бывшего придворного шута. Однако в ту пору эта трагедия господина Шекспира, весьма известного в Англии поэта, пользовавшегося покровительством королевы Елизаветы, еще не была известна в этой части Французского королевства.
В считаные минуты могила была засыпана. Тиран присыпал ее сверху снегом, чтобы жители деревни не нашли ее и не могли надругаться над трупом.
Покончив с этим, он произнес:
– Делать нам тут больше нечего, надо поживее убираться. Вернемся на постоялый двор, запряжем лошадь и отправимся в путь. Иначе эти дикари, чего доброго, вернутся с подкреплением и набросятся на нас. В этом случае вашей шпаги, барон, и моих кулаков окажется маловато, ведь тысяча пигмеев может одолеть любого великана. Да и от победы над ними толку никакого: ни славы, ни прибыли. Допустим, вы проткнете с полдюжины олухов – чести это вам не прибавит, а с мертвецами хлопот не оберешься. Тут тебе и причитания вдов, и вопли сирот, и прочие нудные каверзы, которыми пользуются крючкотворы-адвокаты, чтобы склонить на свою сторону судей…
Труппа не замедлила последовать разумному совету. Часом позже, расплатившись с хозяйкой за ночлег и еду, актеры уже были в пути.
7
Роман оправдывает свое название
Поначалу странники двигались вперед со всей быстротой, какую только позволяли основательно обледеневшая дорога и силы старой клячи, несколько возросшие после ночи в теплой конюшне и доброй порции корма. Надо было поскорее оставить позади деревню, чтобы избежать преследования со стороны обозленных мужланов, которое было вполне возможным.
На протяжении первых двух миль царило общее молчание: всех угнетали мысли о прискорбной кончине Матамора и собственном плачевном положении. Каждый комедиант знал, что настанет час – и его зароют где-нибудь у дороги вместе с отбросами и падалью, а то и вовсе не станут хоронить, а оставят на поругание тупым фанатикам. Их фургон, неспешно, но неуклонно продвигавшийся по дороге, был своего рода символическим воплощением жизни, которая стремится вперед, не заботясь о тех, кто не в силах следовать за ней и остается в придорожной канаве.
На то и существуют символы, чтобы истина стала яснее; и Блазиус, у которого уже язык чесался порассуждать об этом, вскоре принялся сыпать бесчисленными цитатами, сентенциями и афоризмами великих философов, засевшими в его бездонной памяти благодаря сыгранным ролям.
Тиран хмуро слушал его и не отвечал ни слова. Его заботило совсем другое, и в конце концов Педант, заметив его рассеянность, полюбопытствовал, о чем он думает.
– О Милоне Кротонском, – отвечал Тиран, – том самом знаменитом греческом атлете, который одним ударом кулака убил быка и съел его в один присест. Этот подвиг до того пленяет меня, что я готов его повторить!
– Увы, быка-то у нас и нет! – вставил Скапен.
– Твоя правда, – подтвердил Тиран, – есть только кулак… и мой пустой желудок. О, до чего же счастливы страусы, способные питаться камнями, черепками, пуговицами, рукоятками ножей, пряжками от поясов и прочей неудобоваримой дрянью! Сейчас я, кажется, готов сожрать всю нашу театральную бутафорию. Роя могилу для бедняги Матамора, я заодно и в себе самом вырыл такую широкую, длинную и глубокую яму, что ее ничем не заполнить. Греки и римляне поступали умно, устраивая после похорон обильные трапезы с возлияниями, прославляя усопших и радуя живых. Неплохо бы воскресить этот мудрый поминальный ритуал, способный уменьшить скорбь и осушить любые слезы.
– Иначе говоря, ты голоден, как пес, – подытожил Блазиус. – Тошно смотреть на тебя, Полифем, людоед, Гаргантюа, урезанный наполовину Голиаф!
– А ты, я думаю, совсем не прочь выпить, – возразил Тиран. – О, жалкий прохудившийся бурдюк, сито, дырявая бочка, сломанный насос, кувшин без ручки!
– А представляете, как сладостно и полезно было бы сочетать за одним столом оба эти естественных стремления! – примирительно изрек Скапен. – А между тем вон там, у дороги, я вижу уютный лесок, вполне походящий для привала. Можно заглянуть туда и, если в фургоне осталось хоть что-то съедобное, перекусить чем бог послал, укрывшись от ветра. Кстати, и лошадь передохнет, а мы, обгладывая уже однажды обглоданные кости от ветчины, потолкуем о будущем нашей труппы, которое мне видится далеко не самым радужным.
– Золотые слова! – воскликнул Блазиус. – Выгребем из недр нашего провиантского мешка, ставшего ныне больше похожим на кошелек проигравшегося в пух и прах мота, остатки былого великолепия: корки от пирогов, шкурки от окорока, хвостики от колбасы и сухие горбушки хлеба. В укладке, сдается мне, отыщутся еще две-три бутылки вина, последние из целого батальона. Всем этим можно если и не утолить, то хотя бы немного заглушить голод!
Фургон скатился с дороги, после чего его поставили в гуще кустов. Распряженная лошадь занялась поисками сухой травы, кое-где торчавшей из-под снега, выщипывая ее клочок за клочком своими длинными желтыми зубами. На поляне разостлали ковер, актеры расселись по-турецки вокруг этой импровизированной скатерти, и Блазиус торжественно, словно перед обильной трапезой, расположил на ней объедки, завалявшиеся в фургоне.
– Какая великолепная сервировка! – воскликнул Тиран, любуясь делом его рук. – Дворецкий самого герцога Анжуйского не управился бы лучше. Ты, Блазиус, превосходен, когда играешь Педанта, но твое подлинное призвание – быть стольником и виночерпием при знатных дворах!
– Я и в самом деле намеревался стать если не одним, так другим, но судьба была против, – скромно ответил Педант. – Только смотрите, обжоры, не набрасывайтесь с жадностью. Жуйте медленно и вдумчиво. Или нет: я сам оделю каждого из вас, как поступают на спасательных плотах после кораблекрушения. Тебе, Тиран, достанется ветчинная кость, на которой еще кое-что осталось. Зубы у тебя дай бог всякому, ты без труда раздробишь ее и, как положено философу, добудешь из нее содержимое. Вам, сударыни, я предложу донце пирога с остатками фарша, основательно пропитанное жиром. Это блюдо тонкое, изысканное и весьма питательное. Вам, барон де Сигоньяк, я вручаю кончик колбасы! Но не вздумайте проглотить веревку, которой он стянут, точно кошель шнурком. Оставьте ее на ужин, поскольку обед сегодня мы отменяем как нечто чересчур обременительное для пищеварения. Что касается нас троих – Леандра, Скапена и вашего покорного слуги, то мы удовольствуемся вот этим куском сыра, сморщившимся и заплесневевшим, как отшельник в пещере. Если кто-нибудь сочтет хлеб слишком черствым – пусть потрудится размочить его в воде. Теперь вино… скажем так: каждый получит полный стаканчик, но как виночерпий я попрошу осушить его до дна, чтобы не случилось потери бесценной влаги…
Сигоньяку такая трапеза была не в диковину. В своем замке он привык садиться за стол, который не разделили бы с ним даже мыши. Да он и сам был как бы мышью, ибо никогда не оставлял после себя ни крошки. Его порадовало бы доброе расположение духа и комические ужимки Педанта, который с легкостью обнаруживал смешное там, где другие только скулили и жаловались, но его тревожила Изабелла. Синеватая бледность покрывала щеки девушки, она жевала с трудом, а между тем ее зубы выбивали лихорадочную дробь, которую она тщетно пыталась скрыть. Легкая одежда плохо защищала ее от стужи, и Сигоньяк, сидевший рядом, несмотря на некоторое сопротивление со стороны Изабеллы, накинул ей на плечи полу своего плаща, а затем привлек ее к себе, чтобы немного согреть. Спустя несколько минут дрожь отступила и легкий румянец проступил на лице девушки.
В то время, как актеры закусывали, невдалеке послышались странные звуки, на которые они поначалу просто не обратили внимания, приняв их за посвист ветра в оголенных ветвях. Но вскоре звуки стали гораздо громче: это было нечто вроде сиплого, пронзительного шипения, довольно злобного. Происхождение их было неясным, и женщины испуганно вскочили.
– Что, если это какая-нибудь змея! – нервно воскликнула Серафина. – Я умру на месте, если это так. Ползучие гады внушают мне нестерпимое омерзение.
– Слишком холодно, – возразил Леандр. – В это время года змеи, да и все остальные пресмыкающиеся, давным-давно спят в своих подземных норах.
– Леандр прав, – подтвердил Педант. – Думаю, это какой-то лесной зверек, потревоженный нашим присутствием. Незачем из-за такой чепухи портить себе аппетит.
Однако Скапен, заслышав шипение, мгновенно насторожил уши, которые хоть и покраснели от холода, но по-прежнему исправно ему служили, и уставился в ту сторону, откуда доносились подозрительные звуки. Вскоре неподалеку зашуршали стебли сухой травы, словно через них пробиралось какое-то существо. Скапен знаком потребовал от товарищей не двигаться и сохранять молчание, и вскоре из гущи кустарника, вытянув серую шею и задрав алый клюв, переваливаясь на ходу и пришлепывая перепончатыми лапами, показался великолепный откормленный гусак. За ним доверчиво следовала парочка гусынь – его супруги.
– Вот оно, жаркое, которое само просится на вертел, – шепнул Скапен. – Небо услышало наши молитвы и весьма кстати посылает его нам!
После этого пройдоха осторожно поднялся и бесшумно исчез за кустами. Двигался он так легко и плавно, что даже снег ни разу не хрустнул у него под башмаками.
Гусак тем временем остановился и уставился на группку комедиантов, застывших, как изваяния. Он созерцал эту картину с любопытством и одновременно с недоверием, не в силах понять своими куцыми гусиными мозгами, откуда взялись эти люди в столь пустынном месте. Скапен же, изрядно поднаторевший в таких мародерских набегах, воспользовался моментом, подкрался к птице сзади и так ловко, точно и стремительно накрыл ее плащом, что все это заняло меньше времени, чем требуется для того, чтобы моргнуть глазом.
Затем он навалился на трепыхающегося под плащом гусака, нащупал его шею и сдавил обеими руками. Вскоре птица обмякла, ее голова поникла, крылья перестали вздрагивать, а лапы в красных сапожках вытянулись. Гусак был мертв. Его вдовы, не дожидаясь той же участи, с жалобными криками бросились в чащу.
– Браво, браво, Скапен! Вот уж сыграно так сыграно! Отменная сцена! – зааплодировал Тиран. – Этот подвиг стоит всего, что ты до сих пор совершил на подмостках! Всякий знает, что поймать гуся – дело непростое. Эти птицы по природе своей очень чуткие и постоянно держатся настороже. Недаром историки утверждают, что именно гуси почуяли ночью приближение галлов, подняли шум на Капитолийском холме, разбудив воинов, и таким образом спасли Рим. А этот дивный гусак тоже послан судьбой, чтобы спасти нас, но не столь чудодейственным образом!
Пока Дуэнья ощипывала и потрошила гуся, Блазиус, Тиран и Леандр собрали в леске несколько охапок валежника и сложили его на сухом месте, предварительно отряхнув от снега. Скапен очистил от коры прочную дубовую ветку, которой предстояло стать вертелом. Пара рогулек была воткнута в землю на том месте, где предполагалось развести костер. Из фургона принесли охапку соломы и высекли огонь, солома затрещала, задымила, и вскоре костер разгорелся и весело запылал, обдавая насаженную на вертел могучую птицу благодатным жаром, а заодно согревая актеров, столпившихся вокруг.
Скапен, как и полагается герою дня, вел себя с необычайной скромностью. Он сидел у самого огня, уставившись прямо перед собой, и время от времени с постной миной поворачивал птичью тушку над угольями, чтобы она равномерно покрывалась аппетитной золотистой корочкой. Вокруг витал такой дивный аромат, что даже парижский гурман, всему великолепию столицы предпочитающий обжорный ряд на Гусиной улице, впал бы в молитвенный экстаз.
Наконец Тиран, не выдержав, вскочил и принялся размашисто шагать взад и вперед, чтобы, по его собственному признанию, избавиться от соблазна немедленно наброситься на полусырого гуся и слопать его вместе с вертелом. Но вот Блазиус наконец извлек из сундука в фургоне большое оловянное блюдо, употребляемое в качестве бутафории на сцене. Торжественно водруженный на блюдо, гусь буквально обливался под ножом благоухающим соком.
Добычу разделили на равные порции, и завтрак, который теперь уже не походил на готовый исчезнуть мираж, начался снова. Голод усыпляет совесть вместе с ее упреками, поэтому поступок Скапена никого не смутил. Об этом вообще никто не думал, и лишь Педант, глубоко осведомленный в гастрономических тонкостях, посетовал, что не может подать к гусятине обязательную и наилучшую приправу – померанцы, нарезанные тонкими ломтиками. Впрочем, этот недочет ему охотно простили все присутствовавшие.
– Теперь, когда мы наконец-то сыты, – сказал Тиран, обтирая жирные руки и бороду, – самое время немного потолковать о том, как нам действовать дальше. На донце нашей кассы с трудом отыщутся три или четыре пистоля, и скоро мне как казначею просто нечего будет делать. Труппа наша утратила двух очень ценных партнеров – Зербину и Матамора; к тому же мы не можем давать представления в чистом поле для грачей, ворон и сорок. Эта публика нам ничего не заплатит, у нее нет денег, за исключением разве что сорок, которые, по слухам, воруют блестящие кольца, монеты и ложки. Но я бы не стал рассчитывать на такие сборы. На нашем одре, готовом вот-вот околеть прямо в оглоблях, мы и за два дня не доберемся до Пуатье. Это в высшей степени скверно, так как за это время мы либо околеем от голода, либо замерзнем на краю какой-нибудь канавы. Гуси не каждый день появляются из-за кулис, да еще и в виде готового жаркого.
– Ты отлично живописал весь ужас нашего положения, – заметил Педант. – Но я не услышал ни слова о том, как нам из него выбраться!
– Как по мне, – отвечал Тиран, – нам следует остановиться в первой же деревушке, какая попадется на нашем пути. Полевые работы давно закончены, наступили долгие зимние вечера. Если мы поладим с поселянами, нам предоставят если не сарай, то овин. Скапен станет зазывалой, обещая всем огорошенным ротозеям невиданное зрелище, за которое можно заплатить не только деньгами, но и натурой: сойдут и курица, и четверть окорока, а уж за кувшин вина можно претендовать на лучшие места в первом ряду. За галерку можно брать пару голубей, дюжину яиц, пучок моркови, каравай хлеба и прочее в том же роде. Крестьяне скуповаты на деньги, но не дорожат съестными припасами, которыми снабжает их матушка-природа. Кассу мы не наполним, зато как следует набьем желудок. А это не менее важно, ибо от этого уважаемого органа зависит благополучие всего тела, как справедливо замечено не нами. После этого нам будет уже не трудно добраться до Пуатье, где один знакомый мне трактирщик ссудит нам некоторую сумму.
– А что же будем мы играть, если нам повезет и мы наткнемся на многолюдную деревню? – полюбопытствовал Скапен. – Наш репертуар окончательно расстроен. Трагедии и драмы не по зубам этим невеждам, не сведущим ни в истории, ни в мифологии, а порой не разумеющим толком даже по-французски. Им нужна веселая и живая буффонада, да посолонее, со множеством потасовок, перебранок, побоев, пинков, кувырков и прочих шутовских штук на итальянский лад. «Родомонтада капитана Матамора» была бы тут в самый раз, но наш Матамор, увы, приказал долго жить. Как же нам выкрутиться?
Едва Скапен умолк, как Сигоньяк зна́ком показал, что хочет кое-что сказать. Легкая краска – последний прилив дворянской гордыни – зарумянила его лицо, обычно остававшееся бледным даже на зимнем ветру. Актеры приумолкли.
– Хоть я не обладаю замечательным комедийным даром бедняги Матамора, – произнес барон, – зато не уступаю ему в худобе. И вот – я готов взять на себя его роли и попытаюсь как можно лучше заменить покойного. За время нашего пути я стал вам товарищем и хочу быть им в полной мере. Мне пришлось бы стыдиться себя, если б я, разделив с вами успех и удачу, не помог бы вам в беде. Да и кому на свете есть дело до моего происхождения? Кто такие де Сигоньяки? Мой родовой замок вот-вот рухнет и похоронит под собой могилы моих предков, некогда славное имя покрыто паутиной забвения, а герб мой зарос плющом. Может, и настанет день, когда эти три аиста вновь распахнут свои сверкающие крылья и жизнь вернется в унылый склеп, в котором прошла моя юность. А до тех пор, раз уж вы помогли мне выбраться из этого склепа, примите меня в свою среду. Отныне я буду носить иное имя!
Изабелла невольно коснулась руки барона, как бы желая удержать его, но Сигоньяк, не обращая внимания на ее умоляющий взгляд, продолжал:
– Я слагаю с себя титул и прячу его в сундук, как ветхое платье. Прекратите величать меня бароном. Посмотрим, удастся ли злой судьбе отыскать меня в новом обличье. Итак, я, наследник капитана Матамора, с сего дня принимаю имя капитан Фракасс!
– Да здравствует капитан Фракасс! – единодушно грянула труппа. – И да сопутствует ему успех на сцене и в любви!
Поначалу озадачившее актеров, решение это не было таким уж внезапным, каким могло показаться. Сигоньяк давно раздумывал над ним. Он совестился быть нахлебником у благородных комедиантов, которые так простодушно и щедро делились с ним своими крохами. Ни один из них ни разу не дал барону понять, что он им в тягость. Вот почему он счел куда более достойным дворянского звания честно зарабатывать хлеб на подмостках, чем получать его в качестве милостыни. Да, его не раз соблазняла мысль вернуться в замок Сигоньяк, но он отметал ее как трусливую и постыдную: не подобает воину покидать свой стан после поражения. Помимо того, его удерживала любовь к Изабелле, и, хоть он не был склонен к пустым иллюзиям, в тумане будущего ему чудились удивительные приключения, невероятные перемены и счастливые повороты судьбы. От всего этого пришлось бы навсегда отказаться, если бы он снова заперся в своем замке.
Как только всё, ко всеобщему удовольствию, уладилось, комедианты запрягли лошадь и тронулись дальше. Обильная и вкусная трапеза подбодрила их, и мужчины вместе с Изабеллой шли пешком за фургоном, чтобы хоть немного облегчить участь несчастной клячи. Лишь Дуэнья и Серафина, не любившие прогулок, остались под парусиновым навесом.
Изабелла опиралась на руку Сигоньяка и время от времени украдкой бросала на него нежные взгляды. Она ни минуты не сомневалась, что только из любви к ней он принял свое решение, поступившись гордостью дворянина. Она сознавала, что это достойно порицания – таков был общий взгляд на вещи, но не могла не принять такое доказательство преданности. Если бы она могла предвидеть или знала заранее, что барон готов предпринять такой шаг, то непременно воспротивилась бы всеми силами. Ибо эта девушка была из тех, кто забывает о себе и заботится лишь о благе возлюбленного. Спустя некоторое время она, немного утомившись, вернулась в фургон и улеглась под одеяло рядом с Дуэньей.
По обе стороны дороги лежала бескрайняя белая равнина: ни намека на городок или селение.
– Боюсь, что аншлага у нас сегодня не предвидится, – заметил Педант, оглядывая окрестности. – Что-то я не замечаю толп зрителей, спешащих к нам со своей ветчиной, курами и связками лука. Нигде ни одной дымящейся трубы, и до самого горизонта нет силуэта хотя бы плохонькой колокольни.
– Терпение, друг мой Блазиус, – это добродетель! – ответил Тиран. – Слишком густо расположенные селения отравляют воздух, поэтому считается полезным строить их подальше одно от другого.
– Ну, если так, то обитателям здешних краев нечего опасаться эпидемий чумы, холеры, злокачественной лихорадки и кровавого поноса, которые, по утверждению докторов, случаются от большого скопления людей. Если так дело пойдет, то дебют нашего капитана Фракасса случится еще не скоро.
День, тем временем, быстро клонился к вечеру. Сквозь плотную пелену свинцовых туч едва пробивались слабые багровые отсветы заката. Да и что тут было освещать солнцу, кроме бесконечной заснеженной равнины, где единственными черными точками были вороны, охотящиеся на полевых мышей.
От постоянно дующего навстречу ледяного ветра снег покрылся твердой блестящей ледяной коркой. Несчастная кляча продвигалась с неимоверным трудом. На спусках, даже самых пологих, ее копыта скользили и, как она ни упиралась, напрягая изо всех сил сухожилия, как ни оседала на костлявый круп, тяжелый фургон все равно подталкивал ее и вынуждал катиться вниз. Скапен, который шел впереди, держа лошадь под уздцы, ничем не мог ей помочь. Несмотря на стужу, по бокам лошади струился пот, который ремни сбруи, трущиеся о кожу и шерсть, взбивали в желто-серую пену. Легкие животного работали, словно кузнечные мехи. Подслеповатые глаза были расширены до предела, словно старую клячу посещали жуткие мистические видения, вызывавшие у нее ужас. Иногда она по неведомой причине пыталась свернуть с дороги в сторону, будто наталкиваясь на невидимую человеческому глазу преграду. При этом она шаталась, словно во хмелю, а голову то задирала, словно собираясь встать на дыбы, то свешивала до земли, хватая губами на ходу комья снега.
Настал ее смертный час, это было совершенно ясно, но умирала она на ходу, как и подобает доброй рабочей лошади. В конце концов кляча рухнула на дорогу, напоследок сделав слабую попытку лягнуть призрак смерти, повернулась на бок и затихла.
От внезапной остановки и толчка фургон едва не опрокинулся, а сундуки и баулы резко сдвинулись с места. Испуганные женщины подняли отчаянный крик. Актеры бросились им на помощь и вскоре вызволили тех, кого придавил театральный багаж. Дуэнья и Серафина совершенно не пострадали, но Изабелла лишилась чувств, и Сигоньяк на руках вынес девушку на руках из фургона. Тем временем Скапен, склонившись над распластанной лошадью, поспешно ощупывал ее уши.
– Пала, окончательно пала, и ничего тут не поделаешь! – наконец проговорил он, выпрямляясь с видом глубокого уныния. – Уши ледяные, и в шейной артерии нет пульса…
– Что же теперь, нам самим впрягаться в фургон, как вьючной скотине? Будь он проклят, тот час, когда мне в голову пришла эта проклятая мысль – стать актером! – возопил Леандр.
– Нашел время хныкать! – раздраженно рявкнул на него Тиран. – Сейчас всем надо набраться мужества и показать, что нам не страшны шуточки судьбы, а заодно рассудить, как действовать дальше! Но прежде всего надо взглянуть, что там с бедняжкой Изабеллой… Впрочем, она, кажется, уже открыла глаза и приходит в себя с помощью Леонарды и Сигоньяка…
– Итак, – продолжал он, – по моему мнению, нам, мужчинам, следует разделиться на две группы. Одна останется с женщинами и фургоном, другая отправится на поиски. Мы не какие-нибудь там эскимосы, привычные к адским морозам, и не в состоянии ночевать, зарывшись в снег. Меховой одежды у нас нет, и к рассвету мы окоченеем так, что от инея станем похожи на засахаренные фрукты. Капитан Фракасс, Леандр и ты, Скапен, – вы все легки на ногу. Поэтому мчитесь во всю прыть, как ошпаренные коты, и поскорее возвращайтесь с подмогой. А мы – Блазиус и я – останемся стеречь наше имущество.
Трое младших мужчин уже совсем было собрались в путь, не особенно, впрочем, рассчитывая на успех, ибо вокруг было темно, как в печной трубе. Только смутный отблеск снега позволял различить дорогу. Но вдруг далеко в стороне, под склоном холма, вспыхнул и замигал красноватый огонек.
– Вот он, светоч надежды, – вскричал заметивший огонек Педант, – земная звезда, не менее отрадная для замерзающих странников, чем Полярная звезда для мореходов in periculo maris![37] Глядите – это же не что иное, как свеча или лампа, стоящая на окне! А что за этим окном? Уютная натопленная комната, часть дома, где, скорее всего, обитают благоразумные человеческие существа, а не свирепые лестригоны[38]. В очаге, я полагаю, ярко пылает огонь, а на тагане в котелке поспевает наваристая похлебка… О сладостные грезы! Я уже мысленно облизываюсь, сдабривая воображаемый ужин парой бутылок доброго выдержанного вина из тамошнего погреба.
– Ты бредишь, дружище Блазиус, – заметил Тиран. – Должно быть, мозги в твоем лысом черепе окончательно смерзлись, и в глазах у тебя теперь одни миражи. Одно в твоей болтовне похоже на правду – свет этот означает жилье, что в корне меняет наши планы. Сейчас мы все вместе отправимся к этому спасительному огоньку. О фургоне нечего беспокоиться – едва ли в такую ночь на пустынной дороге появятся воры, чтобы похитить у нас лес, городскую площадь и гостиную, да и разбогатеть им таким образом не удастся. Пусть каждый захватит с собой свои пожитки, не так уж их много, а завтра поутру мы вернемся за фургоном. И пошевеливайтесь – я окончательно продрог и уже не чувствую кончика собственного носа!
Спустя несколько минут шествие двинулось напрямик по заснеженному полю. Изабелла шла, опираясь на руку Сигоньяка, Леандр вел Серафину, Скапен – Дуэнью, Блазиус и Тиран шагали во главе. Они держали курс на огонек, то и дело натыкаясь на кусты и лощины, занесенные глубоким снегом. Так, не раз провалившись по пояс в сугробы, они достигли внушительного вида строения, скрытого за оградой с крепкими воротами. Насколько можно было судить в темноте, походило оно на жилище зажиточного фермера. Квадрат освещенного окна, не закрытого ставнями, отчетливо выделялся на черной стене.
Почуяв чужих, сторожевые собаки забеспокоились и подняли лай. В ночной тишине было слышно, как они мечутся и хрипят за оградой. Вскоре послышались людские шаги и голоса – псы подняли на ноги всех обитателей фермы.
– Отойдите немного подальше от ворот, – велел Педант. – Эти крестьяне, живущие в глуши, могут испугаться, что нас слишком много, и, чего доброго, примут нас за разбойничью шайку. Уж лучше я, безобидный с виду старик, постучу и возьму на себя переговоры. Во всяком случае я никого не испугаю.
Мысль была разумная, и комедианты отступили, оставив Блазиуса наедине с воротами. Тот постучал, калитка приоткрылась, а затем распахнулась настежь. А в следующее мгновение перед актерами предстало удивительное и совершенно необъяснимое зрелище. Появившийся в калитке фермер приподнял фонарь, чтобы получше осветить лицо того, кто явился сюда в столь поздний час, после чего оба, отчаянно жестикулируя и невнятно восклицая, бросились в объятия друг другу – примерно так, как на сцене изображают внезапную встречу старых друзей.
Пока ничего не было ясно, но подобный пылкий прием весьма обнадеживал. Поэтому остальные актеры мало-помалу приблизились к воротам, приняв смиренный вид, подобающий путникам, попавшим в беду и нуждающимся в крыше над головой.
– Эй, где вы там? – с торжеством воскликнул Педант. – Не робейте: мы угодили прямиком к собрату по ремеслу, любимцу Феспида, баловню музы комедии Талии или, коротко говоря, к прославленному Белломбру, некогда срывавшему шумные аплодисменты при дворе и в столичных театрах, не говоря уж о провинции. Имя его гремело, да и сегодня оно известно всем и каждому. Благословите же случай и ту путеводную звезду, что привела нас прямиком в тихую гавань, в которой наш корифей сцены философски почивает на лаврах!
– Прошу пожаловать сюда, милостивые дамы и господа! – радушно произнес Белломбр, выступив навстречу актерам. И голос, и все его исполненные изящества движения свидетельствовали о том, что под крестьянским обличьем старый комик сохранил манеры светского человека. – Холодный ночной ветер может повредить вашим драгоценным голосам, и, как ни скромно мое жилище, здесь вам будет много уютнее, чем под открытым небом!
Нечего и говорить, что спутники Блазиуса не заставили себя упрашивать, а поторопились войти, радуясь благоприятной случайности. В прошлом Педант был членом той же труппы, что и Белломбр. Однако несхожие амплуа исключали любое соперничество между ними, и оба относились друг к другу с глубоким уважением, а затем подружились на почве общего пристрастия к дарам Бахуса. Бурно и безалаберно проведенная юность привела Белломбра на театральные подмостки, однако, унаследовав после отца ферму с земельными угодьями, он оставил театр. Для тех ролей, в которых он блистал, требовались сила и молодость, и он благоразумно вышел в отставку до того, как ее неотвратимо обозначили сами морщины на его лице. В актерских кругах его считали давно умершим; однако старые театралы до сих пор сравнивали юные дарования с Белломбром – и не в их пользу.
Просторное помещение, в котором оказались актеры, как и повсюду на фермах, служило одновременно спальней, столовой и кухней. У стены располагался очаг с широким колпаком, украшенным зелеными шелковыми фестонами. Длинный выступ в глянцевитой кирпичной стене указывал место, где проходил дымоход. Под кованой решеткой очага с полукруглыми выемками для котелков и кастрюль весело потрескивали несколько поленьев, или, скорее, бревен. Столь щедрый огонь до того ярко освещал комнату, что в лампе или свечах не было никакой нужды. Блики пламени выхватывали из сумрака готических очертаний кровать, полускрытую пологом, скользили по дубовым балкам потолка, весьма закопченным, отбрасывали причудливо пляшущие тени на стены и зажигали блики в начищенных боках медных кувшинов и кастрюль, висевших на крюках и стоявших на полках.
Несколько книг, раскрытых и оставленных на резном столике в углу у окна, свидетельствовали о том, что хозяин не окончательно погрузился в земледельческие заботы. Храня воспоминания о своих прежних занятиях, он коротал долгие зимние вечера за чтением.
Согретые теплом и радушием хозяина, актеры испытывали истинное блаженство. Краски жизни вернулись на их иссушенные холодом бледные лица, радость засветилась в глазах и надежда заставила подняться понуро опущенные головы. Коварному и злопамятному божку бед и напастей наконец-то надоело преследовать бродячих комедиантов: приняв смерть Матамора в качестве жертвы, он смилостивился над бедолагами и на время оставил их в покое.
Белломбр кликнул слуг, которые мигом уставили скатерть тарелками и вместительными кувшинами, к восторгу Блазиуса, одержимого жаждой в любое время суток.
– Теперь ты убедился, – заметил он, обращаясь к Тирану, – как верны оказались все мои предположения, которые ты счел призраками и миражами! Взгляни – сытный пар поднимается над густым супом с капустой, морковью и прочими овощами! Красное и белое вино, принесенное из погреба, играет в кувшинах, а огонь пылает тем жарче, чем больше стужа на дворе. И к тому же хозяин наш – великий, знаменитый, увенчанный славой Белломбр, краса и гордость всех комедиантов – бывших, настоящих и будущих!
– Нечего было бы и желать, если бы несчастный Матамор не покинул нас, – невольно вздохнула Изабелла.
– А что же с ним случилась? – спросил Белломбр, немало слышавший о Матаморе.
Пришлось Тирану поведать гостеприимному хозяину горестную историю о гибели капитана среди снегов.
– И, если бы не эта счастливая встреча с добрым старым товарищем, сегодня ночью нас всех ждало бы то же самое, – заметил Блазиус, когда Тиран умолк. – Мы окоченели бы в этой кромешной киммерийской тьме и стуже.
– А вот это было бы достойно всяческих сожалений, – подхватил Белломбр, галантно улыбнувшись Изабелле и Серафине. – Но я полагаю, что юные богини, сопутствовавшие вам, огнем своих очей растопили бы снега и освободили природу от ледяных оков!
– Вы, месье, приписываете уж слишком большую власть нашим взглядам, – возразила Серафина. – В этом студеном мраке они не могли бы воспламенить даже чье-нибудь сердце. Слезы, выступающие на глазах от ветра и холода, погасили бы жар любви…
В ходе беседы за веселым ужином Блазиус рассказал Белломбру о том, в каком положении ныне оказалась труппа. Старого актера это ничуть не удивило.
– Театральная Фортуна – дама еще более капризная и прихотливая, чем Фортуна житейская, – заметил он. – И колесо ее вращается так стремительно, что удержаться на нем можно всего лишь несколько мгновений. Однако, упав, надо иметь лишь немного воли, таланта и ловкости, чтобы вновь на него запрыгнуть и восстановить равновесие… Завтра с утра я пошлю слуг за вашим фургоном и мы оборудуем театр в большом овине. К западу от моей фермы лежит довольно большое селение, так что зрителей наберется немало. Если же сборы окажутся скудными, на дне моего старого кошелька еще можно отыскать несколько монет, более полновесных, чем театральные жетоны, и, клянусь Аполлоном, предводителем муз, я не брошу старину Блазиуса и его друзей в беде!
– Ты все тот же, Белломбр, – как никто великодушный и щедрый! – воскликнул Педант. – Душа твоя не огрубела от крестьянского труда!
– Ты прав: обрабатывая свои поля, я не оставляю и разум в праздности. По вечерам, сидя у камина, я перечитываю старых поэтов, проглядываю скороспелые творения нынешних остроумцев – по крайней мере все те, что можно раздобыть в этом захолустье. Порой я даже разучиваю некоторые роли, соответствующие моему амплуа, и только теперь понимаю, что в те времена, когда публика аплодировала мне за звучный голос, стройный стан и мускулистые икры, я был пустоголовым щелкопером. Ничего я не смыслил в ту пору в нашем искусстве и действовал наобум, как ворона, что долбит клювом орех. Лишь глупости публики я обязан своим успехом!
– Только непревзойденный Белломбр может так говорить о себе, – почтительно заметил Тиран.
– Искусство бессмертно, а жизнь коротка, – продолжал бывший актер, – особенно у комедианта, которому материалом для создания образа служит только он сам. Как только мой талант стал зрелым, когда он развился в полной мере, тут же появилось у меня и брюшко. А где вы видели роковых красавцев и трагических любовников с брюхом? Вот я и не стал ждать, чтобы кто-нибудь поддерживал меня под руку, когда по ходу действия мне надлежало бросаться на колени перед дамой сердца и изъяснять свои чувства, хрипя от одышки. А тут как раз подвернулось наследство. Я ушел во всем блеске славы, чтобы не походить на тех упрямцев, которых гонят с подмостков огрызками яблок, гнилыми апельсинами и тухлыми яйцами.
– Ты поступил мудро, Белломбр, – одобрил Блазиус, – хотя и несколько поспешил. Еще лет десять мы могли бы наслаждаться твоим искусством.
И действительно – несмотря на сельский загар, старый актер сохранил величавые манеры и внушительную внешность. Его глаза, привыкшие выражать глубокие чувства, ожили и засверкали в пылу разговора, красиво очерченные ноздри чувственно затрепетали. Губы, приоткрываясь в улыбке, обнажали ряд здоровых зубов, которым позавидовала бы записная кокетка. Его густая шевелюра, в которой поблескивали серебряные нити, пышными кольцами падала до самых плеч. Словом, он по-прежнему оставался красивым и представительным мужчиной.
Блазиус, Тиран и Белломбр остались коротать вечер за стаканом вина. Комедиантки удалились в спальню, где слуги уже развели огонь в камине. Сигоньяк, Леандр и Скапен улеглись на сеновале в крепкой конюшне, натянув на себя войлочные попоны.
Пока одни дружески беседуют, а другие сладко спят, утомленные приключениями, вернемся к брошенному фургону и посмотрим, что там происходит.
Мертвая кляча, которую так и не удосужились выпрячь, по-прежнему лежала между оглоблями. Ее окоченевшие ноги вытянулись, как палки, а голова, прикрытая слипшимися космами гривы, примерзла к земле. Остекленевшие глаза ушли вглубь черепа, резче выступили костлявые скулы.
Забрезжил мутный рассвет, а затем белый, как олово, диск зимнего солнца показался между длинными полосами облаков и нехотя пролил бледный свет на унылую равнину, на которой вырисовывались только траурно-черные остовы деревьев. По снежной целине расхаживали около дюжины ворон. Чуткое обоняние сказало им, что здесь есть пожива, но страх перед неизвестностью, ловушкой или иным подвохом пока удерживал их на расстоянии. Птицы и рады были бы подобраться к мертвой лошади и начать пировать, но их смущала молчаливая темная громада фургона. Хрипло перекликаясь, они словно выражали опасение, не затаился ли под покровом этой махины деревенский охотник, убежденный, что вороньим мясом похлебку не испортишь. Перепархивая с места на место, вороны то приближались к вожделенной падали, то боязливо отступали, словно исполняя фигуры какой-то причудливой паваны[39]. В конце концов одна из них, самая отчаянная, отделилась от стаи, взмахнула мерзлыми крыльями раз-другой и опустилась прямо на голову лошади. Она уже нацелилась клювом в затянутый смертной синевой глаз, но вдруг замерла, нахохлилась и стала озираться.
Вдали послышался скрип снега под тяжелыми шагами. Человеческое ухо было бы не в силах его различить, но изощренный вороний слух ошибиться не мог. Опасность находилась еще далеко, и ворона не покинула свой пьедестал, однако продолжала прислушиваться. Шаги приближались. Вскоре в холодной утренней дымке проступили размытые очертания человека с какой-то ношей. Ворона взлетела, суматошным карканьем предупреждая сородичей об опасности.
И тотчас вся стая с шумом и гамом снялась с места и расселась на ветвях ближайших деревьев. Человек тоже наконец-то заметил посреди дороги брошенную повозку, запряженную лошадью, у которой имелся один серьезный недостаток – она была мертва. Он остановился в недоумении, торопливо и подозрительно озираясь.
Затем неизвестный опустил свою ношу на землю. Но этот тючок не остался в неподвижности, а вдруг распрямился и вскочил на ноги, оказавшись девчушкой лет десяти, закутанной с головы до пят в длинный пастуший плащ. Вот почему, находясь на руках у своего спутника, она так походила на узел с пожитками или дорожную котомку. Из-под широкого капюшона, целиком скрывавшего ее голову, мрачным лихорадочным огнем горели только черные глаза – и, сдается мне, читатель, точь-в-точь такие мы уже видели у небезызвестной тебе Чикиты. На грязном тряпье, которым было закутана шея девочки, поблескивала нитка жемчуга, а ее босые ноги вместо обуви были обмотаны каким-то подобием опорок из старой шерстяной ткани.
Это и в самом деле была Чикита, а ее взрослый спутник – не кто иной, как Огастен, незадачливый разбойник. Утомившись от бесплодных усилий на безлюдной дороге, он направлялся в Париж, где любые таланты находят применение, в том числе и талант грабителя. Огастен, по примеру всех хищников, промышляющих убийством, предпочитал двигаться по ночам, а днем скрывался в лощинах и ямах, защищенных от ветра.
Девочка так замерзла и устала, что, несмотря на все свое мужество и стойкость, не могла идти дальше, и Огастен, выискивая взглядом хоть какое-то пристанище, нес ее на руках.
– Что бы это могло значить? – обратился он к Чиките. – Обычно мы сами останавливаем повозки, а тут повозка остановила нас. Боюсь, как бы она не оказалась битком набитой седоками, которые вот-вот гаркнут: «Кошелек или жизнь!»
– Нет там никого, – возразила Чикита, успевшая заглянуть под парусиновый навес.
– Если нет никого, так, может, там есть хоть что-нибудь стоящее? – пожал плечами бандит. – Надо бы взглянуть.
Порывшись в складках своего бездонного пояса, Огастен извлек оттуда кремень и трут. Добыв огонь, он зажег потайной фонарь, который всегда имел при себе для ночных блужданий. Внутри фургона было все еще темно – света зари было недостаточно, чтобы осветить темную утробу повозки. Надежда на поживу заставила Чикиту забыть об усталости. Она забралась в кузов и направила фонарь на свертки и узлы, которыми он был завален. Но увы – это были всего лишь какие-то старые размалеванные полотнища, картонные мечи, деревянные бокалы и тарелки и прочая дрянь, не имеющая никакой цены.
– Ищи хорошо, Чикита, малышка! – поощрял девочку бандит, одновременно поглядывая на дорогу – не идет ли кто. Выворачивай все карманы, мешки и баулы подряд!
– И все равно тут нет ничего, что можно прихватить с собой… Ага! Тут какой-то кошель, а в нем что-то звенит!
– Живо давай его сюда! – велел Огастен. – И поднеси фонарь поближе, чтобы я мог толком все разглядеть… А, клянусь рогами и хвостом сатаны, не везет нам, и все тут! Я-то думал, тут настоящие деньги, а это просто какие-то кружки́ из меди и позолоченного свинца… Ну, хоть какая-то польза от этого фургона – укроемся в нем от ветра и малость передохнем. Твои бедные ножки уже совсем тебя не держат – уж больно долгий выпал нам путь. Ты заберешься под эти холсты, укроешься и соснешь часок-другой. А я посторожу, чтобы никто не застал нас врасплох.
Чикита забилась в самый дальний конец повозки, натянула на себя ветхие декорации, чтобы хоть немного согреться, и моментально уснула. Огастен же уселся на передке, положил рядом раскрытую наваху и оглядел окрестности рысьим взглядом, от которого ничего не могло укрыться.
Глубокая тишина окутывала безлюдную равнину. На склонах далеких холмов виднелись занесенные снегом глыбы песчаника, походившие в лучах рассвета на призраков или мраморные кладбищенские памятники. Ничто вокруг не вызывало подозрений и не указывало на опасность. И вскоре, несмотря на всю силу воли и железную крепость, Огастен почувствовал, что его начинает одолевать сон. Веки словно налились свинцом, и ему лишь с огромным трудом удавалось держать глаза открытыми. Контуры предметов начали расплываться, мысли спутались, он уже погружался в потемки первых сновидений, как вдруг ощутил на лице чье-то теплое и смрадное дыхание. Бандит очнулся, и его глаза, едва раскрывшись, уперлись в узкие, отливающие желтизной и зеленью зрачки зверя.
– Волки не едят друг друга, голубчик, – пробормотал он. – К тому же я тебе не по зубам!
Неуловимым движением его левая рука клещами вцепилась в горло хищника, а правая по самую рукоять погрузила лезвие навахи в сердце матерого зверя.
Несмотря на эту молниеносную победу, Огастен счел фургон не слишком надежным местом и разбудил Чикиту. Труп распростертого на дороге волка, ничуть не испугал девочку.
– Надо убираться отсюда, – решил бандит, – падаль привлечет других волков, а собравшись стаей, они нападают на кого угодно, осатанев от голода и холода. Я, само собой, прикончу еще пару-другую, но, если усталость меня одолеет и я усну, не хотелось бы мне проснуться в волчьем брюхе. А если они расправятся со мной, то твои цыплячьи косточки покажутся им пирожным на десерт. Давай-ка, поднимайся, малышка, их сейчас больше интересует та дохлятина, что валяется в оглоблях, так что немного времени у нас есть. Сможешь идти?
– Да, – ответила Чикита. – Я немного поспала и чувствую себя лучше. Думаю, Огастен, тебе больше не придется меня тащить. А если ноги мне опять откажут, то лучше перережь мне горло своим ножом и брось в канаву. Я тебе только спасибо скажу!
Не прошло и пяти минут, как предводитель огородных пугал и его маленькая спутница уже шагали по дороге. Вскоре их силуэты растворились в белесой мгле. Обрадованные таким поворотом дела, вороны тотчас спустились с ветвей на землю и жадно набросились на мертвую клячу. Вскоре сюда же подоспело несколько волков, которые оттеснили птиц, несмотря на то, что вороны негодующе хлопали крыльями, хрипло орали и выхватывали куски падали прямо из-под носа у хищников. Не прошло и двух часов, как, благодаря совместным усилиям четвероногих и пернатых, от лошади остался лишь дочиста обглоданный скелет, словно обработанный лучшим анатомом-препаратором. Уцелели только копыта, клочья гривы и хвост…
Тиран в сопровождении одного из слуг месье Белломбра явился за фургоном, когда день уже окончательно вступил в свои права. Первым делом ему бросился в глаза полуобглоданный труп волка, лежавший под самыми колесами повозки. В оглоблях среди уцелевшей упряжи, которую не тронули ни клювы, ни клыки, топорщился кровавой решеткой ребер костяк многострадального одра. На снегу были рассыпаны бутафорские монеты из кошеля, там же отчетливо виднелись следы двух пар ног, большой и маленькой, которые вели прямо к фургону, а затем удалялись от него.
– Я вижу, нашу колесницу этой ночью посетило немало гостей, причем самых разношерстных, – хмыкнул Тиран. – Остается только благословлять случай, толкнувший нашего друга Белломбра оставить зажженную лампу на окне! Хвала Всевышнему! Благодаря этому мы спаслись как от двуногих, так и от четвероногих разбойников, а последние, пожалуй, даже опаснее первых. Им бы пришлись по вкусу наши молоденькие курочки – Изабелла и Серафина, да и нашими заскорузлыми стариковскими шкурами, думаю, они бы не побрезговали!
Пока Тиран рассуждал таким образом, слуга успел высвободить фургон из колеи и впряг в него приведенную с фермы рабочую лошадку, хотя она фыркала, пятилась и била копытом от зрелища обглоданного скелета и острого волчьего запаха, исходившего от багровых пятен на снегу.
Добравшись до фермы, повозку поставили под навесом во дворе. Внутри все уцелело и даже кое-что прибавилось. В кузове фургона валялась одна необычная вещица – маленький дамский кинжал из тех, какими славятся оружейные мастерские в испанском Альбасете, должно быть он выпал из кармана Чикиты во время сна. На одной из граней остро отточенного клинка было выгравировано чернью по-испански: «Cuando esta vivora pica, no hay remedio en la botica![40]»
Находка эта озадачила Тирана и встревожила Изабеллу, которая была слегка суеверна и нередко усматривала дурные или хорошие предзнаменования в мелких событиях, которые другим казались совершенно незначительными. Девушка понимала по-испански, как все более или менее образованные люди в то время, и пугающий смысл надписи невольно заставил ее содрогнуться.
Скапен, надев свой лучший сценический костюм в белую и розовую полоску с пышными брыжами, надвинув шляпу на брови и набросив на одно плечо короткий плащ, отправился в соседнее селение. Горделиво шествуя строевым шагом и напустив на себя самый залихватский и победоносный вид, он бил в барабан в такт собственным шагам, пока не очутился на Церковной площади. В прошлом, впрочем довольно отдаленном, Скапен и в самом деле был солдатом и успел повоевать, до того как стать актером. На всем пути его сопровождали толпы здешних мальчишек, которых его вид буквально заворожил.
На площади Скапен остановился, поправил шляпу, уперся ногой в какой-то парапет и отбарабанил по ослиной коже такую длинную, громовую и повелительную дробь, что она могла бы разбудить даже мертвых почище трубы архангела. Сами понимаете, какое впечатление она произвела на живых обитателей селения. Все окна и двери, как по команде, распахнулись, из них высунулись головы в чепцах и колпаках, и десятки любопытных, испуганных и встревоженных глаз уставились на чужака с барабаном на площади.
После нового раската дроби, звучного, как залп из дюжины мушкетов, все дома опустели, в них остались одни лежачие больные, калеки и роженицы. Спустя несколько минут вокруг Скапена столпилось все местное население. Чтобы окончательно завладеть вниманием публики, пройдоха принялся извлекать из барабана такие виртуозные рулады и с такой скоростью, что барабанные палочки словно растворились в воздухе. Дождавшись, когда рты обывателей распахнулись в виде буквы «О», что, согласно утверждениям старых живописцев, выражает высшую степень удивления, он неожиданно оборвал свои упражнения, выдержал краткую, но многозначительную паузу, а затем пронзительной фистулой, с самыми неожиданными акцентами и взвизгами повел следующую высокопарную, но явно шутовскую речь:
– Почтеннейшая публика! Исключительный случай! Сегодня вечером – чрезвычайное и единственное в своем роде представление! Феерическое зрелище! Прославленные комедианты странствующей труппы под управлением сьера Тирана, имевшие честь играть перед коронованными особами и принцами крови, проездом в Париж, где их с нетерпением ждут при дворе, единственный раз сыграют невообразимо забавную комическую пьесу под названием «Родомонтада капитана Фракасса», изобилующую небывалыми трюками и забавными пантомимами и потасовками. По окончании спектакля мадемуазель Серафина исполнит мавританский танец с добавлением фигур, пируэтов и прыжков в новейшем вкусе, аккомпанируя себе на бубне, которым владеет лучше любой испанской гитаны. Будет на что полюбоваться! Представление состоится у господина Белломбра в овине, приспособленном ради такого случая под театр и в избытке снабженном скамьями и светильниками. Трудясь скорее ради славы и вашего удовольствия, чем ради выгоды, из уважения к тем, у кого нет наличных средств, мы принимаем в уплату не только деньги, но и всевозможные съестные припасы. Оповестите об этом всех и каждого!
Окончив, Скапен забарабанил так неистово, что церковные витражи задребезжали в своих переплетах, а вертевшиеся на площади собаки с паническим воем кинулись наутек.
Тем временем комедианты трудились в овине при самом горячем содействии самого Белломбра и его слуг. В глубине просторного сарая уже высилась сцена из досок, настланных на днища старых бочек. Три или четыре длинные скамьи, взятые напрокат из здешнего кабачка, заменяли партер. Поскольку цена за вход была назначена умеренная, не следовало ожидать в партере кресел, обитых вишневым бархатом. Украшением стен и потолка никто не озаботился – эту работу взяли на себя трудолюбивые пауки. Огромные розетки паутины тянулись от балки к балке, и никакой, даже самый искусный, придворный обойщик не сумел бы создать более тонкие, более изящные и воздушные драпировки даже из китайского шелка. Эти завесы паутины в свете свечей неотразимо походили на геральдические щиты рыцарских орденов.
Быков и коров перевели в дальнюю часть сарая, сменив им подстилку. Животные дивились необычной суете и частенько отрывались от кормушек, чтобы бросить долгий недоуменный взгляд на сцену, где толпились актеры. Шла репетиция, в ходе которой Сигоньяк должен был запомнить все свои выходы и мизансцены.
– У моих первых шагов на сцене особые зрители – рогатый скот, – посмеиваясь, заметил барон. – Право, не будь я лишен самолюбия, стоило бы оскорбиться!
– Это всего лишь несмышленые животные, – возразил Белломбр. – А вам еще не раз придется играть перед подобной публикой, ведь в любом зале всегда отыщутся дураки, фанфароны и обманутые мужья.
Для зеленого новичка у Сигоньяка получалось совсем неплохо: было видно, что скоро он сживется со сценой. Голос у него был звучный, память отменная, а ум достаточно быстрый и изощренный, чтобы дополнять свою роль репликами, которые рождаются по ходу действия и оживляют его. С пантомимой выходило хуже – она изобиловала палочными ударами, которые задевали гордость барона, хотя их наносили всего лишь трубками из холста, набитыми паклей. Памятуя его титул, актеры щадили барона, тогда как он, не в силах сдержать обиду, делал свирепые гримасы, грозно хмурился и метал гневные взгляды. И лишь вспомнив характер своей роли, снова старался принять трусливый, испуганный и удручающе жалкий вид.
Белломбр, пристально следивший за новичком как признанный знаток актерского мастерства, внезапно обратился к Сигоньяку:
– Примите мой совет, сударь! Не пытайтесь сдерживать свои естественные порывы; они очень хороши и создают совершенно новую разновидность трусливого бахвала. Даже когда вы перестанете испытывать гнев и возмущение, продолжайте изображать их. Вам предстоит заново создать образ капитана Фракасса, ибо тот, кто идет по чужим следам, никогда не окажется впереди. Ваш Фракасс искренне хочет быть храбрым, ему по душе отвага, он восхищается смельчаками и негодует на собственную трусость. Когда нет опасности, он пылко мечтает о героических подвигах, о грандиозных, титанических свершениях. Но при малейшей угрозе не в меру пылкое воображение представляет ему мучительные раны, чудовищный облик смерти. Тогда-то мужество и покидает его. Мысль о поражении для него невыносима, кровь и желчь буквально закипают в нем, но первый же полученный удар отбивает у него всякую охоту драться. Такой рисунок роли куда тоньше и человечнее, чем все эти трясущиеся колени, выпученные глаза и прочие обезьяньи ужимки. Только плохие актеры стремятся таким образом вызвать смех у публики и позорят наше искусство!
Прислушавшись к советам Белломбра, Сигоньяк стал играть так хорошо, что актеры аплодировали ему и предсказывали большой успех.
Начало представления было назначено на четыре часа. За час до того Сигоньяк облачился в костюм Матамора, который Леонарда несколько расширила, распоров складки, которые ушивались по мере исхудания покойного лицедея.
Напяливая на себя эти шутовские лохмотья, барон грустно размышлял о том, что куда доблестнее было бы надеть колет из буйволовой кожи и стальную кирасу, как поступали его предки, чем рядиться трусливым бахвалом. Ведь сам он был храбр и способен на самые отважные поступки и славные подвиги, но судьба довела его до крайности и лишила иных средств существования.
Тем временем публика все прибывала и прибывала, постепенно заполняя овин. Несколько фонарей, подвешенных к потолочным балкам, бросали красноватые отблески на темные, белокурые и седовласые головы, среди которых кое-где даже белели старушечьи крахмальные чепцы.
Рампу со свечами, из опасения поджечь сено и солому, заменили фонарями, установленными вдоль края сцены.
Спектакль начался, сразу же вызвав жгучий интерес у зрителей. На неосвещенном заднике прыгали огромные причудливые тени актеров, повторяя их жесты и движения в подчеркнуто карикатурном виде. Казалось, эти тени разыгрывают пародию на пьесу. Однако этот забавный штрих не был замечен простодушными жителями селения – они были всецело поглощены действием на сцене и поступками действующих лиц, которые казались им вовсе не вымышленными. В самый разгар одной из сцен неожиданно протяжно и жалобно замычал теленок, но это не разрушило иллюзию, хотя сами актеры на сцене чуть не покатились со смеху.
Капитан Фракасс не раз и не два срывал аплодисменты. Он и в самом деле был в ударе, и прежде всего потому, что играл перед самой простодушной публикой, не испытывая того волнения, которое внушило бы ему присутствие более просвещенных и искушенных ценителей. Другие актеры тоже заслужили похвалы зрителей, которые отбили все ладони и, между прочим, как заметил Белломбр, с большой чуткостью заметили все самые удачные моменты.
Серафина исполнила мавританский танец с такой горделивой и сладострастной грацией, так вызывающе изгибая стан и так резво перебирая ножками, что, глядя на нее, разомлели бы от удовольствия даже знатные вельможи и придворные кавалеры. Особенно хороша она была, когда потряхивала бубном над головой, извлекая слитный звон из его медных пластинок, или водила большим пальцем по туго натянутой коже инструмента, заставляя его глухо и страстно рокотать.
А далеко-далеко от этого селения, на стенах ветхого замка Сигоньяк, портреты предков хмурились даже сильнее, чем обычно. Воины испускали сокрушенные вздохи, колебавшие латы у них на груди, и скорбно кивали. Достопочтенные вдовы презрительно сжимали губы, еще выше вскидывая подбородки над гофрированными воротниками и еще прямее держась в своих тугих корсетах и пышных фижмах. Призрачный шепот слетал с их бесплотных губ: «Горе нам! Последний из Сигоньяков посрамил и унизил свой род!»
В кухне между Миро и Вельзевулом в печальной задумчивости сидел старый слуга Пьер. Оба животных не сводили с него вопросительных взглядов. «Где-то сейчас скитается мой бедный хозяин?» – думал старик, и по его обветренной щеке медленно сползала одинокая слеза, которую, утешая Пьера, слизывал старый пес…
8
Положение осложняется
На следующий день после представления Белломбр уединился с Блазиусом и, развязав обширный кожаный кошель, словно из рога изобилия, высыпал оттуда сотню новеньких сверкающих пистолей. Затем он сложил их столбиком, вызвав полный восторг Педанта, чьи глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит.
Белломбр широким жестом сгреб монеты и сунул их в руки старого приятеля.
– Ты уже понял, должно быть, что деньги эти я вынул вовсе не для того, чтобы подразнить тебя или похвалиться нажитым, – сказал он. – Возьми их не раздумывая. Я дарю их тебе или, если ты уж так щепетилен и не хочешь принять помощь от друга, даю взаймы. Деньги – топливо войны, любви и театра. И недаром они имеют круглую форму – им положено катиться по свету, а не плесневеть на дне кошелька. Здесь, на ферме, у меня нет почти никаких расходов. Живу я скромно, как обычный поселянин, питаюсь тем, что мне дает кормилица-земля. Следовательно, расставаясь с этими пистолями, я не причиняю себе никакого ущерба.
Блазиус так и не нашел, что возразить на столь логичную речь, поэтому молча ссыпал пистоли в карман, после чего обнял Белломбра и горячо его расцеловал. Глаза его в тот миг блестели сильнее, чем обычно, а косматые брови комически подергивались от усилий не уронить скупую слезу благодарности. Но даже это не помешало ей скатиться и повиснуть на мясистом кончике носа Педанта, разогретого вчерашними возлияниями, где она и испарилась.
Право, полоса бедствий, преследовавших труппу, сменилась куда более благоприятным ветром. Представление принесло им не только сборы натурой, но и некоторое количество серебра, которое вместе с пистолями Белломбра составило довольно круглую сумму. Теперь оскудевшая колесница Феспида была солидно обеспечена всем необходимым. Вдобавок Белломбр одолжил актерам пару крепких рабочих лошадей и два комплекта отличной упряжи с расписными хомутами, к которым были подвешены медные бубенцы, отныне сопровождавшие движение фургона приятным переливчатым звоном.
Вот почему комедианты, повеселевшие и полные бодрости, въезжали в Пуатье если и не так пышно и торжественно, как вступал Александр Великий в Вавилон, то во всяком случае солидно и внушительно. Издали зачуяв запахи теплой конюшни, лошади шли резво, и ратнику с фермы Белломбра, которому вскоре предстояло вернуться домой вместе с лошадьми, едва удавалось их сдерживать. Колеса фургона весело гремели по мостовым извилистых городских улочек, весело стучали подковы, высекая искры из булыжника. Когда повозка подкатила к гостинице, вокруг уже собралась небольшая толпа зевак, местные матроны с любопытством глазели из окон. Работник энергично заколотил рукоятью бича в ворота, а обе лошади, потряхивая гривами, вторили ему звоном бубенцов.
А ведь еще совсем недавно наши герои не без робости скреблись под дверями самых убогих харчевен и постоялых дворов! И по этому победоносному грохоту и звону хозяин гостиницы «Герб Франции» мигом смекнул, что у приезжих в карманах водятся денежки, и собственной персоной бросился отворять ворота.
«Герб Франции», по общему мнению, был лучшей гостиницей в Пуатье, здесь, как правило, останавливались самые знатные и богатые путешественники. Двор, в который вкатился фургон, был чист и содержался в полном порядке. По окружности двора, вдоль стен окружавших его построек, тянулась крытая галерея на железных опорах, туда вели несколько лестниц. Такое расположение облегчало постояльцам и слугам доступ в покои, большинство из которых выходили окнами на улицу. Арка в глубине двора вела к кухне, конюшням и сеновалам.
Все здесь свидетельствовало о твердой хозяйской руке. Стены были недавно оштукатурены, на балюстрадах вдоль галереи не было ни пылинки, весело блестела в лучах неяркого зимнего солнца новая ярко-красная черепица на кровлях, из многочисленных труб клубами поднимался дым. На нижней ступени крыльца с непокрытой головой стоял сам владелец гостиницы – здоровенный малый, весь вид которого служил наилучшей рекомендацией местной кухне и винным погребам. Тройной подборок хозяина лоснился, от широчайшей улыбки заплывшие глазки обратились в узкие щелочки, а щеки были словно натерты соком шелковицы. Он выглядел до того упитанным и аппетитным, что так и тянуло изжарить его самого на вертеле, поливая собственным жиром.
Узнав Тирана, который издавна был ему известен как надежный постоялец, щедро расплачивавшийся по счету, хозяин еще больше повеселел. Комедианты всегда привлекают новых гостей, а городская молодежь готова потратить последнее на пиршества в их честь, лишь бы добиться милости капризных кокеток-актрис. Тут в ход идут всевозможные лакомства, выдержанные вина и сладости, сами по себе далеко не дешевые.
– Какому счастливому случаю мы обязаны удовольствием видеть вас, месье Тиран? – полюбопытствовал хозяин. – Давненько вы к нам не наведывались!
– Вы правы, – признал тот, – но ведь невозможно постоянно торчать на одном месте! В конце концов зрители так запоминают все наши трюки и приемы, что могут повторить их в точности. Приходится на время исчезать – хорошо забытое старое стоит нового. А много ли нынче в Пуатье знати?
– Не счесть, месье Тиран! Сезон охоты закончился, и господа знай ломают себе голову, чем бы заняться или развлечься. Нельзя же пировать изо дня в день. У вас наверняка будут обильные сборы.
– Ну, коль так, тогда извольте приказать принести ключи от семи или даже восьми комнат, снять с вертела трех-четырех каплунов пожирнее и выудить из погреба дюжину бутылок вашего отменного винца. А уж затем распустите по городу слух: мол, в «Гербе Франции» остановилась прославленная труппа господина Тирана с новым репертуаром и собирается дать несколько представлений!
Пока Тиран и владелец гостиницы вели эту беседу, актеры выгружались из фургона. Слуги мигом подхватили их пожитки и отнесли в комнаты, предназначенные каждому. Покои Изабеллы оказались немного поодаль от остальных комедиантов – ближайшие номера были заняты другими постояльцами. Это ничуть не огорчило девушку, иной раз страдавшую от чрезмерной скученности – главного недостатка кочевой жизни.
Благодаря усердию месье Било, хозяина гостиницы, вскоре весь город знал о прибытии в Пуатье комедиантов, готовых сыграть пьесы самых знаменитых современных авторов, причем не хуже, чем в самом Париже. Местные щеголи и сердцееды, закручивая усы, самодовольно осведомлялись о внешности актрис на первых ролях. На это месье Било отвечал сдержанно и таинственно, но с такими выразительными гримасами, что это только разжигало любопытство охочих до любовных шалостей молодых людей.
Обстановка комнаты Изабеллы состояла из кровати под балдахином, стола на витых ножках, двух кресел и резного ларя для дров. Девушка разложила свое имущество на полках шкафа и стала приводить себя в порядок с той тщательностью, какая свойственна всякой утонченной и опрятной молодой женщине после продолжительного путешествия в мужском обществе. Она распустила свои длинные шелковистые волосы, тщательно расчесала их, надушила эссенцией бергамота и снова скрепила лентами небесно-голубого цвета, который необыкновенно шел к ее нежному, как бледная роза, лицу. Затем Изабелла сменила белье. Всякому, кто застал бы ее в ту минуту, могло показаться, что перед ним нимфа из свиты Дианы, собирающаяся войти в ручей в одной из лесистых долин Древней Эллады. Но это продолжалось лишь короткий миг. Белоснежную наготу тут же окутало облако легкой ткани – девушка оставалась целомудренной и стыдливой даже наедине с собой. Поверх нижней юбки и корсета она надела серое платье, расшитое голубым аграмантом, после чего, бросив мимолетный взгляд в зеркало, слегка улыбнулась – той улыбкой, какую не может сдержать ни одна женщина, которая сознает, что наряд ей к лицу.
На воздухе потеплело, снег растаял почти повсюду, не считая ложбин и обращенных на север стен зданий. Выглянуло солнце. Поддавшись искушению взглянуть, какой вид открывается из ее окна, Изабелла отодвинула задвижку, отворила створки и выглянула наружу. Окно, как оказалось, выходило в глухой переулок. Одну его сторону занимал боковой фасад гостиницы, по другую тянулась садовая ограда, над которой виднелись обнаженные верхушки деревьев. Из окна была видна и часть сада: цветники, окаймленные самшитовым бордюром, а за ними – господский дом, чьи почерневшие и обросшие мхом стены свидетельствовали о его весьма почтенном возрасте.
По аллее, начинавшейся у парадного входа в дом, прогуливались два молодых кавалера приятной наружности. Однако они явно занимали неравное положение в обществе: один из них выказывал другому преувеличенную почтительность, держался на шаг позади и уступал дорогу всякий раз, когда обоим предстояло свернуть. Назовем этих юношей Орест и Пилад – именами друзей из древнего мифа, и сохраним эти прозвища за ними, пока не узнаем их настоящих имен. Оресту, на первый взгляд, было года двадцать два. Лицо у него было матово-бледное, глаза и волосы черные как смоль. Камзол из золотисто-коричневого бархата подчеркивал стройность его гибкого стана; обшитый тройным золотым галуном короткий плащ того же цвета, что и камзол, был накинут на одно плечо и скреплен шнурком с золотыми кисточками. Мягкие сапожки из белого сафьяна плотно облегали его икры, подчеркивая их стройность высоким каблуком. По свободной непринужденности каждого жеста и горделивой осанке нетрудно было угадать знатного аристократа, уверенного, что он везде и всюду будет принят с почтением, и не признающего никаких препятствий. Пилад – рыжеволосый, с короткой и такой же золотистой бородкой, с ног до головы одетый в черное – хоть и был недурен собой, но не обладал и малой долей победоносной уверенности приятеля.
– Говорю тебе, любезный, – Коризанда мне опостылела! – сердито произнес Орест, поворачивая в конце аллеи и продолжая разговор, явно начатый задолго до того, как Изабелла выглянула в окно. – Я запретил впускать ее ко мне и намерен отослать обратно ее портрет, который мне столь же противен, как и она сама, причем вместе с ее письмами, не менее нудными, чем ее болтовня.
– Как же так? Ведь Коризанда любит вас! – осторожно возразил Пилад.
– И что с того? Я-то ведь не люблю ее, – запальчиво возразил Орест. – Она, видите ли, любит! Велика важность! Или прикажешь, чтобы я из жалости и сочувствия дарил свою любовь всем безмозглым вертихвосткам, которым взбредет в голову в меня влюбиться? Я и без того чересчур добр. Стоит какой-нибудь из них уставиться на меня помутившимися, как у снулой щуки, глазками, расхныкаться, начать сетовать и вздыхать, как я в конце концов сдаюсь, проклиная собственное малодушие. Нет, с этого дня я буду свиреп, как гирканский тигр, холоден, как Ипполит, и неприступен, как Иосиф. Немало сноровки потребуется любой жене Потифара, чтобы вцепиться в край моего плаща![41] Отныне и вовеки объявляю себя женоненавистником, непримиримым врагом всех без исключения юбок, из чего бы они ни были скроены. К дьяволу всех этих герцогинь и куртизанок, горожанок и пастушек! Где женщины – там тоска, ложь или еще какая-нибудь канитель. Я ненавижу их от оборок на чепцах до кончиков башмаков и готов принести обет безбрачия, подобно монахам, лишь бы не якшаться с ними. Эта Коризанда, будь она проклята, навеки отвратила меня от противоположного пола. Отрекаюсь!..
В этом месте Орест энергично вскинул голову, как бы призывая небо в свидетели своей клятвы, и его взгляд упал прямо на Изабеллу. Он секунду помедлил, глаза его округлились, затем, вновь обретя дар речи, он подтолкнул приятеля локтем и произнес:
– Гляди-ка, что за восхитительная штучка вон там, в окне! Свежа, как утренняя заря, чудные пепельные волосы, личико нежное, словно лепесток, глаза кроткие и прекрасные. Не женщина, а истинная богиня! И до чего же изящно она опирается о подоконник! А как заманчиво выступают под батистовой шемизеткой[42] округлости груди, белой, будто слоновая кость! Могу поклясться, что эта фея куда добрее всех прочих женщин. Да-да, конечно же, она скромна, любезна и учтива, а ее беседа слаще июньского меда!
– Черт побери! – со смехом воскликнул Пилад. – Надо обладать соколиным зрением, чтобы с такого расстояния все это разглядеть. Что касается меня, то я вижу лишь женщину у окна, возможно миловидную, не стану спорить, но отсюда трудно судить, наделена ли она всеми теми совершенствами, которыми вы с такой щедростью ее одарили.
– О, я уже безумно влюблен и добьюсь ее во что бы то ни стало, даже если мне придется прибегнуть к самым хитрым уловкам, опустошить все мои сундуки и отправить на тот свет две дюжины соперников!
– Ну, вряд ли стоит так горячиться, – рассудительно заметил Пилад. – И хотелось бы знать – куда девалась вся ваша ненависть к женскому полу, которую вы только что так решительно декларировали? Первая смазливая мордашка – и отречения как не бывало!
– Проклиная женщин, я даже понятия не имел, что может существовать подобный ангел, и все мои слова оказались мерзким кощунством, отвратительной ересью и надругательством над святыней. Остается только умолять Венеру, покровительницу влюбленных, о милосердии и прощении!
– Не беспокойтесь, она отпустит вам этот грех по своей снисходительности к одержимым безумцам, чью когорту вы вполне можете возглавить!
– Как бы там ни было, я начинаю наступление и самым серьезным образом объявляю войну моей прекрасной противнице, – заключил Орест.
С этими словами он остановился, пристально глядя прямо в глаза Изабеллы, и тут же галантным и почтительным жестом сорвал шляпу, широко взмахнул ею, коснувшись земли пером, а затем самыми кончиками пальцев отправил воздушный поцелуй в сторону распахнутого окна.
Лицо молодой актрисы тотчас приобрело холодное и недоступное выражение. Чтобы показать развязному незнакомцу, что он ошибся адресом, Изабелла мгновенно захлопнула окно и опустила штору.
– Ну вот, лик нашей прелестницы скрылся за облаком, – заметил Пилад. – Это не предвещает ничего хорошего.
– Не могу согласиться. Наоборот – опыт говорит мне, что это благоприятный признак. Когда во время штурма солдат прячется за зубцами башни, это значит, что вражеская стрела была близка к цели. Теперь она невольно будет вспоминать меня всю ночь, пусть даже браня и обвиняя в неуместной дерзости. Этот недостаток, между прочим, женщины легко прощают. Вольно или невольно, но отныне между нами протянулась некая ниточка, правда, пока еще очень непрочная. Но это поправимо: если ее настойчиво укреплять, рано или поздно она превратится в веревочную лестницу, по которой я вскарабкаюсь на ее балкон.
– Я вижу, вы в совершенстве владеете как стратегией, так и тактикой любовного поединка, – не без почтения заметил Пилад.
– Что есть, то есть, – ответил Орест. – А теперь пора домой. Красотку мы спугнули, и теперь она не скоро решится подойти к окну. Не беда: сегодня же вечером я зашлю в гостиницу лазутчиков.
Оба приятеля неторопливо поднялись по ступеням старинного особняка и скрылись за дверью.
Теперь самое время вернуться к нашим комедиантам.
Неподалеку от гостиницы располагался зал для игры в мяч[43], который отлично подходил для того, чтобы превратить его в театр. Актеры арендовали зал, и лучший столяр, какой нашелся в городе, взялся за работу под руководством Тирана. Местный маляр, он же стекольщик и живописец, малевавший вывески и украшавший гербами дверцы карет, освежил потрепанные декорации и даже изобразил две-три новые. Каморки, где переодевались игроки в мяч, были отданы актерам, и с помощью ширм, огораживающих туалетные столики актрис, получилось нечто вроде театральных уборных. Все места в зале были раскуплены заранее, и сбор обещал быть замечательным.
– Какое несчастье, – снова и снова повторял Тиран, перебирая вместе с Блазиусом пьесы из репертуара труппы, – что Зербины больше нет с нами! По правде говоря, роль субретки придает mica salis[44] и пикантности любой комедии. Ее искрометная улыбка словно озаряет сцену, оживляет затянутое действие и вызывает смех у заскучавших зрителей. Бойкой болтовней, двусмысленностями, задорными шуточками она оттеняет целомудренное и томное воркование простушки. Попугайские цвета ее наряда радуют глаз, и она не стесняется открыть чуть ли не до подвязок стройную ножку, обтянутую чулками с золотыми стрелками. Что и говорить – зредище притягательное и для молодых, и для пожилых. Для последних в особенности, ибо пробуждает их задремавший пыл…
– Ты прав во всем, – кивнул Блазиус. – Субретка, бесспорно, отменная приправа, судок с пряностями, сдабривающими нынешние пресные комедии. Но что поделать, придется обходиться без нее. Ни Серафина, ни Изабелла на эти роли не годятся, да и как же без простушки и героини? Эх, черт бы уволок этого маркиза де Брюйера, похитившего у нас эту единственную в своем роде жемчужину – несравненную Зербину!
Пока пожилые актеры беседовали, прогуливаясь по галерее, у ворот гостиницы послышался серебристый перезвон бубенчиков, а затем по мощеному двору торопливо застучали копыта. Облокотившись на перила, они увидели трех мулов, оседланных на испанский манер, с султанами из перьев, богатой сбруей с шерстяными кистями и полосатыми шелковыми попонками. Верхом на первом муле восседал здоровенный слуга в серой ливрее. За поясом у него торчал охотничий нож, а поперек луки покоился мушкет. Если б не ливрея, его можно было бы принять за вельможу, возвращающегося с охоты. Вокруг его запястья был обмотан повод второго мула, навьюченного двумя огромными тюками, обшитыми тканью. Третий мул был еще наряднее и выступал величавее остальных; в седле сидела молодая женщина, укутанная в теплую пелерину, отороченную мехом. На голове у нее была пуховая шляпа с алым пером и низко опущенными полями.
– Погоди-ка! – повернулся Блазиус к Тирану. – Этот пышный кортеж ничего тебе не напоминает? Сдается мне, где-то мы уже слышали мелодию этих бубенцов!
– Клянусь святым Витом, покровителем лицедеев и плясунов! – изумленно пробасил Тиран. – Да ведь это те самые мулы, что увезли Зербину! Про птичку речь…
– А птичка встречь! – с хохотом подхватил Блазиус. – О, трижды благословенный день! Он достоин, чтобы его занесли на скрижали! Да ведь это же и есть мадемуазель Зербина собственной персоной! Гляди – вот она спрыгнула на землю, вильнув бедрами с присущим только ей задором, и швырнула плащ на руки лакею. Ага – сняла шляпу и встряхнула растрепавшимися волосами, как пташка крылышками… Бежим к ней!
Во двор Блазиус и Тиран спускались, перепрыгивая через две ступеньки. Зербина уже стояла у крыльца, а заметив актеров, тут же бросилась на шею Педанту, обвив его руками, как виноградная лоза.
– Позволь на радостях расцеловать твою старую образину! – воскликнула Субретка, тут же подкрепив свои слова делом. – А ты, Тиран, не ревнуй и не хмурься так, будто собираешься повелеть истребить всех младенцев в Иудее. Тебе тоже достанется поцелуй, и не один!..
Обещание свое Зербина исполнила самым добросовестным образом: она была девица по-своему честная и слово держала. Затем, подхватив обоих актеров под руки, она поднялась с ними на галерею. Тем временем месье Било уже командовал слугами, чтобы те немедленно приготовили даме комнату. Едва войдя туда, Зербина бросилась в кресло и с облегчением перевела дух, будто сбросив с плеч огромную тяжесть.
– Вы даже представить не можете, – после минутной паузы проговорила она, – как я счастлива, что наконец-то снова с вами! Не то чтобы я была без ума от ваших потасканных физиономий, чьи недостатки не в силах скрыть ни белила, ни румяна. Но я снова в своей стихии! Вода не подходит птицам так же, как воздух рыбам. Я актриса по натуре, и моя стихия – театр. Только в театре мне дышится свободно, и я не променяю свечной чад на ладан, амбру, мускус, бальзам и лаванду. Запах кулис для меня – самое драгоценное благовоние. Говоря кратко: я вернулась, чтобы снова занять свое место. Надеюсь, вы никого не приняли в труппу взамен меня, хоть всем известно, что заменить меня просто невозможно. Но, даже если бы такое случилось, я бы выцарапала глаза наглой самозванке!
– Тебе не понадобится прибегать к подобным зверствам, – ухмыльнулся Тиран, – с тех пор, как ты нас покинула, актрисы на роли субретки у нас нет. Леонарда кое-как пыталась заменить тебя, но толку от этого было мало – одна досада, хоть иного выхода у нас не было. Если бы ты могла слышать, о чем мы с Блазиусом толковали ровно за минуту до твоего прибытия, то убедилась бы, что в твой адрес звучали громкие восхваления – одновременно лирические, одические и дифирамбические, что и порознь-то встречается редко, особенно, если речь идет об отсутствующих.
– Вот и прекрасно! – живо откликнулась Зербина. – Я вижу, вы остались мне прежними хорошими товарищами и вам не хватало вашей малышки Зербинетты.
В это время гостиничная прислуга принялась вносить в комнату багаж Зербины: узлы, тюки, сундуки и баулы. Актриса на всякий случай пересчитала их, а затем принялась отпирать один за другим ключиками, нанизанными на серебряное кольцо.
Внутри оказались великолепные наряды, тонкое белье, кружева, шитье, драгоценности, свертки бархата и китайского шелка – одним словом, целое приданое, богатое и изысканное. Там же обнаружился вместительный и тяжелый кожаный мешок, доверху набитый деньгами. Развязав его горловину, Зербина вывалила на стол целый поток золотых монет. Запуская свои смуглые пальчики в сверкающую груду, как веяльщица в кучу зерна, она набирала полные пригоршни, а потом растопыривала пальцы, давая луидором свободно течь между ними дождем, подобным тому, каким некогда Зевс пленил Данаю, дочь Акрисия. Глаза Субретки при этом блестели едва ли не ярче, чем золото, тонкие ноздри раздувались, зубы обнажались в нервной улыбке.
– Бедняжка Серафина лопнула бы от зависти при виде такого сокровища, – наконец проговорила она, обращаясь к Тирану и Блазиусу. – Но вам я показываю это золото с совсем иной целью: чтобы вы не подумали, будто нужда, а не любовь к искусству вернула меня к вам. Но если, дорогие мои старички, у вас с деньгами сейчас туговато – загребайте отсюда, сколько сможете удержать в горстях. Берите без всякого стеснения!
Поблагодарив девушку за великодушное предложение, актеры отказались, добавив, что дела у труппы сейчас хороши и сами они не нуждаются ни в чем.
– Ну что ж, – пожала плечами Зербина, – видно, придется хранить вашу долю до тех пор, пока не наступит черный день!
– Значит, тебе пришлось покинуть маркиза, – сочувственно проговорил Блазиус. – Впрочем, ты ведь не из тех, кого бросают. Тебе больше к лицу роль Цирцеи, чем тоскующей Ариадны. Но ведь маркиз – влиятельный аристократ, бывший придворный, он хорош собой, не глуп и в любом случае достоин более длительной привязанности.
– Так и есть, – усмехнулась Зербина. – Поэтому я и решила сохранить его в памяти, как самое драгоценное украшение. Нет, я не бросила его окончательно, друзья мои, а если и рассталась с ним, то лишь затем, чтобы еще вернее привязать его к себе.
– Fugax sequax, sequax fugax, – подхватил Педант. – Эти четыре латинских слова звучат как ведьмино заклятье и смахивают на потешное кваканье из комедии «Лягушки» месье Аристофана, сочинителя из Афин. В них самая суть любовной науки, и их стоило бы усвоить как мужчинам, так и женщинам.
– А что она означает, эта твоя латынь, Педант? – заинтересовалась Зербина. – Ты не дал себе труда перевести ее на французский, видно, позабыв, что не всякий, как ты, был школьным учителем и колотил нерадивых своей розгой.
– Их можно было бы перевести одной строкой, напоминающей легкомысленные стишки: «Убегаешь – тебя ловят, ловишь – от тебя убегают».
– Это можно спеть на мотив детской песенки под свистульку!
И Зербина запела – да таким звонким и серебристым голоском, что можно было заслушаться. Снова и снова повторяя старую мудрость, она сопровождала свое пение выразительными гримасками, то веселыми, то разгневанными, изображая поочередно двух любовников, из которых один преследует другого, а тот ускользает и прячется, один пылает страстью, а другой его дразнит и отвергает.
Наконец она угомонилась. Лицо ее стало серьезным и сосредоточенным.
– А теперь я расскажу вам о своих приключениях, – сказала девушка. – Вы ведь помните тот перекресток с распятием, где нас поджидали слуги маркиза с мулами? Так вот, маркиз приказал им отвезти меня в охотничий домик, скрытый в глубине принадлежащих ему лесных угодий. Не зная о его существовании, найти его совершенно невозможно, тем более что он скрыт от посторонних глаз черной стеной вековых елей. Туда наш вельможа обычно отправляется пировать с толпой веселых собутыльников и прихлебателей, и там же он устроил приют для своих развлечений и фривольных забав. В этом охотничьем домике есть покой, обитый фламандскими шпалерами, недурно обставленный. Кровать в нем допотопная, но широкая и мягкая, с пологом, перинами и множеством пуховых подушек, рядом – туалетный столик, на котором есть все, в чем нуждается женщина: щетки и гребни для волос, флаконы с эссенциями и эликсирами, коробки с мушками, помадой для губ, румянами и всевозможными притираниями для кожи. Кресла, стулья и табуреты мягкие и необыкновенно удобные, на полу персидский ковер, до того толстый и пушистый, что даже если упадешь на него, то не ушибешься. Это тайное любовное гнездышко занимает весь второй этаж домика, который снаружи выглядит очень скромно. Ничто в нем даже не намекает на роскошь и удобства внутри: стены почернели от времени и, кажется, того и гляди, рухнут, если бы не плющ, который скрепляет своими побегами старые камни. Проходя мимо, можно счесть его необитаемым – по вечерам ставни и плотные шторы не пропускают ни искорки света наружу.
– Отменная декорация для пятого акта драмы, – заметил Тиран. – В таком месте герою полагается либо покончить с собой, либо перерезать кому-нибудь глотку.
– Ты слишком привык к трагическим ролям, и воображение у тебя мрачное. Нет, на самом деле это очень веселый приют. Да и маркиза не назовешь ни жестоким, ни свирепым…
– Но что же дальше, Зербина? – поторопил девушку Блазиус.
– Когда я впервые увидела этот заброшенный дом в чаще, меня охватила тревога. Не то чтобы я испугалась, но мне вдруг показалось, что маркиз надумал заточить меня в каменном мешке, чтобы держать меня там и время от времени по своей прихоти извлекать оттуда. Я не вижу ничего приятного в том, чтобы томиться в башне с решетками на узких бойницах, и я бы не потерпела неволи даже ради того, чтобы стать первой женой самого турецкого султана. Но я быстро успокоилась – мне пришло в голову, что раз уж я столько раз на сцене помогала сбежать всяким там Изабеллам, Леонорам и Доралисам, то собственный побег я уж как-нибудь устрою, если, конечно, меня не закуют в цепи.
– Итак, – продолжала Зербина, – я мужественно переступила порог и была приятно поражена, обнаружив, что это угрюмое с виду жилище радушно улыбается гостям. Запустение извне, изобилие и роскошь внутри. Камин весело пылал, огоньки свечей, надушенных розовым маслом, отражались в подвесках настенных жирандолей, а на столе, сервированном хрусталем и серебром, ожидал изысканный и обильный ужин. На кровати лежали небрежно брошенные свертки дорогих тканей, отливая муаровым блеском, на туалетном столике сыпали искрами драгоценности – браслеты, колье, серьги, медальоны.
Тревога моя рассеялась. Молоденькая горничная, появившаяся из-за портьеры, представилась и предложила мне свои услуги. Она помогла мне переменить дорожное платье на более подходящий наряд, который ждал меня в шкафу. А вскоре пожаловал и сам господин маркиз. Он начал с комплиментов, объявив, что я совершенно неотразима в неглиже из малиновой тафты со снежно-белыми кружевами, а затем поклялся, что без ума от меня. За столом, скажу без ложной скромности, я и в самом деле была обольстительна. Словно сам дьявол в меня вселился – я сама от себя не ожидала такого каскада блестящего остроумия и необузданного веселья, от которого и мертвые заплясали бы, а старые кости царя Приама воспламенились бы страстью. Маркиз был восхищен и околдован, он сравнивал меня то с ангелом, то с демоном, предлагал избавиться от своей жены и сделать меня маркизой. Боюсь, что он и в самом деле был готов на любое злодейство, но я отказалась наотрез, заявив, что подобные драмы, да еще и с умерщвлением жен – безвкусная пошлость и к тому же давно вышли из моды.
Несколько дней мой маркиз пребывал словно в райском сне. Но мало-помалу он становился все задумчивее. Выглядел он так, словно ищет что-то, чего ему недостает, но сам не понимает, что же это такое. Он предпринял несколько одиноких прогулок верхом, а затем пригласил к себе двух старых приятелей, как бы желая развлечься. Зная его безудержное тщеславие, я разрядилась в пух и прах и поистине превзошла себя в грациозности, любезности и кокетстве перед этими провинциалами. Когда ужин подходил к концу, я сделала импровизированные кастаньеты из осколков разбитой китайской тарелки и сплясала такую бешеную, такую зажигательную и неистовую сарабанду, что даже святой не устоял бы передо мной. В те минуты я могла бы воспламенить сердца целого театрального зала, если бы когда-нибудь смогла повторить эту пляску на сцене!
Маркиз сиял от гордости, но на следующее утро он снова выглядел угрюмым, подавленным и явно скучал. Я снова прибегла к своим чарам – и с ужасом убедилась, что они больше не властны над ним! Я была удивлена, но еще более удивленным и разочарованным казался сам маркиз. Я ловила его на том, что временами он начинает пристально всматриваться в мои черты, словно не узнавая или ища в них сходства с другой. Я подумала: может, я для него всего лишь напоминание о какой-то другой, давно ушедшей любви? Но тут же и отвергла эту мысль. Не в характере маркиза подобные меланхолические причуды – они свойственны лишь желчным ипохондрикам, но не краснощеким, полнокровным и чувственным жизнелюбцам.
– Не пресыщение ли это было? – предположил Блазиус. – Даже амброзия приедается, и боги порой спускаются на землю, чтобы полакомиться свежим ржаным хлебом.
– Ты сам, старина, только что говорил, что я не могу наскучить! – со смехом возразила Зербина, слегка хлопнув Педанта по руке.
– Прости, ради бога, но я хочу знать, что грызло господина маркиза? Я просто сгораю от любопытства!
– Поразмыслив, – продолжала она, – я наконец-то догадалась, что омрачает его счастье и о чем этот сибарит тоскует на ложе наслаждений. Обладая женщиной, он сожалел об актрисе! Тот фантастический ореол, который придают огни рампы, грим, костюмы, разнообразие и живость актерской игры, исчез. Оказавшись вне сцены, я потеряла для него половину своего очарования. Ему досталась Зербина, а любил он во мне всех субреток вместе взятых – и Лизетту, и Мартон, и Маринетту, блеск их улыбок и взглядов, острую живость реплик, задорные гримаски, причудливые наряды, вожделение и восторг зрителей. В моем повседневном облике он искал след облика театрального, ибо у нас, актрис, если мы не окончательные уродины, два рода красоты – фальшивая и естественная, одна из них – маска, другая – истинное лицо. И часто предпочтение отдают именно маске. Маркизу хотелось обладать субреткой из «Родомонтады капитана Матамора», а я была ею лишь наполовину. В тяге многих знатных господ к актрисам гораздо меньше чувственности, чем обычно считается. Это влечение скорее духовное, чем плотское. Добившись своего, они думают, что достигли идеала, но образ, к которому они стремились, ускользает от них. Актриса подобна полотну художника, которое лучше всего выглядит на расстоянии и при правильном освещении. Стоит приблизиться – и волшебство пропало!
Впрочем, я и сама уже начала тосковать. Прежде я мечтала завоевать сердце какого-нибудь дворянина и зажить без забот, пользуясь всей мыслимой роскошью и комфортом и меняя по три раза на дню наряды. Иной раз я проклинала судьбу странствующей комедиантки, вынужденной кочевать от селения к селению в грубом фургоне, летом погибая от жары, а зимой дрожа от стужи. Я ждала случая порвать с этим жалким ремеслом, но даже не подозревала, что в нем – смысл всего моего существования, моя поэзия и чары, создающие вокруг меня особый ореол. Если б отсвет искусства не коснулся меня, я бы превратилась в обычную потаскушку, каких великое множество. На сцене сама Талия, девственная муза, оберегает меня от скверны, а звучные стихи поэтов, слетая с моих губ, как горящие угли, очищают их от поцелуев, расточаемых ради забавы или похоти. Там, в охотничьем доме в глуши, мне открылось многое. Я поняла, что маркиза пленяют не только мои лицо и тело, но и та искра во мне, которая заставляет публику рукоплескать. И однажды утром я объявила ему напрямик, что хочу уехать, так как не в моих планах до скончания веков оставаться его любовницей – для этого подойдет любая другая. Я сказала, что благодарна ему и всегда буду помнить его щедрость, а моя любовь к нему по-прежнему жива.
Маркиз поначалу очень удивился, но не разгневался. Поразмыслив немного, он спросил: «Что же ты собираешься теперь делать, дорогая?» – «Догоню свою труппу, – ответила я, – или присоединюсь к ней в Париже, если она уже там. Я хочу снова стать Субреткой, ведь уже давно мне не удавалось обвести вокруг пальца ни одного Жеронта…»
Маркиз рассмеялся и сказал: «Ну что ж, езжай! Те три мула, на которых ты прибыла, – в твоем распоряжении. А сам я тоже вскоре последую за тобой. Есть целый ряд важных дел, которые давно требуют моего присутствия при дворе. Уж слишком я засиделся в провинции. Надеюсь, ты позволишь мне наслаждаться твоей игрой. А если я постучусь в твою уборную, то отворишь ли ты мне?» На это я изобразила негодующую невинность, воскликнув: «Ах, господин маркиз, вы слишком многого от меня требуете!» – и после самого трогательного и нежного прощания велела навьючить мулов, а сама прыгнула в седло. И вот я здесь, в Пуатье, в «Гербе Франции»!
– А что, если маркиз не приедет? – с сомнением проворчал Тиран. – Полагаю, это станет для тебя ударом.
Мысль об этом показалась Зербине такой нелепой и невероятной, что она рухнула на спинку кресла и расхохоталась, хватаясь за бока.
– Он не приедет?! – воскликнула она, едва отдышавшись. – Лучше вели хозяину зарезервировать для него покои. Я боялась другого – как бы он, снова охваченный страстью, не опередил меня и не оказался здесь раньше. Ты, Тиран, не только злодей на сцене, но и глупец в жизни, потому что, подобно Педанту, позволяешь себе сомневаться в моих чарах! Я-то полагала, что ты умнее!
Леандр и Скапен, услыхав о прибытии Зербины, явились приветствовать ее. Следом вошла тетушка Леонарда, чьи совиные глаза вспыхнули при виде золота и драгоценностей, небрежно рассыпанных по столу. Затем пришла Изабелла, которой Зербина тут же преподнесла кусок тафты для нарядного платья. И только Серафина, запершись, отсиживалась у себя в комнате. Ее самолюбие до сих пор не могло смириться с выбором маркиза де Брюйера.
Только теперь Зербина узнала о гибели несчастного Матамора и о том, что покойного заменил на сцене барон де Сигоньяк, избравший сценический псевдоним капитан Фракасс, более походящий к этой роли.
– Для меня будет большой честью играть с дворянином, чьи предки участвовали в крестовых походах, – с уважением проговорила на это девушка. – И я буду стараться, чтобы почтительность не убила во мне воодушевление. Впрочем, за последнее время я привыкла к обществу титулованных особ…
В это мгновение сам Сигоньяк вошел в комнату. Зербина вскочила и, расправив юбки колоколом, присела в глубоком придворном реверансе.
– Это относится к барону де Сигоньяку, – заявила она, – а вот это – к моему товарищу по сцене капитану Фракассу! – С этими словами она звонко расцеловала молодого человека в обе щеки.
Сигоньяк, еще не вполне свыкшийся со свободными театральными нравами, смутился, тем более что при этой сцене присутствовала Изабелла.
Неожиданное появление Зербины позволило вернуть репертуару труппы былое разнообразие, и все актеры, за исключением Серафины, были от этого в полном восторге.
А теперь, когда Субретка вернулась на прежнее место, обратимся к Оресту и Пиладу, двум приятелям, которых мы оставили в ту минуту, как они, закончив прогулку, вернулись в особняк.
Орест, он же молодой герцог де Валломбрез – таков был его титул, за обедом едва притрагивался к блюдам и не раз забывал о полном бокале. Все его мысли были заняты красавицей, которую он заметил в окне гостиницы. Наперсник герцога, шевалье де Видаленк, тщетно пытался отвлечь его. Де Валломбрез односложно и рассеянно отвечал на дружеское подтрунивание своего Пилада.
Когда слуги унесли десерт, шевалье сказал герцогу:
– Чем меньше длится безумие, тем лучше для самого безумца. Вам, ваше сиятельство, чтобы прекратить беспрестанно думать об этой красотке, надо добиться победы над ней. В ту же минуту она станет для вас второй Коризандой. Вы из той разновидности охотников, которые любят только преследование, а добыв дичь, даже не нагнутся, чтобы ее подобрать. Пойду и попробую начать облаву, чтобы загнать эту птичку в ваши в сети.
– Не стоит, – возразил де Валломбрез. – Я сам займусь этим делом. Ты верно заметил, что меня увлекает само по себе преследование. Я готов мчаться на край света за самой скромной добычей, пушной или пернатой, обшаривая все вокруг, пока не упаду замертво от усталости. Не лишай меня главного удовольствия. Если бы мне посчастливилось когда-нибудь встретить неприступную красавицу, я и в самом деле полюбил бы ее, но таких больше нет на всем белом свете.
– Если бы я не знал о числе ваших побед, после этих слов следовало бы обвинить вас в хвастовстве, – заметил шевалье. – Но ваши шкатулки, полные прочувствованных посланий, портретов, засушенных роз, черных, белокурых и золотистых локонов, а также прочих доказательств любви, говорят сами за себя. Пожалуй, вы еще довольно скромны, герцог. Однако как знать: вдруг на этот раз ваше желание осуществится? Дама у окна с первого взгляда показалась мне на редкость целомудренной и совершенно холодной.
– Что ж, время покажет. Месье Било охоч поболтать, но и слушать тоже умеет, а потому знает всю подноготную своих постояльцев. Мы разопьем с ним бутылочку крепленого с Канарских островов, он разговорится и выложит все об этой путешествующей принцессе!
Спустя несколько минут молодые люди уже были в «Гербе Франции». Едва преступив порог, они немедленно потребовали хозяина. Почтенный владелец гостиницы, знавший, кто эти молодые люди, лично проводил высоких гостей в полуподвальную комнату, обитую штофом, где в очаге, потрескивая, пылал яркий огонь. Взяв из рук хранителя винного погреба бутылку, серую от пыли, месье Било смахнул с нее паутину, бережно снял с горлышка восковой колпачок и без малейшего толчка извлек туго забитую пробку. В бокалы венецианского стекла на витых ножках, которые протягивали ему герцог и шевалье, полилась тонкая струя золотистой, как топаз, жидкости. Обязанности виночерпия месье Било исполнял с благоговейной серьезностью, словно жрец Диониса, творящий мистерию во славу божественной влаги, ему недоставало только венка из виноградных листьев и хмеля. Этими церемониями хозяин набивал цену своему вину, и в самом деле великолепному, вполне достойному королевского стола, а не кабачка при гостинице.
Било уже собирался деликатно удалиться, но де Валломбрез остановил его жестом:
– Дружище Било, возьми из поставца еще один бокал и выпей за мое здоровье!
Тон герцога не допускал возражений. Било с поклоном поднял бокал и осушил его до последней драгоценной капли.
– Недурное винцо, – заметил толстяк, прищелкнув языком. Затем оперся о край стола и уставился на герцога, ожидая, чего от него потребуют.
– Много у тебя нынче постояльцев? – спросил Валломбрез. – И что за люди?
Месье Било уже собрался было ответить, но герцог опередил его:
– Впрочем, с таким плутом, как ты, хитрить незачем… Ответь-ка нам, что за дама занимает комнату, окна которой выходят в переулок напротив моего особняка? Ее окно – третье от угла… Живо отвечай, и за каждый слог получишь по золотому!
– При таких ставках трудно быть честным и пользоваться лаконическим стилем, ваша светлость. Но желая доказать, насколько я предан вам, оброню лишь одно слово: Изабелла!
– Изабелла! Прелестное романтическое имя! – воскликнул де Валломбрез. – Но не злоупотребляй сдержанностью, подобно жителям древней Спарты. Не скупись на слова и расскажи нам все, что ты знаешь об этой особе.
– Повинуюсь вашей светлости, – с поклоном ответил месье Било. – Мой погреб, моя кухня и мой язык целиком к вашим услугам. Мадемуазель Изабелла – актриса из труппы господина Тирана, которая ныне квартирует у нас в «Гербе Франции».
– Всего лишь актриса! – разочарованно поморщился молодой герцог. – А ведь я, судя по ее скромному виду, чуть не принял ее за благородную даму или состоятельную горожанку. Так она – странствующая комедиантка?
– Именно! Но ошибиться было немудрено – у мадемуазель отменные манеры, – продолжал Било. – Она играет простушек не только на сцене, но и в жизни. И хотя по роду занятий добродетель ее то и дело подвергается испытаниям, но не потерпела пока ни малейшего ущерба. Больше того – я полагаю, что она с полным правом может носить покрывало девственницы. Никто лучше нее не сумел бы отвадить развязного щеголя ледяной учтивостью, не оставляющей никаких надежд.
– Это мне по душе, – заметил де Валломбрез. – Нет ничего хуже, чем излишняя доступность. Я не выношу крепостей, которые сдаются, не дождавшись начала осады.
– Каким бы блистательным полководцем вы ни были, ваша светлость, эту крепость одним приступом не взять, – сказал месье Било, – и все потому, что ее бдительно стережет преданная любовь.
– Значит, у скромницы Изабеллы есть любовник! – торжествующе и вместе с тем досадливо вскричал герцог. С одной стороны, он совершенно не верил в существование женской добродетели, а с другой – его рассердило наличие некоего соперника.
– Я произнес «любовь», но не говорил «любовник», – почтительно поправил хозяин гостиницы. – Это далеко не одно и то же, и вы, ваша светлость, достаточно опытны, чтобы уловить это различие, каким бы тонким оно ни было. У женщины, у которой есть любовник, может быть и еще один. Но женщину, у которой есть любовь, невероятно, а скорее, невозможно завоевать. У нее уже есть то, что вы ей только собираетесь предложить.
– Хм! Ты, любезный Било, рассуждаешь так, словно изучал «Науку любви» Овидия и сонеты Петрарки, – усмехнулся де Валломбрез. – А я-то считал тебя всего лишь знатоком по части вин и соусов. И кто же предмет ее платонической страсти?
– Один из актеров их труппы, – отвечал месье Било. – У меня даже возникло подозрение, что этот молодой человек и вступил-то в нее лишь под влиянием любви. Уж очень он не похож на простого комедианта.
– Ну, теперь-то вы, я думаю, довольны, – обратился шевалье де Видаленк к приятелю. – На вашем пути одно за другим вырастают препятствия. Добродетельная актриса! Такое увидишь не каждый день, и эта задача вполне достойна вас. Опять же, приятное разнообразие после всех этих знатных дам и куртизанок.
– Ты уверен, – настойчиво продолжал расспросы молодой герцог, – что целомудренная красотка Изабелла не одаряет своими милостями этого проходимца, которого я уже ненавижу всем сердцем?
– Сразу видно, ваша светлость, что вы ее совершенно не знаете, – возразил месье Било. – Она словно белая голубка, которая скорее умрет, чем позволит запятнать свое оперение. Когда по ходу пьесы ей надобно поцеловаться с главным героем, даже из зала видно, как она краснеет под слоем белил и незаметно вытирает щеку тыльной стороной ладони.
– Да здравствуют гордые и строптивые необъезженные красавицы! – не без бахвальства воскликнул герцог. – Я пущу в ход хлыст, и она у меня будет ходить шагом, иноходью, рысью, галопом, а заодно проделывать любые курбеты, какие мне захочется.
– Покорно прошу простить меня, ваша светлость, но этаким манером вы ничего не добьетесь! – заявил дядюшка Било, отвесив глубокий поклон, как и подобает человеку, стоящему на нижних ступенях общественной лестницы.
– А если я пошлю ей серьги с крупным жемчугом, ожерелье из золотых цепочек, скрепленных драгоценными камнями, и браслет в виде змеи с рубинами вместо глаз – и все это в изысканной шкатулке, обтянутой шагреневой кожей?
– Она просто вернет все эти сокровища обратно со словами, что вы, вероятно, приняли ее за кого-то другого. Мадемуазель Изабелла, в отличие от большинства своих товарок по сцене, не корыстна, и глаза ее, что крайне редко встречается в женщинах, не загораются при виде драгоценностей. Даже бриллианты в богатейшей оправе для нее – всего лишь блестящие побрякушки.
– Это что-то неправдоподобное! – удивленно воскликнул герцог. – Надо полагать, с таким фальшивым целомудрием она хочет женить на себе какого-нибудь состоятельного болвана. Такие особы только и мечтают втереться в какое-нибудь приличное семейство и вращаться в кругу приличных дам с видом смиренниц и постниц.
– Ну так женитесь на ней, если иного способа нет, – рассмеялся де Видаленк. – Титул герцогини растопит самое ледяное сердце!
– Погоди, погоди, – осадил его де Валломбрез, – нечего спешить. Для начала надо хотя бы вступить в переговоры. А там, глядишь, отыщется способ подобраться поближе к этой пугливой красотке.
– А вот это много проще, чем покорить ее сердце, – заметил месье Било. – Нынешним вечером в зале для игры в мяч состоится репетиция завтрашнего представления. Говорят, кое-кого из наших записных театралов допустят туда, ну а вам, ваша светлость, стоит лишь назваться, чтобы все двери распахнулись сами собой. Я заранее замолвлю словцо господину Тирану, мы с ним приятели, и он вам не откажет. А все же, думается мне, лучше б вы нацелились на другую актрису – мадемуазель Серафину. Она так же хороша, как Изабелла, но безмерно тщеславна и мигом уступит такому кавалеру, как ваша светлость.
– Да, но я-то влюблен в Изабеллу! – оборвал рассуждения хозяина гостиницы герцог. Тон у него был сухой и не допускающий ни малейших возражений. – В Изабеллу и ни в кого другого, ясно тебе это, Било?
Запустив руку в карман, герцог небрежно швырнул на стол полную пригоршню золотых монет и добавил:
– Это тебе за вино, любезный, а остальное можешь оставить себе за труды.
Месье Било аккуратно подобрал золотые и поштучно отправил их на самое дно замшевого кошелька. Молодые люди поднялись, надвинули шляпы до бровей, закутались в плащи и покинули гостиницу. Де Валломбрез принялся расхаживать по переулку взад и вперед, всякий раз задирая голову, когда проходил под заветным окном. Все было напрасно – Изабелла не показывалась, штора была опущена, да и сама комната как будто пустовала.
Утомившись ходьбой в безлюдном переулке, где к тому же задувал морозный северный ветер, герцог, не привыкший к подобной выжидательной тактике, махнул рукой и отправился домой, проклиная смехотворное жеманство самонадеянной девицы, вынуждающей ждать и томиться молодого, красивого и знатного мужчину. В ту минуту он едва ли не с нежностью думал о покинутой им податливой и доброй Коризанде. Но самолюбие нашептывало герцогу иное: стоит ему, подобно Юлию Цезарю, предстать перед жесткосердной дамой – и он окажется победителем. Если же соперник вздумает путаться под ногами, можно избавиться от него либо при помощи собственных телохранителей, либо наняв наемных убийц. Герцогское достоинство не позволяет ему пачкать руки о какого-то безродного проходимца!
Изабелла в это время сидела в глубине своей комнаты и не приближалась к окну. Именно поэтому де Валломбрезу и не удалось ее увидеть. Зато за ним самим на протяжении всего его дежурства в переулке пристально наблюдал из другого окна барон де Сигоньяк, которому весьма не нравились маневры этого незнакомца с замашками утонченного аристократа. Суть этих маневров быстро стала ему ясна – достаточно было проследить за взглядом непрошеного поклонника. Барона так и подмывало спуститься со шпагой и атаковать этого господина, и лишь с большими усилиями он сдерживал себя. В конце концов, в прогулке под окнами гостиницы не было ничего предосудительного, и его появление со шпагой могло показаться всего лишь грубым сумасбродством. А толки об этом могли бросить тень на репутацию Изабеллы, совершенно не виноватой в том, что некто задирает голову и сверлит глазами ее окно.
Тем не менее Сигоньяк решил внимательнее наблюдать за господином в плаще, если он появится снова, и постарался запомнить его внешность, чтобы не ошибиться в случае чего…
Для первого представления, с барабанным боем объявленного по всему городу, Тиран выбрал трагикомедию «Лигдамон и Лидий, или Сходство», сочиненную Жоржем де Скюдери[45], дворянином, который ранее состоял во французской гвардии, а затем сменил шпагу на перо, и с успехом; второй пьесой была «Родомонтада капитана Фракасса», где Сигоньяку предстояло дебютировать перед искушенной городской публикой.
Все актеры были поглощены разучиванием ролей: пьеса господина де Скюдери ставилась впервые, и они еще не знали ее в совершенстве. Они задумчиво прохаживались по галерее, то бормоча себе под нос, то вдруг грозно повышая голос. Со стороны их вполне можно было принять за умалишенных. Иногда один или другой останавливались как вкопанные, а затем снова принимались вышагивать, размахивая руками, словно мельничными крыльями. Особенно усердствовал Леандр, игравший Лигдамона: он заучивал изящнейшие позы, изобретал всевозможные эффекты и вообще вертелся, как нечистая сила перед криком петуха. Новая большая роль должна была помочь ему осуществить заветную мечту, внушив страсть некой знатной даме, и помочь забыть палочные удары, полученные в замке Брюйер. Роль томного и страстного любовника, чьи чувства, выраженные звучными стихами, то и дело повергаются к стопам жестокой прелестницы, предоставляла Леандру широкое поле для многозначительных взглядов, вздохов, внезапной бледности и прочим душераздирающим ужимкам, на которые он был большой мастер. Недаром Леандр при всем своем смехотворном тщеславии считался одним из лучших героев-любовников провинциальной французской сцены.
Запершись в своей комнате, Сигоньяк под руководством Блазиуса приобщался к нелегкому актерскому мастерству. Тот человеческий тип, который ему предстояло воплотить, из-за своей карикатурности имел слишком мало общего с правдой жизни, и тем не менее эта правда должна была сквозить через все преувеличения. Публика должна была почувствовать, что под мишурной маской паяца скрывается человек с теми же чувствами, муками и стремлениями, как у всех людей.
В этом духе и наставлял барона Блазиус. Прежде всего старик посоветовал ему начать со спокойного, ровного тона, и лишь затем перейти к нелепым выкрикам и похвальбе. И наоборот – после воплей, подобных воплям заживо ощипываемого павлина, надо было возвращаться к обычной, вполне естественной речи, ведь даже самый напыщенный персонаж не может постоянно расхаживать на ходулях. Подобная неуравновешенность свойственна лунатикам и людям с несколько поврежденным рассудком, она нередко сказывается в преувеличенных жестах, не соответствующих смыслу их слов. Из такого контраста умелый актер может извлечь превосходный комический эффект.
Среди прочего Блазиус рекомендовал Сигоньяку надеть полумаску, скрывающую лоб и нос. Таким образом он уже в самом своем лице соединит черты фантастические и реальные, а это совсем неплохо для ролей, в которых неправдоподобное сочетается с правдоподобным, в этих обобщенных пародиях на человечество, с которыми оно легче мирится, чем с точными зеркальными отражениями. Пошлые комедианты превращают такие роли в плоскую ярмарочную буффонаду на потеху толпе, но этот же карикатурный образ с помощью правдивых деталей, привнесенных даровитым актером, становится даже более жизненным, чем сгусток одних лишь правдивых черт.
Мысль о полумаске пришлась по душе Сигоньяку. Она обеспечивала его инкогнито и придавала мужества, в ней ему было легче предстать перед публикой. Эти несколько слоев бумаги и клея были для него все равно что шлем с забралом, сквозь которое он будет говорить голосом своего героя. Ведь недаром сказано, что человек – это прежде всего лицо. У тела нет собственного имени, да и скрытый лик остается безвестным. Таким образом, маска могла примирить в его душе голоса гордых пращуров с требованиями нового ремесла. На сцене он, Сигоньяк, станет безымянным духом, оживляющим тело марионетки, ut nervis alienis mobile lignum[46], с той разницей, что сам он будет находиться внутри марионетки, вместо того чтобы дергать ее за нитку извне. И его дворянское достоинство при этом не пострадает.
Блазиус, искренне привязавшийся к молодому человеку, сам изготовил маску, резко менявшую истинный облик барона. Толстый и вздернутый нос, красный на конце, как переспелая вишня, лохматые, как бы сломанные посередине брови, закрученные, как рожки молодой луны, тонкие усы до неузнаваемости изменили правильные черты Сигоньяка. Маска закрывала лишь лоб и нос, но при этом менялось и все лицо.
Ближе к вечеру вся труппа отправилась на репетицию, которую было решено провести в костюмах, чтобы оценить общее впечатление. Не желая идти через весь город ряжеными, актеры отправили театральные костюмы в зал для игры в мяч на повозке, а подоспевшие актрисы отправились переодеваться в помещения, разгороженные ширмами. Знатные горожане, местные щеголи и записные острословы из кожи вон лезли, чтобы попасть туда, где жрицы муз облачались для совершения таинства перевоплощения в героинь драмы. Все эти бездельники увивались вокруг актрис: один держал зеркало, другой поправлял свечи, третий давал советы, куда лучше прикрепить бант, четвертый подносил пудреницу, а самый робкий сидел на сундуке и с независимым видом покручивал едва пробившиеся усики.
У каждой из комедианток имелся круг поклонников, и сейчас их алчные взгляды были заняты тем, что ловили всякие нескромности, которые невольно возникают при переодевании. То соскользнет с плеча рукав пеньюара, открыв гладкую и белоснежную, как каррарский мрамор, спину; то розово-белое полушарие вырвется на волю из кружевного гнездышка тугого корсета, то прекрасная обнаженная рука поднимется, чтобы гибким движением поправить прическу… Легко представить, сколько замысловатых любезностей и затертых мифологических сравнений было произнесено галантными провинциалами. Зербина помирала со смеху, слушая эти благоглупости, тщеславная и не очень умная Серафина наслаждалась ими, а Изабелла просто пропускала мимо ушей, занимаясь своим делом и решительно отвергая предлагаемые услуги.
Герцог в сопровождении шевалье де Видаленка также находился здесь – он не мог не воспользоваться случаем взглянуть на мадемуазель Изабеллу вблизи. И, разумеется, счел ее еще более привлекательной, чем на расстоянии. Страсть, которую он сам в себе разжигал, вспыхнула еще ярче. Молодой аристократ постарался предстать перед актрисой в самом выигрышном свете, и для этого ему не потребовалось особых усилий. Он и в самом деле был хорош собой: длинные темные локоны обрамляли тонко очерченное породистое лицо, оттеняя его матовую бледность, пурпурные губы горели под изящными усиками, а большие глаза томно мерцали сквозь густую завесу ресниц. Голова его светлости гордо сидела на белой, как мраморная колонна, мускулистой шее, окруженной отложным воротом камзола, обшитым драгоценными венецианскими кружевами. Костюм его был ослепителен: роскошный камзол из белого атласа, весь в буфах, подхваченных аграмантом, вишневого цвета шелковыми лентами и бриллиантовыми пряжками. Манжеты нижней рубахи завершались каскадами складок батиста и кружев, великолепная перевязь из серебряной парчи несла на себе шпагу в ножнах, а изысканной формы рука в высокой перчатке с раструбом поигрывала белой фетровой шляпой, украшенной алым пером.
Вместе с тем во всем этом совершенстве присутствовало нечто отталкивающее. Тонкие и благородные черты герцога выражали нечто бесчеловечное. В этом прекрасном лице ясно читалось, что страдания и радости других людей совершенно не трогают его обладателя, и прежде всего потому, что он считает себя существом особой породы.
Немного помедлив, де Валломбрез направился к туалетному столику Изабеллы. Там он остановился, не произнеся ни слова, и молча оперся о подзеркальник, полагаясь на то, что взгляд актрисы, вынужденной то и дело поглядывать в зеркало, неизбежно встретится с его взглядом. Прежде чем заговорить, молодой аристократ хотел поразить воображение девушки своей красотой и великолепием костюма.
Этот искусный маневр мог бы достичь цели с кем угодно, но только не с нашей Простушкой. Изабелла тотчас узнала незнакомца из соседнего сада и, слегка смущенная его дерзким и пламенным взором, повела себя с величайшей сдержанностью. Казалось, она занята только собственным отражением в зеркале и не замечает, что рядом с ней находится один из красивейших могущественнейших вельмож Франции!
«Странная особа!» – подумал де Валломбрез. Решив сменить тактику, он обратился к актрисе:
– Если не ошибаюсь, именно вы, мадемуазель, играете роль Сильвии в пьесе господина де Скюдери?
– Да, месье, – ответила Изабелла. Вопрос был поставлен так, что она не могла промолчать в ответ.
– Я полагаю, эта роль никем не может быть сыграна лучше! – продолжал герцог. – Если она плоха, вы сделаете ее хорошей, если же она хороша, вы сделаете ее великолепной. Счастливы поэты, вверяющие свои стихи свои столь прекрасным устам!
Эти комплименты, в сущности, ничем не отличались от большинства любезностей, с которыми именитые зрители обычно обращаются к актрисам, и Изабелле поневоле пришлось их принять, поблагодарив едва заметным кивком.
Сигоньяк, окончив одеваться и гримироваться с помощью Блазиуса в помещении, отведенном для актеров-мужчин, в ожидании начала репетиции заглянул в отделение для актрис. Он уже надел маску и пристегнул к поясу гигантскую рапиру с тяжелой чашкой – наследие бедняги Матамора. На плечах у него болтался ярко-красный плащ, край которого нелепо задирали ножны рапиры. Уже войдя в роль, барон шагал на прямых ногах, выставив одно плечо вперед и напустив на себя невообразимо наглый вид, свойственный капитану Фракассу.
– Вы отлично выглядите и держитесь, – заметила Изабелла, когда он приблизился. – Ни у одного испанского капитана с самого сотворения мира не бывало такой надменной и грозной осанки!
Де Валломбрез окинул презрительным и высокомерным взглядом лицедея, к которому молодая актриса обращалась так приветливо. «Это, надо полагать, и есть тот жалкий субъект, в которого она якобы влюблена», – со злостью подумал он, чувствуя себя уязвленным тем, что Изабелла могла даже на миг предпочесть ничтожного шута молодому блистательному герцогу. При этом он сделал вид, что вовсе не замечает Сигоньяка, словно тот был неодушевленной вещью, и продолжал вести себя в его присутствии так же развязно, как и наедине с актрисой. Глаза его не отрывались от груди девушки, прикрытой шемизеткой.
Изабелла смутилась и почувствовала, что помимо воли краснеет под этим до непристойности упорным и жадным взглядом, обжигающим, словно расплавленный свинец. Стремясь избавиться от него, она поспешно закончила гримироваться, тем более что краем глаза успела заметить, как рука взбешенного Сигоньяка сжимает рукоять рапиры.
Приклеив мушку над уголком рта, девушка уже собиралась отправиться за кулисы, поскольку оттуда то и дело доносился рев Тирана: «Ну, вы наконец готовы, сударыни?!»
– Позвольте, мадемуазель, мне кажется, вы забыли приклеить «убийцу»! – воскликнул герцог. Запустив два пальца в стоявшую на столике коробку с мушками, де Валломбрез извлек оттуда черную звездочку, вырезанную из тафты. – Разрешите мне поместить ее вот здесь, у самой груди – она замечательно подчеркнет ее ослепительную белизну!
За словами мгновенно последовало действие, Изабелла, поначалу растерявшаяся от такой наглости, едва успела откинуться на спинку кресла и избежать прикосновений герцога. Однако тот не принадлежал к числу людей, которых легко смутить. Палец с мушкой на самом кончике уже приближался к груди молодой актрисы, когда крепкая рука стремительно перехватила запястье герцога и стиснула его, словно железными клещами.
Де Валломбрез в ярости обернулся – перед ним стоял капитан Фракасс. В ту минуту он нисколько не напоминал того комического труса, которого ему предстояло изображать на сцене.
– Господин герцог, – сквозь зубы произнес актер, по-прежнему сжимая руку де Валломбреза, – мадемуазель Изабелла сама приклеивает мушки и нисколько не нуждается в услугах посторонних!
Затем он выпустил руку молодого вельможи, и тот сразу схватился за эфес шпаги. Лицо герцога, еще недавно красивое и надменно спокойное, исказила отвратительная гримаса. Щеки его покрылись белыми пятнами, брови сошлись к переносью, глаза налились кровью, ноздри хищно раздулись. Он бросился было на Сигоньяка, который продолжал невозмутимо стоять, готовый отразить нападение, но внезапно застыл на месте. Какая-то мысль, словно ведро холодной воды, мгновенно остудила его ярость. Герцог вмиг овладел собой, лицо его вновь обрело естественные краски, и на нем выразилась та наивысшая степень холодного презрения, на какую только способно человеческое существо.
Что же его остановило? Он вспомнил, что его противник – не благородной крови и он едва не замарал свою честь стычкой с каким-то фигляром. Оскорбление, исходящее от столь низменной твари, не могло коснуться его: кто же станет сражаться с грязью на дороге? Но не в характере де Валломбреза было прощать обиды, кто бы их ни нанес, поэтому, приблизившись вплотную к Сигоньяку, он прошипел:
– Я прикажу моим слугам переломать тебе все кости, жалкая падаль!
– Я бы на вашем месте поостерегся, господин герцог, – насмешливо ответил Сигоньяк. – Кости у меня крепкие, боюсь, что от ваших палок останутся одни щепки. А побои я готов терпеть только на сцене.
– Как бы ты ни дерзил, каналья, я не опущусь до того, чтобы проучить тебя собственными руками. Слишком велика честь! – бросил герцог.
– Посмотрим, насколько она велика, – возразил Сигоньяк. – Я не такой гордец и, скорее всего, проучу вас сам.
– Я не желаю говорить с человеком в маске! – заявил герцог, беря под руку подоспевшего шевалье де Видаленка.
– Свое лицо я открою вам в надлежащее время и в соответствующем месте, – ответил Сигоньяк. – Надеюсь, оно покажется вам еще более неприятным, чем этот накладной нос. А теперь – довольно. Мне надо спешить, иначе я опоздаю к своему выходу!
Актеры – и мужчины, и женщины – восхищались отвагой барона. Но им было известно, какой титул он носит, зато остальные свидетели этой сцены были буквально ошеломлены.
Изабелла же так разволновалась, что вся побелела под гримом, и Зербине пришлось наложить на ее щеки слой румян. Девушка едва держалась на ногах и едва не упала, выходя на сцену – благо Субретка вовремя подхватила ее под руку. Мысль о том, что она стала причиной жестокой ссоры мужчин, была отвратительна кроткой, доброй и скромной Изабелле. Кроме того, она знала, что неизбежно возникнут слухи и пойдут разговоры о происшедшем, а это нанесет ущерб ее репутации. Но главное – она нежно любила Сигоньяка и сознавала, что теперь ему угрожает если не западня в темном переулке, то дуэль с непредсказуемым исходом.
Происшествие это, однако, не помешало генеральной репетиции. Поистине, никакие треволнения повседневной жизни не в силах отвлечь актеров от театральных страстей. Даже Изабелла играла отменно, хотя на душе у нее скребли кошки, а капитан Фракасс, еще не остывший от ссоры, играл с невероятным подъемом и воодушевлением.
Что касается Зербины, то она, казалось, превзошла самое себя. Каждое ее словечко вызывало хохот и шумные рукоплескания. Особенно усердствовал какой-то зритель, усевшийся в углу у самой сцены: он начинал аплодировать первым и умолкал последним. В конце концов этой восторженностью он привлек внимание Зербины к своей персоне.
По ходу действия пьесы Субретка приблизилась к рампе, наклонилась через нее и пристально взглянула в полумрак зрительного зала – так любопытная певчая пташка выглядывает из гущи листвы. И что же? В углу сидел не кто иной, как маркиз де Брюйер; лицо его светилось беспредельным блаженством, а глаза были полны восторга. Он вновь обрел свою мечту – Лизетту, Мартон и Эсмеральдину в одном лице!
– Прибыл господин маркиз! – шепнула Зербина в паузе между двумя репликами Блазиусу, игравшему Пандольфа. – Взгляни – весь сияет, ликует, горит страстью! Просто не помнит себя от восторга и, если бы не приличия, перескочил бы через рампу и на глазах у всех бросился бы меня целовать. Ну, погоди у меня, господин де Брюйер! Тебе нравятся субретки? Что ж, я подам тебе это блюдо с перцем, солью и прочими пряностями!
Тут Зербина пустила в ход весь свой талант, наполнив игру невероятным пылом. Казалось, она вся светится, охваченная огнем веселья и остроумия. И в конце концов маркиз понял, что уже никогда не сможет обойтись без этих острых ощущений. Все женщины, когда-либо дарившие ему свою любовь, в сравнении с этой девушкой стали казаться ему скучными, бесцветными и вялыми, как уснувшие рыбы…
Пьеса господина де Скюдери, которую репетировали второй, была хоть и менее забавной, но тем не менее понравилась публике. К тому же Леандр был просто великолепен в роли Лигдамона.
Но теперь мы на время покинем наших комедиантов, в чьих талантах давно уже не сомневаемся, и последуем за герцогом де Валломбрезом и его неизменным спутником.
После стычки, в которой преимущество оказалось не на его стороне, молодой герцог вернулся в свой особняк, клокоча злобой, и принялся строить планы мести, причем самым умеренным из них было жестокое избиение обнаглевшего лицедея.
Шевалье де Видаленк вскоре отказался от попыток его успокоить. Герцог, словно одержимый, метался по комнате, пинал кресла, опрокидывал столы и, пытаясь дать выход досаде, крушил все, что попадалось под руку. Наконец он схватил драгоценную японскую вазу и грохнул ее о плиты пола так, что она разлетелась на тысячу осколков.
– Проклятье! – прорычал да Валломбрез. – Как бы я хотел вместо этой вазы прикончить этого мерзавца, растоптать его, а останки вышвырнуть в выгребную яму! Этот жалкий проходимец осмелился встать между мной и предметом моих стремлений! Будь он дворянином, я был бы готов биться с ним на шпагах, саблях, пистолетах, пешим или конным до тех пор, пока не смог бы наступить на его грудь и плюнуть в лицо его трупу!
– Нельзя исключить, что мы действительно имеем дело с дворянином, – заметил де Видаленк. – Уж слишком он самоуверен. Месье Било упоминал о каком-то актере, который поступил в труппу из-за любви к мадемуазель Изабелле, и она благосклонна к нему. Скорее всего, это он и есть, судя по этой ревнивой вспышке и волнению девицы.
– Что за чепуха? – вскричал де Валломбрез. – Разве благородный человек стал бы водиться с шутами, играть с ними комедии, мазать физиономию белилами и румянами, сносить щелчки в лоб, оплеухи и пинки? Этого просто быть не может!
– Но ведь даже Юпитер принимал обличье быка, а иной раз и чужого супруга, чтобы пользоваться любовью смертных женщин, – заметил шевалье. – А такое уничижение куда позорнее для олимпийца, чем игра на подмостках для дворянина.
– Даже если это правда, я для начала прикажу проучить лицедея, а уж затем покараю человека, если он действительно прячется под этой презренной маской!
С этими словами герцог взялся за колокольчик.
– На этот счет можете не сомневаться, – заметил де Видаленк. – Под косматыми шутовскими бровями глаза у него горели, как у разъяренного хищника, а вид, несмотря на багровый нос, был весьма угрожающий.
– Тем лучше! Значит, моя шпага, свершая справедливое мщение, угодит не в пустоту!
В эту же минуту в комнату вошел слуга и, почтительно склонившись, застыл, ожидая распоряжений господина.
– Подними Баска, Азолана, Мерендоля и Лабриша, если они уже легли. Пусть захватят дубинки покрепче и отправляются к выходу из зала для игры в мяч, где играет труппа Тирана. Там они должны подстеречь актера по имени капитан Фракасс, неожиданно наброситься на него и от души избить. Но пусть позаботятся, чтобы он остался жив, иначе кто-нибудь подумает, что я опасаюсь его! Скажи им, что всю ответственность я беру на себя. Да, и еще – пока дубинки будут плясать, пусть приговаривают: «Это тебе гостинцы от герцога де Валломбреза!»
Такое поручение не слишком удивило слугу – возможно, оно было далеко не первым. Он тут же удалился, перед тем заверив, что все приказания его светлости будут в точности исполнены.
Когда дверь за лакеем закрылась, шевалье де Видаленк проговорил:
– Мне не нравится, как вы решили обойтись с этим комедиантом. Право, он выказал больше отваги, чем можно было ожидать при его ремесле. Хотите, я под каким-нибудь вымышленным предлогом вызову его на дуэль и убью? Любая пролитая кровь красна, хоть и болтают, что у дворян она голубая. Я принадлежу к старинному роду, но не столь знатному, как ваш, и не опасаюсь причинить ущерб своей чести. Достаточно вашего слова, и я возьмусь за дело. Как по мне, так этот капитан более достоин шпаги, чем палки.
– Благодарю тебя, друг мой, – ответил герцог. – Твое предложение показывает, насколько ты предан мне, но принять его я не могу. Этот наглец посмел прикоснуться ко мне, фактически – оскорбил действием. И ему придется искупить это самым позорным образом. Если же он и в самом деле окажется дворянином, ему известно, к кому обратиться. Я всегда готов ответить, когда со мной говорят на языке шпаги.
– Что ж, как вам будет угодно, ваша светлость, – произнес де Видаленк, кладя ноги на каминную решетку с видом человека, вынужденного покориться неизбежному. – Между прочим, эта Серафина, играющая роли первых любовниц, просто прелесть. Я отпустил в ее адрес несколько любезностей и, если не ошибаюсь, уже добился свидания. Почтенный Било оказался прав!
На этом беседа иссякла, и оба принялись нетерпеливо ожидать возвращения головорезов герцога.
9
Удары шпагой, удары палкой, а также иные приключения
Генеральная репетиция завершилась. Актеры и актрисы сменили театральные костюмы на обычное платье. Сигоньяк тоже переоделся, но на всякий случай оставил при себе рапиру Матамора. Это был почтенный испанский клинок с кованой железной чашкой, длинный и тяжелый, как пустой день, но вполне подходящий для того, чтобы отражать и наносить ощутимые, но не смертельные удары, ибо конец клинка, которым пользовались на сцене, был затуплен.
В словах герцога прозвучала неприкрытая угроза, с этим приходилось считаться, но человеку отважному и к тому же хорошему фехтовальщику, такого оружия было вполне достаточно, чтобы управиться с герцогской челядью.
Тиран, человек дородный и широкоплечий, прихватил с собой увесистую дубовую палку, стуком которой об пол обычно подавал знак к поднятию занавеса. Палка эта в его лапищах казалась соломинкой, и он был полон решимости как следует отделать прохвостов, если те решатся напасть на Сигоньяка. Не в его правилах было оставлять друзей в опасности.
– Капитан, – обратился Тиран к барону, как только они вышли на улицу, – давайте-ка отправим женщин под охраной Леандра и Блазиуса вперед, чтобы они не путались под ногами и не оглушили нас своим визгом в случае чего. Первый трусоват, второй, хоть и не утратил мужества, стар и уже не так силен, как прежде. Зато Скапен останется с нами: он как никто умеет сбить противника с ног, и, если нас атакуют, один-другой вмиг окажутся на земле. Ну, а в остальном – моя дубинка к услугам вашей рапиры!
– Благодарю, дружище Тиран, и охотно принимаю ваше предложение, – ответил Сигоньяк. – Но нам следует позаботиться, чтобы нас не захватили врасплох. Думаю, нам следует идти друг за другом, но на некотором расстоянии, и при этом держаться середины улицы. Этим мошенникам, которые будут жаться к стенам и прятаться в тени, придется покинуть свои укрытия, чтобы добраться до нас, и мы успеем их заметить и принять свои меры. Итак – вперед!..
Маленький отряд с Сигоньяком во главе осторожно продвигался по улице, которая вела от зала для игры в мяч к гостинице. Улочка эта была темной, кривой, ухабистой и отлично приспособленной для устройства засад и ловушек. Навесы над дверями домов, выступающие далеко вперед, словно сами предлагали укрытие нападающим. Ни единого огонька не светилось в окнах спящих домов, а ночь, как на беду, была совершенно безлунная.
Баск, Азолан, Лабриш и Мерендоль, телохранители молодого герцога, уже более получаса дожидались капитана Фракасса. Другого пути в «Герб Франции» не было, и разминуться они не могли. Азолан и Баск прятались в нише по одну сторону улицы; Мерендоль и Лабриш прижались к стене напротив, чтобы одновременно, словно молотобойцы в кузнице, обрушить свои дубинки на спину и плечи актеришки. Когда мимо прошли актрисы, которых сопровождали Блазиус и Леандр, стало ясно, что вот-вот появится и капитан Фракасс. Головорезы затаились, покрепче сжав дубинки, и уж никак не ожидая столкнуться с сопротивлением. Им было известно – поэты, актеры и простые горожане безропотно принимают наказания, которым их желают подвергнуть сильные мира сего.
Сигоньяк, отличавшийся особенно острым зрением, уже издали, несмотря на темноту, заметил четверых мерзавцев. Он сразу же демонстративно остановился и сделал вид, что собирается повернуть. Заметив этот маневр головорезы испугались, что добыча ускользнет, и, выскочив из укрытия, бросились к барону. Первым подоспел Азолан, за ним, с криками: «Бей, бей! Это тебе гостинец от его светлости господина герцога!» – следовали трое остальных.
Сигоньяк в мгновение ока обмотал плащ вокруг предплечья левой руки и этим нарукавником отразил удар дубинки Азолана. Тот на миг потерял равновесие, и барон нанес ему в грудь такой удар тупым концом рапиры, что негодяй, рухнул в грязную канаву, потеряв шляпу, корчась и испуская мучительные стоны. Если бы острие клинка было отточено, он пронзил бы атакующего насквозь и вышел между лопаток.
Неудача сообщника не обескуражила Баска. Он выступил было вперед, но яростный удар рапирой смял в лепешку его войлочный колпак, из его глаз фонтаном посыпались искры, и все погрузилось в непроницаемую тьму. В следующее мгновение дубина Тирана разнесла в щепки палку Мерендоля, и тот, оказавшись обезоруженным, бросился наутек, правда, успев напоследок отведать всю мощь руки могучего актера. Скапен, в свою очередь, железной хваткой обхватил талию Лабриша и стиснул ее столь резким и быстрым движением, что тот едва не задохнулся, не говоря уже о том, чтобы пустить в ход палку. Затем Скапен слегка развернул противника, на миг прижал его к себе и тотчас отпустил, одновременно стремительным и хлестким, словно ход спущенной пружины в арбалете, ударом ноги пнув его под колени. Лабриш отлетел шагов на десять и рухнул. Его голова со всего маху стукнулась о булыжник, и последний из исполнителей воли герцога де Валломбреза остался лежать без чувств на поле битвы, не более резвый чем труп.
Одержав эту быструю и убедительную победу, актеры беспрепятственно добрались до гостиницы.
Тем временем Азолан и Баск пытались ползком дотащиться до какого-нибудь укрытия, чтобы немного прийти в себя. Лабриш продолжал валяться поперек мостовой, словно пьяница, сраженный винными парами. Наименее пострадавший Мерендоль успел улизнуть и теперь в качестве единственного уцелевшего свидетеля побоища приближался к особняку де Валломбреза. Однако у входа в сад он невольно замедлил шаг – ему предстояло принять на себя весь гнев молодого герцога, не менее ужасный, чем дубина Тирана. При одной мысли об этом, пот начинал струиться по лицу наемника и он даже переставал чувствовать боль в вывихнутом плече и безжизненно повисшей руке.
Не успел Мерендоль переступить порог, как ему было велено без промедления подняться в кабинет герцога. Головорез испытывал неловкость, вдобавок он жестоко страдал от боли в руке. Под загаром его лицо стало зеленовато-бледным, пот струился по лбу. Войдя, он застыл на пороге комнаты, не смея произнести ни слова и ожидая вопросов господина, но тот угрюмо молчал.
– Ну что, Мерендоль? – начал шевалье де Видаленк, перехватив свирепый взгляд герцога, устремленный на наемника. – Какие новости? Судя по твоему далеко не победоносному виду, неважные. Я прав?
– Ваша светлость не должны сомневаться в усердии, с каким мы всегда исполняем приказы, – пробормотал Мерендоль. – Но на этот раз удача от нас отвернулась…
– Как прикажешь тебя понимать? – гневно осведомился герцог. – Вы вчетвером не смогли одолеть одного жалкого паяца?
– Этот паяц силой и смелостью превосходит лучших воинов, – ответил Мерендоль. – Он ловок, как бес, и от обороны сразу перешел к нападению, и вмиг уложив на месте Азолана и Баска. Они свалились, как брошенные игральные карты, а между тем это бравые и крепкие парни. Другой актер каким-то ловким приемом сбил с ног Лабриша, и тот собственным затылком сосчитал все булыжники на мостовой. А господин Тиран вышиб у меня из рук дубинку и нанес такой зверский удар по плечу, что мне теперь недели две рукой не шевельнуть!
– Проклятые олухи, дармоеды, ублюдки! За что я плачу вам жалованье, если у вас ни на грош ловкости, преданности и мужества! – вне себя от бешенства, рявкнул де Валломбрез. – Любая старуха обратит вас в бегство вас своей клюкой! Стоило ли после этого вытаскивать вас с каторги? Уж лучше нанимать в услужение честных людей, по крайней мере среди них не водится таких трусов! Не вышло с палками – значит, надо было браться за шпаги!
– Но ведь ваша светлость изволили заказать побои, а не убийство, – осторожно возразил Мерендоль. – Мы бы не посмели вас ослушаться!
– Вот он – пунктуальный, исполнительный и аккуратный мошенник! – посмеиваясь, заметил де Видаленк. – Не правда ли, герцог, это приключение принимает весьма романтический оборот, а такие вещи всегда были вам по душе? Вы же сами утверждали, что все, что само идет вам в руки, вам претит, вам любезны препятствия, которые необходимо преодолевать. А мадемуазель Изабелла оказалась весьма неприступной, хоть и не живет в башне и ее не охраняют, как в рыцарских романах, огнедышащие драконы… Ага, а вот и наша разгромленная армия!
И действительно, в дверях кабинета, словно призраки, возникли Азолан, Баск и едва очнувшийся от обморока Лабриш. Все трое умоляюще простирали руки к своему господину, словно прося пощады. Они были смертельно бледны, перепуганы, перемазаны грязью и кровью. И хотя тяжких повреждений ни один из них не получил, если не считать ссадин и синяков, но носы у всех были разбиты, и бурые пятна крови покрывали их кожаные куртки.
– Ступайте в свою нору, мерзавцы! – презрительно обронил герцог, которого не тронуло даже это жалкое зрелище. – Следовало бы велеть еще разок всыпать вам палок за вашу глупость и трусость. Мой врач осмотрит вас, и если все эти царапины не так страшны, как вы жалуетесь, то я прикажу спустить с вас шкуру! Прочь!
Вся шайка ретировалась с непостижимым проворством – так велик был страх, который внушал герцог этим отпетым каторжникам, вовсе не робким от природы.
Как только дверь кабинета захлопнулась за ними, де Валломбрез молча бросился на кушетку. Почтительный де Видаленк также хранил молчание, не решаясь нарушить течение мыслей герцога.
Мысли же эти больше всего походили на черные рваные облака, которые шквальный ветер гонит по грозовому небу. Его раздирали противоречивые желания: поджечь гостиницу, похитить мадемуазель Изабеллу, убить капитана Фракасса, утопить в реке всех комедиантов до единого. Впервые в жизни он столкнулся с серьезным сопротивлением. Больше того: он отдал приказ своим людям, и это приказание не было исполнено! Шут вступил с ним в противоборство! Его слуги жестоко избиты и обращены в бегство, но кем? Театральным комиком! Вся его душа вскипала от одной мысли об этом: он был растерян, ошеломлен, обескуражен, хоть и не подавал виду.
Затем он внезапно вспомнил, что какая-то ничтожная девчонка-актриса, жалкая бродяжка, кукла, которую каждый вечер может освистать на сцене любой мастеровой, не удостоила его даже благосклонным взгляда. Его, представшего перед ней в роскошном наряде, в бриллиантах, во всеоружии мужских чар, во всем блеске своего титула! А ведь с ним были приветливы даже принцессы из королевского дома, от любви к нему млели герцогини, а уж женщинам попроще даже в голову не приходило противиться ему!
От бешенства герцог скрипел зубами и судорожно комкал в кулаке кружева своего великолепного атласного кафтана, ничем не помогшего ему в деле обольщения Изабеллы.
Наконец он вскочил, кивнул на прощание приятелю и, не притронувшись к ужину, поданному слугами, удалился в спальню. Впрочем, в ту ночь ему не удалось уснуть ни на мгновение.
Что касается шевалье де Видаленка, то он, предаваясь игривым мыслям о красотке Серафине, словно и не заметил, что ужинает один; тем более что аппетит у него был отменный. А затем, убаюканный сладострастными мечтами, в которых главную роль играла та же молодая особа, он сладко уснул и проспал до самого утра…
Вернувшись в гостиницу, Сигоньяк, Тиран и Скапен застали всю труппу в смятении. Крики «Бей, бей!» и шум потасовки донеслись до Изабеллы и ее спутников. Девушка едва не лишилась чувств и смогла устоять только потому, что ее поддерживал Блазиус. Лицо ее залила восковая бледность, вся дрожа, она ждала вестей на пороге своей комнаты, а при виде барона, целого и невредимого, негромко вскрикнула и, поддавшись порыву, бросилась к нему, обвив руками его шею. Затем движением, полным пленительной стыдливости, спрятала лицо на его груди. Тотчас овладев собой, Изабелла отстранилась, отошла на несколько шагов от молодого человека, и ее лицо приняло обычное сдержанное выражение.
– Надеюсь, вы не пострадали? – спросила она. – Как бы я огорчилась, если бы вы пострадали из-за меня! Но как вы неосмотрительны, барон! Бросить вызов герцогу де Валломбрезу, этому злобному гордецу со взглядом Люцифера! И все это ради скромной актрисы… Нет, раз уж вы стали таким же комедиантом, как и все мы, вам придется научиться сносить даже такие дерзости!
– Никогда! – твердо проговорил Сигоньяк. – Никто не посмеет при мне оскорбить мою милую Изабеллу, и в особенности тогда, когда я в маске капитана Фракасса!
– Отлично сказано, капитан! – одобрил Тиран. – И еще лучше сделано. Клянусь Всевышним, это были отменные удары! Мерзавцам просто повезло, что рапира покойного Матамора не отточена, иначе вы бы рассекли их от макушки до пояса, как поступали странствующие рыцари с сарацинами и злобными чародеями!
– Ваша дубинка потрудилась не хуже моего клинка, – усмехнулся Сигоньяк, возвращая Тирану любезность. – Да и совесть ваша может спать спокойно. Те, кому достались поцелуи вашей дубинки, вовсе не похожи на невинных младенцев, решивших пошалить.
– Да уж, – улыбнулся в свою окладистую бороду Тиран. – По этим парням давно соскучилась веревка!
– Тут и гадать не приходится – порядочные люди не промышляют таким ремеслом, – продолжал Сигоньяк. – Но следует отдать должное отваге нашего Скапена. Мы с вами были хотя бы кое-как вооружены, а он сражался только тем, что дала ему природа!
При этих словах Скапен шутовски выпятил грудь, как бы раздуваясь от похвал, прижал руку к сердцу и отвесил поклон, полный комического смирения.
– Я бы тоже с охотой к вам присоединился, – вставил Блазиус, – но возраст и недуги оставили мне одну способность: вооружившись бокалом, одолевать бутылку за бутылкой, попутно повергая кувшины и графины!
Было уже поздно. Покончив с разговорами, комедианты разбрелись по своим комнатам. Не спалось только Сигоньяку. Он расхаживал по галерее, о чем-то напряженно размышляя. Чувства его в те минуты словно раздвоились. Отомщен был актер, но не дворянин. Следует ли ему сбросить свою личину и открыть родовое имя? Это, конечно же, вызовет толки и, что весьма вероятно, навлечет на его сотоварищей гнев герцога. Благоразумие говорило ему «нет», а гордость властно настаивала – «да». Наконец барон принял решение и направился прямо в комнату Зербины.
Он негромко постучал и назвался. Дверь моментально распахнулась, и перед бароном предстал ярко освещенный покой. На столе, покрытом камчатной скатертью, ниспадавшей до пола, пылали шандалы с пучками ароматных свечей. В серебряных судках и блюдах исходил аппетитным паром изысканный ужин. Пара куропаток, покрытых золотистой корочкой, возлежали на уложенных кружком дольках апельсина, бланманже и пирог с рыбной начинкой – чудо поварского искусства месье Било – дополняли картину. В хрустальном графине рубином искрилось вино, а рядом высился такой же графин с напитком цвета топаза. Стол был накрыт на двоих, и, когда Сигоньяк вошел, Зербина как раз подносила полный бокал маркизу де Брюйеру, чьи глаза блестели от двойного хмеля: никогда еще эта плутовка не была так соблазнительна, но маркиз был убежден, что Венера замерзает без даров Цереры и Бахуса.
Зербина встретила Сигоньяка приветливым кивком, в котором тонко сочетались легкая фамильярность актрисы по отношению к собрату и почтение дамы к дворянину.
– Как славно, что вы решили навестить нас в этом скромном приюте, – сказал де Брюйер. – Надеюсь, вы не откажетесь отужинать с нами? Жак, прибор для гостя!
– Я охотно приму ваше любезное приглашение, – ответил Сигоньяк, – но вовсе не потому, что голоден. Мне не хотелось бы мешать вашей трапезе, а гость за столом, который ничего не ест, только портит аппетит.
Барон опустился в придвинутое ему слугой кресло напротив маркиза. Тот наполнил его бокал и отрезал гостю крылышко куропатки – как человек благовоспитанный, не задавая ни единого вопроса. Впрочем, маркиз предполагал, что только важное дело могло привести сюда Сигоньяка, обычно не слишком общительного.
– Вам по вкусу красное вино или предпочитаете белое? – спросил маркиз. – Я-то отдаю должное и тому, и другому, чтобы ни одно не осталось в обиде.
– Я, в силу своей умеренности, поступаю по совету древних: умиротворяю Бахуса нимфами[47], – ответил Сигоньяк. – Мне достаточно красного. Однако я позволил себе вторжение в приют вашей любви вовсе не из желания пировать. Господин маркиз! Я хочу просить вас об услуге, в которой дворянин не может отказать дворянину. Я не сомневаюсь, что мадемуазель Зербина уже поведала вам о том, что сегодня перед генеральной репетицией, находясь в уборной актрис, герцог де Валломбрез предпринял попытку приклеить мушку к груди мадемуазель Изабеллы. Этот поступок, низкий, грубый и непристойный, не имел под собой ни малейших оснований. Он не был вызван ни близким знакомством, ни поощрением со стороны целомудренной и скромной юной особы, к которой я питаю глубочайшее уважение.
– Изабелла вполне его заслуживает, – подхватила Зербина. – Ни как женщина, ни как актриса я не смогу сказать о ней ни одного худого слова.
– Я остановил герцога, удержав его руку, и он выплеснул гнев, осыпав меня угрозами и оскорблениями. Поскольку в тот момент я был в маске капитана Фракасса, то отнесся к этому с насмешливым хладнокровием, – продолжал Сигоньяк. – Тогда герцог пригрозил, что велит своим лакеям избить меня палками. И действительно, всего час назад, когда я шел с друзьями по темной улочке, возвращаясь в «Герб Франции», на меня накинулись четверо негодяев. При мне была потешная театральная рапира, но ею я как следует отделал двоих, а с остальными расправились Тиран и Скапен. Герцог, по-видимому, вообразил, что его противник – ничтожный и бесправный комедиант. Однако я дворянин, и, несмотря на то, что вынужден скрываться под личиной комедианта, не могу оставить подобные поступки безнаказанными. Вам, маркиз, хорошо известно, кто я такой, и я благодарю вас за то, что вы с уважением отнеслись к моей тайне. Вы также знаете, кем были мои предки, и можете засвидетельствовать, что род де Сигоньяков уже тысячу лет известен своим благородством, чистотой и верностью королям Франции и Наварры!
– Барон, – проговорил маркиз, впервые назвав гостя его подлинным титулом, – я готов перед кем угодно поручиться в этом честью. Ваш предок Паламед де Сигоньяк явил чудеса доблести в Первом крестовом походе, прибыв на Святую землю на судне с сотней латников, снаряженном им на собственные средства. Многие из тех, кто в наши дни кичится своей знатностью, в ту пору были счастливы держать его стремя в качестве оруженосцев. Ваш прадед был близким другом моего предка Гуго де Брюйера и его братом по оружию!
При этих словах Сигоньяк горделиво выпрямился, словно в его груди встрепенулась душа воинственных предков. Зербина была поражена: в лице барона произошла удивительная перемена: оно словно осветилось изнутри пламенем давних битв.
«О, эти дворяне! – проворчала про себя Субретка. – Вечно у них такой вид, будто они появились на свет из бедра самого Юпитера! Достаточно неловкого словечка, чтобы их гордость встала на дыбы: терпеть обиды, подобно людям простого звания, им невмоготу… И все же, если бы барон хоть однажды взглянул на меня такими глазами, я бы не раздумывая изменила маркизу. В этом юнце горит настоящий огонь…»
– Что ж, – продолжал Сигоньяк, – я рад, маркиз, что вы такого мнения о моих предках. В таком случае, могу ли я надеяться, что вы не откажетесь передать герцогу де Валломбрезу вызов от моего имени?
– Я готов исполнить вашу просьбу, – с глубокой серьезностью ответил маркиз. Голос его звучал торжественно, не было даже намека на обычную игривость. – Кроме того, можете распоряжаться мною в качестве секунданта. Завтра с утра я отправлюсь в особняк де Валломбреза. Молодой герцог хоть и заносчив, но далеко не трус и не станет прикрываться своим высоким положением, тем более, когда узнает ваш титул и имя. И будет об этом – незачем докучать милой Зербине нашими мужскими делами. Налей-ка нам еще по бокалу, дорогая!
До окончания ужина о предстоящем поединке никто даже не упомянул. Беседа шла в основном о великолепной игре Зербины. Маркиз не жалел ей похвал, а Сигоньяк вторил ему – и вовсе не из вежливости. Зербина и в самом деле была неподражаема – и не только прирожденной живостью, но и острым умом и замечательным актерским талантом. Затем речь зашла о стихах месье де Скюдери, сочинителя даровитого, но скучноватого, как считал маркиз. «Родомонтаду капитана Фракасса» он ставил куда выше «Лигдамона и Лидия», и тут следует отдать должное его превосходному вкусу.
Воспользовавшись первой же возможностью, Сигоньяк учтиво откланялся. Вернувшись в свою комнату, он первым делом запер дверь на щеколду, а затем извлек из чехла, предохраняющего от сырости, отцовскую шпагу – свою верную подругу. Бережно вынув клинок из ножен, он благоговейно поцеловал крестовину эфеса.
Это было превосходное оружие, внешне простое, но когда-то стоившее целое состояние. Его истинным предназначением был не парад, а смертельная схватка. На клинке из дымчато-голубой стали с тонкой золотой насечкой стояло клеймо одного из лучших оружейников Толедо.
Тщательно протерев клинок сукном, чтобы придать ему блеск, Сигоньяк проверил, хороша ли заточка граней, а затем, уперев его в дверной косяк, согнул почти пополам, чтобы испытать гибкость. Благородное оружие с честью выдержало испытание. Воодушевленный блеском стали, барон испробовал несколько приемов боя у стены и убедился, что еще не забыл уроков, которыми старина Пьер, в прошлом помощник учителя фехтования, по многу часов подряд изнурял его в замке.
Эти упражнения развили силу его руки, укрепили мускулы всего тела и удвоили его прирожденную ловкость. За неимением других занятий, барон пристрастился к фехтованию и в совершенстве освоил эту благородную науку. Еще подростком во время учебных схваток он нередко оставлял след своего острия на кожаном нагруднике, прикрывавшем корпус Пьера и, все еще считая себя учеником, давно превзошел учителя, став настоящим мастером. Старый фехтовальщик ничего не утаил от подопечного. На протяжении долгих лет старина Пьер муштровал своего обожаемого господина, хотя тому порой надоедали бесконечные повторения приемов. В конце концов Сигоньяк сравнялся с учителем в сноровке, а благодаря молодости, превзошел его ловкостью, гибкостью и остротой зрения. Теперь Пьер, хоть и умел уйти от любого приема, не всегда успевал отразить выпады барона. Эти неудачи раздосадовали бы обычного учителя фехтования, ибо прославленные мастера шпаги не любят терпеть поражение даже от любимцев, но верный друг и слуга только радовался и гордился. Впрочем, радость эту он тщательно скрывал, опасаясь, что барон, решив, что достиг вершины в фехтовальном искусстве, забросит регулярные занятия, без которых не обойтись.
Вот каким образом в эту эпоху драчунов, задир, дуэлянтов и бретеров, с помощью испанских и неаполитанских учителей фехтования осваивавших секретные приемы их искусства, молодой барон, покидавший свой нищий замок только затем, чтобы вместе с Миро поохотиться на кроликов, сам о том не ведая, стал одним из лучших фехтовальщиков своего времени. Он мог бы помериться силами с самыми выдающимися мастерами шпаги, и если не обладал щегольской наглостью и вызывающим фанфаронством знатных повес, прославившихся подвигами на дуэлях, то едва ли среди них нашелся бы тот, чья шпага могла бы проникнуть за линию обороны Сигоньяка.
Довольный собой и своим клинком, барон положил его у изголовья и вскоре уснул таким безмятежным сном, будто и не собирался бросить вызов могущественному герцогу де Валломбрезу.
Изабелла же всю ночь ни на миг не смыкала глаз. Она знала, что Сигоньяк ни в коем случае не смирится с тем, что произошло перед репетицией в зале для игры в мяч, но ей и в голову не приходило вмешаться. Вопросы чести в те времена считались священными, и ни одна женщина не смела препятствовать их разрешению.
В девять утра да Брюйер, уже вполне одетый для выхода, явился к Сигоньяку, чтобы обсудить условия дуэли. На случай сомнений или отказа со стороны герцога, барон попросил маркиза прихватить с собой старинные хартии – ветхие пергаменты, с которых на шелковых шнурах свисали тяжелые восковые печати, – а также дворянские грамоты, потертые на сгибах и скрепленные королевскими подписями, чернила которых давным-давно успели пожелтеть. Все эти документы, которые должны были удостоверить древность и знатность рода Сигоньяков, были обернуты куском побуревшего от времени малинового шелка. Этот шелк мог быть частицей того знамени, под которым лучники и копейщики барона Паламеда де Сигоньяка штурмовали крепости сарацинов, хотя подтвердить это было уже некому.
– Не думаю, чтобы по такому поводу возникла нужда предъявлять эти хартии, барон. Мы не в герольдии, и достаточно будет моего слова, в котором еще никто не осмеливался усомниться! Но на случай, если герцог де Валломбрез, чьи высокомерие и чванство не знают границ, вздумает считать вас всего лишь капитаном Фракассом, комедиантом из труппы господина Тирана, я прихвачу с собой лакея. Пусть он держит бумаги при себе, и, когда возникнет нужда, я смогу их предъявить.
– Поступайте так, как сочтете нужным, маркиз. Я всецело полагаюсь на вас и вверяю вам мою честь! – просто ответил Сигоньяк.
– Можете не сомневаться – в моих руках ей ничего не грозит, – заверил маркиз. – И надеюсь, что мы возьмем верх над этим заносчивым мальчишкой-герцогом, чьи повадки и прихоти даже я уже едва в силах терпеть. Мой и ваш гербы по древности и заслугам предков сто́ят не меньше герцогской короны. Но довольно слов! Речь – женского рода, поединок – мужского, а пятна с чести, как говорят испанцы, можно смыть только кровью.
Маркиз вызвал лакея, вручил ему шкатулку с хартиями и покинул гостиницу. Через несколько минут он уже энергично шагал к особняку де Валломбреза, чтобы выполнить возложенную на него миссию.
Что касается герцога, то его день еще и не начинался. Возбужденный событиями минувшего дня, он уснул только на рассвете. Вот почему, когда явился маркиз де Брюйер и велел камердинеру де Валломбреза доложить господину о его приходе, у того от ужаса глаза чуть не выскочили из орбит. Разбудить герцога в неурочное время! Войти в его спальню раньше, чем он изволит позвонить! Легче войти в клетку с голодным львом или тигром. Даже в те дни, когда герцог ложился в ровном и благодушном расположении духа, он просыпался, как правило, в скверном настроении.
– Лучше бы вы, сударь, подождали или заглянули попозже… – пробормотал слуга, содрогаясь при мысли о том, что его могло ждать за такую дерзость. – Его светлость еще не звонили, и я не смею его потревожить…
– Ступай и доложи, что здесь маркиз де Брюйер, иначе я вышибу к дьяволу дверь и войду сам! – гневно рявкнул поклонник Зербины. – Я должен сию же минуту повидаться с твоим хозяином по неотложному делу. Вопрос чести!
– Так вот оно что! Вы говорите о дуэли? – сразу пошел на попятную камердинер. – Что же вы сразу не сказали? Я мигом доложу его светлости. Наш господин вчера вернулся таким разъяренным, что будет только рад, если его разбудят из-за ссоры, дающей повод как следует подраться!
С этими словами камердинер решительно направился в спальню, учтиво попросив маркиза подождать несколько минут.
От звука открывшейся и тут же снова притворенной двери де Валломбрез окончательно стряхнул с себя дремоту и вскочил так стремительно, что кровать под ним жалобно заскрипела. Глаза его шарили вокруг в поисках предмета помассивнее, которым можно было бы запустить в голову слуги.
– Пусть черти выпотрошат того остолопа, который помешал моему сну! – бешено вскричал он. – Тебе же было приказано не входить без зова! Я немедля велю дворецкому всыпать тебе сотню плетей за ослушание! Теперь мне ни за что не уснуть! Тьфу ты, пропасть, а я уж было испугался, что это обезумевшая от страсти Коризанда осмелилась потревожить мой покой!
– Ваша светлость, если угодно, можете пороть меня до полусмерти, – смиренно потупясь, ответил камердинер, – но я осмелился нарушить запрет лишь по крайне уважительному поводу. Вашу светлость желает немедленно видеть господин маркиз де Брюйер, и, насколько мне удалось понять, речь идет о дуэли. Мне известно, что не в правилах вашей светлости избегать такого рода посещений.
– Маркиз де Брюйер? – задумчиво выпятил губы герцог. – Что-то не припоминаю, чтобы у нас с ним была какая-то стычка! Мы и встречались-то бог знает когда. Может, он решил, что я намерен отбить у него Зербину? Влюбленным вечно чудится, что другие посягают на предмет их вожделений… Так или иначе, Пикар, подай мне шлафрок[48] и задерни полог, чтобы неубранная постель не мозолила глаза. Не стоит заставлять слишком долго ждать славного жизнелюбца де Брюйера!
Пикар извлек из гардероба и подал герцогу роскошный халат, больше похожий на мантию венецианского дожа. По его золотому полю был выткан изысканный узор из бархатно-черных цветов. Де Валломбрез туго стянул его шнуром, подчеркнув стройность своей фигуры, и с самым благодушным и беззаботным видом расположился в кресле, приказав камердинеру:
– Проси господина маркиза!
Спустя мгновение двустворчатая дверь спальни распахнулась, и тот же Пикар возвестил:
– Монсеньор маркиз де Брюйер!
– Добрый день, маркиз! – приветствовал вошедшего молодой герцог, поднимаясь из кресла. – Счастлив вас видеть, какова бы ни была причина вашего визита. Пикар, подай кресло господину маркизу! Прошу простить меня, что встречаю вас в утреннем наряде и в таком беспорядке. Смотрите на это не как на недостаток учтивости, а как на желание не задерживать вас в приемной.
– Простите и вы, герцог, настойчивость, с какой я потревожил ваш утренний сон, – ответил маркиз, – но на меня возложено поручение из тех, которое между людьми благородными требуют немедленного исполнения.
– Вы окончательно заинтриговали меня, – заметил де Валломбрез. – Говорите же скорее, что это за неотложное дело?
– Полагаю, герцог, что вы могли запамятовать некоторые обстоятельства вчерашнего вечера, – взялся пояснять маркиз. – И в самом деле, такие ничтожные детали не достойны того, чтобы быть запечатленными в вашей памяти. Поэтому, с вашего позволения, я кое-что напомню. В уборной для актрис вы почтили своим вниманием одну молодую особу, играющую простушек. Если не ошибаюсь, ее зовут Изабелла. Позволив себе милую шалость, которую я, со своей стороны, не могу счесть предосудительной, вы вознамерились приклеить ей на грудь мушку. Однако это намерение весьма задело одного из актеров – капитана Фракасса, и он имел неосторожность удержать вашу руку.
– Вы точны, как лучший историограф, маркиз! – перебил де Валломбрез. – Все именно так и происходило. Но позвольте дополнить ваш рассказ: я посулил этому наглому негодяю основательную порку, самое подходящее наказание для проходимцев такого звания, забывающих о своем месте.
– Нет особой беды в том, чтобы проучить таким манером глупого фигляра или зарвавшегося писаку, – невозмутимо кивнул маркиз, – эти прохвосты не стоят даже тех палок, которые ломают об их спины. Но тут дело несколько иное. Под именем капитана Фракасса, изрядно потрепавшего ваших молодцов, скрывается барон де Сигоньяк – дворянин, единственный наследник одного из самых славных гасконских родов.
– Какого же дьявола он оказался в труппе комедиантов? – теребя кисти пояса, осведомился молодой герцог. – Откуда мне было знать, что под шутовским нарядом и маской с багровым носом прячется потомок Сигоньяков?
– На первый ваш вопрос я отвечу немедленно, – сказал маркиз. – Пусть это останется между нами, но барон безумно увлекся Изабеллой. А поскольку у него не было возможности оставить девушку в своем замке, он, чтобы не разлучаться с объектом своей страсти, сам вступил в труппу. Думаю, вы бы одобрили подобную романтическую затею, ведь дама его сердца затронула и ваше воображение!
– Предположим. Но согласитесь, маркиз: я не имел ни малейшего понятия об этой любовной интриге, а поступок капитана Фракасса был невероятно дерзок…
– Разумеется – если мы говорим о комедианте, – подхватил де Брюйер. – Но со стороны дворянина, приревновавшего возлюбленную, он выглядит совершенно естественным и справедливым. Ввиду этого капитан Фракасс сбрасывает маску и уже в качестве барона де Сигоньяка при моем посредничестве передает вам формальный вызов, требуя удовлетворения за причиненную ему обиду.
– Но кто мне подтвердит, – вспыхнул де Валломбрез, – что этот так называемый Сигоньяк, играющий комических фанфаронов, не интриган низкого происхождения, воспользовавшийся благородным именем, чтобы получить почетный удар моей шпаги по своему картонному мечу, облепленному мишурой?
– Видите ли, герцог, я не стал бы служить свидетелем и секундантом человеку худородному, – с достоинством ответил маркиз. – Я хорошо знаю барона де Сигоньяка – его замок расположен всего в нескольких лье от моих владений – и могу головой ручаться, что он является носителем баронского титула. Если же и это вас не убеждает, я готов предъявить документы, в подлинности которых нет ни малейших сомнений. Мой лакей со всем необходимым ожидает в приемной.
– Полагаю, в этом нет необходимости, – возразил де Валломбрез. Вполне достаточно вашего слова. Я принимаю вызов. Шевалье де Видаленк, мой верный друг, послужит мне секундантом. Благоволите обсудить с ним условия. Я согласен на любое оружие, но был бы не прочь убедиться, что барон де Сигоньяк так же ловко отражает удары шпаги, как капитан Фракасс – удары дубинок. Прелестная же Изабелла, как во времена рыцарских турниров, увенчает победителя лавровым венком. А сейчас позвольте мне удалиться. Господин де Видаленк, занимающий покои в моем особняке, сейчас спустится, и вы договоритесь с ним о месте, времени и оружии. Прощайте!
С этими словами герцог отвесил маркизу де Брюйеру изысканно учтивый поклон и, приподняв тяжелую портьеру, скрылся за ней.
Спустя несколько минут появился шевалье де Видаленк, чтобы вместе с маркизом обсудить условия поединка. В качестве оружия была выбрана шпага – благородное оружие дворянина, а сама дуэль была назначена на завтра, поскольку Сигоньяк опасался в случае ранения или гибели сорвать представление, на которое готов был явиться чуть ли не весь город. Местом должна была послужить лужайка за городской стеной Пуатье, издавна облюбованная местными дуэлянтами по причине закрытости от посторонних глаз и удобного местоположения…
Маркиз де Брюйер вернулся в гостиницу «Герб Франции» и отдал Сигоньяку полный отчет об утреннем визите к герцогу. Барон горячо поблагодарил его, ибо все еще не мог отделаться от воспоминаний о непристойных взглядах де Валломбреза, устремленных на Изабеллу.
Уже с раннего утра городской глашатай обходил улицы Путье, изо всей силы колотя в огромный барабан. Как только вокруг него собиралась стайка любопытных, он возвещал о предстоящем представлении, которое должно начаться сегодня в три часа пополудни. У этого дюжего молодца была луженая глотка, привычная к обнародованию королевских указов, но сейчас голос его, высокопарно провозглашавший названия пьес и прозвища актеров, звучал с особой торжественностью и мощью. От его раскатов позвякивали стекла в окнах и откликались в тон стаканы в буфетах. При каждом слове он выпячивал подбородок и таращил глаза, что придавало ему сходство с машинкой для колки грецких орехов.
Глазам обывателей также была предоставлена пища. Те, кто был туговат на ухо, могли прочитать огромные афиши, вывешенные на главных перекрестках, на стенах зала для игры в мяч и на воротах «Герба Франции». Рукой Скапена, причем черными и красными буквами вперемежку, там были обозначены пьесы, которые будут представлены почтенной публике: «Лигдамон и Лидий» и «Родомонтада капитана Фракасса».
У дверей зала стоял позаимствованный в гостинице лакей, наряженный замызганную желто-зеленую ливрею и шляпу с пером такой длины, что им можно было сметать паутину с потолков, он изображал театрального капельдинера. На его широкой перевязи болталась картонная шпага, а с помощью бутафорской алебарды он осаживал толпу напирающих зрителей, отгоняя тех, кто не желал раскошелиться и уплатить за место в зале. Напрасно писари из городской канцелярии, школяры, пажи и слуги пытались проникнуть в храм искусств нечестным путем, нырнув под алебарду. Бдительный страж тут же пинком сапога отшвыривал их на середину мостовой, причем иные из них умудрялись угодить в сточную канаву, чем доставляли неописуемое удовольствие прочей публике, хохотавшей до слез над перемазанными в грязи неудачниками.
Именитые дамы прибывали в закрытых занавесками портшезах, которые рысью несли дюжие лакеи в париках. Кое-кто из мужчин приехал верхом. Спешиваясь, они бросали поводья расторопным слугам, нанятым специально для этой цели. К дверям также подкатили две-три допотопные колымаги, покрытые осыпающейся позолотой и явно извлеченные ради такого случая из недр каретных сараев. Их волокли неповоротливые клячи, а из глубины этих отставных карет на свет Божий, словно из Ноева ковчега, выползли некие провинциальные ископаемые в нарядах, отошедших в вечность еще при батюшке нынешнего государя. При всей своей неописуемой ветхости, кареты эти вызывали уважение у зрителей, сбежавшихся поглазеть на театральный съезд, а будучи поставлены в ряд на площади перед залом, и в самом деле выглядели весьма внушительно.
Вскоре зал до того наполнился, что и яблоку было негде упасть. По обеим сторонам сцены стояли кресла для вельмож и высокопоставленных лиц. Это, разумеется, мешало актерам и портило публике впечатление от их игры, но такова была традиция, и с этим ничего нельзя было поделать. Там уже красовался герцог де Валломбрез в черном бархате, унизанном блестками, рядом расположился его приятель де Видаленк в изящном костюме из лилового шелка, обшитом золотой тесьмой. Маркиз де Брюйер пренебрег креслами и занял место в оркестре позади скрипачей – там он мог беспрепятственно аплодировать своей Зербине.
Вдоль стен зала находились некие подобия лож, сколоченные из сосновых досок и задрапированные шелком и выцветшими фламандскими шпалерами, а середину зала занимал партер со стоячими местами для небогатых горожан, лавочников, судейских чиновников, подмастерьев, школяров, прислуги и прочей черни.
В ложах, раскинув юбки и запустив пальчики в вырезы корсажей, чтобы всем были видны их белоснежные сокровища, восседали дамы, одетые со всем блеском, на какой только были способны провинциальные портные, несколько приотставшие от моды, господствовавшей в то время в Париже и при дворе. Впрочем, многие из них успешно подменяли изящество роскошью и пышностью. По крайней мере с точки зрения провинциальной публики это выглядело именно так. Там и сям в потемневших оправах поблескивали фамильные бриллианты величиной с голубиное яйцо, виднелись старинные бесценные кружева, хоть и пожелтевшие, но редкостной красоты, золотые цепи старинной работы со звеньями в двадцать четыре карата, увесистые, как конские хомуты, оставшиеся от прабабок шелка и парча, какие нынче не ткут ни в Венеции, ни в Лионе. В ложах наряду с пожилыми дамами попадались и прелестные юные девические лица, свежие, словно едва распустившиеся цветы. При всей наивности выражений, они, несомненно, пользовались бы успехом в Париже или в Сен-Жермен-ан-Лэ[49].
Некоторые дамы, очевидно, не желавшие быть узнанными, явились в полумасках, но это ничуть не мешало шутникам из партера выкрикивать их имена и передавать друг другу непристойные байки об их любовных похождениях. Лишь одна дама, замаскированная гораздо более тщательно, чем остальные, держалась в тени в глубине ложи. Досужие болтуны напрасно ломали головы – назвать ее никто не мог. Голову дамы, спутницей которой была только молоденькая горничная, скрывала косынка из черных кружев, туго завязанная на подбородке, платье из дорогой, но тоже темной ткани сливалось с сумраком ложи. Время от времени, словно желая защитить утомленные глаза от яркого света, дама прикрывала лицо веером из черных страусиных перьев, в который с внутренней стороны было вправлено крохотное зеркальце, коим она, впрочем, и не думала пользоваться.
Оркестр заиграл ритурнель[50], внимание всех присутствующих обратилось к сцене, и на таинственную красавицу перестали обращать внимание.
Представление началось с «Лигдамона и Лидия». Декорация представляла собой сельский пейзаж с купами деревьев, ковром мха, прозрачными ручейками и грядой синеющих гор на заднем плане. Публика была приятно поражена этим видом. Леандр, игравший Лигдамона, облачился в фиолетовый костюм, расшитый зеленым шнуром. Волосы его, завитые буклями, на затылке были изящно подхвачены шелковым бантом. Крахмальный воротник позволял видеть белую, словно у женщины, шею. Щеки и подбородок актера были до того чисто выбриты, что сохраняли лишь едва заметный синеватый оттенок, а нежно-розовый слой румян, наложенный на скулы, напрашивался на сравнение со спелым персиком. Подкрашенные кармином губы контрастировали с жемчужным блеском усердно начищенных зубов. Кончики бровей были слегка приподняты китайской тушью, а глаза, обведенные тонкой черной линией, так и сверкали.
Одобрительный гул прокатился по залу: дамы зашептались, а одна юная девица, недавно вышедшая из монастырского пансиона, не удержалась и громко воскликнула: «Какой миленький!» – за что немедленно получила строгий выговор от матушки.
Однако эта девочка по простоте душевной невольно выразила тайную мысль более зрелых дам и даже, быть может, своей матери. Вспыхнув до корней волос от сердитого порицания, она молча уставилась на носки своих башмачков, выжидая, когда за ней перестанут следить и она сможет украдкой взглянуть на сцену.
Но куда больше других была взволнована дама в маске. По бурно поднимавшейся под кружевами груди и трепету руки, сжимавшей веер, по тому, как она подалась к барьеру ложи, стремясь не упустить ни слова, звучавшего со сцены, всякий мог бы убедиться, что ее интересует исключительно Леандр. К счастью, все взгляды были устремлены на сцену, действие уже захватило публику, и это позволило неизвестной даме справиться с собой.
Как должно быть известно каждому, ибо трудно найти во Франции человека, не знакомого с творениями славного Жоржа де Скюдери, пьеса эта открывается душераздирающим монологом Лигдамона. В нем любовник, отвергнутый жесткосердной Сильвией, измышляет способы покончить с собой, ибо жизнь без этой неприступной красавицы утратила для него смысл. Оборвет ли он свои дни с помощью петли или шпаги? Или бросится с утеса над морем? А может, лучше тихая река, чьи холодные воды навек погасят в его сердце пламя любви? Лигдамон колеблется, не зная, на что решиться. Лишь смутная надежда, не оставляющая влюбленных до последнего вздоха, привязывает его к жизни. А что, если Сильвия смягчится, тронутая его пылким обожанием?
Скажем прямо – Леандр был на высоте. Он с редким мастерством передавал томление и отчаяние несчастного. Голос его трепетал и обрывался, словно горе душило его, а к горлу подступали рыдания. Каждый вздох вырывался словно из самой глубины души, и в его жалобах на бессердечие возлюбленной звучало столько покорности судьбе и пронзительной нежности, что все дамы, находившиеся в зале, невольно начинали ненавидеть жестокую Сильвию. Окажись они на ее месте, они бы уж точно не стали доводить этого очаровательного пастушка до такого отчаяния, а то и до гибели.
Завершив монолог, Леандр, пока публика отбивала ладони в рукоплесканиях, обвел взглядом ряды зрительниц, с особой пристальностью всматриваясь в лица тех, что казались ему титулованными особами. Несмотря на бесчисленные разочарования, он по-прежнему мечтал своей красотой и талантом возбудить любовь в сердце по-настоящему знатной дамы.
Он не мог не заметить, что на глазах у многих красавиц сверкают слезы, а щеки пылают от волнения. Это льстило ему, но не удивляло – актер по призванию всегда воспринимает успех как нечто должное. Но дама, скрывавшаяся в глубине ложи, по настоящему задела его любопытство. Такая таинственность сулила любовное приключение. Мигом угадав под маской страстную, но сдержанную натуру, Леандр обратил к незнакомке пламенный взгляд, дав понять, что ее чувство не осталось неразделенным.
Тут Леандр попал в цель, и дама едва заметно кивнула, словно поблагодарив его за проницательность. Со сцены в ложу протянулась тонкая ниточка, и с этой минуты, как только позволял ход пьесы, туда и обратно понеслись нежные взгляды. Леандр виртуозно владел приемами подобного рода: он умел занять такую позицию на сцене, так настроить собственный голос и с такой интонацией произнести любовную тираду, что лишь один человек в зале мог понять, что она обращена именно к нему.
При появлении Сильвии, которую играла Серафина, шевалье де Видаленк не поскупился на аплодисменты, и даже герцог де Валломбрез, желая поощрить друга, три или четыре раза похлопал белоснежными руками, унизанными драгоценными перстнями. Серафина ответила легким реверансом и начала изящный диалог с Лигдамоном, по мнению ценителей – один из самых удачных во всей пьесе.
Как того и требовала роль Сильвии, она сделала несколько шагов и остановилась в сосредоточенной задумчивости, что оправдывало вопрос Лигдамона: «Я, видимо, застал вас в глубоком размышленье?» В этой непринужденной позе Серафина была очень мила: голова ее слегка склонилась, одна рука легла на талию, а вторая повисла, словно девушка о ней вовсе позабыла. На ней было платье цвета морской волны, отливающее серебром и подхваченное черными бархатными бантами. В волосах виднелось несколько полевых цветков, словно только что сорванных и приколотых небрежной рукой. Сама эта прическа шла Серафине больше всяких дорогих украшений, хотя сама она думала иначе. И лишь их отсутствие вынудило ее проявить хороший вкус и не разукрасить пастушку, как витрину ювелира.
Мелодичным тоном девушка произнесла весь набор поэтических красивостей – нечто о розах и зефирах, о гуще древес и щебете птиц. Фразы эти автор ввел лишь для того, чтобы героиня могла пококетничать, перебивая страстные излияния Лигдамона, тогда как сам влюбленный в каждом слове красотки усматривал символы любви, переход к тому, что всецело занимает его мысли.
Во время этой сцены Леандр по-прежнему исхитрялся посылать томные вздохи в сторону таинственной ложи. То же самое он проделывал до финала пьесы, которая завершилась под оглушительный гром рукоплесканий. Успех Леандра был несомненным, и зрители только диву давались, что столь даровитый актер до сих пор еще ни разу не играл при дворе. Серафине тоже досталось немало похвал, а ее самолюбие утешилось несомненной победой над шевалье де Видаленком, который хоть и не был так богат, как маркиз де Брюйер, зато был гораздо моложе, вращался в высшем свете и имел все шансы преуспеть в будущем.
Вслед за «Лигдамоном и Лидием» была представлена «Родомонтада капитана Фракасса». Тут уж публика была совершенно единодушна, а взрывы дружного смеха в зале засвидетельствовали полный триумф. Воспользовавшись советами Блазиуса и собственными размышлениями над ролью, Сигоньяк внес в образ капитана немало остроумных находок. Зербина искрилась весельем, и маркиз, обезумев от восторга, бешено рукоплескал ей.
Эти неумеренно восторженные аплодисменты привлекли внимание даже замаскированной дамы из затененной ложи. Однако она лишь пренебрежительно пожала плечами, а уголки ее губ слегка приподнялись в иронической усмешке.
Изабелле чрезвычайно мешало присутствие герцога де Валломбреза, восседавшего справа от сцены. Если бы она была менее опытной актрисой, ее беспокойство не укрылось бы от зрителей. Девушка опасалась какой-нибудь наглой выходки или оскорбительного замечания со стороны вельможи. Но эти опасения оказались напрасными. Герцог не пытался смутить ее, избегал откровенных взглядов и лишь пристойно и сдержанно аплодировал в самых удачных местах. Но когда по ходу действия на капитана Фракасса посыпались оплеухи, пинки и побои, гримаса презрения исказила черты лица молодого герцога. Губы его высокомерно подрагивали, словно шепча: «Что за позор для дворянина!» Ничем другим он не выдал своих чувств и до самого конца спектакля сохранял одну и ту же небрежную позу.
От природы де Валломбрез был гневлив и вспыльчив, но когда его гнев остывал, он превосходно владел собой и, как подобает истинному аристократу, не позволял себе ни на йоту нарушить правила учтивости в отношении противника, с которым завтра ему предстояло драться на дуэли. До этого момента все враждебные действия были прекращены и между противниками как бы заключен мир Божий[51].
Дама, скрывшая лицо маской и черными кружевами, покинула свою ложу еще до окончания второй пьесы, так как хотела незамеченной добраться до портшеза, ожидавшего ее неподалеку от входа в зал для игры в мяч. Ее внезапное исчезновение обескуражило Леандра, наблюдавшего за таинственной особой через отверстие в кулисе.
Он поспешно накинул плащ поверх театрального костюма галантного пастуха и через артистический выход бросился вслед за незнакомкой. Едва возникшая тонкая нить чувств грозила вот-вот порваться, и едва начавшееся любовное приключение могло окончиться ничем, как бывало уже не раз. Но, как ни торопился Леандр, на улице он увидел лишь темные дома и глухие переулки. Кое-где мерцали, отражаясь в лужах, огоньки фонарей, которыми слуги освещали путь своим господам. Бравые носильщики уже успели свернуть за угол вместе с портшезом, скрыв его от глаз Леандра.
«Какой же я идиот! – подумал Леандр с той откровенностью, с какой в минуты разочарования человек оценивает себя. – Я торчал за кулисами, когда мне следовало переодеться сразу после первой пьесы и отправиться подстерегать незнакомку у дверей театра. Ну что за безмозглый осел! Знатная дама – а в этом нет уже ни малейших сомнений – строит глазки и обмирает от твоей игры, а у тебя не хватает ума вовремя последовать за ней! Видно мне на роду написано всю жизнь якшаться не с благородными дамами, а со всяческими потаскушками, рыночными торговками и трактирными служанками с загрубевшими от метлы и мойки посуды руками!»
Предаваясь самобичеванию, Леандр не обратил внимания на мальчишку в коричневой ливрее без галунов и надвинутой на брови шляпе, который возник перед ним словно из ниоткуда. Видение это внезапно обратилось к нему тонким петушиным голоском, которому оно тщетно пыталось придать солидную басовитость:
– Не вы ли будете господин Леандр – тот самый, что сегодня представлял пастуха в пьесе господина де Скюдери?
– Это я, – подтвердил Леандр. – Чем могу служить?
– Благодарствуйте, сударь! Мне-то от вас ничего не требуется, – отвечал паж. – Но мне поручено одной дамой в маске передать вам несколько слов, если, конечно, вам будет угодно их выслушать.
– Дама в маске и черных кружевах? – взвился Леандр. – Ну говори же скорей! Я сейчас сгорю от нетерпения!
– Мне велено передать слово в слово: «Если Лигдамон так же бесстрашен, как галантен, пусть он ждет в полночь у ступеней церкви Нотр-Дам-ля-Гранд. Когда появится карета, пусть он садится в нее, не задавая вопросов, и едет туда, куда его отвезут».
Ошеломленный Леандр не успел ничего ответить. Паж исчез так же внезапно, как и появился, а актер остался в полном смятении. Сердце едва не выпрыгивало у него из груди, предвкушая неслыханную удачу, но тело еще хранило воспоминание о жестоких побоях, полученных в парке замка маркиза де Брюйера. А что, если это еще одна ловушка, подстроенная каким-нибудь злобным ревнивцем, и на ступенях церкви на него набросится разъяренный муж и заколет его или перережет глотку?
Эти размышления изрядно поумерили его радость, ибо, как мы уже сказали, Леандр, не боялся ничего, кроме побоев и насильственной смерти. Однако упустить такой романтический случай было бы очередной непростительной глупостью. Тогда Леандру, возможно, пришлось бы навек распрощаться со своей заветной мечтой, ради которой было потрачено столько помады, румян, кружев и усилий. Если он не явится, замаскированная незнакомка сочтет его трусом, а об этом нельзя даже подумать. Так что, как тут ни робей, поневоле придется играть роль храбреца.
Эти соображения перевесили, и Леандр решился. Но тут в голову ему пришла внезапная мысль. «А что, если красотка, – подумал он, – ради которой я рискую головой, окажется вдовушкой в годах, накрашенной и набеленной, с накладными волосами и вставными зубами? Разве мало пылких старушенций, подобных ламиям[52], которые любят полакомиться свежиной?.. Но нет! Я совершенно уверен, что эта дама молода и пленительна! Ее шея и верх груди выглядели замечательно, кожа свежа и бела, как снег, а все остальное обещает не меньшие чудеса. А потом – карета! Как это изысканно!..»
Окончательно убедив себя, Леандр вернулся в «Герб Франции», наскоро перекусил и, запершись у себя, разоделся как мог, не пожалев ни тонкого белья, ни пудры, ни мускуса. С собой он решил прихватить кинжал и шпагу, хотя в случае необходимости едва ли решился бы взяться за оружие. Но, как бы там ни было, вооруженный любовник способен охладить пыл обезумевшего ревнивца. Затем актер надвинул шляпу до бровей, закутался на испанский манер в темный плащ и, крадучись, покинул гостиницу, на сей раз не замеченный Скапеном – тот мирно храпел в своей каморке.
Улицы Пуатье были пустынны – горожане рано отходили ко сну. По пути Леандру не встретилось ни души, если не считать нескольких отощавших котов, которые при его приближении, как тени, исчезали в подвальных отдушинах.
Таким образом наш первый любовник добрался до площади перед церковью. Колокол как раз заканчивал хрипло отбивать полночь, своим заунывным звоном распугивая сов, гнездившихся на колокольне. Этот звук растревожил воображение Леандра, внушив ему какой-то мистический трепет. Ему даже стало казаться, что он слышит погребальный звон по собственной персоне. Актер уже был готов отступить, вернуться в гостиницу и мирно опочить в своей постели вместо греховных ночных блужданий, но тут он обнаружил, что в условленном месте его поджидает карета. Дверца ее была распахнута, а на подножке стоял все тот же маленький паж, посланец таинственной дамы.
Отступать поздно, теперь у его трусости будут свидетели – паж и кучер уже заметили Леандра. Невзирая на волнение, актер беспечным шагом приблизился к карете, уселся в нее, и дверцы за ним захлопнулись.
Кучер тотчас щелкнул бичом, и лошади с места взяли рысью. В карете было совершенно темно: за окнами стояла глухая ночь, а помимо того, опущенные кожаные шторки не позволяли ничего разглядеть снаружи. Паж остался на подножке, и получить от него какие бы то ни было разъяснения Леандр не мог. Мальчишка и без того был молчалив, поскольку наверняка получил соответствующие указания.
На всякий случай актер потрогал подушки сиденья – те на ощупь оказались бархатными; ноги его утопали в пушистом ковре, а от внутренней обивки экипажа исходил тонкий аромат амбры – признак изысканного вкуса. Судя по этому, карета и в самом деле везла его к настоящей знатной даме. Леандр попытался определить, в каком направлении она движется, но для этого он слишком плохо знал Пуатье. Лишь спустя некоторое время ему почудилось, что стук копыт и грохот колес больше не отдается эхом от стен зданий. Следовательно, экипаж покинул пределы города и теперь направляется в какой-то уединенный сельский приют, предназначенный для любовных утех. А может, и для убийств! Эта мысль заставила актера содрогнуться, и он невольно схватился за рукоять кинжала.
Наконец карета остановилась. Паж открыл дверцу, и Леандр вновь ступил на землю. Он стоял перед высокой каменной стеной, которая показалась ему оградой парка или большого сада. Вскоре он различил и калитку в стене – серые, растрескавшиеся от непогоды доски, покрытые мхом, делали ее неотличимой от окружающей кладки. Паж нажал на один из ржавых гвоздей на калитке, и та со скрипом отворилась.
– Позвольте вашу руку, месье, – сказал он Леандру, – я буду служить вам проводником. Здесь слишком темно, а вокруг полным-полно сухих веток и колючих кустарников!
Леандр повиновался. В течение нескольких минут они двигались по парку, больше напоминавшему глухой лес, оголенный ветрами зимы. Парк сменился регулярным садом с лужайками, окаймленными буксом и подстриженными тисами, пугавшими комедианта своими очертаниями темных стражей. Миновав сад, Леандр и его спутник поднялись по ступеням на террасу, где стоял небольшой павильон с кровлей в виде купола. Углы здания венчали вазы с вырывающимися из них декоративными языками пламени. Эти подробности актер смутно разглядел в неверном свете ночного неба. Павильон выглядел необитаемым, но одно окно слабо светилось за тяжелыми штофными портьерами на фоне совершенно темного фасада.
Разумеется, там и ждала его таинственная дама, и наверняка она тоже волновалась. Еще бы! Ведь в таких любовных приключениях женщина всегда рискует потерять доброе имя, а порой даже жизнь, если ее муж свиреп и необуздан. То же самое может произойти и с ее возлюбленным. Но в ту минуту Леандр уже не испытывал страха – наоборот, он торжествовал! Удовлетворенное тщеславие заглушило все остальные чувства. Карета, неразговорчивый паж, глухой парк, темный павильон – за всем этим несомненно стояла высокородная особа. Леандр был вне себя от восторга, и больше всего в ту минуту ему хотелось, чтобы поблизости оказался зубоскал Скапен!
Распахнув перед ним двустворчатую застекленную дверь, паж удалился, оставив Леандра в одиночестве. Внутри павильон был обставлен богато и изысканно. Сводчатый плафон потолка, образованный куполом, изображал темно-синее небо, в котором витали кудрявые розовые облачка вперемешку с грациозными амурами. Шпалеры почти полностью покрывали стены, на них были изображены пасторальные сцены из знаменитого романа месье Оноре д’Юрфе «Астрея». Инкрустированные секретеры, кресла с бахромой, обитые бархатом винного цвета, стол, покрытый турецкой ковровой скатертью, китайские фарфоровые вазы, наполненные свежими цветами, лишний раз подтверждали, что хозяйка всего этого великолепия богата и знатна. Канделябры из черного мрамора, изображавшие руки темнокожих слуг, выступающие из золоченых манжет, заливали светом все вокруг.
Ослепленный блистательным убранством, Леандр поначалу даже не заметил, что в помещении никого нет. Он сбросил плащ, положил его вместе со шляпой на складной стул, поправил перед венецианским зеркалом примятый локон и принял самую грациозную позу из своего тщательно отработанного репертуара. И только после этого, как следует оглядевшись, мысленно воскликнул: «Так где же божество здешних мест? Я вижу храм, но не вижу кумира! Когда же наконец она выйдет из облака и предстанет передо мной во всем блеске?»
Не успел Леандр закончить этот несколько высокопарный внутренний монолог, как малиновая портьера из индийского атласа на двери раздвинулась и появилась та самая таинственная дама – искренняя поклонница пастуха Лигдамона. На ее лице все еще была черная полумаска, и это обстоятельство встревожило актера.
«Уж не дурна ли она собой? – подумал он. – Эта страсть маскироваться меня пугает».
Однако его тревога вскоре рассеялась. На середине комнаты, где почтительно ожидал Леандр, дама развязала шнурки маски и бросила ее на стол, открыв взгляду актера приятное лицо с правильными чертами, на котором сверкали полные чувства карие глаза, а между полных вишневых губ чуть поблескивали белые зубки. Лицо это обрамляли пышные черные кудри, свободно падающие на полные белые плечи и кипень кружев, обрамляющих два чудесных полушария.
– Госпожа маркиза! – вскричал Леандр, невероятно изумленный и немного встревоженный: ему снова вспомнились достопамятные побои. – Не сон ли это? Я просто не смею поверить столь нежданному счастью!
– Вы не ошиблись, друг мой, – отвечала ее светлость маркиза де Брюйер. – Это действительно я. И, надеюсь, ваше сердце узнает меня, как узнали глаза!
– Ваш образ навеки запечатлен в моем сердце пламенеющими чертами! – с глубоким чувством воскликнул Леандр. – Стоит мне заглянуть в себя – и он предстает передо мной во всем очаровании и присущем только вам совершенстве!
– Благодарю вас, что вы сохранили добрую память обо мне, – проговорила маркиза, – это свидетельство высоты вашего духа и кротости души… Ведь вы могли счесть меня жестокой, неблагодарной и низкой обманщицей. Но это не так! Я не осталась равнодушна к голосу вашей страсти, но письмо, которое вы вверили моей вероломной наперснице, оказалось в руках самого маркиза. Это он написал ответ, который и ввел вас в заблуждение. Лишь позже, смеясь над остроумной, по его мнению, шуткой, он показал мне ваше послание, каждое слово в котором дышит чистой и пылкой любовью, назвав его образцом комической болтовни. Но я не только не согласилась с ним – наоборот, мое чувство к вам окрепло, и я решила наградить вас за все, что вам пришлось вынести ради меня. Я узнала, что мой муж занят своей новой пассией и тайно приехала в Пуатье. Скрываясь под маской, я слышала, как вы безупречно выражаете на сцене поддельную страсть, а теперь хочу узнать, так ли вы пылки и красноречивы, когда говорите от своего имени.
С этими словами она рухнула в кресла, словно это признание отняло у нее все силы.
– Мадам… – начал было Леандр, опускаясь на колени у ног маркизы. – О, нет – королева, богиня! Чего стоят высокопарные фразы, натужные страсти, пустая игра ума, натянутые рассуждения поэтов и притворные вздохи у ног размалеванной актрисы, косящейся на публику, по сравнению со словами, что рвутся из горнила души, с пламенем, иссушающим плоть, с той исполинской страстью и теми порывами сердца, которое готово покинуть свою темницу, чтобы пасть к ногам обожаемого кумира?! Вы, божественная маркиза, сочли, что я недурно выражаю любовь на сцене. Но все дело в том, что я никогда даже не гляжу на актрис, а устремляюсь в мечтах выше – к совершенству, воплощенному в прекрасной, благородной и просвещенной даме, подобной вам, мадам! Одну ее я люблю под именами Изабеллы, Сильвии и Доралисы, которые суть лишь бледные отражения!
На протяжении этого монолога Леандр, будучи опытным актером, не упускал из виду то, что подобным речам должны сопутствовать жесты. Поэтому, низко склонившись к руке маркизы, он осыпал ее пылкими поцелуями. А маркиза тем временем своими длинными белыми пальцами, унизанными перстнями, перебирала шелковистые кудри актера, откинувшись в креслах и созерцая невидящим взором крылатых амуров на синем небесном своде.
Внезапно маркиза оттолкнула Леандра и вскочила, нетвердо держась на ногах.
– Ах, прекратите! – задыхаясь, пробормотала она. – Ваши поцелуи обжигают и сводят меня с ума!
Она с немалым трудом добралась до двери, в которую недавно вошла, отбросила портьеру, а затем та же портьера опустилась – но теперь уже за ней и Леандром, подоспевшим, чтобы поддержать маркизу, которая, казалось, вот-вот упадет без чувств…
Зимняя заря едва успела окрасить краешек небосвода в цвета лепестков бледной розы, когда карета доставила Леандра, кутавшегося в полудремоте в плащ, к городским воротам Пуатье. Приподняв угол кожаной шторки, чтобы взглянуть, где он, актер заметил невдалеке маркиза де Брюйера, шагавшего рядом с Сигоньяком. Оба направлялись к месту дуэли, о чем комедиант не имел представления.
Леандр мгновенно опустил шторку, чтобы маркиз не узнал его, и улыбка торжества заиграла на его губах. Он отомстил за палочные удары, и как отомстил!
Место для поединка было защищено от ветра выступом городских укреплений. Стена эта, кроме того, скрывала происходящее здесь от взглядов прохожих. Лужайка была хорошо утоптана расчищена от камней, о которые можно споткнуться в пылу схватки. Иными словами – самым наилучшим образом приспособлена для того, чтобы защитники чести могли по всем правилам перерезать друг другу глотки.
Герцог де Валломбрез и шевалье де Видаленк также не опоздали, явившись в сопровождении цирюльника, который по совместительству был и лекарем. Все четверо раскланялись с высокомерной учтивостью и холодностью, как и положено людям светским, которым предстоит сразиться не на жизнь, а на смерть. Полная беззаботность читалась на лице молодого герцога – человека храброго и, кроме того, совершенно уверенного в своем превосходстве. Сигоньяк держался с достоинством, несмотря на то, что драться на дуэли ему предстояло впервые. Маркиз де Брюйер был им весьма доволен – такое хладнокровие, по его мнению, было благоприятным признаком.
Де Валломбрез сбросил на траву плащ и шляпу, расстегнул камзол, и Сигоньяк последовал его примеру. Затем маркиз и шевалье измерили длину клинков дуэлянтов. Те оказались практически равными.
Противники заняли места на лужайке, отсалютовали друг другу шпагами и приняли исходную позицию.
– Можете начинать, господа! – проговорил маркиз и добавил: – Сражайтесь доблестно и честно!
– Подобные советы, пожалуй, излишни, – ввернул де Видаленк. – Думаю, нам предстоит увидеть великолепный поединок.
В глубине души де Валломбрез все еще не мог отделаться от презрения к барону. Он ожидал найти в нем слабого фехтовальщика, едва овладевшего азами этого тонкого искусства. Поэтому герцог был не на шутку удивлен, когда, небрежно прощупав несколькими выпадами и ударами противника, встретил ловкую и твердую, как сталь, руку, с неожиданной легкостью парирующую любой удар. Он сосредоточился, затем попробовал один-другой ложный выпад, но все они были мгновенно разгаданы Сигоньяком. Стоило де Валломбрезу хотя бы на мгновение открыться, как в этот просвет тотчас устремлялась шпага барона, и нужны были немалые усилия, чтобы сдержать его атаку. Герцог попытался и сам перейти в наступление, но его шпага была отбита с такой силой, что сам он остался без прикрытия. Если бы не поспешный прыжок назад, клинок противника вонзился бы прямо в его грудь.
Картина менялась на глазах. Де Валломбрез полагал, что сможет вести бой по собственному усмотрению, а, утомив противника и сделав несколько выпадов и туше, ранить Сигоньяка в ту часть тела, в какую ему заблагорассудиться, воспользовавшись приемом, который до сих пор служил ему безотказно. Но теперь он перестал владеть ситуацией и должен был использовать всю свою сноровку и навыки, чтобы защитить себя. Как ни старался герцог сохранять хладнокровие, злоба ударила ему в голову и он потерял власть над собой. Сигоньяк же между тем выглядел невозмутимым и, казалось, дразнил его своей безукоризненной позитурой.
– Зачем нам стоять без дела, пока наши друзья сражаются? – обратился шевалье де Видаленк к маркизу. – Утро нынче холодное, давайте немного пофехтуем – хотя бы для того, чтобы согреться!
– Я вовсе не прочь поразмяться, – ответил де Брюйер.
Однако шевалье оказался куда более искусным в фехтовании, чем грузноватый маркиз. После двух-трех выпадов он коротким мастерским ударом выбил из рук де Брюйера шпагу. Но, поскольку личной вражды между обоими не было, они, по взаимному согласию, прекратили поединок и сосредоточили все внимание на Сигоньяке и де Валломбрезе.
Теперь герцог уже отступал под натиском барона. Он начал уставать, дыхание его сбилось и стало прерывистым. Время от времени клинки, сшибаясь, еще высекали искры, но отпор де Валломбреза все слабел. Сигоньяк же, измотав противника, теперь предпринимал выпад за выпадом, тесня герцога все дальше.
Шевалье де Видаленк побледнел: он уже не на шутку опасался за жизнь друга. Для всякого, кто был хоть немного сведущ в фехтовальном искусстве, уже не могло быть сомнений, что перевес полностью на стороне Сигоньяка.
– Дьявольщина, но почему Валломбрез не прибегает к тому приему, которому научил его неаполитанец Джироламо? Ведь он наверняка не известен этому гасконцу! – пробормотал Видаленк.
Словно прочитав мысли приятеля, молодой герцог попробовал было применить этот знаменитый и коварный прием, но в тот же миг Сигоньяк, опередив противника, точным и коротким ударом рассек его руку у локтя. Боль вынудила герцога разжать пальцы, и его шпага со звоном покатилась по земле.
Сигоньяк немедленно прекратил атаку, хотя и мог повторить удар, не нарушив дуэльного кодекса, ведь заранее не было оговорено, что схватка продолжается до первой крови. Барон вонзил острие своего клинка в землю и, упершись левой рукой в бок, стал ждать, какое решение примет противник. Де Видаленк, спросив согласия у Сигоньяка, поднял шпагу герцога и вложил оружие ему в руку. Но тот не сумел его удержать и подал знак, что прекращает поединок.
Барону де Сигоньяку и маркизу де Брюйеру оставалось только учтиво поклониться де Валломбрезу и его секунданту и отправиться обратно в город.
10
Голова в слуховом окне
После того как лекарь перевязал раненую руку герцога де Валломбреза, его с величайшими предосторожностями усадили в портшез. Рана, лишившая его способности владеть шпагой на несколько недель, сама по себе не представляла опасности. Клинок противника не задел ни нервов, ни крупных артерий, ни сухожилий, повредив только мышцу. Рана причиняла герцогу острую боль и все еще кровоточила, но еще бо́льшие неприятности доставляла герцогу уязвленная гордость. Его темные брови судорожно вздрагивали, губы сжимались, а с лица не сходило выражение ледяного бешенства. Ногти здоровой руки впивались в мягкую обивку портшеза. По пути де Валломбрез не раз принимался ругать носильщиков, которые и без того старались шагать ровно и выбирали самую гладкую дорогу. Это не мешало раненому седоку клеймить их на все лады, грозя плетьми за малейшую встряску.
По прибытии в особняк герцог отказался лечь в постель. Вместо этого он растянулся на кушетке, облокотившись о гору подушек. Камердинер укрыл его до пояса легким стеганым одеялом. Пикар выглядел озадаченным – его поразил плачевный вид хозяина. Молодой герцог слыл превосходным фехтовальщиком, но сегодня вернулся после поединка отнюдь не триумфатором.
Усевшись на складном стуле возле кушетки, шевалье де Видаленк через каждые четверть часа подносил приятелю ложку укрепляющей микстуры, прописанной лекарем. Де Валломбрез угрюмо молчал, лицо его выглядело невозмутимым, и тем не менее шевалье знал, что в его душе бьет ключом глухая ярость. В конце концов она вырвалась наружу бешеной тирадой:
– Как можно представить, Видаленк, чтобы этот тощий ободранный аист, которому пришлось убраться из собственного полуразвалившегося гнезда, где он уже вот-вот протянул бы ноги от голода, умудрился ткнуть меня своим клювом? Я не раз и не два мерился силами с лучшими фехтовальщиками нашего времени и неизменно выходил из схваток с ними без единой царапины, а случалось, оставлял какого-нибудь из этих зазнаек валяться в беспамятстве на руках у его секундантов!
– Даже у самых ловких и умелых бывают полосы неудач, – философски заметил шевалье. – Фортуна переменчива, она то улыбается, то хмурится. До сих пор у вас не было причин жаловаться на нее: вы долго оставались ее баловнем и наперсником.
– Какой позор: жалкий фигляр, нищий дворянчик, который молча сносит затрещины и тумаки в пошлых фарсах на подмостках, взял верх над герцогом де Валломбрезом, ни разу не знавшим поражений! Не иначе как под мерзкой личиной комедианта скрывается настоящий бретер из тех, которые сделали дуэли своим ремеслом.
– Положим, происхождение барона вам известно и подтверждено маркизом де Брюйером, – возразил де Видаленк. – Но от этого мое недоумение не рассеивается. Откуда взялось это невообразимое умение владеть шпагой, превосходящее все, что мне до сих пор было известно? Ни Джироламо, ни Парагуанте не обладают столь точным и мощным ударом. Я пристально следил за ним во время поединка и могу сказать: тут спасовали бы и самые знаменитые дуэлянты. Только благодаря вашей прирожденной интуиции и урокам неаполитанца вам удалось избежать тяжелого ранения или даже увечья. Могу поклясться – при таком противнике легкая рана стоит победы над дюжиной других соперников. Марсильи и Дюпорталь, хоть и кичатся своим умением и считаются в Пуатье лучшими фехтовальщиками, остались бы лежать бездыханными на этой лужайке.
– Скорее бы зажила моя рука, – после продолжительного молчания снова заговорил де Валломбрез. – Я не дождусь, когда снова смогу вызвать этого Сигоньяка и взять реванш!
– А вот это крайне опрометчиво, и я буду всячески отговаривать вас от такого шага, – возразил шевалье. – Ваша рука еще долго не будет достаточно тверда, а это сильно уменьшит ваши шансы на победу. Барон – смертельно опасный противник. Теперь ему знакомы все ваши приемы, а победа придаст ему уверенности и удвоит силы. Честь ваша может успокоиться, поскольку схватка была далеко не шуточной!
Герцог был вынужден признать справедливость доводов приятеля. Он хорошо понимал, что такое фехтовальное искусство, сам был из числа лучших мастеров шпаги, поэтому и сознавал, что его клинок, какие бы усилия он ни прикладывал, не в состоянии коснуться груди барона де Сигоньяка. Это его возмущало, но справедливость требовала признать неизмеримое превосходство противника. Больше того, втайне он догадывался, что барон, не желая его смерти, нанес именно такую рану, которая не позволила продолжать поединок. Такое великодушие, вероятно, мог бы оценить человек не столь высокомерный, но в душе герцога оно лишь растравляло чувство обиды и добавляло горечи поражению. Как? Он побежден? Эта мысль приводила его в исступление. Поэтому он только делал вид, что принимает советы шевалье, но по выражению его лица нетрудно было догадаться, что в его уме, раскаленном ненавистью, уже зреет план мести.
– И как я буду выглядеть в глазах Изабеллы, если предстану перед ней с перевязанной рукой, покалеченной ее любовником? – проговорил де Валломбрез с натянутым смехом. – Купидон без одного крыла не может рассчитывать на успех у муз и граций[53]!
– Забудьте эту особу, – поморщился де Видаленк. – В конце концов, не могла же она предвидеть, что ею пленится герцог. Верните свою благосклонность несчастной Коризанде, которая любит вас всей душой и предана вам, как собачонка!
– Не произноси этого имени, если хочешь, чтобы мы остались друзьями! – вскинулся герцог. – Рабское обожание, готовое сносить любые унижения, мне отвратительно. Холодность, своенравная гордыня, неприступная добродетель – вот что мне требуется! О, как восхищает меня эта строптивая актриса! Как я благодарен ей за то, что она презрела мою любовь, которая, будь она принята по-иному, уже давным-давно бы улетучилась! Женщина с низкой душой в ее положении не смогла бы отвергнуть ухаживания блестящего вельможи, который к тому же далеко не так дурен собой, если верить местным дамам. Поэтому моя страсть смешана с особого рода уважением, а я не привык питать подобные чувства к женщинам. Но вопрос в другом – как нам избавиться от этого захудалого Сигоньяка, черти бы его унесли?
– Это дело непростое, тем более теперь, когда он настороже, – ответил шевалье. – Но, предположим, его удастся устранить. И что из того? Ведь любовь Изабеллы к нему никуда не денется, а вам прекрасно известно, как женщины упорны в своих чувствах. Вы и сами от этого немало претерпели.
– Главное сейчас – убрать барона! – продолжал герцог, которого вовсе не убедили доводы приятеля. – С девицей я справлюсь в два счета, сколько бы она ни разыгрывала недотрогу. Ничто не забывается быстрее, чем воздыхатель, отправившийся к праотцам.
Шевалье де Видаленк держался иного мнения, но не счел нужным затевать по этому поводу спор. Перечить де Валломбрезу при его вспыльчивости – все равно что подливать масла в огонь.
– Главное для вас – залечить рану, а уж после мы все это обсудим обстоятельно. Сейчас разговоры только утомляют вас. Попробуйте уснуть и поменьше волнуйтесь, иначе лекарь сочтет меня никуда не годной сиделкой. Я настаиваю: дайте себе покой, как телесный, так и душевный.
В конце концов раненый сдался и в самом деле уснул…
Барон де Сигоньяк и маркиз де Брюйер беспрепятственно вернулись в «Герб Франции» и в дальнейшем, как люди чести, ни словом не обмолвились о дуэли. Однако, как известно, уши и глаза есть и у стен и видят они не хуже, чем слышат. В уединенном местечке под городской стеной за всем перипетиями поединка барона и герцога пристально следила не одна пара любопытных глаз. Что поделаешь – бедная событиями провинциальная жизнь порождает великое множество почти незаметных насекомых, которые тучами вьются вокруг тех мест, где может что-то произойти, а потом с жужжанием повсюду разносят новости.
Так случилось и в этот раз: еще до завтрака весь Пуатье уже знал, что герцог де Валломбрез ранен на дуэли каким-то неизвестным. Поскольку де Сигоньяк жил в гостинице затворником, публика видела только его театральную маску, а не лицо. Тайна разжигала любопытство, и всевозможные деятельные умы давали простор воображению, силясь установить имя победителя. Фантастических гипотез появилось без числа, и каждый усердно отстаивал свою, опираясь на самые нелепые доводы. Но, разумеется, никому и в голову не могло прийти, что рана герцогу нанесена тем самым капитаном Фракассом, который еще накануне потешал зрителей своей отменной игрой на подмостках. Мысль о дуэли между именитым вельможей и комедиантом казалась настолько чудовищной и невероятной, что никто не решился бы даже высказать ее. Кое-кто из местного высшего общества посылал слуг в особняк Валломбреза – справиться о здоровье герцога, а заодно выведать хоть что-нибудь у прислуги. Но его лакеи были немы, как евнухи в серале турецкого султана, которым вырезают языки. Впрочем, языки их оставались на своих местах, но рассказывать слугам было нечего.
Богатство и холодная красота де Валломбреза, его успех у женщин вызывали зависть у многих, но никто не посмел бы проявить это чувство открыто. Поэтому его неудача возбудила глухое злорадство. Впервые в жизни ему не повезло, и теперь все, кого унижала заносчивость герцога, радовались болезненному удару по его самолюбию. Завистники только и делали, что восхваляли отвагу, изумительную ловкость и благородный облик победителя, которого отродясь не видели.
Большинство дам в Пуатье имели основания быть недовольными обращением молодого герцога с ними. И теперь эти же дамы восхищались человеком, который отомстил за их тайные слезы и обиды. С большой радостью они увенчали бы его даже лавровым венком. Впрочем, из их числа надо исключить чувствительную и нежную Коризанду, которая едва не лишилась рассудка, узнав о ранении герцога. Рискуя быть снова позорно изгнанной, она нарушила запрет и исхитрилась повидать если не предмет своего обожания, то по крайней мере шевалье де Видаленка, по природе своей более мягкосердечного и не чуждого состраданию. И лишь с большими усилиями тому удалось успокоить отправленную в отставку неблагодарным герцогом возлюбленную.
Впрочем, в нашем мире ничто не может долго оставаться тайной. Поэтому довольно скоро от месье Било, получившего сведения из первых рук, то есть от Жака, камердинера маркиза де Брюйера, который подслушал беседу де Сигоньяка с его хозяином во время ужина в комнате Зербины, стало известно, что неведомый герой, поставивший на место зарвавшегося герцога де Валломбреза, был не кто иной, как капитан Фракасс. Или, вернее, некий молодой дворянин, по причинам любовного характера поступивший в бродячую труппу Тирана и принявший этот сценический псевдоним. Подлинное имя молодого человека Жак не запомнил, но оканчивалось оно на «ньяк», что характерно для гасконских дворян.
Эта романтическая история, вполне притом достоверная, имела в Пуатье сногсшибательный успех. Все были в восторге от поступка безымянного дворянина, отчаянного храбреца и изумительного фехтовальщика. И когда однажды вечером на сцене в очередной раз появился капитан Фракасс, он даже не успел произнести первые слова роли, как бурные рукоплескания дали ему понять, что он пользуется самой горячей симпатией публики. Даже самые чопорные дамы, нисколько не стесняясь, махали ему платочками. Изабелле тоже достались более продолжительные, чем обычно, аплодисменты, смысл которых смутил эту скромницу и вогнал ее в краску. Не прерывая своего монолога, девушка сделала едва заметный реверанс в сторону зрителей и грациозно кивнула, благодаря их.
Тиран потирал руки. Его широкое лицо сияло, словно полная луна, борода топорщилась, так как сборы были неслыханными и касса труппы буквально ломилась от звонкой монеты. Каждому из горожан не терпелось хоть одним глазком взглянуть на знаменитого капитана Фракасса, актера и дворянина, доблестного защитника девической чести, который не убоялся дубинок головорезов и рискнул схватиться с самим герцогом – грозой отважнейших здешних дуэлянтов.
Блазиус же смотрел на это дело скептически, так как не ждал ничего хорошего от слишком шумного успеха. Его с полным основанием страшил мстительный нрав де Валломбреза: старик догадывался, что тот все равно отыщет повод поквитаться за свое унижение, а заодно насолить труппе. «С котелком горшку не биться, глине с медью не сравниться», – мрачно ворчал он. На это Тиран, рассчитывавший на поддержку Сигоньяка и маркиза, обзывал его трусом и старой тряпкой.
Немало красавиц посылали барону многообещающие улыбки, несмотря на его шутовской наряд, маску с картонным носом цвета раздавленной вишни и роль, никак не располагающую к романтическим грезам. Если бы он не был глубоко и искренне влюблен в Изабеллу, перед ним открылось бы широкое поле для любовных похождений. Даже образ Леандра поблек в глазах городских дам. Напрасно первый любовник щеголял своими нарядами, надувал грудь, как голубь-трубач, наматывал на палец локоны, демонстрируя пресловутый алмаз в перстне, и скалил зубы в широчайшей улыбке. Впечатление было совсем не то. И он наверняка лопнул бы от досады, если бы не дама в маске, которая не покидала свой пост в ложе, лаская его взглядами и адресуя актеру иные знаки сердечного внимания. Любовь исцеляла мелкие раны, наносимые его самолюбию, а восторги, которые сулила ему ночь, служили возмещением за те вечера, когда его звезда блистала на сцене не так ослепительно, как прежде.
Когда актеры после очередного представления вернулись в гостиницу, Сигоньяк проводил Изабеллу до двери ее комнаты. Но на этот раз девушка, вопреки обыкновению, предложила барону войти. Прислуга зажгла свечи, подбросила несколько поленьев в камин и поспешно удалилась. После того как дверь за ней закрылась, Изабелла внезапно обернулась к Сигоньяку, с необычайной силой стиснула его руку и прерывающимся от волнения голосом проговорила:
– Поклянитесь, что больше никогда не станете биться из-за меня! Поклянитесь, если любите меня так, как говорите!
– Увы, но при всей моей преданности вам, я не смогу принести такую клятву, – ответил барон. – Если какой-нибудь наглец вновь осмелится вести себя с вами без уважения, которого вы заслуживаете, он будет наказан как подобает, будь он хоть принц королевской крови.
– Но ведь я всего лишь комедиантка, а, по общему мнению, тем, кто играет на подмостках, приходится безропотно сносить обиды и оскорбления. Зная театральные нравы, светские люди убеждены, что всякая актриса – куртизанка. Стоит только женщине ступить на подмостки, как она уже не принадлежит себе. Алчные взгляды пожирают ее прелести, пытаются проникнуть в секреты ее красоты, и каждый мысленно обладает ею. Любой проходимец считает себя ее наперсником и, пробираясь за кулисы, докучает ей признаниями, которые ей и в голову не приходило поощрять. Если женщина целомудренна, это расценивают как лицемерие или корыстный расчет. И ничего нельзя с этим поделать – приходится терпеть. Умоляю вас, с этого дня положитесь на меня: своим поведением, резким словом или холодным взглядом я сумею остудить самые горячие головы и заставлю убраться прочь всех этих хлыщей, которые толпятся вокруг моего туалетного столика перед спектаклем и во время антрактов. Иной раз удар планшеткой[54] по руке наглеца стоит удара клинком!
– Но не лишайте меня звания вашего верного рыцаря и защитника, Изабелла! Шпага благородного человека тоже может послужить поддержкой такому страшному оружию, как планшетка!
Изабелла по-прежнему сжимала руку Сигоньяка, пытаясь умоляющим взглядом вырвать у него клятву. Однако барон был непреклонен: в вопросах чести он придерживался не менее крайних взглядов, чем испанский идальго, и готов был скорее тысячу раз пасть замертво, чем оставить без наказания оскорбление возлюбленной.
– Еще раз прошу вас, обещайте мне больше не подвергать себя опасности из-за всякой ничтожной чепухи! – продолжала молодая актриса. – Подумайте о том, с каким мучительным трепетом, с каким тайным ужасом ждала я вашего возвращения с поединка! Я знала, что вы отправились биться с герцогом, о котором все, кто знает его, говорят со страхом, – Зербина мне все рассказала. Как вы немилосердны, как жестоко терзаете мое сердце! Когда задета их честь, мужчины начисто забывают о нас, женщинах. Они неуклонно идут своим путем, не слыша наших просьб, не замечая слез. Да знаете ли вы, что, если бы вас убили, я тоже не смогла бы больше жить?
Дрожь в голосе и слезы, блеснувшие в глазах Изабеллы от одной мысли о смертельной опасности, которой подвергался Сигоньяк, подтвердили искренность чувств, переполнявших ее в ту минуту.
Тронутый до глубины души, барон обнял Изабеллу за талию. Она не стала противиться, когда он привлек ее к себе и коснулся губами ее склоненного лба, чувствуя на своей груди прерывистое и горячее дыхание молодой женщины.
Несколько минут они стояли молча, словно во сне. Таким мгновением не преминул бы воспользоваться менее благородный любовник, но Сигоньяк не мог позволить себе злоупотребить это целомудренной покорностью, у истоков которой лежали сострадание и страх за его жизнь.
– Успокойтесь, моя дорогая, – наконец шутливо проговорил он. – Ведь я не только не погиб, но и ранил своего противника, который пользуется славой мастера шпаги!
– Я знаю, что у вас твердая рука и верное сердце, – смущенно откликнулась Изабелла. – И поэтому люблю вас и не боюсь сказать об этом открыто. Вы, я знаю, не истолкуете дурно мою откровенность. Когда я впервые увидела вас в этом угрюмом замке, где в печали и одиночестве увядала ваша юность, я прониклась к вам грустным и нежным состраданием. Роскошь и богатство ничуть меня не прельщают, их блеск и сопутствующая им суета мне чужды. Будь вы богаты, уверенны в себе и счастливы, я сторонилась бы вас. Но когда в заброшенном саду вы раздвинули передо мной колючие ветви и сорвали для меня дикую розу – единственное, что вы могли мне подарить, – моя душа открылась и я отдала вам свое сердце. Прежде чем спрятать этот цветок у себя на груди, я уронила на него тайную слезу…
От этих слов все поплыло перед глазами молодого барона. Он уже готов был поцеловать те прекрасные губы, которые их произнесли, но в этот миг Изабелла высвободилась из его объятий – с той кроткой решимостью, которая не допускает никакого принуждения.
– Да, друг мой, я люблю вас, – продолжала она, – но не так, как обычно любят женщины. Главное для меня – ваши честь и достоинство, а не наслаждения. Именно поэтому я смиряюсь с тем, что все вокруг считают меня вашей любовницей, ведь это единственная причина, которая способна оправдать пребывание дворянина в труппе бродячих комедиантов. Но сплетни не имеют никакого значения – лишь бы я сама не утратила уважение к себе и знала, что чиста перед Богом и людьми. Должно быть то, что и в моих жилах течет благородная кровь, внушает мне эту гордость, возможно, смешную в какой-то там комедиантке. Но что поделать – такой я родилась!
Несмотря на робость и неопытность молодого барона, природа в конце концов взяла свое. Пленительные признания девушки затуманили его голову. Бледные щеки юноши вспыхнули, в ушах зазвенело, а сердце, казалось, было готово выпрыгнуть из груди. Он не сомневался в целомудрии Изабеллы, но справедливо полагал, что в такую минуту мог бы переломить сопротивление ее стыдливости. Девушка стояла перед ним в ореоле своей чистоты, прекрасная, словно сквозь телесную оболочку светилась ее душа, подобная ангелу у врат любовного рая. Он шагнул вперед и в судорожном порыве крепко прижал ее к себе.
Изабелла не пыталась сопротивляться, но, избегая пламенных поцелуев барона, взглянула на него с печальной укоризной. Несколько прозрачных слезинок скатились из ее синих, как июньское небо, глаз. Сигоньяк ощутил их вкус на своих губах и почувствовал, как девушка внезапно напряглась, словно сдерживая рыдания, а затем все ее тело обмякло. Казалось, Изабелла близка к обмороку.
В глубоком смятении барон усадил девушку в кресло, а сам упал перед ней на колени и, сжимая ее похолодевшие руки, стал умолять о прощении. Он говорил о порывах чувств, которые мужчине так нелегко обуздать, об утрате самообладания, раскаивался и клятвенно обещал искупить вину покорностью и послушанием в дальнейшем.
– Вы причинили мне боль, – наконец со вздохом произнесла Изабелла. – До этой минуты я глубоко доверяла вам и полагалась на вашу деликатность. Неужели вам недостаточно было моего признания в любви? Ведь сама его откровенность должна была сказать вам, что я приняла решение не уступать своему влечению. Я понадеялась, что вы позволите любить себя так, как мне хочется, нежно и трепетно, не смущая мою душу грубыми посягательствами. Но теперь вы лишили меня этой надежды! А ведь мне так отрадно было видеть вас, слышать ваши речи, читать мысли по вашим глазам!.. Я стремилась разделить с вами горести, предоставив остальное другим. Мне думалось: вот среди тысяч циничных и распутных мужчин нашелся тот, кто верит в целомудрие и способен меня уважать. Я, жалкая комедиантка, которую вечно преследовали гнусными домогательствами, позволила себе мечтать о чистой привязанности! Я хотела только одного – привести вас к порогу счастья, а затем снова исчезнуть в безвестности. Надеюсь, я не была чересчур требовательна?
– Моя прекрасная Изабелла, каждое ваше слово ранит меня в самое сердце! – вскричал Сигоньяк. – Как я мог не понять вашего ангельского сердца! Я недостоин целовать даже следы ваших ног! Но отныне вам нечего опасаться – супруг сумеет обуздать слепой пыл любовника. Все, что у меня есть – это мое имя, такое же незапятнанное, как вы сами. И я предлагаю его вам, если вы удостоите меня чести принять его!
Барон все еще стоял на коленях перед девушкой, но при этих словах Изабелла наклонилась и, обхватив его голову руками, в порыве самозабвенного чувства запечатлела на его губах быстрый поцелуй. Затем она встала, выпрямилась и сделала несколько шагов по комнате.
– Вы станете моей женой! – словно в бреду повторил Сигоньяк, опьяненный прикосновением ее губ, свежих, как лепестки цветка, и обжигающих, как пламя.
– Никогда! – наконец ответила Изабелла. – Этого никогда не случится! Я покажу, что достойна такого счастья, отказавшись от него. О, друг мой, в каком блаженстве в эту минуту пребывает моя душа!.. Значит, вы решились бы с гордо поднятой головой ввести меня в те залы, где дремлют портреты ваших предков, в часовню, где покоится прах вашей матушки? Клянусь, я выдержала бы требовательные взгляды умерших, которым ведомо все, и венец девы на моем челе не был бы ложным символом!
– Как? Вы говорите, что любите меня, и отвергаете и как любовника, и как супруга? – вскричал Сигоньяк.
– Вы предложили мне свое имя, этого достаточно. Я возвращаю его вам, запечатлев в своем сердце. Всего мгновение я была вашей женой и больше никогда не стану ничьей. Целуя вас, мысленно я произнесла «да». Но это величайшее счастье не для меня. Вы, мой единственный друг, совершили бы страшную ошибку, связав свою судьбу с комедианткой. Мое театральное прошлое, каким бы безупречным оно ни было, навсегда осталось бы для меня постыдным укором. И вам были бы мучительны презрительные гримасы, с которыми встречали бы меня знатные дамы, а вызвать этих фурий на дуэль вы бы не смогли. Вы – барон, последний потомок знатного рода, на вас лежит обязанность вернуть ему величие, отнятое превратностями судеб. Когда случайно брошенный мною нежный взгляд заставил вас покинуть замок, вы помышляли лишь о романтической интрижке, и это вполне простительно. Но я заглядывала в будущее и думала о другом. Я воочию видела, как вы, будучи ласково принятым при дворе, возвращаетесь домой в великолепном наряде и с назначением на почетную должность, как замок Сигоньяк мало-помалу обретает свое прежнее великолепие. Мысленно я срывала с его камней плети плюща, укладывала новую черепицу на кровлях древних башен, чинила кладку стен, вставляла хрустальной чистоты стекла в рамы окон и покрывала позолотой аистов на вашем родовом гербе. И только после этого, уже на границе ваших владений, я безмолвно прощалась с вами и с горестным вздохом исчезала.
– Клянусь, ваша мечта осуществится, о Изабелла, но вовсе не так, как вы сейчас описали! Такая развязка слишком печальна. Вы первой перешагнете порог моего дома, у которого больше не станет расти трава забвения и нищеты, и ваша рука в тот миг будет лежать в моей!
– Нет! То будет какая-нибудь красивая, знатная и богатая наследница благороднейшего рода, во всем достойная вас. И вы сможете с гордостью представить ее своим друзьям, и ни один из них не сможет с ухмылкой шепнуть другому: «Мне случалось освистать эту особу» или: «Я аплодировал ей там-то».
– Это невообразимо жестоко, – воскликнул Сигоньяк, – отнимать у влюбленного всякую надежду! Вы распахнули передо мной небеса и тут же закрыли их вновь! Что может быть бесчеловечнее! Но я заставлю вас изменить это решение!
– Даже не пытайтесь, – дружелюбно, но твердо возразила Изабелла, – его ничто не может поколебать. Отступившись, я была бы вынуждена презирать себя. Поэтому довольствуйтесь самой искренней, самой преданной любовью, какой когда-либо наполнялось женское сердце, но не требуйте большего. Неужели это так скверно – бескорыстная любовь Простушки, которую кое-кто ввиду недостатка вкуса находит привлекательной? Даже герцог де Валломбрез гордился бы этим, – с насмешливой улыбкой добавила девушка.
– Только вы одна, – в отчаянии воскликнул влюбленный, – способны на такое противоречие! Отдать свою душу мужчине – и наотрез отказать ему в близости, смешать в одной чаше нечто столь сладостное, как мед, и столь же горькое, как полынь!
– Да, в моем характере немало странностей, – с грустью признала Изабелла. – Я полагаю, что унаследовала их от матери. Но вам придется принять меня такой, какая я есть. Если же вы будете настаивать, терзать и преследовать меня, я найду для себя столь отдаленное и укромное убежище, в котором вам никогда меня не отыскать… Итак – все решено! Время уже позднее. Ступайте в свою комнату и попытайтесь переделать для меня ряд стихов в той пьесе, которую мы сейчас репетируем: они никуда не годятся, поскольку не подходят ни к моей внешности, ни к моему характеру. Я ваш маленький дружок, а вы станьте для меня великим поэтом!
С этими словами Изабелла извлекла из ящика стола бумажный свиток переписанной роли, перевязанный розовой ленточкой, и вручила его барону.
– А теперь поцелуйте меня и уходите, – проговорила она, подставляя возлюбленному щеку. – Вы будете трудиться, а всякий труд должен быть вознагражден…
Вернувшись к себе, Сигоньяк еще долго не мог успокоиться. Все, что было сделано и сказано в комнате Изабеллы, подняло в его душе настоящую бурю. Он одновременно испытывал крайнее отчаяние и неописуемый восторг, сиял и хмурился, парил в облаках и низвергался в пучины. Он плакал и смеялся, пока в его сердце сменялись самые разноречивые и могучие чувства: его окрыляло сознание того, что его любит прекрасная девушка с благородной душой, и безмерно удручала уверенность, что ему никогда не добиться от нее согласия на брак.
Мало-помалу смятение улеглось и к молодому человеку вернулось равновесие. Он снова и снова перебирал в памяти все, что было сказано Изабеллой, и вдруг среди прочего перед ним предстало, словно сон наяву, видение восставшего из развалин замка Сигоньяк, который так живо и образно описала девушка.
Фасад усадьбы сверкал на солнце ослепительной белизной, позолоченные флюгера рассыпали его отблески в густой синеве летнего неба. Старина Пьер в богатой ливрее, шитой золотом, стоял у ворот, украшенных гербами, между Миро и Вельзевулом, и все трое поджидали своего господина. Трубы замка весело дымили, свидетельствуя о том, что он населен многочисленной и деятельной прислугой и что жизнь здесь кипит.
Затем Сигоньяк увидел себя. Облаченный в изящное и великолепное платье, отделанное аграмантом и усыпанное золотыми пуговицами с рубинами, он, крепко держа за руку, вел Изабеллу к гнезду своих предков. На Изабелле был костюм цвета гербов самых знатных дам Франции, чело венчала герцогская корона. Но не это придавало молодой женщине столь горделивый и в то же время нежный и задумчивый вид: в ее руке была маленькая дикая роза, подарок барона. Цветок еще не увял, и Изабелла на ходу вдыхала его тонкий аромат.
Когда молодая чета приблизилась к замку, из-под портала показался величавый старец с орденскими звездами на груди, совершенно незнакомый Сигоньяку. Судя по всему, он намеревался приветствовать пару. Но каково же было удивление барона, когда рядом со старцем он обнаружил молодого человека с великолепной осанкой, чьи черты сначала показались ему смутно знакомыми, и лишь затем он узнал в нем герцога де Валломбреза. Герцог дружески улыбнулся ему, и в его лице не было ни тени обычного высокомерия. Собравшиеся со всей округи арендаторы и поселяне восторженно грянули: «Да здравствует госпожа Изабелла, да здравствует барон де Сигоньяк!»
Но вот сквозь этот шум пробился звук охотничьего рога, а затем из чащи на лужайку, пришпоривая горячего иноходца, вылетела дама, внешне очень похожая на Иоланту де Фуа. Потрепав шею коня, она придержала его и шагом проследовала мимо замка. Сигоньяк невольно проводил взглядом великолепную наездницу, чья бархатная амазонка раздувалась, словно орлиное крыло. Но чем пристальнее он всматривался, тем бледнее и бесцветнее становилось это видение. Вскоре оно стало полупрозрачным, как тень, и сквозь очертания всадницы и коня стали видны детали окружающего ландшафта. Иоланта испарилась, как лед под солнечными лучами, как смутное воспоминание перед живым образом Изабеллы. Настоящая любовь рассеяла смутные юношеские грезы.
И в самом деле: в своем ветхом замке, среди запустения и нищеты, юный барон влачил дремотное существование скорее призрака, чем живого человека. И так продолжалось до тех пор, пока не встретил однажды Иоланту де Фуа, которая охотилась в ландах. До той поры он видел лишь крестьянских девушек, загоревших до черноты, и чумазых пастушек в лохмотьях, вовсе не похожих на женщин. Чудесное видение ослепило его так, словно он взглянул прямо на солнце. Даже закрывая глаза, он продолжал видеть лучезарное лицо прекрасной охотницы, которая, казалось, явилась сюда из другого мира.
Иоланта и в самом деле была необычайно хороша собой. Она могла бы пленить куда более искушенного ценителя, чем нищий барон в изношенной отцовской одежде, плетущийся трусцой на своем тощем одре. И по презрительной улыбке, которая возникла на лице Иоланты при виде его смехотворного наряда, Сигоньяк понял, как нелепо питать даже искру надежды на благосклонность дерзкой красавицы.
С появлением в замке бродячей труппы та смутная жажда любви, что заставляет юность вечно гоняться за химерами, обрела цель. Обаяние, доброта, скромность Изабеллы тронули самые чувствительные струны в душе Сигоньяка и внушили ему подлинную любовь. Изабелла легко исцелила рану, нанесенную презрением Иоланты…
Очнувшись от грез, Сигоньяк выбранил себя за леность и сосредоточился на пьесе, которую ему вручила Изабелла. Он вычеркнул из ее роли стихи, не отвечающие образу молодой актрисы, и заменил их другими. Затем заново переделал монолог героя, решив, что он слишком холоден и высокопарен. Слова, написанные им взамен, звучали куда искреннее и нежнее, тем более что мысленно барон адресовал их Изабелле.
Он засиделся за работой далеко за полночь, но его усилия оказались небезуспешными: утром он был вознагражден ласковой улыбкой Изабеллы, и та сразу принялась заново учить стихи, переделанные «ее поэтом», как она стала называть барона.
На вечернее представление публики собралось еще больше, чем накануне, и зрители чуть было не затоптали швейцара, пытаясь толпой прорваться в зал, чтобы заранее занять лучшие места в партере. Слава капитана Фракасса, победителя герцога де Валломбреза, росла не по дням, а по часам, принимая все более фантастические очертания. Ему охотно приписали бы все подвиги Геракла и всех рыцарей Круглого стола. Некие молодые дворяне из числа недругов герцога искали дружбы с героем и уже собирали по шесть пистолей с носа, чтобы, сложившись, устроить пирушку в его честь в кабачке неподалеку от зала для игры в мяч. Нашлись и дамы, которые, сочиняя адресованные Сигоньяку пылкие любовные послания, сожгли в камине не один черновик, сочтенный неудачным.
Иными словами, барон вошел в моду и был у всех на устах. Впрочем, такой успех ничуть его не радовал: он предпочел бы по-прежнему оставаться безвестным актером из труппы Тирана, но поделать ничего не мог. Приходилось смиренно терпеть, хотя время от времени его посещала мысль закрыться в гостинице и больше не появляться на сцене. Однако, представив, в какое отчаяние впадет Тиран, совсем потерявший голову от неслыханных сборов, барон отказался от этого намерения. Разве друзья-актеры, всячески поддерживавшие его в нужде, не имели права воспользоваться плодами его популярности? Словом, он смирился, нацепил свою дурацкую маску, застегнул перевязь с рапирой, перекинул плащ через плечо и уселся ждать, когда объявят его выход.
Благодаря отменным сборам, Тиран не поскупился, удвоив количество свечей, и теперь зал сиял огнями не хуже, чем королевский придворный театр. Надеясь пленить капитана Фракасса, городские дамы явились во всеоружии, или, как говорят в Риме, при полном параде. Ни один алмаз не залежался в футляре, бесчисленные украшения сверкали и переливались на персях, более или менее соблазнительных, и на головках, более или менее красивых, но одинаково охваченных горячим желанием нравиться.
Пустовала лишь одна ложа, расположенная на самом виду, и все любопытные взгляды то и дело устремлялись к ней. Дворяне и горожане, занявшие места за час до начала представления, дивились, по какой причине мешкают господа, уплатившие немалые деньги за лучшую ложу. Тиран, поглядывая в щель занавеса, все еще медлил с тремя традиционными ударами в пол, надеясь, что эти спесивцы все-таки пожалуют к началу, ибо ничто так не раздражает актеров, как опоздавшие зрители, которые начинают шумно рассаживаться и отвлекают внимание публики от сцены.
Только когда занавес начал подниматься, место в ложе заняла молодая женщина, рядом с которой не без усилий опустился в кресло пожилой господин весьма патриархальной наружности. Его длинные седые волосы крутыми завитками ниспадали на воротник, прикрывая уши, но на темени уже лоснилась круглая плешь слоновой кости. Обрамленные прядями цвета соли с перцем щеки господина, то ли от жизни на свежем воздухе, то ли от частых возлияний приобрели багровую окраску. Кустистые брови низко нависали над глазами, которые, несмотря на возраст, ничуть не утратили живости и бодро поблескивали среди мелких морщин, расходящихся лучами от глазниц. Над толстогубым чувственным ртом топорщились усы в виде запятых, подбородок украшала остроконечная бородка-эспаньолка, ниже лежали две массивные складки, переходящие в тучную шею. В целом облик был бы вполне заурядным для провинциального дворянина-землевладельца, если б его не облагораживал пронзительный и умный взгляд, не оставлявший сомнений в том, что старец этот принадлежит к одной из самых родовитых семей. Воротник из венецианских кружев с выпуклым узорным рисунком был откинут на камзол из золотой парчи, ослепительно-белая сорочка, очерчивая изрядных размеров брюшко, спускалась до коричневых бархатных панталон, перехваченных шелковым поясом, плащ такого же цвета, отороченный золотым шнуром, был небрежно брошен на спинку соседнего кресла.
Всякий признал бы в этом пожилом дворянине дядюшку Иоланты де Фуа, который после смерти ее родителей был назначен опекуном девушке. Но своенравная и капризная племянница, в которой старик души не чаял, мало-помалу превратила его в какое-то подобие дуэньи. При виде обоих – стройной и легкой на ногу Иоланты и ее грузного, тяжело отдувающегося дядюшки – невольно приходило на ум сравнение с богиней Дианой, которая таскает за собой на поводке старого ручного льва, который наверняка предпочел бы дремать в своем логове, вместо того чтобы сопровождать мифическую охотницу.
Безукоризненный наряд девушки свидетельствовал о ее богатстве и высоком положении. Платье цвета морской волны – того, который могут позволить себе лишь блондинки с великолепным цветом лица, оттеняло снежную белизну скромно приоткрытой груди; прозрачная, как египетский алебастр, шея, выступала из плоеного ажурного воротника, словно пестик из чашечки лилии. Серебристая парчовая юбка переливалась в свете свечей, а индийские жемчужины вспыхивали оранжевыми точками вдоль края платья и выреза корсажа. Волосы Иоланты, завитые тугими локонами на висках и на лбу, напоминали цветом живое золото; чтобы достойно описать их, понадобилась бы дюжина сонетов со всеми замысловатыми итальянскими тропами и испанскими красивостями. Зал был заворожен красотой девушки, хотя она все еще оставалась в маске. Но и того, что видел глаз, было довольно, чтобы догадаться об остальном. Чистая линия нежного подбородка, безупречные очертания малиновых губ, изящный и тонкий овал слегка удлиненного лица, миниатюрные ушки совершенной формы, словно выточенные из оникса рукой самого Бенвенуто Челлини, – даже этих прелестей хватило бы, чтобы вызвать жгучую зависть у самой Венеры.
Но не прошло и десяти минут, как то ли из-за жары в зале, то ли из желания оказать недостойным смертным милость, но молодая богиня сняла полоску картона, обтянутую темным шелком, которая все еще отчасти скрывала ее ослепительную красоту. Взорам любопытных предстали прекрасные глаза, горящие прозрачным фиалковым блеском, в окружении длинных ресниц, тонкий прямой нос и щеки, слегка тронутые румянцем, рядом с которым цвет лепестков самой свежей розы показался бы блеклым.
Но еще до того, как Иоланта де Фуа избавилась от маски, многие женские сердца в зале ревниво дрогнули. Никаких надежд не осталось: они были обречены превратиться кто в безнадежных дурнушек, а кто в ветхих старух.
Окинув равнодушным взглядом онемевший зал, Иоланта облокотилась на барьер ложи, оперлась на руку щекой и застыла в позе, которая обессмертила бы любого ваятеля, если б только этот художник, будь он француз или итальянец, смог изваять нечто подобное этому образцу естественной грации и врожденного изящества.
– Сделайте одолжение, дядюшка, не вздумайте заснуть! – вполголоса обратилась девушка к пожилому вельможе. Тот сейчас же выпрямился и начал усердно таращить глаза, а Иоланта добавила: – Это было бы в высшей степени неучтиво по отношению ко мне и противоречило бы законам старинной галантности, которую вы так восхваляете.
– Будьте уверены, милая племянница: когда мне окончательно осточертеет тупая и пошлая болтовня этих шутов со всеми их картонными страстями, до которых мне никакого дела нет, я взгляну на вас – и сна как не бывало!
Пока Иоланта с дядей обменивались замечаниями, капитан Фракасс, расставляя ноги циркулем, добрался до рампы и остановился с самым вызывающим и заносчивым видом, свирепо вращая глазами. При появлении всеобщего любимца грянули бурные рукоплескания, которые на миг отвлекли Иоланту, и она взглянула на сцену.
Нет нужды говорить, что Сигоньяк не был тщеславен, но дворянское звание требовало от него с пренебрежением относиться к ремеслу комедианта, к которому привела его нужда. И тем не менее столь горячий прием слегка польстил его самолюбию. В этом нет ничего удивительного: славе гистрионов, гладиаторов и мимов, не имевших в Риме даже мало-мальских прав, порой завидовали люди, стоявшие на вершине власти – императоры и полководцы. Порой эти владыки вселенной даже брались оспаривать на арене цирка или на театральном подиуме лавры певцов, музыкантов, актеров, атлетов и колесничих, хотя и без того были многократно увенчаны лаврами, подобно императору Нерону.
Едва аплодисменты утихли, капитан Фракасс окинул зал тем особым взглядом, каким актер проверяет, все ли места заняты, и старается угадать, как сегодня настроена публика. На этом он и строит свою игру, позволяя себе большие или меньшие вольности и отступления.
А в следующее мгновение барон застыл, словно пораженный молнией. Зрачки его так расширились, что огоньки свечей превратились в огромные сверкающие шары, которые затем сменились черными кругами на фоне светящегося тумана. Лица зрителей, которые он только что отчетливо различал, расплылись. Его с ног до головы окатило жаром, а затем адским холодом. Ноги стали ватными и перестали гнуться, во рту пересохло, горло сдавили стальные тиски, а из головы, словно птицы из распахнутой клетки, шумной испуганной стаей, сталкиваясь и путаясь, вылетели все слова, какие он должен был произнести. Хладнокровие, выдержка и память окончательно покинули молодого человека. Казалось, еще немного – и он без памяти рухнет прямо на рампу. И все потому, что он заметил в центральной ложе ослепительную и невозмутимую Иоланту де Фуа. Ее прекрасные синие глаза пристально смотрели прямо ему в лицо!
Какой позор! Какая злобная насмешка судьбы! Кривляться в шутовском наряде, в низменной роли увеселителя черни на глазах у этой надменной, заносчивой и высокомерной красавицы, перед лицом которой хочется совершать только возвышенные, героические, сверхчеловеческие поступки, чтобы заставить дрогнуть ее гордыню! И ни малейшей возможности скрыться, исчезнуть, да пусть бы и провалиться в саму преисподнюю!
Первым движением Сигоньяка было – бежать! Куда угодно, как угодно, даже пробив головой задник декорации. Но на ногах у него словно оказались те самые свинцовые подошвы, в которых, говорят, упражняются скороходы, чтобы добиться особой легкости бега. Барон прирос к подмосткам, да так и стоял, приоткрыв рот, растерянный и ошеломленный. Изумленный Скапен даже подумал, что Фракасс позабыл свою роль и свистящим шепотом принялся подсказывать ему первые слова монолога.
Зрители, в свою очередь, решили, что актер, прежде чем начать, ожидает новых оваций, и принялась бить в ладоши, топать ногами, вопить и свистеть – словом, поднялся такой шум, какого еще не слыхали в этом зале. Благодаря адскому шуму Сигоньяк опомнился, хотя для этого потребовалось поистине чудовищное усилие. «Что ж, – сказал он себе, почувствовав, что снова вполне в состоянии двигаться, – даже в позорном положении можно оставаться на высоте. Не хватало только, чтобы в присутствии Иоланты меня забросали огрызками яблок и тухлыми яйцами. Может, она и не узнает меня под этой гнусной личиной. Да и кто бы мог поверить, что последний из Сигоньяков кривляется на сцене, разряженный в красное и желтое, словно дрессированная обезьяна! Главное, не ударить лицом в грязь. Если сыграю хорошо – она мне поаплодирует, а это уже победа, ведь такой капризнице нелегко угодить!»
Все эти мысли промелькнули в голове барона быстрее, чем нам удалось их записать, ибо никакому перу не поспеть за мыслью. И вот он уже произносит свой центральный монолог, да с такими причудливыми раскатами в голосе, с такими неожиданными интонациями и таким безудержным комическим задором, что публика приветствует его восторженными криками, и даже Иоланта невольно улыбнулась, хотя только что и утверждала, что терпеть не может подобного шутовства. Между тем ее упитанный дядюшка окончательно проснулся и выражал свое полнейшее одобрение, не щадя своих подагрических суставов.
Сигоньяк же, чувствуя себя совершенно несчастным, от отчаяния впал в преувеличенную жестикуляцию, кривлялся, строил жуткие гримасы, фанфаронствовал, словно таким образом пытался довести свое унижение до последних пределов. С каким-то яростным весельем он попирал свое достоинство, дворянскую честь, уважение к себе и память множества поколений предков.
«Ты можешь торжествовать, злая судьба! – звучало у него в ушах, пока он получал бессчетные пощечины, оплеухи и пинки. – Нельзя быть униженным глубже, пасть ниже, чем я! Я создан, чтобы быть несчастным, а ты, вдобавок, выставила меня смешным! Это подло, и в конце концов, должен же быть предел такому позору? Чего еще ты потребуешь от меня?»
Временами его охватывал неудержимый гнев, и тогда капитан Фракасс выпрямлялся под ударами Леандра с таким грозным видом, что тот в страхе отступал. Но тут же, опомнившись, снова входил в роль трусливого фанфарона, дрожал всем телом, отбивал зубами дробь, качался на тощих ногах, заикался и, к полному удовольствию зрителей, выказывал все признаки самой гнусной трусости.
В другой роли, не столь гротескной, такие резкие перепады настроения героя могли бы показаться нелепыми и ненужными. Но публика, приписывая их вдохновению актера, полностью слившегося с образом капитана Фракасса, относилась к ним с чрезвычайным одобрением. Лишь Изабелле ее чуткое сердце подсказало, в чем заключалась подлинная причина смятения Сигоньяка: в той дерзкой даме-охотнице, когда-то встреченной ими на пустынной дороге. Черты ее лица глубоко врезались в память девушки. Вот почему, уверенно ведя свою роль, Изабелла нет-нет, да и поглядывала в сторону ложи, где с высокомерным спокойствием существа, полностью уверенного в своем несравненном совершенстве, восседала гордая красавица.
Нет, Изабелла в своем смирении даже мысленно не могла произнести слово «соперница». Она находила горькую усладу в сознании бесспорного превосходства Иоланты де Фуа над собой, утешаясь тем, что ни одна женщина не могла бы сравниться с этой богиней. Теперь, глядя на царственную красоту дамы в ложе, она впервые поняла ту безрассудную любовь, которую порой внушают людям простого звания чары какой-нибудь юной королевы, явившейся народу в ореоле величия и славы во время празднества или публичной церемонии. Ту любовь, что приводит к безумию, тюрьме, а порой и смерти.
Сигоньяк же про себя поклялся вообще не смотреть в сторону центральной ложи, чтобы в минутном порыве не совершить какого-нибудь опрометчивого поступка и не опозорить себя на глазах у публики. Наоборот, во всякую минуту, когда роль не требовала от него слов и поступков, он устремлял свой взгляд на кроткую Изабеллу. При виде ее лица, полного чудесного покоя, затуманенного легкой грустью, ибо по сюжету пьесы отец пытался выдать ее замуж за нелюбимого, буря в его душе стихала. Любовь одной была куда благороднее и выше презрения другой. Эта мысль возвращала ему уважение к себе и придавала сил.
Так или иначе, но пытка подошла к концу. Едва пьеса завершилась, Сигоньяк за кулисами сорвал с себя маску и рухнул на первую же подвернувшуюся скамью. Все, кто видел его в ту минуту, были поражены, как страшно изменилось его лицо. Заметив, что молодой человек близок к обмороку, Блазиус поднес ему свою флягу, добавив, что в таких случаях нет лекарства целительнее, чем пара глотков доброго вина. Сигоньяк, задыхаясь, жестом дал понять, что ему не нужно ничего, кроме холодной воды.
– А вот это, барон, заслуживает всяческого осуждения, – заметил Педант. – Вы совершаете ошибку. Вода годится разве что для рыб, лягушек и уток, но для людей это сущий яд. Если бы ею торговали в аптеках, на флаконах следовало бы ставить пометку: «Только для наружного употребления». Лично я наверняка умер бы на месте, проглотив хоть каплю этой отравы!
Эти доводы, однако, не помешали барону осушить целый кувшин. После этого он окончательно пришел в себя и начал осознавать окружающее.
– Вы играли с поразительным вдохновением, – сказал Тиран, обращаясь к Сигоньяку. – Но актер не должен так растрачивать себя, иначе вы просто сгорите и обратитесь в пепел. В том и заключается искусство комедианта, чтобы изображать лишь видимость чувств, сохраняя внутреннее равновесие. Пусть подмостки горят под его ногами, пусть вокруг бушует буря страстей – он должен оставаться холодным, трезвым и рассудительным. Ни одному актеру еще не удавалось с такой подлинностью передать апломб и глупость капитана Фракасса, но если вы когда-нибудь сумеете повторить вашу сегодняшнюю импровизацию, вам будет по праву принадлежать пальма первенства среди комиков нашего века.
– Наверное, я уж слишком глубоко вошел в свою роль! – с горечью ответил барон. – Я в самом деле чувствовал себя дурачиной Фракассом в той сцене, когда Леандр разбивает гитару о мою голову.
– Именно! Вы умудрились скроить до того нелепую и в то же время смешную и свирепую гримасу, что даже такая холодная и рассудительная особа, как мадемуазель Иоланта де Фуа, соблаговолила улыбнуться. Я не преувеличиваю, ибо видел это собственными глазами.
– Я польщен! – заливаясь краской, ответил Сигоньяк. – Вот уж не думал, что мне удастся развлечь эту надменную красавицу!
– Прошу принять мои извинения, – поспешно проговорил Тиран, заметив, что его слова задели барона. – Я запамятовал, что подобные успехи, радующие нас, комедиантов по ремеслу, безразличны для человека вашего звания, не нуждающегося в одобрении толпы.
– Вы ничем не обидели меня, друг мой Тиран, – возразил Сигоньяк, протягивая бородачу руку. – Все, за что берешься, стоит делать либо хорошо, либо не делать вообще. Просто я невольно вспомнил, как в своих юношеских грезах видел иного рода успехи и свершения…
Изабелла, уже одетая для другой роли, прошла мимо барона и, прежде чем шагнуть на сцену, бросила на него взгляд, полный такой нежности, сострадания и любви, что Иоланта и все, что с ним произошло на сцене, вмиг улетучилось из головы Сигоньяка. Он больше не чувствовал себя униженным и несчастным, забыл про Иоланту, а рана, нанесенная его достоинству, вмиг зарубцевалась от этого божественного бальзама. Но лишь на время, ибо подобные раны исцелить можно лишь на время.
Маркиз де Брюйер, пребывавший на своем посту у сцены и, по своему обыкновению, бешено аплодировавший при каждом выходе Субретки, в антракте отправился поздороваться с мадемуазель де Фуа, которую давно и хорошо знал и не раз сопровождал во время охоты. Беседуя с девушкой, он поведал о дуэли капитана Фракасса с молодым герцогом, не называя подлинного имени барона. Рассказ его отличался особой живостью, ибо маркизу были доподлинно известны все подробности случившегося.
– Вы совершенно напрасно избегаете имен, – с натянутым смешком заметила Иоланта, – я моментально догадалась, что этот ваш капитан Фракасс не кто иной, как барон де Сигоньяк. Я видела, как он покидал свою обитель летучих мышей, следуя за этой бродячей потаскушкой, которая на сцене пытается изображать жеманную скромницу. Известно мне и то, что он побывал в вашем замке вместе с комедиантами. Выглядит он глуповато, и по его виду никак нельзя было ожидать, что он окажется не только одаренным фигляром, но и отважным дуэлянтом!
Продолжая беседовать с Иолантой, маркиз окидывал рассеянным взглядом зал: из ложи он был виден куда лучше, чем с его постоянного места в оркестре, откуда ему было удобнее всего наслаждаться искусной игрой Зербины. Внезапно его глаза задержались на лице замаскированной дамы в боковой ложе. До сих пор он не замечал ее, так как постоянно сидел спиной к зрителям, чтобы не быть узнанным и не вызвать кривотолков. Несмотря на то что дама буквально утопала в черной пене кружев, нечто в позе и облике загадочной красавицы смутно напомнило маркизу его супругу. «Ну и ну! – мысленно воскликнул он. – А ведь сейчас она должна находиться не здесь, а в замке Брюйер, где я ее и оставил!»
Тем временем дама, как бы взамен того, что лицо ее было тщательно скрыто, кокетливо положила на барьер ложи изящную руку. И тотчас на ее безымянном пальце сверкнул крупный бриллиант – тот самый, который де Брюйер преподнес супруге в свое время.
Сомнений больше не оставалось. Маркиз, весьма озадаченный, позабыв о галантности, поспешно покинул Иоланту и ее дядюшку, чтобы окончательно развеять собственные сомнения. Однако, несмотря на то, что он двигался весьма стремительно, к тому моменту, когда он достиг цели, птичка уже упорхнула. Вероятно, своим чересчур решительным видом он спугнул даму и она поторопилась удалиться. Маркиз был довольно снисходительным супругом, но это обстоятельство почему-то смутило его и раздосадовало.
– Неужели она и в самом деле влюблена в этого никчемного вертопраха Леандра? – сердито бормотал он, отступая. – Какая удача, что я велел отлупить его еще в замке, так сказать, авансом! Поэтому уже сейчас я могу считать себя удовлетворенным!
Эта мысль вернула маркизу безмятежное расположение духа, и он отправился за кулисы. Зербина уже поджидала его, удивляясь проволочке, и встретила с тем напускным гневом, с помощью которого женщины такого рода взбадривают мужской пыл…
По окончании представления Леандр, обеспокоенный тем, что маркиза внезапно исчезла сразу после антракта, поспешил на площадь у церкви, где до сих пор его ежедневно поджидала карета. Однако там он обнаружил только пажа, который, вручив ему письмо и внушительных размеров шкатулку, мгновенно исчез в темноте. Это произошло так стремительно, что актер мог бы счесть случившееся плодом собственного воображения, если б в его руках не было запечатанного послания и резного ящичка. Окликнув лакея, который как раз проходил мимо с фонарем, очевидно, проводив гостей своего господина, Леандр нетерпеливо сломал печать и при мутном свете фонаря, который лакей сунул ему прямо под нос, прочитал следующие строки:
«Дорогой друг, я опасаюсь, что муж узнал меня в театре, невзирая на маску. Он так пристально смотрел в мою ложу, что я решила удалиться, дабы он не застал меня там. Разумная осторожность диктует мне, что нынче ночью нам не следует встречаться в садовом павильоне. За Вами могут следить и, упаси Господь, убить, не говоря уже о том, чем рискую я. Не теряя надежды на более благоприятные и счастливые обстоятельства, не откажитесь принять эту тройную золотую цепь, которую вручит Вам мой паж. Всякий раз, как Вы станете надевать ее, она напомнит вам ту, которая никогда не забудет и не перестанет вас любить, ту, которая звалась для вас Марией».
– Увы, вот и конец чудесному роману! – удрученно сказал себе Леандр, сунув лакею мелкую монету. – А жаль! Знали бы вы, моя восхитительная маркиза, как долго и верно я любил бы вас!.. – продолжал он уже вслух, когда слуга скрылся из виду. – Но судьба всегда неблагосклонна к тем, кто слишком счастлив. Будьте же спокойны, мадам, я не опозорю вас и буду в высшей степени скромен. Жестокий муж, проведав обо всем, не раздумывая прикончил бы меня и вонзил кинжал в вашу волшебную грудь. Но нет, не надо никаких зверств, они хороши в трагедиях, на сцене, но не в жизни. И пусть мое сердце иссохнет в тоске, но я больше не буду пытаться увидеть вас. Удовольствуюсь тем, что осыплю поцелуями каждое звено этой цепи, более прочной и весомой, чем та, что связала нас на краткий миг… Какова же ее цена? Судя по весу, не меньше тысячи пистолей! Изрядно… И разве я не прав в своем пристрастии к знатным дамам? Единственное неудобство – ублажая их, вечно рискуешь быть либо избитым, либо проткнутым насквозь. А уж если говорить правду, то это любовное приключение оборвалось очень своевременно и горевать тут не о чем.
Придя к этому выводу, Леандр бодрым шагом направился в «Герб Франции», чтобы при свечах как следует разглядеть, как сверкает и переливается всеми гранями прощальный подарок маркизы. При этом по его виду никто бы не смог заподозрить, что перед ним – неудачливый любовник, только что отправленный в отставку…
Вернувшись в свою комнату, Изабелла сразу же заметила на столе незнакомый предмет. Это был небольшой ларец, оставленный на самом видном месте, чтобы мгновенно привлечь к себе внимание. Под одним из углов ларца виднелась сложенная вчетверо записка. Содержимое, вероятно, было очень ценным, ибо и ларец восхитительно тонкой работы, покрытый эмалью с инкрустациями, мог бы считаться сокровищем. Записка не была запечатана. В ней неверной, как бы подрагивающей рукой были выведены всего два слова: «Для Изабеллы».
Краска возмущения бросилась в лицо девушки при виде подношения, которое, судя по всему, должно было стать платой за ее добродетель. Изабелла не поддалась естественному женскому любопытству и даже не коснулась крышки. Вместо этого она позвала месье Било, который еще хлопотал в кухне, стряпая ужин для компании знатных кутил, и велела ему вернуть шкатулку тому, кто ее передал, так как она не желает больше ни на минуту оставлять ее у себя.
Хозяин заведения был удивлен едва ли не больше, чем Изабелла. Он клялся и божился, что понятия не имеет о том, кто принес этот ларец и как он попал в комнату актрисы, хотя не отрицал, что догадывается, кто за этим стоит.
Месье Било говорил правду. На это раз герцог де Воллабрез воспользовался услугами старухи Леонарды, решив, что старая и опытная ведьма добьется своего там, где и сам дьявол ногу сломит. Именно она и проникла в комнату Изабеллы, воспользовавшись отсутствием девушки, и водворила на стол драгоценный ларец. Впрочем, на сей раз герцог попытался продать неходовой товар, положившись на пагубную власть драгоценных камней и золота, которой повинуются лишь слабые и низкие души.
– Возьмите этот ларец, – обратилась Изабелла к месье Било, – унесите его и верните тому, кому он принадлежит. Но убедительно прошу вас – ни слова капитану Фракассу! Я не чувствую за собой никакой вины, но, хочу я того или нет, моя репутация может пострадать.
Дядюшка Било был потрясен: молодая актриса и не взглянула на украшения, способные вскружить голову даже герцогине, с презрением отказавшись от них, словно ларец был наполнен галькой или ореховой скорлупой. Уходя, он отвесил девушке глубокий, исполненный почтения поклон – до того его поразила стойкость ее добродетели.
Едва за хозяином гостиницы закрылась дверь, как Изабелла, до крайности взволнованная случившимся, открыла окно, чтобы остудить ночной свежестью лицо, горевшее, словно в лихорадке. Сквозь голые кроны деревьев в одном из окон на темном фасаде особняка де Валломбрезов мерцал огонек – вероятно, в опочивальне раненого герцога. Улица казалась совершенно пустынной, и тем не менее девушка изощренным слухом актрисы, способным ловить подсказки суфлера, расслышала произнесенные кем-то вполголоса слова:
– Она еще и не думала ложиться!..
Гадая, что означают эти слова и кто мог их произнести, Изабелла осторожно выглянула, и ей почудилось, что у ограды напротив прячутся в сумраке две человеческие фигуры без лиц, закутанные до бровей в плащи и неподвижные, словно статуи на портале собора. А как только ее глаза окончательно привыкли к темноте, она разглядела в конце улицы еще одну фигуру – она, очевидно, стояла на страже.
Заметив девушку в окне, неизвестные исчезли – скорее всего, укрылись в более надежном месте, потому что Изабелла больше не видела их и не слышала ни звука. Устав ждать и решив, что все это ей почудилось, молодая актриса бесшумно затворила окно, заперла дверь на задвижку, поставила свечу у кровати и легла. Однако, как ни старалась она убедить себя разумными доводами, страх не проходил и уснуть она не могла. Но ведь в самом деле: чего ей бояться в людной гостинице, в двух шагах от друзей, если дверь ее комнаты заперта?.. Какое отношение могли иметь к ней тени, промелькнувшие в ночной мгле? Должно быть, это были какие-то мелкие мошенники или воришки, высматривающие добычу, которых спугнул свет в окне.
Несмотря на все здравые рассуждения, успокоиться ей так и не удавалось. Если бы не опасения, что ее засмеют, Изабелла бы встала и отправилась ночевать к одной из актрис, но Зербина была с маркизом, Серафина ее недолюбливала, а Дуэнья внушала ей брезгливость.
Итак Изабелла осталась в своей постели. Все нервы девушки были напряжены, как струны. От каждого скрипа половицы или еле слышного потрескивания фитиля оплывающей свечи она вздрагивала и натягивала на голову одеяла, боясь вдруг увидеть в темном углу какое-нибудь жуткое чудище. И лишь осмотрев комнату и не заметив ничего странного или подозрительного, она понемногу овладела собой.
В одной из стен ее комнаты под самым потолком было прорезано слуховое оконце – оно, вероятно, предназначалось для освещения глухого чулана, располагавшегося за перегородкой. В тусклых отблесках свечи это оконце на серой стене казалось гигантским зрачком, следящим за каждым движением молодой женщины. Изабелла не могла отвести взгляда от этого темного отверстия, перегороженного двумя коваными железными брусьями, сваренными крест-накрест. Пространство между ними было так мало, что никто не смог бы в него проникнуть, а значит, бояться было нечего.
Внезапно Изабелле почудилось, что в темноте за окном блеснули два человеческих глаза. Затем в проем между брусьями просунулась взлохмаченная черная голова, за которой последовала худая детская ручка. Далее с трудом протиснулись сначала одно, а потом другое плечо – и вот уже девочка лет десяти, ухватившись обеими руками за край окна, повисла, вытянувшись щуплым тельцем вдоль стены, отпустила руки и бесшумно, как падает на землю перышко, спрыгнула на пол комнаты.
Окаменевшая от ужаса Изабелла не шевелилась, из чего девочка сделала вывод, что та крепко спит. Но, приблизившись к постели, чтобы убедиться, так ли глубок сон молодой женщины, как кажется, она вдруг застыла, а на ее смуглом личике появилось выражение глубокого изумления.
– Дама с ожерельем… – пробормотала она, и ее рука невольно потянулась к бусам, мерцавшим на ее худенькой шее. – Дама с ожерельем!
Изабелла, едва живая от страха, в свою очередь, узнала девочку из таверны «Голубое солнце», которую позже видела еще раз на пути в замок Брюйер вместе с незадачливым бандитом-чучельником Огастеном. Она хотела было крикнуть, позвать на помощь, но девочка закрыла ей рот ладошкой.
– Не надо кричать! – вполголоса проговорила она. – Разве ты не помнишь, что сказала Чикита: я ни за что не перережу тебе горло! Ведь ты подарила мне то ожерелье, которое я хотела украсть.
– Но здесь-то что тебе понадобилось, несчастное дитя? – спросила Изабелла, немного придя в себя. Это немощное и истощенное существо вряд ли могло представлять серьезную опасность. К тому же маленькая дикарка явно питала к ней симпатию.
– Мне приказали отодвинуть задвижку, на которую ты закрываешься каждый вечер, – объявила Чикита. – Я же тощая и верткая, как ящерица. Нет такой щели, в которую я не пробралась бы!
– А зачем тебе велели открыть мою дверь? Чтобы что-то украсть у меня?
– Украсть? – презрительно фыркнула Чикита. – Чепуха! Это нужно, чтобы сюда могли войти мужчины и забрать тебя с собой.
– Боже правый, я погибла! – Изабелла в отчаянии заломила руки.
– Да не бойся ты – ничего такого не случится! – поспешно заверила ее Чикита. – Задвижка останется на месте, а взломать дверь они не посмеют: на шум сбегутся гостиничные слуги и схватят их. Разве они дураки?
– Но ведь я все равно начала бы кричать, звать на помощь, сопротивляться! Меня бы услышали!
– Если в рот забить кляп потуже, кричи не кричи, толку не будет. А если человека плотно завернуть в плащ, он и пальцем пошевелить не сможет! – пояснила девочка с превосходством истинного художника, посвящающего невежду в тайны своего искусства. – Это все проще простого. А еще они подкупили конюха, чтобы он отворил ворота…
– И кто же затеял эту гнусность? – спросила несчастная, с ужасом представляя, какая опасность ей в действительности грозила.
– Тот знатный вельможа, который дал Огастену деньги. Много-много денег, полные пригоршни золота! – При упоминании о золоте глаза Чикиты сумрачно вспыхнули. – Но мне на это наплевать: ты подарила мне жемчуг, и я скажу им, что ты не спала, а в комнате у тебя был мужчина. После этого они уйдут… Позволь мне еще немного поглядеть на тебя! Ты очень красивая, и я тебя люблю, очень сильно люблю, почти как Огастена… Ай! Так вот он где! – вдруг вскрикнула девочка, заметив на столе маленький складной нож, который Изабелла нашла после метели в фургоне. – Это я потеряла – мне его оставил отец. Пусть он останется у тебя – это добрая сталь. Вот, гляди сюда: чтобы лезвие крепко держалось, надо повернуть кольцо, а бить надо снизу вверх – так острие легче входит в тело… Держи его всегда при себе, но так, чтобы никто не видел. Вдруг злой человек вздумает тебя обидеть, а ты – р-раз! – и вспорешь его паршивое брюхо!..
Все эти слова девчушка подкрепляла энергичными и красноречивыми жестами.
Урок владения маленькой навахой, преподанный среди ночи полудиким ребенком из разбойничьей шайки, да и сама по себе эта жуткая до неправдоподобия ситуация показались Изабелле каким-то полуночным кошмаром, от которого никак не удается очнуться.
Чикита тем временем продолжала:
– Покрепче зажми нож в кулаке и держи вот так. И никто ничего не сможет сделать с тобой! Запомнила? А теперь я ухожу! Прощай и помни Чикиту!
Маленькая сообщница Огастена пододвинула к стене стул, взобралась сначала на сиденье, а потом и на спинку, приподнялась на носках, ухватилась за перекладину, сложилась пополам, упираясь потрескавшимися от холода босыми ступнями в стену, – и через мгновение уже была в нише слухового окна. Затем она нырнула в отверстие, через которое, казалось, не пролезет и кошка, и исчезла.
Изабелла едва дождалась рассвета, не смыкая глаз ни на мгновенье. Однако остаток ночи прошел совершенно спокойно.
Утром за завтраком вся труппа была поражена ее бледностью и болезненной синевой вокруг глаз. Но лишь после настойчивых расспросов Изабелла рассказала о том, что с ней случилось ночью. Сигоньяк пришел в полное неистовство и уже был готов по меньшей мере предать огню и мечу особняк герцога де Валломбреза и всех его обитателей. Тут особо и гадать не приходилось, кто мог решиться на столь подлое дело.
– А я считаю, – резонно возразил Блазиус, – что нам необходимо срочно упаковать декорации, погрузиться в фургон и попытаться раствориться в океане, который зовется Парижем. Дело, похоже, принимает скверный оборот.
Вся труппа согласилась с ним, и отъезд был назначен на следующее утро.
11
Пон-Неф
Было бы слишком утомительно шаг за шагом описывать весь путь, который проделала колесница комедиантов до великой столицы. Тем более что в дороге не случилось ничего, заслуживающего особого внимания. В Пуатье актеры сколотили кругленький капиталец и могли путешествовать без всяких приключений и проволочек, меняя лошадей и делая большие перегоны. В Type и Орлеане труппа задержалась, чтобы дать несколько представлений, и сборы вполне удовлетворили Тирана: как директора и казначея его в первую очередь интересовал финансовый успех.
Блазиус успокоился и даже начал посмеиваться над страхом, который внушил ему де Валломбрез. Однако Изабелла все еще трепетала, вспоминая обстоятельства неудавшегося похищения. Когда труппа останавливалась на постоялых дворах, она делила комнату с Зербиной, но и теперь ей постоянно снились зрачок слухового окна, растрепанные космы дикарки Чикиты и белозубый оскал ее улыбки. Изабелла просыпалась с криком, и подруге приходилось долго ее успокаивать.
Что касается барона де Сигоньяка, то он, внешне ничем не показывая своей тревоги, всегда старался получить комнату по соседству с той, в которой ночевали девушки. Он спал одетым, положив рядом с собой шпагу без ножен на случай ночного нападения негодяев. Днем он чаще всего шагал впереди фургона, внимательно осматривая заросли, старые руины и заброшенные хижины, где могла оказаться засада. Если же на дороге попадалась подозрительного вида группка путников, он возвращался к фургону, где располагался более внушительный гарнизон, состоявший из Тирана, Скапена, Блазиуса и Леандра, несмотря на то что Педант был стар и немощен, а первый любовник труслив, как кролик. Бывало и так, что Сигоньяк, как умудренный опытом полководец, умеющий предвосхищать коварные маневры противника, занимал место в арьергарде, ведь опасность могла появиться и оттуда.
Но все эти меры оказались излишними: никто не попытался напасть на актеров в пути. То ли герцог не успел разработать новый план, то ли, поразмыслив, совсем отказался от своих намерений, но могло быть и так, что все еще не зажившая рана ограничивала его предприимчивость.
Зима в этом году выдалась не слишком жестокой. К тому же актеры были постоянно сыты, а теплая одежда, которой они разжились у одного расторопного старьевщика, противостояла холоду более надежно, чем театральные плащи из тонкой саржи. Лишь северный ветер неумеренно разрумянивал щеки женщин, а порой не щадил и их нежных носиков. Впрочем, хорошеньким молодым женщинам все на пользу, а старухе Леонарде, чья кожа была безнадежно испорчена четырьмя десятилетиями гримировки, уже ничего не могло повредить.
И вот однажды в зимних полусумерках, часов около четырех, фургон пересек по однопролетному мосту речушку Бьевр и покатил вдоль берега Сены – прославленной реки, которой досталась честь омывать своими водами подножия королевских дворцов и множества иных зданий, известных всему миру. Дым из печных труб Парижа собрался у горизонта и образовал гряду рыжеватого полупрозрачного тумана, за который, словно багровый шар, неторопливо опускалось закатное солнце. Затем из этого марева возникли, развертываясь в величественную перспективу, лиловые очертания домов, дворцов и храмов. На противоположном берегу Сены за островом Лувье виднелись бастион Арсенала, аббатство братьев целестинцев и почти напротив него – оконечность острова Нотр-Дам. За воротами Святого Бернара зрелище стало еще более великолепным. Прямо перед путешественниками выросла серая громада собора Нотр-Дам де Пари с его контрфорсами заднего фасада, похожими на ребра Левиафана, двумя четырехугольными башнями и тонким шпилем на пересечении нефов. Колокольни поменьше поднимались над городскими кровлями, указывая местоположение других церквей и часовен, буквально втиснутых между скопищами домов, но от грандиозного здания собора Сигоньяк, никогда прежде не бывавший в Париже, буквально не мог отвести глаз.
Повозки с всевозможными съестными припасами, всадники и пешие путники, со скрежетом, грохотом и криками двигавшиеся во все стороны по набережным и прилегающим улицам, на которые, сокращая дорогу, время от времени сворачивал фургон комедиантов, оглушили и ошеломили молодого человека, привыкшего к посвисту ветра в ландах и гробовой тишине своего ветхого замка. Сигоньяку казалось, что в голове у него беспрестанно вращаются мельничные жернова, он даже слегка пошатывался, как во хмелю.
Наконец над дворцовыми фронтонами показался шпиль Сент-Шапель, капеллы, возведенной самим Людовиком Святым, и засверкал своим филигранным совершенством в последних лучах заката. Повсюду в окнах зажигались огни, расцвечивая темные фасады домов, а река отражала их на своей черной глади, превращая в шевелящихся огненных змей.
Затем на набережной выступили из полумрака очертания церкви и монастыря Великих Августинцев, а на площадке у Пон-Неф – Нового моста – Сигоньяк разглядел в сумерках смутные очертания конного памятника прославленному королю Генриху IV. Однако фургон тут же свернул на улицу Дофина, и бронзовый всадник вместе с конем скрылись из глаз.
Именно здесь, на улице Дофина, неподалеку от ворот, носивших то же название, располагалась большая гостиница, в которой случалось останавливаться даже посольствам из дальних стран. Таверна в нижнем этаже гостиницы могла вместить до сотни постояльцев. Для лошадей здесь всегда находились овес и охапка сена, а для путников – удобная постель.
Эту гостиницу Тиран и счел самой подходящей для размещения своей братии. Состояние их финансов позволяло такую роскошь – причем, роскошь далеко не бесполезную, так как она работала на престиж труппы, показывая, что в ней собрались не какие-то провинциальные мошенники, которых нищета загнала на подмостки, а настоящие мастера актерского ремесла, честно зарабатывающие на жизнь своими дарованиями.
Столовая, в которую вошли актеры, ожидая, пока им приготовят комнаты, располагалась рядом с гостиничной кухней. Но что это была за кухня! Ее размеры были явно рассчитаны на аппетит Гаргантюа или, на худой конец, его сынишки Пантагрюэля. Целые древесные стволы пылали в исполинском очаге, походившем на ад, как его изображают в знаменитых мистериях на соборной площади города Дуэ. На вертелах, расположенных в три этажа, золотились, истекая душистым жиром стаи гусей, пулярок и цыплят. Там жарились целые четверти бычьих туш, телячьи и свиные окорока, не говоря уже о всяких там куропатках, бекасах, перепелах и прочей мелочи. Поваренок, сам уже наполовину изжарившийся, хоть одет он был в один лишь холщовый фартук, поливал всю эту снедь мясным соком с помощью половника, черпая им снова и снова из противня, подставленного под вертела.
Вокруг громадного дубового разделочного стола суетился целый полк поваров и поварят. Они передавали помощникам уже нашпигованные, связанные и приправленные специями тушки птицы, а те мчали их к раскаленным, сыплющим искрами печам, похожим скорее не на кухонные, а на те, что пылают в кузнице Вулкана, да и повара в этом чаду, подсвеченном отблесками пламени, походили на кузнецов-циклопов. Вдоль стен грозно сверкали батареи кухонной утвари из красной меди и латуни: котлы и кастрюли всех размеров, жаровни для запекания рыбы, в которые можно было поместить стофунтового осетра, формы для пирогов в виде башен, куполов, пагод и сарацинских тюрбанов, – словом, все наступательные и оборонительные орудия, какими только пользуется бог гастрономии.
Из буфетной то и дело выплывала в кухню дебелая служанка, пышная и румяная, словно сошедшая с картин фламандских мастеров, неся корзины, полные овощей, фруктов и всевозможных приправ.
«Подай сию секунду мускатный орех!» – требовал один из поваров. «Щепотку корицы! И побыстрее!» – вопил другой. «Подбавь сюда перцу и гвоздики!.. Наполни солонки!.. Майоран!.. Лавровый лист!.. Ломтик свиного сала, да нарежь потоньше!.. Поддай жару – эта печь совсем остыла!.. А в этой сбрызни угли водой – так разошлась, что все сгорит… Следи за бульоном!.. Разбавь соус, смотри – слишком загустел… Белки не поднялись, взбивай их, взбивай, нечего жалеть!.. А ну-ка, обваляй этот окорок в зернах пажитника!.. Да снимите же проклятого гуся с вертела, он совсем готов!.. А ту пулярку поверни еще пару раз!.. Живее, живее, мигом давай сюда говядину! Велено, чтобы была с кровью! А телятину и цыплят ни в коем случае не трогай!.. И запомни, пострел: поварское дело – не шутка, а дар божий…. Бегом отнеси жюльен в шестой номер… Эй, кто там заказывал перепелку в тесте?..»
В этом веселом гаме распоряжения и замечания то и дело перемежались солеными остротами, прямо относящимися к тому или иному блюду, приправе, закуске или лакомству.
Тиран, Блазиус и Скапен, большие любители поесть, только облизывались, слушая эти возбуждающие аппетит речи, которые, по мнению всех троих, стоили всего краснобайства и глубокомыслия античных риторов и философов, чей пафос ничего не говорит желудку.
– Если б моя воля, я расцеловал бы в обе щеки главного повара! – заметил Блазиус. – Вы только посмотрите на него – он жирен и пузат, почище какого-нибудь аббата. И с каким величественным видом он повелевает всеми этими горшками и кастрюлями! Ни один полководец, увлеченный битвой, не может с ним сравниться!
Вскоре появился гостиничный слуга и сообщил актерам, что их комнаты готовы. И в ту же минуту в столовую вошел новый гость, сразу направившийся к очагу. Это был мужчина лет тридцати, рослый, сухопарый, весь словно свитый из жил и мускулов, с довольно неприятным выражением лица, впрочем имевшего правильные и довольно красивые черты. Отблеск пламени позволял видеть только его профиль, но и этого было достаточно, чтобы заметить зоркие и недобрые глаза, прячущиеся под далеко выступающими надбровьями, орлиный нос над густыми висячими усами, тонкую нижнюю губу и тяжелый, небрежно вылепленный природой подбородок. Простой воротник из накрахмаленного холста открывал худую шею с выпирающим кадыком, который, как говорят деревенские старухи, представляет собой четвертушку райского яблока, застрявшего в горле Адама и унаследованного кое-кем из его потомков.
Наряд незнакомца состоял из короткого темно-серого камзола, надетого поверх куртки из буйволовой кожи, коричневых панталон и войлочных сапог, собранных складками под коленями. Следы грязи на сапогах – свежие и уже засохшие – свидетельствовали, что ему пришлось проделать немалый путь, а почерневшие от крови звездочки шпор сказали бы наблюдателю, что всадник не щадил своего усталого коня. На широком кожаном поясе приезжего, туго стянутом на тонкой талии, висела длинная рапира с кованой чашкой. При нем также был темный плащ, который он вместе со шляпой небрежно бросил на первую попавшуюся скамью. Не так-то просто было определить, к какому сословию принадлежит незнакомец: он не походил ни на купца, ни на зажиточного горожанина, ни на солдата. Скорее всего, он принадлежал к тем обедневшим дворянам, которые поступают на службу к вельможам и всеми доступными способами отстаивают их интересы.
Сигоньяк, на которого вся эта кулинарная мистерия никак не действовала, с любопытством поглядывал на долговязого незнакомца, чье лицо показалось ему смутно знакомым. Однако припомнить, где и когда они могли бы встречаться, барону так и не удалось, несмотря на то что он усердно рылся в памяти. Вместе с тем некое чутье подсказывало ему, что с этим господином они сталкиваются не впервые. Подозрения эти стали еще более основательными, когда незнакомец, перехватив взгляд молодого человека, быстро отвернулся и склонился над очагом, делая вид, что греет озябшие руки.
Не припомнив ничего определенного и поняв, что более пристальное внимание к этому господину может привести к бессмысленной стычке, барон поднялся и последовал за членами труппы. Те сперва разбрелись по своим комнатам, привели себя в порядок после дороги, а затем снова сошлись в просторной столовой со сводчатыми потолками за ужином. Трапеза была обильной и сытной, и актеры, уставшие и проголодавшиеся, отдали ей должное сполна.
Блазиус знай нахваливал здешнее вино и наполнял свой стакан снова и снова, не забывая товарищей. Он был не из тех пьяниц, которые служат Бахусу в одиночку: ему нравилось пить самому не меньше, чем поить других. Тиран и Скапен, разумеется, не отставали, зато Леандр, как обычно, скромничал, так как боялся избытком спиртного повредить чистоте своего лица, что совсем ни к чему исполнителю ролей первых любовников. Ну, а барона продолжительное воздержание в замке Сигоньяк приучило к сугубой трезвости, и нарушал он это правило с большой неохотой. Помимо того, его все еще тревожило присутствие в гостинице незнакомца, показавшегося ему знакомым. Хотя что может быть более заурядным, чем появление нового постояльца в открытом для любых гостей заезжем дворе?
Обед, он же и ужин, прошел шумно. Разгоряченные отменной едой и вином, довольные тем, что наконец-то оказались в Париже – Мекке всех искателей успеха, согретые густым теплом очага после долгих дней в промозглом фургоне, актеры предавались самым невероятным фантазиям. В мечтах они уже соперничали с труппами «Бургундского отеля» и театра «Маре»[55]. Им бешено рукоплескали, их носили на руках, зазывали ко двору, они заказывали комедии и трагедии лучшим драматургам, капризничали, бранились с поэтами, пировали с вельможами и не знали, куда девать золото.
Леандру чудились блистательные любовные победы; единственное, на что он был согласен, – пощадить хотя бы честь королевы. Едва пригубив из своего стакана, он был пьян от собственного тщеславия, ибо после романа с маркизой де Брюйер окончательно уверился в своей неотразимости для дам. Серафина считала своим долго хранить верность шевалье де Видаленку лишь до той поры, пока в ее силок не угодит птица с более пышным оперением. Практичная Зербина планов не строила, решив довольствоваться своим маркизом, тем более что тот вскоре намеревался нагрянуть в Париж. Леонарде возраст не позволял принять участие в этой игре, поэтому она была всецело занята едой, выбирая самые лакомые кусочки. Блазиус с комическим усердием то и дело наполнял ее тарелку и подливал ей вина, что старуху только радовало.
Изабелла закончила есть раньше других, однако оставалась за столом. Ее руки рассеянно лепили из хлебного мякиша игрушечного голубка, а чистый и нежный взгляд, полный любви, был обращен на Сигоньяка, сидевшего напротив. Щеки девушки слегка порозовели в тепле, и этот румянец придал ее лицу невыразимую прелесть. Если бы герцогу де Валломбрезу случилось увидеть ее в ту минуту, он наверняка обезумел бы от страсти.
Барон, в свою очередь, с восхищением смотрел на девушку, чья душа была так же прекрасна, как ее лицо и тело. В то же время его терзала одна мысль. Да, Изабелла отказалась принять его руку и сердце, этому воспрепятствовала особая тонкость и деликатность ее душевного строя. Но, может быть, это не окончательно и надежда еще жива?
После ужина женщины поднялись в свои номера, так же поступили Леандр и барон, оставив троих пьяниц, чьи физиономии уже побагровели, приканчивать начатые бутылки.
– Запритесь понадежнее, – сказал Сигоньяк, проводив Изабеллу до двери ее комнаты. – Здесь полным-полно всевозможного люда, и надо принять все доступные меры предосторожности.
– Не бойтесь за меня, мой дорогой, – ответила девушка. – Дверь моя запирается не хуже, чем дверь какой-нибудь темницы. Кроме того, на окне прочная решетка и нет больше никаких отдушин или входов. Хозяевам гостиницы известно, что у постояльцев бывают ценные вещи, представляющие немалый соблазн для всевозможных мошенников, поэтому они заботятся о том, чтобы комнаты запирались наглухо. У себя я защищена лучше, чем какая-нибудь принцесса из рыцарского романа в башне, охраняемой драконами.
– Даже заклинания и волшебные талисманы оказываются бессильными, если враг изощрен и коварен, – возразил Сигоньяк.
– Такое случается только тогда, когда принцесса, соскучившись в заточении, сама поощряет похитителя или вестника любви, – с улыбкой заметила Изабелла. – Одним словом, если не боюсь я, то и вы, барон, можете быть спокойны: спите, и пусть сны ваши будут легки!
Прощаясь, девушка протянула свою нежную белую руку, и Сигоньяк благоговейно коснулся ее губами. Затем она вошла к себе, и барон услышал, как ключ дважды повернулся в замке, щелкнул язычок задвижки, после чего заскрежетал задвигаемый засов.
Удостоверившись, что дверь надежно закрыта, он отправился к себе, но не успел ступить на порог отведенной ему комнаты, как по стене коридора, слабо освещенной фонарем, скользнула мужская тень. Мужчина двигался почти беззвучно, хотя и прошел совсем рядом с Сигоньяком. Барон стремительно обернулся: это был тот самый незнакомец, которого он видел в кухне гостиницы. Вероятно, он направлялся в свою комнату, да и ничего особенно подозрительного в его поведении не было.
Тем не менее барон, сделав вид, будто никак не может попасть ключом в замочную скважину, замешкался и пристально проследил за незнакомцем, пока тот не скрылся за поворотом в дальнем конце коридора. Сразу после этого гулко хлопнула дверь, и эхо разнесло этот звук по всей затихшей ночью гостинице. Удостоверившись, что незнакомец, чей облик и повадки необъяснимо тревожили его, водворился в своих апартаментах, Сигоньяк наконец вошел к себе.
Спать ему не хотелось, и барон взялся писать своему преданному слуге Пьеру, что собирался сделать уже давно. Дело шло медленно, так как Пьер был не слишком силен в грамоте и мог читать только написанное прописными буквами. Вот это послание:
«Мой добрый Пьер! Вот я и в Париже, где, как все твердят, мне предстоит добиться многого и вернуть блеск моему роду, пришедшему в упадок. Но, честно говоря, пока я не вижу для этого никаких средств и способов. Разумеется, если случай приведет меня ко двору и мне удастся получить аудиенцию у нашего милостивейшего короля, услуги, оказанные моими предками его предкам, мне зачтутся. Его величество не допустит, чтобы род, вконец разоренный пограничными войнами, бесславно пресекся. Но пока, не имея иных средств существования, я играю на театральных подмостках и даже умудрился заработать этим ремеслом пригоршню пистолей, часть которых я вышлю тебе, как только подвернется случай. Возможно, мне стоило бы поступить рядовым солдатом в какой-нибудь полк, но я не хочу ограничивать свою свободу. Тому, чьи предки привыкли повелевать, ни от кого не получая приказов, не к лицу повиноваться даже в нищете.
Сообщаю тебе, что единственным заметным происшествием за все время нашего долгого пути стала моя дуэль с неким герцогом, человеком вспыльчивым и злонравным, хотя довольно искусным фехтовальщиком. И благодаря твоим урокам, я с честью вышел из этого поединка. Мне удалось ранить герцога в руку, хотя я мог бы без труда отправить его к праотцам, ибо он слабее в обороне, более вспыльчив, неосмотрителен и недостаточно стоек. Несколько раз он оказывался в такой позиции, что я мог бы покончить с ним с помощью одного из тех неотразимых ударов, которым ты так терпеливо обучал меня. Иными словами, твой ученик не посрамил тебя и после этой победы – в действительности, не такой уж трудной – заметно вырос в глазах общества.
Но довольно о дуэлях. Невзирая на новые впечатления, я часто вспоминаю о нашем старом замке. Отсюда он уже не кажется мне таким невзрачным и угрюмым. В иные минуты я мысленно блуждаю по его пустынным покоям, смотрю на пожухшие портреты, слышу, как хрустят под подошвами осколки оконных стекол. Эти видения доставляют мне печальную радость. С каким удовольствием я увидел бы сейчас твое смуглое обветренное лицо, которое наверняка озарилось бы улыбкой в мою честь, услышал мурлыканье Вельзевула, хриплый лай Миро и ржание бедолаги Байярда, которому, несмотря на старость, приходилось таскать меня на себе, пусть и весу во мне не так уж много. Живы ли они, наши преданные друзья, вспоминают ли они обо мне? Удается ли тебе в нашей обители нищеты уделять им хоть какие-то крохи от своего скудного стола?
Будьте мужественны и постарайтесь дотянуть до того дня, когда я вернусь к вам, – не важно, бедный или богатый, счастливый или отчаявшийся, чтобы мы вместе смогли закончить наш путь в родном краю. А если мне суждено стать последним из Сигоньяков – значит, на то воля Господа, и в усыпальнице моих предков еще достаточно свободного места. Барон де Сигоньяк».
Письмо это барон запечатал перстнем – единственной драгоценностью, которую он сохранил в память об отце. На печатке перстня были вырезаны три золотых аиста на лазурном фоне.
Из замка Сигоньяк, куда молодой человек мысленно перенесся, он снова вернулся к действительности. Время было уже довольно позднее, но за окном по-прежнему глухо шумел Париж, словно океан, который не умолкает даже тогда, когда кажется уснувшим. Слышался перестук подков по мостовой, гремели, постепенно удаляясь, колеса кареты. Запоздалый гуляка вдруг принимался горланить лихую песню, следом доносились лязг скрещенных клинков, а иной раз и вопль прохожего, которого грабили воры с Нового моста, похожий на вой бродячей собаки. В череде этих звуков Сигоньяк внезапно уловил звук шагов за дверью его комнаты. Кто-то украдкой пробирался по гостиничному коридору.
Барон погасил масляную лампу, чтобы свет его не выдал, и, немного приоткрыв дверь, заметил в дальнем конце коридора мужскую фигуру, закутанную в темный плащ. Человек этот явно направлялся в комнату постояльца, который с первого взгляда вызвал у него подозрения. Спустя короткое время еще один господин в скрипучих сапогах проследовал в том же направлении. Не прошло и четверти часа, как третий молодчик возник в неверном свете догорающего коридорного фонаря и точно так же свернул за угол. Первые двое были вооружены, и у этого ночного визитера длинная шпага оттопыривала сзади полу плаща. Лицо его барону разглядеть не удалось, поскольку его затеняла широкополая шляпа с черным пером.
Эта ночная процессия несколько озадачила Сигоньяка – кстати, ему вспомнилось, что головорезов, напавших на него ночью в Пуатье после ссоры с герцогом де Валломбрезом, также было четверо. И тут его осенило: постоялец, привлекший его внимание в гостиничной, был тем самым мерзавцем, чье нападение капитан Фракасс остановил ударом тяжелой бутафорской рапиры, нахлобучившим его шляпу чуть ли не до плеч! Остальные, скорее всего, были его подручными, которых обратили в бегство Тиран и Скапен. Кто же мог поверить, что только случайность свела их всех в гостинице, где остановилась труппа, да еще в тот же вечер, как актеры прибыли сюда? Гораздо естественней было предположить, что негодяи постоянно следовали за фургоном актеров. И хотя Сигоньяк все время был начеку, как распознаешь врага в каком-нибудь верховом, который без задержки проскакал мимо путников, бросив лишь мимолетный взгляд на странствующих комедиантов?
Одно стало совершенно очевидным: ни ненависть герцога де Валломбреза к Сигоньяку, ни его любовь к Изабелле не остыли. И обе эти страсти по-прежнему требовали удовлетворения. Бесстрашный от природы, за себя барон не боялся, не сомневаясь, что один вид его клинка обратит негодяев в бегство. Но здесь явно затевалась какая-то подлая и хитрая западня для молодой актрисы.
Поэтому барон принял меры предосторожности. Вместо того чтобы улечься в постель, он зажег все свечи, какие только нашлись в его комнате, распахнул дверь так, чтобы свет падал на противоположную сторону коридора, где находилась комната Изабеллы, а затем невозмутимо уселся в кресло, положив рядом шпагу и кинжал, чтобы в любую минуту пустить их в ход.
Время тянулось медленно, но пока ничего не происходило. Лишь когда башенные часы на колокольне монастыря Больших Августинцев пробили два часа, в коридоре послышался шорох, и затем в освещенном коридоре появился первый незнакомец, который оказался не кем иным, как Мерендолем, одним из наемников герцога де Валломбреза. Сигоньяк уже стоял на пороге своей комнаты со шпагой в руке, готовый к нападению и обороне, и вид у него при этом был настолько грозный, что Мерендоль счел за благо молча пройти мимо, не поднимая глаз от каменных плит пола. Троих его спутников, цепочкой следовавших за предводителем, яркий свет, в ореоле которого высилась фигура насмешливо подбоченившегося Сигоньяка, испугал, и они бросились наутек, причем так поспешно, что последний из негодяев выронил клещи и ломик. Этими инструментами они, очевидно, собирались взломать дверь комнаты капитана Фракасса, когда он уснет. Барон расхохотался, помахал рукой им вслед, а вскоре во дворе послышался стук копыт лошадей, которых выводили из конюшни. Четверо каторжников, снова потерпевших неудачу, уносили ноги.
За завтраком Тиран спросил у Сигоньяка:
– Любезный капитан, неужели в вас нет ни капли любопытства? Ведь вы находитесь в одном из величайших городов мира, о котором рассказывают столько же правды, сколько и небылиц. Не желаете ли вы хоть немного осмотреться в Париже, а я, если не возражаете, могу служить вам проводником и кормчим в этом бурном море, полном мелей, подводных скал и чудовищ, смертельно опасных для чужеземцев и простодушных провинциалов. Я жил здесь еще в отрочестве, и знаю Париж как собственную ладонь. Взять хоть Новый мост, что находится по соседству: он то же самое для Парижа, что Священная дорога для Древнего Рима, – место прогулок, встреч и диспутов для зевак, переносчиков новостей и сплетен, поэтов, жуликов, карманных воришек, фокусников, куртизанок, дворян, горожан, солдат и прочего люда.
– С удовольствием приму ваше предложение, – ответил Сигоньяк, – но прежде надо попросить Скапена, чтобы он оставался в гостинице и зорко следил за всеми подозрительными прохожими и проезжими. А главное, пусть не спускает глаз с мадемуазель Изабеллы! Люди де Валломбреза рыщут вокруг, изобретая средства расправиться с нами. Этой ночью я нос к носу столкнулся в коридоре гостиницы с теми четырьмя негодяями, которых мы проучили в Пуатье. Очевидно, они намеревались взломать дверь моей комнаты и расправиться со мной. Но я не спал, так как заметил их главаря еще раньше, и план их провалился. Обнаружив, что их опознали, эти мерзавцы бросились на конюшню, где их лошади стояли оседланными под предлогом того, что они уезжают на рассвете, и покинули гостиницу.
– Ну, не думаю, чтобы они отважились на какую-нибудь выходку среди бела дня, – пробасил Тиран. – В гостинице слуги подоспеют на помощь по первому зову. К тому же они, я полагаю, еще помнят ту давнюю трепку. Скапен, Блазиус и Леандр будут охранять Изабеллу до нашего возвращения. А на случай какой-нибудь стычки на улице я прихвачу и свой клинок!
С этими словами он перекинул через могучее плечо перевязь и пристегнул к поясу тяжелую, видавшую виды рапиру. Затем тиран облачился в короткий плащ, не стесняющий движений, а шляпу с красным пером нахлобучил до самых бровей. На вопрос, почему он так обращается с головным убором, Тиран ответил, что, проходя по парижским мостам, следует остерегаться северного или северо-западного ветра, который вмиг подхватит и швырнет шляпу в воду, вызвав хохот пажей, лакеев и уличных мальчишек.
Едва они покинули гостиницу, как на углу улицы Дофина Тиран обратил внимание Сигоньяка на толпу людей под портиком монастыря Больших Августинцев. Эти люди скупали мясо, конфискованное у мясников, торговавших в постные дни, вопили и толкались, чтобы получить кусок получше. Чуть подальше толпились знатоки политики, рассуждающие о судьбах империй, перекраивающие на свой лад границы, разделяющие и завоевывающие на словах целые страны, и передающие содержание речей министров, произнесенных за закрытыми дверями. Там мелькали газеты, из рук в руки переходили брошюры, памфлеты и сатирические листки, и все эти странные и довольно скверно одетые люди с испитыми лицами бурно жестикулировали и гримасничали, словно помешанные.
– Не стоит здесь задерживаться, – заметил Тиран, – и выслушивать всякую вздорную болтовню – разве что вас интересует, какой последний указ издан персидским шахом или какой церемониал установлен в Ватикане при дворе Папы Иоанна. Лучше пройдемся немного вперед и полюбуемся одним из прекраснейших пейзажей на земле – из тех, какие невозможно воспроизвести на сцене.
И действительно, перспектива, открывшаяся глазам Сигоньяка сразу после того, как они миновали арку, переброшенную через узкий речной рукав, не имела себе равных. На переднем плане располагался Пон-Неф – Новый мост – с его изящными полукруглыми выступами над каменными опорами. Он не был, подобно остальным четырем парижским мостам, загроможден по обе стороны лавчонками и строениями. Великий король, при котором Новый мост был возведен[56], не хотел, чтобы эти убогие и угрюмые строения закрывали вид на дворец, в котором издавна обитают правители Франции, ибо с этого места Лувр открывается во всей своей красе.
На площадке у оконечности острова Ситэ высилась статуя – отважный и добрый король Генрих гарцевал на бронзовом коне, водруженном на постамент. Постамент был окружен богато орнаментированной кованой решеткой, защищавшей цоколь памятника от непочтительных выходок черни. Ибо не раз беспризорные мальчишки забирались на постамент и даже пристраивались в седле позади невозмутимого монарха, откуда можно было беспрепятственно глазеть на парадные выезды знати или какие-нибудь выдающиеся казни. Каждая деталь памятника была отчетливо видна на фоне далеких холмов левого берега Сены.
Там над крышами домов возносился шпиль старинной романской церкви Сен-Жермен-де-Пре и виднелись острые кровли большого, но все еще не достроенного особняка Невера. Чуть дальше уходила подножием в реку древняя Нельская башня – последний остаток средневековой крепостной стены Парижа. Невзирая на ветхость, она поражала своими гордыми очертаниями, а позади в голубоватой дымке виднелись предместье и три креста на вершине Мон-Валерьен.
На правом берегу великолепно раскинулся Лувр, весело освещенный солнцем – скорее ярким, чем теплым, как и подобает светилу в зимнее время, зато придающим особую рельефность деталям затейливой и тем не менее благородной архитектуры дворца. Длинная галерея, соединяющая Лувр с дворцом Тюильри, окруженным садами, позволяла королю попеременно находиться то в городе, то на лоне природы. Своим несравненным изяществом, великолепными скульптурами, лепными карнизами и выступами, колоннами и пилястрами галерея эта могла бы соперничать с самыми выдающимися творениями греческих и римских зодчих.
Начиная от угла, где располагался балкон Карла IX, здание как бы отступало от берега, чтобы дать место садам и постройкам помельче, которые, словно грибы у подножия могучего дерева, толпились вокруг старого дворца. Немного ниже Нельской башни виднелась еще одна башня, сохранившаяся от дворца времен Карла V и по-прежнему стоявшая между рекой и дворцом. Эти две древние башни, расположенные наискось друг от друга, делали панораму еще более живописной и напоминали о далеком Средневековье – словно антикварные кресла или старинный резной сундук, реликвии предков, стоящие среди роскошной новомодной мебели, сверкающей серебром и позолотой.
В конце сада Тюильри, там, где уже кончается Париж, были видны ворота Конференции, а дальше вдоль реки тянулся обсаженный деревьями Кур-ля-Рен – променад, облюбованный для прогулок придворной знатью, щеголяющей здесь своими роскошными выездами.
Оба берега Сены – левый и правый – словно кулисы обрамляли русло реки, которое само по себе представляло яркое зрелище. Во всех направлениях сновали лодки, барки и мелкие парусники, у берегов на приколе стояли ряды барж, груженных сеном, зерном, дровами, древесным углем и прочим товаром. У набережной Лувра были пришвартованы королевские галиоты, украшенные резьбой и позолотой, над ними полоскались стяги и вымпелы цветов национального флага.
Ближе к Новому мосту над остроконечными коньками кровель возвышалась колоколенка церкви Сен-Жермен-л’Осеруа, чьи колокола по приказу Екатерины Медичи подали сигнал к началу истребления гугенотов в Варфоломеевскую ночь – 24 августа 1572 года.
Когда Сигоньяк вдоволь налюбовался этой картиной, полной бесчисленных подробностей, Тиран повел его к «Ля Самаритэн». Туда обычно сбегаются окрестные зеваки и подолгу ждут, пока железный звонарь, приводимый в движение сложным гидравлическим устройством, начнет отбивать время. Но путешественнику, впервые оказавшемуся в Париже, не грешно и поротозейничать. Оба – барон и его спутник – некоторое время переминались с ноги на ногу в ожидании, пока раздастся веселый перезвон курантов, и разглядывали позолоченные скульптуры Христа, беседующего с Самаритянкой у колодца, а также пояс Зодиака с шаром из черного дерева в центре, указывающим положения Солнца и Луны, и еще одну полую статую на самом верху башенки, служащую флюгером.
Наконец стрелка добралась до цифры «десять». Колокольчики залились серебром, им вторили большие колокола, выпевая мелодию сарабанды. Железный звонарь поднял руку, и его молоток отсчитал десять веских ударов по бронзовому диску. Этот хитроумный механизм, построенный фламандцем Линтлаэром, изрядно позабавил Сигоньяка. Барон не имел ни малейшего представления о многих технических новинках того времени, поскольку еще ни разу в жизни не покидал своей усадьбы, затерянной в глуши Гаскони.
– Теперь поглядим в другую сторону, – пробасил Тиран. – Вид там не столь великолепен, потому что постройки на мосту Менял ограничивают кругозор, а здания на набережной Межиссери не стоят ни единого доброго слова. Зато башни церкви Сен-Жак, колокольня Сен-Мерри и шпили дальних церквей сразу дают понять, что вы в столице. Здания, возвышающиеся на острове Ситэ и вдоль главного русла Сены величавы, а их кирпичные фасады словно связаны воедино сплошным поясом из белого камня. И как удачно замыкает их Часовая башня с ее островерхой кровлей, по вечерам прорезающей мглу небес! А треугольная площадь Дофина, которая как бы размыкается напротив бронзового короля и открывает взгляду ворота дворца, – разве не по праву она слывет одной из красивейших в Европе? А церковь Сент-Шапель, возведенная как хранилище священных реликвий и славящаяся на весь мир своими великолепнейшими витражами, – как стройно возносит она свой шпиль над черепичными кровлями со множеством мансард и слуховых окон, обрамленных затейливыми наличниками! И все это сверкает новизной, блестит свежими красками, но удивляться тут нечему – все эти здания построены совсем недавно, мальчишкой я играл с приятелями в бабки на пустырях, где они теперь стоят. Благодаря щедрости королей Париж день ото дня становится все краше, вызывая изумление чужеземцев, которые, вернувшись домой, рассказывают всякие чудеса о столице Франции, а приезжая снова, находят Париж выросшим и еще более похорошевшим.
Сигоньяк улыбнулся и слегка пожал плечами:
– Меня, любезный Тиран, не так удивляют величина, богатство и пышность дворцов и храмов, как неисчислимые толпы людей, снующих по улицам, площадям и мостам. Они словно муравьи в потревоженном муравейнике, и в этой беспорядочной суете невозможно понять, какую цель преследует каждый из них. С трудом верится, что у каждого из этого несметного множества есть крыша над головой, постель – не важно, плохая или хорошая, и пища на каждый день, чтобы не умереть с голоду. Какая требуется масса съестного, сколько гуртов скота, кулей муки и бочек вина, чтобы прокормить всех этих людей, собравшихся в одном месте, тогда как в ландах можно скакать целый день и за это время встретить одного, а реже двух человек!
Скопление парижан на Новом мосту и в самом деле могло поразить человека из провинции. Мост был так широк, что на нем могли разъехаться шесть конных экипажей. Края моста были предоставлены пешеходам, а посередине вереницами тянулись в обе стороны кареты, запряженные парой или четверней. Одни – лакированные и позолоченные, обитые внутри бархатом, с зеркальными стеклами, хрустальными фонарями, гербами на дверцах и ливрейными лакеями на запятках – мерно покачивались на мягких рессорах. Сытые краснолицые кучера едва сдерживали в толчее прыть своих рысаков. Другие, чьи хозяева имели более скромный достаток, выглядели далеко не так импозантно: облупившийся лак, кожаные занавески, скверные рессоры и неповоротливые лошадки, которых то и дело приходилось подбадривать кнутом. В одних восседали пышно разодетые придворные и сверкающие украшениями дамы; в других тряслись адвокаты, нотариусы, медики и прочие ученые мужи. Иногда среди карет втискивались повозки, груженные камнем, строительным лесом или бочонками с вином или соленой рыбой, и при каждой заминке возчики с сатанинской яростью принимались поносить имя божье. В этом движущемся и гудящем лабиринте лавировали верховые, но с каким бы искусством они ни правили, ступицы высоких колес, смазанные дегтем, неизбежно пачкали их сверкающие сапоги.
Портшезы и носильщики старались держаться ближе к парапету, чтобы их не увлек за собой общий поток. Когда же через мост гнали стадо рогатого скота, хаос достигал предела. Быки в ужасе метались из стороны в сторону, наклоняя могучие головы к земле и стремясь избежать палок погонщиков и укусов пастушьих собак. Лошади, завидев их, шарахались и норовили встать на дыбы, пешеходы бросались врассыпную, спотыкаясь о собак и падая носом в грязь. Одна дама, накрашенная и нарумяненная, сплошь в мушках, стеклярусных блестках и огненного цвета бантах, несомненная жрица Венеры, вышедшая на промысел, поскользнулась на высоких каблуках и рухнула навзничь, вызвав хохот здешних зубоскалов, которые лишь с трудом придали ей вертикальное положение. Ну а если на мосту появлялся отряд дворцовой гвардии, направляющийся на смену прежнему караулу, с развернутым знаменем и с барабанщиком во главе, тут уж волей-неволей толпе приходилось потесниться – сыновья Марса не считаются с препятствиями.
– Это здесь дело самое обычное, – пояснил Тиран Сигоньяку, которого всецело захватило столь необычное зрелище. – Сейчас мы выберемся из этой мясорубки и отправимся к тому месту, где обитают самые необычные завсегдатаи Нового моста, эти фантастические персонажи, к чьим странностям стоит приглядеться. Ни один город в мире, за исключением Парижа, не знает таких чудаков. Они словно вырастают между камнями мостовой подобно цветам или, вернее, грибам, для которых нет более благоприятной почвы, чем городская грязь… Ага! Вот и дю Майе, уроженец Перигора по прозвищу «Поэт с помойки», явился на поклон к бронзовому королю. Кое-кто считает, что это не человек, а обезьяна, удравшая из зверинца, но лично я, судя по его тупости, наглости и нечистоплотности, все-таки считаю его человеком. Обезьяны ищут на себе насекомых, а дю Майе такими хлопотами себя не утруждает; при этом желудок у него всегда так же пуст, как и голова. Подайте ему милостыню, и он примет ее, бранясь и проклиная вас. И это еще одно подтверждение, что он человек, ибо он не только грязен и неразумен, но, вдобавок, неблагодарен!..
Сигоньяк протянул поэту мелкую монетку; тот, по обычаю людей с причудливым характером и поврежденным рассудком, сперва как бы не заметил стоявшего перед ним барона, затем вдруг стряхнул с себя оцепенение, судорожным жестом схватил монету и опустил в карман, проворчав невнятное проклятие. И тут же им снова овладел демон стихотворства: чудак начал шевелить губами, свирепо вращать глазами и корчить зверские гримасы вроде тех, какие строитель Нового моста Жермен Пилон изобразил в виде масок под его карнизом; при этом он прищелкивал пальцами, отмеряя стопы стихов, и бормотал сквозь зубы, потешая обступивших его ребятишек.
Одет этот рехнувшийся поэт был еще несуразнее, чем чучело Карнавала, когда в первый день Великого поста его волокут сжигать на костре. Пугала в виноградниках, с помощью которых отваживают от ягод прожорливых скворцов, могли бы показаться рядом с ним светскими щеголями. Выглядел он так, будто железный звонарь с «Ля Самаритэн» напялил на себя содержимое короба старьевщика. Вылинявшая от солнца и дождей ветхая шляпа, пропотевшая насквозь у основания тульи, больше походила на аптечную воронку, чем на головной убор. Обвисшие и засаленные поля доходили до бровей поэта, вынуждая его без конца задирать нос, чтобы хоть что-нибудь видеть вокруг. Камзол из неописуемой ткани и такого же неописуемого цвета расползался по всем швам, ибо был старше праотца Мафусаила. Полоска грубого сукна исполняла роль пояса и перевязи, а на ней болталась рапира, концом волочившаяся по камням мостовой. Желтые атласные штаны, некогда служившие какому-нибудь балетному танцору, были заправлены в сапоги, причем один сапог был черный и кожаный, вроде тех, какие носят рыбаки и ловцы устриц, а другой – белый, сафьяновый, с наколенником. Впрочем, у этой обуви было и кое-что общее: подошвы давным-давно покинули бы ее, если б не тонкая бечевка, которой были обмотаны внизу оба сапога наподобие ремешков античных котурн. Накидка из баркана[57], одна и та же в любое время года, довершала наряд, которым побрезговал бы последний нищий. Из складок накидки, под которой был пришит солидных размеров карман, торчала половина каравая хлеба.
Далее на одном из полукруглых выступов над опорами моста слепец, которого сопровождала невообразимо толстая женщина-поводырь, гнусавил скабрезные куплеты, а если это не действовало на публику, затягивал на комически-скорбный лад заунывную балладу о жизни, бесчисленных злодеяния и позорной смерти какого-то знаменитого разбойника. В двух шагах от него уличный лекарь-шарлатан в балахоне из красной саржи, размахивая козьей ножкой[58], прыгал по помосту, украшенному гирляндами клыков, резцов и коренных зубов, нанизанных на медную проволоку, выкрикивая, что готов без боли (во всяком случае для себя) удалить самые крепкие и неподатливые больные зубы всеми известными способами. «Я не рву их, господа, – вопил он, – я срываю их, как маргаритки! Ну-ка, кто посмелее? Не бойтесь, выходите сюда, я мигом исцелю вас от адских мучений!»
Какой-то мастеровой с раздутой щекой наконец поднялся на помост и уселся на стул. Зубодер тут же запустил в его рот зловещие щипцы из полированной стали. Но вместо того, чтобы держаться за поручни, бедолага потянулся за щипцами, и в результате был поднят фута на два над стулом, чем лишний раз позабавил зрителей. Финальный рывок увенчал пытку, и зубодер торжествующе поднял над головами зрителей свой окровавленный трофей.
Толпа хохотала, потому что пока продолжалась операция, маленькая обезьянка, прикованная к помосту цепочкой, соединенной с кожаным ошейником, невероятно комично передразнивала все движения, вопли и конвульсии несчастного пациента.
Впрочем, это зрелище не слишком заинтересовало Тирана и Сигоньяка – они предпочли порыться в товаре продавцов газет и букинистов, расставивших свои лотки вдоль парапета. Здесь Тиран указал спутнику на нищего в рубище, который восседал по ту сторону парапета на карнизе моста, положив рядом костыль и тыча свою пропыленную шляпу под нос тем прохожим, которые останавливались у парапета перелистать книгу или полюбоваться течением реки. Кое-кто даже бросал ему медную, а то и серебряную монетку.
– В наших краях, – заметил Сигоньяк, – на карнизах живут только ласточки, а здесь, оказывается, и люди!
– Назвать этого проходимца человеком, пожалуй, будет слишком, хотя Господь не велит нам никого презирать. Здесь на мосту можно встретить кого угодно, в том числе и людей приличных, к которым я отношу нас с вами. Однако пословица недаром гласит, что мост не перейти, не встретив монаха, белую лошадь и шлюху… Ба, а вот и один из долгополых спешит нам навстречу, шлепая сандалиями! Видно, и лошадь где-нибудь неподалеку… Да вот же она, право слово, – видите, белая кляча выделывает ногами курбеты, словно на манеже. Теперь недостает только куртизанки, хотя и эту долго ждать не придется. Ага, вместо одной шествуют сразу три: грудь оголена, румяна в три слоя, как деготь на колесе, и хохочут во всю глотку, показывая зубы. Пословица не лжет, ей-богу!..
Внезапно с дальнего конца моста послышались яростные крики, и толпа шарахнулась туда. У подножия памятника, на единственном месте, остававшемся свободным, какие-то бретеры сражались на рапирах. Они бешено атаковали друг друга, издавая хриплые возгласы, но в действительности все эти выпады и сшибки напоминали театральные дуэли, где никого не ранят и не убивают. Сигоньяк мгновенно это определил опытным взглядом. Бретеры сражались двумя парами, не обращая внимания на попытки секундантов разъединить их, но в действительности вся эта свалка имела одну цель: собрать вокруг как можно более густую толпу, чтобы ворам-карманникам легче было в ней орудовать. Так оно и вышло: не один зевака сунул нос в это столпотворение с набитым кошельком и в богатом плаще на плечах, а выбрался из нее в одном камзоле и без гроша в кармане. Тем временем бретеры, действовавшие по сговору, опустили оружие, пожали друг другу руки и объявили во всеуслышание, что их честь удовлетворена. Что было несложно: честь у таких вертопрахов не слишком чувствительна.
Тиран предупредил барона не приближаться к дуэлянтам, поэтому он видел их лишь в просветах между головами и плечами зевак. И однако не без удивления узнал в этих проходимцах ту самую четверку, чьи маневры ему довелось наблюдать минувшей ночью. Сигоньяк тут же поделился своим открытием с Тираном, но бретеры успели смешаться с толпой, где отыскать их было труднее, чем иголку в стоге сена.
– Я не исключаю, – предположил Тиран, – что и дуэль эта была затеяна для того, чтобы привлечь сюда вас. Полагаю, шпионы герцога де Валломбреза неотступно следуют за нами. Один из бретеров мог сделать вид, что ему мешает ваше присутствие и, даже не дав вам обнажить шпагу, как бы невзначай нанес бы вам удар клинком, а его сообщники, если бы рана оказалась не смертельной, прикончили бы вас на месте. Все было бы списано на пустяковую ссору, и никто не смог бы доказать, что за ней кроется продуманная ловушка.
– У меня вызывает отвращение даже мысль о том, что высокородный дворянин способен на такую низость, как устранение соперника руками наемников! – возмутился Сигоньяк. – Если он не удовлетворен одним поединком, я готов снова скрестить с ним шпагу и сражаться до тех пор, пока один из нас не падет замертво. Так поступают люди чести!
– Это верно, – подтвердил Тиран. – Но герцог, несмотря на свою слепую гордыню, лучше кого-либо понимает, что исход поединка станет для него роковым. Он уже отведал вашей шпаги и знает, каковы вы в поединке. Не сомневаюсь, что поражение вызвало у него адскую злобу и он не будет задумываться о том, насколько благородны способы его мести.
– Что ж, если он опасается фехтовать, мы можем драться верхом на пистолетах, – пожал плечами Сигоньяк. Тогда ему не придется ссылаться на мое превосходство.
Продолжая рассуждать, барон и его спутник достигли Университетской набережной, где внезапно возникшая из-за угла карета едва не раздавила Сигоньяка, хоть он и успел прижаться к стене. Лишь благодаря его худобе он не был расплющен кузовом кареты, тогда как вся остальная мостовая была совершено свободна и кучер, лишь слегка пошевели вожжами, мог обогнуть прохожего. Складывалось впечатление, что это было сделано умышленно.
Красные занавески в карете были опущены, стекла в дверцах подняты, но если бы кому-нибудь удалось заглянуть внутрь, пока карета стремительно проносилась мимо, он обнаружил бы в ней великолепно одетого вельможу с рукой, подвязанной черным шелковым шарфом. Несмотря на багровый отсвет от задернутых занавесок, этот человек выглядел чрезвычайно бледным, высокие дуги бровей вырисовывались на матовой белизне его лица так, словно были наведены тушью. Ровные белые зубы до крови прикусили нижнюю губу, а тонкие нафабренные усы топорщились, как у леопарда, зачуявшего добычу. Молодой вельможа был безукоризненно красив, но лицо его, жестокое и бездушное, внушало ужас, и в особенности в те минуты, когда оно было искажено злобой и низкой страстью. По этому портрету всякий, разумеется, сумел бы узнать герцога де Валломбреза.
«Проклятье! Снова неудача! – бормотал герцог, пока карета уносила его от Тюильрийского сада к воротам Конференции. – А ведь я посулил кучеру двадцать пять луидоров, если он как бы нечаянно зацепит этого дьявола Сигоньяка! Положительно, звезды не на моей стороне и ничтожный баронишка берет верх! Изабелла обожает его и ненавидит меня. Он избил моих людей и ранил меня. И все-таки, даже если он заключил договор с самим сатаной или его хранит какой-нибудь колдовской талисман, Сигоньяк умрет – или я лишусь чести, имени и титула!
– Хм-хм! – Тиран откашлялся и глубоко вздохнул широкой грудью. – Сдается мне, что кони, впряженные в эту карету, – отдаленные потомки коней царя Диомеда, которые топтали людей, рвали их зубами на части и пожирали человечину. Вы не ранены, барон? Скотина кучер отлично видел вас, и я готов биться об заклад на весь наш сбор, что он сознательно направлял на вас упряжку, стремясь сбить с ног и раздавить! Что это – снова месть? Не заметили ли вы герб на дверцах? Как дворянин, вы должны разбираться в геральдике, а уж гербы самых видных родов должны быть вам знакомы не хуже собственного!
– Думаю, не смогу вам ничего ответить, – покачал головой Сигоньяк. – В таком положении даже королевский герольд не запомнил бы ни цветов, ни формы щита, ни уж тем более эмблем. Я был занят одним – как бы увернуться от этой махины и избежать гибели, и мне не было дела до того, украшена ли она львами, леопардами, орлами, крестами, мечами и прочими символами.
– Экая досада! – почесал в затылке Тиран. – А ведь таким путем мы могли бы нащупать след и распутать паутину черных козней, которые плетут вокруг вас, ибо не остается сомнений, что от вас намерены избавиться quibuscumque viis[59], как сказал бы наш Блазиус. Хотя прямых доказательств у нас на руках нет, я нисколько не удивился бы, узнав, что эта плохо управляемая карета принадлежит герцогу де Валломбрезу, который пожелал развлечься, прокатившись по трупу своего врага.
– Я не могу смириться с подобной мыслью, месье Тиран! – возмутился Сигоньяк. – Такой подлый поступок слишком низок для высокородного дворянина, каким, вопреки всему, остается де Валломбрез. Вспомните, когда мы покидали Пуатье, он оставался в своем особняке, поскольку еще не оправился от раны. Как он мог оказаться в Париже, если мы только вчера прибыли сюда?
– Вы забываете о том, что мы на несколько дней задержались в Орлеане и Type, давая представления, а герцогу с его породистыми скакунами ничего не стоило не только догнать, но и далеко опередить нас. Что касается его раны, то она далеко не так серьезна, чтобы молодой человек, полный сил, не мог путешествовать в покойной карете или в портшезе. Словом, любезный капитан Фракасс, вы должны быть настороже – вас снова и снова будут пытаться заманить в западню или прикончить, обставив все дело как несчастный случай. А если вы погибнете, Изабелла останется совершенно беззащитной перед герцогом и его посягательствами. Разве бедные актеры в силах сопротивляться воле столь могущественного вельможи? Но даже если самого де Валломбреза еще нет в Париже, его пособники уже здесь: разве вам не пришлось бодрствовать всю минувшую ночь с оружием в руках? И благодарите свою наблюдательность, иначе они просто перерезали бы вам горло прямо в постели…
Выводы Тирана были слишком убедительны, чтобы спорить с ними. Поэтому барон только кивнул и наполовину выдвинул из ножен клинок шпаги, чтобы убедиться, легко ли она в них ходит.
Так, продолжая беседу, они миновали Лувр и Тюильри, а у ворот Конференции, ведущих на променад Кур-ла-Рен, внезапно увидели перед собой плотное облако пыли, сквозь которое блестело оружие и сверкали кирасы гвардейцев. Барон и актер посторонились, чтобы пропустить конный отряд, мчавшийся впереди золоченой кареты: король возвращался из замка Сен-Жермен в Лувр. Стекла на дверцах были опущены, занавески раздвинуты, чтобы народ мог видеть монарха, властителя его судеб.
Сигоньяк и Тиран также увидели в глубине кареты этот бледный призрак в черном бархате с голубой лентой через плечо, неподвижный, как восковая фигура. Длинные темные волосы обрамляли мертвенное лицо, несущее на себе печать ядовитой скуки – такой же, какой томился испанский король Филипп II в безмолвии и безлюдье своего дворца Эскориал. Глаза Людовика, казалось, не видят окружающего, в них не было ни желаний, ни мыслей, ни проблесков воли. Брезгливо оттопыренная нижняя губа – родовая черта всех Бурбонов – выражала глубокое отвращение ко всему сущему. Худые белые руки с длинными пальцами неподвижно лежали на острых коленях, как у изваяний египетских богов. И все же в фигуре этого человека, который олицетворял Францию, в чьих жилах все еще сохраняла тепло горячая кровь Генриха IV, ощущалось королевское величие.
Карета вихрем пронеслась мимо, за ней проследовал еще один конный отряд, замыкавший эскорт.
Эта недолгая сцена заставила Сигоньяка глубоко задуматься. В своем простодушии он представлял себе короля существом почти сверхъестественного могущества, окруженным сиянием золота и драгоценных камней, гордым, величавым, прекраснейшим из смертных. И что же он увидел в действительности? Хрупкого, печального, скучливого, болезненного, едва ли не вызывающего жалость человека, одетого в цвета траура и так глубоко погруженного в мрачные размышления, что окружающий мир для него словно и не существовал вовсе.
«Невероятно! – мысленно восклицал барон. – Значит, вот он каков, король, чьей милостью и волей живы миллионы подданных, тот, кто восседает на самой вершине власти, к кому тянутся тысячи умоляющих рук, по чьей воле начинают греметь или умолкают пушки, кто возвышает и карает, осыпает щедротами, прощает осужденных на казнь и даже одним словом может изменить любую судьбу? Если бы его взгляд хоть однажды остановился на мне, я навек распростился бы с нищетой, из безвестного дворянчика стал бы человеком, окруженным лестью и поклонением! Разрушенные башни замка Сигоньяк воздвиглись бы заново, и я снова стал бы хозяином над бескрайними лугами и пашнями, утраченными моими предками. Но как я могу рассчитывать на то, что король когда-нибудь заметит меня в этом человеческом муравейнике, который копошится у его ног? И даже если он увидит меня, то что может нас связать с подобным человеком?»
Сигоньяк так сосредоточился на этих мыслях, что долгое время шел рядом с Тираном, не произнося ни слова. А тот, не желая нарушать его задумчивость, глазел на великолепные экипажи, катившиеся по променаду. И лишь спустя полчаса он решился напомнить, что время близится к полудню и пора бы взять курс на суповую миску, ибо на свете нет ничего хуже остывшего обеда, кроме, разве что, обеда разогретого.
Сигоньяк с улыбкой согласился с этой сентенцией, и оба направились к гостинице. За те два часа, пока они отсутствовали, здесь не произошло ничего примечательного. Изабелла уже сидела в столовой за тарелкой крепкого бульона, и при виде Сигоньяка с приветливой улыбкой протянула ему руку. Остальные члены труппы засыпали их вопросами о впечатлениях от прогулки, попутно шутливо осведомляясь, целы ли их плащи и кошельки. Сигоньяк, посмеиваясь, подтвердил, что целы, но не раз подвергались опасности. Веселая болтовня актеров немного развеяла его тревожные мысли, и в конце концов он уже был готов списать все свои подозрения на чрезмерную мнительность…
Но в действительности барон был совершенно прав. Его недруги, несмотря на ряд неудачных попыток, вовсе не намеревались отказаться от своих гнусных намерений. Да им и отступать было некуда: герцог пригрозил Мерендолю, что если он не покончит с Сигоньяком, то без промедления вернется обратно на каторжные галеры, откуда и был извлечен самим же де Валломбрезом.
От отчаяния Мерендоль решил прибегнуть к помощи своего старого приятеля – бретера, не гнушавшегося грязными делишками, лишь бы те были солидно оплачены. Сам Мерендоль уже не надеялся справиться с Сигоньяком, который знал его в лицо и был начеку, а это лишало бандита возможности подобраться к барону вплотную. В поисках знакомого головореза он и отправился на площадь Нового Рынка – в район Парижа, пользовавшийся самой дурной славой и населенный в основном наемными убийцами, грабителями, мошенниками, ворами и прочими темными личностями.
Отыскав среди покосившихся и закопченных домов, подпиравших друг друга, как набравшиеся пьянчуги, которые боятся упасть, самый закопченный, облупившийся и грязный, Мерендоль вступил в неосвещенный проход, ведущий в сумрачные недра этой трущобы. Чем дальше бандит углублялся, тем меньше становилось света, потому что проникал сюда он только с улицы. Вскоре свет совсем исчез, и пришлось двигаться на ощупь, касаясь влажных осклизлых стен, пока под руку Мерендолю не попалась засаленная веревка, заменявшая здесь перила. Он кое-как поднялся по лестнице, грозившей рассыпаться под ногами, перебираясь через груды мусора на каждой ступеньке, которые копились здесь, должно быть, с тех времен, когда Париж назывался Лютецией[60].
По мере этого рискованного восхождения мрак мало-помалу рассеивался. Мутный свет сочился сквозь желтые стекла окошек, пробитых в стене, чтобы освещать лестницу. Так, задыхаясь от смрада помойных ведер, Мерендоль наконец добрался до верхнего этажа. Две или три двери выходили на площадку лестницы, оштукатуренный потолок которой был сплошь покрыт скабрезными рисунками и надписями непристойного содержания, сделанными свечной копотью. Впрочем, живопись была вполне достойна архитектуры этого вертепа.
Одна из дверей оказалась приоткрытой. Не желая прикасаться к ней, Мерендоль пнул ее ногой и без всяких церемоний оказался в апартаментах бретера Жакмена Лампура, состоявших из одной комнаты.
Немедленно в его легкие проник едкий дым, и Мерендоль так раскашлялся, что пару минут не мог произнести ни слова. Дым тут же воспользовался распахнутой дверью и пополз на лестницу, в комнате стало легче дышать, и посетитель наконец-то смог осмотреться.
Это логово стоит описать немного подробнее, ибо вряд ли читателю доводилось хоть раз бывать в подобных местах.
Главную меблировку комнаты составляли ее четыре стены. Дождевая вода, проникающая с крыши, покрыла их разводами в виде неведомых островов и рек, каких не сыскать ни на одной карте. Прежние владельцы этой норы развлекались тем, что повсюду, куда только могли дотянуться, вырезали и выцарапали свои нелепые прозвища, движимые общим для самых ничтожных и безвестных людишек стремлением оставить хотя бы таким способом след в подлунном мире. К мужским именам часто примыкали женские, над которыми красовалось сердце, смахивающее на брюкву, пронзенное стрелой, похожей на рыбий хребет. Некоторые из тех, кто более тяготел к изящным искусствам, пытались добытыми из камина угольками изобразить некий карикатурный профиль с трубкой в зубах или висельника с вывалившимся языком, болтающегося на веревке.
В камине шипели и дымились сырые ворованные дрова, а каминная полка была уставлена самыми случайными предметами. Там имелись пыльная бутылка с огарком свечи, вставленным в горлышко – светильник, вполне достойный бездомного пропойцы, кожаный стаканчик и три фальшивые игральные кости, подправленные свинцом, куча старых трубочных чубуков, глиняный горшок для табака, рваный чулок, а в нем гребешок, в котором недоставало половины зубьев, потайной фонарь с круглым, как глаз совы, оконцем и куча ключей от чужих замков – в этом не было сомнений, так как в двери комнаты отсутствовал замок. Особняком лежали щипцы для завивки усов и осколок зеркала с амальгамой, словно ободранной когтями дьявола, и таких размеров, что увидеть в нем сразу оба собственных глаза было решительно невозможно. Был там и еще кое-какой хлам, который просто тошно описывать.
Зато напротив камина, на стене, менее подверженной действию сырости и затянутой зеленой тряпицей, сверкало целое созвездие отменных шпаг – до блеска начищенных и имевших на клинках клейма самых знаменитых испанских и итальянских мастеров. Были там клинки плоские, ромбические, граненые, клинки с долом для стока крови, мечи с тяжелой гардой, закрывающей всю руку, тесаки, кинжалы, стилеты и прочее дорогое оружие, совершенно не вязавшееся с убожеством этого жилья. Ни пятнышка ржавчины, ни пылинки не виднелось на них, это были рабочие инструменты мастера-убийцы, и даже в дворцовом арсенале их не содержали бы лучше. Казалось, они только что вышли из рук мастера, сверкая отточенными гранями. Лампур, неряшливый во всем, считал делом чести тщательно ухаживать за оружием. Такая забота при его ремесле имела зловещий характер, поэтому невольно казалось, что на тщательно отполированной стали пламенеют кровавые отсветы.
Стульев здесь не водилось, и посетителям оставалось либо стоять, либо, щадя подошвы сапог, расположиться на старой продавленной корзине, на сундуке или на футляре от лютни, видневшемся в углу. Стол был ничем иным, как ставнем, положенным на криво сколоченные козлы, а по ночам он же служил кроватью. После очередной попойки хозяин дома укладывался на него и, натянув на себя край скатерти, которая некогда была подкладкой его плаща, проданного в минуту безденежья, отворачивался к стене, чтобы не видеть пустых бутылок – зрелище, способное вызвать у закоренелого пьяницы приступ меланхолии.
Как раз в такой позиции Мерендоль и застал Жакмена Лампура. Тот громогласно храпел, хотя все часы в округе уже пробили четыре пополудни. На блюде, стоявшем на полу, лежал здоровенный паштет из дичи, имевший такой вид, будто на него напали волки в лесной чащобе. Помимо этого распотрошенного и полусъеденного паштета там же стояло множество винных бутылок, настолько пустых, что годились только на то, чтобы стать битым стеклом.
Еще один гуляка, которого Мерендоль заметил не сразу, также спал тяжелым сном под столом, зажав в зубах огрызок чубука, тогда как трубка, набитая табаком, но не зажженная, валялась рядом.
– Эй, Лампур! – окликнул приспешник де Валломбреза. – Не пора ли тебе проснуться?! Что ты так таращишься? Я не полицейский комиссар и не собираюсь тащить тебя в казематы Шатле. У меня к тебе важное дело. Постарайся привести голову в порядок и внимательно выслушай меня.
Разбуженный таким образом персонаж, кряхтя, поднялся, уселся на своем ложе, расправил непомерно длинные руки, потянулся и, словно не вовремя потревоженный лев, зевнул во всю пасть, усаженную крупными острыми зубами.
Жакмен Лампур был далеко не красавцем, хотя, как он утверждал, пользовался большим успехом у дам, в том числе и самых высокопоставленных. Но и привлекательным назвать его было трудно: рослый, с тощими журавлиными ногами, со впалой грудью, покрытой густым волосом, торчавшим из ворота рубахи, и обезьяньими руками, настолько длинными, что он мог застегивать подвязки чулок, почти не нагибаясь. Главное место на его лице занимал нос, не менее внушительный, чем нос Сирано де Бержерака, как известно, послуживший поводом для множества дуэлей. Однако Лампур утешал себя расхожей поговоркой «Тому и виднее, у кого нос длиннее». Вместе с тем в холодном блеске его глаз, хоть и затуманенных сном и похмельем, читались отвага и решительность. Впалые щеки прорезали несколько вертикальных складок, настолько резких и глубоких, что они казались шрамами от сабельных ударов. Вдобавок, весь этот облик окружали всклокоченные черные космы. Такое лицо можно было бы для забавы вырезать на рукояти трости или на грифе скрипки, но открыто смеяться над ним никто не решался – настолько опасным, коварным и непреклонно жестоким было его выражение.
– Вот было бы славно, если б нечистый содрал шкуру с того осла, который разрушил мои сладострастные грезы! Я был почти счастлив только что: прекраснейшая из земных богинь снизошла ко мне. А ты меня разбудил!
– Будет тебе молоть вздор! – нетерпеливо прервал Мерендоль. – Удели мне две минуты и внимательно выслушай!
– Когда я пьян, я никого не желаю слушать, – надменно ответил Лампур, снова вытягиваясь на своем ложе. – Тем более что нынче я при деньгах, и немалых. Прошлой ночью мы обчистили одного английского лорда, нафаршированного пистолями, и сейчас я пропиваю свою долю. Поэтому давай отложим важные дела до вечера. Жди меня в полночь на площадке Нового моста у пьедестала бронзового Генриха. Я буду бодр, свеж, с ясной головой и во всеоружии всех своих способностей. Мы мигом столкуемся о вознаграждении – и, надеюсь, немалом. Кто же станет беспокоить такого человека, как я, ради мелкой аферы, мошенничества, грошовой кражи и прочих пустяков. Я хищник львиной породы, а не какой-нибудь жалкий стервятник или шакал. Если речь об убийстве – я к твоим услугам. Мне требуется только одно: чтобы тот, на кого я нападаю, защищался. Иные бывают трусливы и жалки до омерзения, а капелька сопротивления придает работе вкус.
– Ну, на этот счет можешь быть спокоен, – злорадно ухмыляясь, заметил Мерендоль, – у тебя будет достойный противник!
– Тем лучше, – одобрительно кивнул Жакмен Лампур, – давненько я не имел дела с людьми своего калибра. Но хватит болтать – мне надо как следует отоспаться!..
После того, как Мерендоль ушел, Лампур попробовал уснуть, но прерванный сон не желал возвращаться. Тогда бретер встал, растолкал собутыльника, храпевшего под столом, и оба отправились в притон, где шла азартная карточная игра в ландскнехт и басету. Там собирались шулера, наемные убийцы, жулики помельче, лакеи, писцы и дюжина горожан-простофиль, которых сюда заманивали уличные шлюхи. Этим гусакам предстояло быть ощипанными заживо. В притоне было тихо – слышались только стук костей, которые встряхивали перед броском в стаканчике и шлепанье засаленных карт. Настоящие игроки обычно помалкивают, а сквернословят только в случае проигрыша.
Поначалу игра шла с переменным успехом, но вскоре пустота, которой не терпят ни природа, ни человек, безраздельно воцарилась в карманах Лампура. Он попытался было сыграть в долг, но в здешних местах, где игроки, получая выигрыш, пробовали монеты на зуб, слова не имели ни малейшей цены. Оставшись гол как сокол, бретер вынужден был убраться, хотя еще совсем недавно звенел полными пригоршнями пистолей.
– Уф! – выдохнул он, когда свежий зимний ветер остудил его разгоряченную физиономию и вернул обычное хладнокровие. – Наконец-то избавился! Удивительно действуют на меня деньги – я от них тупею. И нечего удивляться, что всякие там откупщики и ростовщики так глупы. Вот теперь, когда у меня нет ни гроша, я невероятно поумнел, мысли прямо-таки жужжат у меня в голове, словно пчелы в улье. Сейчас я мог бы потягаться с самим Юлием Цезарем! А вот и звонарь на «Ла Самаритэн» начинает отбивать полночь; Мерендоль, верно, уже ждет!
Засунув руки в карманы камзола и подняв воротник, бретер торопливо зашагал к Новому мосту. Мерендоль стоял у подножия памятника, разглядывая в лунном свете собственную тень. Оба головореза огляделись, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, и тем не менее их продолжительная беседа велась почти беззвучным шепотом.
Нам неизвестно, о чем они толковали, однако, расставшись с приспешником герцога де Валломбреза, Лампур до того откровенно позвякивал в кармане золотыми, что сразу становилось ясно: на Новом мосту нет ни одного негодяя, которого ему следовало бы опасаться.
12
«Коронованная Редька»
Расставшись с Мерендолем, Жакмен Лампур еще не имел ни малейшего представления о том, что, собственно, он намерен предпринять. Лишь дойдя до конца Пон-Неф, он остановился и некоторое время в нерешительности переминался с ноги на ногу подобно пресловутому Буриданову ослу, который не мог выбрать между двумя кормушками, или бруску железа, который с разных сторон притягивают два одинаковых магнита. С одной стороны, его тянуло в игорный притон, с другой – в его воображении возникал знакомый кабачок и слышался заманчивый звон стаканов. Ученые теологи полагают, что свобода воли составляет одно из главных преимуществ человека, и тем не менее Лампур под воздействием двух противоречивых склонностей, ведь он был не только игрок, но и пьяница, и не только пьяница, но и азартный игрок – действительно не знал, с чего начать. Он уже сделал было три шага в направлении игорного притона, но пузатые бутылки с красными головками, залитыми сургучом, предстали перед его внутренним взором так отчетливо, что он тут же сделал три шага к кабачку. Но тут демон азарта яростно затряс у него над ухом стаканчиком с игральными костями и веером развернул перед ним карты, пестрые, как павлиний хвост.
Это видение окончательно лишило его способности двигаться.
– Что за проклятье! И долго я буду тут торчать, словно истукан? – одернул себя бретер, окончательно раздражившись. – И вид у меня, должно быть, совершенно идиотский… Вот что: плюну-ка я и на кабак, и на притон, а отправлюсь лучше к своей Цирцее, к несравненной красотке, которая связала меня своими узами. Впрочем, она, может статься, занята, или на каком-нибудь ночном пиру, или еще где-нибудь. А сластолюбие, о чем знали еще древние греки, вредит отваге и иссушает силы. Даже самым знаменитым героям приходилось каяться из-за своего пристрастия к женщинам. Взять хотя бы Геракла и его Деяниру, Самсона и Далилу, Антония и Клеопатру, не считая прочих, о которых я уже ничего не помню. Итак, отбросим с негодованием эту греховную и достойную всяческого порицания фантазию, но ведь все равно останется вопрос: какому из двух самых пленительных занятий отдать предпочтение? Выберешь одно – и тут же пожалеешь о другом!
Бормоча этот монолог, Жакмен Лампур снова сунул озябшие руки в карманы, уткнулся подбородком в ворот и словно окаменел на мостовой. Не прошло и пяти минут, как он столь внезапно сорвался с места, что припозднившийся прохожий вздрогнул и юркнул в ближайшую подворотню из опасения, что вот-вот придется расстаться если не с жизнью, то уж по меньшей мере с кошельком. Впрочем, у Лампура не было намерения грабить этого простофилю – он его даже не заметил, потому что в голове молнией сверкнула великолепная мысль. Колебаниям было положен конец.
Остановившись под тусклым фонарем, бретер достал из кармана испанский дублон, произнес: «Орел – значит, кабак, решка – игорный дом», – и подбросил монету.
Дублон несколько раз перевернулся в воздухе, а затем упал на плиты мостовой, сверкнув золотой искрой в серебряном свете луны, как раз в этот миг появившейся из-за облаков. Лампур рухнул на колени, чтобы прочесть приговор, вынесенный случайностью. Монета сказала: «Орел», следовательно, в эту ночь Бахус взял верх над Фортуной!
– Решено: напьюсь! – объявил Лампур, стер с дублона грязь и вернул его в кошель, глубокий, как пропасть, и способный вместить в себя кучу всякой всячины.
Торопливыми шагами он направился в кабачок, носивший название «Коронованная Редька», который давным-давно стал для него излюбленным. Помимо недорогого вина, он был удобен тем, что находился на углу Нового Рынка, в двух шагах от его «апартаментов», и даже накачавшись до беспамятства и выписывая ногами кренделя можно было мало-помалу добраться домой.
«Коронованная Редька» представляла собой самую жуткую дыру, какую только можно вообразить. Приземистые пилоны, обмазанные багрово-красной краской, поддерживали огромную балку, на которую опирался верхний этаж здания. В ее неровностях можно было различить остатки старинной резьбы, наполовину стертой временем. При самом пристальном взгляде там проступали переплетенные виноградные лозы, среди которых прыгали обезьяны, дергавшие за хвосты охочих до винограда лисиц. Над дверным проемом висело изображение огромнейшей редьки с зелеными листьями, увенчанной золотой короной. Все это выглядело потускневшим и полустертым, ибо служило уже нескольким поколениям пьяниц.
Окна, располагавшиеся в простенках между пилонами, были в этот поздний час закрыты ставнями с такими могучими болтами, что они могли бы выдержать долгую осаду. Впрочем, пригнаны ставни были неплотно и через щели на улицу проникал тусклый свет, а вместе с ним приглушенный гул, звуки нестройного пения и площадной брани. Отметив это, Лампур решил, что в «Коронованной Редьке» все еще полно посетителей. Затем он постучал условным стуком, дверь приотворилась, и завсегдатая впустили внутрь.
Зала, где собирались гуляки, больше всего походила на пещеру. Потолок нависал над головами, а основная балка, пересекавшая его посередине, прогнулась под тяжестью верхних этажей и, казалось, готова вот-вот переломиться. От табачного дыма и свечного чада потолок почернел, словно внутренность коптильни для окороков и сельдей. Некогда усилиями итальянского декоратора, прибывшего во Францию вслед за Екатериной Медичи, стены залы были окрашены в пурпурный цвет с бордюром из виноградных листьев и побегов вверху. Бордюр, хоть поблекший и поменявший оттенки, сохранился, а внизу краска, постоянно соприкасающаяся со спинами и сальными затылками выпивох, стерлась до грязной и растрескавшейся штукатурки. В давние времена посетителями «Коронованной Редьки» были зажиточные горожане; но мало-помалу их вкусы изменились, дворяне и военные уступили место картежникам, жуликам, ворам и прочим бродягам, и это наложило мерзкий отпечаток на все заведение, превратив веселый кабачок в логово опасных проходимцев.
Отдельные кабинеты здесь походили на тесные чуланы, в которые можно было проникнуть, лишь уподобившись улитке, втягивающейся в раковину. Двери их выходили на галерею, на которую вела деревянная лестница, располагавшаяся напротив входа. Под лестницей стояли полные и пустые бочки и бочонки, радовавшие взгляды пьяниц больше, чем любые украшения. В камине трещали целые охапки хвороста, выстреливая горящие веточки и угольки на пол, вымощенный щербатым кирпичом. Огонь бросал подвижные отблески на жестяную крышку стойки, помещавшейся напротив, где за баррикадой бутылок и кувшинов восседал сам владелец кабачка. Яркое пламя затмевало желтоватые огоньки потрескивающих и чадящих свечей, а на стенах плясали уродливые тени посетителей с несуразными носами, торчащими подбородками и ведьмовскими шевелюрами. Казалось, что эта дьявольская пляска черных силуэтов, ломавшихся и кривлявшихся позади людей, метко передразнивает их, превращая в карикатуры.
Завсегдатаи кабачка восседали на скамьях, навалившись локтями на сбитые из досок столы, испещренные следами ножей, изрезанные вензелями, местами прожженные и сплошь покрытые пятнами от жирных соусов и вин. Однако рукавам, которые ерзали по ним, некуда было становиться грязнее; вдобавок многие из них имели дыры на локтях. Разбуженные ночным гамом две-три курицы, пернатые попрошайки, проникли в залу через заднюю дверь и вместо того, чтобы мирно дремать на насесте, бродили под ногами посетителей, склевывая крохи, падавшие с пиршественных столов.
Едва войдя в «Коронованную Редьку», Жакмен Лампур наполовину оглох от невообразимого гама. Свирепого вида молодчики колотили по столам пустыми кружками и барабанили по доскам кулаками с такой сокрушительной силой, что сальные огарки трепетали в кованых подсвечниках. Другие выкрикивали: «Лей, не жалей!» – и подставляли кружки хозяину. Третьи стучали ножами о края стаканов и бряцали тарелкой о тарелку, аккомпанируя застольной песне, которую хором горланили остальные, завывая вместо припева, как собаки на луну.
Дебелым служанкам, которые подносили гулякам блюда с дымящимся жарким, тоже было не сладко. В давке им приходилось держать свою ношу высоко над головами гостей, руки их были заняты, и они не могли обороняться от посягательств, тем более что больше дорожили сохранностью кушаний, чем своей добродетелью. Кое-кто курил длинные голландские пенковые трубки, окутывая себя и других клубами сизого дыма.
Здесь, однако, присутствовали не только мужчины. Прекрасный пол был также представлен несколькими по-сво́ему выдающимися экземплярами, ибо иной раз порок позволяет себе выглядеть не менее неприглядно, чем добродетель. Эти дамы, чьим возлюбленным с помощью монеты подходящего достоинства мог стать первый встречный, попарно прогуливались между столами, останавливались у столиков и, как ручные горлинки, прикладывались к чаше каждого гуляки. От обильных возлияний и жары в зале их щеки так багровели под кирпично-красными румянами, что они казались идолами, раскрашенными в два слоя. Накладные волосы, закрученные мелкими кудряшками, липли к набеленным лбам. Длинные собственные локоны дам, завитые щипцами, ниспадали на глубокие декольте. Наряды этих особ отличались кричащей расцветкой и жеманным щегольством. Ленты, перья, кружева, позументы, блестки – повсюду, где только возможно. Однако вся эта роскошь была сплошной подделкой: жемчуг из дутого стекла, золотые украшения из меди, шелковые платья из перелицованных. Но пьяным глазам завсегдатаев все это мишурное великолепие казалось ослепительным. Что касается духов, то от этих прелестниц веяло не ароматом розового масла, а мускусом – единственным запахом, способным перешибить зловоние кабака. Время от времени какой-нибудь молодчик, разгоряченный вином, усаживал к себе на колени покладистую красотку и, тиская ее, предлагал свою любовь, на что та отвечала жеманным хихиканьем и отказом, на самом деле означавшим полное согласие. Парочки поднимались по лестнице, мужчина обнимал женщину, а та, цепляясь за перила, дурашливо противилась, потому что даже самое крайнее распутство нуждается в подобии стыдливости. А навстречу уже спускались со смущенным видом другие, непринужденно оправляя юбки.
Издавна привыкший к подобным нравам и не видящий в них ничего особенного, Лампур не обращал на происходящее ни малейшего внимания. Усевшись за стол, он полным нежности взглядом созерцал бутылку канарского вина, только что поданную служанкой. Вино это, выдержанное, отменного качества, отлично себя зарекомендовавшее, хозяин держал в подвале исключительно для самых почетных посетителей. Хотя бретер явился в одиночку, на его стол поставили два бокала, зная, что не в его обычае поглощать спиртное в одиночку.
В ожидании случайного собутыльника, Лампур бережно взял за тонкую ножку и поднял до уровня глаз свой бокал, в котором искрилась благородная светлая влага. Насладившись ее теплым оттенком, он слегка всколыхнул бокал и втянул его аромат широко раздувшимися ноздрями. Два чувства получили свое – оставалось ублажить вкус. Его небо впитало глоток чудесного нектара, язык одобрительно прищелкнул и препроводил божественный напиток в гло́тку.
Таким манером великий знаток посредством одного-единственного бокала насытил три из пяти данных человеку чувств, показав себя истинным эпикурейцем – человеком, до последней капли извлекающим из всего сущего радость. Впрочем, ему не раз приходилось доказывать, что в таких случаях осязание и слух тоже получают наслаждение: осязание – от гладкой поверхности и формы хрустального сосуда, а слух – от мелодичного звука, который издает бокал, если коснуться его черенком ножа или провести влажным пальцем по краю. Но все эти тонкости в действительности не говорят ровным счетом ни о чем, кроме одного: насколько порочна утонченность такого рода проходимцев.
Наш бретер не провел в созерцании даже нескольких минут, как входная дверь снова отворилась и на пороге возник новый персонаж. Он был с ног до головы одет в черное, исключая белый воротник сорочки, вздувавшейся пузырем на животе между камзолом и панталонами. Остатки отделки стеклярусом, наполовину осыпавшиеся, напрасно пытались приукрасить его изношенный костюм, хотя, судя по покрою, в отдаленном прошлом он не был лишен изящества.
Человека этого можно было бы узнать в любой толпе по мертвенной бледности лица, словно присыпанного мукой, и багровому, как раскаленный уголь, носу. Покрывавшие этот нос лиловые прожилки свидетельствовали о ревностном служении Бахусу. Даже самая пылкая фантазия не смогла бы вообразить, сколько потребовалось бочонков вина, фляжек настойки и иных крепких напитков, чтобы придать носу этого господина такой вид. В целом физиономия незнакомца напоминала головку крестьянского сыра, в которую воткнули переспелую сливу. Чтобы закончить этот портрет, представьте на месте глаз два яблочных семечка, а в качестве рта – узкий рубец от сабельной раны.
Таков был Малартик, закадычный приятель Жакмена Лампура. Разумеется, он не блистал красотой, но его душевные качества полностью окупали мелкие телесные недостатки. Кроме того, после Жакмена, к которому он питал глубочайшее почтение, Малартик считался лучшим фехтовальщиком в Париже. Играя в карты, он выигрывал с постоянством, которое никто не смел назвать наглым; пил он почти безостановочно, но никто не видел его пьяным, и хотя никто не знал его портного, плащей у него было больше, чем у придворного щеголя. При этом он был человеком на свой манер порядочным: свято чтил кодекс воровской чести, не задумываясь, пошел бы на виселицу, чтобы спасти товарища, и вынес бы любую пытку – дыбу, испанский сапог, козлы и даже пытку водой, самую мучительную для закоренелого пьяницы, – лишь бы не выдать свою шайку. Короче говоря, в своем кругу он был превосходным малым и с полным правом пользовался всеобщим уважением.
Переступив порог, Малартик направился прямо к столу Лампура, придвинул табурет, сел напротив друга, молча взял полный до краев бокал, словно дожидавшийся его, и одним махом осушил. Его метод принципиально отличался от метода Лампура, но достигал того же результата, о чем живо свидетельствовал пурпур его носа. К концу пирушки у обоих приятелей обычно насчитывалось равное количество пометок мелом на грифельной доске кабачка, и добрый Бахус, восседая верхом на бочке, улыбался обоим своим усердным почитателям. Один спешил отслужить мессу, другой стремился ее растянуть, но, так или иначе, оба оставались истово верующими в свое божество.
Лампур, хорошо знакомый с нравом приятеля, несколько раз подряд наполнял его бокал. За первой бутылкой немедленно последовала вторая, которая вскоре тоже опустела. Ее сменила третья: она продержалась дольше и сдалась не так легко, после чего обоим бретерам, чтобы перевести дух, понадобились трубки. Они принялись пускать к потолку кольца и длинные завитки табачного дыма, и вскоре, наподобие богов Гомера и Вергилия, исчезли в густом облаке, сквозь которое виднелся, подобно маяку в тумане, только нос Малартика.
Скрытые этой завесой от остальных посетителей, приятели вступили в беседу, совершенно не предназначавшуюся для посторонних ушей. К счастью, «Коронованная Редька» была местом настолько надежным, что ни один полицейский доносчик не осмелился бы сюда сунуться, а если б такой смельчак нашелся, под ним тут же открылся бы люк в полу, и он угодил бы в подвал, откуда мало кто выходил живым.
– Как твои дела? – осведомился Лампур тоном купца, обсуждающего цены на товары. – Сейчас ведь мертвый сезон. Король перебрался в Сен-Жермен, и двор вместе с ним. Это пагубно отражается на нашей работе, в Париже остались одни буржуа да всякий мелкий люд.
– Даже не говори! – подхватил Малартик. – Просто беда! Останавливаю я как-то вечером на Новом мосту довольно приличного с виду молодчика, говорю, как обычно: кошелек или жизнь. Он, ясное дело, швыряет мне кошелек, а там всего три-четыре серебряные монетки, плащ же, который он бросил второпях, оказался из подкладочной ткани с мишурным галуном. Чуть ли не впервые в жизни я почувствовал себя обворованным. В игорных домах одни лакеи, судейские крючки да молокососы, стащившие из отцовской конторки несколько пистолей, чтобы попытать счастья. Сдашь два раза карты, бросишь кости – глядишь, а они уже без гроша. Обидно растрачивать талант ради такой ничтожной прибыли! Не подвернись мне один ревнивый рогоносец, который нанимает меня лупить до полусмерти любовников своей жены, я в этом месяце не заработал бы даже на хлеб и воду! Не было заказов ни на ловушки, ни на самые пустяковые похищения, ни на самое чепуховое убийство. Что за времена! Куда мы катимся? Ненависть дряхлеет, злоба глохнет, чувство мести едва шевелится, обиды забываются так же, как благодеяния. Все мельчает, и нравы становятся отвратительно пресными!
– Да, хорошие деньки позади, – согласился Лампур. – Прежде какой-нибудь вельможа, оценив нашу отвагу, нашел бы ей достойное применение. Мы бы вовсю содействовали его похождениям и тайным делишкам вместо того, чтобы возиться с нищей чернью. И тем не менее удача пока еще не покидает кое-кого…
При этих словах он позвенел золотыми монетами в кармане. От этого мелодичного звона глаза Малартика алчно вспыхнули и тут же потухли – деньги товарища неприкосновенны. Лишь из его груди вырвался скорбный вздох, который можно было бы перевести так: «Тебе-то, братец, повезло, а я все еще на мели!»
– Думаю, что и для тебя скоро найдется работенка, – продолжал Лампур. – Ты у нас, как известно, готов мигом засучить рукава, если потребуется кого-то заколоть или прикончить из пистолета. Поручения ты всегда исполняешь в срок и умеешь водить за нос полицию. Я всегда удивляюсь, как это Фортуна еще ни разу от тебя не отвернулась? Но об этом мы потолкуем потом, а пока давай-ка выпьем, да не спеша, как и подобает солидным людям.
Это мудрое предложение не встретило возражений у приятеля. Оба бретера, снова набив трубки, наполнили стаканы и уселись поудобнее, рассчитывая провести время в свое удовольствие и явно не желая, чтобы их покой кто-нибудь потревожил.
Однако из этого ничего не вышло. С противоположного конца зала послышались возбужденные голоса: кучка людей окружила двоих мужчин, державших пари. Один не верил словам другого, а тот был готов доказать свою правоту делом.
Кода толпа расступилась, Малартик и Лампур разглядели в образовавшемся кругу на диво крепко сложенного и подвижного человека среднего роста с лицом испанского мавра. Он был одет в какой-то бурый балахон, который, распахиваясь, открывал короткий камзол из буйволовой кожи и коричневые короткие штаны с медными пуговицами в виде бубенчиков, вшитых в швы. Из-за широкого красного, стянутого вокруг бедер пояса, человек этот неуловимым движением извлек длинную валенсийскую наваху, закрепил кольцо, пощупал лезвие пальцем и, удовлетворенный осмотром, объявил своему противнику: «Я готов!»
Затем он гортанным голосом произнес имя, неизвестное посетителям «Коронованной Редьки», но уже не раз звучавшее на страницах нашей книги: «Чикита! Чикита!»
На этот призыв явилась худенькая и смуглая девчушка, спавшая в темном углу. Освободившись от плаща, которым она была тщательно укутана, Чикита подбежала к Огастену – а это был не кто иной, как он – и, устремив на бандита огромные глаза, обрамленные тенью усталости, а потому сверкавшие особенно ярко, спросила его глубоким грудным голосом, неожиданным для такой щуплой фигурки:
– Господин мой, чего ты хочешь? Я готова повиноваться тебе, потому что ты храбрец, а на рукояти твоей навахи немало зарубок!
Чикита произнесла эти слова на языке басков, который французы понимают не лучше, чем верхнегерманский, древнееврейский или китайский.
Огастен взял девочку за руку и поставил ее у двери, велев не шевелиться. Девочка, видимо, привычная к подобным фокусам, не выразила ни страха, ни удивления. Она стояла, опустив руки и безмятежно глядя вдаль, тогда как Огастен отошел на противоположный конец залы, слегка выдвинул вперед одну ногу, отставил другую и принялся плавно раскачивать свой длинный нож в ладони, прижимая его рукоять к запястью.
Сгорающие от любопытства посетители образовали своего рода коридор между Огастеном и Чикитой, кое-кому даже пришлось втянуть брюхо, чтобы оно не слишком выдавалось вперед.
Наконец рука Огастена распрямилась, словно отпущенная пружина, и грозное оружие, сверкнув в полете, вонзилось в доски двери над самой головой Чикиты, будто норовя измерить ее рост. При этом лезвие не задело ни единого волоска. Когда наваха со свистом пронеслась мимо них, некоторые зрители невольно зажмурились, но у Чикиты не дрогнула даже густая бахрома ресниц. Изумительная ловкость бандита вызвала одобрительный гул в толпе искушенных ценителей. Даже противник Огастена, сомневавшийся в возможности такого броска, в восторге захлопал в ладоши.
Огастен вытащил из двери еще подрагивавшую наваху, вернулся на место и на сей раз всадил клинок в узенький просвет между рукой и телом Чикиты. Отклонись острие хоть на дюйм, оно угодило бы точно в сердце девочки. И хотя зрители уже кричали «довольно», он повторил бросок и вогнал нож точно в то же место, но по другую сторону груди девочки, доказав тем самым, что это не случайность, а поразительное мастерство.
Чикита обвела публику горделивым взглядом – шумные рукоплескания были адресованы ее мужеству в той же мере, как и ловкости Огастена. Ноздри ее раздувались, глаза сверкали, а полуоткрытые губы обнажили острые и крепкие, как у куницы, зубы. Блеск оскала и фосфорическое свечение зрачков как бы высветили ее смуглое личико. Растрепанные волосы черными змейками вились вокруг лба и щек, непокорно выбиваясь из-под пунцовой ленты. На шее девочки, темной, как кордовская кожа, словно молочные капли мерцали бусины ожерелья, подаренного Изабеллой.
Наряд Чикиты изменился к лучшему – исчезла канареечно-желтая юбка, которая в Париже уж слишком бросалась в глаза. Теперь она была в коротком темно-синем платье и теплой душегрейке из черного камлота с роговыми пуговицами на груди. Башмаки на ее маленьких ножках, привыкших ступать босиком по колючкам и вереску, были явно велики, но у сапожника не нашлось обуви нужного размера. Вся это «роскошь» стесняла ее, но так или иначе пришлось уступить – зимняя парижская слякоть ужасна. В остальном Чикита оставалась той же дикаркой, что и в таверне «Голубое Солнце», однако в ее простом мозгу теперь было больше мыслей, а сквозь облик ребенка иногда уже проглядывала девушка-подросток. За время долгого путешествия она повидала немало такого, что поразило ее воображение.
Вернувшись в угол и снова завернувшись в плащ, Чикита мгновенно уснула. Мужчина, проигравший пари, выплатил пять пистолей ее приятелю. Тот сунул их за пояс и сел к столу, где стояла его недопитая кружка. Он не спешил ее приканчивать, потому что не имел постоянного жилья и предпочитал коротать время в «Коронованной Редьке», вместо того чтобы стучать зубами от холода где-нибудь под мостом или на церковной паперти, дожидаясь позднего рассвета. В таком же положении находились и другие бедолаги, спавшие тяжелым сном кто на скамьях, кто на полу, кутаясь в драные плащи. Из-за этого дальний угол питейной залы походил на поле битвы, заваленное мертвыми телами.
– Клянусь утробой дьявола, а ведь этот малый не промах! – заметил Лампур, поворачиваясь к Малартику. – Надо не упускать его из виду – может пригодиться, особенно в тех случаях, когда к нашему клиенту трудно подступиться вплотную. Бесшумный полет клинка много лучше, чем грохот пистолетного выстрела, дым и огонь, которые прямо-таки созывают полицейских со всей округи.
– Да, чистая работа, – признал Малартик. – Есть, правда, одно «но». Стоит только промахнуться, как остаешься безоружным. Что касается меня, то в этом рискованном трюке меня больше всего поразила отвага девчонки. В этой тощей грудке бьется сердце львицы или древней героини. А глаза, горящие, как угли, а весь ее независимый и неприступный облик! Рядом со здешними индюшками и гусынями она кажется птенцом сокола, ненароком залетевшим в курятник. Кто-кто, а я знаю толк в женщинах и по бутону могу судить о цветке. Через пару лет эта Чикита, как называет ее разбойник-баск, превратится в поистине королевское лакомство…
– Скорее, воровское, – философски заметил Лампур. – А может, судьба сведет обе крайности, сделав эту девчонку любовницей и жулика, и принца. Такое уже случалось, причем далеко не всегда принцев любят сильнее, чем воров… Однако оставим пустую болтовню и вернемся к серьезным делам. Возможно, что очень скоро мне понадобится помощь нескольких испытанных храбрецов для одной экспедиции, не столь далекой, как та, которую предприняли аргонавты в поисках золотого руна…
– Золотое руно! Звучит неплохо! – пробормотал Малартик, окуная нос в бокал, вино в котором как будто даже зашипело от соприкосновения с этим багровым углем.
– Предприятие непростое и далеко не безопасное, – продолжал бретер. – Мне поручили устранить некоего капитана Фракасса, подвизающегося на театральных подмостках, который якобы мешает амурным делишкам одного очень знатного вельможи. С этим я управлюсь и сам, дело не хитрое. Но помимо того, надо организовать и похищение красотки – той самой, в которую влюблены и вельможа, и актеришка, но вступиться за нее может вся труппа. Первым делом нам надо составить список надежных и не слишком щепетильных друзей. Как тебе, например, Пикантер? Что ты о нем знаешь?
– Выше всяких похвал! – ответил Малартик. – Но надеяться на него не приходится. Он болтается на железной цепи на Монфоконе[61], дожидаясь, пока его останки, расклеванные птицами, сами собой свалятся в яму, где догнивают кости опередивших его приятелей.
– Так вот почему его так давно не видно! – ухмыльнулся Лампур. – Вот она, цена жизни! Попируешь вечерок с приятелем в приличном заведении, расстанешься с ним – и каждый отправится по своим делам. А через неделю спросишь: «Как поживает такой-то?» – а тебе: «Его давно уже повесили».
– Увы! Тут уж ничего не поделаешь, – вздохнул приятель Лампура, принимая патетически-печальную позу.
– Как бы там ни было, а нам не пристало жаловаться и ныть, – возразил бретер. – Мужество – прежде всего. Будем жить, надвинув шляпу до бровей, лихо подбоченясь и каждый день бросая вызов петле. Почета от нее меньше, чем от пушек, мортир, кулеврин и бомбард, косящих солдат и их командиров, но результат-то один. Так что ввиду отсутствия Пикантера, который, верно, теперь пребывает в раю вместе с Благоразумным разбойником, первым спасенным из уверовавших в Христа, возьмем-ка Корнбефа. Это малый тертый, выносливый, и в самом трудном деле он не подведет.
– Корнбеф, – скорбно проговорил Малартик, – в настоящее время плывет к берберийским берегам. Король, питающий к нашему другу особое расположение, повелел украсить его плечо лилией Бурбонов, чтобы найти его повсюду, если он вдруг потеряется. Зато Кольруле, Тордгель, Ля Рапе и Бренгенариль пока свободны и мы можем ими располагать.
– Этих будет достаточно, все они молодцы как на подбор, и, когда придет время, ты сведешь меня с ними. А теперь допьем эту бутылку и уберемся отсюда восвояси. Воздух в этом кабаке уже зловоннее Авернского озера[62], над которым птицы падают замертво от вредоносных испарений. Разит и по́том, и прогорклым салом, и кое-чем похуже, так что свежий ночной ветерок нам только на пользу. Кстати, где ты ночуешь сегодня?
– Я не высылал квартирьера, – ответил Малартик, – и пока еще нигде не раскинул свой шатер. Можно было бы сунуться в трактир «Улитка», но там за мной долг длиной с клинок моей шпаги. Неважное удовольствие, проснувшись утром, увидеть над собой рожу трактирщика, который потрясает пачкой счетов, словно Юпитер молниями, и отказывается налить хотя бы маленький стаканчик, пока долг не будет возвращен. Даже встреча с полицейским была бы приятнее.
– Это все нервы, – назидательно заметил Лампур. – У всякого великого мужа есть слабые места, но не стоит обращать внимание на такие мелочи. Если тебе претит тащиться в «Улитку», а в гостинице «Под открытом небом» слишком прохладно ввиду зимней поры, то по старой дружбе предлагаю тебе свое гостеприимство. В моих апартаментах полставня в качестве ложа для сна тебе гарантировано.
– Принимаю с сердечной признательностью, – ответил Малартик. – Бесконечно блажен тот смертный, который имеет свой угол, чтобы согреть озябшего друга у огня собственного очага!
Жакмен Лампур выполнил обещание, данное им себе после того, как жребий сделал выбор в пользу кабака: он был пьян в стельку. Вместе с тем никто, кроме него, не умел во хмелю так владеть собой: он управлял вином, а вино им. И все же, когда он поднялся из-за стола, ему показалось, что ноги его налились свинцом и приросли к полу. Только огромным усилием он заставил отяжелевшие конечности двигаться, после чего решительно направился к двери, держа голову высоко поднятой и ничуть не шатаясь.
Малартик последовал за ним своей обычной поступью, ибо всегда был настолько пьян, что дальше некуда. Окуните в море пропитанную водой губку, и она не вберет в себя ни капли влаги. Таков был и Малартик, с той разницей, что его пропитывала не вода, а перебродивший сок виноградной лозы.
В целом, оба приятеля отбыли без осложнений и даже умудрились, не будучи легкокрылыми ангелами, подняться по чудовищной лестнице, ведущей с улицы в мансарду Лампура.
К этому времени «Коронованная Редька» представляла собой кошмарное зрелище. Огонь в очаге едва тлел. Свечи, с которых уже никто не снимал нагар, оплыли, как наросты известняка в пещерах. Потеки свечного сала стекали с подсвечников и затвердевали в самых причудливых формах. Табачный дым и пар от дыхания множества легких, пропитанных спиртным, сгустился под потолком в густой туман, а чтобы очистить пол кабачка от грязи и объедков, пришлось бы отвести туда, как Гераклу в Авгиевы конюшни, целую реку. Столы были усеяны корками, цыплячьими остовами и костями от окороков, обглоданных до блеска, будто над ними потрудились оголодавшие псы. Остатки вина из опрокинутых кувшинов и бутылок, пострадавших в пылу кабацкой свары, стекали на столы и, собираясь в лужицы, казались кровью из отрубленных голов. Капли падали на пол, и мерные звуки их падения, словно ход часового маятника, вторили храпу спящих пропойц.
Когда часы на Новом Рынке пробили четыре, хозяин, дремавший за стойкой, опустив голову на скрещенные руки, встрепенулся, орлиным взором окинул залу и, обнаружив, что клиенты больше ничего не заказывают, громовым голосом приказал прислуге:
– Время позднее! А ну-ка выметайте этих бродяг и шлюх отсюда вместе с мусором – все равно толку от них больше никакого!
Слуги схватились за метлы, выплеснули на пол несколько ведер воды и через пять минут, не жалея пинков и подзатыльников, освободили залу, вышвырнув всех, кто в ней находился, на улицу.
13
Двойная атака
Герцог де Валломбрез принадлежал к тем, кто до безумия упорен как в любви, так и в мести. И если он смертельно ненавидел баллона де Сигоньяка, то к Изабелле испытывал ту сокрушительную страсть, которая иных доводит до неистовства. Жажда невозможного у этих надменных и горделивых душ становится чем-то вроде сладострастного помешательства, мании. Герцог, привыкший ни в ком не встречать сопротивления, был ошеломлен поведением Изабеллы, и покорить ее стало для него главной целью жизни. Избалованный легкими победами, которые он одерживал над светскими дамами, Валломбрез не находил объяснений своей неудаче и часто во время бесед, верховых прогулок, в театре или в церкви, дома или при дворе внезапно погружался в глубокую задумчивость и с недоумением спрашивал себя: «Возможно ли, чтобы она меня не любила?»
И в самом деле – это нелегко было понять человеку, ни на йоту не верившему в женскую добродетель, и уж тем более в добродетель актрис. Герцогу приходило в голову, что холодность Изабеллы – всего лишь тщательно продуманная игра, цель которой – добиться от него большего, ибо ничто так не разжигает вожделение, как лицемерное целомудрие и повадки недотроги. Но пренебрежение, с которым она отвергла присланные им драгоценности, доставленные в комнату Изабеллы Леонардой, не позволяло причислить ее к тем, кто набивает себе цену. Любые другие, даже самые роскошные подношения, конечно, вызвали бы тот же результат. Если Изабелла даже не раскрыла ларец, то какой смысл посылать ей жемчуга и бриллианты, способные соблазнить королеву? Любовные послания тронули бы ее не больше, с каким бы изяществом и восторгом не живописали бы секретари герцога пламенную страсть своего господина, ведь писем от него Изабелла не распечатывала. Все было напрасно, в том числе и несколько сонетов, посвященных ее прелестям.
Впрочем, поэтические воздыхания, пригодные для робких поклонников, были не в напористом и жестком характере герцога. В один из дней он велел камердинеру привести к нему мадам Леонарду, с которой продолжал поддерживать тайную связь, полагая, что даже в неприступной крепости следует иметь шпиона. Стоит ослабеть бдительности гарнизона, как осаждающие тут же ворвутся в твердыню через услужливо открытый подземный ход.
Мадам Леонарду проводили в кабинет герцога по потайной лестнице. Там он принимал только близких друзей и преданных слуг. Этот просторный покой был обшит дубовыми панелями с резными ионическими колонками, в промежутках между которыми располагались овальные медальоны, окруженные богатой резьбой в виде замысловатых переплетений лент и бантов. В этих медальонах в обличье мифологических Флор, Венер, Диан, нимф и дриад были изображены любовницы герцога в античных одеяниях. Одна выставляла напоказ алебастровую грудь, другая – точеную ножку, третья – пышные плечи с ямочками, четвертая – иные, более потаенные прелести. Все эти записные скромницы позировали для портретов самому Симону Вуэ, знаменитейшему живописцу своего времени, воображая, что их образ для герцога останется единственным и неповторимым, и даже не подозревая о том, что вместе со многими другими составят целую галерею.
На плафоне, вогнутом в виде раковины, был изображен туалет Венеры. Пока нимфы наряжали богиню, она искоса поглядывала в зеркало, которое держал перед ней молодой человек в обличье Купидона, – художник придал ему сходство с герцогом. При этом было сразу заметно, что внимание богини привлечено юношей, а вовсе не зеркалом. Секретеры, инкрустированные флорентийской мозаикой, были битком набиты нежными посланиями, локонами всех оттенков, браслетами, кольцами и прочими залогами давно забытых увлечений. На крышке стола из черного мрамора той же мозаикой были изображены пышные букеты цветов, которые буквально осаждали бабочки с крылышками из драгоценных камней. Обстановку дополняли кресла с витыми ножками из черного дерева, обитые розовато-желтой шелковой тканью, затканной серебряными арабесками, и смирнский ковер, привезенный французским послом из Константинополя.
Такова была обстановка этого приюта, где де Валломбрез обычно проводил время, отдавая ему предпочтение перед парадными покоями.
Первым делом герцог благосклонно указал мадам Леонарде на табурет, приглашая присесть. Изжелта-бледное лицо этой женщины, сыгравшей на сцене бесчисленное множество сварливых старух-дуэний в испанских пьесах, казалось особенно безобразным среди окружающего великолепия, на котором повсюду лежал отпечаток молодости и красоты. Леонарда была в черном платье, расшитом стеклярусом, и низко надвинутом на лоб чепце. С первого взгляда ее можно было принять за особу строгих правил, если бы не двусмысленная улыбка в углах губ, над которыми топорщились жесткие черные волоски, и ханжески плотоядный взгляд окруженных морщинами глаз. Это подлое, алчное и угодливое выражение мгновенно показывало вам, что вы ошиблись и перед вами не почтенная, а весьма сомнительная особа – вроде тех, что по субботам путешествуют на шабаш верхом на помеле.
– Мадам Леонарда, – наконец нарушил молчание герцог, – я позвал вас сюда, потому что считаю единственной, кто знает толк в любовных делах. Вы приобрели свой опыт в молодости и с успехом пользовались им в зрелые годы. Поэтому я хочу посоветоваться с вами вот о чем: есть ли какое-нибудь средство соблазнить эту непреклонную девицу – я имею в виду Изабеллу? Ведь дуэнье, которая когда-то была первой любовницей, должны быть известны все мыслимые ухищрения!
– Ваша светлость, – угодливо отвечала старая комедиантка с постной миной, – оказывает мне и моим скромным познаниям слишком высокую честь. Тем не менее я готова служить всем, чем смогу!
– Не сомневаюсь, – небрежно обронил де Валломбрез. – И тем не менее дела мои стоят на месте. Что с этой задумчивой красоткой? Неужели она до сих пор влюблена в Сигоньяка?
– Так и есть, – отвечала Леонарда с сокрушенным вздохом. – В юности у многих бывают такие необъяснимые и упорные пристрастия. К тому же Изабелла сделана, судя по всему, из особого теста. Она пренебрегает любыми искушениями и, похоже, принадлежит к тем женщинам, которые и в раю не стали бы слушать обольщений змия.
– Но как же Сигоньяку удалось увлечь ее, если она глуха к мольбам всех остальных? – гневно вскричал герцог. – Уж нет ли тут какого-нибудь зелья, амулета или талисмана?
– Нет, ваша светлость. Все дело в том, что он был несчастлив, а для таких нежных, романтических и гордых натур, как Изабелла, нет большего счастья, чем дарить утешение. Они предпочитают отдавать, а не получать, и слезы сочувствия открывают путь любви.
– Это какая-то чушь! Выходит, достаточно быть тощим, бледным, оборванным, нищим и смешным, чтобы внушить любовь? Придворные дамы изрядно посмеялись бы над такими взглядами!
– Эти взгляды и в самом деле необычны. Редкие женщины впадают в подобное заблуждение. Вы, ваша светлость, столкнулись с исключительным случаем.
– Но я просто с ума схожу от бешенства, думая о том, что захудалый баронишка преуспел там, где я потерпел поражение, и теперь смеется надо мной в объятиях своей любовницы!
– Вашей светлости не следует мучить себя такими мыслями. Сигоньяк вовсе не наслаждается ее любовью в том смысле, какой вы имели в виду. Добродетель Изабеллы не потерпела ни малейшего ущерба. Чувство этих идеальных любовников, при всей его пылкости, остается платоническим и никогда не заходит дальше легкого поцелуя руки или лба. Оттого оно и длится так долго: утоленная страсть мигом гаснет.
– Вы уверены, мадам Леонарда? Мыслимо ли, чтобы эти двое хранили целомудрие при той простоте и распущенности, свойственной закулисной и кочевой жизни? Ночуя под одной крышей, ужиная за одним столом, постоянно сталкиваясь друг с другом во время репетиций и спектаклей? Для этого надо бестелесными ангелами!
– Изабелла, несомненно, ангел, и вдобавок в ней нет ни капли той гордыни, из-за которой Люцифер был низвергнут с небес. Сигоньяк же слепо повинуется возлюбленной и готов принести любые жертвы, какие бы она ни потребовала.
– Но если дело обстоит так, чем вы можете мне помочь? – спросил де Валломбрез. – Поройтесь же хорошенько в вашем сундучке с уловками и отыщите такое безотказное средство, такой неотразимый маневр, такую головоломную и хитроумную комбинацию, которая обеспечит мне победу. Вы знаете меня и мою щедрость…
С этими словами герцог запустил свою тонкую и белую, словно у женщины, руку в чашу работы Бенвенуто Челлини, стоявшую на столике. Чаша была наполнена золотыми монетами, и от их соблазнительного звона совиные глаза Леонарды молодо вспыхнули, оживив мертвенную маску ее лица. Несколько мгновений она молча раздумывала. Де Валломбрез нетерпеливо ждал.
– Я могла бы предложить вам если не душу, то по крайней мере тело Изабеллы, – наконец проговорила она. – Восковой слепок с замка, поддельный ключ, сильное снотворное средство – и готово дело, она ваша!
– Только не это! – прервал ее герцог с невольным жестом отвращения. – Какая мерзость! Обладать спящей женщиной, бесчувственным телом, статуей без мысли, без воли, без памяти! Чтобы она, очнувшись, тут же снова прониклась ненавистью к вам и любовью к другому! Нет, так низко я не паду ни за что!
– Вы правы, ваша светлость, – согласилась Леонарда. – Обладание ровно ничего не стоит без согласия и взаимного чувства. Я предложила вам этот выход за неимением лучшего, так как сама не люблю этих темных делишек и ведьмовских зелий. Но вот о чем я хочу спросить: почему вы, обладая красотой Адониса, любимца Венеры, роскошью, богатством и высоким положением при дворе, сочетая в себе все, что пленяет женщин, просто-напросто не попытаетесь поухаживать за Изабеллой?
– Черт побери, а ведь старуха права! – воскликнул де Валломбрез, бросив самодовольный взгляд в венецианское зеркало, которое держали два резных амура. – Пусть Изабелла холодна и добродетельна, но ведь не слепа же она, а природа меня ничем не обделила, и моя внешность отнюдь не приводит людей в ужас. Может, сперва я покажусь ей картиной или статуей, которая невольно восхищает, не внушая симпатии, и привлекает к себе взор только гармонией линий и красок. А затем я найду неотразимые слова, подкрепив их взглядами, способными растопить даже ледяное сердце. Скажу без ложной скромности – своими речами мне удавалось воспламенить даже бесстрастных придворных красавиц. Кстати, эта актриса не лишена гордости, и внимание такого лица, как герцог, должно льстить ее самолюбию… О, я сделаю так, чтобы ее приняли в труппу Французской комедии и найму клакеров, которые будут встречать каждый ее выход овациями! Станет ли она после этого думать о каком-то там ничтожном Сигоньяке? А уж от этого малого я найду способ избавиться…
– Вашей светлости больше ничего не угодно? – спросила Леонарда, поднявшись и застыв со сложенными на животе руками в позе почтительного внимания.
– Нет, мадам Леонарда, – живо откликнулся де Валломбрез. – Вот вам за труды… – Он протянул ей горсть золотых монет. – Не ваша вина, что в труппе Тирана оказался непорочный ангел.
Старуха, кланяясь и пятясь, направилась к двери. На пороге она круто повернулась и исчезла на лестнице.
После ее ухода герцог позвонил камердинеру.
– Пикар, – начал он, – сегодня ты должен превзойти себя, придав мне самый блистательный вид: я хочу быть красивее, чем лорд Букингем, когда он пытался пленить королеву Анну Австрийскую. И если я вернусь ни с чем с охоты за неприступной красавицей, то не миновать тебе плетей, ибо во мне самом нет недостатка или изъяна, который нуждался бы в маскировке.
– Внешность вашей светлости столь совершенна, что искусство может только одно: показать ваши природные достоинства во всем блеске. Если вы изволите несколько минут посидеть перед зеркалом, я завью и причешу вас так, что не устоит ни одно женское сердце.
С этими словами Пикар отправил щипцы для завивки в серебряную чашу, где под слоем пепла медленно тлели косточки маслин. Когда щипцы в должной мере нагрелись, в чем камердинер убедился, поднеся их к своей щеке, он прихватил ими кончики прекрасных черных как смоль волос герцога, и те сразу же завились кокетливыми спиралями.
Когда герцог де Валломбрез был причесан, а его тонкие усы с помощью ароматической помады изогнулись в форме лука Амура, камердинер откинулся, чтобы полюбоваться делом своих рук, – так художник судит о последних мазках, положенных им на холст.
– Какой костюм будет угодно надеть вашей светлости? Если мне будет дозволено высказать свое мнение, я посоветовал бы черный бархатный с прорезями и лентами черного атласа, а к нему шелковые чулки и простой воротник из сицилийского гипюра. Атлас, переливчатый шелк, золотая и серебряная парча и каменья своим назойливым блеском отвлекут взгляд, который должен быть постоянно сосредоточен на вашем лице, пленительном, как никогда. Вдобавок, черный цвет будет выгодно оттенять томную бледность, все еще оставшуюся у вас после потери крови.
«Плут обладает отменным вкусом и польстить умеет не хуже опытного царедворца, – усмехнулся про себя герцог. – Действительно, черный мне к лицу, а Изабелла не из тех женщин, которых можно ошеломить затканными золотом шелками и бриллиантовыми побрякушками».
– А теперь, Пикар, – продолжал он вслух, – подай мне камзол с панталонами и шпагу вороненой стали. Затем передай Лараме, что я велел заложить в карету четверку гнедых, да поживее. Я собираюсь выехать через четверть часа!
Пикар тотчас бросился выполнять приказание. Де Валломбрез, ожидая, пока подадут карету, расхаживал по комнате, то и дело бросая вопросительные взгляды в венецианское зеркало, которое, вопреки обыкновению всех зеркал, давало только лестные ответы.
«Эта пташка должна быть уж слишком заносчива, разборчива и пресыщена, чтобы не влюбиться в меня без памяти с первого взгляда, сколько бы она ни прикидывалась неприступной и ни разводила платонические шашни со своим бароном. Да, милочка, скоро и вам предстоит оказаться на одном из этих медальонов в виде Селены без всяких покровов, которая приходит лобзать своего Эндимиона. Вы займете место среди богинь, а ведь и они поначалу казались не менее суровыми, жестокосердными, неумолимыми, как вы, вдобавок, они были родовитыми дамами, какой вам никогда не стать! И знайте, любезная комедианточка, – воле герцога де Валломбреза нет преград. Таков его девиз!
Тут явился лакей с докладом, что карета подана. Расстояние между улицей де Турнель, на которой обитал герцог де Валломбрез, и улицей Дофина четверка могучих мекленбургских коней с откормленным и наглым кучером, который не уступил бы дорогу даже принцу крови и дерзко обгонял любые экипажи, было преодолено в считаные минуты.
Но как бы ни был смел и самонадеян молодой герцог, по пути к гостинице он испытывал непривычное волнение. Он все еще не был уверен, как примет его неприступная Изабелла, и от этой неопределенности его сердце билось быстрее, чем обычно. Разнородные чувства владели им. Он мгновенно переходил от ненависти к любви – в зависимости от того, представлялась ли ему молодая актриса непокорной или послушной любым его желаниям.
Когда роскошная раззолоченная карета, запряженная четверкой и сопровождаемая целой оравой ливрейных лакеев, подкатила к гостинице на улице Дофина, ворота мигом распахнулись и хозяин, сорвав с головы колпак, бросился навстречу столь высокородному гостю. Как ни спешил хозяин, де Валломбрез уже выпрыгнул из кареты и быстрым шагом направился к крыльцу. Вот почему хозяин, отвешивая нижайший поклон, едва не уткнулся лбом в его колени. Сухим, отрывистым тоном, свойственным ему в минуты волнения, молодой герцог обратился к нему:
– Мне известно, что у вас проживает мадемуазель Изабелла, актриса труппы Тирана. Я желаю ее видеть. Она у себя? Нет, о моем визите предупреждать не надо – достаточно и того, что ваш слуга проводит меня к ее комнате.
Хозяин кивал на каждое слово, и лишь когда герцог умолк, почтительно произнес:
– Монсеньор, окажите мне великую честь и позвольте самому проводить вас! Такой почет не подобает простому слуге, да и хозяин едва ли его достоин!
– Как вам будет угодно, – пренебрежительно уронил де Валломбрез. – Только не топчитесь на месте. Я вижу, из окон уже высовываются зеваки и глазеют на меня, будто я турецкий султан или сам Великий Могол.
– Я пойду вперед и буду указывать вам дорогу, – сказал хозяин, обеими руками прижимая к груди колпак.
Поднявшись на гостиничное крыльцо, герцог и его провожатый зашагали по длинному коридору, вдоль которого, точно кельи в монастыре, располагались номера. У дверей Изабеллы хозяин остановился и спросил:
– Как прикажете доложить, ваша светлость?
– Вы свободны, милейший, – ответил герцог, берясь за ручку двери. – Я сам доложу о себе!
Изабелла, одетая в легкий утренний капот, сидела у окна на стуле с высокой спинкой, поставив ноги в шелковых башмачках на ковровую скамеечку, и учила роль, которую ей предстояло сыграть в новой пьесе. Прикрыв глаза, чтобы не видеть того, что было написано в тетради, она вполголоса, как школьники заучивают урок, повторяла те восемь-десять стихотворных строчек, которые только что несколько раз подряд прочитала вслух. Свет, падавший из окна, нежно очерчивал ее чудесный профиль, пушистые завитки волос на затылке девушки искрились золотом в солнечных лучах, зубы жемчужинками поблескивали между полуоткрытых губ. Воздушный серебристый отблеск смягчал темный колорит ее неосвещенной фигуры, создавая то колдовское взаимодействие тонов, которое на языке живописцев зовется «светотенью». Сидящая в такой позе молодая женщина радовала глаз, как изысканная картина, которую искусному мастеру остается только верно скопировать, чтобы она стала гордостью и украшением любой галереи.
Решив, что к ней по какой-то надобности вошла гостиничная служанка, Изабелла даже не подняла своих длинных ресниц, казавшихся на свету золотистыми нитями, и продолжала в мечтательном полузабытьи повторять стихи – почти так же, как машинально перебирают четки. Чего она могла опасаться среди бела дня в людной гостинице? Ее друзья находились рядом, буквально рукой подать, а о появлении в Париже де Валломбреза она понятия не имела. На Сигоньяка больше никто не покушался, и при всей своей осторожности молодая актриса почти успокоилась. Что за дело ей было до влюбленности молодого герцога. Сейчас он интересовал ее не больше, чем какой-нибудь татарский хан или китайский император.
Де Валломбрез тем временем достиг середины комнаты, затаив дыхание и стараясь ступать бесшумно, чтобы не спугнуть очаровательную живую картину, которую он созерцал с невыразимым восхищением. Затем, ожидая, что Изабелла поднимет глаза и наконец заметит его, герцог преклонил колено и, держа в правой руке шляпу, плюмаж которой распластался по полу, а левую прижав к сердцу, замер в этой почтительной позе.
Как ни хороша была молодая актриса, Валломбрез, надо признать, был ничуть не менее хорош. Свет падал прямо на его лицо, настолько классически правильное, словно молодой греческий бог, покинув Олимп, воплотился в французского герцога. Любовь и восторженное созерцание лишили его черты властной жестокости, которая, увы, нередко искажала их. Глаза молодого человека горели, губы пылали, бледные щеки рдели огнем, идущим от сердца. Завитые и блестящие от помады черные волосы отливали синими бликами, словно полированный агат. Изящная и вместе с тем сильная шея казалась изваянной из белого мрамора. Охваченный страстью, герцог весь светился и сиял, и, право же, нечему удивляться, что вельможа, наделенный такой внешностью, и мысли не допускал о сопротивлении со стороны женщины, будь она хоть богиня, хоть королева, не говоря уже об актрисах.
В следующее мгновение Изабелла повернула голову и увидела в двух шагах от себя коленопреклоненного де Валломбреза. Если бы античный герой Персей поднес к ее лицу голову Медузы, вделанную в его щит и окруженную венцом из ядовитых змей, она не испытала бы такого потрясения. Девушка окаменела, глаза расширились, рот приоткрылся, в горле пересохло – ни пошевелиться, ни позвать на помощь она не могла. Мертвенная бледность залила ее лицо, по спине побежали мурашки, она почувствовала, что вот-вот упадет в обморок, но неимоверным усилием воли взяла себя в руки, чтобы не оказаться беззащитной перед дерзким пришельцем.
– Мне кажется, что я внушаю вам непреодолимое отвращение, если мой вид так действует на вас! – не меняя позы, кротко произнес де Валломбрез. – Если бы какое-нибудь африканское чудище с разверстой пастью, полной клыков, и острыми когтями выползло из угла вашей комнаты, вы, конечно, испугались бы гораздо меньше. Признаю, мое появление было для вас совершенно неожиданным, но истинная страсть порой не в силах удержаться в рамках приличий. Чтобы видеть вас, я готов стать жертвой вашего гнева, но моя любовь, страшась такой немилости, все же осмеливается припасть к вашим стопам со смиренной мольбой!
– Ради всего святого, встаньте, герцог! – ответила молодая актриса. – Эта поза вам не подобает. Я всего лишь бедная провинциальная комедиантка, и мои скромные достоинства совершенно не заслуживают вашего внимания. Забудьте же эту мимолетную прихоть и обратите свой взгляд на других женщин, которые будут счастливы удовлетворить любую вашу прихоть. Не заставляйте королев, герцогинь и маркиз ревновать к театральной простушке.
– Что мне за дело до всех этих дам! – пылко воскликнул де Валломбрез, все же поднимаясь с колен. – Я преклоняюсь перед вашей суровой гордостью, ваша строгость пленяет меня больше, чем чья-то уступчивость, ваше целомудрие кружит мне голову, а скромность доводит мою страсть до безумия. Без вашей любви я не смогу жить! Не бойтесь меня, – поспешно добавил он, заметив, что Изабелла открывает окно, словно намереваясь броситься вниз при малейших признаках насилия. – Я прошу лишь немногого: чтобы вы согласились терпеть мое присутствие и позволили мне выражать мои чувства в надежде когда-нибудь смягчить ваше сердце!
– Избавьте меня от этого преследования, и я буду питать к вам если не любовь, то по крайней мере безграничную признательность, – проговорила Изабелла.
– У вас нет ни отца, ни брата, ни мужа, ни любовника. А значит, нет никого, кто мог бы воспротивиться попыткам уважаемого человека заслужить ваше расположение, – продолжал де Валломбрез. – Разве в моих чувствах есть нечто оскорбительное для вас? Тогда почему вы так упорно отталкиваете меня? О, я думаю, вы просто не догадываетесь, какая великолепная жизнь ожидает вас, если вы станете милосерднее ко мне. Сказочные наваждения померкнут перед моей любовью, стремящейся во всем угодить вам! Словно богиня, вы будете ступать по облакам, попирая небесную лазурь. Все сокровища всех рогов изобилия окажутся у ваших ног! Я стану угадывать по вашим глазам и выполнять любые желания еще до того, как они успеют у вас возникнуть. Земной мир исчезнет, развеется как дым, и в лучах восходящего солнца мы вознесемся на Олимп, более прекрасные и счастливые, чем Амур и Психея! Молю вас, Изабелла, не отворачивайтесь от меня, не карайте меня этим гробовым молчанием, не доводите до безумия мою страсть, которая способна на все, лишь бы не утратить вас!
– Я не способна разделить вашу любовь, хотя ею гордилась бы любая другая женщина, – сдержанно ответила Изабелла. – Даже если бы добродетель, которую я почитаю выше жизни, не удерживала меня, все равно я отклонила бы такую опасную честь.
– Но я прошу немногого! Только обратите на меня благосклонный взор – и самые знатные, самые высокопоставленные дамы Франции будут завидовать вам, – продолжал настаивать герцог. – Другой даме я сказал бы: «Возьмите из моих замков, поместий и дворцов все, что вам по душе, опустошите мои хранилища, полные жемчуга и алмазов, погрузите руки до плеч в мои лари с золотом, велите подковать серебром ваших лошадей, сорите деньгами, как королева, на удивление всему Парижу, удивить который не так-то легко». Впрочем, эти грубые приманки недостойны вашей высокой души. Но, может быть, вам хочется восторжествовать над повергнутым в прах де Валломбрезом, приковать его, как пленника, к своей триумфальной колеснице, превратить его в своего слугу, в раба – меня, который еще никому не покорялся и никогда не носил оков?
– Я никогда и никого не собиралась брать в плен, – возразила молодая актриса, – и мне не пристало стеснять вашу драгоценную свободу!
До этой минуты де Валломбрез владел собой, скрывая свою врожденную вспыльчивость под покровом притворного смирения, но твердый и в то же время учтивый отпор Изабеллы начал выводить его из себя. Он осознал, что за этой неприступностью скрывается любовь к другому, и к его гневу добавилась ревность. Он порывисто шагнул к девушке, которая тут же взялась за оконную задвижку. Черты герцога исказила злоба, он лихорадочно кусал губы.
– Зачем эти увертки? Уж лучше скажите, что вы без ума от Сигоньяка, – внезапно осипшим голосом проговорил он. – Вот откуда взялась эта несокрушимая добродетель, которой вы так кичитесь. Чем же он пленил вас, этот счастливейший из смертных? Разве я не красивей, не богаче, не знатнее его? Я так же молод, так же красноречив, да и влюблен не менее страстно!
– Но помимо всего этого, у барона есть одно качество, которого недостает вам: он умеет уважать ту, которую любит, – ответила Изабелла.
– Значит, недостаточно любит, – хрипло произнес де Валломбрез и схватил Изабеллу в объятия. Девушка перегнулась через подоконник и негромко вскрикнула, почувствовав на себе жадные руки дерзкого вельможи.
В тот же миг дверь комнаты распахнулась, и в через порог, расшаркиваясь и преувеличенно кланяясь, шагнул Тиран. Герцог тотчас выпустил Изабеллу, взбешенный неожиданной помехой.
– Простите, мадемуазель, – начал Тиран, косясь на герцога, – меня не поставили в известность, что вы находитесь в столь блистательном обществе! Я пришел всего лишь затем, чтобы напомнить вам, что час репетиции давно наступил – задержка только за вами.
И в самом деле, в просвете полуоткрытой двери виднелись фигуры Педанта, Скапена, Леандра и Зербины. Все вместе они вполне могли служить надежным бастионом против посягательств на целомудрие их подруги и соратницы по сцене.
Де Валломбрез был в ярости. Первым его порывом было броситься со шпагой на этот дерзкий сброд и в два счета его разогнать. Однако он тут же опомнился. Прикончив одного-двух актеришек, он бы ничего не добился, а только вызвал бы ненужный шум и постыдные слухи. Да и марать руки кровью простолюдинов герцогу не пристало. Поэтому он заставил себя успокоиться и, с ледяной учтивостью поклонившись Изабелле, удалился. Впрочем, на пороге он задержался на мгновение, обернулся, взмахнул рукой и сказал:
– До свидания, мадемуазель!
Слова эти, ничего не значащие сами по себе, в его устах прозвучали угрозой. На лице молодого герцога, еще недавно столь пленительном, снова проступила печать дьявольской злобы и порочности.
Изабелла невольно вздрогнула, хотя присутствие актеров и казалось надежной защитой. В ту минуту ею овладел смертельный страх, который испытывает голубка, когда коршун, парящий в вышине, все сужает и сужает над ней свои круги.
Валломбрез направился к карете, сопровождаемый владельцем гостиницы. Тот семенил за ним, рассыпаясь в бесчисленных докучных любезностях. Но вот гром колес возвестил о том, что незваный гость отъехал…
То, что помощь подоспела к Изабелле столь своевременно, объясняется следующими обстоятельствами.
Прибытие герцога де Валломбреза в неслыханно роскошной карете вызвало восторг и сумятицу среди обитателей гостиницы. Вскоре эти толки дошли и до Тирана, который, подобно Изабелле, был занят разучиванием роли у себя в комнате. Сигоньяк отсутствовал, так как задержался в театре на примерке нового костюма, бородач, осведомленный о намерениях герцога, решил держать ухо востро. Для этого он приложил его к замочной скважине комнаты Изабеллы и, совершая похвальную в данном случае нескромность, стал слушать происходившую там беседу, готовый появиться на подмостках в том случае, если дело зайдет чересчур далеко. Таким образом ему удалось спасти Изабеллу и остановить окончательно потерявшего власть над собой распутного герцога.
Очевидно, этому дню было суждено стать неспокойным.
Читатель помнит, что Жакмен Лампур получил от Мерендоля задание отправить в лучший мир капитана Фракасса. Поэтому бретер, ловя подходящий случай, уже с трех часов топтался на небольшой площадке у постамента бронзового короля. Сигоньяк, возвращаясь в гостиницу, никак не мог миновать Новый мост. Лампур ждал уже больше часа, время от времени принимаясь дуть на пальцы, чтобы они не закоченели и верно служили ему, когда придет время действовать, а заодно переминался с ноги на ногу, пытаясь согреться. Погода была холодная, солнце садилось за Красным мостом по ту сторону Тюильри в окружении багровых туч. Сумерки стремительно сгущались, прохожих становилось все меньше.
Наконец показался Сигоньяк. Он шел быстрым шагом, его почему-то весь день донимала смутная тревога за Изабеллу, и торопился поскорее добраться до гостиницы. В спешке он не заметил Лампура, и тот сдернул с него плащ таким внезапным и резким движением, что лопнули завязки на шее. Не успел Сигоньяк опомниться, как остался в одном камзоле. Не пытаясь отобрать плащ у бретера, которого принял сначала за обыкновенного воришку, барон с быстротой молнии обнажил клинок и встал в позицию. Лампур моментально последовал его примеру – ему понравилась реакция противника. «Что ж, – подумал он, – немного позабавимся».
Клинки скрестились. После нескольких перемен позиций с обеих сторон, Лампур нанес удар, который был немедленно отбит. «Отлично парирует! У этого молодого человека неплохая школа», – определил бретер.
Сигоньяк отвел своей шпагой клинок бретера и попробовал провести фланконаду[63], которую Лампур также отбил, отпрянув назад и в душе восхищаясь совершенством и академической четкостью нанесенного противником удара.
– Ну, держитесь! – крикнул он, и его шпага описала сверкающий полукруг, однако натолкнулась на клинок Сигоньяка, успевшего снова стать в позицию. Стараясь нащупать просвет, скрещенные острия вращались друг вокруг друга то медленно, то быстро, с тончайшими увертками и уловками, свидетельствовавшими о необыкновенном мастерстве обоих дуэлянтов.
– А знаете ли, сударь, – наконец объявил Лампур, не в силах сдержать восхищение перед уверенными, стремительными и безошибочными действиями противника, – что у вас просто превосходная выучка?!
– К вашим услугам, – отвечал Сигоньяк, делая стремительный выпад.
Бретер отразил его эфесом шпаги, повернув запястье столь быстрым движением, словно в нем скрывалась мощная пружина.
– Великолепный выпад! – восхитился Лампур. – Изумительный удар! Если здраво рассудить, мне бы полагалось уже валяться в канаве. А я действовал недостойно: парировал наудачу, против всех правил. Такая защита допустима только в тех случаях, когда некуда деваться. Я стыжусь, что использовал ее с таким искусным фехтовальщиком, как вы, сударь!
Все эти реплики перемежались звоном и лязгом клинков, квартами, терциями, полудугами, выпадами и парадами, и с каждым из этих фехтовальных приемов уважение Лампура к Сигоньяку только росло. Опытный бретер, он признавал лишь одно искусство на свете – искусство фехтования – и людей оценивал в зависимости от их умения владеть оружием. Сигоньяк же с каждой минутой рос в его глазах.
– Не будет ли, месье, слишком нескромно с моей стороны поинтересоваться: кто был вашим учителем? Ведь даже Джироламо, Парагуанте и Стальной Бок могли бы гордиться таким учеником.
– Моим наставником был всего лишь старый солдат-гасконец по имени Пьер, – ответил Сигоньяк, которого начал забавлять этот странный болтун. – А вот, кстати, и его любимый удар!
С этими словами барон сделал выпад.
– Проклятье! – вскричал Лампур, поспешно отступая. – Вы едва не ранили меня! Острие вашей шпаги скользнуло по локтю. Днем вы непременно проткнули бы меня, как шпигованного каплуна, но драться в сумерках или в темноте вам еще в новинку. Тут нужны кошачьи глаза. Но, так или иначе, выполнено превосходно. А сейчас берегитесь – я не хочу, чтобы вы были застигнуты врасплох. Я испробую на вас мой секретный прием, плод долгого изучения чужого опыта и шлифовки собственного мастерства. До сих пор этот удар действовал безошибочно и укладывал противника на месте. Если вы сумеете его отразить, я научу вас, как это делается. Я, так сказать, завещаю его вам, иначе мне придется унести этот шедевр с собой в могилу. Все дело в том, что я еще не встречал фехтовальщика, которому он был бы по силам, – кроме вас, удивительный молодой человек!.. Не желаете ли немного передохнуть?
С этими словами Жакмен Лампур опустил шпагу острием вниз. Сигоньяк поступил так же, а спустя две-три минуты поединок возобновился.
После нескольких выпадов барон, знакомый со всеми тонкостями фехтовального искусства, почувствовал, следя за поведением Лампура, чья шпага задвигалась с непостижимой быстротой, что сейчас на него обрушится тот самый знаменитый удар. И в самом деле – бретер внезапно пригнулся, словно готовясь упасть ничком, и вместо противника Сигоньяк увидел перед собой сверкающую молнию, которая так стремительно ринулась на него, что он едва успел отвести ее, описав шпагой короткую дугу и одновременно переломив пополам клинок Лампура.
– Если конец моей шпаги не торчит у вас в груди, значит, вы великий человек, вы герой, полубог, а может, и сам Господь! – вскричал Лампур, выпрямляясь и потрясая обломком оружия, оставшимся у него в руке.
– Я цел и невредим, и, если бы хотел, я мог бы пригвоздить вас к постаменту, как чучело филина, – ответил на это Сигоньяк. – Но это не доставило бы мне особого удовольствия, к тому же вы меня изрядно позабавили своими чудачествами.
– Барон! – внезапно проговорил бретер, склоняя голову. – Позвольте мне отныне быть вашим почитателем, вашим слугой, вашим верным псом! Мне заплатили, чтобы я убил вас. Я даже взял деньги вперед и успел их пропить. Но это не имеет значения! Я лучше ограблю кого-нибудь, чтобы вернуть аванс…
С этими словами он поднял с земли плащ Сигоньяка, затем бережно, как усердный слуга, накинул его на плечи барона и, отвесив низкий поклон, удалился.
Обе атаки герцога де Валломбреза провалились.
14
Щепетильность Лампура
Трудно вообразить ярость герцога де Валломбреза после отпора, который дала ему Изабелла при участии всей труппы, так своевременно подоспевшей ей на выручку.
Когда герцог вернулся домой, слуг прошиб ледяной пот при виде его лица – оно походило на лицо ожившего мертвеца, охваченного неукротимым бешенством. Жестокий от природы, де Валломбрез в минуты ярости зачастую со зверской необузданностью срывал свой гнев на первом, кто попадался ему под руку. Он и в хорошем расположении духа не отличался добродушием; а когда злился, безопаснее было бы столкнуться у края пропасти с голодным тигром, чем попасться ему на глаза. Все двери, которые распахивались перед ним, он захлопывал с такой силой, что они едва не срывались с петель, а с лепных украшений осыпалась позолота.
Добравшись до своего кабинета, герцог с размаху швырнул шляпу на пол и наступил на нее каблуком, сломав пышный плюмаж. Давая выход бешенству, душившему его, он рванул камзол на груди – и на паркет горохом посыпались алмазные пуговицы. Судорожными движениями пальцев он разодрал в лохмотья кружевной ворот сорочки и свирепо пнул подвернувшееся ему по пути кресло, которое с грохотом отлетело в противоположный угол. Злоба герцога сегодня распространялась и на предметы неодушевленные.
– Что за наглая тварь! – выкрикивал де Валломбрез, расхаживая в диком возбуждении взад-вперед. – Кончится тем, что я распоряжусь, чтобы полиция схватила ее и бросила в сырой каменный мешок, а оттуда, предварительно обрив и выпоров, препроводила в госпиталь или в приют для закоренелых грешниц. Достаточно мне пальцем шевельнуть – и я добьюсь соответствующего королевского указа!.. Но нет – страдания только укрепят ее в упорстве, а ненависть ко мне подогреет любовь к Сигоньяку. Этим ничего не добиться… Но что, что делать?
В течение нескольких часов герцог продолжал метаться из угла в угол, словно дикий зверь в клетке, тщетно стараясь погасить свою бессильную злобу.
Пока он бесновался, не обращая внимания на ход времени, которое идет своим чередом независимо от того, радуемся мы или скорбим, над Парижем опустилась ночь. Только тогда камердинер Пикар отважился войти к своему господину без зова и зажечь свечи, не решаясь оставить герцога в темноте и полном одиночестве.
И в самом деле: свет канделябров словно прояснил разум Валломбреза, и вместе с тем ненависть к Сигоньяку, которую страсть к Изабелле как бы отодвинула на второй план, снова вспыхнула в нем.
– Почему этот проклятый выскочка еще жив? – внезапно остановившись, проговорил он вслух. – Как это могло случиться, если я лично отдал Мерендолю приказ прикончить его, а если он не справится, то нанять более ловкого и отважного бретера! Что бы там ни болтал де Видаленк, но избавиться от барона необходимо. Лишившись Сигоньяка, Изабелла окажется в моей власти, трепещущая от страха и больше не имеющая опоры в бессмысленной верности несуществующему предмету любви. Она – и это так же несомненно, как то, что солнце встает на востоке, – сдерживает пыл этого голодранца, чтобы наверняка женить его на себе. Отсюда и все это несокрушимое целомудрие, чистота, добродетель и прочие ханжеские байки. Когда она останется одна, я справлюсь с нею в два счета, а заодно отомщу зарвавшемуся наглецу, который нанес мне рану и на каждом шагу становится между мной и Изабеллой… Итак, призовем Мерендоля и выясним, как в действительности обстоят дела.
Мерендоль, которого вскоре привел Пикар, выглядел хуже осужденного, которого ведут на виселицу. Виски его взмокли от пота, его бросало то в жар, то в холод, язык от страха прилип к гортани, а горло так пересохло, что в ту минуту ему бы не помешало, по примеру афинского оратора Демосфена, заглушавшего голосом шум моря, сунуть в рот плоскую гальку, чтобы снова обрести дар речи. На лице молодого вельможи бушевала буря пострашнее тех, что случаются в открытом море или в народном собрании. Глядя на это, бедняга Мерендоль едва держался на трясущихся ногах, колени у него то и дело подгибались, а левой рукой он судорожно прижимал к груди шляпу, не решаясь поднять глаза на своего господина.
– Эй ты, проклятая скотина! – наконец рявкнул де Валломбрез. – Долго еще ты собираешься торчать передо мной с таким видом, будто тебе на шею уже накинули пеньковый галстук? Знай, что если ты и угодишь когда-нибудь в петлю, то не за свои злодеяния, а за трусость, тупость и нерасторопность!
– Монсеньор, я всего лишь ожидал ваших приказаний, – ответил Мерендоль, силясь выдавить из себя улыбку. – Вашей светлости хорошо известно, что я предан вам до виселицы включительно. Я позволяю себе эту шутку ввиду намека, сделанного вами же…
– Прекрати болтать! – оборвал герцог. – Помнится, я поручал тебе убрать окаянного Сигоньяка, который путается у меня под ногами. Ты ничего не сделал: по безмятежному лицу Изабеллы я понял, что подлец все еще жив, и воля моя не исполнена. Как ты думаешь: стоит мне платить жалованье негодяям, которые так относятся к моим словам? Или вы не должны угадывать мои желания даже прежде, чем я их выскажу, по одному только взгляду, и без малейших проволочек расправляться со всяким, кто мне не по вкусу? Но вы способны лишь наедаться до отвала, а храбрости у вас хватает только на то, чтобы резать кур для кухни. Если так и пойдет, я всех вас до единого сдам палачу, который уже заждался вас, низкие твари, трусливые бандиты, подонки каторги!
– Я с прискорбием замечаю, что вы, ваша светлость, недооцениваете рвение и, осмелюсь сказать, дарования ваших вернейших слуг, – скорбно начал Мерендоль. – Сигоньяк не та дичь, которую можно загнать и уложить на месте, поохотившись часок-другой. В первой нашей стычке он едва не развалил мне череп от макушки до шеи. Счастье еще, что у него была театральная рапира, тупая и с затупленным концом. В другой раз он был начеку и полностью готов к отпору, поэтому нам пришлось ретироваться, чтобы не поднимать лишнего шума в гостинице. Тем более что там нашлось бы немало желающих прийти ему на помощь. Теперь он знает меня в лицо – стоит мне приблизиться, тут же хватается за шпагу. Поэтому мне пришлось прибегнуть к помощи моего друга, лучшего фехтовальщика в Париже. Сейчас он выслеживает его и прикончит под видом обычного грабежа нынче вечером или ночью – тут уж как случай распорядится. Имя вашей светлости не прозвучит ни при каких обстоятельствах, что неизбежно случилось бы, убей барона кто-либо из тех, кто состоит в услужении у вашей светлости.
– План не так уж плох, – смягчившись, небрежно обронил де Валломбрез, – так, пожалуй, даже лучше. Но уверен ли ты в ловкости своего приятеля? Нужно быть недюжинным мастером шпаги, чтобы одолеть Сигоньяка. При всей моей ненависти к нему не могу не признать, что он далеко не трус, если решился вызвать меня и помериться силами.
– Жакмен Лампур был бы национальным героем, если б не свернул на кривую дорожку! – уверенно заявил Мерендоль. – Доблестью он превосходит Александра Великого и легендарного Ахилла. Этот рыцарь не без упрека, но зато начисто лишенный страха.
Только сейчас герцог заметил, что у дверей переминается с ноги на ногу камердинер.
– Что тебе, Пикар? – уже не столь свирепо осведомился он.
– Ваша светлость, там, внизу, некий человек весьма странного вида настоятельно желает поговорить с вами. Он утверждает, что у него неотложное дело большой важности!
– Ладно, впусти этого проходимца, – буркнул герцог, – но ему не поздоровится, если он осмелился беспокоить меня по пустякам. Я велю шкуру с него содрать!
Пикар отправился за посетителем, а Мерендоль собрался уже удалиться, но появление диковинного персонажа заставило его окаменеть. И в самом деле – было от чего, ибо мужчина, введенный в кабинет Пикаром, оказался не кем иным, как Жакменом Лампуром. Его появление здесь могло быть вызвано лишь самыми непредвиденными обстоятельствами. Еще большую тревогу у Мерендоля вызвало то, что перед его господином предстал наемник, получающий поручения из вторых рук, убийца, действующий во мраке. К тому же немалая доля золотых, предназначавшихся Лампуру, осела в кармане посредника – самого Мерендоля.
Однако бретер выглядел бодро. Ничуть не смущаясь, он залихватски подмигнул с порога Мерендолю и остановился в двух шагах от герцога, оказавшись в круге света, который отбрасывал многосвечный канделябр. При этом стали отчетливо видны все детали его незаурядной физиономии. Лоб Лампура перерезал багровый рубец от шляпы, вдобавок он был усеян горошинами еще не просохшего пота. Бретер то ли очень спешил, то ли занимался чем-то таким, что потребовало от него невероятного напряжения. Его серо-стальные глаза смотрели на герцога с такой спокойной наглостью, что Мерендоля невольно охватила дрожь. Тень от горбатого носа полностью скрывала одну щеку Лампура, а переносица блестела в ярком свете. Нафабренные дешевой помадой тонкие, как спица, усы, казалось, протыкают насквозь его длинную верхнюю губу, а жидкая бородка походила на перевернутую запятую. В целом это было одно из самых оригинальных и причудливых лиц на свете – из тех, которые Жак Калло[64] так метко перенес резцом на свои удивительные и полные жути гравюры.
Наряд Лампура состоял из кожаного колета, серых панталон и ярко-красного плаща, с которого, судя по всему, недавно был спорот золотой галун – следы от него еще были видны на слегка выгоревшей ткани. Шпага с массивным эфесом висела на широкой, отделанной медными бляшками перевязи, широкий кожаный пояс стягивал сухой, но крепкий торс. Еще одна деталь особенно встревожила Мерендоля: рука Лампура, торчавшая из-под плаща, сжимала кошелек и, судя по его округлости, весьма туго набитый. Расставаться с деньгами вместо того, чтобы их брать или отнимать, было настолько несвойственно и непривычно бретеру, что все его жесты были полны комической чопорности и неуместной торжественности. Да и сама мысль о том, что Жакмен Лампур собирается наградить герцога де Валломбреза за какую-то услугу, была столь неправдоподобна, что глаза Мерендоля выкатились из орбит, а рот сам собой распахнулся. Как утверждают художники и знатоки-физиономисты, подобная мимика является признаком самого крайнего изумления.
– Что это ты, бездельник, тычешь мне под нос? – подозрительно осведомился герцог, окинув взглядом загадочного посетителя. – Уж не взбрело ли тебе в голову подать мне милостыню?
– Во-первых, монсеньор, – отвечал бретер, выразив всеми складками, бороздящими его щеки, нечто вроде возмущения, – не будет ли вам угодно узнать, что я отнюдь не бездельник. Мое имя – Жакмен Лампур, я ношу шпагу, принадлежу к благородному сословию, никогда не занимался ремесленным трудом и не унижался до торговли. Даже в самых затруднительных обстоятельствах я никогда не влезал в чужие окна, что, как известно, навеки лишает дворянина достоинства. Чернь неохотно заглядывает в глаза смерти, а я убиваю для того, чтобы жить, ежедневно рискуя своей шкурой, и действую всегда в одиночку. Я всегда нападаю открыто, ибо мне претят предательство и подлость. Что может быть благороднее? Поэтому я советовал бы вам взять назад свои слова насчет бездельника, к которым я не могу относиться иначе, как к дружеской шутке. В противном случае они могут сойти за оскорбление.
– Если вы настаиваете, будь по-вашему, месье Лампур, – ответил де Валломбрез, которого невольно позабавили претензии заносчивого проходимца. – А теперь поясните, зачем вы явились сюда, потрясая кошельком, точно шутовской погремушкой?
Удовлетворенный уступкой вельможи, Лампур слегка наклонил голову, не сгибая поясницы, и проделал несколько замысловатых движений шляпой. Эти жесты, с его точки зрения, должны были означать поклон, полный мужественной независимости и изысканного придворного изящества.
– Дело вот в чем, ваша светлость: я получил от Мерендоля некую сумму авансом, обязавшись прикончить некоего Сигоньяка, который также носит прозвище капитан Фракасс. Однако ввиду обстоятельств, от меня не зависящих, я не выполнил это поручение. В моем ремесле также есть свои правила и понятия о чести. Поэтому я принес деньги, которые не заработал, чтобы вернуть их тому, кому они принадлежат.
С этими словами Лампур не лишенным достоинства жестом водворил кошелек на край письменного стола, инкрустированного флорентийской мозаикой.
– Вот они, эти балаганные смельчаки, – вскричал герцог, – эти взломщики открытых дверей, эти суровые воины, чьей доблести хватает лишь для избиения грудных младенцев! А едва жертва огрызнется, они удирают во все лопатки, эти ослы в львиной шкуре… Ну-ка, ответь по чести, нагнал на тебя страху Сигоньяк?
– Жакмен Лампур не знает страха! – ответил бретер, и несмотря на комичность его фигуры, слова эти прозвучали надменно. – Это не бахвальство на испанский или гасконский манер. Ни в одном бою я не поворачивался спиной к противнику, а тем, кто видел меня в деле, известно, что я не ищу легких побед. Опасность мне в радость, я чувствую себя в ней как рыба в воде. Я атаковал Сигоньяка со всем своим мастерством, пустив в ход один из лучших толедских клинков работы Алонсо де Саагуна!
– Что же случилось в ходе этого поединка? Очевидно, тебе не удалось взять верх, раз уж ты решил вернуть деньги? – спросил молодой герцог.
– В общей сложности на дуэлях, в уличных стычках и поединках против одного или нескольких бойцов я прикончил тридцать семь человек. При этом я не считаю раненых и изувеченных. Но Сигоньяк владеет обороной с таким мастерством, словно постоянно находится в башне из стальной брони. Я испробовал все мыслимые и немыслимые фехтовальные приемы: ложные выпады, внезапные атаки, отступления, необычные удары, но он отражал всякую атаку с холодной уверенностью и невообразимой быстротой! Невероятная отвага, но при этом удивительная осмотрительность! Какое великолепное хладнокровие! Какое самообладание! Это не человек, а божество с разящим клинком в руке! Каждую минуту рискуя быть пронзенным, я все равно наслаждался его тонким и безупречным искусством! Могу поклясться бессмертием души, – продолжал бретер, – передо мной был в высшей степени достойный противник! Однако, продлив схватку насколько возможно, чтобы вдоволь насладиться его блистательным мастерством, я понял, что пора заканчивать, и решил испробовать секретный прием неаполитанца Джироламо, который из всех фехтовальщиков на свете известен одному мне, так как Джироламо уже умер. Да и никто, кроме меня, не способен применить его с таким совершенством, от которого зависит успех. Я нанес этот удар с такой меткостью и силой, что, пожалуй, превзошел даже самого Джироламо. И что же? Этот демон, скрывающийся под личиной капитана Фракасса, молниеносно парировал его таким могучим ударом наотмашь, что у меня в руке остался только обломок шпаги. Взгляните, ваша светлость, что сталось с моим толедским клинком!
С этими словами Жакмен Лампур скорбно извлек из ножен обломок шпаги с клеймом в виде буквы «С», увенчанной короной, и указал на ровный, сверкающий голубизной излом стали.
– Такой удар мог бы нанести один из тех волшебных мечей, какими обладали Роланд, Сид или Амадис Галльский. И мне пришлось смиренно признать, что в честном поединке одолеть капитана Фракасса не в моих силах. Прием, который я использовал, до сих пор отражали лишь одним-единственным способом – собственным телом. И те, на ком я его испытал, получали лишнее отверстие на камзоле, через которое беспрепятственно выпархивает грешная душа. Но капитан Фракасс, как и все герои, обладает благородным сердцем, полным великодушия. Я был обезоружен, растерян и обескуражен неудачей, ему стоило только руку протянуть, чтобы насадить меня на острие клинка, как перепелку на вертел, но он этого не сделал, хотя от дворянина, подвергшегося ночному нападению на Новом мосту, следовало бы ждать совсем иного. Я обязан ему жизнью. И хоть не так уж высоко ценю свою жизнь, однако испытываю признательность. Поэтому я отказываюсь предпринимать что-либо против этого человека – его жизнь отныне для меня священнее собственной. Даже если б мог, я не посмел бы искалечить или погубить такого великого фехтовальщика, тем более что настоящие мастера встречаются все реже в наш век тупых рубак, которые даже шпагу держат, как метлу. Поэтому я здесь, и хочу просить вашу светлость больше не рассчитывать на мои услуги. Возможно, мне и следовало бы оставить эти золотые себе в возмещение за риск, которому я подвергался, но моя совесть противится таким сделкам…
– Во имя преисподней, немедленно забери свои деньги! – проговорил де Валломбрез тоном, не допускающим возражений. – В противном случае я прикажу вышвырнуть и тебя, и твой кошель в окно, даже не открывая ставней! Никогда еще не встречал таких совестливых мошенников. Ты, Мерендоль, не способен на подобный поступок, который прямо-таки просится в назидательные рассказы для юношества! – Заметив, что бретер все еще колеблется, герцог добавил: – Дарю тебе эти пистоли – выпей за мое здоровье!
– Это, монсеньор, будет исполнено неукоснительно, – ответил Лампур. – Надеюсь, ваша светлость не станет мне пенять, если некоторую часть я все же истрачу в игорном притоне?
Шагнув к столу, бретер протянул свою костистую руку, с ловкостью вора-карманника сгреб кошелек, и тот, словно по волшебству, мгновенно исчез в недрах его глубокого кармана, увесисто звякнув при столкновении со стаканчиком для игральных костей и колодой крапленых карт. Нетрудно было заметить, что Жакмену Лампуру куда привычнее получать, нежели расставаться с полученным.
– Лично я, – заявил он, – отказываюсь принимать участие во всем, что касается Сигоньяка. Но, если вашей светлости угодно, я порекомендую вам моего приятеля месье Малартика – человека, которому можно поручить самое рискованное и опасное дело. У него проницательный ум и ловкие руки, он вполне свободен от всяких предрассудков и предубеждений. В общих чертах я уже разработал план похищения девушки, которой вы оказали честь, обратив на нее внимание. Месье Малартик с присущей ему скрупулезностью доведет его до совершенства. Скажу по чести: иным сочинителям драм и комедий, которым аплодируют за умело построенный сюжет, стоило бы время от времени советоваться с моим приятелем, ибо ему нет равных в изобретательности, ловкости махинаций и хитроумном плетении интриг. Мерендоль знает Малартика и может подтвердить мои слова. Для такого дела вам, ваша светлость, не найти никого лучше, и я, осмелюсь сказать, преподношу вам в лице Малартика настоящий подарок. Однако не стану больше злоупотреблять вашим временем. Как только вы изволите принять окончательное решение, вам достаточно будет приказать одному из ваших слуг начертить мелом крест на стене слева от двери, ведущей в таверну «Коронованная Редька». Как только появится этот знак, Малартик, соответствующим образом замаскированный, явится в ваш особняк, чтобы получить дополнительные указания и взяться за дело.
Окончив эту речь, месье Жакмен Лампур снова проделал ряд сложных манипуляций со своей шляпой, затем нахлобучил ее на голову и покинул кабинет герцога, весьма довольный собой.
Это явление, впрочем не такое уж редкое в век профессиональных дуэлянтов и наемных душегубов, изрядно позабавило молодого герцога де Валломбреза. Ему понравилась незаурядность персоны и своеобразная честность Жакмена Лампура; он даже готов был простить бретеру неудачную попытку сразить Сигоньяка. Уж если барон устоял перед этим мастером фехтования, чье искусство известно всему Парижу, значит, он действительно непобедим, и рана от его руки не столь позорна и оскорбительна для самолюбия герцога.
При всем своем неукротимом нраве втайне де Валломбрез считал убийство Сигоньяка далеко не благородным поступком. Но дело было не в укорах совести, и не в сентиментальности, пусть и тщательно скрываемой, а в том, что его заклятый враг был дворянином. Герцог не задумываясь отправил бы в лучший мир дюжину не угодивших ему буржуа, ибо кровь низкого люда в его глазах стоила не больше, чем колодезная вода. Разумеется, он, если бы мог, предпочел бы своей рукой сразить противника. Однако огромное превосходство Сигоньяка как фехтовальщика, о котором изо дня в день напоминала боль в едва зажившей ране, оставляло слишком мало шансов на победу.
Другое дело – похищение Изабеллы, открывавшее самые увлекательные любовные перспективы. Де Валломбрез и минуты не сомневался в том, что, разлучившись с Сигоньяком и своей труппой, молодая актриса окажется во власти его обаяния, и ее сердце в конце концов растает под влиянием чар баловня высокородных придворных дам. Невероятная самонадеянность герцога опиралась на факты и обширный любовный опыт, а его притязания казались ему совершенно обоснованными и логичными. Несмотря на то что Изабелла только что ясно дала понять, мол, отвергает его любовь, де Валломбрез считал абсурдной, фантастической и глубоко ошибочной саму мысль о том, что он может оказаться нелюбимым.
«Стоит продержать Изабеллу хотя бы несколько дней в каком-нибудь глухом уголке, где она окажется всецело в моей власти, и она сдастся, – убеждал себя молодой герцог. – Я предстану перед ней таким внимательным, таким пылким и красноречивым влюбленным, что вскоре она и сама начнет недоумевать, почему так долго противилась. Я увижу ее робость и смущение, как при моем появлении она меняется в лице и опускает ресницы, и наконец я обниму ее, а она, одновременно стыдясь и млея, склонит свою чудесную головку на мое плечо. Пылко ответив на мой поцелуй, она будет вынуждена признаться, что давно любит меня, а сопротивлением и упорством стремилась добиться лишь одного – разжечь мою страсть, превратив ее из костра в пожарище. Или сошлется на страх и трепет, какие испытывает смертная дева, преследуемая античным богом, или начнет лепетать еще какой-нибудь вздор, который всегда находится в такие минуты в головах у женщин, даже самых целомудренных… Но когда она станет моей и душой, и телом, вот тогда я и отомщу ей за все прежние обиды!..»
15
Малартик в деле
Как бы ни был велик гнев де Валломбреза, он не мог бы сравниться с яростью барона де Сигоньяка, когда он узнал о новом покушении герцога на честь Изабеллы. Тирану и Блазиусу еле удалось удержать барона, готового немедленно броситься в особняк герцога и бросить ему вызов. Разумеется, де Валломбрез отказался бы его принять, и с полным на то основанием, ведь Сигоньяк не был ни братом, ни мужем, ни открытым любовником актрисы, а следовательно, не имел права требовать никаких объяснений. Во Франции никому и никогда не возбранялось ухаживать за хорошенькой женщиной, общество не находило в этом ничего предосудительного. Нападение бретера на Новом мосту было, разумеется, подлостью, и, хотя за ней наверняка стоял герцог, проследить связь наемного убийцы с блистательным вельможей было просто невозможно. Даже если бы все открылось, как барон смог бы это доказать, у кого искать защиты от нескончаемых ловушек, всякий раз ставящих его жизнь под угрозу?
До тех пор, пока Сигоньяк скрывал свое имя, в глазах власть имущих он был лишь презренным комедиантом, низкопробным шутом, которого дворянин вроде де Валломбреза мог по собственному произволу наказать палками, бросить в темницу или попросту убить, если ему в чем-то не угодили или помешали. Никто не стал бы порицать за подобный поступок высокородного аристократа. Изабеллу же за отказ подчиниться и принести в жертву свою честь назвали бы закоренелой кокеткой, изображающей из себя целомудренную деву, ибо добродетель актрис во все времена подвергалась сомнению.
Итак, открыто обвинить герцога было невозможно и Сигоньяк, хоть и кипел от бешенства, поневоле был вынужден признать правоту Тирана и Педанта, советовавших ему помалкивать, смотреть в оба и постоянно быть настороже. Этот герцог, красивый, как бог, и злобный, как сатана, конечно же, не откажется от своих намерений, хотя уже дважды потерпел крах по всем статьям. Ласковый взгляд Изабеллы, которая обеими руками удерживала судорожно напряженные руки Сигоньяка, заклиная барона из любви к ней обуздать себя, окончательно успокоил его, и жизнь постепенно вернулась в привычную колею.
Первые представления труппы имели большой успех. Стыдливая грация Изабеллы, искрометный задор Зербины, кокетливое изящество Серафины, фантастическая напыщенность капитана Фракасса, величественный пафос Тирана, белые зубы Леандра, комическое простодушие Педанта, лукавство Скапена и превосходная игра Дуэньи произвели на парижскую публику не меньшее впечатление, чем на публику в провинции. Но, после того как наша труппа понравилась парижанам, оставалось получить одобрение двора, где было немало знатоков с особо изысканным вкусом и тонких ценителей театрального искусства. К восторгу Тирана, главы и казначея труппы, уже поговаривали о том, что актеров собираются пригласить в замок Сен-Жермен, так как сам король желает видеть их игру. Несколько знатных особ уже обращались к нему с просьбами дать представление у них на дому по случаю какого-нибудь празднества или бала, ибо всем было любопытно взглянуть на новую труппу, способную соперничать с прославленными актерами «Бургундского отеля» и театра «Маре».
Вот почему Тиран нисколько не удивился, когда в одно прекрасное утро в гостиницу на улице Дофина явился не то кастелян, не то дворецкий из богатого дома. Это был весьма почтенный с виду человек: такими бывают простолюдины, чья жизнь прошла на службе той или иной родовитой фамилии. Он объявил, что хотел бы побеседовать с главой труппы о театральных делах от имени своего господина – графа де Поммерейля.
Дворецкий этот был одет с головы до ног во все черное, а на шее носил цепь из золотых дукатов. На его ногах были шелковые чулки и просторные тупоносые башмаки с пышными помпонами, какие пристало носить человеку пожилому, временами страдающему от подагры. Чистый отложной воротник белел на его черном камзоле, оттеняя загоревшее на деревенском солнце лицо, на котором, словно хлопья снега, выделялись совершенно седые брови, усы и бородка. Длинные и такие же седые волосы ниспадали до плеч, придавая дворецкому патриархальный вид. Очевидно, он принадлежал к той исчезающей породе старых и преданных слуг, которые заботятся о благополучии господ больше, чем о своем собственном, бранят их за неразумные траты и в трудную минуту предлагают свои скудные сбережения, чтобы поддержать семью, процветавшую в иные времена.
Тиран невольно залюбовался этим благообразным человеком, а тот, учтиво поклонившись, проговорил:
– Если не ошибаюсь, вы и есть тот самый месье Тиран, который твердой рукой, подобно богу Аполлону, управляет содружеством муз, то есть превосходной труппой, чья слава распространилась по всему Парижу, вышла за его пределы и достигла владений моего господина?
– Именно, – коротко отвечал Ирод, отвешивая самый любезный поклон, который не сочетался со свирепой физиономией и разбойничьей бородой трагика.
– Граф де Поммерейль имеет желание развлечь своих благородных гостей, представив театральную пьесу в своем замке, – продолжал старик. – Поразмыслив, он решил, что ни одна труппа не подходит для этого в такой степени, как ваша, и прислал меня осведомиться, не согласитесь ли вы дать представление у него в поместье, расположенном в нескольких лье от Парижа. Господин граф, надо вам знать, весьма щедр и не поскупится на расходы ради того, чтобы принять у себя вашу прославленную труппу!
– Я готов сделать все возможное, чтобы удовлетворить желание столь благородной особы, – ответил Тиран, – даже несмотря на то, что нам довольно трудно отлучиться из Парижа в самый разгар сезона.
– На это потребуется не больше трех дней: один на дорогу, другой на представление и третий на обратный путь, – заметил дворецкий. – В замке имеется театральный зал, где вам останется только установить декорации. Граф приказал вручить вам сто пистолей на дорожные расходы, столько же вы получите после спектакля. Актрисам также будут сделаны подарки: кольца, брошки, браслеты – словом, те вещицы, к которым неравнодушно женское сердце.
В подкрепление своих слов доверенный слуга графа де Поммерейля извлек из кармана камзола увесистый кошелек, раздутый, словно от водянки, развязал его и высыпал на стол сотню новехоньких золотых монет, блестевших чрезвычайно соблазнительно.
Глядя на эту кучу золота, Тиран удовлетворенно поглаживал свою черную бороду. Наглядевшись вдоволь, он сложил монеты в столбики, пересыпал в свой карман и кивком выразил свое согласие.
– Иначе говоря, вы принимаете приглашение, – проговорил дворецкий. – Значит, так я и доложу своему господину.
– Я предоставляю себя и своих товарищей в распоряжение его милости графа, – подтвердил Ирод. – А теперь назовите мне день, когда должен состояться спектакль, и пьесу, которую угодно видеть графу, ведь мы должны захватить необходимые костюмы и реквизит.
– Было бы хорошо, если бы представление состоялось не позже, чем в следующий четверг, – сказал дворецкий. – Мой господин сгорает от нетерпения, а что касается выбора пьесы, тут он всецело полагается на вас.
– Самая модная новинка – это «Комическая иллюзия» одного молодого нормандского сочинителя, подающего большие надежды, – ответил Тиран. – Его зовут Пьер Корнель.
– Хорошо, пусть будет «Комическая иллюзия». Говорят, стихи там недурны, а главное – есть превосходная роль хвастливого капитана.
– Теперь остается одно: выяснить точное местоположение замка вашего господина, чтобы нам не пришлось плутать по проселкам, и маршрут, которого нам следует держаться.
Дворецкий графа де Поммерейля дал такие подробные и точные объяснения, что с их помощью даже слепец, нащупывающий дорогу клюкой, добрался бы до места. Однако, опасаясь, как бы актер не перепутал чего-нибудь, поскольку на пути было множество поворотов и развилок, старик добавил:
– Чтобы не обременять такими мелкими подробностями вашу память, заполненную прекраснейшими стихами лучших поэтов, лучше я пришлю за вами лакея. Он-то и послужит вам проводником.
Уладив дело к обоюдному удовлетворению, дворецкий удалился, на прощание попытавшись перещеголять Тирана в учтивости: на каждый поклон актера он отвешивал два, причем еще более глубоких и почтительных. Так что в результате оба в какой-то момент стали походить на типографские скобки, одержимые пляской святого Витта. Не желая оказаться побежденным в этом состязании, Тиран проводил посетителя через весь двор гостиницы и уже в воротах отвесил старику последний поклон, втянув свой объемистый живот и едва не коснувшись лбом мостовой.
Если бы он не вернулся к себе, а проводил бы глазами учтивейшего дворецкого графа де Поммерейля до конца улицы, то, возможно, заметил бы, что, вопреки законам перспективы, фигура визитера по мере удаления становилась все выше ростом. Сгорбленная спина расправилась, старческая дрожь пальцев куда-то исчезла, а упругость походки больше не свидетельствовала о подагре. Однако Тиран спешил, и все это осталось вне его поля зрения.
В среду утром, когда гостиничная прислуга грузила декорации и узлы с костюмами в запряженный парой добрых лошадей фургон, нанятый Тираном, у ворот гостиницы появился дюжий детина в пышной ливрее верхом на першеронском коне и оглушительным щелканьем бича оповестил актеров, что их провожатый прибыл и надо бы поторопиться.
Дамы любят понежиться в постели и повозиться с туалетами, даже если они актрисы, привыкшие на сцене мгновенно менять костюмы. Но вот и они наконец спустились, расположившись более или менее удобно на скамьях, устланных сеном и прикрепленных к боковым стенкам фургона. Часы на башне «Ля Самаритэн» отсчитали восемь ударов, и тяжеловесная повозка тронулась. Через полчаса она миновала ворота Сент-Антуан и Бастилию, угрюмые башни которой отражались в темно-зеленых водах рва. Затем, миновав предместье, где среди огородов лишь кое-где виднелись приземистые дома, фургон покатил полями в сторону Венсенского замка, чья сторожевая башня уже виднелась вдали сквозь дымку утреннего тумана, мало-помалу тающего под солнечными лучами.
Сытые лошади шли резво, и вскоре фургон достиг старинной крепости, чьи готические фортификационные сооружения неплохо сохранились, но уже не могли противостоять современным пушкам и бомбардам. За крепостными стенами весело сверкали шпили часовни, возведенной Пьером де Монтеро. Полюбовавшись этими памятниками былой славы французских королей, путники въехали в лес, где среди кустарника и молодой поросли величаво возносили свои кроны древние дубы – современники того дерева, под сенью которого Людовик Святой вершил суд, как и подобает монарху.
Дорога оказалась не слишком наезженной, и порой фургон катился прямо по земле, покрытой жухлой травой, заставая врасплох молодых кроликов. При виде лошадей зверьки бросались наутек, словно за ними гналась свора собак, чем весьма потешали актеров. Время от времени дорогу испуганно перебегала белка, и еще долго было видно, как мелькает ее пушистый хвост среди голых ветвей. Все это было близко душе Сигоньяка, который вырос в окружении дикой природы. Его взгляд радовали широкие луга, заросли кустарников, лес и его обитатели. Всего этого он был лишен с тех пор, как оказался в городе, где постоянно видишь только дома, замусоренные и слякотные улицы и чадящие трубы – нескладные творения рук человеческих, а не Божьих. Барон затосковал бы в городе, если бы синие глаза милой его сердцу девушки не заменили ему всю лазурь небесного купола.
Сразу за лесом начинался небольшой подъем, и Сигоньяк сказал Изабелле:
– Душа моя, пока фургон будет взбираться на холм, не хотите ли вы пройтись рядом со мной пешком, чтобы немного размяться и согреться? Дорога тут твердая, день сегодня ясный, к тому же не слишком холодно.
Молодая актриса кивнула и, опершись на подставленную Сигоньяком руку, легко спрыгнула с повозки.
Что могло быть лучше невинной прогулки с возлюбленным в окружении природы? Они то уходили далеко вперед, обгоняя фургон, то, увлекшись беседой, отставали, а иной раз останавливались, глядя в глаза друг другу и наслаждаясь тем, что они вместе, рядом, рука об руку. Сигоньяк говорил о своей любви, и хотя Изабелла слышала эти речи уже много раз, они казались ей такими же свежими, неожиданными и прекрасными, как первое слово, произнесенное Адамом после того, как Господь, сотворивший его даровал ему речь. Будучи существом деликатным во всем, что касалось чувств, Изабелла пыталась удержать эту любовь в границах нежной дружбы, ибо считала ее губительной для будущности барона. Но ее возражения лишь усиливали чувство Сигоньяка.
– Как бы вы ни усердствовали, дорогая, – говорил он возлюбленной, – вам не удастся поколебать мое постоянство. Чтобы ваши сомнения окончательно рассеялись, скажу следующее: если понадобиться, я готов ждать вас и надеяться до тех пор, пока золото ваших прекрасных волос не превратится в серебро!
– Ах, тогда я и сама стану лучшим лекарством от любви и своим безобразием смогу отпугнуть даже самого терпеливого воздыхателя, – смеясь, возразила Изабелла. – Боюсь, что тогда награда за верность превратиться в жестокое наказание.
– Я уверен, что даже в шестьдесят лет вы сохраните все свое обаяние, – галантно ответил Сигоньяк, – потому что красота ваша исходит из души, а душа, как известно, бессмертна!
– И все равно вам бы туго пришлось, если б я поймала вас на слове и обещала свою руку и сердце только тогда, когда мне сравняется пятьдесят… Но довольно шуток, – продолжала Изабелла, смахнув улыбку с лица, – вам известно мое решение, поэтому довольствуйтесь тем, что вас любят больше, чем любили кого-либо из смертных с тех пор, как первый человек ступил на эту землю!
– Право, такое пленительное признание могло бы утешить кого угодно, но любовь моя беспредельна, и она не вынесет никаких преград. Бог может повелеть морю: «Остановись, не смей разливаться далее положенного предела!» – и оно подчинится. Но у страсти, подобной моей, нет берегов, она все разрастается, каким бы ангельским голоском вы ни твердили ей: «Довольно!»
– Сигоньяк, ваши разговоры сердят меня, – заметила Изабелла с недовольной гримаской, в глубине которой пряталась ласкающая улыбка, ибо душу девушки, помимо ее воли, наполняла тихая радость от слов возлюбленного.
Оба прошли еще несколько шагов в молчании. Сигоньяк боялся настаивать, чтобы не разгневать ту, которую любил больше жизни. Внезапно Изабелла отняла свою руку и легко, как лань, с каким-то детским возгласом, свернула с дороги в сторону.
На ближнем склоне у подножья сурового дуба, среди палой листвы, развороченной зимними ветрами, девушка заметила фиалку, должно быть первую в этом году, потому что стоял февраль и до тепла было еще далеко. Опустившись на колени, Изабелла осторожно раздвинула сухие листья и травинки, осторожно сорвала хрупкий цветок с тонким стебельком и вернулась с такой радостью на лице, словно нашла драгоценный аграф, забытый на мху какой-нибудь феей.
– Взгляните, какая славная, – сказала она, показывая фиалку Сигоньяку, – ее лепестки еще только распускаются, пригретые первыми солнечными лучами!
– Они распускаются вовсе не от солнца, а от вашего взгляда, – возразил Сигоньяк. – Поэтому и цвет у этой фиалки в точности такой же, как у ваших глаз.
– Она совсем не пахнет, потому что ей слишком холодно! – сказала Изабелла и спрятала зябкий цветок под косынку на груди. Чуть погодя она вынула его, вдохнула летучий аромат и, украдкой поцеловав, протянула Сигоньяку. – Вот теперь она пахнет!
– Это вы надушили ее, – возразил Сигоньяк, поднося фиалку к губам, чтобы вкусить поцелуй Изабеллы. – В этом нежном и сладостном благоухании нет ничего земного!
– Ну что за человек! – возмутилась Изабелла. – Я простодушно даю ему понюхать цветок, а он изощряется, сочиняя бог весть какие кончетто[65] в духе Марино, как будто мы не на проезжей дороге, а в алькове какой-нибудь светской жеманницы. Ну что с вами делать? На каждое простое словечко вы отвечаете замысловатым мадригалом!
Несмотря на неискреннее возмущение, молодая актриса не очень-то сердилась на Сигоньяка, иначе не оперлась бы снова на его руку, и даже крепче, чем того требовала дорога, ровная в том месте, как садовая аллея. Из чего следует, между прочим, что даже самая безупречная добродетель не всегда равнодушна к похвалам и порой находит способ отблагодарить за лесть.
Фургон тем временем неторопливо поднимался по крутому склону холма, у подошвы которого виднелось несколько приземистых хижин. Бедные поселяне, жившие там, были заняты на полевых работах, а у обочины дороги сидел только слепец с мальчиком-поводырем. В деревушке он остался один, надеясь на милость редких прохожих и проезжих.
Слепец, невероятно старый и дряхлый, ныл что-то жалобное, оплакивая свою слепоту, и умолял путников подать ему хоть грош, обещая им за это царствие небесное. Голос его, полный душераздирающих нот, уже давно долетал до Изабеллы и Сигоньяка, словно жужжание шмеля, и нарушал гармонию их беседы. Барон даже начал сердиться: одно дело пение соловья, и совсем другое – карканье старого слепого ворона.
Когда они приблизились к старому нищему, тот, предупрежденный поводырем, удвоил усилия и принялся громко стонать и клянчить, потрясая деревянной чашкой, на дне которой звенело несколько мелких монеток. Голова старика была повязана рваной тряпицей, согнутую в дугу спину покрывал грубошерстный плащ, толстый и тяжелый, больше похожий на конскую попону, чем на человеческую одежду. Скорее всего, он достался старику в наследство от мула, околевшего на дороге. Глаза слепца были заведены под веки, и только белки сверкали на темном морщинистом лице, производя жуткое и отталкивающее впечатление; ввалившиеся щеки и подбородок утопали в длинной седой бороде, достойной отшельника, которая доходила чуть ли не до земли. Те́ла калеки не было видно, и только трясущиеся руки высовывались из-под плаща, встряхивая чашку для подаяний. В знак благочестия и полной покорности воле Всевышнего слепец стоял на коленях на соломенной подстилке, настолько истертой и прогнившей, что гноище библейского Иова показалось бы мягкой периной. Сострадание к этому отребью рода человеческого неминуемо сопровождалось отвращением, и всякий, кому приходило в голову проявить милосердие, невольно отводил взгляд, опуская монету в чашку.
Подросток-поводырь, стоявший рядом со старцем, походил на злобного дикаря. Длинные пряди немытых черных волос прилипли к его щекам. Старая, продавленная и непомерно большая шляпа, подобранная где-нибудь в канаве, затеняла верхнюю часть его лица, оставляя на свету только подбородок и рот, в котором хищно сверкали зубы. Всю его одежду составлял балахон из грубого холста, сквозь который виднелись контуры тощего, но крепко сбитого тела, не лишенного известного изящества, несмотря на вопиющую нищету. Босые стройные ноги покраснели от холода промерзшей земли.
Тронутая зрелищем горькой старости и обездоленного детства, Изабелла остановилась перед слепцом; тот продолжал скороговоркой бубнить свои заклинания, а поводырь пронзительным дискантом вторил ему. Девушка поискала в кармашке монету, чтобы подать нищему, но, вспомнив, что кошелек остался в бауле, обернулась к Сигоньяку и попросила его одолжить несколько су. Барон немедленно исполнил просьбу, несмотря на то, что причитающий старик ему не понравился. Не желая, чтобы Изабелла приближалась к парочке оборванцев, что могло оказаться опасным, барон сам опустил монеты в деревянную чашку.
Внезапно вместо того, чтобы поблагодарить Сигоньяка за подаяние, согбенный старец упруго выпрямился, страшно испугав Изабеллу, затем раскинул руки, словно взлетающий ястреб крылья, расправил свой огромный плащ и движением рыбака, забрасывающего невод в воду, метнул его вперед. Плотная ткань, словно туча, распростерлась над Сигоньяком, накрыла его с головой и мгновенно повисла вдоль туловища тяжелыми складками, потому что в ее края были вшиты свинцовые грузила. Барон мгновенно задохнулся, перестал что-либо видеть и не мог ничего предпринять, так как его руки и ноги окончательно запутались в складках этого ловчего приспособления.
Изабелла, окаменев от ужаса, попыталась крикнуть, позвать на помощь, бежать, но, прежде чем она успела издать хоть звук, чьи-то руки стремительно подхватили ее и оторвали от земли. Слепец, внезапно помолодевший и прозревший, держал ее под мышки, а подросток-поводырь – за ноги. Оба, не проронив ни слова, торопливо понесли девушку в сторону от дороги и остановились лишь позади хижины, где их поджидал человек в маске, сидевший верхом на рослом жеребце. Еще двое всадников в масках, вооруженные до зубов, прятались за каменной оградой, чтобы их не заметили с дороги, и были готовы в любую минуту прийти на помощь своим сообщникам.
Девушку, пребывавшую в полуобмороке, подняли на седло и усадили перед всадником, тот мгновенно обвил ее талию кожаным ремнем и им же опоясал себя. Все это было проделано с поразительной быстротой и ловкостью, свидетельствовавшей о большом опыте в такого рода делах. Затем всадник пришпорил лошадь, та взвилась на дыбы и с места взяла галопом, словно и не несла на спине двойной груз.
Все заняло гораздо меньше времени, чем требуется для того, чтобы прочесть описание этих событий. Сигоньяк все еще метался под плащом лжеслепца, словно гладиатор, угодивший в сети противника на арене. Тщетно пытаясь освободиться, он буквально сходил с ума от мысли, что они снова угодили в ловушку и Изабелла, скорее всего, уже в руках подручных де Валломбреза. Наконец ему удалось вытащить из ножен кинжал и разрезать плотную ткань, висевшую на нем, словно свинцовые одежды грешников из Дантова «Ада».
Освободившись, барон наконец-то смог осмотреться и тотчас заметил похитителей Изабеллы, скакавших напрямик через луга, чтобы как можно быстрее добраться до ближайшего леса. Слепец и поводырь-подросток исчезли – очевидно, скрылись в каком-нибудь овраге или зарослях кустарника. Но они не интересовали Сигоньяка. Отшвырнув плащ, послуживший коварной ловушкой, он с быстротой отчаяния ринулся в погоню за бандитами.
Барон был подвижен, легок, отлично сложен и словно создан для быстрого бега. В детстве он не раз выходил победителем из состязаний с самыми шустрыми деревенскими мальчишками. Оглянувшись, похитители заметили, что расстояние между ними и Сигоньяком сокращается. Один из них вытащил из-за пояса пистолет и выстрелил, пытаясь его остановить, но промахнулся, потому что барон на бегу лавировал и бросался из стороны в сторону, чтобы помешать врагам как следует прицелиться. Наконец всадник, увозивший Изабеллу, оторвался от своих спутников, предоставив им расправиться с Сигоньяком, но девушка, сидевшая на седельной луке, не позволяла ему как следует погонять коня, отбивалась и вырывалась, пытаясь соскользнуть на землю.
Рыхлая и мокрая травянистая луговина была тяжела для лошадей, и Сигоньяк мало-помалу приближался. Не замедляя бега, он выхватил шпагу из ножен и держал ее в руке, но он был один против трех всадников, к тому же у него уже перехватывало дыхание.
Сделав нечеловеческое усилие, он в несколько прыжков догнал верховых, прикрывавших похитителя. Не желая тратить время на схватку, концом шпаги он пару раз кольнул крупы их лошадей, рассчитывая, что от боли те шарахнутся и понесут. И в самом деле, кони отпрянули, вскинулись на дыбы, закусили удила и, как ни пытались всадники их удержать, ринулись вскачь через рвы и канавы, будто гонимые сами нечистым. Вскоре они скрылись из виду.
Обливаясь потом, хрипя, хватая воздух пересохшим ртом и каждый миг опасаясь, что сердце вот-вот лопнет в груди, Сигоньяк наконец настиг всадника в маске, который удерживал Изабеллу, прижимая девушку к холке коня. Молодая женщина отчаянно закричала:
– Ко мне, барон, на помощь!
– Я здесь! – прохрипел Сигоньяк, хватаясь левой рукой за ремень, которым Изабелла была привязана к похитителю.
Теперь он бежал рядом с лошадью, пытаясь стащить всадника на землю. Но тот держался цепко, отчаянно стискивая бока лошади коленями и одновременно терзая шпорами брюхо животного, чтобы оно ускорило бег. Стрелять похититель не мог, так как одной рукой сжимал поводья, а другой удерживал Изабеллу. Наконец лошадь, ошалевшая от всего происходящего, пошла шагом, и это позволило Сигоньяку перевести дух; он даже попытался во время этой краткой передышки нанести противнику удар шпагой, однако страх задеть Изабеллу, которая все время двигалась, пытаясь вырваться, сделал его неловким, и барон промахнулся.
Всадник на миг выпустил поводья, выхватил из кармана нож и перерезал ремень, за который в отчаянии цеплялся Сигоньяк. Затем всадил шпоры в бока лошади так, что брызнула кровь и несчастное животное бешено рванулось вперед. Ремень остался в руке Сигоньяка, а сам он, потеряв равновесие от неожиданности, рухнул ничком.
Две-три секунды потребовались ему, чтобы снова оказаться на ногах и подобрать отлетевшую в сторону шпагу, но за этот короткий промежуток времени всадник успел удалиться на значительное расстояние, наверстать которое у барона, измученного бешеной гонкой, не было никаких шансов. Тем не менее, услышав жалобные призывы Изабеллы, он снова бросился в погоню – тщетное усилие человека, у которого отнимают самое дорогое! Однако теперь он заметно отставал, а всадник уже достиг леса, который, хоть и лишенный листвы, был достаточно густ, чтобы бандит и его жертва вскоре окончательно затерялись среди стволов и ветвей.
В бешенстве и изнеможении Сигоньяк остановился. Дальнейшее преследование было бессмысленным. Его возлюбленная, его обожаемая Изабелла оказалась в когтях сущего демона! Он ничего не мог поделать, а Тиран и Скапен, которые, заслышав пистолетные выстрелы, выскочили из фургона и бросились к барону, ничем не могли ему помочь.
В нескольких отрывистых фразах Сигоньяк, все еще дрожа от возбуждения, поведал друзьям обо всем, что произошло.
– Это дело рук де Валломбреза, – мрачно констатировал Тиран. – Он каким-то образом пронюхал о нашей поездке в замок Поммерейль и устроил эту западню. А может, и визит дворецкого, и спектакль, за который я получил авансом немалые деньги, придуманы только для того, чтобы выманить нас из Парижа, где проделать подобное гораздо труднее и опаснее. Как бы там ни было, но мошенник, сыгравший роль почтенного дворецкого, – лучший актер из всех, каких только мне приходилось видеть! Я мог бы поклясться, что этот негодяй – действительно старый и простодушный слуга из благородного дома, преисполненный всевозможных добродетелей и достоинств… Но сейчас это уже не важно. Теперь, когда мы втроем, давайте обшарим вдоль и поперек этот лесок: может, нам удастся напасть хотя бы на след похитителей и нашей Изабеллы, которая дорога мне, как собственная дочь. Увы, боюсь, что наша невинная пчелка все-таки угодила в сети гигантского ядовитого паука. Лишь бы он не успел покончить с ней, прежде чем мы вызволим ее из хитросплетений его паутины!
– Я раздавлю эту гадину! – хрипло прорычал Сигоньяк, топнув ногой, словно ядовитая тварь и в самом деле оказалась под его каблуком. – И покончу с ней раз и навсегда!
Лицо его, обычно спокойное и приветливое, исказило такое выражение, что всякий, кто его видел, не усомнился бы, что барон от своего намерения не отступит.
– Сейчас не до того, – вмешался Тиран. – Думаю, нам все же следует обыскать лес: вряд ли наша дичь успела убежать слишком далеко!..
В самом деле, стоило Сигоньяку и его спутникам пересечь лес, путаясь в зарослях кустарника и продираясь через завалы, как издали до них донеслось щелканье бича, гиканье кучера и стук колес. Выбравшись на опушку, преследователи увидели уносящуюся по проселочной дороге карету, запряженную четверкой отменных гнедых лошадей. Шторки на дверцах кареты были опущены, сопровождали ее двое всадников – очевидно, тех самых, чьих лошадей заставила взбеситься шпага Сигоньяка. Еще одна лошадь скакала за каретой без седока, ее поводья были привязаны к седлу одного из верховых. Скорее всего, она принадлежала человеку в маске, который сейчас находился в карете, чтобы не позволить Изабелле позвать на помощь или даже, рискуя жизнью, выпрыгнуть на ходу.
Без семимильных сапог не имело смысла гнаться за каретой, стремительно мчавшейся под охраной двух бандитов. Сигоньяку и его спутникам оставалось одно: проследить, в каком направлении двигаются похитители. Барон попытался идти по следам колес, но погода стояла сухая, отпечатки на твердой почве были едва различимы, да и те вскоре смешались со следами других карет и повозок, проезжавших здесь прежде. У перекрестка, где дорога разветвлялась, барон окончательно потерял след, и ему поневоле пришлось повернуть обратно. Ошибочно выбранный путь мог только увести их от цели. Маленький отряд понуро вернулся к фургону, где в тревоге и страхе его ожидали остальные актеры.
Еще до начала этих событий дюжий лакей-проводник повел себя странно. Когда Тиран и Скапен, заслышав пистолетные выстрелы, попытались выскочить из фургона, он принялся нахлестывать лошадей, чтобы актеры не могли прийти на помощь Сигоньяку. Когда же они все-таки выпрыгнули на дорогу и бросились через луг к лесу, провожатый в ливрее пришпорил своего коня, перемахнул через канаву и помчался вслед за своими сообщниками. Очевидно, в ту минуту ему было все равно, доберется ли труппа до замка Поммерейль, если таковой вообще существовал.
Вернувшись к фургону, Тиран первым делом спросил у старухи, которая брела по обочине с вязанкой хвороста за плечами, далеко ли отсюда до Поммерейля. На это крестьянка ответила, что в здешней округе нет и никогда не было ни поместья, ни селения, ни замка с таким названием. И, хоть ей уже семьдесят и она с малолетства бродит по окрестностям в поисках пропитания и милостыни, ни о каком таком Поммерейле слышать ей не приходилось.
Никаких сомнений не оставалось: вся история с представлением в загородном имении была ловушкой, состряпанной какими-то ловкими и бессовестными мошенниками по поручению некоего богатого вельможи, ибо для такой сложной комбинации требовалось немало людей и золота. Этим вельможей, разумеется, был не кто иной, как влюбленный в Изабеллу герцог де Валломбрез.
Возница развернул лошадей, и фургон покатил обратно в Париж, а Сигоньяк, Тиран и Скапен остались на месте происшествия, рассчитывая нанять в ближайшей деревне лошадей и уже верхом пуститься в погоню за похитителями…
После того как барон потерял равновесие и упал, всадник в маске вместе со своей пленницей вскоре добрался до небольшой поляны у края леса. Там девушку сняли с лошади и поместили в карету, несмотря на то, что она отчаянно сопротивлялась. Все это заняло не больше двух-трех минут, после чего карета тронулась и покатила, постепенно набирая ход. Напротив Изабеллы расположился человек в маске – тот самый, что вез ее в седле. Он вел себя вполне учтиво, но, как только девушка попыталась выглянуть в окно, ее таинственный спутник протянул руку и отстранил ее. Противиться этой железной руке Изабелла не могла, поэтому она откинулась на сиденье и отчаянно закричала в надежде, что ее услышит какой-нибудь прохожий.
– Окажите любезность, мадемуазель, успокойтесь! – проговорил похититель с изысканной вежливостью. – Не вынуждайте меня применять насилие к столь пленительной особе. Никто не желает вам зла, наоборот – всяческого добра. Не упорствуйте: все эти проявления строптивости совершенно бесполезны. Если вы будете вести себя благоразумно, я буду обращаться с вами, как с попавшей в плен королевой, но если попытаетесь сопротивляться и взывать о помощи, которой все равно не получите, то у меня достаточно способов вас утихомирить. Надеюсь, вид вот этого заставит вас помалкивать и сидеть смирно!
С этими словами человек в маске извлек из кармана искусно изготовленный кляп вместе с мотком длинной и тонкой шелковой веревки.
– Будет сущим варварством и оскорблением воспользоваться этой снастью для обуздания столь прелестных и сладостных уст! – продолжал негодяй. – Согласитесь, что и веревка не пойдет к вашим нежным и хрупким ручкам, созданным, чтобы носить золотые браслеты, усыпанные алмазами.
При всем отчаянии Изабелле пришлось признать весомость этих аргументов. В ее положении физическое сопротивление не могло ни к чему привести. Поэтому молодая актриса забилась в угол кареты и больше не проронила ни слова. Лишь изредка из ее груди вырывался глубокий вздох от сдерживаемых рыданий и слезы скатывались по бледным щекам, словно капли росы с лепестков белой розы. В эти минуты она думала об опасности, которой подвергалась ее честь, и о безмерном отчаянии Сигоньяка.
«За приступом гнева – приступ слез, – думал в это время человек в маске. – Все как по писаному! Тем лучше: не хотелось бы чересчур жестоко обходиться с такой красоткой».
Сжавшись в комок в углу кареты, Изабелла время от времени бросала пугливые взгляды на своего стража. Тот наконец заметил это и, стараясь придать своему хриплому голосу мягкость, проговорил:
– Не стоит бояться меня, мадемуазель. Я человек чести и в отношении вас не сделаю ничего худого. Если б судьба не обделила меня своими щедротами, я, разумеется, не стал бы похищать для другого столь целомудренную, красивую и столь щедро одаренную талантами девицу, как вы. Однако суровый рок порой толкает человека на не вполне благовидные поступки.
– Значит, вас подкупили, поручив похитить меня? – воскликнула Изабелла. – И вы согласились на это подлое, бесчеловечное насилие!
– Отпираться было бы бессмысленно, – невозмутимо ответил человек в маске. – В Париже немало таких же философов, как я, готовых за деньги решать чужие проблемы и удовлетворять чужие страсти, делясь своим умом, находчивостью, силой и отвагой. Но оставим в покое эту тему. Поговорим лучше о театре: вы были просто очаровательны в своей последней роли! Сцену любовного признания вы провели с несравненным изяществом и блеском. Я аплодировал вам громче, чем прачки колотят вальками на Сене!
– Скажу в свою очередь: подобные комплименты в таких обстоятельствах более чем неуместны. Куда вы меня везете вопреки моей воле?
– Не могу сказать вам этого – увы! К тому же такое знание для вас совершенно бесполезно. Мы, подобно духовникам и врачам, обязаны соблюдать тайну. Такое условие неизбежно в опасных предприятиях, осуществляемых безликими призраками. Зачастую мы даже не знаем того, кто поручает нам эти рискованные дела, а он не знает наших имен.
– Значит, вам неизвестно, чья рука толкнула вас на гнусное преступление – похищение женщины на большой дороге?
– Известно или нет – суть та же: долг налагает печать на мой рот. Поищите среди своих поклонников самого пылкого и самого неудачливого. Скорее всего, это он.
Поняв, что от человека в маске ничего не добиться, Изабелла замолчала. К тому же у нее не было ни малейших сомнений, что за похищением стоит герцог де Валломбрез. Девушка отчетливо помнила, каким тоном он произнес, покидая ее комнату в гостинице на улице Дофина: «До свидания, сударыня!» Прозвучавшие из уст человека избалованного, необузданного в желаниях и не знающего преград своей воле, эти обычные слова не сулили ничего хорошего.
Уверенность только усугубила ужас бедной актрисы. Она едва не теряла сознание от мысли, каким угрозам подвергнется ее целомудрие со стороны высокомерного вельможи, в сердце которого говорила не любовь, а уязвленная гордыня. Оставалась единственная надежда: что отважный и верный друг, барон де Сигоньяк, придет ей на помощь. Но удастся ли ему обнаружить тайное убежище, куда ее наверняка везут? «Что бы ни случилось, – решила наконец Изабелла, – если злодей посмеет меня оскорбить, нож Чикиты, который я ношу за корсажем, станет моим помощником. И я не раздумывая пожертвую жизнью, чтобы спасти честь».
Приняв такое решение, девушка немного успокоилась.
Уже около двух часов карета двигалась с одной и той же скоростью, задержавшись лишь на несколько минут, чтобы сменить притомившихся лошадей. Шторки были по-прежнему опущены, Изабелла не видела пейзажа за окном и понятия не имела, в какую сторону ее везут. Если бы у нее была возможность хоть на минуту выглянуть наружу, она, даже не зная местности, могла бы определить направление по солнцу. Но ее держали в полном неведении – причем, совершенно сознательно.
Наконец колеса загремели по настилу подъемного моста, и девушка поняла, что они у цели. Действительно, карета остановилась, дверцы распахнулись, и человек в маске протянул Изабелле руку, чтобы помочь ей выйти.
Здесь ей впервые удалось осмотреться. Карета стояла в просторном внутреннем дворе. Его обрамляли расположенные прямоугольником четыре внушительных здания из красного кирпича, принявшие от времени цвет запекшейся крови. Взглянув на зеленоватые стекла фасадов, Изабелла обнаружила, что почти все оконные проемы изнутри закрыты ставнями. Из этого наблюдения следовало, что покои, находившиеся за этими окнами, уже давно необитаемы. Двор был вымощен известняковыми плитами, в щелях между которыми гнездился зеленый мох, а у оснований стен пробивалась трава. На цоколях перед парадным крыльцом два мраморных сфинкса в египетском вкусе демонстрировали свои притупившиеся когти, а их тела были покрыты желтыми и серыми пятнами лишайников. Вместе с тем этот неведомый замок, хоть и отмеченный печатью отсутствия хозяев, сохранил аристократическую пышность. Он был пуст, но вовсе не заброшен, нигде не было видно признаков упадка. Тело, так сказать, неплохо сохранилось, отсутствовала лишь душа.
Человек в маске передал Изабеллу с рук на руки лакею в серой ливрее. По широкой лестнице с коваными перилами, украшенными сложным орнаментом из завитков и арабесок – по моде прошлого царствования, лакей отвел девушку в покои, которые, вероятно, когда-то считались верхом великолепия и в своей увядшей роскоши могли спорить с новомодным щегольством. Стены первой комнаты были обшиты панелями мореного дуба. Дубовые же пилястры, карнизы и резные украшения обрамляли фламандские шпалеры. Во второй комнате, тоже обшитой дубом, но с более изысканной резьбой и позолотой, взамен шпалер висели аллегорические картины, потускневшие под слоем свечной копоти и старого лака. Темные места совершенно расплылись, и лишь светлые фрагменты живописи можно было разобрать. Лица богов и богинь, нимф и героев как бы всплывали из мрака, что производило странное впечатление, а по вечерам при неверном свете могло даже пугать. Кровать располагалась в глубоком алькове и была застлана шитым золотом покрывалом с бархатными вставками; и это великолепие изрядно поблекло. Золотые и серебряные нити тускло поблескивали среди полинявших шелков, а красный бархат местами отливал синевой. Бледное, до неузнаваемости изменившееся лицо Изабеллы внезапно отразилось в венецианском зеркале над роскошным резным туалетным столиком.
Очевидно, по случаю ее прибытия сюда, в камине ярко пылал огонь. Камин этот представлял собой монументальное сооружение. По обе стороны от него стояли античные статуи, а каминная полка и пространство над ней были перегружены волютами, кронштейнами, коваными гирляндами и прочими украшениями, которые как бы обрамляли портрет мужчины, чья внешность чрезвычайно поразила Изабеллу. Черты его показались ей не вовсе чуждыми; они смутно помнились ей, как образы сновидений, которые не исчезают вместе с пробуждением, а еще некоторое время преследуют нас наяву. Это было лицо темноглазого человека лет сорока с яркими губами пурпурного цвета и блестящими каштановыми волосами. На нем лежала печать благородной гордости. Грудь его была стянута кирасой из вороненой стали с золотыми насечками, на плечах лежал белый шелковый шарф. Несмотря на тревогу и страх, естественные для ее беспомощного положения, Изабелла, словно зачарованная, то и дело возвращалась взглядом к портрету. В лице мужчины в кирасе было что-то общее с лицом де Валломбреза, но выражения этих двух лиц настолько отличались, что черты сходства вскоре забывались и казались не имеющими значения.
Изабелла все еще была поглощена этими мыслями, когда лакей в серой ливрее вернулся с двумя слугами, которые несли столик с одним-единственным прибором.
– Кушать подано! – торжественно объявил пленнице лакей.
Один из слуг бесшумно придвинул к столику кресло, другой поднял крышку суповой миски из старого массивного серебра. Из-под нее взвилось облачко ароматного пара, и в покое аппетитно запахло наваристым бульоном.
Несмотря ни на что, Изабелла почувствовала, что голодна – природа никогда не поступается своими правами. Однако ее удержала мысль о том, что в поданные ей блюда могли добавить сильное снотворное или наркотик, который лишит ее воли к сопротивлению. Она уже погрузила ложку в тарелку с бульоном, но тут же оттолкнула ее и откинулась на спинку кресла.
Лакей в серой ливрее, очевидно, догадался об опасениях девушки и тут же отведал вина и воды, а затем перепробовал все блюда, стоявшие на столе. Это успокоило пленницу, и она проглотила несколько ложек бульона, съела ломтик хлеба и крылышко цыпленка.
Покончив с едой, Изабелла внезапно почувствовала лихорадочный озноб – сказывалось потрясение от пережитого. Она придвинула кресло поближе к огню и просидела так некоторое время, опершись подбородком на ладонь и погрузившись в смутные и тягостные мысли.
Затем девушка встала и направилась к окну, чтобы взглянуть, куда оно выходит. На нем не было ни ограждений, ни решеток, но, слегка наклонившись, она убедилась, что внизу, у самого подножия стены, тускло поблескивает стоячая, подернутая ряской вода глубокого оборонительного рва, опоясывающего весь замок. Мост, по которому карета въехала в главные ворота, теперь был поднят, и вырваться отсюда можно было только одним способом – пересечь зловонный ров вплавь. Но и это было лишь полдела: после этого следовало вскарабкаться на совершенно отвесную наружную стену рва, облицованную гладким белым камнем.
Дальше горизонт заслоняли кроны вековых деревьев, которыми весь замок был обсажен в два ряда. Из окна покоя были видны лишь их переплетенные голые ветви. Надежды на бегство или избавление не было ни малейшей. Теперь Изабелле предстояло с огромным напряжением ожидать дальнейшего развития событий, впереди скрывались гораздо более серьезные опасности, чем все то, что произошло с нею до сих пор.
Неудивительно, что бедняжка вздрагивала от каждого шороха. От плеска воды за окном, вздохов ветра, потрескивания поленьев в камине у нее замирало сердце и на лбу выступал ледяной пот. Каждую минуту она ожидала: вот, сейчас распахнется дверь или отодвинется стенная панель, открыв потайной ход, и оттуда явится некто – безразлично, человек или призрак. Пожалуй, призрак представлял бы для нее меньшую опасность. Сумерки постепенно сгущались, и точно так же сгущался ее страх. Поэтому, когда в покой вступил рослый лакей, неся перед собой канделябр с зажженными свечами, Изабелла едва не лишилась чувств…
Пока ее сердце поминутно сжималось от страха в пустынных покоях, похитители пировали в подвале замка – бражничали и предавались безобразному чревоугодию, ибо им было приказано оставаться здесь в качестве гарнизона на случай внезапного появления барона де Сигоньяка. Все они были способны поглощать вино, как пересохшие губки, но лишь один из них проявлял в этом деле исключительные, из ряда вон выходящие способности. То был человек, похитивший Изабеллу и сопровождавший ее в карете. Теперь он избавился от маски, и всякий мог видеть его лицо, круглое и бледное, как крестьянский сыр, в центре которого подобно переспелой сливе пламенел рыхлый и мясистый нос.
В этом портрете читатель наверняка уже узнал месье Малартика, приятеля бретера Лампура.
16
Замок Валломбрез
Оставшись в одиночестве в совершенно незнакомом месте, где в любую минуту ее могла подстерегать неведомая опасность, Изабелла испытывала невыразимую тревогу. Кочевая жизнь актрисы избавила ее от робости и сделала смелее обычных женщин, но сейчас нервы были напряжены до предела.
Между тем окружавшая ее обстановка вовсе не была такой мрачной, какой казалась Изабелле. Веселые огоньки плясали на поленьях в камине; пламя свечей освещало весь покой до самых отдаленных уголков, изгоняя оттуда вместе с тьмой призраки, порожденные воображением. Благодатное тепло разливалось по комнате, располагая к покою и беспечности. В живописных панно не было ничего таинственного, а приковавший к себе внимание Изабеллы мужской портрет в золоченой раме, висевший над камином, не обладал тем пристальным неподвижным взглядом, который как бы повсюду следует за вами. Наоборот, изображенный на нем знатный воин как будто слегка улыбался, а выражение его лица было доброжелательным и даже покровительственным. В этом он походил на некоторые изображения святых, к которым можно обратиться в тяжкую минуту.
Но, несмотря на уют, нервы Изабеллы вибрировали, как струны гитары, когда их неосторожно касаются пальцем. Глаза ее тревожно блуждали по комнате, страшась увидеть нечто неведомое, а чувства, возбужденные сверх меры, с ужасом ловили в ночном безмолвии едва различимые звуки. Только богу известно, каким зловещим смыслом наполняло их разгоряченное воображение девушки! Наконец ее беспокойство достигло последней степени, и она решилась покинуть ярко освещенную комнату. Рискуя натолкнуться на самые жуткие препятствия, девушка отправилась блуждать по темным коридорам замка в поисках какого-нибудь выхода или закоулка, в котором можно было бы укрыться. Убедившись, что дверь ее покоя осталась незапертой снаружи, Изабелла взяла с круглого столика масляный ночник, оставленный слугой, и, прикрыв его огонек ладонью, пустилась в странствия.
Первой ее глазам предстала лестница с замысловатыми перилами, по которой она несколько часов назад поднималась наверх в сопровождении лакея в серой ливрее. Теперь Изабелла спустилась, здраво рассудив, что на втором этаже никакого выхода из здания быть не может. Внизу, в просторной прихожей, она заметила большую двустворчатую дверь. Девушка повернула ручку – обе створки с легким скрипом распахнулись. Звук этот показался ей громовым раскатом, хотя в действительности его не было слышно и в трех шагах. Слабый огонек ночника, заколебался в сыром воздухе давно не проветриваемого помещения и позволил молодой актрисе увидеть, что она находится в обширной и необитаемой зале. Вдоль стен тянулись длинные дубовые скамьи, обтянутые гобеленовой тканью с вытканными на ней фигурами, смутно поблескивали висящие на стенах военные трофеи, стяги, латные перчатки, мечи и щиты. Середину залы занимал громадный стол с массивными ножками – Изабелла чуть не наткнулась на него и тут же в испуге застыла: у двери, ведущей в соседний покой, неподвижно стояли, уставившись на нее прорезями шлемов, две фигуры рыцарей, закованных в латы. Руки рыцарей были скрещены на оголовьях мечей, острия клинков упирались в пол, а опущенные забрала шлемов походили на клювы каких-то жутких железных птиц. Вдобавок на гребнях шлемов топорщились стальные пластинки, вырезанные наподобие перьев, отчего они походили на яростно раскинутые крылья. В неверных отблесках света казалось, что сверкающие нагрудники лат движутся, словно их опускает и поднимает тяжелое дыхание, а на наколенниках и налокотниках мерцали стальные острия в форме орлиного когтя, и так же были изогнуты носы латных башмаков. Выглядели эти призраки прошлого весьма устрашающе и могли напугать даже испытанного храбреца.
Сердце Изабеллы колотилось так сильно, что его удары отдавались у нее в горле и в висках. Она уже жалела, что покинула освещенную комнату и отправилась бродить наугад в темноте. Однако железные призраки не шевелились и явно не собирались преграждать ей путь своими мечами. Расхрабрившись, девушка поднесла светильник к самому носу рыцаря и подняла его забрало – внутри было темно и пусто. Оба грозных стража оказались всего лишь манекенами в полном рыцарском вооружении.
Несмотря на по-прежнему смутное состояние духа, Изабелла невольно улыбнулась своей ошибке и, подобно героям рыцарских романов, с помощью талисмана разрушавших чары, преграждавшие дорогу в заколдованный замок, отважно переступила порог следующего покоя.
То была необъятных размеров столовая. Об этом ей сказали высокие буфеты из резного дуба, в которых мерцала серебряная посуда: графины, солонки, перечницы, кубки, вазы, круглые серебряные и позолоченные блюда, похожие не то на щиты, не то на каретные колеса, а также богемский и венецианский хрусталь тонкой работы, на свету искрившийся зелеными, красными и синими огоньками. Стулья с высокими прямоугольными спинками, расставленные вокруг обеденного стола, казалось, все еще ожидают гостей, а ночью служат толпам пирующих привидений. Стены над дубовыми панелями были обтянуты кордовской кожей, тисненой золотом и вспыхивали красноватыми отблесками, насыщая полумрак великолепными теплыми тонами.
Бросив беглый взгляд на всю эту роскошь былых времен, Изабелла направилась в третью комнату – очевидно, парадную залу. Она была еще более просторной, чем два первых покоя, также отличавшихся изрядными размерами. Трепетный свет ночника не мог достичь ее стен и выхватывал из темноты только небольшое пространство в несколько шагов вокруг девушки. Но как ни слаб был огонек, он все же немного рассеивал мрак и придавал теням расплывчатые неясные формы, которые дорисовывал страх. Призраки укрывались в складках портьер и восседали в креслах; мерзкие чудовища прятались в углах, безобразно сгорбившись или повиснув вверх ногами наподобие исполинских летучих мышей.
Лишь обуздав воображение, Изабелла решилась двинуться вперед и в дальнем конце залы обнаружила возвышение, над которым простирался царственного вида златотканый балдахин, увенчанный султанами из страусовых перьев и покрытый геральдическими эмблемами. Под балдахином на ковре стояло тяжелое резное кресло, напоминающее трон, к нему вели три ступени. Все это, смутно выхваченное из мрака, выглядело таинственно, грозно и величественно. Не требовалось особого усилия, чтобы представить себе повелителя тьмы, который восседал на этом троне, сложив свои огромные черные крылья.
Изабелла невольно ускорила шаг. И, хотя походка девушки была легка, легкое поскрипывание ее башмачков в этой зале, буквально затопленной безмолвием, приобретало какую-то пугающую звучность.
Четвертый покой оказался опочивальней, бо́льшую часть которой занимала огромная кровать, скрытая за тяжелыми занавесями из темно-красного индийского шелка. В просвете между кроватью и стеной стоял складной аналой из черного дерева, над которым поблескивало серебряное распятие.
Кровать с задернутым пологом даже днем внушает странное и тревожное чувство. Невольно приходят мысли о том, что может скрываться за этими занавесями. А ночью, да еще и в давно необитаемой комнате, она способна вселить леденящий ужас. Кто там: спящий, полуразложившийся мертвец или живой человек, подстерегающий тебя?
Изабелле начало мерещиться, что из-за полога доносится звук мерного дыхания. Было это реальностью или всего лишь обманом чувств? Однако она не отважилась установить истину, раздвинув складки красного шелка и осветив кровать своей лампой.
За спальней находилась библиотека. Бюсты многочисленных поэтов, историков и философов, расставленные на книжных шкафах проводили Изабеллу своими слепыми белыми глазами. Названия и номера томов на корешках многочисленных книг, без всякой системы загромождавших полки, вспыхивали золотом, едва их касался луч лампы.
Далее здание поворачивало под прямым углом. Вдоль бокового фасада со стороны двора тянулась длинная галерея. По одну ее сторону в хронологическом порядке висели портреты прежних хозяев замка в побуревших золоченых рамах. Противоположная стена состояла из ряда окон, закрытых ставнями, в верхней части которых имелись овальные отверстия. Уже взошла луна, и ее лучи, проникая в эти отверстия, создавали совершенно колдовской световой эффект. Некоторые из овальных бликов лунного света, точно мертвенные маски, ложились на лица того или иного вельможи. От этого портреты словно оживали – тела изображенных на них оставались в тени, зато лица, озаренные серебристым сиянием, приобретали объем, словно барельефы, и каждое из них словно поворачивалось, глядя на девушку. Те картины, что были освещены одним ночником, хранили под пожухшим лаком мертвенную неподвижность, но все равно Изабелле казалось, что души этих людей следят за ней сквозь черные отверстия нарисованных зрачков.
От всего этого по спине девушки поползли мурашки, и ей понадобилось собрать все свое мужество, чтобы миновать галерею под перекрестным огнем потусторонних взглядов. По пути ей мерещилось, что все эти властные старцы в допотопных кирасах и камзолах, увешанные орденами, и чопорные дамы в гофрированных воротниках и огромных панье[66] сопровождают ее, словно похоронная процессия.
Чтобы пройти по галерее мимо призраков, глядевших со стен, Изабелле потребовалось столько же мужества, сколько нужно солдату, чтобы спокойно промаршировать под перекрестным огнем. От холодного пота у нее между лопатками намокла шемизетка. Ей мерещилось, будто страшилища в кирасах и камзолах, увешанных орденами, вдовицы в торчащих гофрированных воротничках и непомерных фижмах спустились из рам и сопровождают ее, словно погребальная процессия. Ей даже чудились призрачные шаги, шелестящие по паркету.
Наконец она достигла конца галереи и наткнулась на застекленную дверь, ведущую во двор замка. Лишь с огромным трудом девушке удалось повернуть ржавый ключ в замке, после чего она, поставив лампу в надежное место, чтобы захватить ее на обратном пути, покинула обитель ночных миражей.
При виде чистого неба с переливающимися алмазным блеском звездами, которые не мог затмить даже лунный свет, Изабелла испытала такую огромную радость, словно заново возродилась к жизни. В ту минуту ей казалось, сам Бог взглянул на нее со своих заоблачных высот, а прежде, пока она блуждала в беспросветном мраке под непроницаемыми сводами в лабиринте покоев и переходов, Всевышний на миг отвернулся от нее. И хотя положение ее нисколько не улучшилось, с души словно упал тяжкий груз.
Решив обследовать двор, Изабелла двинулась вперед, но он оказался замкнутым со всех сторон, словно в крепости, за исключением одного прохода под кирпичным сводом, который вел, должно быть, к самому рву. Заглянув в него, девушка почувствовала, как в лицо ей пахнуло свежестью, и услышала, как плещется мелкая зыбь на его дне. Очевидно, через этот ход доставляли припасы для замковой кухни; но чтобы переправиться через ров, требовалась лодка, которая сейчас, видимо, была где-то спрятана.
Итак, бегство было невозможным, этим и объяснялась та относительная свобода, которая была предоставлена пленнице. Она походила на тех экзотических птиц, которых перевозят на кораблях в открытых клетках. Полетав немного, они все равно будут вынуждены вернуться в свою тюрьму, ибо до ближайшей суши их просто не донесут крылья.
В одном из углов двора сквозь ставни на окнах полуподвального помещения просачивался тусклый свет. В тишине ночи оттуда же доносился невнятный шум. Осторожно ступая, молодая актриса двинулась туда. Заглянув в одну из щелей, она смогла ясно различить, что происходило внутри.
Вокруг стола, под свисавшей со свода на цепи медной трехрогой масляной лампой, пировала компания головорезов. Изабелла сразу признала в этих молодчиках своих похитителей, хоть и видела их до сих пор только в масках. То были Кольруле, Тордгель, Ля Рапе и Бренгенариль[67] – негодяи, чья внешность вполне соответствовала их прозвищам. Падавший сверху свет резко очерчивал лоснящиеся лбы и носы, длинные усы и багровеющие щеки, отчего физиономии собутыльников казались еще свирепее, хотя они и без того представляли весьма отталкивающее зрелище.
Огастен, избавившийся от парика и накладной бороды, в которых он изображал попрошайку-слепца, сидел в стороне. Как мелкому разбойнику из захолустья, ему не полагалось держаться на равной ноге со столичными бретерами. Во главе стола восседал Малартик, направляя ход пиршества. Лицо его было бледнее, а нос еще краснее, чем обычно; феномен этот объяснялся количеством опустошенных бутылок, валявшихся повсюду, словно тела воинов, павших на поле битвы, а также количеством непочатых бутылок, которые неутомимо подносил лакей-дворецкий.
Из разговоров собутыльников Изабелла могла уловить лишь обрывки фраз, смысл которых чаще всего оставался для нее туманным. И не удивительно, ведь то был жаргон притонов, кабаков и фехтовальных залов, пересыпанный воровскими словечками, заимствованными из разных цыганских наречий, поэтому ей не удалось ничего выяснить относительно своей дальнейшей судьбы и намерений похитителей. Девушка продрогла и уже собралась вернуться в предоставленные ей покои, когда Малартик с такой силой грохнул кулаком об стол, что бутылки закачались, а бокалы и стаканы жалобно зазвенели. Как ни были пьяны его сообщники, они тут же встрепенулись и все разом уставились на предводителя.
Воспользовавшись минутным затишьем, Малартик встал и, подняв бокал так, что вино засверкало на свету, как камень в перстне, провозгласил:
– А ну-ка, парни, послушайте песенку моего сочинения, ибо лирой я владею не хуже, чем мечом. А поскольку я закоренелый пьяница, то и песенку сочинил вакхическую. Ведь недаром сказано: рыбы немы потому, что пьют воду, а если бы рыбы употребляли вино, этот благородный сок, то и они запели бы. Так докажем же, что мы воистину люди, а не какие-то там рыбы!
– Песню! Песню! – заревели Кольруле, Тордгель, Ля Рапе и Бренгенариль, которые были уже не в силах уследить за столь затейливым ходом рассуждений.
Малартик прочистил горло, а затем со всеми ухватками маститого певца, приглашенного в королевские покои, запел – хоть и хрипловато, но без фальши:
Наливай-ка, Бахус пьяный, Наливай полней стаканы! Виноградникам привет! Гроздей сок – кровавый цвет…Песня была встречена восторженными приветствиями, и Тордгель, считавший себя знатоком поэзии, тотчас объявил Малартика учеником Сент-Амана[68], превзошедшим своего наставника. Было решено в честь сочинителя и исполнителя осушить по стакану красного, и каждый выполнил это со всей добросовестностью. Поскольку застолье тянулось уже давно, последняя порция оказалась губительной для наименее выносливых: Ля Рапе сполз под стол, на него свалился Бренгенариль. Более крепкие Тордгель и Кольруле начали клевать носами. В конце концов их головы опустились на скрещенные руки и послышался мощный храп.
Лишь Малартик по-прежнему сидел, выпрямившись, сжимая в руке бокал и тараща осоловевшие глаза. Нос его, раскаленный докрасна, казалось, сыпал искрами, а сам он с тупым хмельным упорством продолжал машинально твердить:
Нал-ливай-ка, Б-бахус пьяный, Нал-ливай п-пол-лней стак-каны!..Изабелле наконец опротивело это зрелище, она покинула свой наблюдательный пост у щели и продолжила обход двора. Вскоре она оказалась под сводом прохода, где находились во́роты с противовесами, на которые были намотаны цепи подъемного моста. Сдвинуть с места эту железную махину было не в ее силах, а поскольку выбраться из замка иначе, чем опустив мост, было невозможно, девушке пришлось оставить мысли о бегстве.
Вернувшись к застекленной двери, она нашла свою лампу на прежнем месте, миновала галерею предков – уже с гораздо меньшим трепетом, так как знала, с чем здесь столкнется, и быстро прошла через библиотеку, парадную залу и прочие покои, которые поначалу вызвали у нее столько опасений. Даже испугавшие ее чуть ли не до обморока доспехи показались ей теперь смешными и никчемными. Больше не таясь, Изабелла поднялась наверх по лестнице, по которой недавно спускалась затаив дыхание.
Тем более сильным оказался ее испуг, когда, едва переступив порог своей комнаты, девушка обнаружила странную фигуру, восседавшую в кресле у камина.
Свечи и отблески пламени освещали фигуру достаточно хорошо, поэтому нельзя было принять ее за привидение. Она была тонкой, легкой и хрупкой с виду, но полной жизни. Об этом свидетельствовали и огромные черные глаза, сверкающие дикарским блеском. Сейчас эти глаза с гипнотической пристальностью были устремлены на Изабеллу, которая застыла на пороге, не в силах пошевелиться. Космы темных волос были отброшены назад, и это позволяло во всех деталях видеть изящно очерченное юное оливково-смуглое личико и полуоткрытый рот с ослепительно-белыми зубами. Обветренные, но изысканной формы руки с ноготками, казавшимися светлее пальцев, были скрещены на груди, а босые ноги сидевшей в кресле в мужской одежде девочки не доставали до паркета. В вырезе рубахи из грубого холста смутно поблескивали жемчужные бусины.
По этому ожерелью вы, конечно, узнали Чикиту.
Это и в самом деле была она. Девочка еще не успела сменить одежду подростка-поводыря при мнимом слепце – рубаху и широкие штаны – на свое обычное платье, и этот костюм был ей к лицу.
Как только Изабелла разглядела юную дикарку, испуг ее мгновенно прошел. Сама по себе Чикита не могла быть опасна, к тому же она как будто питала к молодой актрисе неуклюжую признательность, которую однажды уже доказала.
Продолжая неотрывно смотреть на Изабеллу, Чикита вполголоса напевала свою странную песенку – полубезумное заклинание, которое молодая актриса уже слышала однажды, когда девочка выбиралась из ее комнаты в «Гербе Франции» через слуховое окно. Звучал ее напев примерно так: «Чикита сквозь щель прошмыгнет, спляшет на зубьях решетки…»
– Ты не потеряла нож? – внезапно спросила она, как только Изабелла приблизилась к камину. – Тот самый, с зарубками на рукоятке?
– Нет, Чикита, не потеряла. Теперь я всегда ношу его вот здесь, за корсажем, – ответила молодая женщина. – А почему ты спрашиваешь об этом? Разве мне что-то грозит?
– Нож! – произнесла малышка, и глаза ее свирепо сверкнули. – Нож – верный друг! Он никогда не предаст хозяина, если хозяин умеет его поить, потому что нож всегда мучается жаждой!
– Ты снова пугаешь меня, дитя! – воскликнула Изабелла, встревоженная этими зловещими словами, за которыми могла стоять попытка предостеречь, весьма важная в ее положении.
– Наточи лезвие о каминную доску, – продолжала Чикита, – а затем оботри жало об подошву башмаков!
– Зачем ты все это говоришь мне? – побледнев, спросила актриса.
– Просто так. Кто хочет защититься, должен держать оружие наготове. Вот и все!
Эти туманные речи взволновали Изабеллу. С другой стороны, присутствие девочки в ее покое успокаивало, создавая иллюзию безопасности. Чикита питала к ней особые чувства, несмотря на то, что вызваны они были самым пустяковым поводом – подаренной ниткой фальшивого жемчуга. «Я никогда не перережу тебе горло», – так однажды сказала эта дикарка, и, по ее разумению, это был торжественный обет, клятва, которую она ни за что бы не нарушила, ведь, не считая Огастена, Изабелла была единственным человеческим существом, проявившим к Чиките хоть немного сочувствия. Она подарила ей первое украшение, чтобы потешить полудетское кокетство, а девочка, еще не знакомая с завистью, простодушно восторгалась красотой молодой актрисы. Кроткое лицо Изабеллы буквально завораживало ее, потому что до сих пор ей приходилось видеть одни лишь свирепые и кровожадные физиономии сообщников Огастена и прочего отребья, чьи мысли были сосредоточены только на воровстве, разбое и убийствах.
– Как ты оказалась здесь? – спросила Изабелла после минутного молчания. – Тебе поручили следить за мной?
– Нет, я пришла. Здесь тепло и светло. Мне стало скучно сидеть в углу, пока мужчины приканчивают бутылку за бутылкой. На такую маленькую, как я, никто не обращает внимания: я как кошка, которая спит под столом. Вот и улизнула. Я не люблю запахов вина и жареного мяса, мне больше нравится аромат цветущего вереска и смолистый дух сосен.
– Разве тебе не было страшно блуждать без огня по длинным темным переходам, по всем этим огромным мрачным покоям?
– Чикита не знает страха. Глаза ее видят в темноте, ноги ступают легко. Когда она встречает сову, сова улетает; летучая мышь складывает крылья, стоит ей приблизиться. Призрак уходит обратно в стену, чтобы пропустить ее. Ночь – ее подружка и не прячет от Чикиты своих тайн. Чикита знает, где гнездо филина, приют вора, могила убитого, места, где живут настоящие привидения, но она никогда не расскажет об этом днем!
Пока Чикита произносила этот горячечный монолог, глаза ее сверкали мистическим огнем. Постоянно взвинченная своими одинокими мечтаниями, она, вероятно, стала приписывать себе какую-то магическую силу. Убийства и разбойные нападения, к которым она была причастна буквально с тех пор, как научилась стоять на ногах, глубоко проникли в ее пылкое и невежественное воображение. Слова девочки звучали так убедительно, что даже Изабелла взглянула на нее с суеверным страхом.
– И все равно мне больше нравится сидеть здесь, рядом с тобой, – продолжала малышка. – Ты красивая, я бы всегда на тебя смотрела. Ты похожа на Пресвятую Деву, которую я видела над алтарем, правда, издалека, потому что меня прогоняют из церкви вместе с собаками. Я всегда лохматая, юбка у меня канареечного цвета, и прихожанам не нравится на меня смотреть… Какая у тебя белая-белая рука! Рядом с ней моя похожа на обезьянью лапу. И волосы у тебя тонкие, шелковистые, а мои торчат во все стороны, как пакля. Наверно, я ужасно некрасивая?
– Нет, дорогая, – возразила Изабелла, тронутая этим наивным восхищением, – ты, на свой лад, очень славная. Если тебя хорошо одеть, ты сможешь поспорить с любой красавицей.
– Ты в самом деле так думаешь? Ладно, тогда я где-нибудь украду красивые платья, наряжусь, и тогда Огастен меня полюбит!
При этой мысли смуглое личико Чикиты порозовело и на несколько минут она замолчала, опустив глаза в мечтательной задумчивости.
– Ты знаешь, как называется место, где мы с тобой находимся? – спросила Изабелла, когда девочка снова подняла веки, опушенные густыми черными ресницами.
– Это замок того господина, который не считает денег. Он хотел похитить тебя еще в Пуатье. Если б я тогда отодвинула задвижку, так бы и случилось. Но ты подарила мне ожерелье, и я не захотела причинять тебе вред.
– Но ведь сейчас ты помогла меня увезти! – возразила Изабелла. – Значит, ты меня больше не любишь, если предала врагам?
– Так приказал мне Огастен, и я должна была подчиниться. Если бы я отказалась, поводыря сыграл бы кто-нибудь другой, и я бы не оказалась в этом замке вместе с тобой. А теперь я могу тебе помочь. Ты не смотри, что я еще совсем маленькая, – я храбрая, ловкая, сильная и не позволю тебя обидеть.
– А далеко ли этот замок от Парижа? – спросила молодая женщина, благодарно обняв Чикиту и привлекая ее к себе. – Ты не слышала, как называли его мужчины?
– Да, кажется, Тордгель говорил, что замок называется… а-а, забыла! Ну, как же его?.. – девочка растерянно почесала в затылке.
– Постарайся, пожалуйста, вспомнить! – попросила Изабелла, поглаживая смуглые щеки Чикиты, которая снова зарделась от радости: должно быть, за всю ее короткую жизнь никому не приходило в голову приласкать малышку.
– Вот оно! Замок Валломбрез! – внезапно воскликнула Чикита, словно услышав подсказку внутреннего голоса. – Да-да, Валломбрез, я уверена. Точно так же зовут и того вельможу, которого твой друг, капитан Фракасс, ранил на дуэли. Но лучше бы он сразу убил его. Этот вельможа очень злой человек, хоть он и расшвыривает золото вокруг себя, как сеятель – зерно. Ты ненавидишь его, правда? И была бы рада, если бы смогла от него ускользнуть?
– Еще бы! Но ведь это невозможно: замок окружен рвом, а мост поднят. Сбежать отсюда не удастся.
– Чикита презирает решетки и запоры, стены и рвы; стоит ей захотеть – и она улетит на волю из самой крепкой темницы, а тюремщик только глаза вытаращит! Стоит ей захотеть – и твой капитан еще до рассвета узнает, где находится та, которую он потерял на дороге!..
Вслушиваясь в эти бессвязные слова, Изабелла на мгновение испугалась, что слабый рассудок Чикиты окончательно помутился; но невозмутимое спокойствие девочки, ясный взгляд и уверенный звук голоса опровергли такое предположение. Это странное существо наверняка обладало по крайней мере частицей той магической силы, какую себе приписывало.
Словно желая окончательно убедить Изабеллу, что ее слова не пустое хвастовство, Чикита добавила:
– Я обязательно найду способ выбраться отсюда, но мне надо немного подумать. Сейчас не говори больше ни слова и затаи дыхание: любой шум мне мешает, потому что я должна различить в себе голоса духов!
Чикита на несколько минут застыла в полной неподвижности, низко наклонив голову и прикрыв глаза ладонью. Затем она вдруг встрепенулась, распахнула окно и, вскарабкавшись на подоконник, начала пристально вглядываться во мрак. Стало слышно, как темные воды рва плещутся о подножье стены под порывами ночного ветерка.
«А что, если она и в самом деле вспорхнет и унесется во тьму, как огромная летучая мышь?» – невольно подумала пленница, пристально следя за каждым движением девочки.
По ту сторону рва над крутым откосом, облицованным камнем, росло громадное вековое дерево, чьи нижние ветви простирались почти горизонтально, нависая над водой. Тем не менее даже самые тонкие из них футов на десять не достигали ближнего края рва и стены замка. С этим деревом и был связан замысел Чикиты.
Вернувшись в комнату, она выудила из кармана тонкую и прочную бечевку длиной в сорок футов и аккуратно разложила ее на полу; из другого кармана она извлекла большой кованый рыболовный крючок. Крепко привязав крючок к бечевке, девочка вернулась к окну, примерилась и метнула его вместе с веревкой в темную гущу ветвей. Сначала ее постигла неудача – стальной коготь, ни за что не зацепившись, соскользнул и упал, глухо звякнув о стену. Со второй попытки конец крючка глубоко впился в кору одной из горизонтальных веток.
Чикита выбрала слабину бечевки, натянула ее, а затем попросила Изабеллу повиснуть на ней всей своей тяжестью. Ветка поддалась, насколько позволяла ее гибкость, и приблизилась к окну футов на шесть. Девочка привязала бечевку надежным узлом к оконной раме, перекинула через подоконник свое щуплое тельце, ухватилась за веревку, затем, с обезьяньей ловкостью перебирая руками, мгновенно добралась до ветви и уселась на нее верхом.
– А теперь отвяжи веревку, чтобы я могла забрать ее с собой, – вполголоса приказала она пленнице, – если, конечно, не сможешь выбраться тем же путем. Но я не думаю, чтобы ты смогла: страх лишит тебя сил, голова закружится, и ты упадешь в воду. Поэтому – прощай! Я отправляюсь в Париж и скоро вернусь с вестями. Ночью, да еще при полной луне, ноги сами меня понесут!
Изабелла сделала так, как велела Чикита, и освободившаяся ветка вернулась в прежнее положение, перенеся девочку на ту сторону рва. Там она мигом соскользнула по стволу на землю и вскоре растворилась в голубоватой ночной мгле.
Все это показалось Изабелле сном. Она еще долго стояла в оцепенении у открытого окна, глядя на неподвижный черный силуэт дерева-великана, который отчетливо, словно нарисованный тушью, вырисовывался перед ней на молочно-сером фоне облака, пронизанного рассеянным лунным светом. У девушки холодели руки при виде того, как тонка и непрочна та ветка, которой решилась вверить свою жизнь отважная до безумия Чикита, а сердце сжималось от умиления перед той преданностью, какую проявила эта бедная дикарка с прекрасными, сияющими, полными страсти глазами – глазами умудренной опытом женщины на детском личике.
Но время шло, и от резкого ночного воздуха Изабелла начала зябнуть, ее охватила дрожь. Тогда она закрыла окно, задернула занавеси и опустилась в кресло у огня, поставив ноги на медную каминную решетку.
Впрочем, в таком положении она оставалась лишь минуту-другую. Раздался стук в дверь, и появился все тот же слуга-дворецкий. Еще двое слуг, следовавших за ним, внесли столик, покрытый богатой скатертью с ажурной каймой, на котором был сервирован ужин – такой же изысканный и тонкий, как обед.
Появись слуга несколькими минутами раньше, план Чикиты был бы сорван. Изабелла, еще не опомнившаяся от пережитого волнения, даже не притронулась к блюдам и знаком велела их унести. Пожав плечами, дворецкий распорядился оставить возле ее постели поднос с бисквитами и марципанами, а сам разложил на кресле новый шелковый капот, чепчик и элегантный кружевной пеньюар. В камин отправилась очередная порция поленьев, а оплывшие свечи в канделябрах были заменены новыми. Затем дворецкий осведомился, не прислали мадемуазель горничную для услуг, от чего та отказалась, и слуга удалился, отвесив самый почтительный поклон.
Оставшись одна, Изабелла набросила на плечи капот и улеглась поверх одеяла, не раздеваясь, чтобы быть наготове в любую минуту. Нож Чикиты девушка вынула из-за корсажа, открыла, повернула кольцо, застопорив клинок, и положила так, чтобы он был у нее прямо под рукой. Приняв эти меры предосторожности, она закрыла глаза и попыталась уснуть, но сон не шел. События этого бурного дня все еще переполняли ее, а страх перед тем, что могло случиться ночью, заставлял ее каждую минуту пугливо озираться.
Старые за́мки, к тому же давно оставленные хозяевами, с наступлением темноты становятся не слишком-то гостеприимными. Все время кажется, что твое присутствие здесь неуместно, словно ты становишься кому-то помехой, а незримый хозяин, который, заслышав твои шаги, скрылся за потайной дверью, вот-вот появится из-за нее. Поминутно слышатся внезапные и необъяснимые звуки: то скрипнет мебель, то древоточец начнет тикать в стене, как часовой маятник, то крыса прошмыгнет за обоями или сырое полено вдруг поднимет в очаге пальбу, словно шутиха от неведомого фейерверка. Едва сомкнув глаза, вы просыпаетесь в испуге и недоумении.
Так было и с Изабеллой: она вздрагивала, вскакивала и садилась на постели, осматривала углы комнаты, но, не обнаружив никакой опасности, снова опускала голову на подушку и погружалась в тревожную полудремоту. В конце концов усталость взяла свое и сон одолел ее, укрыв от реального мира и тревог.
К счастью для девушки, молодого герцога еще не было в замке. Но не следует думать, что он потерял интерес к своей прелестной добыче, после того как она угодила в его силки, и страсть его угасла при мысли о том, что он может утолить ее в любое мгновение. Ничего подобного! Де Валломбрез обладал могучей волей, в особенности волей ко злу; помимо сладострастия, он испытывал какую-то извращенную радость, преступая божеские и человеческие законы. Однако ему было необходимо отвести от себя любые подозрения, и с этой целью герцог в тот день побывал при дворе в замке Сен-Жермен, являлся на поклон к королю, принял участие в королевской охоте и как ни в чем ни бывало вел светские беседы со множеством придворных. Вечером он уселся за карты и постарался проиграть такую сумму, которая была бы весьма чувствительной для любого человека, менее богатого, чем он. Он находился в превосходном расположении духа, в особенности с той минуты, когда примчавшийся на взмыленном коне гонец почтительно вручил ему запечатанный конверт.
Таким образом, нужда де Валломбреза в бесспорном алиби спасла в ту ночь добродетель Изабеллы.
Сама же она спала тревожно: то ей снилось, что Чикита, взмахивая рукавами, как крыльями, со всех ног мчится впереди капитана Фракасса, скачущего верхом, то вдруг перед ней возникало лицо молодого герцога, пожирающего ее глазами, полными ненависти и любви.
Проснувшись, Изабелла удивилась, что проспала так долго. Свечи догорели, поленья в камине превратились в горку серого пепла, а веселый солнечный луч, пробравшись сквозь щель в занавесях, дерзко резвился у изголовья молодой женщины. С наступлением дня Изабелла немного успокоилась. Разумеется, ее положение ни в чем не изменилось; но при солнечном свете отступили мистические страхи, которым подвержены даже самые холодные и трезвые умы.
Впрочем, это ощущение было совсем непродолжительным. Вскоре со двора послышались скрежет подъемного механизма и лязг цепей. Подъемный мост принял горизонтальное положение, затем раздался гром пронесшейся по его настилу кареты, глухо отдавшийся под сводами кирпичной арки и затихший во внутреннем дворе.
Кто, если не хозяин замка, герцог де Валломбрез, мог въехать сюда таким образом? Тем же шестым чувством, которое предупреждает голубку о приближении ястреба, хоть она и не видит хищника, Изабелла почувствовала, что это именно он, и никто другой. Ее щеки побледнели, а бедное сердце тяжело забилось в груди, словно набатный колокол, извещающий горожан о приближении врага. Однако она и не думала сдаваться. Вскоре, сделав над собой усилие, молодая актриса справилась с волнением, овладела собой и приготовилась к круговой обороне.
«О, лишь бы Чикита успела вовремя вернуться и привела с собой помощь! – думала она в ту минуту и невольно снова возвращалась взглядом к портрету, висевшему над камином. – А ты, такой благородный и добрый! Разве ты не можешь защитить меня от беззаконных посягательств твоего порочного потомка? Молю тебя: не допусти, чтобы дом, которым ты владел много лет, дом, осененный твоим образом, стал свидетелем моего позора!..»
Минуло около часа – все это время герцог использовал для того, чтобы привести себя в самый импозантный вид. И вот наконец дворецкий постучал к Изабелле и церемонно осведомился, не будет ли ей угодно принять его светлость герцога де Валломбреза.
– Я здесь всего лишь пленница, – с достоинством ответила девушка, – поэтому не могу распоряжаться ни собой, ни своими желаниями. Ваш вопрос, который можно было бы считать учтивым в обычных обстоятельствах, в моем положении звучит насмешкой. Я не могу запретить герцогу войти в покои, которых сама не могу покинуть. На его стороне сила, и мне придется терпеть его присутствие. Пусть приходит сейчас или в любое другое время; мне это совершенно безразлично. Ступайте и передайте ему мой ответ дословно!
Дворецкий поклонился и, пятясь, направился к двери, ибо ему было приказано оказывать Изабелле всяческое почтение. После чего поспешил доложить своему господину, что мадемуазель готова его принять – не прибавив к этому больше ни слова.
Девушка привстала с кресла, но тут же, лишившись сил, вновь опустилась в него. Де Валломбрез сделал несколько шагов, обнажив голову и всем своим видом выражая глубочайшую почтительность. Заметив, что Изабелла брезгливо и испуганно вздрогнула при его приближении, он остановился посреди комнаты, поклонился и самым чарующим голосом произнес:
– Если мое присутствие так неприятно вам в эту минуту, прелестная Изабелла, и если вам требуется время, чтобы свыкнуться с необходимостью меня видеть, я готов уйти. Да, вы моя пленница, но я по-прежнему остаюсь вашим верным рабом!
– Ваша галантность не имеет смысла после того насилия, которое вы совершили надо мной! – твердо ответила Изабелла.
– Что ж, возможно, теперь вы убедились, что не следует доводить ваших почитателей до отчаяния столь несокрушимой добродетелью, – продолжал герцог. – Потеряв всякую надежду, они готовы на любые крайности, ведь им больше нечего терять. Если бы вы приняли мои знаки внимания и были хоть сколько-нибудь благосклонны к моему чувству, я бы остался вашим преданным обожателем и попытался деликатным вниманием, щедростью, рыцарской преданностью, пылкими, но сдержанными выражениями любви мало-помалу заставить ваше ледяное сердце смягчиться. Я бы надеялся если и не на любовь, то по крайней мере на нежное сострадание, которое иной раз предшествует любви. Со временем вы, может быть, поняли бы, как несправедливы и жестоки ко мне, а уж я бы приложил к этому все силы!
– Если бы вы вели себя именно таким образом, я бы просто пожалела, что не могу разделить вашу любовь, – сказала Изабелла. – И при этом я не была бы вынуждена испытывать ненависть к вам, столь чуждую и мучительную для моей души.
– Вы хотите сказать, что ненавидите меня? – спросил де Валломбрез, и голос его дрогнул от нарастающего гнева. – Но ведь я ничем не заслужил этой ненависти. Если я в чем-то и погрешил против вас, вина лежит на моей неутоленной страсти; а какая женщина, будь она хоть трижды чиста и целомудренна, будет гневаться на порядочного человека за то, что он вопреки всему поддался ее очарованию?
– Вы правы: нет никаких оснований ненавидеть влюбленного, если он остается в рамках приличий и держится скромно. Самая неприступная дама не может этому противиться. Но если он позволяет себе недопустимые вещи, использует коварные ловушки, похищения, лишение свободы, чтобы добиться своей цели – а именно так поступили вы, – тогда в женском сердце не остается места иным чувствам, кроме ненависти и отвращения. Всякая душа с чувством собственного достоинства неизбежно восстает против насилия. Любовь – чувство неземное, нельзя приказать ей или принудить ее. Она дышит там, где сама пожелает.
– Следовательно, мне нечего ждать от вас, кроме ненависти и отвращения? – отрывисто спросил де Валломбрез. Лицо герцога побледнело, он кусал губы, глаза его блуждали. Судя по всему, то, в чем пыталась убедить его Изабелла со своей обычной мягкой решимостью и добросердечием, он просто пропустил мимо ушей.
– У вас есть единственное средство вернуть мое уважение и приобрести мою дружбу. Совершите благородный поступок – верните мне отнятую вами свободу. Прикажите отвезти меня в Париж, к моим товарищам, которые сейчас в страшной тревоге разыскивают меня повсюду. Дайте мне возможность вернуться к прежней жизни скромной актрисы, пока эти события не получили огласки и не погубили мою репутацию!
– Какая жалость, что вы просите о единственной услуге, которую я не могу вам оказать без ущерба для себя! – воскликнул герцог. – Пожелай вы корону, державу и скипетр – я бы добыл их ради вас. Потребуй вы звезду – я и за ней взобрался бы на небо. Но вы требуете, чтобы я отпер дверцу клетки, в которую вы никогда не вернетесь по доброй воле. О нет, это невозможно! Раз уж я настолько отвратителен вам, то любоваться вами я могу только при одном условии – держа вас взаперти. Так я и поступлю, даже в ущерб собственному достоинству, ибо не могу обойтись без вас, как растение не может обойтись без света. Мысли мои постоянно устремлены к вам, как к солнцу, и если вас нет – для меня наступает тьма. И если уж я отважился на преступление, то должен хотя бы воспользоваться его плодами, потому что даже обещая мне свою дружбу и прощение, вы наверняка не сдержите это обещание. Здесь вы по крайней мере в моей власти, ваша ненависть искупается моей любовью, а жаркое дыхание моей страсти рано или поздно растопит вашу холодность. Ваши глаза поневоле будут видеть меня, ваш слух наполнят звуки моего голоса. Часть меня помимо вашей воли проникнет к вам в душу, пусть это будет даже ужас, который вы испытываете при виде меня, ведь я прав: даже мои шаги в коридоре вызывают у вас дрожь. Но главное в другом: здесь, в моем плену, вы будете в разлуке с тем, о ком тоскуете, с тем, кто похитил у меня ваше сердце, которое на самом деле должно принадлежать мне. Моей ревности достаточно и этой скудной пищи, и она не хочет лишиться ее, если я верну вам свободу!
– Сколько же вы собираетесь держать меня в заточении, беззаконно, как берберийский пират, а не как христианин и дворянин?
– До тех пор, пока вы не полюбите меня или не скажете, что полюбили, а это, в конце концов, одно и то же, – пожав плечами, невозмутимо проговорил молодой герцог. Затем, отвесив Изабелле учтивый поклон, он непринужденно удалился, как и подобает опытному царедворцу, умеющему найти выход в любых обстоятельствах.
Спустя полчаса дворецкий принес в покои Изабеллы букет, составленный из самых редких, прекрасных и душистых цветов. Потребовалось все искусство садовников, а также искусственное лето теплиц, чтобы заставить эти пленительные творения богини Флоры распуститься в ту пору, когда в садах вообще еще нет никакой зелени. Стебли букета были стянуты великолепным бриллиантовым браслетом, достойным королевы, а среди цветов виднелся сложенный пополам листок бумаги.
Изабелла взяла его, пренебрежительно отодвинув букет в сторону. Это была записка от де Валломбреза, написанная в его характерной манере. В размашистом почерке девушка узнала ту же руку, которая начертала «Для Изабеллы» на шкатулке с драгоценностями, которую она обнаружила на своем столе в Пуатье. Записка гласила:
«Дорогая Изабелла! Посылаю Вам эти цветы, несмотря на уверенность, что их ждет враждебный прием. То, что они связаны со мной, означает, как я полагаю, что их свежесть, аромат и небесная красота не смягчат Вашу суровость. Но какой бы ни оказалась их участь, Вы так или иначе прикоснетесь к ним – хотя бы для того, чтобы выбросить их за окно, и ваши гневные мысли, хотите Вы того или нет, на миг обратятся к тому, кто остается Вашим неизменным и пламенным обожателем. Де Валломбрез».
Послание это, выдержанное в изысканном и жеманном духе, свойственном тому времени, вместе с тем изобличало чудовищное, не поддающееся никаким доводам упорство его автора и в известной степени подействовало на Изабеллу так, как он и рассчитывал. Девушка, хмурясь, все еще держала этот листок бумаги перед собой, и перед ней словно во плоти представало лицо молодого герцога, искаженное дьявольской гримасой. Тем временем цветы, которые лакей положил на столик, от комнатного тепла мало-помалу расправляли лепестки, наполняя покой пьянящим экзотическим ароматом.
Изабелла поспешно схватила букет и вместе с браслетом выбросила в прихожую, опасаясь, что цветы могут быть пропитаны каким-нибудь неведомым снотворным снадобьем или средством, возбуждающим чувственность, от которого ее рассудок может помутиться. Пожалуй, никогда еще с такими удивительными цветами не обходились так жестоко. Они и в самом деле нравились Изабелле, но она боялась, приняв их, поощрить герцога. Да и сами эти причудливые растения невиданной расцветки с пряным чужеземным ароматом были лишены скромной прелести обычных цветов, которые выращивают повсюду во Франции. Своей надменной красотой они напомнили девушке того же де Валломбреза, они были ему сродни.
Не успела Изабелла разделаться с цветами и снова вернуться в кресло, как явилась горничная, чтобы ее одеть и причесать. Это была довольно миловидная девушка, но без кровинки в лице, грустная, кроткая, но совершенно безучастная, очевидно, сломленная страхом или тягостным гнетом жестокой власти. Не поднимая глаз на молодую актрису, она предложила ей свои услуги голосом, который больше походил на шелест прошлогодних листьев.
Изабелла кивнула в знак согласия, и горничная расчесала ее белокурые волосы, которые пребывали в полном беспорядке после бурных событий вчерашнего дня и минувшей ночи, а затем связала и стянула их шелковистые пряди бархатными бантами. Затем она достала из вделанного в стену шкафа несколько невероятно дорогих и элегантных платьев, скроенных словно по мерке Изабеллы, но девушка отвергла их одно за другим. Ее собственное платье было измято и перепачкано, но она не пожелала облачаться в богатые шелка, сочтя их своего рода герцогской ливреей. Сверх того, она твердо решила ничего не принимать от де Валломбреза, сколько бы ни продлилось ее заточение.
Горничная не стала спорить, как не спорят с осужденными, предоставляя им право делать все, что им заблагорассудится, но в пределах их камеры. У Изабеллы на миг возникло впечатление, что эта девушка сознательно избегает более близкого знакомства со своей временной госпожой, чтобы не проникнуться к ней бессильным сочувствием. Поначалу Изабелла надеялась получить от нее хоть какие-то сведения, но вскоре поняла, что расспрашивать бесполезно, и предоставила ей делать свое дело.
После того, как горничная ушла, подали обед, и, несмотря на свое положение и общую подавленность, Изабелла отдала ему должное. Природа властно заявляет о своих правах даже в таких обстоятельствах, а девушка очень нуждалась в подкреплении сил, истощенных мучительной борьбой с непрерывными попытками герцога сломить ее волю.
Немного успокоившись, она стала припоминать, как достойно и мужественно вел себя Сигоньяк. Если бы не коварная ловушка в виде плаща мнимого слепца, он наверняка даже в одиночку отбил бы ее у похитителей. Теперь ее друг наверняка уже знает обо всем и не станет медлить – он тотчас бросится на помощь той, которую так преданно любит. При мысли об опасностях, которые могут при этом подстерегать барона, ведь де Валломбрез не из тех, у кого легко вырвать добычу, глаза ее невольно увлажнились. Она винила себя во всем и чуть ли не проклинала собственную красоту – источник и причину всех этих бед. А ведь она всегда вела себя на редкость скромно и никогда даже не пыталась, подобно другим актрисам и даже дамам высшего света, разжигать вокруг себя страсти с помощью кокетства!..
Эти размышления прервал короткий удар в оконное стекло. Стекло тут же треснуло, словно от удара крупной градины. Изабелла бросилась к окну и увидела сидящую на дереве в развилке ветвей Чикиту. Девочка знаками показывала, что ей следует открыть створки и отойти в сторону. При этом она раскачивала в руке свою бечевку с крючком на конце.
Поняв ее намерение, Изабелла выполнила все, что от нее требовалось, и крючок, брошенный уверенной рукой, зацепился за ограждение окна. Другой конец бечевки Чикита привязала к ветке и, в точности как ночью, повисла на ней.
Но не успела девочка одолеть и полпути, как узел на дереве, к ужасу Изабеллы, развязался. Но Чикита, вопреки всему, не свалилась в заполненный зеленой водой ров, а вместе с веревкой, словно на качелях, перелетела к подножию стены замка, а затем, цепляясь за неровности каменной кладки, вскарабкалась под самое окно покоя пленницы. Перемахнув через кованое ограждение, девочка спрыгнула в комнату и, заметив, что Изабелла еще не пришла в себя от страха за нее, проговорила с улыбкой:
– Ты боялась, что Чикита отправится к лягушкам? Не дождутся! Я ведь нарочно сделала на веревке скользящую петлю, чтобы не оставлять ее на ветке, а забрать с собой… И пока я болталась на ней, наверно, была будто голодный паук на паутинке – такая же тощая и черная!..
– Милая моя, если бы ты знала, какая ты храбрая и умная девочка! – воскликнула Изабелла, целуя Чикиту.
– Я свиделась с твоими друзьями, они все время тебя искали, но без Чикиты им бы ни за что не узнать, где тебя спрятали. Капитан метался, как разъяренный лев, глаза у него пылали, как плошки. Он усадил меня с собой на седло и довез сюда, а сам он и его товарищи спрятались в лесочке неподалеку от замка. Только бы их не заметили! Нынче вечером, едва стемнеет, они попытаются тебя выручить. Конечно, тут не обойдется без стрельбы, да и шпаги пойдут в ход, – словом, будет на что посмотреть. Это очень красиво, когда сражаются мужчины! Ты только не пугайся и не вздумай кричать. Женские крики и визг лишают смельчаков отваги. Хочешь, я побуду с тобой, чтобы ты ничего не боялась?
– Не беспокойся, Чикита, я не стану никому мешать, ведь мои друзья, пытаясь спасти меня, рискуют собственной жизнью.
– И правильно! – одобрила девочка. – А до вечера, если будет нужда, защищайся ножом, который я тебе подарила. Главное, не забывай – удар нужно наносить снизу! А сейчас я пойду и посплю где-нибудь, нас не должны видеть вместе. И не стой у окна – это может вызвать подозрение, что ты ждешь помощи, люди герцога обшарят все окрестности и найдут твоих друзей. Тогда все пропало: ты останешься в лапах этого злющего вельможи!
– Я ни за что не подойду к окну, как бы меня туда ни тянуло! Клянусь тебе! – пообещала Изабелла.
Заручившись словом Изабеллы, Чикита отправилась в подвал, где упившиеся головорезы, спавшие вповалку, даже не заметили ее отсутствия. Девочка села, прислонившись к стене, скрестила руки на груди, закрыла глаза и мгновенно уснула: этой ночью ей пришлось пробежать больше восьми лье, которые отделяли замок Валломбрез от Парижа, а обратный путь в седле окончательно лишил ее сил. Хотя ее худощавое тельце было закалено всяческими невзгодами, на сей раз она так устала, что спала как убитая.
– До чего же крепко спят эти дети! – буркнул наконец-то очнувшийся Малартик. – Как мы тут ни орали, малышка даже не шелохнулась!.. Эй вы, похмельные твари! Ну-ка поднимайтесь на задние лапы, ступайте во двор и вылейте себе на голову пару ведер холодной воды. Вино, словно волшебница Цирцея, заключенная в бутылки, обратило вас в свиней, поэтому вам снова надобно подвергнуться крещению, чтобы стать людьми. А уж потом мы отправимся в обход, чтобы убедиться, не вздумал ли кто вызволить красотку, чью защиту поручил нам хозяин замка!
Головорезы, кряхтя и охая, поднялись и, еле волоча ноги, добрались до двери, чтобы исполнить распоряжение своего главаря. Когда они более или менее пришли в чувство, Малартик, прихватив с собой Тордгеля, Ля Рапе и Бренгенариля, направился к тому боковому выходу, который вел прямо ко рву. Там он отпер замок на цепи, которой была причалена к вделанному в камень железному кольцу небольшая лодка, и вскоре этот челнок, направляемый шестом, пересек ров и пришвартовался к узенькой деревянной лесенке, брошенной поверх каменной облицовки. Когда его команда взобралась по откосу наверх, Малартик приказал Ля Рапе:
– Ты останешься здесь и будешь сторожить лодку – на случай, ежели враг вздумает завладеть ею и переправиться в замок. А мы тем временем пройдемся по окрестностям и обшарим прилегающий лесок. Может, и спугнем какую-нибудь залетную пташку.
Малартик и двое его подручных больше часа бродили вокруг замка, однако не обнаружили ничего подозрительного. Когда они вернулись к лодке, Ля Рапе спал стоя, привалившись к стволу старого дерева. Малартик первым делом молча двинул его кулаком в живот.
– Будь мы в регулярной армии, – заметил он, – я приказал бы тебя расстрелять перед строем за то, что ты заснул на посту. А поскольку сейчас у меня нет возможности изрешетить тебя из мушкета, я тебя прощаю, но приговариваю выпить пинту колодезной воды.
– Я бы предпочел три пули в голову одной пинте воды в желудке, – мрачно ответил пьянчуга.
– Превосходный ответ, достойный античных героев! – одобрил Малартик, – теперь вина твоя отпускается без наказания, но, смотри, больше не греши.
Похмельный патруль вернулся в замок, привязав челнок на прежнем месте и заперев его на замок. И в остальном были соблюдены все предосторожности – как в настоящей крепости, находящейся под угрозой осады.
«Пусть мой нос станет белее снега, а физиономия краснее вишни, если мадемуазель Изабелла ускользнет отсюда или капитан Фракасс проникнет сюда!» – удовлетворенно проворчал себе под нос Малартик, довольный результатами обхода.
Оставшись в одиночестве, Изабелла открыла лежавший на каминной полке томик «Астреи» месье Оноре д’Юрфе и попыталась сосредоточиться на чтении. Но глаза ее только скользили по строкам, не воспринимая ни слова, а мысли витали далеко от старой пасторальной идиллии. В конце концов она отбросила книгу, уселась в кресло и принялась напряженно ждать, как развернутся события. Она больше не строила никаких предположений и не гадала, каким способом Сигоньяку удастся ее спасти – отныне она полностью положилась на безграничную преданность этого благородного человека.
Начало смеркаться. Лакеи зажгли свечи, и тотчас дворецкий возвестил: «Герцог де Валломбрез, мадемуазель!»
Герцог вошел вслед за слугой и приветствовал пленницу с обычной изысканной учтивостью. Он был великолепно одет, являя собой истинный образец красоты и элегантности. Спокойное привлекательное лицо могло бы обмануть любое непредубежденное сердце. Камзол из плотного серебристого атласа, пунцовые бархатные панталоны, белые сапоги с отворотами, отделанными кружевами, подбитыми кружевом, шпага с эфесом, усыпанным драгоценными камнями на перевязи из серебряной парчи, – все это пышное убранство было призвано подчеркивать и оттенять достоинства его внешности.
– Я пришел, прелестная Изабелла, – начал герцог, – чтобы узнать, буду ли принят лучше, чем мой букет. – С этими словами он опустился в кресло рядом с девушкой. – Однако я не настолько самонадеян, чтобы на это рассчитывать. Я всего лишь хочу, чтобы вы немного привыкли ко мне. Завтра вас будут ждать новый букет и мое очередное посещение.
– И то, и другое не имеет смысла, – ответила Изабелла. – Мне не хотелось бы выглядеть неучтивой, но моя откровенность должна убедить вашу светлость – у вас нет ни малейшей надежды!
– Что ж, – де Валломбрез высокомерно пожал плечами, – придется обойтись без надежды, ограничившись тем, что есть в действительности. Бедное дитя, неужели вы до сих пор не поняли, кто я такой, если пытаетесь сопротивляться? Ни одно из моих желаний, хотя бы самых мимолетных, не осталось неудовлетворенным! Когда я добиваюсь своего, ничто не может меня остановить или заставить поколебаться: ни слезы, ни мольбы, ни жалобные стоны. Я готов перешагнуть через трупы и пожарища, и даже сам конец света меня не остановит – на его руинах я все равно удовлетворю свою страсть. Поэтому не советую вам дразнить тигра, ведь вы всего лишь робкий ягненок по сравнению с ним!
Эти слова не испугали Изабеллу, но она ужаснулась тому, как изменилось лицо де Валломбреза. Ласкового спокойствия как не бывало – теперь на нем читались только холодная злоба и неумолимая решимость. Непроизвольным движением девушка отстранилась, рука ее потянулась к корсажу, за которым был спрятан нож Чикиты. Герцог решительно придвинул к ней свое кресло. Обуздав вспышку ярости, он уже снова придал своему лицу игривое и нежное выражение.
– Сделайте над собой усилие – и больше не пытайтесь вернуться к той жизни, которая должна стать теперь для вас не более, чем сном! Перестаньте упрямиться и хранить верность той выдуманной платонической любви, которая просто недостойна вас. И поймите, наконец, что в глазах света вы теперь принадлежите мне. Но главное то, что я люблю вас с тем пылом, с тем неистовым самозабвением, каких не вызывала в моей душе ни одна женщина. Не пытайтесь же убежать от страсти и от воли, которую ничем не сломить. Как один холодный металл, брошенный в тигель, чтобы расплавиться и смешаться с другим, уже раскаленным, так ваше равнодушие, соединившись с моей страстью, образует удивительный сплав. Вы волей или неволей полюбите меня, потому что этого хочу я, потому что вы молоды и прекрасны и я тоже молод и красив. Сколько бы вы ни сопротивлялись, вам не разомкнуть моих объятий. А это означает только одно: ваше упрямство бессмысленно, потому что бесполезно. Смиритесь с улыбкой на устах – разве это не счастье быть любимой герцогом де Валломбрезом! Многие и многие сочли бы это неземным блаженством!
Молодой герцог говорил с тем жаром и воодушевлением, которое кружит головы дамам и побеждает их целомудрие, но это не возымело ни малейшего действия. Изабелла сидела безмолвно, прислушиваясь к звукам за окном – именно оттуда должно было прийти спасение.
Внезапно она уловила неясный звук, донесшийся со стороны рва. Это был глухой, мерный и осторожный шум трения дерева о какую-то преграду. Опасаясь, чтобы его не услышал де Валломбрез, Изабелла заговорила, подбирая слова так, чтобы как можно болезненнее задеть тщеславие молодого вельможи. Она предпочитала видеть его гневающимся, а не влюбленным, кроме того, она надеялась раздразнить герцога и отвлечь от того, что происходило за окном.
– Подобное блаженство стало бы для меня жестоким позором. Если у меня не останется иного выхода, я предпочту смерть, и вам достанется только мой труп! Прежде вы были мне безразличны, но теперь я ненавижу вас, и это чувство во сто крат сильнее. Вы оскорбили меня бесчестным насилием над моей волей. Да, я люблю барона де Сигоньяка, к которому вы не раз подсылали наемных убийц, и никого более!
Звуки за окном продолжались, и Изабелла, больше ни о чем не думая, все повышала и повышала голос, чтобы их заглушить.
От ее дерзких слов де Валломбрез побледнел, глаза его помутились, в углах рта показалась пена. Он судорожно схватился за рукоять шпаги. Мысль немедленно, на месте, убить строптивицу молнией пронзила его мозг, но неимоверным усилием воли ему удалось сдержать себя. Вместо того чтобы взяться за шпагу, герцог разразился деланым хохотом.
– Тысяча чертей! Такой ты нравишься мне еще больше, – воскликнул он, шагнув к молодой актрисе. – Когда ты клянешь меня, глаза у тебя сверкают, как индийские сапфиры, а щеки пылают, словно маки! Ты становишься вдвое красивее! И я рад, что ты высказала то, что у тебя на уме. Мне тоже опостылело сдерживаться. Ты любишь Сигоньяка? Отлично! Тем слаще мне будет обладать тобой. Ты не можешь представить, какое это острое и изысканное наслаждение целовать губы, которые твердят: «Проклинаю тебя!» Это куда лучше, чем осточертевшее и приторное «Люблю тебя, дорогой», от которого просто тошнит!
Испуганная Изабелла вскочила, отступила на несколько шагов и выхватила из-за корсажа нож Чикиты.
– О! – обрадовался герцог, заметив оружие в руках девушки. – На сцене появился кинжал! И как же ты намерена воспользоваться им, моя красотка? Заколоть меня или поступить так же, как Лукреция, добродетельная супруга Тарквиния, заколовшая себя на глазах у мужа? Тебе ведь известна эта старая история, верно?
Больше не обращая внимания на нож, де Валломбрез шагнул к Изабелле и схватил ее в объятия, прежде чем она успела что-либо предпринять.
В то же мгновение раздался треск, за которым последовал оглушительный грохот. Оконная рама, словно высаженная снаружи ударом какого-то исполина, покачнулась и рухнула на паркет, засыпав все вокруг осколками битого стекла. А в пустой оконный проем с шумом и шорохом вторгся целый ворох древесных ветвей!
То была вершина того древесного исполина, по ветвям которого Чикита переправлялась через ров. Сигоньяк и его товарищи умудрились подпилить ствол и направить его таким образом, чтобы при падении он превратился в мост, связывающий противоположный берег и окно покоев Изабеллы.
Все это произошло в самый разгар любовной сцены, и ошеломленный де Валломбрез тут же выпустил молодую актрису, схватившись за шпагу, чтобы отразить необъяснимое вторжение.
В то же мгновение в комнату бесшумно, как тень, проскользнула Чикита и дернула Изабеллу за рукав:
– Скорее спрячься за ширмой, сейчас здесь будет весело!
Малышка была права. В ночной тишине один за другим прогремели два-три выстрела, гулко раскатившиеся в ночной тиши.
Головорезы, поставленные охранять замок, подняли тревогу.
17
Аметистовый перстень
Со всех ног взбежав по главной лестнице, Малартик, Бренгенариль и Тордгель ворвались в покои Изабеллы, чтобы помочь де Валломбрезу, тогда как Ля Рапе, Мерендоль и остальные головорезы, состоявшие на службе у герцога и прибывшие в замок вместе с ним, переправились на лодке через ров, чтобы напасть на врага с тыла. Несмотря на поспешность, действовали они довольно слаженно.
Рухнувшая верхушка дерева загородила и без того узкое окно, а ее ветви простирались почти до середины комнаты, что сильно ограничивало пространство для маневра. Малартик вместе с Тордгелем занял позицию у одной стены комнаты, а Бренгенарилю и Кольруле приказал стать у противоположной. Таким образом они могли избежать прямой атаки врага и сохранить перевес над ним. Теперь атакующим, прежде чем проникнуть вглубь замка, предстояло миновать два ряда головорезов, стоявших наготове со шпагой в одной руке и пистолетом в другой. Все они успели нацепить маски, ибо никто не желал быть опознанным, если дело примет скверный оборот, и эти четыре безмолвные, как призраки, фигуры с черными лицами, вооруженные и готовые к бою, представляли собой весьма устрашающее зрелище.
– Удалитесь, ваша светлость, или наденьте маску, – вполголоса посоветовал герцогу Малартик. – Если завяжется потасовка, никто не должен видеть, что вы в ней участвуете.
– Почему? Я никого не боюсь, а всякий, кто меня увидит, уже не сможет об этом рассказать! – хвастливо заявил де Валломбрез, угрожающе потрясая шпагой.
– По крайней мере, уведите отсюда Изабеллу, эту новую Елену Троянскую, иначе ее, чего доброго, заденет шальная пуля!
Сочтя этот совет благоразумным, герцог направился к Изабелле, которая вместе с Чикитой спряталась за дубовым шкафом. Схватив девушку за руку, он потащил ее за собой, несмотря на то, что Изабелла отчаянно отбивалась, цепляясь за резные выступы стенных панелей и углы мебели. Отважная девушка предпочитала остаться на поле сражения, где пули и клинки угрожали ее жизни, лишь бы не оказаться в стороне от схватки, да еще и наедине с герцогом.
– Отпустите меня, негодяй! – отчаянно закричала Изабелла, хватаясь за раму двери и напрягая остатки сил, чтобы вырваться: она всем сердцем чувствовала, что Сигоньяк совсем близко.
Наконец герцогу удалось приоткрыть дверь в соседний покой. Он попытался втолкнуть туда девушку, но та внезапно выскользнула из его объятий и бросилась к окну. На полпути де Валломбрезу удалось ее догнать. Подхватив Изабеллу на руки, он понес ее вглубь покоя.
– Спасите! Спасите меня! Сигоньяк!!! – простонала она в полном отчаянии.
Послышался треск ломающихся веток, и звучный голос, словно исходящий с неба, выкрикнул: «Я здесь, Изабелла!» Затем черная тень вихрем пронеслась мимо головорезов, а когда одновременно грянули четыре пистолетных выстрела, она была уже посреди комнаты. Облако порохового дыма на несколько мгновений застлало все вокруг, но как только дымовая завеса рассеялась, головорезы обнаружили, что Сигоньяк, то есть капитан Фракасс – под этим именем он был им известен, – стоит со шпагой в руке, целый и невредимый. Колесцовые замки пистолетов сработали недостаточно быстро, и все пули ушли мимо цели, лишь одна срезала перо на шляпе барона.
Тем временем Изабелла и де Валломбрез исчезли. Воспользовавшись суматохой, герцог унес свою полубесчувственную добычу, захлопнул за собой тяжелую дверь и задвинул засов. Теперь сам он был в безопасности, а защитнику девушки предстояло в одиночку разделаться с целой шайкой. К счастью, Чикита, гибкая и проворная, как ящерица, успела проскользнуть вслед за герцогом, который среди общей неразберихи и грохота пальбы не обратил на нее внимания. Оказавшись за дверью, девочка юркнула в самый темный угол обширного покоя, слабо освещенного масляной лампой, и затаилась.
– Негодяи, где Изабелла? – взревел Сигоньяк, обнаружив, что девушки нет в комнате. – Я только что слышал ее голос!
– Вы не поручали нам ее охранять, месье, – невозмутимо ответил Малартик. – Сами посудите – ну какие из нас дуэньи?
С этими словами он сделал быстрый выпад, но барон с легкостью его отразил. Малартик был серьезным противником – он считался самым опытным фехтовальщиком в Париже после Лампура, но устоять в единоборстве с Сигоньяком было ему не под силу.
– Держите под прицелом окно, пока я управлюсь с этим парнем! – продолжая работать шпагой, крикнул он Кольруле, Бренгенарилю и Тордгелю, которые в это время торопливо перезаряжали заряжали пистолеты.
В тот же миг еще одна фигура обрушилась с подоконника в комнату, круша ветки. Это был Скапен, которому не в новинку было штурмовать высоты и совершать головоломные прыжки, ведь на своем веку он успел побывать не только актером, но и солдатом, и цирковым гимнастом. Мгновенно оценив обстановку и убедившись, что головорезы все еще вколачивают пули в стволы и сыплют порох на полки, а их шпаги, поскольку руки у всех заняты, лежат рядом, Скапен воспользовался секундным замешательством противника, молниеносно подобрал шпаги и вышвырнул их в окно. Затем он бросился на Бренгенариля, железной хваткой обхватил его за талию и, прикрываясь им как щитом, двинулся навстречу пистолетным дулам.
– Не стреляйте, парни, во имя всех чертей преисподней – не стреляйте! – вопил Бренгенариль, задыхаясь в объятиях Скапена. – Вы продырявите мне голову или брюхо! А каково помирать от дружеской руки, вы подумали?
Чтобы Тордгель и Кольруле не подобрались к нему с тыла, Скапен прижался спиной к стене, выставив перед собой свой живой щит, а чтобы помешать головорезам целиться, беспрестанно раскачивал Бренгенариля и переваливал его из стороны в сторону. Тот время от времени касался пола, но сил у него от этого не прибывало, ибо он ни в чем не походил на Антея.
Расчет оказался верным, поскольку Тордгель, недолюбливавший Бренгенариля, да и вообще ни в грош не ставивший человеческую жизнь, тщательно прицелился в голову актера, который был выше ростом, чем его пленник. Грянул выстрел, но Скапен успел пригнуться, для верности слегка приподняв Бренгенариля. Пуля пробила дубовую панель, по пути отхватив ухо головореза, который истошно заорал во всю глотку: «Я убит! Я убит!» – чем подтвердил, что вполне жив.
Не желая дожидаться следующего выстрела и понимая, что пуля, пройдя сквозь тело Бренгенариля, которого могут не пощадить его сообщники, тяжело ранит его самого, Скапен с такой силой швырнул своего пленника в Кольруле, который уже приближался, поднимая пистолет, что тот уронил оружие и рухнул на пол вместе с Бренгенарилем. Кровь, хлеставшая из уха раненого, брызнула в лицо Кольруле и ослепила его. Пока оглушенный падением головорез приходил в себя, Скапен успел ногой отшвырнуть его пистолет под буфет и обнажить кинжал, чтобы достойно встретить Тордгеля, взбешенного неудачей и размахивавшего кривым ножом.
Стремительно пригнувшись, Скапен левой рукой, словно тисками, перехватил запястье Тордгеля, не позволив ему пустить нож в ход, а правой нанес такой удар кинжалом, который уложил бы его противника на месте, не будь на нем куртки из сыромятной буйволовой кожи. Клинок пробил кожу и отклонился в сторону, задев ребро. Рана была пустяковой, но от внезапного удара Тордгель покачнулся и упал на колени, после чего актеру ничего не стоило, рванув руку головореза, уложить его физиономией в пол. Для надежности Скапен добавил еще пару ударов каблуком по голове – и Тордгель окончательно затих.
Тем временем Сигоньяк отражал натиск Малартика с тем хладнокровием, в котором сочетаются большое мужество и безупречное мастерство. Он парировал все выпады бретера и уже ранил его в плечо, о чем свидетельствовало красное пятно на рукаве Малартика. Тот уже понял, что затягивать поединок никак нельзя, иначе он погибнет, и попытался закончить дело, нанеся Сигоньяку прямой удар. Оба клинка столкнулись с такой силой, что посыпались искры, но шпага барона, словно ввинченная в железный брус, не дрогнула и отвела шпагу бретера. Острие проскользнуло у Сигоньяка под мышкой, зацепив ткань камзола, но даже не вспоров ее. Малартик отпрянул и выпрямился, но, прежде чем он успел занять оборонительную позицию, барон выбил у него из рук оружие и, приставив острие своей шпаги к горлу противника, крикнул:
– Сдавайтесь, или вам конец!
В эту критическую минуту еще одна рослая фигура, ломая мелкие ветки, ввалилась через окно на поле брани. Едва увидев трагическое положение Малартика, вновь прибывший внушительно проговорил:
– Дружище, ты можешь без всякого урона для своей чести покориться этому человеку: твоя жизнь на острие его клинка. Ты исполнил свой долг и вправе считать себя военнопленным. – Затем, уже обращаясь к Сигоньяку, он добавил: – Вы можете положиться на его слово. Это человек на свой лад честный, и больше он не станет ничего предпринимать против вас!
Малартик подтвердил эти слова кивком, и барон отвел шпагу. Бретер с видом побитого пса подобрал свою, вернул ее в ножны, молча уселся в кресло и носовым платком перевязал свое плечо, на котором виднелось кровавое пятно.
– А вот этим малым, будь они мертвы или просто покалечены, не мешало бы спокойствия ради связать лапы, как индюкам, которых несут на рынок головами вниз, – добавил Жакмен Лампур (а это был не кто иной, как он). – Эти канальи способны прикинуться мертвыми, чтобы спасти свою шкуру, но при случае могут внезапно воскреснуть и ужалить в пятку!
Вытащив из кармана тонкую веревку, бретер склонился над распростертыми на полу телами и с невероятной ловкостью связал руки и ноги Бренгенарилю, который начал барахтаться, пытаясь воспротивиться, затем Кольруле, который только шипел и сквернословил, а заодно и Тордгелю – тот лежал неподвижно и был иссиня-бледен, словно мертвец.
Читателя не должно удивлять присутствие Жакмена Лампура среди тех, кто явился штурмовать твердыню Валломбрезов. Как вы помните, бретер, проникшись глубочайшим почтением к Сигоньяку во время их стычки на Новом мосту, предложил барону свои услуги, и пренебрегать ими в столь сложных и опасных обстоятельствах никак не следовало. Стоит добавить, что в те времена считалось самым обычным делом, когда даже самые закадычные друзья, нанятые противоборствующими сторонами, ни минуты не раздумывая, обнажали шпаги и кинжалы друг против друга.
Вы, конечно, помните, что Ля Рапе, Огастен, Мерендоль, Азолан и Лабриш еще до начала описанной выше схватки переправились в челноке через ров и вышли за пределы замка, чтобы напасть на врагов с тыла. Двигаясь гуськом, они беззвучно поднялись по скату и вскоре добрались до того места, где подрубленное дерево, повисшее надо рвом, послужило мостом и лестницей Сигоньяку и его друзьям.
Вы уже догадались, что вся эта военная экспедиция не могла обойтись и без добряка Тирана. Он в числе первых вызвался помочь барону, ибо высоко ценил его и, не раздумывая, отправился бы вслед за ним даже в ад. А тут речь шла о спасении Изабеллы, любимицы всей труппы, к которой Тиран относился с отцовской нежностью!
Однако до сих пор он не участвовал в боевых действиях – и вовсе не из трусости, ведь отвагой актер мог бы потягаться с любым записным рубакой. Вслед за остальными Тиран также взобрался на дерево, затем уселся верхом на спиленную верхушку, переброшенную через ров, и, подтягиваясь на руках, начал продвигаться вперед, не жалея панталон, которые беспощадно рвала грубая кора. Впереди него полз театральный швейцар, малый решительный и привыкший работать кулаками, отражая натиск толпы. Добравшись до места, где ствол разветвлялся, швейцар схватился за ветку потолще и продолжал карабкаться; когда же до развилки дополз Тиран, телосложением больше похожий на великана Голиафа, что весьма помогало ему на сцене, но совершенно не годилось для того, чтобы скакать, подобно белке, по деревьям, ствол под ним зловеще затрещал. Бросив взгляд вниз, он увидел в тридцати футах внизу черную воду рва. Это зрелище заставило его основательно призадуматься, но для начала он перебрался на более надежный сук, способный выдержать его вес.
«Да уж! – пробормотал он про себя. – Для меня скакать по таким веточкам все равно что слону плясать на паутине. Это занятие для Скапенов и прочих юрких человечков, которым их роли предписывают оставаться худощавыми, а я не обладаю телосложением акробатов и канатных плясунов, ибо привержен к яствам и вину. Если я сейчас пошевелю хотя бы пальцем, чтобы поспешить на помощь барону, который, судя по звукам, доносящимся из окна, в ней нуждается, то неизбежно рухну в эти воды, заросшие ряской, и приму бесславную смерть в зловонной могиле. А вот повернув назад, я вовсе не покрою себя позором. И дело тут не в отсутствии отваги, а в силе тяжести. Даже будь я равен храбростью Ахиллу, Роланду или Сиду, как при весе в двести сорок фунтов усидеть на веточке толщиной в мизинец? Итак, двинемся вспять и поищем другой способ проникнуть в эту крепость, чтобы помочь нашему капитану Фракассу, который, верно, думает сейчас, что я просто струсил, если у него еще есть время, чтобы о чем-то думать».
Закончив этот монолог, который, как и положено внутренней речи, занял всего секунду-другую, Тиран круто развернулся и начал осторожно спускаться. Внезапно до его слуха донеслись негромкие звуки – кто-то, тяжело дыша и царапая кору, карабкался вверх по стволу. Ночь стояла безлунная, тень от стены замка делала тьму еще более густой, однако актер сумел разглядеть на стволе черный шевелящийся нарост в виде человеческой фигуры. Чтобы остаться незамеченным, Тиран прижался к дереву, насколько позволяло ему изрядное брюхо, и, затаив дыхание, стал ждать, когда человек приблизится.
Минуты через две он приподнял голову и, обнаружив, что враг совсем рядом, внезапно выпрямился и оказался лицом к лицу с тем, кто рассчитывал застать его врасплох и нанести предательский удар. Мерендоль, предводитель разбойничьей шайки приспешников герцога, продолжал подниматься, держа в зубах нож, отчего в темноте казалось, что у него выросли громадные усы. Тиран протянул руку и мертвой хваткой стиснул ему горло. Мерендоль, оказавшийся словно в петле, разинул рот, чтобы глотнуть воздуха, и нож упал в воду. Однако могучие тиски продолжали сдавливать его горло. Наконец колени проходимца разжались, руки судорожно зашарили вокруг, после чего его тело с шумом обрушилось в ров, причем брызги долетели даже до Тирана.
«Один готов! – удовлетворенно подытожил актер. – Если не задохнулся сразу, то непременно утонет. И то, и другое в равной степени радует. Однако надо продолжать спуск».
Он продвинулся еще на несколько футов. Внезапно невдалеке от него послышался сухой щелчок и блеснула голубоватая искорка – не иначе как вспыхнула затравка на полке пистолета; тут же тьму прорезала вспышка, грохнул выстрел, и пуля просвистела в каких-нибудь трех дюймах от головы Тирана. Тот успел припасть к стволу, едва заметив крохотный огонек, и втянуть голову в плечи. Это его и спасло.
– А, чтоб тебе! – послышался хриплый голос, принадлежавший Ля Рапе. – Прмазал!
– Только самую малость, – подтвердил Тиран. – Должно быть, голубок, руки у тебя не туда приставлены, ежели ты не попал в такую тушу. Ну, а теперь получи!
И Тиран пустил в ход короткую и увесистую дубинку, привязанную ремешком к его запястью. Орудие это не из числа благородных, но владел он им как настоящий виртуоз смычком, ибо во время своих скитаний прошел выучку у руанских фехтовальщиков на палках. Дубинка наткнулась на шпагу, которую головорез успел выхватить из ножен, сунув за пояс разряженный пистолет, но от сокрушительного удара клинок разлетелся, словно стеклянный. В руках Ля Рапе остался только обломок, а утяжеленный свинцом конец дубинки ушиб ему плечо.
Очутившись рядом, враги схватились врукопашную, и каждый норовил столкнуть другого в зияющую внизу черную пропасть. Ля Рапе был рослым и ловким малым но сдвинуть с места такую громадину, как Тиран, было делом столь же безнадежным, как опрокинуть крепостную башню. Актер обвил ногами ствол дерева и держался прочно, словно его прибили гвоздями. Стиснутый в его могучих объятиях и наполовину раздавленный, Ля Рапе пыхтел и задыхался, пытаясь вырваться. Улучив мгновение, Тиран слегка разжал кольцо рук, головорез откинулся, чтобы перевести дух, и в то же мгновение актер подхватил его ниже бедер и приподнял, оторвав от точки опоры.
Теперь достаточно было просто убрать руки, чтобы Ля Рапе последовал за Мерендолем. Тиран так и поступил, но, как мы уже говорили, Ля Рапе был малый проворный. На лету он успел одной рукой уцепиться за тонкий сук и закачался, пытаясь дотянуться до ствола и обхватить его ногами. Из этого ничего не вышло, и ему оставалось только висеть, вытянувшись, как восклицательный знак. Плечо его мучительно напряглось, скрюченные, как когти, пальцы из последних сил вцепились в кору, жилы на руках вздулись так, что, казалось, вот-вот лопнут, а из-под посиневших ногтей выступила кровь.
Положение было хуже некуда. Помимо боли в руке, которая едва не отрывалась под весом его тела, Ля Рапе испытывал отчаянный страх перед падением. Его широко распахнутые глаза не отрывались от черной пропасти, в ушах звенело, виски раскалывались; если бы не инстинкт самосохранения, он разжал бы руку и рухнул вниз; но головорез не умел плавать, и ров непременно стал бы для него могилой.
Несмотря на свой свирепый вид, Тиран был, в сущности, человеком мягкосердечным. Ему стало жаль беднягу, которому сейчас каждое мгновение, должно быть, казалось вечностью в аду. Поэтому, свесив голову со ствола, он проговорил:
– Если ты, мерзавец, поклянешься загробной жизнью – ибо твоя земная жизнь полностью в моих руках, – что не станешь больше сражаться на стороне герцога, я сниму тебя с этой виселицы, на которой ты болтаешься, как дохлый разбойник!
– Клянусь всеми святыми! – теряя последние силы, прохрипел Ля Рапе. – Только, умоляю, поскорее, я сейчас упаду!
Могучей рукой Тиран подхватил его за локоть, подтянул и усадил верхом на толстый сук, на котором сидел сам. При этом головорез безвольно болтался у него в руках, словно тряпичная кукла.
Ля Рапе не был светской барышней и ни разу в жизни не падал в обморок, но актеру пришлось поддержать его, иначе бы он свалился в ту самую смрадную бездну, от которой только что был спасен.
– У меня нет никаких средств, чтобы привести тебя в чувство, – заметил Тиран, роясь в кармане куртки, но, как я полагаю, вот этот чудодейственный экстракт, чистейшая анжуйская фруктовая водка, быстро вернет тебя к жизни!
С этими словами он поднес горлышко фляги к губам полуживого головореза.
– Ну-ка, глотни этого молочка, и вскоре станешь бодрее охотничьего сокола, с которого сняли клобучок!
Живительная влага подействовала незамедлительно: Ля Рапе жестом поблагодарил Тирана и принялся растирать занемевшую руку, чтобы вернуть ей подвижность.
– А теперь довольно прохлаждаться, – заявил Тиран, – давай-ка слезать с этого насеста, где сидится не так уж удобно! Я предпочитаю лужайки: они больше подходят для моей комплекции. Ты, малый, ступай вперед, – добавил он, подвинувшись, чтобы пропустить побежденного противника.
Ля Рапе, покряхтывая, пополз вниз, Тиран последовал за ним. Оказавшись на земле первым, головорез увидел в темноте расположившийся на берегу рва сторожевой отряд, состоявший из Огастена, Азолана и Баска.
– Свои! – еще издали подал он голос и, обернувшись, шепнул актеру: – Молчите и следуйте за мной!
Когда они поравнялись с наемниками, Ля Рапе приблизился к Азолану и пояснил:
– Мы с приятелем оба ранены, надо бы нам спуститься к воде, чтобы обмыть и перевязать раны…
Тот кивнул, и Ля Рапе с Тираном пошли дальше. Когда они очутились в леске, достаточно густом, хоть и лишенном листвы, головорез сказал Тирану:
– Вы великодушно сохранили мне жизнь, а теперь я избавил вас от смерти: эти трое молодчиков непременно разделались бы с вами. Я вернул долг, но не считаю, что мы в расчете, – когда бы я вам ни понадобился, я к вашим услугам. А теперь вам в ту сторону, а мне – в эту!
Оставшись в одиночестве, Тиран стал пробираться сквозь заросли, то и дело поглядывая на проклятый замок, куда он так и не сумел проникнуть. Кроме тех покоев, где шла схватка, все здание было погружено во тьму. Тем временем взошла луна, посеребрив своими лучами черепицы кровли, и в ее пока еще неярком свете актер различил человека, который прогуливался взад-вперед по небольшой площадке у края рва. То был Лабриш, стороживший лодку, в которой Мерендоль, Ла Рапе, Азолан и Огастен переправились через водную преграду.
Это наблюдение заставило Тирана задуматься: «Что он там делает в одиночестве в этом пустынном месте, пока его приятели работают клинками наверху? Надо полагать, стережет на случай обхода или отступления какой-нибудь потайной лаз, через который, огладив этого сторожа дубинкой по башке, я бы мог проникнуть в замок и тем самым доказать Сигоньяку, что я не струсил и не забыл о нем!»
Рассуждая таким образом, Тиран бесшумно, той мягкой поступью, которая часто присуща толстякам, приблизился к часовому. Сочтя расстояние удобным и достаточным, он нанес ему удар по черепу, рассчитанный так, чтобы надолго оглушить, но отнюдь не убить человека. Как мы уже убедились, актер не отличался жестокостью и вовсе не желал смерти грешника.
Лабриш рухнул, словно сраженный молнией, и застыл. Тиран приблизился к парапету надо рвом и обнаружил, что в узкой выемке среди каменной кладки стены находится лестница, ведущая к воде, которая облизывала ее нижние ступеньки. Актер начал осторожно спускаться, пристально вглядываясь в темноту, и уже почти коснувшись поверхности воды, различил очертания челнока, спрятанного в тени стены. Цепь, которой был пришвартован челнок, поддалась его могучим рукам, словно была склеена из бумаги, после чего Тиран спрыгнул в лодку, едва не опрокинувшуюся под его тяжестью.
Дождавшись, пока крохотное суденышко перестанет качаться и восстановится равновесие, дородный трагик заработал веслом, которое нашел на корме. Вскоре лодка вышла из полосы тени на освещенное пространство, где на маслянистой воде, словно рыбья чешуя, мерцала лунная рябь. Те же лучи ночного светила помогли Тирану обнаружить у цоколя здания лестницу, скрытую под кирпичным сводом, которая вела в длинный туннель. Он причалил к ней и, миновав туннель, оказался во дворе замка, не встретив по пути ни души.
«Вот я и в самом сердце этой твердыни, – подумал Ирод, удовлетворенно потирая руки, – здесь, на этих широких и прочных плитах, я прямо-таки в своей тарелке. Есть где развернуться, не то что на птичьей жердочке, да еще и над проклятым рвом! Сейчас оглядимся и поспешим на помощь друзьям!»
Первым, что он здесь заметил, было высокое парадное крыльцо, охраняемое парой мраморных сфинксов. Тиран, не колеблясь, направился к нему, здраво рассудив, что столь помпезный вход обязан привести его в парадные покои, где де Валломбрез, конечно, держит молодую актрису. Сфинксы при его приближении даже не подумали выпустить когти и беспрепятственно впустили чужака…
На первый взгляд, победа осталась за нападающими. Бренгенариль, Тордгель и Кольруле валялись на полу, как телята в хлеву. Малартик, предводитель всей шайки, был обезоружен. Но в действительности победители оказались пленниками. Дверь этого покоя, служившего прежде спальней Изабелле, запертая снаружи, отделила их от той, кого они искали. Тяжелая полированная дверь из черного мореного дуба со стальным замком стала для них почти непреодолимой преградой, поскольку под рукой у Сигоньяка и его друзей не было ни топора, ни клещей, чтобы взломать ее. Они снова и снова пытались общими усилиями вышибить ее, но этого было недостаточно – дубовая махина даже не дрогнула.
– Может, попытаться поджечь ее? – в отчаянии предложил Сигоньяк. – В камине достаточно горящих поленьев…
– К чему эта долгая возня? – возразил Лампур. – Дуб скверно горит. Лучше возьмем один из шкафов и попробуем с помощью этого тарана сокрушить преграду!
Не прошло и минуты, как брошенный с огромной силой шкаф, покрытый изысканной резьбой, врезался в дверь, но лишь оцарапал ее сверкающую поверхность и потерял часть резных деталей. Барон неистовствовал, ведь де Валломбрез умудрился ускользнуть вместе с Изабеллой, несмотря на отчаянное сопротивление девушки.
Внезапно раздался грохот и душераздирающий треск. Ветви, почти полностью загородившие окно, внезапно исчезли – вершина дерева, переброшенная через ров, рухнула вниз, и одновременно раздался протяжный человеческий крик. Это вопил театральный швейцар, застрявший на полпути, потому что ветка, по которой он двигался, показалась ему недостаточно надежной, а повернуть он не сумел. Тем временем Баску, Азолану и Огастену пришла в голову блестящая идея столкнуть вершину в воду и таким образом отрезать неприятелю путь к отступлению.
– Если не удастся взломать дверь, мы окажемся в мышеловке, – заметил Лампур. – Черти бы взяли этих старых мастеров – уж больно прочны их изделия! Попробую кинжалом расковырять замок, если иначе с ним не сладить. Так или иначе, но нам надо выбираться отсюда, а нас лишили единственного выхода – нашего дерева!
Бретер принялся было за дело, как вдруг замок заскрежетал и щелкнул, как обычно бывает, когда кто-то поворачивает ключ изнутри. Дверь, на которую было потрачено впустую столько сил, отворилась сама собой.
– Что за ангел-хранитель явился нам на помощь? – изумленно воскликнул Сигоньяк. – И каким чудом эта дверь, которая не поддавалась ничему, вдруг открылась?
– Никаких чудес, – послышался голос Чикиты. Девочка выглянула из-за распахнутой створки и устремила на барона свой загадочный и непроницаемый взгляд. – И ангелов здесь тоже нет!
– Где же Изабелла? – вскричал Сигоньяк, шагнув в залу, слабо озаренную дрожащим огоньком единственного светильника.
В первое мгновение он не заметил девушку. Застигнутый врасплох внезапно распахнувшейся дверью, герцог де Валломбрез отпрянул в угол покоя, заслоняя собой Изабеллу, которая была едва жива от страха и усталости. Она стояла на коленях, прислонившись головой к стене. Ее волосы рассыпались по плечам, одежда находилась в беспорядке, каркас корсета был сломан – так отчаянно билась она в руках похитителя, который сознавал, что добыча ускользает от него, и пытался сорвать напоследок хоть несколько похотливых поцелуев, как фавн, преследуемый охотниками, увлекает в чащу леса юную деву.
– Вот она, в том углу, позади сеньора де Валломбреза, – проговорила Чикита. – Но чтобы добыть женщину, придется убить мужчину.
– За этим дело не станет! – воскликнул Сигоньяк, направляясь к герцогу с поднятой шпагой. Де Валломбрез уже стоял в позиции.
– Ба, да это же капитан Фракасс, верный рыцарь бродячих комедианток! – только и обронил молодой герцог с величайшим презрением.
Клинки скрестились и, не отрываясь, начали вращаться один вокруг другого с той осторожной и чуткой медлительностью, которую привносят в схватку мастера шпаги, предвидя смертельный исход. Де Валломбрез был неравен Сигоньяку; но, как и надлежит человеку, носящему высокий титул, он усердно посещал фехтовальные залы и не одну взмокшую рубашку сменил, упражняясь под руководством лучших мастеров. Он не держал шпагу, точно швабру, как презрительно отзывался Жакмен Лампур о неумелых дуэлянтах, которые, по его словам, только позорят благородное ремесло. Зная, насколько опасен его противник, молодой герцог ограничился обороной, парируя удары, но не спеша их наносить. Он рассчитывал измотать Сигоньяка, уже и без того утомленного штурмом замка и поединком с Малартиком, – герцог слышал звон их клинков, доносившийся из-за двери.
Отражая удары барона, де Валломбрез одновременно левой рукой поднес к губам серебряный свисток, висевший у него на груди, и издал резкий протяжный свист. Это действие могло дорого ему обойтись: острие шпаги барона едва не пронзило его кисть; но герцог, хоть и с некоторым запозданием, успел отбить его, и клинок лишь слегка оцарапал его большой палец. Де Валломбрез тут же снов занял исходную позицию, кровожадно сверкая глазами, словно мифический василиск, способный убивать взглядом. Дьявольская усмешка приподняла углы его губ, он весь светился жестокостью и злорадством, отбивая выпад за выпадом Сигоньяка.
Малартик, Лампур и Скапен с восхищением следили за поединком, от которого зависел исход всей борьбы, ибо здесь лицом к лицу сошлись предводители враждующих сторон. Скапен даже принес из соседней комнаты канделябры, чтобы соперники могли лучше видеть друг друга.
– Вельможный щенок неплохо действует, – вполголоса заметил Лампур, беспристрастный ценитель фехтовального искусства. – Никогда бы не подумал, что он умеет так обороняться. Но стоит ему решиться на удар – и он погиб. У капитана Фракасса рука куда длиннее и вернее… А, дьявол! Ну зачем же он парирует таким широким полукругом?! Что я вам говорил? Вот шпага противника и вошла в просвет! Сейчас она заденет Валломбреза… нет, он отступил – и весьма своевременно!
В ту же минуту откуда-то послышался беспорядочный топот множества ног. Затем он приблизился, потайная дверь в стенной панели с шумом распахнулась, и пять или шесть вооруженных лакеев ворвались в залу.
– Унесите даму и разделайтесь с этими наглецами! – крикнул де Валломбрез. – С капитаном я справлюсь сам!
И, подняв шпагу, он бросился на барона.
Вторжение слуг отвлекло Сигоньяка. Все его внимание в ту минуту было сосредоточено на двух лакеях, которые уносили к лестнице лишившуюся чувств Изабеллу, и шпага де Валломбреза, прикрывавшего их отступление, чиркнула по запястью барона. Эта царапина заставила его сосредоточиться, и он нанес решительный удар. Шпага вонзилась в плечо герцога несколько выше ключицы. Де Валломбрез пошатнулся.
Тем временем Лампур и Скапен надлежащим образом расправлялись с лакеями. Лампур колол их своим длинным клинком, словно крыс, а Скапен колотил по головам рукоятью пистолета, который подобрал на полу. Заметив, что их господин ранен и, смертельно побледнев, прислонился к стене, опираясь на шпагу, челядь бросилась врассыпную. И не удивительно – их преданность герцогу, жестоко тиранившему слуг, подпитывалась только страхом.
– Ко мне, негодяи, на помощь! – простонал де Валломбрез слабеющим голосом. – Неужели вы оставите своего господина без защиты?..
Между тем Тиран со всей мыслимой поспешностью, какую только позволяла его комплекция, поднимался по парадной лестнице замка. По случаю прибытия хозяина, лестница была освещена большим фонарем, свисавшим с потолка на шелковом шнуре. На площадке второго этажа актер очутился в точности в то мгновение, когда Изабеллу – бледную, растерзанную и мертвенно неподвижную – выносили из покоев лакеи. Решив, что де Валломбрез убил собственноручно или приказал челяди убить девушку, оказавшую решительный отпор его посягательствам, Тиран пришел в неистовство и накинулся на слуг, размахивая дубинкой. Те были ошеломлены внезапным нападением, к тому же руки у них были заняты и защититься они не могли. Поэтому, бросив свою ношу, они пустились наутек с такой скоростью, словно за ними гнался сам дьявол.
Тиран наклонился над девушкой, приподнял ее голову и прижал ладонь к груди. Сердце Изабеллы, хоть и неровно, билось, она дышала все глубже, постепенно приходя в себя. Ни крови, ни ран видно не было.
В таком положении и застал их обоих Сигоньяк, только что сломивший сопротивление герцога блистательным ударом, который привел в полный восторг Жакмена Лампура. Барон пал на колени перед возлюбленной, схватил ее руки в свои и проговорил:
– Очнитесь, дорогая! Вам больше нечего бояться! Ваши друзья с вами, и больше никто не посмеет вас обидеть.
Голос его донесся до Изабеллы, словно сквозь сон. Глаза ее все еще оставались закрытыми, но по бледным губам скользнула едва заметная улыбка, а влажные пальцы слегка сжали руку Сигоньяка.
Жакмен Лампур, почитавший себя знатоком любовных дел, с глубоким умилением наблюдал за этой сценой.
Внезапно среди безмолвия, воцарившегося после шума схватки, топота, звона битого стекла и лязга стали, властно и громко прозвучал призыв охотничьего рога. Прошло немного времени, и звук этот повторился с еще большей силой и настойчивостью. Теперь он звучал, как повеление властелина, которого невозможно ослушаться.
И тотчас загремели цепи и заскрипели механизмы подъемного моста. С глухим гулом мост опустился, под сводом въездного туннеля послышался гром колес, а в замковом дворе замелькали огни смоляных факелов. Минутой позже парадная дверь резко распахнулась и на лестнице зазвучали чьи-то твердые шаги, отдававшиеся эхом под сводами пролета.
Внизу показались четыре лакея в парадных ливреях, каждый нес канделябр с зажженными свечами. Они явно не принадлежали к замковой челяди, а на их лицах лежал отпечаток той невозмутимой и безмолвной готовности услужить, которая отличает слуг из аристократических домов. Следом за ними поднимался господин величественной наружности, с головы до ног одетый в ничем не украшенный черный бархат. Лишь на его груди, отчетливо выделяясь на темном фоне, красовался орден, которым короли жалуют только самых высокопоставленных и заслуженных государственных мужей.
Поднявшись на верхнюю площадку лестницы, лакеи выстроились вдоль стен и застыли, словно статуи со светильниками. Ни один мускул не дрогнул на их лицах, ни один взгляд не выдал их удивления, хотя представшее перед ними зрелище было довольно странным. Пока их господин не высказался, у них не могло быть собственного мнения.
Одетый в черное вельможа также остановился, опираясь на парапет.
Годы изрезали его лоб и щеки морщинами, окрасили кожу желтизной и посеребрили волосы, и все же в нем нетрудно было узнать оригинал портрета, висевшего над камином в опочивальне, предоставленной Изабелле. Именно к нему, словно к небесному покровителю, взывала девушка в тяжкую минуту. То был принц, отец герцога де Валломбреза. Сын же его носил имя и титул по переданному ему в управление герцогскому владению до тех пор, пока, согласно праву наследования, он в свой черед не станет главой семьи.
При виде Изабеллы, которая все еще лежала на каменных плитах, поддерживаемая Тираном и Сигоньяком, принц вскинул руки со стиснутыми кулаками и с горестным вздохом произнес:
– Кажется, я опоздал, как ни торопился!
Склонившись над молодой актрисой, он взял ее безвольную руку.
На безымянном пальце этой белой, словно выточенной из алебастра руки, сверкнул перстень с крупным аметистом. Вид этого украшения необычайно взволновал пожилого вельможу. Дрожащими пальцами он снял перстень с пальца Изабеллы, знаком велел одному из лакеев поднести поближе канделябр и начал разглядывать вырезанный на камне герб, то приближая перстень к самым глазам, то отводя подальше, чтобы лучше видеть мельчайшие подробности.
Сигоньяк, Тиран и Лампур с тревогой следили, как вельможа меняется в лице по мере того, как ему становятся ясны детали герба, врезанного в аметист, как он лихорадочно вертит его в руках, словно не решаясь поверить в то, что у него перед глазами.
Наконец он громовым голосом воскликнул:
– Где де Валломбрез?! Где это чудовище, недостойное носить наше родовое имя?
Читателю следует знать, что в украшении, снятом с пальца девушки, принц без малейших колебаний признал тот самый перстень с вымышленным гербом, которым он некогда запечатывал письма к Корнелии, матушке Изабеллы. Но как он оказался на пальце молодой актрисы, похищенной де Валломбрезом? Откуда он у нее?
«Неужели эта девушка – дочь Корнелии, а, значит, и моя? – мысленно вопрошал себя вельможа. – Ну конечно – принадлежность к театру, возраст, черты, напоминающие черты лица моей Корнелии! Слишком много сходства, чтобы ошибиться… Выходит, этот трижды проклятый развратник преследовал своей кровосмесительной страстью собственную сестру? Вот оно – жестокое наказание за полузабытый грех!..»
В это мгновение Изабелла наконец открыла глаза, и перед ней предстало лицо принца, все еще державшего в руке ее перстень. Ей снова почудилось, что это лицо ей знакомо, но только в те времена, когда она его знала, оно было гораздо моложе – без морщин и седины в бороде и волосах. Это была как бы состарившаяся копия портрета над камином, и чувство неизъяснимого благоговения внезапно охватило Изабеллу. Затем она разглядела рядом Сигоньяка и добряка Тирана – оба они выглядели целыми и невредимыми, – и страх сменился в ее душе блаженным ощущением избавления. Ей больше нечего было бояться – ни за друзей, ни за себя. Приподнявшись, девушка села и учтиво склонила голову перед принцем, а тот продолжал разглядывать девушку с жадным вниманием, словно все еще искал в ее чертах сходство с чертами былой возлюбленной.
– От кого вы получили этот перстень, мадемуазель? – наконец взволнованно спросил пожилой вельможа. – У меня с ним связаны некие воспоминания. Давно ли вы его носите?
– С самого детства. Он достался мне в наследство от матери, – ответила Изабелла.
– А как звали вашу матушку, и чем она занималась? – продолжал допытываться принц.
– Она звалась Корнелией, – сдержанно проговорила Изабелла. – Моя мать была бедной провинциальной комедианткой и в той же труппе, в которой служу теперь и я, играла роли цариц и принцесс в старых трагедиях.
– Корнелия! Несомненно! – вскричал принц. – Это она!
Однако вскоре вельможе удалось справиться с волнением. Он еще раз взглянул на девушку и проговорил – теперь уже спокойно и внушительно:
– Позвольте мне оставить этот перстень у себя. Я верну его вам, когда придет время.
– Он и без того в руках вашей светлости! – ответила Изабелла, в чьей памяти сквозь туманную дымку детских воспоминаний уже проступил образ человека, склонявшегося над ее колыбелью, когда она была еще совсем крохотной.
– Господа, – начал принц, обратив твердый и ясный взгляд на Сигоньяка и его товарищей, – в других обстоятельствах я счел бы ваше вторжение в мой замок неуместным; однако мне хорошо известна причина, побудившая вас явиться сюда с оружием в руках. Насилие порождает и оправдывает встречное насилие. Я готов закрыть глаза на то, что здесь произошло. Но где же мой сын, этот позор моей старости?!
В следующее мгновение, как бы в ответ на этот призыв, на площадку ступил де Валломбрез, опираясь на руку Малартика. Он был зеленовато-бледным, рука его судорожно прижимала к груди скомканный платок. Тем не менее он был в состоянии двигаться, но так, как перемещаются призраки – не отрывая подошв от пола. Даже это давалось ему лишь неимоверным усилием воли, которое придавало его лицу вид мраморной маски. Герцог услышал голос отца, которого, несмотря ни на что, опасался, и решил скрыть от него рану. Кусая губы, чтобы не закричать, и слизывая кровавую пену из углов рта, он заставил себя снять шляпу, хотя это движение причинило ему жестокую боль, и безмолвно, с непокрытой головой, застыл перед отцом.
– Месье, – грозно начал принц, – ваше поведение вышло далеко за пределы разумного и дозволенного, а ваша разнузданность достигла таких пределов, что я буду вынужден просить короля покарать вас длительным заточением или – в качестве милости – пожизненным изгнанием. Я способен простить вам некоторые ошибки молодости, но похищение, лишение свободы и насилие – это не любовные шалости, а заранее обдуманное и осуществленное преступление. Этому нет прощения!
На мгновение принц склонился к уху де Валломбреза и прошептал одними губами:
– Да знаете ли вы, чудовище, что девушка, которую вы похитили, презрев ее целомудренное сопротивление – ваша сестра?
– Вот пусть она и заменит вам сына, которого вы сейчас потеряете, – прохрипел де Валломбрез, чувствуя, как его сознание мутится и на лбу выступает ледяной пот. – Но я не так преступен, как вы считаете. Изабелла невинна! Я свидетельствую об этом перед Богом, перед которым вскоре предстану. Можете поверить слову умирающего дворянина – смерть не терпит лжи!..
Эти слова были произнесены так, что их слышали все, кто был свидетелем этой сцены. Изабелла обратила свои прекрасные, увлажнившиеся в эту минуту глаза к Сигоньяку и без труда прочитала на его лице, что ее возлюбленный вовсе не нуждается в чужих свидетельствах, чтобы не сомневаться в целомудрии любимой.
– Но что с вами? – тревожно вскричал принц, протягивая руки к сыну.
– Ничего особенного, отец мой… – едва слышно прошелестел де Валломбрез, – просто я… кажется, я умираю!..
С этими словами он рухнул на каменные плиты, несмотря на попытки Малартика его удержать.
– Если упал не лицом вниз – значит, это всего лишь обморок, и он еще может выкарабкаться, – со знанием дела заметил Жакмен Лампур. – Мы, люди шпаги, больше понимаем в таких вещах, чем все аптекари и цирюльники вместе взятые.
– Лекаря! Лекаря! – вскричал принц, забыв о своем гневе. – Может, еще не все потеряно! Я озолочу того, кто спасет моего сына, последнего отпрыска великого рода! Что же вы медлите? Скорее, скорее!..
Двое из четверки бесстрастных лакеев с канделябрами, бесстрастно созерцавших происходящее, отделились от стены и кинулись исполнять повеление господина. Другие слуги со всеми предосторожностями подняли де Валломбреза, перенесли в его опочивальню и уложили на кровать.
Пожилой вельможа проводил это шествие горьким взглядом, в котором негодование сменилось скорбью. Его род мог угаснуть вместе с сыном, которого он и любил, и ненавидел, но в эту минуту он словно забыл о многочисленных пороках молодого герцога, помня лишь его блестящие дарования. Глубоко удрученный, принц несколько минут пребывал в безмолвии, которое никто не осмелился нарушить.
Тем временем Изабелла окончательно оправилась от обморока, собралась с силами и теперь стояла рядом Сигоньяком и Тираном, опустив глаза и пытаясь привести в порядок свой наряд. Лампур и Скапен топтались позади них, как персонажи второго плана на сцене, а в дверях мелькали озадаченные физиономии головорезов и наемников, которые принимали участие в схватке, а теперь беспокоились о том, что их ждет в дальнейшем. Что, если их снова вернут на галеры или отправят прямиком на виселицу за содействие де Валломбрезу в его преступных затеях?
Наконец принц прервал тягостное молчание:
– Я требую, чтобы все, кто служил своими шпагами и иными бесчестными делами низким страстям моего сына, немедленно покинули этот замок. Достоинство дворянина не позволяет мне превратиться в доносчика или палача, поэтому скройтесь с глаз долой, спрячьтесь в свои смрадные логова. Правосудие и без меня рано или поздно найдет туда дорогу!
Никто не стал обижаться на эти сомнительные любезности. Бретеры, которых Лампур уже успел развязать, молча ретировались во главе со своим предводителем. Когда же они скрылись из виду, принц взял Изабеллу за руку и отделил ее от друзей.
– Прошу вас, мадемуазель, – обратился он к девушке. – Отныне ваше место – рядом со мной. Судьба отняла у меня сына, и теперь ваша прямая обязанность – вернуть мне дочь!.. – Произнеся это, принц смахнул непрошеную слезу, а затем, обращаясь к барону де Сигоньяку, с достоинством произнес: – А вы, сударь, можете удалиться вместе с вашими товарищами. Изабелла останется под защитой своего отца в замке, который и впредь будет ее домом. Сейчас моей дочери не следует возвращаться в Париж. К тому же она досталась мне слишком дорогой ценой, чтобы отпустить ее от себя… Да, вы, месье, отняли у меня надежду на то, что мой род не продлится в веках, но несмотря на это я признателен вам, ведь вы остановили моего сына на пороге постыдного поступка, да нет – неслыханного преступления! И я предпочитаю, чтобы герб мой был запятнан кровью, но не грязью. Герцог де Валломбрез вел себя подло, и вы имели все основания убить его; защищая невинность и добродетель, вы показали себя истинным дворянином, каким, насколько я знаю, вы и являетесь. Вы были правы! За спасение моей чести заплачено смертью ее брата. Но это говорит рассудок, тогда как мое отцовское сердце противится этому всеми силами. Боюсь, что во мне может зародиться мысль о неправедном мщении и я не смогу с собой совладать, поэтому прошу вас как можно быстрее удалиться. Я не стану вас преследовать и постараюсь помнить о том, что лишь жестокая необходимость направила ваш клинок в грудь моего сына.
– Монсеньор! – с глубочайшим уважением проговорил барон. – Отцовская скорбь священна для меня, и я безропотно вынес бы самые оскорбительные и горькие слова в свой адрес. Скажу только, что в этом поединке я ничем не погрешил против чести. Я не буду обвинять несчастного герцога де Валломбреза ради того, чтобы обелить себя в ваших глазах. Поверьте, я не искал с ним ссоры, он сам снова и снова становился на моем пути, хотя я много раз щадил его во всех стычках. И на сей раз он сам, ослепленный яростью, бросился на мой клинок. Я оставляю в ваших руках Изабеллу, которая для меня дороже жизни, и удаляюсь навсегда. Признаюсь, мое горе стоит вашего, ибо эта прискорбная победа для меня горше поражения, ведь она лишила меня счастья всей моей жизни. Лучше бы мне самому оказаться убитым, быть жертвой, а не победителем!
Сдержанно поклонившись принцу и задержав долгий взгляд, полный любви и сожаления, на Изабелле, Сигоньяк, сопровождаемый Лампуром и Скапеном, спустился по лестнице к парадному входу. Оглянувшись на ходу, барон успел заметить, что Изабелла оперлась на парапет и поднесла к глазам, полным слез, кружевной платок. Что она оплакивала – смерть брата или потерю возлюбленного? Последнее показалось ему ближе к истине, так как ненависть девушки к де Валломбрезу, даже после невероятного известия о том, что они в близком родстве, едва ли могла мгновенно превратиться в сестринскую любовь. Поэтому Сигоньяк удалился, отчасти утешенный слезами той, которую любил. Что поделаешь – уж так устроено человеческое сердце!
Миновав замковый двор и подъемный мост, Сигоньяк и остальные актеры направились вдоль рва к лесу, где были спрятаны их лошади. Внезапно их внимание привлекли жалобные стоны, доносившиеся оттуда, где в воде лежало поваленное дерево. Оказалось, что театральный швейцар, так и не сумев выпутаться из гущи переплетенных ветвей, рухнул вместе с подрубленной вершиной в воду, да и застрял там, уцелев только потому, что его голова осталась на поверхности. Скапен ловко прыгнул на ствол, наполовину скрывшийся под поверхностью, и мигом вытащил швейцара, мокрого, трясущегося от холода и с ног до головы облепленного водорослями.
Лошади, застоявшиеся в низине, в которой их укрыли друзья, бодро заржали при виде хозяев и с места взяли бодрой рысью.
– Ну, и что вы думаете обо всех этих событиях? – поинтересовался Тиран у барона, ехавшего рядом с ним стремя в стремя. – Развязка, словно в настоящей трагикомедии! Это торжественное прибытие разгневанного отца, предшествуемого слугами со светильниками, причем ровно в ту минуту, чтобы положить конец безумствам вельможного сынка! А опознание утраченной дочери благодаря перстню с печаткой! Разве нечто подобное не доводилось нам видеть на сцене? Хотя, чему тут удивляться: если театр отражает жизнь, то и сама жизнь должна быть похожа на него, как оригинал на мастерски исполненный портрет. Скажу вам то, о чем до сих пор предпочитал помалкивать: в труппе давно ходили разговоры о знатном происхождении Изабеллы. Блазиус и старая Леонарда до сих пор помнят принца – в ту пору он был еще герцогом, – который ухаживал за Корнелией и не пропускал ни одного спектакля с ее участием. Леонарда не раз принималась уговаривать Изабеллу разыскать отца, но та по своей врожденной кротости и скромности всегда наотрез отказывалась, не желая навязываться высокородному семейству и предпочитая довольствоваться тем, что выпало на ее долю.
– Да, я знал об этом, – подтвердил де Сигоньяк. – Изабелла рассказала мне историю своей матери и упомянула о кольце, впрочем не придавая особого значения своему происхождению. Но, судя по тонкости чувств, которой отличается эта девушка, в ее жилах, несомненно, течет благородная кровь. Даже если бы она ничего не говорила, я догадался бы об этом сам. В ее изящной и чистой красоте чувствуется порода. Вот почему моя любовь всегда сочеталась с особым почтением и я не мог позволить себе с нею никаких вольностей. Но что за роковое совпадение – негодяй де Валломбрез оказался ее братом! Теперь нас разделяет его кровь, пролитая мною, а ведь спасти ее честь я мог только одним способом – уничтожив его. Несчастная судьба! Я сам возвел преграду, разбившись о которую, погибнет моя любовь, и той же шпагой, которой защищал свое сокровище, уничтожил надежду на счастье! Стремясь сберечь самое дорогое, я лишился его навсегда… Как мне теперь прийти к Изабелле, оплакивающей брата, когда мои руки обагрены его кровью? Пусть даже она простит мне все, но принц, который отныне вступил в свои отцовские права, с проклятием оттолкнет убийцу сына. Нет, поистине я родился под злосчастной звездой!
– Все это, конечно, весьма прискорбно, – согласился Тиран, – однако в отношениях Сида и Химены, героев пьесы месье Пьера де Корнеля, царит путаница и похлеще, однако после продолжительной борьбы между чувством и долгом все кончается хорошо, правда, не без некоторых натяжек и трюков в испанском вкусе, которые весьма эффектно выглядят на сцене, но не в жизни. Герцог де Валломбрез – брат Изабеллы всего лишь по отцу. Подобное родство мало к чему обязывает, а следовательно, у нее нет особых оснований испытывать к вам вражду. Кроме того, наша Изабелла отчаянно ненавидела этого полоумного герцога с его грубыми домогательствами и скандальными выходками. Да и сам принц, судя по всему, не очень-то жаловал своего отпрыска, который отличался разве что жестокостью, распутством и сатанинской порочностью. Его бы уже раз двадцать повесили, если бы не высокий титул. Не отчаивайтесь, барон! Все может обернуться лучше, чем вам представляется.
– Я был бы только рад, мой добрый друг, – ответил де Сигоньяк. – Но не с моей удачей. Должно быть, у моей колыбели стояли одни только злые феи-горбуньи. Право, лучше бы я сам погиб вместо де Валломбреза, ведь с появлением принца честь Изабеллы была бы все равно спасена! И скажу вам, как на исповеди: когда этот молодой красавец, только что полный жизни и страстей, лежал, вытянувшись у моих ног, меня охватил какой-то таинственный ужас. Смерть человека, каков бы он ни был, – дело страшное, и хоть я ни в чем не раскаиваюсь, перед глазами у меня неотступно стоит молодой герцог с кровавым пятном на груди и волосами, разметавшимися по мраморным плитам лестницы.
– Это всего лишь видения, – возразил Тиран. – Вы уложили его по всем правилам, совесть ваша чиста. Пришпорим лошадей – бодрый галоп быстро развеет всякие там угрызения совести. Давайте-ка лучше подумаем о том, как бы вам побыстрее скрыться из Парижа и пересидеть это время в каком-нибудь уединенном местечке. Смерть де Валломбреза наделает много шума в столице и при дворе, как бы ее ни пытались утаить. И хотя не так уж много найдется людей, которые любили молодого герцога, кто-нибудь может попытаться вам отомстить. Итак, оставим разговоры и постараемся побыстрее оставить за плечами эту унылую дорогу, на которой нет ничего, кроме голых прутьев да холодного лунного света!
Подбодренные шпорами кони пошли живее; а пока наши знакомцы приближаются к окраинам Парижа, вернемся в притихший замок Валломбрез и проникнем в опочивальню, в которую слуги отнесли раненого герцога.
Семисвечный канделябр, стоявший на столике, ярко освещал его кровать. Де Валломбрез лежал совершенно неподвижно и казался еще бледнее на фоне пурпурных атласных занавесей, бросавших на него красноватые отблески. Панели черного дерева, инкрустированные медью, служили в этом покое своего рода основанием для целой серии гобеленов, на которых была изображена история Медеи и Ясона, сплошь состоящая из убийств и мрачного колдовства. На одном гобелене Медея разрубала на куски Пелия – якобы для того, чтобы вернуть ему молодость, на другом эта ревнивая жена и бесчеловечная мать, умерщвляла своих сыновей, на следующем она же уносилась на колеснице, запряженной огнедышащими драконами, насладившись мщением. Гобелены были, бесспорно, хороши, в них чувствовалась рука искусного художника и выдающегося ткача, но изображенные ими мифологические зверства были полны угрюмой жестокости. Помимо того, они изобличали истинный нрав того, кто выбрал эти картины, чтобы украсить ими свою спальню. В изголовье висела шпалера с изображением Ясона, поражающего исполинских медных быков, хранителей Золотого руна, и де Валломбрез, лежавший под ней без движения, казался одной из жертв чудовищ.
Повсюду на стульях и креслах валялись пышные и элегантные наряды, небрежно отброшенные после примерки. На столе того же эбенового дерева, из которого была изготовлена вся обстановка опочивальни, в японской вазе, расписанной синими и красными хризантемами, все еще стоял великолепный букет редчайших цветов. Он был предназначен заменить тот, который отвергла Изабелла, но так и не был доставлен ввиду внезапного нападения на замок. Пышно распустившиеся благоухающие цветы являли разительный контраст с безжизненно распростертым телом молодого человека.
Сидя в кресле у постели сына, принц не спускал скорбного взгляда с его лица, ставшего белее кружевных воланов на подушке. Бледность придала его чертам особую тонкость и благородство, все низменное и злобное, искажающее человеческий облик, исчезло. Никогда еще де Валломбрез не был так красив. Казалось, даже легкие вздохи не слетают с его приоткрытых губ, которые из пурпурных стали бледно-лиловыми. Созерцая это прекрасное тело, которому вскоре суждено обратиться в жалкий прах, принц на время забыл о том, что в нем обитала душа свирепого демона. Сейчас он печалился о своем имени, которое гремело, овеянное славой, из века в век. Принц оплакивал нечто большее, чем гибель сына, – смерть целого рода. Это горе недоступно буржуа и простолюдинам, но лишь людям, принадлежащим к благородному сословию. Сжимая ледяную руку де Валломбреза и чувствуя ее едва заметное тепло, он не сознавал, что это тепло исходит от него самого, и все еще не терял надежды.
Изабелла стояла в изножье кровати и, сложив руки на груди, обращалась к Богу с молитвой о брате, невольной причиной гибели которого стала она сама. Он заплатил жизнью за чрезмерную и беззаконную любовь – преступление, которое легко прощают женщины, в особенности, если они сами послужили его причиной.
– Что же не едет лекарь? – нетерпеливо проговорил принц. – Может, еще не поздно и он сумеет что-нибудь сделать!
Не успели отзвучать эти слова, как дверь опочивальни распахнулась и вошел хирург, сопровождаемый учеником, который нес саквояж с медицинскими инструментами. Коротко поклонившись и не произнеся ни слова, врач направился прямо к постели молодого герцога, сосчитал пульс, приложил руку к его сердцу и сокрушенно покачал головой. Однако, желая окончательно удостовериться, он достал да кармана зеркальце из полированной стали, поднес к губам де Валломбреза, а затем пристально вгляделся в него. Легкое облачко затуманило поверхность металла. Лицо хирурга выразило удивление, и он повторил пробу. И снова сталь покрылась сизой дымкой. Изабелла и принц с замиранием сердца следили за манипуляциями лекаря, чье хмурое лицо немного прояснилось.
– Жизнь еще теплится, – наконец произнес он, обращаясь к принцу и пряча зеркальце. – Раненый дышит, и, пока смерть не наложила на него свою печать, отчаиваться не следует. Но и для преждевременной радости поводов нет – положение крайне тяжелое. Скажу лишь одно: у его светлости де Валломбреза есть дыхание, но пульс крайне слаб, следовательно, до выздоровления еще бесконечно далеко. Теперь я хочу осмотреть его рану. Возможно, она не смертельна, если не убила его в первые же часы.
– Вам незачем оставаться здесь, Изабелла, – сказал принц. – Ступайте в свои покои. Подобные вещи не предназначены для глаз молодой девушки. Вам сообщат, к какому заключению пришел врач после осмотра.
Изабелла удалилась в сопровождении лакея, который привел ее в новые апартаменты, ибо прежние больше походили на поле битвы после разыгравшейся там драмы.
Вместе с учеником врач расстегнул камзол молодого герцога, разрезал рубашку и обнажил грудь, на которой выделялась треугольная ранка, окруженная синевой. Крови почти не было – вся она излилась внутрь. Хирург развел края раны и ввел в нее зонд. Едва различимая дрожь пробежала по лицу раненого, но глаза его по-прежнему остались закрытыми, а сам он был неподвижен, точно надгробное изваяние.
– Превосходно! – воскликнул врач, заметив эту судорогу. – Он страдает, значит, все еще жив. Чувствительность – благоприятный признак.
– Скажите, но он может оправиться? – настаивал принц. – Если вы спасете его, я исполню любые ваши желания, вы получите все, чего ни потребуете!
– Не стоит спешить и забегать вперед, – возразил хирург. – Пока нельзя ни за что поручиться. Острие клинка прошло через верхушку правого легкого. Это тяжелая рана, но наш пациент еще молод, крепок и сложен так, что без этой раны смог бы прожить лет до ста. Возможно, он и поправится, если не случится непредвиденных осложнений. У человеческого организма огромные, просто огромные резервы! Когда жизненные силы в расцвете, они быстро восполняют любые потери и залечивают раны. С помощью банок и нескольких небольших надрезов я попытаюсь извлечь кровь, излившуюся в полость грудной клетки. А ведь она в конечном счете могла бы задушить нашего пациента, если бы он не оказался в руках опытного медика, что, несомненно, удача для столь отдаленного от Парижа замка! Ну-ка, малый! – скомандовал хирург ученику. – Чем глазеть на меня, как на башенные часы, живо скатай бинты и приготовь припарки, чтобы я мог немедленно взяться за дело!
Покончив с манипуляциями, хирург обратился к принцу:
– Благоволите распорядиться, ваша светлость, чтобы мне поставили походную кровать где-нибудь в углу этого покоя и подали ужин для нас обоих. Мы будем всю ночь попеременно дежурить у постели молодого человека. Я должен все время находиться рядом и следить за каждым новым симптомом, чтобы устранить его, если он имеет угрожающий характер, или поддержать, если он указывает на перемену к лучшему. Положитесь на меня, монсеньор: все, чем располагает сегодня наука спасения человеческой жизни, будет пущено в ход. Ступайте и немного отдохните, я беру на себя ответственность за жизнь вашего сына… по крайней мере до завтрашнего дня!
Несколько успокоившись, отец де Валломбреза отправился к себе, но ежечасно к нему продолжали являться лакеи с докладами о положении и общем самочувствии раненого…
В предназначенных для нее новых покоях Изабеллу поджидала все та же угрюмая и необщительная горничная. Но какая разительная перемена произошла в ней! Глаза ее горели странным огнем, на бледном лице блуждала улыбка мстительного торжества. Словно таинственное возмездие за неведомую обиду, переживать которую пришлось в бессильном молчании, из немого призрака превратило ее в живую женщину. С нескрываемой радостью расчесала она прекрасные волосы Изабеллы, заботливо помогла ей надеть ночной пеньюар, а затем, опустившись на колени, принялась разувать ее, как бы искупая излишним усердием прежнюю хмурую безучастность. Исчезло и глухое молчание – теперь с губ этой девушки так и сыпались вопросы.
Впрочем, Изабелла, все еще не оправившаяся от бурных событий этого вечера, не обратила особого внимания на эту перемену. Не заметила она и того, с какой досадой нахмурилась горничная, когда слуга пришел доложить, что шансы на спасение молодого герцога возрастают. При этом известии радость, ненадолго осветившая сумрачное лицо девушки, снова покинула ее и не возвращалась, пока Изабелла не отпустила ее.
Улегшись в необыкновенно удобную и мягкую постель, Изабелла, однако, еще долго не могла уснуть, пытаясь разобраться в противоречивых чувствах, которые были вызваны столь внезапным поворотом ее судьбы. Еще накануне она была всего лишь нищей актрисой, не имевшей даже собственного имени, а только театральное прозвище, стоявшее в афишах, которые расклеивали на перекрестках. А ныне знатный вельможа назвал ее своей дочерью и она, ничтожная былинка, оказалась одним из побегов могучего генеалогического древа, корнями уходящего во времена франкских королей! Отец ее – аристократ, принц, выше которого стоят одни коронованные особы, а молодой герцог де Валломбрез, настолько же прекрасный внешне, насколько развращенный в душе, из одержимого страстью поклонника стал ей братом, и, если ему суждено выжить, эта страсть, несомненно, превратится в спокойную привязанность. Этот замок – ее недавняя тюрьма – стал для нее домом, и слуги повинуются ей с почтительностью, в которой нет ни лицемерия, ни скрытого презрения. Судьба позаботилась о том, чтобы все ее тайные мечты осуществились без ее участия. Из того, что казалось ей бесчестием и гибелью, родилось лучезарное счастье, превосходящее все мыслимые ожидания.
Но несмотря на все эти щедрые дары Фортуны, Изабелла не испытывала ни малейшей радости. То ли она еще не свыклась со своим новым положением, то ли смутно жалела об актерской жизни, но больше всего прочего ее тревожила мысль о бароне де Сигоньяке. Станет ли ближе к ней или отдалится в связи с такой разительной переменой ее бесстрашный и беззаветно преданный друг и возлюбленный? Будучи безродной актрисой, она отказалась выйти за него замуж, чтобы не препятствовать его благополучию, но теперь, став богатой и знатной, она сочла бы своим долгом предложить барону свою руку. Дочь сиятельного принца имела полное право стать баронессой де Сигоньяк!.. Да, но ведь он был прямой причиной ранения и вероятной гибели герцога де Валломбреза. Как могут их руки соединиться над недавней могилой? И даже если молодой герцог останется жив, вполне возможно, что он навсегда сохранит ненависть к победителю и желание отомстить за нанесенную ему рану. Но даже не в ране дело, а в уязвленной гордости, ибо это свойство – главное в его характере. И сам принц, как бы ни был добр и великодушен, едва ли будет благосклонен к тому, кто едва не лишил его единственного сына, и может пожелать для дочери другого союза.
Подумав об этом, Изабелла поклялась в душе, что сохранит верность своей первой любви и скорее примет монашеский постриг, чем согласится сочетаться браком с каким-нибудь герцогом, маркизом или графом, будь он даже красив, как ясный день, и во всем остальном подобен принцу из восточной сказки.
Это решение окончательно успокоило девушку. Изабелла уже начала дремать, как вдруг легкий шорох, раздавшийся в опочивальне, заставил ее вздрогнуть. Открыв глаза, она обнаружила, что в ногах кровати стоит Чикита, задумчиво глядя прямо на нее.
– Что тебе, дитя мое? – ласково спросила Изабелла. – Почему ты не уехала вместе с мужчинами? Если хочешь, я оставлю тебя здесь, при себе, ведь я у тебя в неоплатном долгу!
– Я тебя очень люблю, но не могу остаться, пока жив Огастен. Знаешь, на клинках из Альбасете вытравливают надпись по-испански: «Я верен одному хозяину». Это хорошие, достойные слова. У меня есть только одно желание. Если ты считаешь, что я отплатила тебе за жемчужное ожерелье, тогда поцелуй меня. Меня еще никто никогда не целовал. А как это, должно быть, приятно!
– С радостью, моя дорогая, и от всего сердца! – воскликнула Изабелла и, притянув к себе растрепанную головку девочки, расцеловала ее смуглые щеки, зардевшиеся от волнения.
– А теперь – прощай! – проговорила Чикита со своим обычным невозмутимым видом.
Она уже повернулась, чтобы уйти, но заметила на столе нож, которым учила Изабеллу обороняться от де Валломбреза.
– Я возьму его, – сказала она. – Тебе он больше не понадобится.
С этими словами она исчезла – беззвучно, как призрак в ночи.
18
В новой семье
Мэтр Лоран, опытный врач, знал, что говорит, когда поручился за то, что раненый проживет до следующего дня. Его предвидение сбылось.
Когда утренний свет проник в опочивальню, где царил беспорядок, а на столах и на полу валялись окровавленные повязки, молодой герцог еще дышал. Время от времени он приподнимал веки и обводил покой тусклым безучастным взглядом. В тумане полузабытья ему виделась личина смерти, и временами его глаза останавливались на чем-то незримом для остальных, но, несомненно, ужасном. Чтобы избавиться от видения, он опускал веки, и тогда густая бахрома ресниц подчеркивала его восковую бледность щек. Некоторое время де Валломбрез ждал, пока рассеется наваждение, после чего его лицо становилось спокойным, а взгляд снова принимался блуждать. Сознание герцога медленно возвращалась с порога небытия, и врач, приложив ухо к его груди, слышал, как мало-помалу набирает силу биение сердца. Эти медленные и прерывистые удары, однако, были настолько слабыми, что лишь чуткое ухо медика могло их уловить. Между полуоткрытыми губами раненого, сложенными в некое подобие болезненной улыбки, мерцали белизной его зубы, но к лиловому тону губ уже примешивались розовые тона, что свидетельствовало о том, что ток крови постепенно восстанавливается.
Стоя у изголовья постели, мэтр Лоран зорко и проницательно следил за всеми, даже самыми неуловимыми изменениями и симптомами. Он вовсе не бахвалился, называя себя человеком ученым, но до сих пор ему, чтобы добиться признания в кругу маститых коллег, недоставало подходящего случая. Его обычными пациентами было простонародье, а исцеление каких-то там мелких лавочников, солдат, писцов, стряпчих, чья жизнь и смерть ничего не стоят, едва ли могло принести ему славу. Ясно, что для него значило излечение молодого герцога: в этом поединке со смертью наравне участвовали самолюбие и честолюбие. Не желая делить лавры ни с кем, врач резко воспротивился намерению принца вызвать из Парижа самых знаменитых медиков, заявив, что перемена в методах лечения при таком серьезном ранении может оказаться губительной.
«О нет, он не умрет! – размышлял мэтр Лоран, всматриваясь в лицо больного. – Маски Гиппократа[69] я не вижу, конечности мало-помалу разогреваются, он неплохо перенес предутренние часы – время, когда могущество недуга как бы удваивается и предопределяет прискорбный конец. Он должен жить, ибо в его спасении – мое благополучие, и я вырву этого красавца, наследника могущественного рода, из рук Костлявой! Еще не скоро близким придется заботиться о надгробии для него: сперва он должен извлечь меня из этой глухой дыры, в которой я прозябаю. Похоже, пришла пора попробовать восстановить его силы с помощью сильного укрепляющего средства, даже рискуя вызвать лихорадку…»
Так как помощник хирурга, бодрствовавший большую часть ночи, спал на походной кровати, мэтр сам извлек из ящика с медикаментами несколько флаконов с разноцветными жидкостями – красными, как рубин, зелеными, как изумруд, золотисто-желтыми и совершенно прозрачными. К каждому флакону была прикреплена этикета с сокращенным латинским названием снадобья, звучавшим для профана словно каббалистическое заклинание. Но как ни был мэтр Лоран уверен в себе, он не раз и не два перечитал сигнатуры на отобранных им флаконах, посмотрел содержимое на свет – благо, первые лучи солнца уже пробились сквозь щели в занавесях, затем отмерил с помощью серебряной мензурки необходимые дозы и смешал их, составив некую микстуру, рецепт которой он хранил в тайне от всех.
Затем он разбудил ученика и велел ему приподнять голову де Валломбреза, а сам разжал шпателем его зубы и влил в рот микстуру. От ее пряной горечи неподвижные черты раненого исказила легкая судорога. Капля за каплей снадобье проникало в горло пациента и вскоре, к большому удовлетворению врача, вся порция была принята. По мере того как де Валломбрез пил, на щеках его появился слабый румянец, глаза прояснились, а рука, неподвижно лежавшая на одеяле, слабо пошевелилась. Раненый вздохнул, словно пробуждаясь, и почти осмысленным взглядом обвел комнату.
«Я играю в очень опасную игру! – пробормотал про себя мэтр Лоран. – Зелье это непростое, оно способно либо убить, либо воскресить. Но на сей раз, похоже, оно воскресило больного! Слава Асклепию, Гигейе и Гиппократу!»
В этот момент чья-то рука осторожно раздвинула занавес у входа и появилась седая голова принца. Лицо его, измученное страшной и тоскливой ночью, казалось состарившимся на десять лет.
– Ну, что он, мэтр Лоран? – тревожно спросил принц.
Врач приложил палец к губам и указал на молодого герцога. Тот лежал высоко на подушках и уже не походил на умирающего – так подействовало на него жгучее снадобье.
Беззвучными шагами, свойственными тем, кто привык постоянно ухаживать за больными, мэтр Лоран приблизился к все еще стоявшему на пороге принцу и, отведя его в сторону, проговорил:
– Как вы сами видите, монсеньор, положение вашего сына заметно улучшилось. Разумеется, он еще не вне опасности, но, если не случится какое-нибудь непредвиденное осложнение, которое я всячески постараюсь предотвратить, думаю, он поправится и продолжит свой жизненный путь, совершенно забыв об этой злополучной ране.
Лицо принца просияло. Он устремился было в опочивальню, чтобы поцеловать сына, но мэтр Лоран почтительно удержал его.
– Позвольте мне, монсеньор, воспротивиться этому вашему желанию, каким бы естественным оно ни было. Увы, медицина – самая суровая из всех наук. Не входите сейчас к герцогу. Он еще настолько слаб, что ваше присутствие может встревожить его и вызвать нервный припадок. А любое волнение способно порвать ту тонкую нить, которой наш раненый привязан к жизни. Пройдет несколько дней, рана начнет заживать, силы мало-помалу вернутся к нему, и тогда вы сможете беспрепятственно наслаждаться общением с ним.
Доводы врача показались вельможе разумными, и он, несколько успокоившись, удалился в свои покои, где и занимался чтением до самого полудня, когда дворецкий явился доложить, что обед подан.
– Просите мою дочь, графиню Изабеллу де Линейль – таков отныне ее титул – пожаловать к столу! – велел принц дворецкому, и тот поспешил выполнить распоряжение.
По пути в столовую Изабелле пришлось миновать зал с неподвижными рыцарями в доспехах, которые так напугали ее ночью. Но теперь, при дневном свете, в них больше не было ничего пугающего. Все покои были проветрены, ставни открыты, на стеклах высоких окон играло солнце. На решетках каминов пылали вязанки можжевельника и сосновые поленья, изгоняя отовсюду застоявшийся запах пыли и плесени. Вместе с хозяином в уснувший замок вернулась жизнь.
Столовая также стала неузнаваемой. Стол, который еще вчера казался предназначенным для сборищ призраков, был накрыт великолепной скатертью и сервирован старинным столовым серебром, украшенным богатой чеканкой, эмблемами и гербами, богемским хрусталем в золотых звездочках и бокалами венецианского стекла на витых ножках. Блюда, накрытые колпаками, наполняли помещение ароматами пряностей. Камин весело потрескивал, распространяя вокруг приятное тепло, его пламя бросало красноватые отблески на драгоценную утварь в буфетах и на золотое и серебряное тиснение обоев из кордовской кожи.
Когда Изабелла вошла сюда, принц уже восседал в кресле с высокой спинкой. Позади кресла стояли двое лакеев в парадных ливреях, готовые исполнить его любое распоряжение. Девушка приветствовала отца скромным реверансом, совершенно не похожим на те утрированные реверансы, которые приходится видеть на театральных подмостках. Слуга придвинул ей кресло, и она заняла место напротив принца, на которое он указал ей радушным жестом.
После супа мажордом принялся нарезать на буфетной доске жаркое, а лакеи подавали его уже разделанным на стол.
Стоявший рядом слуга подливал вина́ в бокал Изабеллы, но она едва прикасалась к вину и кушаньям, так как все еще была слишком взволнована событиями минувшего дня и бурной ночи, потрясена внезапной переменой в своей судьбе и обеспокоена состоянием раненого брата. Но больше всего ее терзали мысли о бароне Сигоньяке и его участи.
– Вы ничего не пьете и не едите, графиня! – заметил принц. – Позвольте предложить вам хотя бы крылышко куропатки!
Услышав этот титул графини, произнесенный ласково, но вполне серьезно, Изабелла вопросительно вскинула на принца свои прекрасные голубые глаза.
– Да-да, я не оговорился, – кивнул он. – С этого дня вам надлежит зваться графиней де Линейль. Де Линейль – название поместья, которое я дарю вам. Моей дочери не подобает носить одно лишь имя «Изабелла», как бы красиво оно ни звучало!
Охваченная властным душевным порывом, Изабелла поднялась, обогнула стол, опустилась на колени перед отцом и поцеловала его руку в знак благодарности.
– Встаньте, дочь моя! – растроганно произнес принц. – Все это вполне справедливо. Судьба не позволила мне сделать это раньше, и я усматриваю руку провидения в том невероятном и страшном стечении обстоятельств, которое нас воссоединило. Ваша добродетель не позволила свершиться ужасному преступлению, и я люблю вас за ваше целомудрие, хотя оно и могло стоить жизни моему сыну. Но я верю: Господь спасет его, чтобы он мог раскаяться в том, что оскорбил столь непорочную чистоту. Мэтр Лоран обнадежил меня, да и сам я, глядя на герцога де Валломбреза, больше не вижу на его челе печати смерти. А уж ее-то мы, люди военные, умеем узнавать безошибочно!
После того как была подана вода для омовения рук в позолоченном сосуде, принц смял салфетку, отложил ее и направился в гостиную, подав Изабелле знак следовать за ним. Там пожилой вельможа сел в кресло у камина, а его дочь устроилась рядом на складном стуле. Когда лакеи удалились, принц взял руку Изабеллы в свои руки и некоторое время безмолвно созерцал лицо дочери, обретенной таким удивительным образом. В его глазах радость смешивалась с печалью, ибо, несмотря на заверения врача, жизнь де Валломбреза все еще висела на волоске. Принц был счастлив в одном и несчастлив в другом, но прелестное лицо Изабеллы, словно озаренное светом изнутри, вскоре развеяло эти печальные думы, и он обратился к новоиспеченной графине:
– Поскольку судьба свела нас таким странным, почти сверхъестественным образом, у вас, дорогая моя, вероятно, возникла мысль, что на протяжении всего этого времени – с вашего раннего детства и до сего дня – я не искал вас и лишь случай вернул утраченное дитя отцу. В действительности это не так. Вы знаете, что Корнелия, ваша мать, отличалась гордым и неуступчивым нравом и любое ущемление своего достоинства воспринимала крайне болезненно. Когда соображения государственной важности принудили меня, вопреки влечению сердца, расстаться с ней, чтобы вступить в брак по воле самого короля, она, преисполнившись гнева и обиды, наотрез отказалась от всего, что могло облегчить ее положение и обеспечить ваше будущее. Поместья, ренту, деньги, драгоценности – все это она отвергла с презрением. Пораженный ее бескорыстием, я тем не менее оставил у своего доверенного лица отвергнутые ею деньги и ценные бумаги, чтобы она могла воспользоваться ими при необходимости. Однако она упорствовала и, сменив имя, перешла в другую театральную труппу. Вместе с актерами она стала кочевать по провинции, всячески избегая Парижа и тех мест, где могла бы встретиться со мной даже случайно. Затем ее след затерялся, а король назначил меня послом, и мне пришлось надолго уехать на Восток. Вернувшись, я узнал от верных людей, которым поручил собрать сведения о Корнелии, что она умерла несколько месяцев назад, а следы ее ребенка затерялись. Постоянные переезды провинциальных трупп и то, что актеры в них выступают не под собственными именами, а под псевдонимами, чрезвычайно осложнило поиски. Сам я не мог ими заниматься, а наемные посредники не слишком усердствовали. И все же им удалось обнаружить в некоторых труппах малолетних девочек, но обстоятельства и время их рождения не совпадали с вашими. К деньгам, оставленным мною, никто так и не прикоснулся. Я полагаю, что таким образом Корнелия решила отомстить мне, скрыв дочь от отца…
Я уже почти готов был поверить, что вас нет на свете, но внутренний голос подсказывал мне иное. Я хорошо помнил, какой очаровательной крошкой вы были в колыбели, как ваши розовые пальчики теребили мои усы, когда я наклонялся, чтобы поцеловать вас. Появление на свет моего сына лишь оживило эти воспоминания. Глядя, как мальчик растет в окружении роскоши, словно королевское дитя, как он играет драгоценными погремушками, каждая из которых могла бы обеспечить пропитание целой семье до конца дней, я не мог отделаться от мысли, что, быть может, именно в эту минуту вы страдаете от холода и голода, сидя в тряской повозке или ночуя в каком-нибудь овине, открытом всем ветрам. Если она жива, думал я, малышку наверняка бьет и бранит какой-нибудь грубый директор труппы; подвешенная на проволоке, она летает, замирая от страха, под театральным порталом, изображая в феериях амуров и эльфов, или же, вся дрожа, лепечет, заучивая по вечерам при свете коптилки незамысловатые слова детской роли… Как я проклинал себя за то, что не отнял девочку у матери! Но ведь в ту пору я был уверен, что наша любовь будет длиться вечно… А с течением времени мной овладели новые тревоги. В хаотической кочевой жизни бродячих актеров, думал я, целомудрие такой красавицы, какой вы обещали стать еще в колыбели, неминуемо подвергнется посягательствам щеголей и волокит, которые увиваются вокруг комедианток, словно мотыльки вокруг огня. Вся кровь закипала во мне от мыслей о том, что вы, плоть от моей плоти, постоянно подвергаетесь оскорблениям. Снова и снова я отправлялся в театры, представляясь заядлым любителем сцены, в надежде увидеть среди бесчисленных Простушек молодую девушку вашего возраста и с той внешностью, которой я мысленно вас наделил. Но мне встречались лишь нарумяненные вертихвостки, прикрывающие напускным простодушием распущенность и глупость. Ни одна из этих жеманниц не могла оказаться вами – в этом я был совершенно уверен.
В конце концов, исчерпав все мыслимые средства, я с горечью отказался от надежды разыскать свою дочь, чье присутствие согрело бы мою старость. Принцесса, моя супруга, умерла спустя три года после того, как подарила мне сына, а тот своим необузданным нравом причинял мне одни огорчения. Всего несколько дней назад, явившись по делам службы ко двору в Сен-Жермен, я услышал весьма одобрительные отзывы придворных о труппе некоего Тирана. По их мнению, игра ее актеров была лучшей среди всех трупп, какие только являлись в последние годы в Париж из провинции. Особенно расхваливали некую Изабеллу за совершенно естественную манеру держаться на сцене, полную наивной грации, добавляя, что эта девушка не только великолепно играет невинное простодушие, но и вне сцены добродетельна, мила и хороша собой.
Меня охватило тайное предчувствие. Волнуясь, я отправился в зал, который сняла для представлений эта труппа, и стал свидетелем того, как вы сорвали овации публики. Робость и застенчивость, серебристые звуки вашего юного голоса – все это удивительным образом тронуло мою душу. Но даже отцовский взгляд не в силах узнать ребенка, которого он не видел с младенчества, в двадцатилетней девушке, да еще и в неверном свете театральных подмостков. Однако я убедил себя, что, случись девушке, в чьих жилах течет благородная кровь, по прихоти судьбы стать актрисой, она вела бы себя именно так, как вы: скромно, с достоинством, сохраняя дистанцию между собой и собратьями по ремеслу.
В той же труппе роль Педанта играл актер, чья физиономия закоренелого пропойцы показалась мне смутно знакомой. Годы никак не подействовали на его смехотворное безобразие, и я внезапно вспомнил, что еще два десятилетия назад он изображал комических стариков в той же труппе, где играла моя возлюбленная Корнелия. Мысленно я связал вас с этим Педантом, который некогда был товарищем вашей матери по сцене. И, хоть здравый смысл твердил, что за это время он мог переменить десяток трупп, мне все равно казалось, что именно у него в руках находится та нить, с помощью которой я смогу разобраться в лабиринте событий. Вот почему я решил расспросить его; но когда я послал за ним в гостиницу на улице Дофина, мне ответили, что труппа Тирана в полном составе отправилась в какой-то замок близ Парижа, чтобы дать там представление. Я решил спокойно дождаться возвращения актеров. Но в это время явился один из моих преданных слуг с известием о том, что герцог де Валломбрез без памяти влюбился в актрису по имени Изабелла, которая отчаянно противится его домогательствам, и намерен похитить ее, собрав с этой целью целый отряд наемных убийц. План его заключался в том, чтобы обманным путем выманить всю труппу за город и там осуществить свое намерение. Слуга предупредил меня, что эти насильственные действия могут кончиться скверно, в том числе и для герцога, ибо девушка окружена друзьями, у которых при себе имеется оружие.
Я сопоставил эти сведения со своими догадками – и был безмерно потрясен. Мало того что мой сын намеревался совершить преступление, но его преступная любовь могла оказаться любовью греховной и противоестественной, если я прав в своих предположениях и вы – сестра де Валломбреза по отцу. Я нанял человека, и тот выяснил, что похитители собираются доставить вас в этот замок. Тогда я поспешил сюда – но вы были уже свободны, ваша честь не пострадала, а перстень с аметистом, на котором вырезана моя печать, подтвердил именно то, о чем твердил мне голос крови!
– Поверьте, отец, – воскликнула Изабелла, – мне и в голову не приходило вас осуждать! С раннего детства я свыклась с жизнью бродячей актрисы и никогда не стремилась к иной участи. Из того, что я знала об отношениях между людьми, я поняла, что не смею навязывать свою особу знатному семейству, которое, очевидно, по каким-то веским причинам оставило меня в безвестности. Неясные воспоминания о моем дворянском происхождении поддерживали мою гордость, но это наваждение быстро рассеивалось, и у меня оставалось только одно – уважение к самой себе. Я бы никогда не осмелилась осквернить чистоту крови, текущей во мне. Закулисные интриги и посягательства, которым подвергаются актрисы, даже те, что не слишком хороши собой, внушали мне отвращение. Я вела почти монашескую жизнь, ибо, имея цель, повсюду можно сохранять целомудрие. Педант заменил мне отца, а Тиран, не раздумывая, свернул бы шею любому, кто осмелился бы прикоснуться ко мне или оскорбить меня словом. Хоть оба они и комедианты, но люди глубоко порядочные и в высшей степени честные. Им я в значительной мере обязана тем, что могу во всеуслышание назвать себя вашей дочерью. Горько лишь то, что я стала невольной причиной несчастья, постигшего вашего сына!
– Вам не в чем упрекнуть себя, дочь моя, ведь вам не была известна та тайна, которую раскрыло только внезапное стечение обстоятельств. Право, прочитав о чем-то подобном в книге, даже я счел бы это малоправдоподобным. Но знание того, что вы вернулись ко мне столь же достойной своего рода, как если бы никогда не подвергались превратностям актерской жизни и не принадлежали к низшему сословию, приносит мне великую радость, которая искупает скорбь от раны, нанесенной молодому герцогу. Выживет он или погибнет – вашей вины в этом нет. Более того, ваша добродетель не позволила ему совершить гнусное преступление. И довольно об этом. Скажите, дочь моя, кто был тот молодой человек, который, как мне показалось, руководил людьми, напавшими на замок, и ранил де Валломбреза? Вероятно, он тоже актер, хотя я не мог не отметить благородство его осанки и незаурядную отвагу.
– Да, отец, он актер, – зардевшись, ответила Изабелла. – Но, я думаю, что могу открыть вам его тайну, тем более что она уже известна герцогу. Под маской человека, носящего театральный псевдоним «капитан Фракасс», скрывается человек благородный, носящий в действительности древнее и славное имя.
– А! Я тоже кое-что слышал об этом, – кивнул принц. – Да и трудно представить, чтобы какой-то актер набрался смелости перечить герцогу де Валломбрезу и вступил с ним в единоборство. Для такого поступка нужна иная кровь. Лишь дворянин способен одолеть дворянина, подобно тому, как алмазы гранят алмазами.
Гордость принца была отчасти утешена мыслью о том, что его сын получил рану не от руки простолюдина. Таким образом, все становилось на места: стычка превращалась в дуэль между людьми одного сословия, да и повод был вполне серьезный.
– Как же зовут этого бесстрашного рыцаря, вашего верного защитника?
– Барон де Сигоньяк, – ответила Изабелла, и голос ее слегка дрогнул. – Я доверяю это имя вашему великодушию, ибо вы выше того, чтобы мстить за эту злополучную победу, о которой он и сам сожалеет.
– Де Сигоньяк… – Принц нахмурился, словно припоминая нечто полузабытое. – А ведь я считал этот род угасшим! Не из Гаскони ли он родом?
– Да, отец. Его замок расположен в окрестностях Дакса.
– Удивительно! Тогда он, должно быть, из тех Сигоньяков, в чьем гербе три золотых аиста! Это действительно древний род, восходящий ко временам Аквитанского герцогства. Паламед де Сигоньяк проявил высокую доблесть в Первом крестовом походе. А Рембо де Сигоньяка – вероятно, он-то и был отцом этого молодого человека – я знаю как близкого друга и соратника Генриха Четвертого, когда тот был королем Наварры. Однако он не последовал за Генрихом к Парижскому двору, потому что, по слухам, имения Сигоньяков пришли в совершенный упадок.
– Я сама была тому свидетельницей. Однажды наша труппа в поисках пристанища в дождливую ночь постучалась в ворота замка Сигоньяк. Там-то мы и обнаружили единственного сына барона Рембо, влачащего жалкое существование в полуразрушенной башне. Юность его бесцельно увядала. Мы убедили его покинуть эту обитель нищеты и скорби, чтобы он, затаившись там из гордости, попросту не умер голодной смертью. Мне никогда прежде не доводилось видеть такого терпеливого мужества перед лицом полной безысходности.
– Бедности не стоит стыдиться, – заметил принц. – Благородный человек, не утративший достоинства, всегда имеет надежду снова возвыситься. Но почему молодой барон в этих стесненных обстоятельствах не обратился к кому-нибудь из старых товарищей его отца по оружию или даже к самому королю?
– Нищета делает робким даже храбреца, а самолюбие сковывает предприимчивость, – ответила Изабелла. – Отправившись с бродячей труппой в Париж, барон надеялся на благоприятный случай, который может ему подвернуться, но, видимо, тщетно. А чтобы не быть никому в тягость, он выразил желание заменить на сцене одного из актеров, умершего в пути. Поскольку это амплуа требует исполнения ролей в маске, он решил, что это не ущемит его достоинство.
– За всеми этими перипетиями нетрудно угадать сердечную привязанность к некой особе, – добродушно улыбнувшись, заметил принц. – Но это не мое дело, я уверен в вашем благонравии, чтобы опасаться тайных воздыхателей. Да и отцом вашим я стал так недавно, что мне еще рановато читать вам нотации!
Изабелла ответила отцу взглядом, в котором светились только безупречная невинность и чистосердечие. Ни тени стыда или смущения не было на ее лице. Даже око самого Всевышнего не увидело бы в ее сердце ничего предосудительного.
В эту минуту попросил разрешения войти ученик мэтра Лорана, он принес добрые вести о здоровье де Валломбреза. Состояние раненого уже можно было считать вполне удовлетворительным: после приема снадобья, составленного врачом, произошел благодетельный перелом, и теперь мэтр Лоран мог уверенно поручиться за жизнь молодого герцога. Его выздоровление стало всего лишь делом времени…
Спустя несколько дней де Валломбрез, полулежа на высоких подушках, тщательно причесанный и одетый в рубашку с воротником из венецианских кружев, принимал в опочивальне своего друга – шевалье де Видаленка, которому было позволено нанести визит молодому герцогу.
В алькове, где стояла кровать раненого, находились также его отец и Изабелла. Принц с невыразимой радостью созерцал лицо сына – бледное и осунувшееся, но уже полное жизни. Губы молодого герцога порозовели, глаза заблестели. Изабелла стояла у его изголовья, а де Валломбрез сжимал ее руку своими тонкими пальцами, которые казались полупрозрачными, как бывает у больных, лишенных свежего воздуха и солнца. Врач пока не позволял ему много говорить, и герцог таким образом выражал свои братские чувства, которые за время болезни, смирившей страсти в его душе, вытеснили безумную влюбленность. Теперь Изабелла из актрисы странствующей труппы окончательно превратилась для него в графиню де Линейль.
Дружески кивнув де Видаленку, молодой герцог на миг выпустил руку сестры, чтобы обменяться рукопожатиями с приятелем. Это было все, что на тот момент позволил ему врач.
А спустя две недели де Валломбрез, заметно окрепший, уже мог проводить по нескольку часов на кушетке у открытого окна, через которое в комнату лились животворные ароматы весны. Изабелла подолгу сидела рядом с братом, читая ему вслух. Это выходило у нее превосходно – сказывалось актерское умение владеть голосом и интонацией.
Но как-то раз, когда девушка закончила главу и собиралась перейти к следующей, де Валломбрез знаком попросил ее отложить книгу.
– Милая сестрица, эти приключения, конечно, увлекательны, и автор этого романа по праву слывет одним из тончайших умов нашего времени, но, признаюсь, я предпочитаю всякому чтению беседу с вами. Вот уж не думал, что столько приобрету, утратив всякую надежду! Оказывается, быть вашим братом гораздом приятнее, чем обожателем. В этой мирной привязанности я нахожу бездну очарования. Вы открыли передо мной доселе прежде совершенно мне неизвестные стороны женской души. Повинуясь страсти, стремясь к наслаждению, которое сулила мне ваша красота, сталкиваясь с препятствиями, распалявшими меня еще больше, я походил на охотника, мчащегося наобум через густой лес. В любимой женщине я видел только добычу, а мысль о сопротивлении казалась мне ни с чем не сообразной. Заслышав слово «добродетель», я только пожимал плечами – и, могу поклясться, у меня были на то все основания. Моя мать умерла, когда мне едва минуло три года, и для меня осталось тайной все чистое, нежное и прекрасное, что скрыто в женской душе. Едва я увидел вас, как меня неодолимо к вам потянуло – свою роль в этом, конечно же, сыграл и зов крови. Я приходил в отчаяние от вашей стойкости и восхищался ею, а чем решительнее вы меня отталкивали, тем казались мне достойнее любви. Гнев и восхищение чередовались в моем сердце, а иногда жили в нем одновременно. Даже в самых безумных порывах я не переставал уважать вас. Я угадывал в вас ангела в облике женщины и невольно оказывался во власти небесной чистоты. А ныне я просто счастлив, ибо получил то, что неосознанно искал: прочную привязанность, свободную от всяких соображений. Я наконец-то обрел родную душу!
– Вы правы, дорогой брат! Душа моя действительно принадлежит вам, и я говорю об этом с огромной радостью. Вы приобрели во мне сестру, которая станет любить вас вдвойне и втройне, чтобы возместить ту меру любви, которая вам предназначалась с детства. И уж тем более, если вы сдержите слово и научитесь справляться с необузданностью вашей натуры, проявляя лишь самые обворожительные ее свойства.
– Как вам нравится эта начинающая проповедница! – с улыбкой воскликнул де Валломбрез. – Вы правы, Изабелла, я, конечно, чудовище, но я стараюсь исправиться – если и не из любви к добродетели, то по крайней мере из страха получить нагоняй от собственной старшей сестрицы. Тем не менее, боюсь, мне суждено вовеки оставаться образцом безумия, тогда как вы всегда будете образцом ума, доброты и осмотрительности.
– Я бы советовала вам прекратить осыпать меня любезностями, иначе я снова примусь за книжку, – шутливо пригрозила Изабелла. – Тогда вам все-таки придется выслушать ту бесконечную и скучную историю, которую начал рассказывать в каюте своей галеры капитан берберийских корсаров захваченной им принцессе Аменаиде, красавице, восседающей на подушке из золотой парчи.
– Такой жестокой казни я не заслуживаю! И все-таки, рискуя прослыть болтуном, хочу еще немного поговорить с вами: проклятый медик слишком долго не снимал с меня обета молчания, уподобив изваянию Гарпократа![70]
– Но помните: вы не должны чрезмерно утомляться! Рана ваша едва зажила, а мэтр Лоран настоятельно советовал мне читать вам вслух, чтобы, слушая, вы помалкивали и не напрягали свои легкие.
– Мэтр Лоран сам не знает, какой бы еще запрет придумать. Все дело в том, что ему хочется как можно дольше играть здесь главную роль и раздуваться от важности. Мои легкие работают не хуже, чем прежде. Я чувствую себя превосходно и мечтаю только об одном – о верховой прогулке по лесу!
– Тогда уж лучше беседовать, это во всяком случае безопаснее для вас!
– Как только я окончательно встану на ноги, милая сестрица, я введу вас в высший свет, к которому вы принадлежите по праву, и где ваша совершенная красота немедленно повергнет к вашим стопам толпы поклонников. И, надеюсь, графиня де Линейль вскоре выберет из них того, кто станет ее счастливым супругом.
– У меня нет ни малейшего желания выходить замуж, и, поверьте, это вовсе не жеманство. Мне столько раз приходилось отдавать свои руку и сердце в финалах пьес, что в настоящей жизни я не хотела бы с этим спешить. Все, о чем я пока мечтаю, – быть рядом с отцом и вами.
– Одна лишь привязанность к отцу и брату не может заполнить даже самое невозмутимое и далекое от мира сердце!
– И тем не менее ее будет достаточно. Если же я почувствую, что этого мало, то просто удалюсь в монастырь.
– Ну, это уж было бы чересчур. Скажите, разве шевалье де Видаленк не обладает всеми качествами образцового супруга?
– Бесспорно. Женщина, которая станет его спутницей, может считать себя счастливой. Но какими бы достоинствами ни блистал ваш друг, я, дорогой брат, никогда не стану этой женщиной.
– Вы правы – шевалье де Видаленк немного рыжеват, а вы, очевидно, разделяете вкусы нашего короля, который терпеть не может этого цвета. Впрочем, многие живописцы ценят его и отдают ему предпочтение. Но оставим в покое де Видаленка. А что вы скажете о маркизе де л’Этане, который явился проведать меня, а вместо этого на протяжении всего визита не спускал глаз с вас? Он был так поражен вашей несравненной грацией и красотой, что вместо комплиментов нес какую-то чепуху. Если не считать этой простительной робости – в конце концов, именно вы стали ее причиной, – в остальном де л’Этан превосходный кавалер. Он хорош собой и молод, он наследник громкого имени и баснословного состояния. Иначе говоря, подходит по всем статьям.
Изабелла, которую вся эта двусмысленная болтовня начала раздражать, вздохнула.
– С тех пор как я имею честь принадлежать к вашему прославленному роду, чрезмерное смирение мне не к лицу, – заметила она. – Поэтому не стану утверждать, что считаю себя недостойной такого союза. Но если бы маркиз де л’Этан попросил у отца моей руки, я бы ему отказала. Ведь я уже говорила вам, дорогой брат, что не хочу выходить замуж, но вы все-таки продолжаете меня мучить этими разговорами.
– Ох, до чего же вы суровы в своем целомудрии, сестрица! Сама Диана не могла бы казаться неприступнее. А между тем, если верить мифологическим сплетням, месье Эндимиону[71] удалось смягчить ее нрав. Не сердитесь, ведь те, о ком я говорю, – вполне приличные партии. Если же они вам не по душе, мы без труда подыщем дюжину других претендентов на вашу руку.
– Я вовсе не сержусь, братец, но для больного вы и в самом деле много говорите. Смотрите, я пожалуюсь на вас мэтру Лорану, и за ужином вас лишат куриного крылышка.
– Ну, если все так серьезно, я умолкаю, – покорно согласился де Валломбрез. – Но в любом случае можете быть уверены, что жениха вы получите не иначе как из моих рук!
Чтобы отплатить брату за это поддразнивание, Изабелла тут же принялась читать историю берберийского корсара, окончательно лишив де Валломбреза возможности продолжать.
– «…Отец мой, герцог де Фоссомброн, вместе с матерью моей, одной из красивейших женщин в Генуе, прогуливался по берегу Средиземного моря, куда вела широкая лестница от великолепной виллы, где он жил в летнее время, и тут алжирские пираты, укрывавшиеся среди скал, накинулись на него, сломили его отчаянное сопротивление и, бросив мертвым на берегу, затащили герцогиню, которая в ту пору была беременна мною, в свою шлюпку и, навалившись на весла, стремительно понеслись к пиратской галере, укрытой в соседней бухте. Когда мою мать привели к предводителю пиратов, она понравилась ему, и он сделал ее своей наложницей…»
Чтобы нейтрализовать уловку Изабеллы, де Валломбрез на самом душераздирающем месте закрыл глаза и притворился спящим. Впрочем, притворный сон вскоре перешел в настоящий, а девушка, увидев, что больной уснул, тихонько удалилась.
И все же эта беседа, в которую герцог явно вложил какой-то скрытый смысл, невольно встревожила Изабеллу. Что, если де Валломбрез по-прежнему таит злобу к Сигоньяку, и, хотя не упоминает его имени со дня нападения актеров на замок, стремится возвести непреодолимую преграду между бароном и сестрой, выдав ее замуж за другого? Или он просто прощупывал почву, пытаясь выяснить, не изменились ли чувства актрисы, внезапно ставшей графиней?
Изабелла тщетно искала ответа на эти вопросы. Коль скоро она оказалась сестрой де Валломбреза, соперничество между ним и Сигоньяком не имеет смысла. С другой стороны, нелегко было поверить в то, что такой полный гордыни, надменный и мстительный человек, каким был молодой герцог, сумел забыть позор двух поражений, одно из которых едва не отправило его на тот свет. Ситуация в корне переменилась, но в душе де Валломбрез, несомненно, должен был ненавидеть Сигоньяка. Ему хватило благородства не помышлять о мести, но нельзя было от него требовать полюбить обидчика и ввести его в свою семью. Да и принца едва ли порадует встреча с человеком, который едва не оборвал жизнь его сына.
Эти мысли погружали Изабеллу в печаль, от которой было невозможно избавиться. Считая свое положение актрисы преградой для будущего возвышения Сигоньяка, она запретила себе даже думать о браке с ним. Но теперь, когда неожиданный поворот судьбы даровал ей все земные блага, какие только можно представить, ей страстно хотелось соединиться со своим благородным другом – и уже навеки. Ей представлялось несправедливым не разделить свое благополучие с тем, кто делил с ней холод, голод и нищету. Но единственное, что было ей доступно сейчас, – хранить неизменную верность барону.
Вскоре молодой герцог настолько окреп, что мог сидеть вместе со всеми за обеденным столом. Во время трапез он проявлял почтительное внимание к отцу, был чуток и нежен с Изабеллой, а в застольных беседах сумел показать, что при всей внешней поверхностности и легкомыслии, обладает гораздо более просвещенным и тонким умом, нежели можно было ожидать от молодого сибарита, падкого на всякого рода излишества. Изабелла также участвовала в этих разговорах, и те короткие замечания, которые она иногда делала, были всегда до того верны и метки, что принц не уставал ими восхищаться.
Когда силы окончательно вернулись к де Валломбрезу, он предложил сестре прокатиться верхом по замковому парку. Лошади шли шагом по длинной аллее, над которой кроны вековых ясеней и буков образовали свод, непроницаемый для солнечных лучей. К герцогу вернулись былая энергия и красота, Изабелла была прелестна, и представить себе более эффектную пару всадников было не так-то просто. Разница между ними состояла лишь в том, что лицо герцога было веселым, а личико молодой девушки почти постоянно оставалось печальным. Только изредка шутки де Валломбреза вызывали у девушки слабую улыбку, которая тотчас сменялась меланхолией. Брат, однако, словно и не замечал ее грусти.
– Ах, до чего же хорошо жить на свете! – поминутно восклицал он. – Люди и не подозревают, какое это изысканное наслаждение – просто дышать! Никогда еще деревья не казались мне такими зелеными, небо таким голубым, а цветы такими душистыми. Право, я будто вчера родился на свет и впервые созерцаю дела рук Божьих. Как подумаю, что мог бы лежать сейчас под могильной плитой, а вместо этого катаюсь верхом вместе с моей любезной сестрицей, то прямо опомниться не могу от восторга! Рана моя окончательно затянулась и совершенно меня не беспокоит; по-моему, мы даже можем позволить себе вернуться домой легким галопом, а то отец уже соскучился, поджидая нас!
Не слушая возражений Изабеллы, де Валломбрез дал шпоры своему породистому коню, и лошадь девушки тотчас последовала за ним довольно резвым галопом. У главного входа в замок, помогая сестре спешиться, молодой герцог сказал:
– Теперь, когда я уже совсем окреп, надеюсь, мне будет позволено совершить небольшое путешествие без провожатых?
– Как? Вы уже намерены покинуть нас? Это несправедливо по отношению ко мне и вашему отцу!
– Увы, сестрица, но мне необходимо отлучиться на несколько дней – меня призывают дела! – как бы вскользь обронил де Валломбрез.
А утром следующего дня, простившись с принцем, который совершенно не возражал против его отъезда, молодой герцог отправился в путь. На прощание он обратился к Изабелле с довольно загадочной фразой:
– До скорого свидания, сестрица! Думаю, вы останетесь мною довольны!
19
Лопухи и паутина
Совет Тирана был мудр и дальновиден, и Сигоньяк решил ему последовать. С тех пор как Изабелла из простой актрисы превратилась в знатную даму, больше ничто не привязывало его к труппе. Барону надлежало исчезнуть на то время, пока о нем забудут и все события, связанные с гибелью герцога де Валломбреза, изгладятся из памяти жителей столицы. В том, что молодой герцог мертв, Сигоньяк не сомневался.
Не без сожаления распрощавшись с друзьями-актерами, бывший капитан Фракасс покинул Париж верхом на крепкой лошадке, увозя в кошельке внушительное количество пистолей – свою долю от театральных сборов. Он никуда не спешил и передвигался, делая короткие перегоны, чтобы не слишком утомлять лошадь. Направлялся барон прямиком в свой обветшалый замок, ведь всем известно, что после бури птенец всегда возвращается в родное гнездо, даже если оно сложено из хворостинок или перепревшей соломы. То было единственное убежище, где он мог укрыться, и барон с горькой радостью помышлял о возвращении в убогую обитель его предков, которую ему, пожалуй, и не следовало покидать.
И в самом деле, в его положении существенно ничего не изменилось, а последнее приключение могло обернуться бедой. «Ну что ж, – мысленно повторял он в пути, – видно, мне было на роду написано умереть от голода и тоски среди этих рушащихся стен, под крышей, сквозь которую свободно проникает дождь. Никому не уйти от жестокой судьбы, и я тоже ей покорюсь – стану последним из де Сигоньяков».
Не стоит подробно описывать его путешествие, которое продолжалось около трех недель и не было отмечено никакими примечательными событиями и встречами. Достаточно сказать, что однажды вечером Сигоньяк заметил вдалеке башни своего замка, озаренные закатными лучами. Предвечерний свет обманывал зрение, и они казались ближе и больше, чем были на самом деле, а солнце так ослепительно отражалось в стеклах одного из немногих уцелевших окон фасада, что казалось, будто это сверкает огромный рубин.
Барона глубоко растрогало это зрелище. Он немало страдал в своем ветхом жилище, и все же при виде его испытал такое же волнение, какое возникает при встрече со старым другом, чьи недостатки стерла разлука. Здесь прошла вся его жизнь – в нужде, безвестности, одиночестве, но не без тайных радостей грез и надежд. Юность редко бывает совершенно несчастливой: продолжительная печаль в конце концов приобретает своеобразное очарование, и случаются такие горести, о которых люди жалеют больше, чем о радостях и удовольствиях.
Барон пришпорил лошадку, чтобы добраться домой до наступления темноты. Солнце тем временем садилось, и над бурой полосой ландов, протянувшейся до горизонта, виднелся лишь узкий край его диска; рубиновый свет в окне погас, и замок превратился в серое пятно, почти сливающееся с сумраком. Но дорога была знакома Сигоньяку, как собственная ладонь, и вскоре он свернул на пустынные колеи, ведущие прямо к его дому. Разросшиеся ветви живой изгороди хлестали его по голенищам ботфортов, а лягушки спасались от лошадиных копыт в росистой траве.
И вдруг в этой глубокой тишине послышался отдаленный заливистый лай – словно какой-то пес в одиночку, ради собственного удовольствия, гонит зверя. Сигоньяк придержал лошадь и прислушался. Ему показалось, что он узнаёт голос Миро. Лай приближался и вскоре превратился в короткое радостное тявканье, то и дело прерывавшееся от быстрого бега: Миро учуял приближение хозяина и несся ему навстречу со всей скоростью, которая была доступна его старым лапам. Барон свистнул на особый манер, и спустя несколько мгновений верный пес опрометью выскочил из дыры в живой изгороди, подвывая, всхлипывая и охая почти человеческим голосом. Задыхаясь и пыхтя, он прыгал и прыгал, норовя вскочить на седло, чтобы добраться до хозяина, и выражал необузданную радость всеми способами, какие только доступны собачьему роду.
Сигоньяк наклонился и потрепал уши обезумевшего от счастья пса. И тут же Миро стрелой помчался назад, чтобы первым принести радостную весть обитателям замка – Пьеру, Байярду и Вельзевулу. Добравшись туда, он принялся неистово лаять, скакать и хватать за штанины старого слугу, сидевшего в кухне, и тот сразу догадался, что происходит что-то совсем необычное. «Уж не воротился ли наш молодой хозяин?» – подумал Пьер и, с трудом распрямившись, двинулся вслед за Миро. Поскольку уже совсем стемнело, Пьер зажег от огня очага, на котором поспевал его скудный ужин, смолистую ветку, и ее дымное пламя осветило на повороте дороги барона де Сигоньяка и его коня.
– Неужто это вы, господин барон! – не помня себя от радости, вскричал старый Пьер. – Миро уже доложил мне о вашем приближении на своем собачьем языке, да только я, не получив от вас никакого уведомления, все боялся обмануться. Ну, это не важно: как бы там ни было, вы все равно самый дорогой гость! Добро пожаловать в ваши владения, ваша милость, а мы уж постараемся достойно отпраздновать ваше прибытие!
– Да, это я, мой добрый Пьер! Миро не солгал; это я, хоть и не сделавшийся ни на йоту богаче, зато совершенно целый и невредимый. Ну, посвети мне, старина, и пойдем в дом!
Пьер не без труда отворил тяжелые створки старых ворот, и барон де Сигоньяк въехал под своды портала, причудливо озаренные отблесками факела. В этом освещении три аиста, изваянные на родовом гербе Сигоньяков, словно ожили и забили крыльями, приветствуя возвращение последнего отпрыска могучего рода, символом которого они служили на протяжении семи веков. Из конюшни послышалось протяжное ржание, похожее на звук охотничьего рога. Эту оглушительную руладу извлек из своих астматических легких престарелый Байярд.
– Я слышу тебя, верный дружище! – спрыгивая с лошади и отдавая поводья Пьеру, крикнул Сигоньяк. – Сейчас приду поздороваться с тобой!
С этими словами он направился было в конюшню, но по пути едва не споткнулся о какой-то черный клубок, который выкатился ему прямо под ноги, мяукая, мурлыча и выгибая спину. Вельзевул выражал радость на свой кошачий лад, пользуясь всеми средствами, отпущенными природой; Сигоньяк взял его на руки и поднес к лицу. Кот был на вершине блаженства: в его круглых глазах вспыхивали искры, лапы то выпускали, то вбирали когти, а мурлыкал он так, что просто захлебывался, и самозабвенно тыкался своим черным, шершавым, как трюфель, носом в усы Сигоньяка.
Приласкав Вельзевула, барон бережно опустил кота на землю, после чего пришел черед Байярда, которого он похлопал по шее и крупу. Старик припадал головой к плечу хозяина, бил копытом настил и даже пытался взбрыкнуть. Лошадку, на которой прибыл Сигоньяк, Байярд принял благосклонно, так как был уверен в привязанности хозяина и радовался возможности свести знакомство с себе подобным существом, чего не бывало давным-давно.
– Ну, а теперь, старина, – обратился барон к Пьеру, приобняв его за плечи, – я не прочь наведаться в кухню и взглянуть, что у тебя водится в кладовой. Я нынче плохо позавтракал, а пообедать и вовсе не успел, потому что спешил засветло добраться домой. В Париже я поотвык от нашего с тобой смиренного воздержания и охотно подкреплюсь чем придется.
– У меня для вашей милости найдется похлебка, ломтик копченого сала и немного козьего сыра. После того как вы отведали господской кухни, вам, может, и не придется по вкусу эта грубая деревенская еда, но она во всяком случае не даст вам помереть с голоду.
– А что еще можно требовать от пищи? – ответил Сигоньяк. – И напрасно ты думаешь, что я не ценю ту еду, которая питала меня в юности и придавала здоровья, бодрости и крепости. Ставь на стол твою похлебку, сало и сыр – чем они хуже изукрашенного жареного павлина на золотом блюде!
Пьер поспешно накрыл грубой, но чистой скатертью кухонный стол, за которым обычно ужинал барон. По одну сторону от тарелки хозяина он поставил стакан, по другую – глиняный кувшин с кисловатым винцом, а сам застыл за спиной Сигоньяка, словно дворецкий, прислуживающий принцу. Согласно давней традиции Миро пристроился справа, а Вельзевул – слева. Оба как зачарованные уставились на барона, пристально следя за тем, как его рука совершает путешествия от тарелки ко рту и обратно, ожидая, что и на их долю кое-что перепадет.
Всю эту чинную и одновременно забавную картинку освещал смоляной факел, который Пьер вставил в решетку под колпаком очага – чтобы дым не расползался по кухне. Сцена была в точности такой же, как и та, что была описана в самом начале этой книги, и Сигоньяку, пораженному этим сходством, почудилось, что он и вовсе никогда не покидал своего замка, а все остальное ему либо приснилось, либо пригрезилось…
Время, которое так стремительно мчалось в Париже и было так плотно насыщено всевозможными событиями, в замке Сигоньяк словно не двигалось с места. Пауки по-прежнему дремали по углам в своих серых гамаках, ожидая появления случайной мухи. Некоторые, вконец отчаявшись, перестали даже чинить порванные нити своих тенет. Из-под слоя серого пепла в очаге лениво выбивались струйки дыма, словно из гаснущей трубки, и только лопухи да крапива буйно разрослись во дворе. Трава в щелях между плитами стала заметно выше за время отсутствия барона, а ветка дерева, прежде не касавшаяся кухонного окна, теперь просунула свежий побег, покрытый сочной листвой в просвет разбитого стекла. Это и была единственная перемена, которую отметил барон.
Даже против собственной воли Сигоньяк сразу втянулся в привычный обиход, полный уныния. Прежние мысли захлестнули его. Он погрузился в молчаливое раздумье, которое не решались потревожить ни Пьер, ни Миро с Вельзевулом. Все события недавнего прошлого представились ему вычитанными в какой-то книге и случайно задержавшимися в памяти. Капитан Фракасс превратился в бледный призрак, в какую-то туманную вымышленную фигуру, не имеющую к барону де Сигоньяку никакого отношения. Поединок с де Валломбрезом виделся ему как нечто такое, к чему не были причастны ни его тело, ни его воля.
Иными словами, возвращение в родовое гнездо окончательно оборвало все нити, связывавшие его миром. Осталась только любовь к Изабелле, она была жива в его сердце, но скорее как смутная мечта, а не настоящая, полнокровная страсть, ведь та, что внушила эту любовь, теперь была для него недоступна. В конце концов барон понял, что колесница его жизни, направившаяся было по новому пути, снова скатилась в прежнюю колею, и глухая покорность судьбе овладела им. Он сожалел лишь о том, что на миг поверил мелькнувшей перед ним светлой надежде. Но почему, черт побери, несчастливцы желают счастья? Это же форменная нелепость! Кто им сказал, что они должны быть счастливы?
Спустя некоторое время барон стряхнул с себя оцепенение и, заметив безмолвный вопрос в глазах Пьера, кратко изложил своему преданному слуге и другу те факты и события, которые могли его заинтересовать. Узнав о том, что его питомец дважды дрался на дуэли с герцогом де Валломбрезом и оба раза вышел победителем, старик буквально просиял от гордости, воодушевился и даже, орудуя палкой вместо шпаги, принялся повторять у стены те выпады и приемы, которые описывал Сигоньяк.
– К сожалению, мой добрый Пьер, ты слишком хорошо преподал мне секреты мастерства, которым владеешь, как никто, – со вздохом закончил свой рассказ барон. – Моя победа погубила меня, снова заточив в этом убогом жилище. Такова уж моя участь – всякий успех идет мне только во вред, и вместо того чтобы поправить мои дела, приводит их в окончательное расстройство. Уж лучше бы я был ранен или убит в той злополучной схватке!
– Сигоньяки не проигрывают в таких делах! – внушительно заметил старый слуга. – Как бы там ни было, но я рад, что ваша милость прикончили этого самого де Валломбреза. Вы, разумеется, действовали по всем правилам дуэльного кодекса, а больше ничего и не требуется. Что может возразить человек, который, обороняясь, погибает от удара, нанесенного более искусной, чем у него, рукой?
– Разумеется, ничего, – ответил барон, невольно улыбнувшись философскому замечанию своего старого учителя фехтования. – Однако я порядком устал. Прошу тебя, зажги светильник и проводи меня в спальню.
Пьер тут же кинулся на поиски масляной лампы. В сопровождении слуги, кота и пса Сигоньяк, ступая неторопливо и тяжело, поднялся по старой лестнице с выцветшими фресками. Атланты всё силились удержать нарисованный карниз, напрасно грозивший раздавить их своей тяжестью. Они из последних сил напрягали свои мускулы, но, несмотря на это, несколько новых пластов штукатурки уже отвалились от стены. У римских императоров также был плачевный вид, но, как они ни пыжились в своих нишах, изображая из себя героев и триумфаторов, у одних не хватало венца, у других – символов власти, у третьих – пурпурной каймы на тоге. Потолок прохудился во множестве мест, и зимние дожди, просачиваясь сквозь широкие трещины, нанесли очертания новых островов и морей на карту общего упадка.
Признаки обветшания, мало занимавшие барона до его отъезда из усадьбы, теперь глубоко поразили его и повергли в тоску. В этом разорении он видел неотвратимый признак конца своего рода и мысленно повторял: «Если б эти своды имели хоть каплю сочувствия к семье, которой они столетиями служили, то они рухнули бы и погребли меня под своими обломками!»
У двери в жилые комнаты барон взял лампу из рук Пьера и, поблагодарив старого слугу, велел ему отправляться отдыхать. Ему вовсе не хотелось, чтобы чуткий старик заметил, в каком растерзанном состоянии находится его душа. Затем он медленно прошел через залу, где несколько месяцев назад шумно ужинали комедианты. Воспоминание об этом пиршестве сделало ее еще мрачнее. Потревоженная было тишина – зловещая, властная и неумолимая – вновь воцарилась там, и теперь уже навсегда. В этой тишине эхо подхватывало малейший звук, превращая его в протяжный и таинственный гул.
Портреты предков в тусклых позолоченных рамах при слабом свете масляной коптилки приобрели прямо-таки устрашающий вид. Казалось, они готовы оторваться от полуистлевших холстов, чтобы насмешливо приветствовать своего неудачливого отпрыска. Блеклые губы старинных изображений как будто шевелились, шепча слова, доступные не уху, а душе, глаза переполнялись скорбью, а по щекам сочилась сырость, собираясь каплями, блестевшими, словно слезы. Души предков блуждали вокруг портретов, изображавших телесную оболочку, и Сигоньяк остро ощущал их незримое присутствие в полумгле.
На лицах всех портретов – и мужских, и женских – было написано беспросветное уныние, и только один из них, висевший последним – то был портрет матушки самого барона, улыбался. Свет падал прямо на него, и то ли краски были еще свежи, то ли кисть искусного живописца создала такое впечатление, но, так или иначе, лицо на портрете выражало радость, оно светилось любовью и надеждой. Сигоньяк чрезвычайно удивился, ибо раньше не замечал ничего подобного, и счел это явление добрым знаком.
Наконец он добрался до своей спальни и поставил лампу на столик, на котором все еще лежал раскрытый томик Ронсара, который он читал, когда глубокой ночью в двери замка постучался Педант. Листок бумаги – черновик неоконченного сонета – также остался на прежнем месте. Постель была смята: на ней спала Изабелла, ее очаровательная головка покоилась на его подушке!
От этой мысли сердце Сигоньяка сжалось от сладкой муки. Слова эти враждебны друг другу, но в иных обстоятельствах они выражают именно те чувства, которые испытывают влюбленные. Воображение барона мгновенно нарисовало милый образ, и как ни твердил скрипучий голос разума, что Изабелла потеряна для него навсегда, он воочию видел ее чистое и прекрасное лицо – лицо целомудренной супруги, ожидающей возвращения мужа и господина.
Чтобы не терзать себя подобными видениями, Сигоньяк разделся и лег. Но как ни была велика усталость, сон не шел, и его глаза больше часа блуждали по запущенной спальне – то следя за причудливым отблеском лунных лучей на пыльных оконных стеклах, то бессознательно созерцая фигуру охотника на уток, смутно проступающую среди желтых и синих деревьев на старинном гобелене.
А пока хозяин бодрствовал, Вельзевул, свернувшись клубком в изножье кровати, спал крепчайшим сном и при этом звучно похрапывал. Безмятежный покой животного в конце концов передался человеку, и молодой барон отправился в страну сновидений.
При утреннем свете облик замка поразил Сигоньяка еще сильнее, чем накануне. День не знает сострадания к упадку – наоборот, в отличие от милосердной ночи, полной теней, он беспощадно обнажает знаки гибели и распада, трещины, пятна, осыпи, пыль и плесень. Покои, прежде казавшиеся барону такими просторными, оказались маленькими и тесными, и он только дивился, почему у него в памяти они выглядели почти необъятными.
Впрочем, прошло не так уж много времени, и Сигоньяк заново свыкся с пропорциями своего гнезда и с прежней жизнью в запустении – словно опять надел старое платье, которое пришлось на короткое время сбросить, чтобы примерить новое. И, надо сказать, он чувствовал себя вполне удобно и свободно в этой старой и привычной «одежде».
Вот как выглядел его день. Утро начиналось короткой молитвой в полуразрушенной часовне, где покоились его предки. Затем, наспех проглотив скудный завтрак и поупражнявшись с Пьером в фехтовании, Сигоньяк садился на Байярда или на более молодую лошадь и отправлялся в ланды – без какой-либо цели. Там он проводил долгие часы, а затем, молчаливый и мрачный, как в прежние времена, возвращался домой, ужинал в обществе Пьера, Вельзевула и Миро и укладывался в постель, чтобы полистать на ночь какой-нибудь читаный-перечитаный том из библиотеки, усердно опустошаемой вечно голодными крысами. Из этого можно заключить, что великолепный капитан Фракасс, бесстрашный победитель герцога де Валломбреза, канул в вечность, а былой Сигоньяк, хозяин обители горестей, вступил в свои права.
Однажды утром, после посещения часовни, он спустился в сад, где некогда прогуливался с двумя молодыми актрисами. Там еще гуще разрослись сорные травы, земля была завалена прошлогодней палой листвой и сломанными ветром сухими ветвями деревьев. Однако куст шиповника, подаривший тогда цветок Изабелле, а нераспустившийся бутон Серафине, и на этот раз не посрамил себя: на колючей ветке, перегораживавшей аллею, красовались два прелестных цветка, очевидно, распустившихся на рассвете и еще хранивших в своих чашечках жемчужные капли росы.
Это зрелище так тронуло Сигоньяка, что его глаза увлажнились. Он вспомнил слова Изабеллы: «Во время той памятной прогулки по вашему саду вы подарили мне дикую розу – единственное, что вы могли мне тогда преподнести. Я уронила на нее слезу, прежде чем приколоть к корсажу, и в тот миг молча отдала вам свою душу».
Барон сорвал цветок, жадно вдохнул его аромат и страстно прильнул губами к лепесткам, словно это были уста возлюбленной – нежные, розовые и душистые. Разлученный с Изабеллой, он беспрестанно думал о ней, все яснее понимая, что не сможет жить без возлюбленной. В первые дни после возвращения в замок он все еще был полон дорожных впечатлений, воспоминаний о драматических событиях, в которых участвовал, и озадачен крутыми поворотами собственной судьбы. Именно поэтому он не мог дать себе отчет об истинном состоянии своей души. Но теперь, когда он вновь погрузился в одиночество, праздность и безмолвие, каждая мысль неизбежно приводила его к Изабелле. Ее образ заполнил до краев его ум и сердце, и в сотый раз перебрав в уме все препятствия, стоявшие на пути к счастью, Сигоньяк твердил одно и то же: «Как бы там ни было, но Изабелла любит меня!..»
Так минуло больше двух месяцев. Но однажды, когда Сигоньяк, сидя в своей спальне, подыскивал заключительную строку к сонету, посвященному возлюбленной, неожиданно наверх поднялся Пьер и взволнованно доложил господину, что некий нарядный кавалер желает немедленно видеть его.
– Кавалер? – несказанно изумился барон. – У тебя либо горячка, старина, либо он просто заблудился! Никому на свете нет до меня никакого дела. Но так и быть, веди сюда этого чудака. Кстати, как его имя?
– Он не назвался, но заявил, что его имя ничего вам не скажет, – ответил Пьер, распахивая дверь.
На пороге стоял красивый юноша в изящном костюме для верховой езды и серых замшевых ботфортах с серебряными шпорами. Свою широкополую шляпу с длинным зеленым пером он снял и держал в руке, что позволяло ясно видеть тонкие и правильные черты, античной красоте которых позавидовала бы любая дама.
Появление этого безукоризненного красавца, судя по всему, не слишком обрадовало Сигоньяка: он тут же вскочил, бросился к висевшей в ногах кровати шпаге, схватил ее и, наполовину обнажив клинок, застыл посреди комнаты.
– Проклятье! – ошеломленно проговорил он. – А я-то думал, что покончил с вами, герцог! Это действительно вы или ваша тень?
– Это я, Аннибал де Валломбрез, собственной персоной и вполне живой, – с усмешкой ответил молодой герцог. – Верните шпагу на место: я не собираюсь драться с вами, барон. Мы дрались уже дважды и, пожалуй, этого достаточно. Я прибыл сюда не как враг. Если я и докучал вам временами, то вы отплатили мне с лихвой. Следовательно, мы в расчете. А в качестве доказательства моих самых добрых намерений извольте получить подписанный королем указ, согласно которому вам присваивается чин капитана мушкетеров королевской гвардии. Мой отец и я напомнили его величеству о преданности де Сигоньяков его августейшим предкам и об их военных заслугах, а также о вашем нынешнем непростом положении. А я пожелал лично доставить вам эту приятную весть! Итак, я ваш гость, а посему велите свернуть шею кому угодно, насадите на вертел кого попало, только, ради всего святого, дайте чего-нибудь поесть! Харчевни по дороге к вам никуда не годятся, а моя повозка с припасами застряла в песке на изрядном расстоянии отсюда.
– Боюсь только, как бы вы не сочли мое обычное меню коварной местью, – шутливо ответил Сигоньяк, все еще ошеломленный случившимся. – Скажу прямо: то, как открыто и прямодушно вы действовали, ваше заступничество перед королем и ваше появление здесь растрогали меня до глубины души. Отныне у вас, герцог, не будет более преданного друга, чем я. Знайте: что бы ни случилось, я всегда к вашим услугам!..
С этими словами Сигоньяк обернулся к старому слуге:
– А ты, Пьер, беги со всех ног, раздобудь где угодно кур, яиц, свежей телятины и постарайся накормить нашего гостя, который умирает от голода, как можно лучше! В отличие от нас с тобой, он не привык голодать и довольствоваться похлебкой.
Сунув в карман несколько пистолей, старый слуга торопливо оседлал лошадь и во весь дух помчался в ближайшую деревню, рассчитывая запастись там провизией. Ему удалось раздобыть полдюжины цыплят, окорок и оплетенную соломой бутыль выдержанного вина, а местного кюре не без труда удалось убедить расстаться с уже готовым паштетом из гусиной печени – деликатесом, достойным стола самого епископа.
Через час он вернулся, наняв себе в помощь долговязую и оборванную деревенскую девицу – надо же было кому-то вращать вертел над очагом, – а сам тем временем накрыл стол в портретной зале, выбрав лучшую – то есть наименее надбитую и треснувшую – посуду. Покончив с этим, он явился доложить, что «кушать подано».
Герцог и барон уселись за стол друг напротив друга, выбрав по наименее шаткому стулу из шести, имевшихся в зале, и де Валломбрез, которого отчаянно развлекала столь непривычная обстановка, с жадностью набросился на еду. Его великолепные белые зубы мигом разделались с целым цыпленком, а затем лихо вонзились в увесистый ломоть розовой байоннской ветчины и, как говорится, потрудились на совесть. Паштет он объявил пищей богов, а козий сыр, слегка подернутый голубой плесенью, по его словам, отменно разжигал жажду. Удостоилось похвалы и вино, в самом деле хорошо выдержанное, искрившееся пурпуром в старинных венецианских бокалах.
В итоге гость пришел в самое благодушное настроение, а когда Сигоньяк в присутствии Пьера назвал его герцогом де Валломбрезом, едва не лопнул со смеху при виде выражения лица старого слуги. И неудивительно, поскольку Пьер решил, что его хозяин имеет дело с ожившим покойником. Что касается барона, то он все еще продолжал дивиться тому, что за его столом непринужденно восседает тот самый лощеный и надменный вельможа, которые еще недавно был его соперником в любви, дважды побежденный им на дуэли и неоднократно предпринимавший попытки лишить его жизни с помощью наемных головорезов.
Герцог без слов догадался обо всем, и когда старый слуга удалился, поставив на стол бутылку доброго вина и маленькие бокалы, чтобы можно было не спеша смаковать драгоценную влагу, расправил свои шелковистые усы и доверительно обратился к барону:
– Несмотря на вашу учтивость и гостеприимство, дорогой Сигоньяк, я вижу, что мой визит кажется вам несколько странным и неожиданным. Вы наверняка в недоумении и задаетесь вопросом: каким это образом заносчивый и дерзкий де Валломбрез из тигра внезапно превратился в кроткого агнца? Попробую ответить. В те полтора месяца, что я был прикован к постели, у меня было достаточно времени, чтобы подвести некоторые итоги – те самые, о которых человек задумывается перед лицом вечности. Но смерть – ничто для дворянина, к ней мы относимся гораздо беспечнее, чем даже простолюдины. Дело в ином: я понял, насколько низменными и суетными были многие мои стремления, и поклялся жить иначе, если мне удастся выкарабкаться. Любовь к Изабелле превратилась в моей душе в братскую привязанность, а следовательно, исчезли все причины вас ненавидеть. Вы перестали быть моим соперником, а размышляя над этим, я по-новому оценил ваше благоговейное чувство к ней, которому вы ни разу не изменили. Вы первым различили благородную душу в обличье бродячей актрисы. Несмотря на свою бедность, вы предложили безродной комедиантке величайшее богатство, каким обладает дворянин, – имя своих предков. И теперь, став знатной и богатой, она по праву принадлежит вам. Возлюбленный простушки Изабеллы должен стать супругом графини де Линейль!
– Но ведь она упорно отвергала меня даже тогда, когда видела мое бескорыстие, – возразил Сигоньяк.
– В своем ангельском смирении эта самоотверженная душа опасалась стать для вас препятствием на пути к благополучию. Но после того как мой отец признал ее дочерью, положение изменилось на противоположное.
– Да, герцог, вы правы: теперь уже я не достоин ее высокого титула. И смею ли я быть менее великодушным, чем она?
– Но любите ли вы мою сестру по-прежнему? – неожиданно торжественным тоном спросил де Валломбрез. – Как брат я имею право задать этот вопрос.
– Всем сердцем и всей душой! – проникновенно ответил де Сигоньяк. – Я люблю ее так, как ни один мужчина не любил ни одну женщину на земле, на которой нет ни одного существа, более совершенного, чем Изабелла.
– В таком случае, господин капитан мушкетеров, а вскоре, возможно, и губернатор одной из южных провинций, велите седлать коня! Мы с вами отправимся в замок Валломбрез, где я, согласно этикету, представлю вас принцу – моему отцу – и моей сестре, графине де Линейль. Ее руки просили шевалье де Видаленк и маркиз де л’Этан – оба, смею вас заверить, весьма достойные молодые люди, однако Изабелла отказала им. Но я думаю, что она без всяких колебаний отдаст свою руку и сердце барону де Сигоньяку…
Утром следующего дня молодой герцог и барон уже мчались по дороге, ведущей в Париж.
20
Признание Чикиты
Несмотря на раннее время, Гревская площадь[72] была запружена народом. Высокие кровли Ратуши – творения прославленного Доменико Боккадоро – серо-фиолетовыми контурами вырисовывались на белесом фоне неба. Холодная тень здания дотягивалась до середины площади, захватывая зловещий дощатый помост высотой в человеческий рост, весь в пятнах запекшейся крови. Из окон окружающих домов то и дело высовывались головы и сразу исчезали, убедившись, что спектакль еще не начался. В мансардном окне той самой угловой башенки, откуда, по преданию, Маргарита Наваррская наблюдала за казнью Ла Моля и Коконаса, выглянула морщинистая старуха – словно красавица-королева состарилась и превратилась в безобразную старую ведьму! На каменный крест, стоявший у спуска к реке, с трудом вскарабкался какой-то мальчишка и повис на нем, перекинув руки через поперечину, а коленями обхватив столб. Висеть таким образом, подобно распятому разбойнику, – дело мучительное, но свое место он не уступил бы ни за какие коврижки, пусть даже и медовые. Оттуда ему были видно все самое главное: колесо, на котором станут вращать осужденного, веревка, чтобы привязать его, и железный брус, которым ему переломают кости.
Но если бы кто-нибудь из толпы зрителей удосужился внимательнее вглядеться в подростка на кресте, то он заметил бы в выражении его лица нечто совсем не похожее на жадное любопытство. Вовсе не стремление наглядеться на чужие муки привела сюда этого смуглого юнца с большими блестящими глазами, окруженными голубоватыми тенями, белыми, словно жемчуг, зубами и длинными черными кудрями. Да и тонкость черт лица подсказывала, что он принадлежит совсем не к тому полу, на который указывала его одежда. Однако всем было не до того, чтобы таращиться на крест – взоры толпы были прикованы к эшафоту и набережной, откуда должен был появиться осужденный на казнь.
В толпе было немало знакомых читателю лиц: по сливово-багровому носу на белой как мел физиономии легко было узнать Малартика, а орлиный профиль на фоне складок плаща, по-испански заброшенного на плечо, явно принадлежал Жакмену Лампуру. Несмотря на широкополую шляпу, надвинутую до бровей с целью скрыть отсутствие уха, оторванного пулей Тордгеля, всякий опознал бы в молодце, который, сидя на тумбе, попыхивал длинной голландской трубкой, небезызвестного Бренгенариля. Тордгель же в это время увлеченно беседовал с Кольруле, а по ступеням у входа в Ратушу прогуливались еще несколько завсегдатаев «Коронованной редьки», обмениваясь философскими замечаниями о превратностях судьбы.
Давно известно, что Гревская площадь обладает для убийц, разбойников и воров какой-то странной притягательной силой. Это зловещее место, на котором, как правило, и завершается их земной путь, действует на них, как гигантский магнит. Им нравится любоваться виселицей, на которой их вздернут, и, наблюдая за судорогами осужденных, они мало-помалу привыкают к смерти и мукам. А это в корне противоречит самой идее правосудия, согласно которой пытки и казни имеют своей целью устрашение преступников.
Впрочем, скопление здесь всевозможных отбросов общества в дни казней объясняется и другой причиной: главный герой спектакля обычно связан с ними родством, приятельскими отношениями, а чаще сообщничеством. Они идут поглядеть, как вешают их кузена или племянника, как колесуют закадычного дружка или сжигают на костре поклонника, которому помогали спустить краденые или фальшивые деньги. Не присутствовать при столь важном событии считается неучтивым. Да и осужденному, знаете ли, приятно видеть у эшафота знакомые лица. Это придает ему бодрости и силы, он не хочет выказать малодушие перед настоящими ценителями, и его гордость пересиливает мучения. При такой публике многие довольно хлипкие и малодушные злодеи умирают, как истинные древние римляне.
Часы на башне Ратуши пробили семь раз, а казнь была назначена на восемь. Жакмен Лампур, сосчитав удары, заметил, обращаясь к Малартику:
– Мы вполне могли бы успеть раздавить бутылочку-другую, но тебе все не сидится на месте. Может, все-таки вернемся «Коронованную редьку»? Что толку торчать здесь и тратить бездну времени только для того, чтобы увидеть, как колесуют бедолагу? Это крайне пошлый и неприглядный вид казни. Будь это какое-нибудь роскошное четвертование, да еще с судейским чиновником на каждой из четырех лошадей или, допустим, прижигание раскаленными щипцами, или вливание смолы и расплавленного свинца в глотку, – словом, что-то замысловатое, исключительное по зверству и жестокости – тогда дело другое. Я бы остался только из любви к искусству, но ради такой чепухи – увольте!
– По-моему, ты недооцениваешь колесование, – ответил Малартик, потирая нос. – У колеса есть свои достоинства, и немалые.
– Ну, о вкусах не спорят. У каждого свои пристрастия, как сказал один латинский поэт, чьего имени я не помню. С поэтами мне вообще не везет – я куда лучше запоминаю имена полководцев. Тебе по душе колесо – ладно, не возражаю и буду сопутствовать тебе до конца. Но все-таки ты должен признать, что отсечение головы с помощью доброго клинка дамасской стали с долом на тыльной стороне и выемкой в теле клинка, заполненной ртутью, представляет собой зрелище не только увлекательное, но и благородное, ибо требует отменного глазомера, силы и проворства!
– Согласен, да только длится-то все это одно мгновение, и к тому же головы рубят одним дворянам. Плаха – их привилегия. А среди казней для простонародья колесо, на мой взгляд, много почтенней виселицы, которая годится только для мелких жуликов. А Огастен не простой вор. Он заслуживает большей чести, чем намыленная веревка, и правосудие в данном случае отнеслось к нему с уважением.
– Ты всегда был слишком снисходителен к Огастену. Я полагаю, тут все дело в Чиките, на которую ты давно уже положил свой блудливый глаз. Но я не разделяю твоего восхищения этим разбойником. Он не годится для деликатных операций на улицах просвещенного столичного города. Его удел – резать проезжих и прохожих на больших дорогах и в горных ущельях. Тонкости нашего искусства ему никогда не давались – он тут же выходит из себя и начинает крушить все подряд. Чуть что не по нему – и он, словно дикарь, хватается за нож. И нечего ссылаться на Александра Македонского: разрубить Гордиев узел – это нечто совершенно иное, чем его аккуратно развязать. Я уже не говорю о том, что Огастену чуждо всякое благородство, поскольку он не пользуется шпагой.
– Огастен пользуется навахой – оружием своей родины. Разве он виноват, что ему не пришлось, подобно нам, годами оттачивать свое мастерство в фехтовальных залах? Но так или иначе, а его стиль отличается внезапностью, отвагой и своеобразием. Его удар сочетает в себе точность огнестрельного оружия с беззвучностью холодного. Без малейшего шума он попадает в крохотную мишень в двадцати шагах. Нет, все-таки очень досадно, что карьера Огастена оборвалась так быстро! При его львиной отваге он мог бы пойти весьма далеко.
– Лично я держусь старых традиций, – возразил Лампур. – Без формы все что угодно может потерять смысл. Прежде чем напасть, я всякий раз хлопаю противника по плечу и даю ему возможность стать в позицию; если хочет и может – пусть защищается. И это уже не банальное убийство, а дуэль. Я бретер, а не мясник. Разумеется, я владею искусством фехтования так, что мне обеспечен успех, моя шпага разит почти без промаха, но быть опытным игроком не то же самое, что быть шулером. Да, я уношу с собой плащ, кошелек, часы и украшения убитого – но кто бы на моем месте поступил иначе? Всякий труд должен быть оплачен. И что бы ты ни говорил об Огастене, возня с ножом не по мне.
– Ох, Жакмен Лампур, ты человек твердых правил, тебя с толку не сбить. И все-таки в нашем деле не повредит чуть-чуть фантазии!
– Ничего не имею против фантазии, но тонкой, сложной, так сказать, изысканной. Необузданная и дикая свирепость не по мне. Огастен слишком легко опьяняется кровью и в кровавом хмелю готов умертвить кого угодно. Это непростительная слабость: уж если пьешь дурманящий напиток, надо иметь ясную голову. Взять хоть это его последнее дело: забрался в дом, который вознамерился обчистить, и зарезал не только проснувшегося хозяина, но и его спящую жену. Бесполезное, чрезмерно жестокое и излишнее убийство. Женщин следует убивать, только если они кричат, да и то проще заткнуть им рот: если тебя схватят, судьи, по крайней мере, не сочтут тебя чудовищем.
– Ты у нас прямо-таки Иоанн Златоуст! – заметил Малартик. – На твои поучения не сразу и ответ подберешь. Однако что же теперь будет с бедняжкой Чикитой?..
Жакмен Лампур и его приятель продолжали рассуждать в том же духе, когда с набережной на площадь выкатилась карета, вызвав замешательство в толпе, которая становилась все гуще. Фыркающие лошади перешли на шаг, отдавливая копытами ноги самым нерасторопным; между зеваками и лакеями тут же вспыхнула ожесточенная перебранка.
Зрители, которым пришлось потесниться, разнесли бы карету, если б их не остановил герб с герцогской коронкой на ее дверцах. Впрочем, здешней публике и это обстоятельство не внушало особого трепета. Вскоре давка достигла такого предела, что карете пришлось окончательно остановиться посреди площади, и, если взглянуть издали, можно было подумать, что кучер на ее козлах восседает прямо на людских головах. Чтобы проложить дорогу через толпу, пришлось бы передавить немало черни, а эта самая чернь здесь, на Гревской площади, чувствовала себя как дома и не стерпела бы такого обращения.
– Эти проходимцы, верно, ожидают какой-то казни и не разойдутся до тех пор, пока приговоренный не отправится к праотцам, – заметил молодой, пышно разодетый красавец, обращаясь к сидевшему рядом с ним в карете молодому человеку, тоже весьма привлекательному, но одетому гораздо скромнее. – Черт бы побрал болвана, который надумал быть колесованным как раз в тот час, когда мы проезжаем здесь! Не мог он, что ли, подождать до завтра?!
– Думаю, что он ничего не имел бы против, – отозвался его спутник, – тем более что это обстоятельство для него куда печальнее, чем для нас с вами!
– Ничего не остается, дорогой барон, как просто отвернуться, если зрелище покажется нам уж слишком отвратительным. Впрочем, это не так-то просто, в особенности, когда рядом происходит что-то страшное. Взять хотя бы святого Августина: как твердо он ни решил держать глаза закрытыми в цирке, где звери терзали людей, а все-таки открыл их, заслышав вопли толпы.
– Как бы там ни было, а ждать уже недолго, – сказал Сигоньяк. – Взгляните, де Валломбрез: толпа расступилась – на телеге везут осужденного!
И в самом деле, телега, запряженная клячей, которой давным-давно было уготовано местечко на Монфоконе, и окруженная конной стражей, громыхая, приближалась к эшафоту между рядами зевак. На доске, брошенной поперек телеги, сидел Огастен, рядом с ним – седобородый монах-капуцин, державший у его губ медное распятие, отполированное поцелуями поколений преступников. Голова бандита была повязана платком, концы которого свисали с затылка. Рубаха из грубого холста и рваные саржевые штаны составляли все его одеяние. Столь скудный наряд объяснялся тем, что палач уже успел воспользоваться своим правом и завладел имуществом осужденного, справедливо рассудив, что для пытки и смерти вполне хватит и этих отрепьев. Издали казалось, что Огастена ничто не удерживает, но в действительности он был опутан множеством тонких и очень прочных веревок, конец которых находился в руках у палача. Подручный палача, сидя боком на оглобле, держал вожжи и погонял клячу.
– Боже правый! – внезапно воскликнул Сигоньяк. – Ведь это тот самый разбойник, который напал на нас во главе отряда соломенных чучел! Помните, я рассказывал вам эту историю, когда мы проезжали мимо того места, где она приключилась?
– Как же не помнить, – подтвердил де Валломбрез. – Я смеялся от души. Но, судя по результату, с тех пор этот малый занялся более серьезными делами. Однако держится он неплохо.
Сквозь темный загар Огастена проступила зеленоватая бледность. Он сидел неподвижно, но все время обводил взглядом толпу, словно разыскивая кого-то. Когда телега поравнялась с каменным крестом, он заметил висевшего на перекладине подростка, о котором мы уже упоминали. Глаза приговоренного вспыхнули радостью, на лице появилась улыбка. Он едва заметно кивнул – в этом кивке было, очевидно, и прощание, и напутствие, и вполголоса произнес только одно слово: «Чикита!»
– Что вы сказали, сын мой? – возмутился капуцин, воздев к небу распятие. – Мне послышалось женское имя: должно быть, так зовут какую-нибудь распутницу, а вам надлежит думать о спасении души, ибо вы стоите на пороге вечности!
– Мне это известно, отец мой! И хоть волосы мои еще темны, вы, несмотря на свою седую бороду, много моложе меня. С каждым оборотом колеса, приближающего эту телегу к эшафоту, я старею на десять лет…
– Огастен ведет себя недурно для малого из гасконской глуши. Не похоже, чтобы его смущала смерть на виду у столичной публики, – заметил Жакмен Лампур, расталкивая локтями ротозеев, чтобы пробраться поближе к помосту. – Вид у него не растерянный, и, не в пример многим, он не выглядит покойником раньше срока. Голова не трясется, держит он ее прямо и гордо. А самый верный признак – он не отводит взгляда от колеса. Уж поверьте моему опыту, он кончит жизнь достойно – не скуля, не барахтаясь, не обещая сознаться в чем угодно, лишь бы оттянуть время.
– Ну, на этот счет можно быть уверенным, – заявил Малартик. – Когда его пытали, то вогнали восемь игл под ногти, а он даже звука не издал и не выдал никого из сообщников.
Тем временем телега подкатила к помосту, и Огастен неторопливо поднялся по ступеням. Впереди него шел подручный палача, позади – монах-капуцин и сам палач. Стражники в считаные мгновения распластали обреченного и привязали к колесу. Палач сбросил свой алый плащ с белыми шнурами, засучил рукава и наклонился за железным брусом.
Близился роковой миг. Зрители затаили дыхание. Даже Лампур и Малартик перестали зубоскалить. Бренгенариль вынул из зубов трубку, а Тордгель пригорюнился, сознавая, что рано или поздно ему не миновать того же.
Внезапно толпа зашевелилась. Девочка, висевшая на кресте, ловко спрыгнула вниз, словно ящерица прошмыгнула между ногами зевак, добралась до помоста и в два прыжка одолела ступени, оказавшись на возвышении. Палач, уже занесший было железный брус для переламывания костей, застыл, увидев прямо перед собой бледное детское лицо, ослепительно прекрасное в своей неистовой решимости.
– Убирайся отсюда, щенок, – опомнившись, гаркнул заплечных дел мастер, – не то я раскрою́ твою голову этим брусом!
Но Чикита не обратила на него внимания: ей было все равно, убьют ее или нет. Склонившись над Огастеном, она поцеловала его в лоб, шепнула: «Я тебя люблю!» – и с быстротой молнии вонзила ему в сердце маленькую наваху – ту самую, которую вернула ей Изабелла. Удар был нанесен такой твердой и верной рукой, что смерть наступила почти мгновенно. Огастен успел только выдохнуть: «Благодарю тебя!»
«От укуса этой змеи не найдешь лекарства в аптеке», – пробормотала девочка, расхохоталась, словно безумная, и одним прыжком соскочила с помоста. Ошеломленный палач беспомощно опустил свой брус, ставший теперь бесполезным. Какой смысл крушить кости покойнику?
– Браво, Чикита! – не удержавшись, выкрикнул Малартик, узнавший девочку в обличье подростка-мальчишки. Лампур, Бренгенариль, Тордгель, Кольруле и прочие завсегдатаи «Коронованной редьки», восхищенные ее поступком, сбились плотной кучкой, преграждая путь погоне. Пока стражники препирались с ними и молотили кулаками, прорывая живой заслон, девочка успела добежать до кареты Валломбреза, стоявшей на углу площади. Схватившись за дверцу, она прыгнула на подножку, мгновенно узнала Сигоньяка и, задыхаясь, проговорила:
– Я спасла Изабеллу, теперь ты спаси меня!
Де Валломбрез, которого восхитила столь неожиданная развязка, крикнул кучеру:
– Гони во весь опор и, если надо, дави эту сволочь!
Но давить никого не пришлось: толпа мгновенно раздалась и тут же сомкнулась позади кареты, чтобы задержать преследователей, которые и без того не слишком усердствовали. Через несколько минут карета уже была у ворот Сент-Антуан, а поскольку отголоски события на Гревской площади сюда еще не донеслись, де Валломбрез велел кучеру ехать медленнее, ведь мчащийся экипаж всегда привлекает к себе внимание прохожих.
Как только предместье осталось позади, герцог распахнул дверцу и втащил девочку в карету. Чикита безмолвно опустилась на сиденье напротив Сигоньяка. Внешне она сохраняла спокойствие, но внутри все в ней дрожало от невероятного возбуждения. Единственными признаками этого были румянец на ее обычно бледных щеках и остановившиеся огромные глаза, устремленные в одну точку и горевшие каким-то почти сверхъестественным огнем.
В душе девочки творилось нечто невообразимое. То страшное усилие, которое потребовалось от нее, чтобы одним ударом ножа избавить от мучений единственного друга и защитника, как бы прорвало оболочку детства Чикиты и превратило ее во взрослую девушку. Вонзив нож в сердце Огастена, она одновременно вскрыла и собственное сердце. Смерть породила любовь, и это странное, почти бесполое существо, не то дитя, не то эльф, стало женщиной, чьей мгновенно вспыхнувшей страсти было суждено жить вечно. Поцелуй и вслед за ним – удар ножом. Только такой и могла быть эта любовь.
Карета между тем продолжала свой путь, и за гущей древесных крон уже виднелись высокие кровли замка Валломбрез. Молодой герцог обратился к Сигоньяку:
– Как только мы прибудем, я проведу вас в мои апартаменты. Вы сможете привести себя в порядок перед тем, как я официально представлю вас сестре. Она ничего не знает ни о цели моего путешествия, ни о том, что вы приедете вместе со мной. Надеюсь, этот сюрприз ее порадует. Опустите шторку с вашей стороны, чтобы вас преждевременно не заметили. Но как нам поступить с этим бесенком?
– Велите отвести меня к госпоже Изабелле, – вдруг проговорила Чикита, выходя из своего полузабытья. – Пусть она решит мою судьбу!
Карета с опущенными шторками въехала во внутренний двор замка. Де Валломбрез тут же взял барона под руку и увел его в свои покои, приказав одному из лакеев проводить девочку к графине де Линейль.
При неожиданном появлении девочки изумленная Изабелла отложила книгу, которую держала в руках, и вопросительно взглянула на нее. Чикита стояла молча и совершенно неподвижно, явно ожидая, пока лакей удалится. Затем она торжественно приблизилась к графине, взяла ее руку и произнесла:
– Мой нож пронзил сердце Огастена. У меня больше нет господина, а я должна кому-нибудь служить. Огастен мертв, а после него я больше всех люблю тебя: ты подарила мне ожерелье и поцеловала меня. Хочешь, чтобы я стала твоей рабой, собачонкой, твоим домашним духом? Только прикажи дать мне какую-нибудь черную тряпку, чтобы я могла носить траур по моей любви. Не беспокойся: я буду спать на твоем пороге и постараюсь не надоедать тебе. А когда я тебе понадоблюсь, только свистни – вот так – и я появлюсь. Договорились?
Вместо ответа Изабелла притянула Чикиту к себе, коснулась губами ее горячего лба и без лишних слов приняла эту душу, которая принесла себя ей в дар.
21
О, Гименей!
Изабелла, уже знакомая со странностями Чикиты, не стала ни о чем расспрашивать, решив выяснить все, когда та немного успокоится. Ей было ясно одно: за этим решением девочки скрывается какая-то жуткая тайна. Но она была стольким обязана бедной малышке, что считала своим долгом приютить ее без лишних слов.
Поручив Чикиту заботам горничной, Изабелла попыталась было снова приняться за чтение, но книга перестала ее интересовать. Пробежав глазами несколько страниц, она поняла, что ничего не понимает в прочитанном, и, заложив томик закладкой, бросила его на столик для рукоделия. Подперев рукой подбородок и глядя перед собой невидящим взором, девушка отдалась привычным мыслям.
«Что сталось с Сигоньяком? – вопрошала себя она. – Вспоминает ли он обо мне, любит ли меня по-прежнему? Должно быть, ему пришлось вернуться в свой жалкий замок. А поскольку он уверен, что мой брат умер, он не смеет тем или иным образом дать мне знать о себе. Несомненно, его удерживает именно это мнимое препятствие, иначе он постарался бы повидаться со мной или написал хотя бы несколько строк. А что, если его останавливает не это, а мысль о том, что я теперь богата? Или все-таки он позабыл меня? О нет! Это невозможно! Но мне следовало бы сообщить ему, что де Валломбрез оправился от раны и совершенно здоров, хотя девушке не пристало намекать возлюбленному, что она нетерпеливо ждет его возвращения… Иногда мне кажется, что уж лучше бы я осталась простой актрисой. Тогда мы могли бы видеться постоянно и я наслаждалась бы его любовью, оставаясь добродетельной и уверенной в его уважении… Ах, как ни радует меня трогательная привязанность отца, мне все равно грустно и одиноко в этом громадном замке! Если бы вернулся де Валломбрез, он смог бы немного отвлечь меня от этих мыслей, но брат все не едет, а я тщетно ломаю голову, пытаясь доискаться, что за смысл вкладывал он в слова, сказанные на прощанье: «До скорого свидания, сестрица! Думаю, вы останетесь мною довольны!..» Иногда мне кажется, что я все понимаю, но боюсь до конца додумать эту мысль – слишком горьким может оказаться разочарование. А вдруг это правда? Тогда бы я просто сошла с ума от счастья!..»
На этом месте мысли графини де Линейль – с нашей стороны было бы неучтиво называть просто Изабеллой дочь сиятельного принца – были прерваны рослым лакеем, который явился осведомиться, сможет ли ее светлость принять герцога де Валломбреза, только что вернувшегося из путешествия.
– Я жду его с радостью и нетерпением, – ответила графиня.
Прошло несколько минут – и молодой герцог легкой и уверенной походкой вступил в гостиную. На его лице играл здоровый румянец, глаза блестели живостью, и выглядел он не менее победоносно, чем до ранения. Бросив шляпу с плюмажем на первое подвернувшееся кресло, де Валломбрез взял руку сестры и почтительно поднес к губам.
– Дорогая Изабелла, я отсутствовал дольше, чем мне бы хотелось, ибо это серьезное испытание – так долго не видеть вас, не слышать вашего чудесного голоса. Но на протяжении всего путешествия меня утешала надежда, что эта разлука не напрасна, и я смогу в конце концов кое-чем вас порадовать!
– Больше всего меня порадовало бы, если б все это время вы оставались в замке рядом с вашим отцом и мною, – с улыбкой ответила Изабелла, – а не скитались бы неведомо где, когда ваша рана едва успела зажить!
– А разве я был ранен? – насмешливо удивился герцог. – Право, если я иногда и вспоминаю об этой царапине, то сама она ничем не напоминает о себе. Никогда еще я не чувствовал себя крепче и здоровее, и маленькая прогулка принесла мне большую пользу. От седла больше проку, чем от кушетки. А вот вы, милая сестрица, немного похудели и бледноваты. Должно быть, вам было здесь одиноко? Впрочем, удивляться нечему: замок наш – место не из веселых, да и одиночество вредно для молодых девиц. Чтение да рукоделие – занятия скучные, и бывают минуты, когда даже самые благонравные особы, наглядевшись из окна на зеленую ряску во рву, предпочли бы увидеть свежее лицо какого-нибудь молодого кавалера!
– А вы, оказывается, злой насмешник, братец! И кажется, вам нравится растравлять мою печаль подобными шутками. Разве мне недоставало кавалера? А принц, который отечески любит меня и окружает постоянной заботой?
– Отец наш, вне всякого сомнения, достойный человек и совершенный жантильом[73], благоразумный и отважный, любимец короля, ученый и начитанный. Но то удовольствие, которое доставляет общение с ним, я бы отнес к слишком серьезным. Мне не хотелось бы, чтобы моя дорогая сестра провела свою юность столь торжественным и чинным образом. И поскольку вы не пожелали выйти замуж ни за шевалье де Видаленка, ни за маркиза де л’Этана, я был вынужден отправиться на поиски и, как мне кажется, отыскал для вас неплохого жениха. Уверяю вас, он – само совершенство, почти идеал, вы будете от него просто без ума!
– Это слишком жестоко, Аннибал! Вам ведь известно, что я не собираюсь выходить замуж. К тому же я не могу отдать свою руку, не отдав сердца, а мое сердце мне не принадлежит!
– Я полагаю, что вы заговорите иначе, когда я представлю вам жениха, которого выбрал для вас.
– Ни за что! – дрогнувшим от волнения голосом воскликнула Изабелла. – Я останусь верна своему чувству. Ведь не собираетесь же вы совершить насилие над моей волей?
– Ни при каких обстоятельствах! Моя тирания так далеко не простирается. Я прошу вас только об одном: не отвергайте моего кандидата, прежде чем увидите его.
Не дожидаясь согласия сестры, де Валломбрез поднялся, вышел в соседнюю комнату и тотчас вернулся вместе с Сигоньяком, у которого сердце едва не выпрыгивало из груди. Держась за руки, оба молодых человека остановились на пороге в надежде, что Изабелла обратит на них внимание, но девушка сидела, опустив глаза. В ту минуту она думала о своем возлюбленном, даже не подозревая, что он стоит в нескольких шагах от нее.
Де Валломбрез сделал несколько шагов к сестре, увлекая за собой барона, и отвесил ей церемонный поклон, который в точности повторил и Сигоньяк. При этом герцог широко улыбался, а барон трепетал. Как и многие отважные люди, он был храбр с мужчинами и робок с женщинами.
– Высокочтимая графиня де Линейль, – торжественно начал де Валломбрез, – позвольте представить моего доброго друга, которого вы, я надеюсь, примете благосклонно. Рекомендую – барон де Сигоньяк!
При звуках этого имени Изабелла вздрогнула и бросила быстрый взгляд на стоявшего перед ней молодого человека. Невыразимое волнение охватило девушку. Вся ее кровь хлынула к сердцу, лицо мгновенно побледнело, а затем нежная краска, словно розовое утреннее облако, залила ее щеки. Не проронив ни слова, она вскочила и бросилась на шею де Валломбрезу, пряча лицо на его груди. Плечи ее вздрагивали от рыданий, и слезы увлажнили бархат камзола герцога. В этом грациозном порыве сказалась вся ее целомудренная женственность и деликатность: не имея права обнять возлюбленного, она благодарила брата за его чуткую доброту.
Когда Изабелла немного успокоилась, Валломбрез освободился из ее объятий. Девушка тотчас спрятала в ладонях свое залитое слезами лицо, но брат бережно отвел ее руки со словами:
– Ну что же вы, дорогая сестрица! Покажите нам свое прелестное личико, иначе мой друг барон решит, что вы питаете к нему непреодолимое отвращение!
Изабелла обратила к Сигоньяку свои прекрасные глаза, сиявшие невыразимой радостью. Росинки слез все еще дрожали на ее длинных ресницах. Она протянула руку, и барон, склонившись, запечатлел на ней нежнейший поцелуй. При этом Изабелла едва не лишилась чувств – но столь сладостные волнения не причиняют вреда.
– И разве я не был прав, утверждая, что вы благожелательно встретите выбранного мной жениха? – усмехнулся де Валломбрез. – Иногда все-таки следует настоять на своем. Если бы я вас не переупрямил, нашему любезному барону пришлось бы возвращаться ни с чем, а это, согласитесь, было бы весьма прискорбно!
– Конечно, дорогой братец! Вы проявили удивительную мудрость и доброту. Ведь в сложившихся обстоятельствах только вы могли сделать первый шаг к примирению и взаимному прощению – пострадали-то вы один.
– Так и есть, – подтвердил Сигоньяк. – Герцог де Валломбрез показал всю широту своей благородной души: отбросив все обиды, он явился ко мне с дружески протянутой рукой. За зло, которое я ему причинил, он отомстил по-королевски, связав меня чувством вечной признательности. Но это легкое бремя, и я готов с радостью нести его до самой смерти.
– Не придавайте этому такого значения, дорогой барон. На моем месте вы поступили бы точно так же, – возразил де Валломбрез. – Храбрые люди всегда найдут общий язык, а клинки, однажды скрестившись, соединяют и души. Так что мы с вами были обречены рано или поздно стать друзьями. Но сейчас оставьте-ка в покое мою персону, а лучше расскажите моей сестре, как вы тосковали без нее в своем замке, где меня, между прочим, накормили до отвала, хоть я и слышал, что там только и делают, что умирают с голоду.
– Я тоже с удовольствием вспоминаю ужин у барона, когда к нему среди ночи заявилась вся наша труппа, – улыбаясь, заметила Изабелла.
– Скоро выяснится, что все подряд по-царски пировали в моей «башне голода», – шутливо откликнулся Сигоньяк. – Но я не стыжусь своей бедности, больше того – я благодарен ей и благословляю ее, ибо она стала причиной вашего участливого внимания ко мне, дорогая Изабелла!
– По-моему, – вставил де Валломбрез, – сейчас мне нужно явиться к нашему отцу и предупредить его о вашем приезде, что, надо сказать, будет для него неожиданностью. Кстати, графиня, мы ведь так и не выяснили, согласны ли вы вступить в брак с бароном де Сигоньяком? Не хотелось бы попасть впросак, если у вас какие-то иные намерения!
Изабелла безмолвно склонила голову.
– Значит, согласны? Вот и отлично. Тогда я удаляюсь: нареченным всегда найдется, что сказать друг другу, а ремесло дуэньи не по мне. Но я скоро вернусь, чтобы проводить де Сигоньяка к принцу.
С этими словами молодой герцог надел шляпу и отправился на половину отца, предоставив возлюбленных самим себе. Как ни приятно им было его общество, но отсутствие оказалось еще приятнее.
Сигоньяк приблизился к девушке, взял ее руку, и несколько минут молодые люди, не отрываясь, восхищенно смотрели друг на друга. Молчание порой красноречивее пространных излияний чувств. Наконец барон проговорил:
– Я просто не смею поверить своему счастью! И до чего же удивительны причуды судьбы! Вы полюбили меня потому, что я был беден и несчастен, а то, что должно было окончательно погубить меня, наоборот, возвысило и укрепило. Труппа добрых актеров сберегла для меня ангела добродетели и красоты; вооруженное нападение подарило мне друга, а, когда вас похитили, случай свел вас с отцом, который много лет вас разыскивал; и все это началось с того, что однажды темной дождливой ночью в ландах заблудился фургон комедиантов…
– То, что нам суждено полюбить друг друга, было начертано на небесах. Родственные души неминуемо встретятся, надо только уметь ждать. Едва переступив порог замка Сигоньяк, я сразу почувствовала, что меня привела туда судьба, а сердце мое затрепетало, когда я впервые увидела вас. Ваша робость и бедность оказались сильнее всех, кто пытался посягнуть на меня, и я еще тогда поклялась, что буду принадлежать только вам – или Всевышнему.
– И вместе с тем вы, жестокая, отказали мне в своей руке, когда я на коленях просил ее! Да, я знаю, вами руководило великодушие, но как мало доброты в таком великодушии!
– О, я приложу все силы, чтобы исправить эту жестокость! Вот вам моя рука, дорогой барон: я отдаю ее вам вместе с сердцем, которое и без того принадлежит вам. Зачем графине де Линейль самоуничижение бедняжки Изабеллы? Я боялась только одного: что теперь уже вы, в свою очередь, из гордости откажетесь от меня. Скажите: вы думали обо мне, когда к вам явился мой брат?
– Дорогая моя, дни напролет я всеми мыслями стремился к вам, а вечером, лежа на подушке, которой однажды касались и вы, я просил духов сна показать мне ваш пленительный образ!
– И духи часто исполняли вашу просьбу?
– Они ни разу не обманули моих ожиданий, и лишь с утренней зарей я расставался с вами. Ах, каким долгим казался мне день: я предпочел бы вечно спать, не просыпаясь.
– Я тоже из ночи в ночь видела вас во сне. Должно быть, наши души встречались в сновидениях. Но, хвала Творцу, теперь мы соединились надолго, надеюсь навсегда. Я не сомневаюсь, что де Валломбрез заранее испросил согласие принца, ведь не стал бы он действовать так легкомысленно и напрасно обнадеживать вас. Думаю, отец благосклонно примет ваше предложение. Я заметила, что в дни отсутствия брата он не раз отзывался о вас самым доброжелательным тоном, странно поглядывая на меня при этом. Взгляды эти смущали меня, но я не решалась поверить в то, что они означали. К тому же де Валломбрез ни разу не дал мне понять, что больше не питает к вам ненависти…
В эту минуту вернулся герцог с известием, что принц ожидает барона де Сигоньяка.
Барон встал и, поклонившись Изабелле, последовал за де Валломбрезом в дальний конец галереи, где находился кабинет принца.
Пожилой вельможа в камзоле из черного бархата, перехваченном лентой, на которой сверкали ордена, восседал в глубоком кресле за столом. Стол был покрыт ковровой скатертью и завален книгами и бумагами. Принц встретил Сигоньяка приветливо, сохраняя в то же время несколько официальный вид, как обычно бывает в ожидании важной беседы. Взгляд его был доброжелателен, тверд и ясен, а время, оставившее свой след на этом благородном лице, только прибавило ему величавости. Даже без орденских звезд, свидетельствовавших о его высоком чине и титуле, этот человек внушал бы чувство глубокого почтения. Любой дикарь признал бы в нем истинного вельможу.
В ответ на поклон Сигоньяка, принц приподнялся в кресле и указал ему на стул.
– Любезный отец, – начал де Валломбрез, – позвольте вам представить барона де Сигоньяка, в прошлом моего соперника, а ныне друга и, надеюсь, в самом скором времени родственника, если на то будет ваше великодушное согласие. Я обязан ему не только двумя ранами, но и глубокой переменой, совершившейся в моей душе. А такая услуга поистине неоценима! Ставлю вас в известность, что барон явился сюда с просьбой, и буду счастлив, если вы благоволите удовлетворить ее.
Принц знаком велел Сигоньяку говорить. Барон поднялся и с глубоким поклоном произнес:
– Ваша светлость, прошу у вас руки вашей дочери, графини де Линейль!
Пожилой вельможа несколько мгновений помолчал, как бы обдумывая ответ, а затем сказал:
– Барон де Сигоньяк, я готов дать согласие на ваш брак с моей дочерью, но лишь при том условии, что моя отцовская воля не будет противоречить ее желанию. Я не стану ни к чему принуждать графиню де Линейль, решающее слово в этом вопросе принадлежит только ей. Нам следует спросить ее, ведь у молодых девиц порой случаются необъяснимые причуды!
Свою краткую речь принц закончил с лукавой улыбкой светского человека, словно ему не было известно, что Изабелла любит Сигоньяка. Обычай требовал, чтобы он делал вид, будто пребывает в неведении и в то же время предполагает истину. Поэтому он добавил:
– Любезный герцог, приведите вашу сестру, так как без нее я, право же, не могу ответить барону де Сигоньяку ни да, ни нет!
Де Валломбрез мигом исчез и вскоре вернулся с Изабеллой. Девушка была ни жива, ни мертва и все еще боялась поверить своему счастью. Грудь ее волновалась, лицо утратило живые краски, колени подгибались. Отец привлек ее к себе, а девушка, вся дрожа, оперлась о подлокотник кресла, чтобы не упасть.
– Дочь моя! – обратился к ней принц. – Этот благородный кавалер оказывает нам честь, прося вашей руки. Я буду рад приветствовать ваш союз. Он отпрыск древнего рода, человек с незапятнанной репутацией, сочетающий в себе все лучшие качества, какие только можно представить. Мне он по душе, но нравится ли он вам? Белокурые головки не всегда думают так же, как убеленные сединами. Спросите свое сердце и ответьте нам, согласны ли вы стать женой барона де Сигоньяка? Не торопитесь, в таких делах спешка ни к чему хорошему не приводит!
Ласковая улыбка принца ясно показывала, что он шутит. Изабелла, немного осмелев, обвила шею отца руками и с пленительным смущением проговорила:
– Мне не понадобится долго размышлять. Если барон де Сигоньяк не вызывает у вас возражения, отец мой, я должна откровенно признаться, что полюбила его с первого взгляда, никогда не желала себе иного супруга и повиноваться вашей воле будет для меня величайшим счастьем!
– Ну, раз так, – весело провозгласил герцог де Валломбрез, – тогда, жених и невеста, подайте друг другу руки и поцелуйтесь! Роман завершается куда благополучнее, чем можно было ожидать по его началу. Когда же свадьба?
– Портным и белошвейкам понадобится не меньше недели, чтобы сшить свадебные наряды, – заметил принц. – Столько же времени потратят шорники и каретники, чтобы привести в надлежащий вид экипажи. А сейчас, Изабелла, я вручаю вам ваше приданое – графское поместье де Линейль с лесами, лугами, водоемами и пахотными землями, которое ежегодно приносит пятьдесят тысяч экю дохода! – С этими словами принц протянул дочери кожаный бювар с официальными грамотами на право владения и иными бумагами. – А вы, барон, извольте принять королевский указ, которым государь назначает вас губернатором провинции Гасконь. Я полагаю, никто не смог бы справиться с этой должностью лучше вас.
Между тем де Валломбрез куда-то исчез, но вскоре вернулся в сопровождении лакея, который нес резной ларец в красном сафьяновом чехле.
– А это, милая сестрица, – мой свадебный подарок, – сказал молодой герцог невесте, протягивая ларец, на крышке которого виднелась надпись: «Для Изабеллы».
Именно его он в свое время пытался преподнести молодой актрисе, но та без колебаний отвергла драгоценный дар.
– На сей раз, надеюсь, вы примете его! – добавил он с подкупающей улыбкой. – Нельзя допустить, чтобы эти безупречные бриллианты и бесценные индийские жемчуга пылились без дела в моих холостяцких покоях!
Изабелла с улыбкой открыла шкатулку, взяла одно из ожерелий и надела на шею, как бы в знак того, что отныне прошлое окончательно забыто. Затем она обвила вокруг своего белоснежного запястья тройной ряд жемчужин и вдела в уши сверкающие и переливающиеся огнями серьги. И как же она была хороша в ту минуту!
Что к этому добавить? Спустя ровно семь дней капеллан замка Валломбрез обвенчал Изабеллу и барона де Сигоньяка. Свидетелем со стороны жениха был маркиз де Брюйер. Замковая часовня утопала в белых лилиях и сияла огнями. Привезенные молодым герцогом из Парижа придворные хористы наполняли воздух ангельскими звуками мотетов Палестрины[74].
Сигоньяк буквально светился от счастья, Изабелла была пленительно мила в наряде невесты, и никто бы, не зная об этом заранее, не мог даже предположить, что эта молодая красавица-аристократка, горделивая и вместе с тем сдержанная, еще совсем недавно появлялась на подмостках в ролях простушек в бурлескных комедиях. Да и барон уже ничем не напоминал того захудалого гасконского дворянина, чьи беды были описаны в начале нашего романа.
После пышной свадебной трапезы, на которой присутствовали сам принц, герцог де Валломбрез, маркиз де Брюйер, шевалье де Видаленк, граф де л’Этан и несколько почтенных дам из близких к дому Валломбрезов семейств, молодые супруги удалились.
И нам надлежит покинуть новобрачных у порога их покоев, напевая вполголоса на античный манер: «О, Гименей!»[75] Истинное счастье всегда покрыто тайной, да и сама целомудренная новобрачная сгорела бы со стыда, если бы кто-нибудь даже случайно расстегнул булавку на ее корсаже.
22
Счастливая обитель
Став баронессой де Сигоньяк, Изабелла не забыла своих добрых друзей-актеров из труппы Тирана. Она не имела возможности пригласить их на свадьбу – таковы были обычаи того времени, их положение в обществе теперь было слишком различным. Однако она одарила каждого из них, проявив при этом такую тонкую деликатность, которая удваивала цену подарка. До самого отъезда труппы из столицы она много раз посещала представления, и никто лучше нее не мог оценить актерские удачи. Молодая баронесса и не собиралась скрывать, что прежде была актрисой, отнимая тем самым хлеб у сплетников, которые не преминули бы перемыть ее косточки, если б она делала тайну из своего прошлого. Впрочем, ее высокое происхождение было несомненным, а скромность и доброта быстро покорили все сердца, включая и женские.
Король Людовик XIII, узнав об удивительных приключениях Изабеллы, с похвалой отозвался о ее целомудрии и достоинстве, а к Сигоньяку проявил особую благосклонность за его умение обуздывать себя, ибо, будучи человеком нравственным, осуждал всякую распущенность. Что касается де Валломбреза, то ему явно шло на пользу общество зятя, чему принц только радовался.
Молодые супруги вели весьма приятную жизнь, и день ото дня их любовь становилась все сильнее и глубже. Не было и намека на то пресыщение друг другом, которое нередко омрачает самые благополучные браки. Однако с некоторых пор Изабелла погрузилась в какие-то таинственные хлопоты: теперь она подолгу совещалась со своим управителем, время от времени к ней являлся известный архитектор с чертежами и планами; скульпторы и живописцы, получив от нее указания, покидали Париж и отбывали в неизвестном направлении. Все это делалось в глубокой тайне от барона де Сигоньяка, но в союзе с молодым герцогом де Валломбрезом.
Спустя несколько месяцев – очевидно, именно столько времени понадобилось Изабелле для осуществления ее секретных замыслов – в одно прекрасное утро она как бы невзначай спросила у мужа:
– Дорогой мой, мне кажется, вы совсем забыли о своем злополучном замке! Неужели вам не хотелось бы взглянуть на то место, где родилась наша любовь?
– Право, Изабелла, я не раз уже подумывал об этом, но я все не решался предложить вам такое путешествие, так как не знал, придется ли оно вам по душе. Как я мог оторвать вас от королевского двора, украшением которого вы служите, и отправиться в полуразрушенный замок, который хоть и милее моему сердцу, чем самый роскошный дворец, но все равно остается приютом сов и мышей. Мое родовое гнездо, обитель моих предков, навсегда останется для меня святыней, но…
– А вот я почему-то часто задумываюсь: цветет ли еще тот куст шиповника в вашем саду? – заметила Изабелла.
– Могу поклясться, что цветет! – подхватил Сигоньяк. – Дикие кустарники невероятно живучи, а после того, как вы прикоснулись к нему, он и подавно должен цвести, даже если эти цветы и некому дарить!
– В отличие от других супругов, барон, после нашей свадьбы вы стали еще любезнее и осыпаете жену мадригалами, как юную возлюбленную, – рассмеялась баронесса. – Но если ваше желание совпадает с моим, почему бы нам не отправиться туда в самое ближайшее время? Погода великолепная, жара отступила, и такое путешествие могло бы оказаться очень приятным. С нами готов ехать де Валломбрез, я прихвачу и Чикиту – она будет рада увидеть родные края.
Сборы были недолгими, а путешествие в самом деле оказалось приятным. Молодой герцог заранее позаботился о сменных лошадях, и спустя несколько дней путники достигли той развилки, где от большой проезжей дороги отходила запущенная аллея, ведущая к замку Сигоньяк.
Было около двух часов пополудни, солнце ярко светило, на небе не виднелось ни облачка. Но в ту минуту, когда карета свернула на аллею, с которой открывался вид на кровли замка, Сигоньяк решил, что у него что-то случилось с глазами – он не узнавал с детства привычных мест. Дорога стала ровной, колеи исчезли, тщательно подстриженные живые изгороди больше не простирали колючие ветки навстречу проезжим. Зеленые кулисы деревьев теперь обрамляли совершенно новую панораму. Вместо жалких развалин под веселыми лучами солнца красовался обновленный замок, похожий на прежний не больше, чем юноша на престарелого отца.
В его архитектуре ничего не изменилось, но всего за несколько месяцев замок Сигоньяк помолодел на целые столетия. Исчезли трещины на фасаде, камни кладки встали на свои места. Стройные белые башни, заново перекрытые сланцевыми плитками, симметрично и горделиво, как стражи, возвышались по углам здания, вознося к небесной лазури позолоченные флюгера. Новая кровля, увенчанная металлическим коньком, заменила старую растрескавшуюся черепицу, местами провалившуюся и поросшую мхом. Окна блистали новыми стеклами в свинцовых переплетах, а архитектурный декор фасада был полностью восстановлен. Великолепные дубовые ворота с литыми бронзовыми ручками у входа в портал заменили облупленные и изъеденные древоточцами створки. А на выступе под сводом портала, в окружении отменно реставрированных завитков, сверкал герб Сигоньяков: три золотых аиста на лазоревом поле с благородным девизом, прежде едва различимым, а ныне начертанным золотыми буквами: «Alta petunt!»[76]
Сигоньяк несколько минут не мог произнести ни слова, созерцая это сказочное зрелище, а затем повернулся к Изабелле:
– Это вам, моя фея, я обязан чудесным преображением моего замка! Стоило вам коснуться его своей волшебной палочкой, и вернулись его былой блеск, молодость и красота. Если б вы знали, как я благодарен вам за этот сюрприз! Он восхитителен, как и все, что исходит от вас. Ведь я не произнес ни слова, но вы угадали мое самое заветное желание!
– Благодарите также одного чародея, который немало помог мне в осуществлении этой затеи. – С этими словами Изабелла указала на де Валломбреза, скромно улыбавшегося в углу кареты.
Барон крепко пожал руку молодому герцогу, а тем временем карета выехала на площадку перед замком.
Из всех краснокирпичных труб здания валили густые клубы дыма, свидетельствуя, что здесь ожидают важных гостей. На пороге застыл Пьер в великолепной новой ливрее, обе створки парадной двери были распахнуты, а когда карета остановилась у крыльца и путешественники вышли из нее, их приветствовали еще полдюжины новых лакеев, которые прежде еще ни разу не видали своих хозяев.
В вестибюле и на парадной лестнице умелые живописцы вернули фрескам былую яркость и свежесть. Атланты, снова ставшие мускулистыми и представительными, с довольным видом поддерживали нарисованный карниз, римские императоры щеголяли пурпуром на тогах, дождевые потеки не пятнали свод, а сквозь нарисованную решетку сквозило синее средиземноморское небо.
Волшебное преображение коснулось всего без исключения. Панели и паркетные полы сверкали, старая мебель была заменена новой, но сходной по стилю, фламандские гобелены по-прежнему украшали спальню барона, но их старательно отмыли, освежив краски, и починили тронутые временем места. И кровать осталась той же, но мастер терпеливо восстановил резные фигуры на спинках и балдахине, вернул орнаментам ясность и привел это старинное ложе в первоначальный вид. Штофные занавеси полога с тем же рисунком, что и прежние – зеленые с белым, ниспадали благородными складками между заново отполированными витыми колонками.
Тонкий вкус Изабеллы подсказал ей, что здесь не следует злоупотреблять роскошью. Она стремилась только к одному – доставить душевную радость нежно любимому мужу, вернув ему воспоминания детства, очищенные от налета тоски и нищеты. Теперь в этом некогда печальном жилище все дышало чистотой и весельем. Даже портреты предков барона, очищенные, реставрированные и заново покрытые лаком, молодо улыбались из позолоченных рам. А сварливые вдовы и чопорные аббатисы уже не строили гримасы при виде Изабеллы, ставшей из комедиантки баронессой. Теперь они приняли ее в свой круг.
Во дворе замка не осталось ни травинки. Исчезли заросли крапивы, лопухов и прочих сорных трав, которые сопутствуют беспорядку и запустению. Просветы между плитами двора были тщательно заделаны. Сквозь стекла в окнах прежде заколоченных комнат виднелись дорогие шелковые занавеси, свидетельствующие, что все здесь готово к встрече гостей.
По укрепленным и очищенным от подушек мха ступеням, которые больше не шатались под ногами, молодые хозяева замка спустились в сад. У самой террасы по-прежнему зеленел тщательно ухоженный куст шиповника – тот самый, что в день отъезда де Сигоньяка подарил свой цветок молодой актрисе. На нем и теперь виднелся свежий бутон, который Изабелла тотчас сорвала и прикрепила к своему корсажу – в знак непоколебимой прочности своего счастья.
Садовнику пришлось потрудиться не меньше архитектора. Его заступ и ножницы навели удивительный порядок в этих девственных зарослях. Исчезли ветви, преграждавшие путь, колючие кустарники и сухой валежник; теперь по всем дорожкам можно было пройти без риска оставить на них клок платья. Деревья, как бы заново прирученные, образовали аллеи и боскеты[77]. Тщательно подстриженные буксусовые изгороди окаймляли цветники, на которых яркими красками переливались все мыслимые и немыслимые цветущие растения, а в дальнем конце сада изваяние богини Помоны, очищенное от лишайников и следов дождей, белело божественной наготой. Восстановленный нос вернул богине греческий профиль, а в ее корзинке вместо несъедобных грибов теперь лежали мраморные плоды. Из львиной пасти в раковину фонтана била струя прозрачной влаги, заодно орошавшей всевозможные вьющиеся растения, которые, цепляясь своими усиками за прочный трельяж, плотной цветущей стеной отделяли этот очаровательный уголок от ограды сада. Никогда, даже в самые лучшие времена, дом и сад не были убраны с таким богатством и вкусом. Теперь замок Сигоньяк, совсем было пришедший в упадок, буквально сверкал великолепием.
Барон де Сигоньяк, изумленный и восхищенный до глубины души, шел, словно во сне, прижимая к груди руку Изабеллы и не стыдясь слез умиления, то и дело наворачивавшихся на его глаза.
– А теперь, осмотрев замок, нам следует объехать угодья, которые я приобрела, чтобы полностью восстановить былые владения Сигоньяков, – наконец сказала Изабелла. – Если позволите, дорогой, я надену костюм для верховой езды. Но задержу я вас ненадолго: как вы помните, мое прежнее ремесло научило меня быстро менять наряды. А вы тем временем выберите пару подходящих лошадей и велите их оседлать!
Де Валломбрез отвел Сигоньяка в конюшню, где прежде было пусто и голо, а теперь в стойлах, разделенных дубовыми перегородками, стояли десять кровных скакунов, чьи холеные крупы отливали шелком. Заслышав голоса, благородные животные разом повернулись к вошедшим – и тут же послышалось заливистое ржание: это старина Байярд, узнав хозяина, приветствовал его. Теперь он занимал в конюшне самое теплое и удобное место в дальнем конце ряда стойл, кормушка его была наполнена дробленым овсом, чтобы облегчить труд старческим зубам, а у ног Байярда дремал совсем поседевший Миро, который тут же поднялся и облизал руки барона.
Вельзевул, однако, все еще не показывался на глаза, но причина тут была не в том, что он забыл хозяина, а в присущей кошачьему роду осторожности. Вся эта суматоха, поставившая вверх дном привычное для него жилище, ошеломила и озадачила кота. Укрывшись на чердаке, он дожидался темноты, чтобы объявиться и засвидетельствовать почтение своему возлюбленному господину.
Потрепав Байярда, барон выбрал для себя гнедого красавца, которого тотчас и вывел из конюшни. Герцогу приглянулся испанский жеребец с лебединой шеей, достойный носить наследника престола, а для баронессы конюх присоветовал взять очаровательную лошадку белой с серебристым отливом масти, для которой имелось великолепное седло, обтянутое зеленым бархатом.
Изабелла действительно не заставила себя ждать: она вернулась в кокетливой амазонке, подчеркивающей стройность ее фигуры. Костюм этот состоял из жакета синего бархата, отделанного серебряными пуговицами и галунами, и длинной светло-серой атласной юбки. На голове молодой женщины красовалась белая фетровая шляпа мужского фасона с длинным синим пером, спускавшимся на спину. Ее белокурые волосы покрывала голубая сетка, унизанная серебряными бусинками, не позволяющая им растрепаться от быстрой езды.
Изабелла выглядела очаровательно, и самым высокомерным придворным красавицам пришлось бы стушеваться рядом с ней. Задорный наряд подчеркивал ее горделивые черты, отодвигая на задний план обычную мягкую грацию, и напоминал о том, что в ее жилах течет благородная кровь. Это была прежняя простодушная Изабелла, но вместе с тем – дочь принца, сестра герцога и супруга дворянина, чей род восходил к эпохе до начала крестовых походов.
Де Валломбрез не удержался и заметил:
– Даже у Ипполиты, царицы амазонок, не было такого победного и торжествующего вида! Вы сегодня в ударе, сестрица!
Изабелла ответила мимолетной улыбкой. Барон придержал стремя, и она легко вспорхнула в седло. Герцог и барон также сели на коней, и вся кавалькада выехала на площадку перед замком, где едва не столкнулась с маркизом де Брюйером и еще несколькими местными дворянами, которые явились засвидетельствовать почтение и приветствовать новобрачных. Хозяева замка хотели было отменить прогулку и вернуться, как того требовали приличия, но гости единодушно заявили, что не хотят быть помехой начатому делу, и, развернув лошадей, вызвались сопровождать молодую чету и герцога де Валломбреза.
Кавалькада стала еще более внушительной, когда к ней присоединились еще с полдюжины пышно разодетых всадников. Этот поистине королевский кортеж неторопливо двинулся по хорошо укатанной дороге мимо зеленеющих лугов и полей, которым было возвращено плодородие, мимо благоустроенных ферм и ухоженных лесов. Все это отныне принадлежало барону де Сигоньяку. Ланды, поросшие вереском, казалось, отступили от стен замка.
Когда кавалькада проезжала по сосновому лесу у границы владений барона, послышался собачий лай, и вскоре из чащи появилась Иоланта де Фуа, которую сопровождали дядюшка-командор и двое-трое кавалеров. Тропа здесь была узкой, и всадникам едва удалось разминуться, хотя и те, и другие изо всех сил сдерживали коней. Лошадь Иоланты шарахалась и норовила встать на дыбы, а наездница задела юбкой юбку Изабеллы и, покраснев от досады, принялась выдумывать замечание поязвительнее.
Изабелла была выше подобных вещей; ей и в голову не пришло отплатить Иоланте за презрительный взгляд и слова «бродячая комедиантка», брошенные однажды едва ли не на этом же месте. Вместо этого она спокойно и приветливо поклонилась мадемуазель де Фуа, которая, буквально закипая от бешенства, вынуждена была ответить легким кивком. А барон де Сигоньяк с невозмутимым видом отвесил ей учтивый поклон, и в глазах бывшего тайного обожателя Иоланта не заметила ни искры прежнего чувства. Яростно хлестнув лошадь, она унеслась галопом, увлекая за собой свою свиту.
– Клянусь Венерой и Амуром, – весело посмеиваясь, заметил де Валломбрез, обращаясь к маркизу де Брюйеру, – до чего же хороша, только чертовски строптива и сердита с виду! Как она посмотрела на мою сестру! Это не взгляд, а сущий удар кинжалом!
– Иоланта давно и полновластно царила в здешних краях, – пояснил маркиз, – а быть низложенной никому бы не понравилось. Ведь теперь преимущество явно на стороне баронессы де Сигоньяк.
Когда кавалькада вернулась в замок, в зале, где когда-то нищий барон, не имея никакой провизии, угощал актеров ужином из их собственных припасов, гостей ожидала обильная и изысканная трапеза. Осмотрев покой, гости пришли в восторг от его убранства. На тонкой льняной скатерти, где были вытканы геральдические аисты, мерцало тяжелое столовое серебро с гербом Сигоньяков. Несколько уцелевших предметов из старого сервиза были сохранены и добавлены к новой посуде, чтобы ее роскошь не резала глаз новизной. Таким образом древняя колыбель Сигоньяков внесла свою лепту в великолепие возрожденного замка.
Когда гостей позвали к столу, Изабелла заняла место, на котором сидела в тот знаменательный вечер, изменивший судьбу барона. Оба супруга, невольно вспомнив об этом, обменялись нежными улыбками, полными воспоминаний и надежд.
Близ буфета, где мажордом разреза́л на выдвижной доске жаркое мясные кушанья, стоял мужчина могучего сложения с широким и бледным лицом, окаймленным густой бородой. Одет он был в черный бархат, на его шее висела серебряная цепь, он с важным видом распоряжался лакеями, прислуживавшими за столом. А у поставца, загроможденного бутылками всех мыслимых форм и размеров, оплетенных и не оплетенных, неутомимо суетился на подагрических ногах чудаковатый человек с носом закоренелого пьяницы, с румяными от даров лозы щеками и лукавыми быстрыми глазками, прячущимися под изумленно изогнутыми бровями.
Случайно взглянув в эту сторону, Сигоньяк мгновенно узнал в первом трагика Тирана, а во втором – комика Блазиуса. Изабелла перехватила его взгляд и шепнула мужу, что, желая избавить обоих славных стариков тяжелой жизни бродячих комедиантов, она сделала одного из них управителем, а другого дворецким в замке Сигоньяк, так как должности эти спокойные и не требуют больших усилий. Барон тут же одобрил это решение.
В самый разгар трапезы, когда бутылки, стараниями Блазиуса, без задержки сменяли одна другую, Сигоньяк вдруг почувствовал, как что-то ощутимо ткнулось в одно его колено, а другое царапают острые когти, словно перебирая струны гитары и наигрывая знакомый мотив. Это Миро и Вельзевул пробрались в приоткрытую дверь, чтобы потребовать своей доли с пиршественного стола хозяина. Потрепав уши Миро и почесав безухую голову Вельзевула, барон щедро наделил их лакомыми кусками.
И что это были за объедки! Ломтики сочного паштета, крылышки куропаток, мясистые телячьи ребрышки и прочие прежде невиданные обоими деликатесы! Изголодавшийся Вельзевул не помнил себя от счастья и требовал все новых и новых подачек, а Сигоньяк с неистощимым терпением наделял ими обоих. Наконец, раздувшись, словно бочонок, и не имея сил даже мурлыкать, старый черный кот удалился в спальню, обитую фламандскими гобеленами, свернулся клубком на привычном месте и мгновенно уснул.
Отдавая дань вину, де Валломбрез не отставал от маркиза де Брюйера, да и соседи провозглашали тост за тостом за здоровье молодых супругов. Сигоньяк же, привычно воздержанный, лишь пригубливал свой бокал, ни разу так и не осушив его до дна. Наконец захмелевшие гости, пошатываясь, поднялись из-за стола и не без помощи слуг добрались до приготовленных для них комнат.
Изабелла, сославшись на усталость, ушла еще до того, как был подан десерт. Чикита, уже несколько месяцев исполнявшая обязанности горничной, с обычным молчаливым усердием помогла ей переодеться ко сну. За это время Чикита превратилась в юную девушку редкой красоты. Ее смуглое лицо слегка посветлело, не утратив, однако, той жгучей бледности, которую так ценят художники. Волосы, тщательно расчесанные, лежали гладко и были стянуты на затылке алой лентой, концы которой свободно падали на ее смуглую шею, на которой по-прежнему блестело ожерелье. Этот подарок Изабеллы стал для странной девушки символом ее добровольного рабства, своего рода обязательством, которое может разорвать лишь смерть. Она постоянно носила черное платье в знак траура по своей единственной любви.
Покончив со своими делами, Чикита удалилась, поцеловав, как обычно, руку госпожи.
Барон де Сигоньяк вошел в свою спальню, где провел столько одиноких ночей, отсчитывая долгие часы и вслушиваясь в жалобный вой ветра за ветхими окнами. Но теперь при свете китайского фонаря, висевшего под потолком, перед ним предстало милое лицо Изабеллы, выглянувшей из-за штофных занавесок. На нем светилась нежная и целомудренная улыбка любящей и любимой женщины.
Так осуществились мечты, которые Сигоньяк вынашивал, когда потеряв надежду снова встретиться с Изабеллой, смотрел на свою пустую и холодную постель взглядом, полным неизбывной тоски. Поистине, судьба знает, куда нас ведет!
Однако ближе к утру Вельзевул, всю ночь спавший очень беспокойно, сполз с кресла и с огромным трудом вскарабкался на кровать. Уткнувшись носом в руку спящего хозяина, кот попробовал замурлыкать, но вместо мурлыканья из его горла вырвался хрип. Проснувшись, Сигоньяк обнаружил, что Вельзевул лежит, безотрывно глядя на него и как бы умоляя о помощи, а его широко раскрытые зеленые глаза тускнеют и подергиваются мутной пеленой. Шерсть кота потеряла обычный шелковистый блеск и слиплась. Он весь дрожал и лишь с неимоверным усилием мог подняться на трясущихся лапах. Наконец он повалился на бок, судорожно вздрогнул несколько раз, испустил стон, похожий на жалобный призыв больного ребенка, и неподвижно вытянулся во всю длину. Предсмертный стон кота разбудил молодую женщину.
– Бедный Вельзевул! – удрученно проговорила она, поняв, что кот мертв. – Он столько лет терпел голод и холод, но так и не успел насладиться изобилием в замке Сигоньяк!
Сказать по чести, Вельзевул пал жертвой собственной жадности. Изголодавшийся желудок животного просто не справился с избытком пищи. Однако смерть кота болезненно поразила Сигоньяка. Он верил, что у животных есть душа, пусть и более простая, чем человеческая, но способная чувствовать и понимать. Со слезами на глазах и с болью в сердце барон бережно завернул беднягу Вельзевула в шелковый лоскут, решив похоронить его поздним вечером, чтобы эта церемония не показалась кому-нибудь смешной или кощунственной.
Как только стемнело, Сигоньяк взял заступ, фонарь и окоченевшее тельце Вельзевула в его шелковом саване. Спустившись в сад, барон поставил фонарь на землю и принялся копать углубление под кустом шиповника. Свет фонаря тут же привлек множество ночных насекомых, которые принялись порхать вокруг и биться о слюдяные оконца фонаря. В саду, за исключением освещенного пятачка, стояла непроницаемая темень. Лишь изредка краешек луны проглядывал сквозь рваные темные облака, да и вся обстановка казалась не в меру мрачной и торжественной для похорон кота.
Сигоньяк продолжал работать заступом – ему хотелось сделать могилу Вельзевула как можно более глубокой, чтобы никакой бродячий хищник не потревожил покой его старого друга. Внезапно лезвие заступа звякнуло и высекло искру. Решив, что наткнулся на камни, барон удвоил усилия, но продвинуться глубже ему не удалось. Тогда он поднес к яме фонарь, чтобы выяснить, в чем дело, и с удивлением увидел часть крышки дубового сундука, окованного ржавыми полосами железа!
Обкопав сундук со всех сторон и действуя заступом в качестве рычага, барон изловчился поднять эту огромную тяжесть на поверхность и отодвинуть от края разросшейся ямы. Затем он опустил в землю Вельзевула и тщательно засыпал его поистине просторную могилу землей.
Покончив с этим делом, он хотел было перенести свою находку в замок, но это оказалось не под силу даже такому крепкому человеку, как барон, и ему пришлось кликнуть на помощь верного Пьера. Взявшись за ручки сундука, слуга и хозяин поволокли его к дому, кряхтя и время от времени останавливаясь передохнуть.
В кухне Пьер взломал топором замок. Крышка отлетела, а под ней блеснуло золото. То было целое сокровище – несколько десятков фунтов старинных золотых монет: унций, двойных пистолей, цехинов, дукатов, крузаду и ангелотов генуэзской, португальской, испанской и французской чеканки, а также множество монет других стран разного достоинства, но в равной мере старых. Кроме того, в сундуке нашлось немало золотых украшений с драгоценными камнями, а на самом дне лежал пергаментный свиток, скрепленный печатью с гербом Сигоньяков, но сырость, к несчастью, погубила все написанное в нем. Лишь подпись была еще смутно различима, и барон букву за буквой разобрал имя: «Раймон де Сигоньяк».
Так звали одного из его предков, отправившегося сражаться в дальние края, откуда он не вернулся, унеся с собой тайну своей гибели или исчезновения. Дома он оставил единственного малолетнего сына и, вероятно, отправляясь в полный опасностей поход, зарыл все свои богатства, поведав об этом только надежному человеку, а тот, судя по всему, так же внезапно был застигнут смертью и не успел указать наследнику место, где был спрятан клад. Вот с этого Раймона де Сигоньяка и начался упадок прежде богатого и могущественного рода.
Такова была история происхождения клада, довольно правдоподобная, которую барону удалось восстановить на основании знаний истории собственного рода. Бесспорным в этом было только одно – найденное под кустом шиповника золото по праву принадлежало ему. Он велел Пьеру позвать Изабеллу, чтобы она взглянула на сокровища, а когда она пришла, задумчиво проговорил:
– Положительно, Вельзевул был добрым гением Сигоньяков! Своей кончиной он сделал меня богатым, а когда появились вы, мой ангел, он исчез. Роль его была окончена, потому что именно вы принесли мне счастье!
Понсон дю Террайль
Любовница короля Наваррского
Генрих, молодой король Наварры, тайно прибывает в Париж под именем сира де Коарасса. Ослепленный красотой принцессы Маргариты, Генрих, однако, не остается равнодушным и к чарам Сары Лорио, жены богатого ювелира, и помогает ей совершить побег – красавица уже долгое время терпит жестокое обращение со стороны супруга. Ночью совершено убийство – муж Сары пронзен кинжалом, а в доме заколоты его слуги и некий ландскнехт… В злодеянии виновен поверенный Екатерины Медичи, звездочет и отравитель Рене-флорентиец…
I
Король Карл IX охотился.
Он гнался по следам волка; страстный охотник, он не хотел, чтобы животное подвергалось страданиям, и всадил ему пулю как раз в тот миг, когда на него набросилась стая гончих псов.
Было еще только двенадцать часов.
– Господа, – обратился он к свите, – мне кажется, у нас есть еще время поохотиться на козулю. Что вы на это скажете, Пибрак?
– Я разделяю ваше мнение.
– А вы, господин де Коарасс?
– Если вашему величеству угодно охотиться на козулю с теми замечательными таксами, которых я видел утром у сен-жерменского дворца, то мы получим необычайное удовольствие, – ответил принц.
– Вы полагаете?
– Я уверен в этом.
– В таком случае, друг мой Пибрак, пошлите за таксами… – сказал Карл IX.
Пибрак, выполняя приказ, поскакал во весь опор.
– Напрасно сестра Марго, страстная охотница, не поехала с нами сегодня, – добавил король. – Погода превосходная.
– Действительно, ваше величество, – ответил Коарасс.
– Марго было бы очень весело, – продолжал король лукаво.
– Разве ее высочество нездорова? – спокойно спросил Генрих.
– У Марго мигрень.
– Как это неприятно, ваше величество.
– Вы думаете?
– Так говорят.
Король пожал плечами.
– Женщины всегда ссылаются на мигрень, когда не желают что-либо делать. Готов спорить, если бы Марго знала, что вы тоже поедете на охоту…
Краска залила лицо Генриха.
– Ваше величество, вы шутите!
Король понял, что поставил юношу в крайне неудобное положение.
– Боже мой, я нисколько не шучу. С тех пор как Маргарита узнала, что должна выйти замуж за принца Наваррского, она бегает за всеми беарнцами в надежде встретить среди них кого-нибудь, кто опишет ей будущего супруга… Впрочем, вот и де Пибрак с таксами!
Козуля была убита менее чем через три часа, и король, будучи в самом прекрасном расположении духа, воскликнул:
– Клянусь Богом, я сегодня поужинаю с большим аппетитом!
– Тем лучше, ваше величество, – сказал де Пибрак. – Когда король ест, подданные чувствуют голод.
Король улыбнулся.
– В таком случае приглашаю вас поужинать со мной, де Пибрак.
– Это для меня величайшая честь, государь:
– А также и ваших кузенов.
Генрих и Ноэ поклонились, Карл IX подал сигнал к отъезду и вместе со свитой отправился в Париж.
Въезжая в ворота Лувра, он сказал Пибраку:
– Сходите к моей сестре Марго и узнайте, не прошла ли у нее мигрень. Пригласите ее поужинать с нами.
– Ваше величество, – сказал, вернувшись, капитан гвардейцев, – ее высочество сильно страдает и легла в постель.
«Черт возьми! – подумал Генрих. – А как же свидание, которое она мне назначила?»
Король сел за стол с Пибраком и молодыми людьми, которых тот выдавал за своих кузенов, с де Крильоном, гвардейским полковником, и двумя дворянами, участвовавшими в охоте.
– Я голоден как волк, – сказал он, – и если у моего будущего зятя, принца Наваррского, такой же аппетит, когда он возвращается с охоты, то мою сестру Марго не придется слишком жалеть… род Бурбонов не угаснет.
Однако едва Карл IX успел съесть суп и обсосать крылышко фазана, как вошел паж Готье и сказал:
– Ваше величество, купеческий староста на коленях умоляет вас о немедленной аудиенции.
– Пусть убирается к черту! – воскликнул король, – Что ему надо? Пусть придет завтра.
– Ваше величество, он говорит, что хочет сообщить об ужасном преступлении.
– Ну так пусть этим занимается начальник охраны, – пробормотал Пибрак.
Однако король забеспокоился.
– Что же могло случиться? – спросил он. – Готье, впусти его.
Паж вышел; несколько минут спустя он снова раздвинул портьеры, раскрыл двери, и в комнату вошел величественный старик, с достоинством носивший длинное одеяние и походивший скорее на дворянина, чем на купца. Звали его Иосиф Мирон; он был братом королевского врача.
– Уж не горит ли Париж со всех четырех концов? – обратился к нему Карл IX, протягивая, согласно обычаю, руку для поцелуя.
– Нет, ваше величество.
– Или внезапная прибыль воды в Сене снесла все мосты?
– Нет, ваше величество.
– Что же произошло такого ужасного, что вы беспокоите несчастного короля, умирающего от голода?
– Ваше величество, – ответил староста, нисколько не смутившись, – я пришел просить о правосудии.
– О правосудии! – воскликнул король.
– Страшное злодеяние совершено прошлой ночью в доме одного парижского купца…
– Что же? Его убили? – спросил король.
– Убили и ограбили.
– Что же об этом говорят?
– Обвиняют людей, состоящих на службе у вашего величества.
– Черт возьми! Господин староста, – перебил король, – у меня на службе состоят только дворяне, и все они люди порядочные.
– Ваше величество, – спокойно возразил староста, – я ничего не утверждаю, но нашли мертвого ландскнехта…
– А, вот в чем дело! Объяснитесь, господин староста.
Генрих и Ноэ многозначительно переглянулись.
– Позвольте сказать вам, ваше величество, – начал Иосиф Мирон, – что на улице Урс жил ювелир, которого звали Самуил Лорио. Крещеный еврей.
– Крещеный или нет – это безразлично! – ответил король. – Он был парижский купец?
– Да, ваше величество.
– Продолжайте.
– Самуил Лорио был очень честным человеком, но он был богат… и, хотя он скрывал это, все об этом хорошо знали. Кроме того, у него была молодая красивая жена… Она исчезла.
– Одна?
– Неизвестно.
– А муж?
– Сегодня утром жители улицы Урс были крайне удивлены, увидев, что дверь дома Лорио полуотворена, – он имел обыкновение запираться, точно в крепости. Они вошли, но едва ступили несколько шагов, как наткнулись на труп.
– На труп мужа?
– Нет, ваше величество.
– На чей же?
– Старого слуги, по имени Иова.
– Что же дальше?
– В первой комнате направо из коридора, возле открытого и пустого сундука, увидели другой труп.
– На этот раз мужа?
– Нет, ваше величество. Это был ландскнехт: один мещанин признал в нем часового, которого видел три дня назад у ворот Лувра.
– Черт возьми! – воскликнул король, нахмурившись.
– Наконец, на первом этаже нашли тело служанки.
– А муж?
– Муж был найден в реке; ему нанесли удар кинжалом в спину.
– Где именно его нашли?
– У Несльского парома.
– Господин староста! – вскричал король. – Да ведь это четыре убийства!
– Четыре, ваше величество.
– Как же в этом замешан ландскнехт?
– Ваше величество, я провел следствие и получил чрезвычайно странный результат.
Король взглянул на него с любопытством.
– Купец Самуил Лорио, – продолжал Иосиф Мирон, – был убит не в доме, а на берегу Сены, и несколько капель крови были найдены на камнях под мостом Святого Михаила.
Карл IX вздрогнул; у него появилось предчувствие, что в деле замешан Рене-флорентиец.
– Купец Самуил Лорио получил удар сзади, между лопаток. Хирург утверждает, что смерть наступила мгновенно, затем труп был брошен в реку. Рана была, по-видимому, нанесена тем же орудием, которое поразило старика Иова и служанку…
– И ландскнехта? – спросил король.
– О нет, ваше величество.
– А! – протянул король, окончательно заинтересовавшись рассказом.
– Старик Иов, Самуил и служанка были убиты трехгранным кинжалом французской фабрикации. Ландскнехт же убит итальянским стилетом с четырехгранным клинком, оставившим едва заметную ранку. Однако удар нанесен так же, как и первые три, – между лопаток. Смерть наступила тоже сразу.
– Вот это совершенно непонятно, – прошептал король.
– Кроме того, – продолжал старик, – кинжал, который висел на боку убитого ландскнехта, по форме клинка был как две капли воды похож на тот, которым убили купца и его слугу.
– Не следует ли из этого, что убийца переменил оружие?
– Нет, ваше величество! Вероятнее предположить, что убийц было двое. Они убили Самуила Лорио под мостом Святого Михаила.
– Допустим.
– Прежде чем бросить его в воду, они ограбили его, завладели ключом от входной двери, который он носил в кармане, и затем проникли к нему в дом.
– Я начинаю понимать, – сказал король. – Ландскнехт?
– Ландскнехт был одним из убийц. Сообщник убил его, чтобы не делиться добычей, найденной в сундуке.
– Господин староста, – заметил Карл IX, – предъявлять такие обвинения – дело крайне серьезное!
– Ваше величество, – поклонился староста, – я должен предъявить обвинение еще более серьезное…
– Неужели? – заметил король.
– Настолько серьезное, что умоляю: выслушайте меня наедине.
Король, немного взволнованный, дал знак и увлек Иосифа Мирона в другой угол комнаты.
– Говорите! – сказал он. – Я слушаю… Черт возьми, – проворчал он, – все это словно назло. Я бываю голоден раз в год, и как раз в этот день мне помешали поужинать!
Рассказ произвел сильное впечатление на собеседников Карла IX, потому что уже смутно предчувствовались волнения, охватившие впоследствии буржуазию. Царствование Карла IX уже предвещало беспорядки, которые разразились в дальнейшем, – не проходило дня, чтобы парижские купцы или ремесленники не вступали в ссоры с дворянами…
Уже по самой смелости величественного купеческого старосты, дерзнувшего прервать ужин короля и обвинить мужчину, носившего шпагу, можно было угадать в нем человека, протестующего против существовавшего порядка вещей.
Сидевшие за столом не могли слышать их разговора, но следили за ними глазами.
– Господа, – вполголоса сказал де Пибрак, – пахнет грозой; король нахмурил брови, а губы его побледнели – это признак бури.
– Берегись, Рене! – прошептал Ноэ на ухо принцу.
– Купцы становятся непомерно дерзки! – проворчал Крильон. – Послушать их, так из-за одного убитого буржуа придется созвать парламент.
В это время Иосиф Мирон продолжал свой рассказ:
– Ваше величество, пора каким-нибудь строгим указом пресечь дерзость некоторых иностранцев…
– Что вы хотите сказать?
– У несчастного ювелира нашли кинжал итальянской фабрикации, тот самый, которым был убит ландскнехт…
– Вот как! А этот кинжал у вас?
– Да, ваше величество, вот он…
Староста вытащил из-под полы кинжал флорентийца.
Король, вспомнивший, что видел его у Рене и любовался прекрасной чеканкой его рукоятки, вздрогнул.
– Дайте мне кинжал и заканчивайте рассказ, господин староста.
– Рядом с кинжалом, – продолжал Иосиф Мирон, – лежал ключ… убийца забыл эти вещи на стуле. О ваше величество, ключ замечательной работы, таких не делают во всей Франции! Только итальянец…
– Дайте мне ключ, – резко перебил Карл.
Староста покорно подал королю ключ.
– Вам ни к чему, – сказал тот, – называть имена. Идите домой. Даю слово, что преступник понесет наказание.
– Надеюсь, ваше величество, – заметил староста.
Он с достоинством поклонился и вышел.
Король снова занял свое место за столом и не сообщил собеседникам ни слова из разговора со старостой. Помолчав несколько минут, он сказал, пытаясь скрыть свой гнев:
– Господа, я буду очень признателен, если вы никому не передадите того, что слышали здесь. Я хочу разобраться в этом деле до того, как оно получит огласку. Дорогой де Пибрак, предупредите королеву-мать, что я буду у нее сегодня вечером.
Король ел мало, был мрачен и задумчив. Собеседники были явно смущены. Генрих и Ноэ иногда обменивались взглядами.
Наконец король встал из-за стола.
– Идите предупредить королеву-мать, – сказал он Пибраку.
Капитан гвардии молча вышел из комнаты.
– Прощайте, господа, – сказал король, отпуская дворян, которым была оказана честь оказаться с ним за одним столом.
– Черт возьми! – проворчал де Крильон. – Если бы ландскнехт, испортивший настроение короля, не умер, я сам свернул бы ему шею!
Генрих и Ноэ вышли последними.
II
Когда Генрих переступал порог, он заметил пажа, подававшего ему таинственные знаки. Принц подошел к нему.
– В чем дело, Рауль?
– Господин де Коарасс, у меня к вам поручение.
– От кого?
– От Нанси…
– Неужели?
– Да, сударь.
– Что же понадобилось Нанси?
– Она просила передать вам, что мигрень мигрени рознь.
– Отлично!
– И что, быть может, мигрень пройдет, если вы прогуляетесь по берегу.
– В котором часу?
– В десять.
– И это все?
– Все, сударь.
– Ну, тогда спасибо… прощайте!
– Господин де Коарасс, – добавил Рауль, – извините… я забыл…
– Что?
– Я забыл напомнить вам, что вы обещали мне…
– Да, поговорить о вас с Нанси, так ведь?
Рауль покраснел.
– Успокойтесь, – сказал принц, – я не забуду о вас.
Песочные часы показывали только девять часов. «Что же делать до десяти?» – думал принц.
Де Пибрак, исполнивший поручение короля, шепнул Генриху мимоходом:
– Подождите меня, ваше высочество…
Генрих и Ноэ остались в передней и слышали, как капитан гвардейцев сказал королю:
– Ее величество королева-мать в настоящее время находится у принцессы Маргариты.
– В таком случае я пойду к Марго, – ответил король.
– Пойдемте со мной… – выйдя от короля, сказал де Пибрак.
«Бьюсь об заклад, – подумал принц, – Пибрак подозревает, что нам известно больше, чем ему, о ночном происшествии, и он хочет расспросить нас».
Однако принц ошибся. Пибрак не только не угадал, кто убил Самуила Лорио, но и не подозревал, что принц и Ноэ могут быть косвенно замешаны в этом деле.
Капитан привел молодых людей в свою комнату и запер дверь.
– Ваше высочество, король сейчас отправится к королеве Екатерине, которая находится у принцессы Маргариты. Бьюсь об заклад, вам, как и мне, любопытно узнать, что там произойдет. Вероятно, дело касается кого-нибудь из гайдуков королевы-матери.
– Неужели вы не понимаете? – улыбнулся Генрих.
– Не понимаю чего?
– Кто убийца Лорио.
– Ах, Боже мой! Где же была моя голова? Как это имя Лорио не поразило меня до сих пор? Да ведь это тот самый мещанин, чью жену вы вырвали из когтей Рене?
– Да, – кивнул головой принц.
– В таком случае…
– В таком случае Рене больше повезло во второй раз, чем в первый.
– Он похитил жену Лорио?
– Нет! – возразил принц. – Но он убил мужа. Что касается женщины, то она в безопасности.
– Ах, ваше высочество! – сказал Пибрак. – Знаете ли вы, что играете в ужасную игру?
– Я не боюсь Рене.
– Бойтесь его, ваше высочество. Рене, лишенный власти, еще более опасен. Не отступайте… но будьте столь же осторожны, сколь и мужественны, иначе вы погибли.
Де Пибрак отпер книжный шкаф и открыл потайной ход.
– Мной руководит не любопытство, а инстинкт самосохранения. Надо все обращать в орудие обороны и во что бы то ни стало узнать, что произойдет между королевой-матерью и королем.
– Идемте же! – сказал Генрих.
Ноэ остался в комнате де Пибрака, а тот вслед за Генрихом пробрался в темный коридор.
Достигнув покоев Маргариты, Генрих приложился глазом к потайному отверстию в стене.
Принцесса и королева были одни.
– Что могло понадобиться королю в это время? – говорила Маргарита. – Ходят слухи, что он с утра был в прекрасном настроении.
– Я не говорила с ним о государственных делах, – с горечью сказала королева-мать, – а король скучает только тогда, когда с ним говорят о благе королевства.
– Да, потому что политика скучна, – прошептала Маргарита.
Екатерина не успела ответить – раздались шаги, и камердинер доложил:
– Король!
Вошел Карл IX.
Маргарита и королева-мать надеялись увидеть его улыбающимся; заметив его бледность, нахмуренные брови и мрачное выражение лица, они смутились; походка короля была неровной и поспешной.
– Здравствуй, Марго, – сказал он, целуя руку сестры. – Добрый вечер, королева, – добавил он, сухо поклонившись матери.
Королева смотрела на него скорее с любопытством, чем со страхом.
– Ваше величество, – сказал Карл после зловещего молчания, – я пришел предупредить, что на завтра назначено заседание парламента.
У королевы вырвалось движение изумления.
– Я прошу вас присутствовать, так как на нем будут судить важного преступника.
Екатерина с удивлением смотрела на короля.
– Преступник будет приговорен к колесованию, и приговор будет приведен в исполнение через три дня.
– О каком преступнике вы говорите, ваше величество? – спросила королева.
– О воре, о гнусном убийце.
Королева вздрогнула.
– Но воровство и убийство касаются главного уголовного судьи, ваше величество, а не меня, – произнесла она, не теряя спокойствия.
– Вы ошибаетесь, ваше величество.
– Я думала, что ваше величество желает поговорить со мной о каком-нибудь принце или вельможе – заговорщике против государства или королевской власти.
– Заговорщики, ваше величество, – те, кто настраивает против нас народ, пользуясь нашим покровительством, а кроме того, убивает и грабит мирных граждан…
Екатерина Медичи поняла – она вспомнила, что накануне Рене просил у нее разрешения убить одного человека.
– Разве вы покровительствовали какому-нибудь злодею, государь? – спросила она.
– Я?
– В таком случае я слушаю вас, ваше величество.
– Прошлой ночью на улице Урс убили ювелира Лорио, ограбили его и похитили его жену.
– Кажется, он был гугенотом, – холодно заметила королева.
– Он был гражданином Парижа.
– И что же?
– Убийца забыл в доме жертвы кинжал и ключ.
«Какая неосторожность!» – подумала Екатерина.
– Вот они, – сказал король.
Королева не смогла скрыть удивления.
– Неужели вы не узнаете это оружие? – спросил король.
– Нет, ваше величество… как же вы хотите…
– Полно! Посмотрите внимательнее: на лезвии вырезан вензель, принадлежащий вашему любимцу, Рене!
Королева побледнела и нахмурилась.
– Если Рене совершил преступление, я накажу его, – сказала она.
– Нет! – возразил король. – Это вас не касается. Это дело парламента, а затем – палача.
– Ваше величество, Рене – преданный слуга… Он оказал большие услуги… он спас трон, раскрыв заговор…
– Он убийца.
– Однако, ваше величество, зачем из-за какого-то купца…
Королева тут же закусила губу, поняв, что допускает ошибку, которая может оказаться губительной для Рене.
– Из-за купца! – воскликнул Карл IX в гневе. – Из-за купца! Да ведь купцы и мещане, ваше величество, могут свергнуть меня с престола! Не пройдет и недели, как Рене будет колесован на Гревской площади!
И король вышел, прежде чем королева-мать успела удержать его.
Екатерина и Маргарита переглянулись.
– Рене – негодяй, – сказала королева, – и он окончательно поссорил меня с королем.
Маргарита молчала.
– Но он нужен мне, – добавила Екатерина, – и я спасу его.
Королева вышла. Генрих прошептал на ухо Пибраку:
– Пойдем.
– Идемте, – ответил капитан.
Они вернулись в покои Пибрака. Из коридора доносился громкий голос короля.
– По всей вероятности, Рене будет колесован живьем, – заметил Генрих.
Пибрак пожал плечами.
– Король всегда останется королем, но только королева обладает властью.
– Что вы хотите сказать?
– Только то, что парламент оправдает Рене. Парфюмер не будет даже арестован.
Однако Пибрак ошибся.
В дверь постучали.
– Кто там?
– Это я, – раздался голос Рауля.
– Что тебе надо?
– Вас требует король.
– Черт возьми! – пробормотал капитан гвардейцев. – Подождите меня здесь… – обратился он к принцу. – Я сейчас вернусь.
Генрих посмотрел на часы.
– Невозможно, – ответил он, – уже десять часов… Пибрак, я буду вам чрезвычайно благодарен, если вы не будете отворять сегодня вашего шкафа.
Пибрак вошел к королю.
– Ваше величество требовали меня к себе? – спросил он, напуская на себя удивленный вид.
– Да.
– Я весь к услугам вашего величества.
– Пибрак, друг мой, – начал Карл IX, расхаживая большими шагами по кабинету, – возьмите четверых из моих гвардейцев.
– Слушаю, ваше величество.
– Отыщите в Лувре или в Париже Рене-флорентийца.
– Разве вашему величеству угодно гадать по звездам?
– Я хочу наказать убийцу.
Пибрак счел приличным выразить изумление.
– Рене убил купца Самуила Лорио.
– Ваше величество, неужели это возможно?
– У меня есть доказательства.
– Ваше величество приказывает мне арестовать его?
– Конечно.
– Куда я должен препроводить его?
– В Шатле; вы посадите его под арест и скажете тюремщику, что он отвечает головой за Рене…
Пибрак поклонился, сделал шаг к двери, но вернулся.
– Ваше величество, я бедный дворянин, который уже и без того в немилости у королевы-матери! И я погибну завтра же, если арестую любимца ее величества…
– Что? – надменно спросил король.
– Ах, ваше величество! – вздохнул Пибрак. – Если бы вам угодно было послать меня на войну, я охотно бросился бы под пули…
– Что я слышу? Вы боитесь, Пибрак?
– Ваше величество, де Крильон исполнил бы ваше поручение лучше, чем я…
«Моя мать, – подумал Карл IX, взглянув на своего любимца, – самая мстительная из женщин…»
– Ты прав, мой бедный Пибрак, – произнес он, – моя мать не осмелится коснуться Крильона, тогда как ты…
– Я – погибший человек, ваше величество, если арестую этого отравителя.
– Пошли ко мне Крильона, – приказал король.
Несколько минут спустя в покои короля вошел герцог.
– Поручаю вам, – обратился к нему Карл, – арестовать Рене-флорентийца, парфюмера королевы.
– Ваше величество никогда не давали мне более приятного поручения, – вскричал бесстрашный Крильон.
– Я думал бы, как вы, герцог, – сказал Пибрак, – если бы меня звали Крильоном.
– Идите! – сказал король, все еще мрачный и разгневанный.
III
В то время как король отдавал приказ арестовать Рене-флорентийца, Генрих и Ноэ выходили из Лувра; в двадцати шагах от ворот они встретились с человеком, закутанным в плащ и шедшим очень быстро. Светила луна, и человек этот узнал их, так же как и они его.
– Рене! – воскликнул Генрих.
Флорентиец остановился.
– Куда вы спешите, сударь? – спросил Генрих.
Рене был бледен и мрачен; видимо, с ним случилась большая неприятность.
– Извините, господа, – сказал Рене, – я иду в Лувр и очень спешу.
– Неужели?
– Да. Мне надо видеть королеву немедленно.
– Как вы бледны, Рене…
– Вы находите? – пробормотал парфюмер.
– Право, – сказал Генрих, – вы идете с таким видом, точно расстроился наш план, который должен был обеспечить ваше благосостояние или вашу любовь?
– Нет.
– Черт возьми! Если бы вы не помешали мне в моих наблюдениях за звездами третьего дня вечером, то я, возможно, сказал бы, что мешает вашему успеху.
Генрих говорил без тени насмешки. Он так искусно разыграл свою роль, что Рене поддался обману.
– Господин де Коарасс, – сказал он, – со мной случилось большое несчастье, но об этом позже… может быть, вы поможете мне… Однако я должен пойти в Лувр.
– Что случилось, Рене?
– Убили или украли… этого я достоверно не знаю, – моего ребенка.
– Вашу дочь?
– О нет! – возразил Рене. – Молодого человека, которого я воспитал, как сына, и любил…
– Неужели? – воскликнул Генрих с таким простодушным видом, что флорентиец мог бы заподозрить весь мир в похищении Годольфина, но только не его. – Честное слово, Рене! – продолжал Генрих, и в голосе его слышалась дружеская нотка. – Быть может, это глупо с моей стороны – у вас репутация злого человека, кроме того, как мне известно, вы мой заклятый враг…
– Я? Нет! – возразил флорентиец.
– По крайней мере, были моим врагом.
– Я простил вам.
– Правда?
– Боже мой! – воскликнул флорентиец. – Я дал себе слово исправиться. Судьба преследует меня, и я начинаю раскаиваться.
– Но, – продолжал Генрих, – видя вас таким удрученным, я чувствую к вам участие.
Принц сумел придать своему лицу такое чистосердечное выражение, что хитрый итальянец попался в расставленные сети.
– Если бы я и Ноэ могли быть вам чем-нибудь полезны…
Рене колебался.
– Вы предсказали мне столько необычайного, которое уже отчасти сбылось, что я наконец уверился в вашем даре угадывать будущее.
– Я, кажется, утратил свой дар, – сказал Рене. – Звезды со вчерашнего дня ничего мне не возвещают… но если вы поможете найти моего сына…
– Я попытаюсь.
Генрих взглянул на усыпанное звездами небо:
– Какая чудная ночь, Рене! Дайте мне вашу руку.
Флорентиец протянул руку. Генрих взял ее, продолжая смотреть на звезды.
Вдруг он подавил крик.
– Рене, – спросил он, – вы идете в Лувр?
– Да.
– Не ходите туда!
– Почему?
– С вами там случится несчастье…
– Неужели?! Но я должен пойти…
– Не ходите!
– Королева ждет меня…
– Вы ничего не потеряли прошлой ночью?
Рене вздрогнул.
– Я не знаю, что это такое, но я вижу два предмета, форму которых я не могу определить… – продолжал Генрих.
Рене побледнел, вспомнив о кинжале и ключе.
– Не ходите в Лувр, – повторил принц, – потому что вещи, которых я не могу определить… Они принесут вам несчастье. Не ходите туда…
Рене колебался. В этот час каждый вечер ждала его королева-мать, и, хотя перед Рене трепетала вся Франция, Екатерине достаточно было нахмурить брови, чтобы заставить его задрожать.
– Я должен пойти! – сказал флорентиец. – Если моя звезда затмится, значит, так назначено судьбой. Прощайте, господа.
И этот человек, еще накануне надменный, продолжил свой путь с поникшей головой и с отчаянием в душе…
В то время как Генрих и Ноэ сделали вид, будто удаляются от Лувра, Рене вошел туда через маленькую дверь, возле которой на часах стоял швейцарец и через которую днем раньше Нанси провела Генриха к Маргарите.
Рене поднялся по той же темной лестнице. Но вместо того, чтобы пойти по коридору налево, он взял направо.
Обычно Рене входил через дверь, которая вела из уборной в спальню королевы. Дверь эта запиралась только на задвижку. Рене отпер ее и вошел в уборную, затем в спальню.
Там никого не было, но на столе стояла лампа, а бумаги были разбросаны в большом кресле, стоящем перед столом.
«Королева поблизости», – подумал Рене.
Действительно, не успел он прислониться к камину, украшенному гербом Франции, как в соседней комнате раздались шаги королевы-матери.
Екатерина, выйдя от дочери, отправилась к королю. Но король успел запереться в своем кабинете, и часовой, стоявший у его двери, не пропустил королеву.
– Король не принимает, – сказал он.
– Даже меня?
– Именно относительно вашего величества и отдан приказ, – ответил часовой.
Екатерина была вне себя от гнева, когда увидела Рене. Слова замерли на ее губах.
– Ваше величество! – вскричал флорентиец. – Ваше величество, я пришел просить вас о правосудии!
– О правосудии! – воскликнула королева, отступив на шаг.
– Да, ваше величество. Произошло несчастье, – гнева и раздражения королевы Рене все еще не замечал. – Убили или украли – этого не знаю – моего ребенка.
– Право же, мой бедный Рене, – произнесла Екатерина с тем изумительным хладнокровием, которое умеют напускать на себя женщины, – поистине ужасные вещи творятся в Париже!
– Что же случилось?! – спросил Рене, заметив наконец, что королева необычайно бледна, а в глазах ее сверкает ярость.
– В то же время, когда у тебя похищали ребенка, – продолжала Екатерина, – на улице Урс убили купца, старика слугу, женщину и ландскнехта.
– В самом деле? – воскликнул Рене, голос его дрожал.
– Убийца забыл в доме ключ и кинжал…
Рене побледнел как смерть.
– И этот кинжал… – крикнула Екатерина, не в силах сдерживать гнев, – твой, негодяй!
– Ваше величество… – пролепетал флорентиец, – вы разрешили мне…
– Молчи, злодей!
Рене опустил голову. Он весь дрожал.
– На этот раз я не стану покровительствовать тебе. Двор и без того ненавидит меня.
– Но, ваше величество…
– Купеческий староста приходил к королю просить о правосудии; король разрешил, чтобы начался суд…
Рене задрожал еще сильнее.
– Тебя арестуют, осудят и колесуют живьем!
Но Екатерина все же чувствовала сострадание к парфюмеру.
Послушай, – сказала она, – я могу дать тебе только один совет – бежать. Бежать как можно скорее!
На лице ее было написано такое беспокойство, что флорентиец понял – он не должен колебаться. Рене взял плащ и хотел поцеловать руку королевы. Но она оттолкнула его.
– Прочь, убийца! – воскликнула Екатерина.
Опустив голову, Рене вышел. Он пробежал по коридору и достиг калитки, когда швейцарец алебардой преградил ему путь.
– Дурак! – сказал Рене, еще не потерявший свою самоуверенность. – Разве ты не узнал меня?
– Вы мессир Рене, – сказал швейцарец.
– В таком случае пропусти меня.
– Не могу.
– Негодяй!
– Мне так приказано.
– Но ведь ты впустил меня…
– Мне было так приказано.
– Кем?
– Королем.
Перепуганный Рене снова бросился бежать; он поднялся по темной лестнице и вошел к королеве.
– Ваше величество, – сказал он, – меня не пропустили.
– В таком случае, – сказала королева, отворяя ту дверь своей комнаты, которая вела в парадные покои, – ступай сюда; может быть, часовые на главной лестнице не получили этого приказа.
Рене прошел парадные комнаты и дошел до лестницы. Двое часовых охраняли ее.
– Пропустите! – крикнул Рене.
Часовые посторонились.
Внизу стояли еще двое часовых.
– Пропустите! – повторил Рене.
Часовые пропустили его.
«Я спасен!» – подумал он.
Рене перешел двор Лувра и подошел к воротам. В этот час достаточно было постучаться в дверь караульни, чтобы их отперли.
– Отворите! – сказал Рене, постучавшись.
– Кто идет? – спросил швейцарец.
– Я…
– Кто вы?
– Рене…
Парфюмер надеялся, что ему стоит только назвать себя – и ворота откроются.
Но тут из караульни вышел герцог Крильон.
– Сюда! – крикнул он.
На его зов вышел весь караул.
– Милостивый государь, – начал Рене вкрадчивым голосом, – вы, быть может, не узнали меня? Я Рене…
– Арестуйте этого негодяя! – приказал герцог, не удостоив парфюмера ответом. – И потребуйте у него шпагу.
Один из швейцарцев отобрал у флорентийца шпагу, и тот даже не подумал обнажить ее для защиты.
Крильон взял шпагу, вынул из ножен и переломил ее о свое колено.
– Вот как поступают с авантюристами, – сказал он, – которые корчат из себя дворян и позорят людей, состоящих на службе у короля. Закуйте в кандалы этого убийцу! – приказал он.
По знаку Крильона парфюмеру связали руки за спиной веревками.
– Теперь, – продолжал Крильон, – отоприте ворота!
Ворота отворили. Двое швейцарцев стали по бокам Рене.
– Иди, негодяй! – толкнул его Крильон.
Впервые придворный обращался так бесцеремонно с парфюмером, пользовавшимся такой милостью королевы, что каждый боялся прогневить его. Правда, отважного Крильона боялась и сама королева-мать…
– Честное слово, – прошептал герцог, – король дал мне пренеприятнейшее поручение. Но я взялся исполнить его, так как все остальные отказывались.
И двери Шатле раскрылись перед Рене-флорентийцем…
К несчастью для Рене, губернатором Шатле был бесстрашный и неподкупный старый солдат, де Фуронн, ненавидевший всех итальянцев, приехавших во Францию в свите королевы-матери.
– Знаете ли вы этого человека? – спросил его Крильон.
– Конечно, это Рене-флорентиец.
– Это убийца, которого скоро колесуют по приказу короля.
Де Фуронн смерил Рене взглядом.
– Это давно следовало сделать… – сказал он.
– Я поручаю его вам, – добавил Крильон. – Вы отвечаете за него головой.
– Отвечаю, – просто ответил старый солдат.
Войдя в свою темницу, Рене понял, что ему нечего ждать ни пощады, ни сострадания.
– Ах! – прошептал он. – Вот бы мне послушать де Коарасса, проклятого беарнца, умеющего угадывать будущее по звездам…
В то время как двери Шатле закрылись за флорентийцем, Генрих и Ноэ при свете луны сидели на берегу реки в ожидании, когда пробьет десять часов на колокольне Сен-Жермен д’Оксеруа.
– Ноэ, – говорил Генрих, – как ты находишь, неплохо я сыграл роль астролога?
– Неплохо? Превосходно!
– Знаешь, я совершил настоящий подвиг. Неплохо ведь – убедить человека, который слывет колдуном, что я более силен в его науке, чем он сам.
– Однако это опасно.
– На мгновение мне стало жаль его. Но мое сострадание не помогло – он попался в ловушку.
– Я разделяю мнение Пибрака.
– А каково его мнение?
– Что парфюмер выйдет из Шатле, а если не выйдет, то парламент оправдает его.
– О! – протянул Генрих.
– Вот увидите. Рано или поздно он узнает, что мы обманули его…
– Ноэ, мне пришла в голову мысль!
– Неужели?
– И превосходная мысль!
– Какая же?
– Я знаю, как оградить себя от гнева и мести этого проклятого флорентийца.
– Вот как! Говорите же скорее, дорогой Генрих!
– Паола любит тебя, ведь так?
– До безумия!
– Хвастун!
– Да нет же… честное слово!
– Ну так похить ее!
– Черт возьми! Это не шутка!
– Она будет заложницей.
– Где же мы спрячем ее?
– У Годольфина. Он любит Паолу.
– Придумано недурно! – сказал Ноэ. – Я подумаю об этом. И сегодня же вечером разузнаю кое-что.
– Значит, ты идешь туда.
– Еще бы!
В эту минуту пробило десять часов.
– А я, – сказал Генрих, – иду злословить насчет принца Наваррского.
Молодые люди дошли до Лувра, пожали друг другу руки и расстались. Ноэ пошел к мосту Святого Михаила. Генрих же ходил взад и вперед и поджидал Нанси.
Камеристка принцессы вскоре появилась. Она кашлянула, и Генрих подошел.
Он позволил Нанси взять себя за руку и увлечь на темную лестницу. Лестница была еще более темной и, кажется, еще более высокой, чем обычно.
– Мне казалось, – сказал Генрих, – что здесь не так высоко.
– Вы правы.
– Неужели Лувр вырос?
– Конечно же нет!
– В таком случае, принцесса Маргарита…
– Тс!..
– Переселилась на другой этаж?..
– Вовсе нет.
– Так что же?
– Вы слышали, – шепнула Нанси, – что принцы иногда женятся по доверенности?
– Да, слышал.
– Ну так принцесса поступит сегодня вечером так же, как они.
– То есть?
– Сегодня вы встретите на свидании меня.
Нанси отворила дверь и ввела принца в кокетливо убранную комнату.
– Это мое жилище, – сказала Нанси. – Вы можете броситься передо мной на колени, и все, что вы мне скажете, будет передано в точности…
Девушка расхохоталась, закрыла дверь и заперла на задвижку.
– Ну, что же вы! – воскликнула она. – Падайте же передо мной на колени!
Генрих взглянул на нее. Нанси была прехорошенькая.
IV
Белокурые волосы и голубые глаза Нанси вскружили Генриху голову и заставили его забыть на некоторое время и принцессу Маргариту, и прекрасную ювелиршу…
– Черт возьми! – пробормотал он. – Да, я встану на колени!
Он преклонил колено перед Нанси, взял ее руку и поднес к губам.
– Превосходно!.. – воскликнула девушка. – Мой любезный кавалер… садитесь…
Она отняла у него руку. Генрих попробовал было удержать ее, но рука Нанси выскользнула из его ладони, словно угорь.
– Вы прелестны, – сказал Генрих, – и красивы, как ангел.
– Вы находите?
Принц обнял Нанси за талию, но девушка вырвалась и снова расхохоталась.
– Доверие принцессы Маргариты не простирается так далеко…
Эти слова еще больше вскружили голову юному принцу.
– Как это? – спросил он.
– Вы знаете, что я изображаю принцессу Маргариту…
– Я думаю только о вас, – сказал Генрих. – Вы очаровательны!
– Я это слышала не раз.
– И если бы вы полюбили меня…
– Нет, мой прекрасный кавалер. Я не могу…
– Почему?
Принц окончательно потерял голову. Он снова взял Нанси за руку и сел рядом с ней.
– Да потому, что я не светская дама и не принцесса! Я бедная дворянка, у которой только и есть, что белые зубки, белокурые волосы и голубые глаза. Я ищу мужа, а не обожателя, месье де Коарасс.
– Быть может, мы могли бы договориться, – сказал принц.
– Быть может, вы были бы прекрасным мужем, – сказала Нанси, – но я не хочу выходить за вас по трем причинам…
– Неужели?!
– Девушка, приносящая в приданое только свою красоту, не должна выходить за дворянина, у которого, вероятно, нет ничего, кроме шпаги.
Генрих улыбнулся.
– Скажите вторую причину.
– Я не хочу охотиться в чужих владениях…
Генрих вспомнил, как накануне он стоял на коленях перед принцессой Маргаритой.
– Браконьерство имеет свою прелесть, – возразил он. – А третья причина?
– Ах, третья причина самая важная.
– Неужели?!
– Да… и я не скажу вам ее!
– Тра… та… та! – прошептал принц. – Вы признаете себя побежденной.
– Если вы думаете так, то я скажу вам, господин де Коарасс.
– Послушаем!
– Я не вправе располагать собой.
– Боже мой! – воскликнул принц. – Бедный Рауль!
Нанси покраснела.
Генрих взял ее за руку.
– Извините меня, – сказал он, – охотно обманываешь женщину, которую не любишь, и еще охотнее – женщину, которую любишь… Однако это не дает права нарушать обещания. Вы же так очаровательны, что я чуть не забыл своего слова, данного Раулю…
– Я ведь не сказала, что это Рауль.
– Но лицо ваше сделалось таким серьезным, что у меня не остается сомнений.
Нанси опустила голову.
– По крайней мере, не говорите ему об этом, – попросила она.
– Будьте спокойны…
«Какая досада! – подумал Генрих. – Напрасно я обещал…»
– Господин де Коарасс, – начала Нанси насмешливо, – знаете ли, что вы большой ветреник?
– Вот как!
– Да, вы уже десять минут здесь и еще не спросили меня…
– Зачем я здесь, так ведь?
– Именно. Ну так вы здесь потому, что принцесса не могла предвидеть происшествия, взволновавшего весь Лувр.
– Что же случилось?
– Король разгневался из-за убийства на улице Урс.
– Знаю.
– Флорентиец Рене арестован.
– Как, уже?
– Четверть часа назад. Это поручение взялся выполнить герцог де Крильон. Королева-мать ходит то к себе, то к принцессе Маргарите…
– Понимаю. Зачем же вчера…
– Вы слишком любопытны…
– Черт возьми! – воскликнул принц.
– Так как вы узнали мою тайну, – посерьезнела Нанси, – мне лучше стать вашим другом.
– Я и так ваш друг.
– Правда?
– Я вынужден довольствоваться этим, так как Рауль…
– Тс!
Нанси закрыла своей маленькой розовой ручкой рот Генриха.
– Если вы еще раз назовете это имя, то ничего не узнаете.
– Я буду нем. Говорите.
– У принцессы Маргариты вчера не было мигрени, и она ничем не была занята…
– Она могла бы принять меня?
– Конечно.
– Отчего же…
– Отчего женщины капризничают? Принцесса Маргарита боялась…
– Кого?
– Вас…
У Генриха застучало сердце.
– Друг мой, сердце женщины всегда остается загадкой. Сердце принцессы полно странностей и слабостей… Третьего дня вы видели ее высочество в первый раз. На этом балу она присутствовала против своего желания и потом проплакала весь день.
Генрих умел понимать с полуслова.
– Она плакала, глядя в сторону Лотарингии, – сказал он с лукавой улыбкой.
– Возможно…
– А после бала?
– Она уже не плакала, но была задумчива. Вы обещали ей рассказать про наваррский двор.
– Я сдержал свое слово.
– Да, прекрасно сдержали.
– Разве я оскорбил ее?
– Боже мой! – воскликнула Нанси. – Если бы вы ее оскорбили, то не были бы здесь…
– Но отчего же вчера…
– Заговорила совесть, – пробормотала камеристка. – Лотарингия силилась уцепиться за какую-нибудь ветку.
– И что же эта ветка?
– Сломалась.
Генрих покраснел. Нанси рассмеялась.
– Вы любите принцессу Маргариту – так же как она вас.
– Нанси!
– Не оправдывайтесь, мой легкомысленный мотылек. Если хоть раз увидишь ослепительную красоту принцессы Маргариты – неизбежно обожжешь и крылышки, и сердце.
– Милая Нанси, – сказал принц, взяв руку девушки, – так как я не более чем ваш друг, скажите мне: долго ли придется ждать, чтобы увидеть ее?
– Вы здесь в плену до тех пор, пока ее величество не соблаговолит уйти.
– Вы проводите меня?
– Конечно. Я не собираюсь прятать вас здесь.
– А я не отказался бы от этого… – прошептал принц.
Нанси погрозила ему пальцем.
– Я передам это Раулю, и он вызовет вас на дуэль…
Девушка вдруг встала и прислушалась.
– Королева идет к себе! Пойдемте.
Она взяла принца за руку и снова увлекла на темную лестницу.
Комната Нанси находилась на втором этаже Лувра, а покои Маргариты – на первом, как раз под комнатой камеристки.
У Генриха забилось сердце.
Нанси остановилась у потайной двери, которая вела в комнату принцессы.
– Позвольте дать вам совет, – сказала девушка, нагнувшись к уху принца.
– Я слушаю.
– Не выдавайте меня… И я буду служить вам.
Нанси отворила дверь, и принц очутился в комнате принцессы.
Услышав шум, Маргарита подняла голову и заметила Генриха.
Легкая краска покрыла ее щеки. Принцесса приветствовала принца движением руки и сделала знак Нанси.
Камеристка задвинула задвижку на двери, которая вела в парадные комнаты, и вышла через маленькую дверь в коридор.
Маргарита взглянула на того, кого принимала за бедного гасконского дворянина.
Генрих стоял в нескольких шагах от нее в позе самого почтительного и робкого влюбленного. Это понравилось принцессе, кроме того, она получила возможность взять себя в руки.
– Месье де Коарасс, – сказала она, протягивая руку для поцелуя, – как вы счастливы, что вы не принц!..
Генрих улыбнулся.
– Я хотел бы быть принцем, – прошептал он.
– Напрасно. У меня с утра голова трещит от политики, королева-мать не дала мне ни минуты покоя.
Генрих робко приблизился.
– Садитесь, де Коарасс, – продолжала принцесса, – надеюсь, сегодня мне больше не будут надоедать гневом короля и беспокойством моей матушки по поводу Рене…
Генрих сел на скамейку рядом с Маргаритой.
– Вы, кажется, обещали, де Коарасс, рассказать о любви графини де Грамон к принцу Наваррскому, моему будущему супругу?
Вопрос пришелся по душе Генриху – разговор обещал быть веселым.
– Ваше высочество, – сказал он, – графиня де Грамон пользуется во всей Наварре репутацией хорошенькой женщины.
– Я видела ее, – сказала Маргарита.
– Особенно когда ее сопровождает супруг.
– Да, бедный граф стар и некрасив. Но, кажется, его жена позволяет себе…
– Гм! – произнес Генрих.
– Говорят, она без ума от принца…
– Нет, не без ума! Но она его очень любила…
– Как! Разве она его больше не любит?
– Может быть, и любит… Но принц разлюбил ее.
– Что вы говорите, месье де Коарасс?!
– Правду, ваше высочество.
– Значит, они разошлись?
– Кажется, да.
– Но дворянин, только что приехавший из Наварры, которому королева Иоанна д’Альбре поручила засвидетельствовать свое почтение королеве-матери, ничего не говорил об этом.
– Что же он сказал, ваше высочество?
– Он сказал: «Ее величество королева Наваррская, чрезвычайно желающая этого брака, опасается только одного – чтобы страсть принца к графине де Грамон не послужила препятствием к нему.
– Неужели?
– Я заключила, что принц, так же как и я, старается избежать этого брака.
Генрих сделал над собой усилие.
– Если бы принц увидел вас, ваше высочество, то не избегал бы его.
– Де Коарасс, я уже говорила вам, что не люблю льстецов.
Генрих снова покраснел. У него был такой простодушный вид, что Маргарита пришла в восторг и спросила:
– Значит, принц не любит Коризандру?
– Нет, ваше высочество.
– Как давно?
– Почти месяц.
– Вы не знаете, почему так случилось?
– По двум причинам.
– Неужели?
– Во-первых, графиня де Грамон ужасно ревнива.
– Бедная женщина!
– Во-вторых, принц полюбил другую.
– Вот как!
– И странное дело, сказали бы мужья, – он любит ту, которая должна стать его женой.
– Что вы говорите? – вскричала удивленная Маргарита.
– Я передаю вам сплетни и слухи, которые ходят при наваррском дворе.
– Он… любит меня?!
– С тех пор как увидал ваш портрет.
– Ах! – засмеялась Маргарита. – Ваш принц, вероятно, очень быстро увлекается…
– Ему двадцать лет, ваше высочество…
Генрих замолчал и так нежно посмотрел на Маргариту, что у нее сильнее забилось сердце.
– Если бы я увидела этого принца в ботфортах и куртке из толстого сукна, то, ручаюсь, не влюбилась бы…
– Я могу описать его внешность, ваше высочество.
– Нет, не надо. Вернемся к графине. Она, должно быть, в отчаянии…
– На это я ничего не могу ответить вашему высочеству, потому что я уехал из Нерака в то время, когда любовь принца к графине начала угасать…
– А! – протянула немного разочарованная Маргарита.
– Так что я несколько затрудняюсь…
– Знаете ли, – сказала Маргарита, посмотрев на часы, – уже довольно поздно…
Покраснев, Генрих встал.
– Если ваше высочество желает, я завтра могу набросать портрет принца Наваррского.
– Завтра?
Пришел черед Маргариты краснеть. В глазах молодого человека была мольба.
– Хорошо! – сказала она. – Приходите завтра…
Она протянула ему руку, которая слегка задрожала в его руке. Он поднес ее к губам, и рука принцессы задрожала еще сильнее.
Генрих упал на колени.
– Уходите же! – воскликнула смущенная Маргарита дрожащим от волнения голосом. – Нанси! Нанси!
Принц встал, камеристка отворила дверь, взяла принца за руку и увела.
«Нанси сказала правду! – подумал принц. – Маргарита любит меня. Как бы мне хотелось теперь не быть принцем Наваррским…»
V
В то время как Генрих Наваррский шел на свидание с принцессой Маргаритой, Ноэ направлялся к своей дорогой Паоле.
Какое-то странное любопытство подстрекнуло молодого человека зайти к беарнцу Маликану раньше, чем отправиться на свидание.
Ландскнехт никогда не откажется выпить. Первым делом сменившиеся часовые шли в трактиры. А заведение Маликана было одним из наиболее посещаемых, туда не гнушались заходить даже дворяне.
Зал уже был полон посетителей. Одни играли, другие пили. Маликан и хорошенькая служанка Миетта пытались услужить всем. Однако в этот вечер у них был помощник.
К Маликану приехал племянник, искавший работы в Париже. Юноша был одет в беарнский костюм и в красную шапочку; он был красив, как девушка, но несколько застенчив и неловок.
Маликан представил его посетителям, сказав:
– Миетта не могла справиться одна… это мой племянник.
– Красивый мальчик, – заметил один из ландскнехтов. – Сколько ему лет?
– Пятнадцать.
– Как его зовут?
– Нюно. Это имя часто дают у нас в горах.
Нюно тотчас же принялся обслуживать посетителей. Ноэ, войдя в зал, обменялся с ним многозначительным взглядом. Он занял место за свободным столом и потребовал вина.
– Ах! Вот и вы, господин Ноэ! – попробовала Миетта улыбнуться, хотя невольно покраснела.
– Да, – ответил Ноэ.
– А ваш друг?
– Я пришел по его поручению.
– А! – протянула Миетта.
– Как она чувствует себя здесь?
– Прекрасно… посмотрите…
– Дело в том, – сказал Ноэ тихо на беарнском наречии, чтобы его не поняли, – что я боюсь, как бы она себя не выдала.
– Никогда, – возразила Миетта, – ее нельзя узнать в этой одежде.
– Да, но она может изменить себе.
– Вы думаете?
– Боже мой! Если бы она узнала…
– Что? – с беспокойством спросила Миетта.
– О несчастье, случившемся сегодня ночью.
– Где?
– У нее в доме.
– Верно, муж ее взбесился, – сказала Миетта, еще не знавшая о происшествии на улице Урс.
– Увы! Бедняга ничего не узнал.
– Почему?
– Потому что он умер. Его убили…
– Те, кто хотел похитить его жену?
– Именно.
– Боже мой! – воскликнула Миетта. – Было бы лучше предупредить ее…
– Ты права, дитя мое.
Но они спохватились слишком поздно.
Какой-то швейцарец уже ораторствовал в углу залы:
– Ах, господа, сегодня с самого утра на улице Урс стоит длинный хвост народа.
– Однако, – сказал ландскнехт, – кажется, не сегодня справляют память стрельца, которого сожгли за то, что он оскорбил Мадонну, стоявшую в нише на углу улицы.
– Конечно нет, – вмешался мещанин.
– Так отчего же там собралась толпа?
– Потому что там было совершено преступление.
– Преступление?
– Если вам угодно, пусть это будет преступление, – нахально сказал швейцарец, – а по-моему, только небольшой проступок.
– Да что же случилось?
– Убили купца.
Молодой беарнец подошел к столу, где собрались собеседники.
– Невелик грех – убить купца, – сказал ландскнехт, – вот если бы это был ландскнехт…
– Там убили и ландскнехта.
– И служанку…
– И старика еврея!
Беарнец задрожал и побледнел как смерть.
– Так вот почему, – сказал третий солдат, – Мирон, купеческий староста, приходил сегодня в Лувр?
– Быть может, по той же причине герцог де Крильон арестовал парфюмера королевы – Рене-флорентийца.
Беарнец выронил из рук кружку с вином и прислонился к стене, чтобы не упасть.
К счастью, все смотрели на швейцарца и никто не обратил внимания на племянника Маликана. Ноэ и Миетта подошли к нему. Друг принца Наваррского нагнулся к его уху и прошептал:
– Успокойтесь! Будьте осторожны! Речь идет о вашем муже! Он умер.
Сара Лорио смертельно побледнела, однако невероятным усилием справилась с волнением и стала внимательно слушать.
Швейцарец продолжал:
– Этот купец, о богатстве которого ходило столько слухов и который был убит с целью грабежа, сумел так хорошо спрятать свои сокровища, что убийца ничего не нашел.
Сара вспомнила о погребах и подумала, что убийца, конечно, не догадался нажать пружину, открывавшую дверь в стене, за которой скрывались сокровища.
– Значит, купец был богат?
– Очень богат. Он был ювелир.
– Ювелир Лорио? – спросил один из слушателей.
– Да, я вспомнил, его действительно так звали…
Сара, бледная и дрожащая, продолжала прислушиваться. Миетта взяла ее под руку.
– Пойдем наверх, – сказала она.
Сара, волнение которой достигло крайних пределов, поднялась вслед за девушкой на верхний этаж. Туда же направился и Ноэ.
Известие о смерти мужа было так неожиданно для Сары и так поразило ее, что она лишилась чувств, как только вошла в комнату Миетты.
Ноэ и хорошенькая служанка хлопотали около ювелирши, брызгали ей в лицо водой, натирали виски уксусом и наконец привели ее в чувство.
– Завтра вас навестит Генрих, – сказал ей Ноэ, – и расскажет, как все случилось. Не бойтесь ничего. Рене, убивший вашего мужа и намеревавшийся похитить вас, арестован и по приказу короля посажен в тюрьму.
Вопреки запрещениям принца, Ноэ очень нежно поглядывал на хорошенькую беарнку, продолжая разговаривать с Сарой, и уже не раз заставлял ее краснеть.
Раздался сигнал тушить огни.
– Черт возьми! Я так увлекся глазками Миетты, что забыл совсем о Паоле… А Паола ждет меня… К тому же я не прочь узнать, что случилось у флорентийца.
Ноэ поцеловал руку Сары и сошел вниз. Миетта последовала за ним.
– Прощайте, господин Ноэ, – обратилась она к нему.
– Прощайте?
– До свидания – хотела я сказать.
Швейцарцы и ландскнехты, услышав сигнал к тушению огня, вышли из кабачка, и Маликан остался один.
– А что наш узник? – спросил Ноэ.
– Все еще в погребе.
– Ел он что-нибудь?
– Нет. Он плачет… Он сказал, что хочет уморить себя голодом.
«Гм! – подумал Ноэ. – Его на это хватит. Мне пришла в голову чудесная мысль…»
– Маликан!
– Что прикажете, сударь?..
– Зажги фонарь.
– Прикажете пойти с вами?
– Не надо.
– У него бывают припадки ярости.
– Если он будет злиться, я сверну ему шею!
Ноэ спустился вниз и начал пробираться в извилистом погребе под кабачком, где в строгом порядке были расставлены вина. В самом дальнем отделении погреба, за дубовой дверью с тремя засовами, сидел узник, о котором говорил Ноэ.
Друг принца Наваррского отпер дверь и вошел.
Человек, спавший на охапке соломы, вскочил.
У него оставались свободными руки, ноги же были так опутаны веревками, что он не мог не только ходить, но даже стоять.
Человек этот был не кто иной, как Годольфин.
Хрупкое, болезненное, истощенное существо, здоровье которого окончательно пошатнулось вследствие магнетических опытов, которым подвергал его Рене, накануне был похищен Генрихом Наваррским и Ноэ и с завязанными глазами приведен к Маликану, ставшему его тюремщиком.
Годольфин был в полном отчаянии, лицо его было заплакано.
– А! – зло закричал он. – Чего вам еще от меня надо? Почему вы держите меня взаперти?
Ноэ затворил за собой дверь, поставил фонарь на землю, сел на солому, служившую Годольфину постелью, и сказал:
– Я пришел поговорить с вами, дорогой Годольфин, и утешить вас.
– Вы хотите выпустить меня?
Ноэ улыбнулся.
– Пока еще нет, – сказал он.
Годольфин взглянул на него с ненавистью. Он видел в Ноэ не только своего тюремщика, но и соперника, потому что узнал того самого дворянина, который под предлогом покупки духов зашел в лавку парфюмера и рассыпался в любезностях Паоле.
Годольфин очень долго ломал голову над тем, что могло побудить похитить его, и пришел к заключению, что дворянин, влюбленный в Паолу, захотел отделаться от него.
– Чего же вы хотите, – спросил он, – если вы не желаете освободить меня?
– Я хочу побеседовать с вами.
– Я вас не знаю.
– Зато я знаю вас. Вы раб, жертва Рене-флорентийца, и вы ненавидите его.
Годольфин вздрогнул.
– Кто вам сказал об этом?
– Это вас не касается. Но так как вы любите его дочь…
– Вам это сказала Паола! – вне себя от злости крикнул Годольфин.
– Паола ничего не скрывает от меня, – самодовольно ответил Ноэ.
– Я ненавижу вас… – прошептал Годольфин. – Я ненавижу вас!
– Вы ревнуете…
– Если бы я мог выпустить ваши внутренности, выпить вашу кровь… – продолжал Годольфин, окончательно потеряв голову, – я сделал бы это…
Ноэ улыбался.
– Дорогой мой, быть может, мы до чего-нибудь и договоримся. Вы любите Паолу?
– Я готов умереть за нее.
– Ну так будьте довольны тем, что вы сидите взаперти, – смеясь, сказал Ноэ. – Она этим очень довольна.
Шутка вывела Годольфина из себя; он вскрикнул от ярости, а затем погрузился в мрачное молчание.
– Она счастлива, что я здесь? – прошептал он.
– Еще бы! Она освободилась от тюремщика… Неужели вы могли думать, Годольфин, что молодая девушка может любить отца, который держит ее взаперти, и человека, шпионящего за ней по его поручению?
– Я люблю ее… – пробормотал несчастный юноша.
– Зато она ненавидит вас…
– О Господи! – вырвалось у Годольфина.
Ноэ стало жаль его.
– Послушайте, – сказал он мягко, – вы любите Паолу! На что вы надеетесь?
– Ни на что! – пробормотал Годольфин.
– Чего же вы хотите?
– Быть возле нее… Больше я ничего не прошу… Видеть ее, слышать ее голос…
– Годольфин, скажите откровенно, любите вы Рене?
– О! – вырвался у него крик отвращения.
– Вы любите его из благодарности, сыновней любовью?
– Я ненавижу его.
– Правда?
– Клянусь спасением своей души!
– Вы хотите быть свободным не для того, чтобы быть с ним?
– Только для того, чтобы видеть Паолу.
– Хорошо.
– А Рене я ненавижу, – повторил Годольфин.
– Так что, если бы Паола не жила с отцом…
– Я ушел бы от Рене и последовал за Паолой.
– А если бы кто другой поручил вам сторожить Паолу, подобно тому, как это поручил вам некогда Рене?
Годольфин задрожал от радости.
– Что вы этим хотите сказать? – спросил он.
– Я хочу сказать, – продолжал Ноэ, – что Паола очень недовольна тем, что отец держит ее точно в плену. Она хочет освободиться. А так как те, кто принимает в ней участие, не могут постоянно оставаться с ней…
– Ах! – воскликнул Годольфин. – Ах, сударь, если бы вы сделали это…
Голос Годольфина дрожал, он смеялся и плакал в одно и то же время.
Ноэ встал.
– Успокойтесь, – сказал он, – поешьте чего-нибудь. Я вернусь завтра, и, может быть, вы скоро увидите Паолу.
Годольфин заплакал.
– Я люблю ее! Я люблю ее! – бормотал он.
Ноэ с состраданием посмотрел на это жалкое, обездоленное создание, взял фонарь и вышел.
Он застал в кабачке только Миетту.
– Где твой отец, дитя мое?
– Пошел посмотреть, как себя чувствует госпожа Лорио.
– Поклонись ему от меня.
– Как! Вы уже уходите?
Голос девушки слегка дрожал.
– Уже поздно, – сказал Ноэ. – Прозвонил сигнал тушить огонь, дитя мое.
– Да, дверь заперта…
– Я не спал прошлой ночью…
– Я тоже не спала, – сказала беарнка. – Однако…
– Я приду завтра утром… Прощай, хорошенькая землячка.
Он обнял девушку, поцеловал в щеку и ушел, оставив ее в смущении.
«Кажется, мое сердце подвергается опасности в доме Маликана, – размышлял он. – Эта хорошенькая девушка в красном платочке на черных волосах, с плутовскими глазами в конце концов вскружит мне голову. А принц находит, что нечестно соблазнять племянницу человека, готового пожертвовать за нас жизнью… Пойду к Паоле: когда я с ней, меня, по крайней мере, не мучают угрызения совести.
Ноэ старался думать о Паоле, но думал только о Миетте.
– Маликан, – размышлял он, идя по мосту Менял, – человек хороший и преданный, но предан-то он не мне, а Генриху. И Сара любит не меня… И не я… Фу ты! Какие скверные мысли лезут в голову… Скорее к прекрасной Паоле!
Молодой человек прибавил шагу и дошел до моста Святого Михаила.
– Рене в тюрьме, – рассуждал он, – Годольфин в погребе, следовательно, Паола одна. Зачем пробираться под мостом и затем лезть по веревке, если можно преспокойно войти через дверь?
Ночь была темная. Жители, по большей части купцы, давно уже спали. Мост был пуст.
Ноэ подошел к лавке Рене-флорентийца и тихонько постучал.
VI
После третьего удара в дверь тоненький голосок, который молодой человек узнал сразу, спросил:
– Кто там?
– Я, Паола… – ответил Ноэ.
– Вы? – спросила девушка. – Вы?
– Да… отворите… не бойтесь…
Паола приоткрыла дверь лавки:
– Вы одни?
– Совершенно один.
Он проскользнул в лавку и сжал девушку в объятиях. Паола поспешно захлопнула дверь и спросила:
– Как вы решились постучать?
– Я знал, что вы одна.
– О Господи! – воскликнула Паола.
Она увела Ноэ в свою комнату и тщательно заперла все двери.
– Знаете ли вы, что случилось?
– Я только что пришел из Лувра.
– Как из Лувра?
– Я знаю, что Годольфин прошлой ночью не вернулся и ваш отец напрасно ждал его.
– Ах! – вскричала Паола. – Отец в отчаянии и сердится…
– Знаю. Он жаловался королеве.
– Представьте себе, прошлой ночью, как только вы ушли, я легла в постель. Я знала, что Годольфин ушел, и я слышала, как отец вполголоса разговаривал с каким-то неизвестным мне человеком. На нем была надета маска. Я увидала это в щелку. Отец, поговорив с ним несколько минут шепотом, тоже надел маску, и они вышли вместе!
– Я знаю это…
– Откуда вы узнали? – с удивлением спросила девушка.
– Продолжайте, дорогая Паола.
– Я уже спала крепким сном, когда раздался стук в дверь. Это вернулся отец. Я не вставала, думая, что Годольфин дома, но…
– Годольфина не было.
– Нет. Тогда я встала, чтобы отпереть. Отец был бледен и взволнован… Он сказал, что забыл ключ в Лувре… Потом, заметив, что Годольфина нет, он закричал: «О предсказание! Предсказание!» Неправда ли, все это очень странно?
– По крайней мере, для вас.
– А вы что-нибудь знаете?
– Я знаю очень многое.
– О, говорите скорее, – торопила Паола. – У меня появилось очень странное подозрение.
– Подозрение?
– Я подумала, что, быть может, это вы похитили…
– Не договаривайте, милая Паола, сначала выслушайте меня. Я должен сообщить вам ужасные вещи.
– Боже мой! – в ужасе воскликнула она.
Ноэ сел рядом с ней и взял ее за руку.
– Кажется, я говорил, что прихожусь двоюродным братом де Пибраку, капитану королевских гвардейцев.
– Да, и вы бываете в Лувре.
– Каждый день. Сегодня я ужинал с его величеством.
Паола вздрогнула от гордости.
– Вы, должно быть, нравитесь ему, ведь вы очаровательны…
– Вы льстите мне! – заметил Ноэ.
Он поцеловал ее и продолжал:
– Я узнал там очень многое.
– О моем отце? – воскликнула она с беспокойством.
– Ваш отец пользовался милостью королевы-матери, такой милостью, что даже король ревновал его…
– Да, я знаю.
– Такой милостью он был обязан тому, что королева думала, будто он умеет угадывать будущее по звездам. Но когда узнали, что Годольфин…
– Как! – перебила Паола. – Об этом узнали?
– Да. И ваш отец сам виноват в этом.
– Каким образом?
– Он выпил лишнее на балу, и так как пьяный человек часто говорит то, чего не следует говорить, то он и проболтался…
– О Годольфине?
– Именно.
– Какая неосторожность!
– Тогда те, кто был зол на Рене за то, что он пользовался такой милостью…
– Убили Годольфина…
– Нет, только похитили и держат взаперти.
– А вы знаете, где он?
– Увы, нет! Но я узнал кое-что другое.
– Что еще?
– Дорогая Паола, – начал Ноэ, притворяясь, что пытается преодолеть волнение, – я дрожу при мысли, что должен сообщить вам о несчастье…
– О небо! – вскричала Паола. – Отец умер!
– Успокойтесь, он жив.
– Что же случилось?!
– Во время ужина у короля пришел купеческий староста Иосиф Мирон и умолял об аудиенции. Он просил правосудия.
Паола задрожала. Она часто слышала выражения неудовольствия против своего отца.
– Прошлой ночью, – продолжал Ноэ, – убили купца Лорио на улице Урс. У него была хорошенькая жена, в которую влюбились убийцы или, вернее, один из убийц…
Паола дрожала.
– Два дня назад Годольфин во сне говорил об этом мещанине и его жене!
– Боже мой!
– Помните? Его спрашивал ваш отец.
– Что вы еще сообщите мне? – воскликнула Паола.
– Неизвестно, что случилось с женщиной, – продолжал молодой человек, – но купца – он был ювелиром – и двух его слуг нашли убитыми, а сундук был разграблен…
– Продолжайте! – Паолу терзали ужасные предчувствия.
– Убийцы поссорились, вероятно, при дележе добычи. Один из них убил другого, нанеся ему удар сзади. На мертвом убийце был мундир королевского ландскнехта…
Сердце Паолы страшно забилось, она вспомнила, что так был одет вчерашний незнакомый ей посетитель.
– Он был в маске…
– О! – вздохнула Паола, ужас которой возрастал.
– Второй убийца бежал и второпях забыл в доме несчастного купца кинжал и ключ.
Паола помертвела.
Ноэ продолжал:
– Мирон принес эти вещи королю, и король узнал кинжал. Он принадлежит…
– Договаривайте… – пробормотала Паола. – Ради всего святого…
– Это кинжал вашего отца!
– О ужас, ужас! – вскрикнула несчастная девушка.
– Тогда, дорогая Паола, я почувствовал, как мое сердце разрывается на части.
– Ах, мой дорогой!
– В особенности, – продолжал хитрец, – когда я подумал, что нам надо расстаться.
– Расстаться! – вскричала Паола.
– К сожалению!
– Это невозможно!
– Паола, – начал Ноэ тихим и печальным голосом, – ваш отец злодей, и вы должны сделать выбор между ним и мной.
– Боже мой!
– Он ваш отец!.. Вы любите его… Прощайте!
Ноэ сделал вид, что собирается встать, но Паола бросилась ему на шею, обвила его руками и закричала:
– Нет!.. Лучше умереть! Я последую за вами…
Девушка действительно любила Ноэ.
– Вы в самом деле последуете за мной? – растроганно спросил он.
– Даже на край света.
– На край света не надо. А если бы я потребовал, чтобы вы оставили отца?
– Я оставлю его.
– И никогда не увидитесь с ним?
– Никогда.
– Если бы я был вынужден спрятать вас, запереть где-нибудь в отдаленном квартале…
– Я с радостью пойду туда.
– Я буду навещать вас каждый день…
– О, блаженство! – воскликнула девушка.
– Итак, Паола, – сказал Ноэ, – завтра же…
– Ты возьмешь меня с собой?
– Да, завтра, как только наступит ночь, будь готова!
Ноэ ушел.
Паола проводила его до двери, а когда он ушел, упала на колени и залилась слезами.
– О, какой позор!.. – шептала она. – Быть дочерью убийцы!
VII
– О нет! Сударь, если бы я был там, а не последовал за своей госпожой…
– Тебя бы убили.
Вильгельм задумался.
– Откуда ты узнал о том, что случилось? Ведь ты не был на улице Урс с тех пор, как бежал оттуда со своей хозяйкой?
– Если бы мой несчастный хозяин был жив, его подозрения пали бы на меня.
– Однако ты вернулся на улицу Урс?
– Да. Проводив госпожу Лорио, вам известно куда, я во всю прыть помчался к своей родственнице в деревню Шальо.
– Постой! – перебил его Ноэ. – Кем приходится тебе эта родственница?
– Она сестра моего покойного отца.
– Значит, твоя тетка.
– Совершенно верно.
– И она живет в деревне Шальо?
– Да.
– В собственном доме?
– Да, с прекрасным садом. У тетки есть состояние.
– Хорошо, продолжай.
– Ну, так я побежал в Шальо и сказал тетке, что проведу несколько дней у нее, потому что поссорился с Лорио. Тетка любит меня, потому что я ее наследник.
– Не всегда так бывает, – улыбаясь, заметил Ноэ.
– Тетка сказала мне: «Я всегда рада тебя видеть, Вильгельм, и ты можешь оставаться у меня, сколько захочешь». Но, сказав это, она добавила: «А пока вернись в Париж и сходи на улицу Сен-Дени к купцу Жану Мариту, который после смерти твоего покойного дяди, приходившемуся ему двоюродным братом, выплачивает мне ежегодно по пятьдесят пистолей. Сегодня срок». Вы понимаете, что я не мог отказать тетке, тем более что я ее наследник, – продолжал Вильгельм Верконсен. – Однако мне нелегко было вернуться на улицу Сен-Дени, я боялся встретиться с Самуилом Лорио, который мог потребовать у меня свою жену.
– Однако ты был там!
– Да, сударь. Пообедав с теткой, я пошел в Париж. Подойдя к улице Сен-Дени, я увидал толпу, шумно галдевшую, ругавшую дворян и обвинявшую короля и королеву, на улице же Урс, где было огромное стечение народа, я услыхал имя Самуила Лорио. «Бедняга!» – говорили одни. «Он только что умер», – говорили другие. «Где вытащили тело?» – «У Несльского парома». Клянусь, сударь, когда я услышал это, я пробрался сквозь толпу и вошел в дом, куда принесли тело несчастного ювелира. Там я увидел убитых ландскнехта, Марту и Иова. Мадам Сару обвиняли в том, что она бежала с дворянином, который убил и ограбил ее мужа. Я взглянул на стену и понял, что убийцы не нашли потайного хода.
– Стало быть, сокровища ювелира целы?
– Я так думаю.
Ноэ и Вильгельм вдруг услышали шаги: кто-то быстро шел по улице. Они обернулись и увидели принца Наваррского.
Генрих возвращался из Лувра, счастливый, как человек, узнавший, что он любим, и не думал ни о Рене-флорентийце, ни о Ноэ, ни, тем более, о Вильгельме Верконсене.
– Тс! – сказал Ноэ Вильгельму. – Мы поговорим обо всем, когда придем домой.
И он постучал в дверь гостиницы.
Генрих подошел к ним, узнал Вильгельма и крепко пожал ему руку.
Отворили дверь, и Ноэ вошел первый.
Присутствие Вильгельма возбудило любопытство принца.
– Зачем вы пришли сюда? – спросил он.
– Вильгельм окажет нам важную услугу, – ответил Ноэ.
– Вот как! – воскликнул принц.
Молодые люди поднялись к себе и заперлись вместе с приказчиком ювелира.
– Велик ли дом у твоей тетки? – спросил Ноэ.
– Да, дом большой.
– Могут в нем поместиться еще двое?
– Еще бы!
– Двое, не желающих, чтобы их видели и открыли их местопребывание?..
– В Шальо никого не придут искать, – ответил Вильгельм.
– Вы дали мне хороший совет, Генрих, – сказал Ноэ.
– Какой?
– Сделать Паолу заложницей.
– Ну так что же?
– Паола согласна последовать за мной и выполнить то, чего я потребую. А так как Вильгельм знает, где можно ее спрятать…
– Ты только что говорил о двоих…
– Да.
– Кто же второй?
– Годольфин.
– Черт возьми! Не опасно ли это?
– Нет.
– Почему?
– Потому что Годольфин ненавидит Рене и любит Паолу. Он будет стеречь Паолу и даже не подумает вернуться к Рене.
– Быть может, ты прав, – сказал Генрих, – а к тому же, быть может, при помощи Годольфина мы узнаем многое.
Пока Ноэ и принц Наваррский старались вместе с Вильгельмом Верконсеном найти помещение для прекрасной Паолы, в Лувре совершились новые события.
Король Карл IX плохо спал, встал не в духе и потребовал к себе герцога Крильона.
Тот вошел к его величеству, улыбаясь, его лицо выражало удовольствие человека, исполнившего свой долг и в то же время доставившего себе чрезвычайное наслаждение.
– Ну-с, что случилось? – спросил король.
– Приказания вашего величества исполнены в точности.
– Вы арестовали Рене?
– Да, ваше величество.
– Вчера вечером?
– Когда он вышел от королевы.
– Ах, – сказал Карл IX, нахмурившись, – сегодня мне придется выдержать объяснение с королевой.
– По всей вероятности, ваше величество.
– Она пустит в ход все, чтобы вырвать у нас своего любимца. Борьба будет жестокая.
– Ваше величество, когда король чего-нибудь хочет, борьба с ним становится невозможной.
– Я буду непреклонен, друг мой Крильон.
– Ваше величество поступит благоразумно.
– Я часто предупреждал свою мать. Я часто говорил ей: «Берегитесь, ваше величество! Стыдно видеть человека, вышедшего из ничего, как ваш Рене, пользующимся такими милостями, какие вы оказываете ему; он живет роскошнее моих дворян, отравляет мужей, обольщает их жен, грабит, ворует. Когда-нибудь терпение мое истощится и я предам его правосудию».
– И этот день настал, ваше величество?
– Да, друг мой.
– Ваше величество не позволит умолить себя?
– Конечно же нет.
– А если королева заплачет?
– Пусть плачет.
– Она скажет, что Рене – колдун… и что его гибель грозит королевству самой большой опасностью.
– Во Франции колдунов сжигают.
В дверь постучали.
– Кто там? – спросил король.
Рауль приподнял портьеру.
– Что тебе надо, друг мой?
– Ее величество королева-мать умоляет короля дать ей аудиенцию.
– Пусть войдет! – сказал Карл IX.
Крильон встал.
– Останьтесь, герцог! – сказал монарх. – Вы сейчас увидите, могу ли я быть королем…
Королева была печальна, торжественна, вся в черном.
– Ваше величество, я должна поговорить с вами о важных делах.
– Я слушаю вас.
– О делах, касающихся Франции…
– Говорите, ваше величество.
Екатерина взглянула сначала на де Крильона, затем на короля, и взгляд ее, казалось, говорил: «Я жду, пока он уйдет».
– Говорите, королева. Крильон принадлежит к числу людей, при которых можно говорить обо всем.
Герцог поклонился, королева-мать закусила губу.
– Ваше величество, я пришла просить вас освободить человека, оказавшего огромные услуги королевству. Человека, которого я удостоила своей дружбы. Ваше величество, его арестовали вчера… Арестовали и посадили в тюрьму.
– Вы говорите о Рене-флорентийце, королева?
– Да, государь.
– Герцог взял на себя поручение арестовать его.
Де Крильон поклонился.
Екатерина с ненавистью взглянула на него.
– Так это герцог?
– Да, ваше величество, – ответил бесстрашный Крильон.
– По приказанию вашего величества?
– Без сомнения, – ответил король.
– Ах, государь!
Королева была взволнована, в глазах ее блестели слезы.
– Королева, – продолжал Карл IX, – я часто предупреждал, что Рене – презренный убийца, что он доведет когда-нибудь до того, что добрый город Париж взбунтуется и народ сожжет Лувр.
– Рене оклеветали.
– Это разберет парламент.
– Значит… его будут судить.
– И осудят, надеюсь…
Екатерина задрожала.
– Ваше величество, Рене – человек необходимый…
– Быть может, для вас, ваше величество.
– Для престола… Он предугадывает заговоры, которые угрожают французской монархии.
– Следовательно, он колдун.
– Может быть…
– В таком случае, он не нуждается ни в вас, ни во мне, чтобы выйти из Шатле. Для человека, наделенного сверхъестественной силой, не существует ни запоров, ни тюремных стен.
Король улыбался. Екатерина поняла, что решение его твердо.
– Ваше величество, – добавил Карл IX, – я хочу доказать вам, что мое милосердие иссякло и я решил положить предел преступной и гнусной жизни Рене-флорентийца – на Гревской площади; поручаю выполнить мой приказ другу нашему де Крильону. Герцог, назначаю вас королевским депутатом по этому делу и повелеваю вам поддерживать обвинение Рене в убийстве купца Лорио в парламенте, который должен быть собран в понедельник утром; и если Рене будет обвинен, – в чем я не сомневаюсь, – он должен быть колесован на Гревской площади…
Екатерина в отчаянии упала на колени.
– Пощадите! Ваше величество, пощадите! – молила она.
Король поднял ее.
– Бог свидетель, что я готов пощадить невинного, а не преступника.
– Вы отказываете мне, государь?
– Отказываю.
Король сказал это так сухо, что всякая надежда у королевы исчезла.
– Прощайте, ваше величество, прощайте!..
Она вышла, с трудом сдерживая слезы и в последний раз с ненавистью взглянув на Крильона.
– Вы довольны, герцог? – спросил король.
– Очень доволен, ваше величество.
– Я был тверд?
– Непоколебим. Ваше величество поручит мне это дело?
– Конечно.
– И даст мне неограниченные полномочия?
– Без сомнения.
– Могу я устранить членов парламента, которые, как я опасаюсь, могут выказать слабость?
– Можете, герцог.
– В таком случае, ваше величество, вы можете приказать приготовить себе место на Гревской площади, потому что через неделю вы будете присутствовать при казни Рене.
– Да, я буду присутствовать, – сказал король.
Вошел Рауль.
– Что еще случилось? – спросил Карл IX.
– Принцесса Маргарита желает видеть короля.
Принцесса появилась в дверях.
– Ах, это ты, Марго? – сказал король. – Бьюсь об заклад, что я угадал, зачем ты пришла.
– Может быть, ваше величество.
– Ты только что виделась с королевой-матерью?
– Она была у меня.
– И она прислала тебя просить меня помиловать Рене?
– Нет!
– В чем же дело?
– Королева просит дать ей разрешение навестить этого несчастного.
– Это невозможно, Маргарита, дорогая моя!
– Но, ваше величество… только увидеть его.
– Если ваше величество разрешит мне сопровождать королеву, то, я ручаюсь, ее величеству не удастся подкупить тюремщиков… – вмешался герцог.
– Согласен, – ответил Карл IX. – Марго, передай королеве, что она может навестить Рене в тюрьме, но только в присутствии де Крильона.
– Благодарю вас, ваше величество, – сказала принцесса. – Я сообщу королеве это приятное известие.
Король поцеловал руку сестры и сказал, лукаво улыбаясь:
– Неправда ли, беарнский дворянин де Коарасс восхитительно танцует?
– Вы правы, – ответила Маргарита, слегка покраснев.
– И он очень умен.
– Неужели?!
– Это известно тебе не хуже, чем мне, моя бедная Марго! Иди… мы поговорим об этом после…
Маргарита ушла, а король, чрезвычайно довольный, что ему удалось выказать такую твердость, засмеялся.
– Бедная Марго! Напрасно наш кузен герцог Гиз уехал в Нанси.
В то время как королева Екатерина и ее дочь Марго напрасно молили короля пощадить Рене, флорентиец лежал на сырой соломе в самой темной камере Шатле, темницы несравненно более ужасной, нежели Бастилия.
Накануне вечером ему надели кандалы на руки и на ноги, а вокруг пояса пропустили цепь, которую прикрепили к кольцу, ввинченному в стену. Затем отворили окошко, проделанное в двери камеры, и поставили часового, которому Крильон сказал:
– Человек, которого ты будешь караулить, будет предлагать тебе золото и милость королевы, но я даю слово, что прикажу колесовать тебя, если ты осмелишься нарушить свой долг.
– Господин герцог, – ответил часовой, – я солдат, и подкупить меня нельзя.
Этот искренний ответ отнял последнюю надежду у Рене.
Узник провел ужасную ночь, кандалы натирали ему тело и почти не давали пошевельнуться.
Его терзали не только физические страдания, но и душевные муки. Если бы месяц назад, когда он находился в полном блеске своего могущества и славы, его арестовали и посадили в тюрьму, он проклинал бы, ругался, но все же говорил себе: «Не пройдет и трех дней, как королева освободит меня, и я накажу тех, кто осмелился поднять на меня руку».
Месяц назад Рене не сомневался в своей счастливой звезде.
Но на пути ему встретился человек, сказавший то же самое, что некогда предсказала ему и цыганка: брак его дочери с дворянином будет причиной его смерти.
Страшное предчувствие овладело им.
«Годольфин исчез; его, без сомнения, убили, – размышлял флорентиец, – чтобы похитить Паолу… И если похититель дворянин, то я человек погибший…»
Он впал в отчаяние, и не рассчитывал на то, что Екатерина приложит все усилия, чтобы спасти его.
Суеверный итальянец уже видел перед собой членов парламента в красных одеяниях, Гревскую площадь, палача, котел с расплавленным свинцом, железные прутья, которые должны раздробить его кости, лошадей, приготовленных для того, чтобы разорвать его трепещущие останки.
Рене заплакал, а потом впал в апатию, из которой ничто не могло вывести его: ни смена часовых у дверей, ни тюремщик, принесший ему на рассвете кружку воды и кусок хлеба.
Человек, заставлявший трепетать весь двор, отравитель, перед которым все преклонялись, был сейчас ничтожнее последнего бродяги, которому надевают петлю на шею.
Вдруг около полудня хорошо знакомый ему голос вывел его из апатии.
По ту сторону двери герцог Крильон говорил:
– Пожалуйте, ваше величество!
– Какой ужас! – ответил женский голос. – Засадить моего дорогого Рене в такое отвратительное подземелье!
– Это темница для убийц.
– Герцог, клянусь вам, что он невиновен.
Рене вскочил и попробовал разорвать цепи. Он узнал голос Екатерины Медичи. Королева-мать спустилась в отвратительное подземелье, чтобы навестить своего дорогого флорентийца.
– Отворите! – приказал Крильон тюремщику.
– Он вошел первый с зажженным факелом, который воткнул в кольцо, вбитое в стену.
– Бедный Рене! – с волнением сказала королева.
– Велите снять с него цепи! – обратилась она к герцогу.
– Это невозможно, ваше величество.
– Берегитесь, герцог! – сказала Екатерина гневно.
– Ваше величество, – ответил Крильон почтительно, но твердо, – я выполняю приказ короля, моего единственного повелителя.
– Ах, ваше величество!.. – молил Рене. – Прикажите выпустить меня…
– Я не имею власти даже снять с тебя цепи, – со вздохом сказала королева. – Король, сын мой, обращается со мной более жестоко, чем с последним из своих подданных… Герцог, я уже не требую, чтобы сняли цепи с моего бедного Рене, но хочу поговорить с ним наедине.
– Я должен присутствовать при вашем свидании – так приказал король.
– Это уже слишком! – вне себя от гнева крикнула Екатерина.
Бесстрастный Крильон сел у двери.
Королева наклонилась к Рене и шепнула ему по-итальянски:
– Говори тише.
– Вот тебе раз! – пробормотал Крильон. – А я по-итальянски не понимаю…
Королева села на солому рядом с Рене.
– Я напрасно умоляла короля простить тебя. Он непреклонен.
– Я знаю, – ответил Рене.
– Парламент соберется послезавтра, в понедельник.
– Боже мой! – воскликнул Рене, задрожав.
– Тебя подвергнут пытке.
– Ах! Я погиб!
– Однако я не теряю надежды…
В глазах Рене блеснул луч надежды.
– Тебя будут допрашивать под пыткой.
Рене пришел в ужас.
– Если ты мужчина, ты перенесешь пытку и отопрешься от всего. Тогда я, быть может, спасу тебя.
Рене печально покачал головой.
– Я почти уже умер; цыганка сказала правду.
– Цыганка?
Екатерина была суеверна и произнесла это слово со страхом.
– Да, ваше величество, цыганка предсказала мне в детстве, что у меня будет дочь, которая станет причиной моей смерти.
– Что ты говоришь? – спросила Екатерина. – Как может твоя дочь…
– Дочь станет причиной моей смерти в тот день, когда полюбит дворянина, – сказал Рене. – Я приставил к ней молодого человека, которого воспитал, и он караулил ее, как дракон караулит сокровища…
– И что же?
– Вчера его убили или похитили… По всей вероятности, чтобы похитить и дочь.
– Быть может, ты ошибаешься, Рене?
– Ваше величество, со вчерашнего вечера меня преследует эта ужасная мысль.
– Цыганка могла ошибиться!
Рене покачал головой.
– Беарнец сказал мне то же самое.
– Беарнец?
– Да, он так же, как и я, гадает по звездам.
Королева вздрогнула.
– О каком беарнце ты говоришь?
– О де Коарассе.
– О молодом человеке, пользующемся милостью короля?
– Да.
– О том, который избил тебя и запер в погребе?
– О нем, ваше величество.
– Ты говоришь, он гадает по звездам?
– Он рассказал мне такие вещи, которые, кроме меня, никому не были известны, и напугал меня.
– Это странно!.. – пробормотала Екатерина.
– Он предсказал то, что со мной случится…
– Неужели?!
Рене из осторожности не хотел сознаться Екатерине, что он угадывал будущее не по звездам, а благодаря ясновидению Годольфина.
«Ого! – подумала королева. – Нужно поближе сойтись с этим де Коарассом».
Она бросила быстрый взгляд на Крильона. Лицо храброго герцога выражало недовольство человека, с которым говорят на незнакомом языке и который взбешен, потому что ничего не может понять.
VIII
Рассказ Рене о принце Наваррском заставил королеву задуматься.
– Как звали молодого человека, который караулил Паолу?
– Годольфин.
– Ты уверен в нем?
– Как это? – спросил Рене, удивленный этим вопросом.
– Ты вполне доверяешь ему?
– Как самому себе.
– Не изменил ли он тебе?
Вопрос этот вызвал холодный пот у Рене; в голове его как молния сверкнуло подозрение.
Рене подумал, что Годольфин, быть может, знает беарнского дворянина и все ему рассказал. В таком случае Генрих – шарлатан, обманщик и его наука – не более чем мистификация, жертвой которой он стал.
Но он отмел свои подозрения: «Годольфин говорит о моих делах только во время сна; когда же он просыпается, то уже ничего не помнит. Годольфин даже не знает, кто я. Он не знает, но я принес его к себе на руках, обагренных кровью его отца, – беарнец сказал мне и это…»
– Нет, ваше величество, Годольфин не способен обмануть меня. И он не знает того, что сказал мне беарнец.
– Все это чрезвычайно странно, – повторила Екатерина.
– Ваше величество… меня преследует судьба. Умоляю, примите мою дочь к себе, заприте ее, и пусть ни один дворянин не подходит к ней!
– Даю тебе слово, – сказала Екатерина. – Ты выйдешь из Шатле, а я сейчас отправлюсь за твоей дочерью…
– И увезете ее в Лувр?
– Да.
– И запрете ее?
– Обещаю.
– Прикажите отыскать Годольфина, потому что мои враги…
– Его найдут! – воскликнула королева.
В глазах флорентийца блеснул луч надежды.
– Не падай духом! – сказала Екатерина. – Я постараюсь спасти тебя.
– Вы будете просить короля помиловать меня?
– Нет, но я постараюсь, чтобы тебя оправдали.
– У них есть… доказательства…
– Не беда!
– Мой кинжал! И ключ!
– Молчи! – остановила его Екатерина. – Увидим… не погуби только сам себя.
Рене с беспокойством взглянул на королеву.
– Тебя будут допрашивать, пытать.
Флорентиец задрожал.
– Если ты сознаешься, ты погиб.
– А если отопрусь?
– Я спасу тебя.
Королева наклонилась к уху Рене и прошептала:
– Сегодня вечером потребуй к себе духовника.
– Мне могут отказать.
– Никому и никогда в этом не отказывают.
– И этот духовник…
– Он передаст тебе, что ты должен делать.
Королева встала.
– Герцог, я готова следовать за вами. Прощай, мой бедный Рене!
Он поцеловал ее руку, оросив ее слезами.
Крильон постучал в дверь. Тюремщик отпер.
Герцог подал королеве руку.
– Благодарю вас! – надменно отказалась Екатерина. – Посветите мне, герцог!
Де Крильон закусил губу и пошел впереди с факелом.
– Дорогой герцог, – обратилась к нему королева-мать, когда они вышли из подземелья. – Мечтали вы когда-нибудь о шпаге коннетабля?
– Конечно, ваше величество.
– А!.. – сказала королева и многозначительно улыбнулась.
– Только я никогда не думал, – твердо произнес Крильон, – что могу получить ее, способствуя побегу арестанта, вверенного мне.
Екатерина побледнела от злости.
– Вы слишком смелы, герцог.
– Дело идет о моей чести.
– Вы не похожи на… придворного…
– Меня зовут Крильон, – просто ответил солдат.
«Настанет день, – подумала Екатерина, – когда я накажу этого человека».
Она вышла с гордо поднятой головой и презрительным выражением лица из-под мрачных сводов Шатле – простой французский дворянин осмелился ослушаться ее… Носилки ждали у ворот.
Королева простилась с Крильоном движением руки и не пригласила его присесть рядом с собой.
– Прикажите отнести меня на улицу Святого Людовика, – велела она камергеру.
Достигнув середины улицы Святого Людовика, королева приказала носильщикам остановиться у ворот старого дома с решетчатыми окнами и остроконечной черепичной крышей. Она сошла с носилок и постучала молотком в дверь. Дверь отперли.
Екатерина опустила вуаль, вошла одна и затворила за собой дверь.
Она очутилась на большом дворе, на котором трава росла между камнями; к ней подошла старуха служанка.
– Я хочу видеть президента Ренодена, – сказала Екатерина Медичи.
– Пожалуйте за мной, – ответила служанка.
Екатерина поднялась по лестнице со стершимися ступенями и чугунными перилами и вошла в кабинет. Хозяин его, еще не старый, сидел за столом; глаза у него были живые и проницательные, нос острый, лицо выражало злость и хитрость.
Служанка вышла и затворила за собой дверь. Королева откинула вуаль, и президент Реноден вскрикнул и вскочил, охваченный удивлением и почтением.
– Ваше величество!.. – пробормотал он.
– Господин Реноден, – обратилась к нему королева, приложив палец к губам, – я назначила вас президентом, и от вас зависит, предать ли человека суду.
– Ваше величество осыпали меня милостями, и преданность моя безгранична, – ответил с низким поклоном судья.
– Я пришла испытать ее.
Екатерина рассказала обо всем, что случилось.
– Что нужно сделать, чтобы спасти Рене? – спросила она.
– Ваше величество, – ответил Реноден. – Я президент в Шатле, но не в парламенте. Я допрашиваю подсудимых, однако у меня нет права судить их.
– Вы станете президентом парламента через три месяца, – холодно возразила королева, – а до тех пор…
– А до тех пор – надо спасти Рене.
– Надо! – подтвердила королева.
– Парламент подкупить невозможно! К тому же ваш любимец навлек на себя всеобщую ненависть.
– Я знаю.
– Парламент будет рад обвинить его.
– Это мне известно. Но допрашивать его будете вы?
– Да, ваше величество.
– А если он ни в чем не признается?
– Даже невинные сознаются под пыткой.
– Рене отопрется.
– Если бы я был один с палачом, я мог бы уменьшить пытку, – продолжал Реноден, – но ассистентами будут двое судей, которых нельзя подкупить.
– У Рене хватит мужества не сознаться ни в чем.
– Однако его будут судить, а кинжал и ключ – веские улики…
– Вы правы, – сказала королева.
Вспомнив, что она забыла рассказать о Годольфине, она передала все, что знала, об исчезновении молодого человека.
– Ах! – сказал Реноден. – Если бы отыскать его и заставить сознаться, что это он совершил преступление и украл кинжал у Рене…
– Прекрасная мысль! – воскликнула Екатерина. – Но где найти его?
– Ваше величество, – сказал президент, – я найду способ спасти Рене… даю вам слово… но с условием…
– Каким?
– Он должен твердо вынести пытку.
– Он вынесет ее.
– Можете вы, ваше величество, принять меня в Лувре?
– Когда?
– Сегодня вечером, если возможно…
– Прогуливайтесь мимо ворот по берегу реки и ждите, когда пробьет девять часов. К вам подойдет человек, который проводит вас ко мне.
– Я приду, ваше величество.
Королева встала.
– Прощайте, Реноден, – сказала она, – до вечера.
Президент почтительно проводил ее до двери.
– На мост Святого Михаила! – приказала королева.
Носильщики прошли по острову Святого Людовика, вышли на улицу Барильери и остановились у лавки Рене-флорентийца.
Час назад Паола сидела одна в лавке, ставни которой были закрыты весь день. Притаившись за дверью и приложившись глазом к небольшому отверстию, через которое она могла видеть, что происходит на улице, она с ужасом прислушивалась к разговорам купцов.
Лавка парфюмера уже второй день была заперта, и соседи, привыкшие ежедневно видеть Годольфина, а нередко и Паолу, удивлялись, что не видят ни его, ни ее. Накануне видели Рене бледного, хмурого, смотревшего в обе стороны моста. Сегодня же не было никого…
– Верно, Рене надоело держать лавку, – сказала хорошенькая купчиха. – Ведь он входит в Лувр, как в свой дом.
– Бьюсь об заклад, – сказал суконщик, – что с ним случилось несчастье.
– Что же с ним может случиться?
– Вчера вечером, я видел на углу улицы Урс целую толпу и слышал, как произносили имя Рене.
– Что же это доказывает?
– Один мещанин сказал: «На этот раз король накажет его…»
– Вот оно что! – заметила купчиха.
Рассказчик продолжал:
– Я подошел, чтобы послушать, но мещанин сказал: «Молчите! К нам подходит башмачник с моста Святого Михаила. Тс!..» Я торопился и потому пошел дальше.
– Однако странно, что не видно Годольфина! – повторила купчиха.
– И прекрасной Паолы, которая задирает нос перед нами…
Подошел еще купец.
– Лавка заперта!.. Теперь я вижу, что меня не обманули…
– Что же такое тебе сказали?
Все с любопытством обернулись к вновь прибывшему.
– У меня есть двоюродный брат – солдат. Он ландскнехт, потому что он немец, как и я. Только что я встретил его, и он рассказал, что с тремя товарищами получил приказ арестовать Рене.
– О-о! – раздалось со всех сторон.
– Так как мой брат был навеселе, я подумал, что он шутит, тем более что он говорил о герцоге де Крильоне…
– Разве герцог тоже арестован?
– Нет, напротив, это он арестовал Рене.
– За что?
– Говорят, Рене убил купца на улице Урс.
– Это верно! – вскричал башмачник. – Верно…
Паола, дрожа всем телом, прислушивалась к тому, что рассказывали о ее отце, как вдруг услышала топот копыт. Купцы, столпившиеся на мосту, увидели носилки, по сторонам которых шагом ехали два всадника. Оба были в масках; их богатая одежда и прекрасные лошади свидетельствовали о том, что они люди знатные.
Шествие остановилось, к великому удивлению зевак, перед лавкой Рене-флорентийца.
Толпа расступилась, один из всадников слез с лошади и постучал в дверь рукояткой шпаги.
– Кто там? – раздался голос Паолы.
– Я… Отворите, – сказал всадник.
Зеваки увидели, как дверь приоткрыли и всадник проскользнул в лавку.
– Прочь! Бездельники! – прикрикнул другой всадник. – Какое вам дело до того, что происходит здесь?
Испуганные купцы отошли, но не спускали глаз с носилок. Немного погодя они увидели, как дверь лавки отворилась и дворянин в маске вышел оттуда под руку с женщиной. Она тоже была в маске, но все узнали ее – это была Паола.
Всадник помог ей сесть в носилки, вспрыгнул в седло и поехал с левой стороны носилок; товарищ его ехал справа, и весь поезд направился к мосту Менял, а оттуда поехал по правому берегу Сены.
Купцы опять сошлись в кучу.
– Вот птичка и улетела! – сказала купчиха.
– Этим должно было закончиться. Красивой девушке нужен красивый мужчина, – заметил эльзасец.
– Рене в тюрьме; значит, все к лучшему.
Но удивлению купцов не не было предела, когда через несколько минут после отъезда Паолы со стороны улицы Барильери показались другие носилки; в них находилась Екатерина Медичи.
Королева-мать не хотела, чтобы ее узнали, и носилки у нее были самые простые. Купцы не подозревали, что дама, вышедшая из носилок и постучавшая в дверь лавки, – сама Екатерина Медичи, мать короля. Королева постучала, но ответа не последовало. Она постучала сильнее. По-прежнему все было тихо.
Екатерина подошла к зевакам.
– Извините, друзья мои, – обратилась она к ним. – Кажется, это лавка парфюмера Рене?
– Да, сударыня.
– Его нет дома?
– Говорят, он в тюрьме, – сказала хорошенькая купчиха.
– А его дочь?..
– Ах, вы опоздали, сударыня! – ответила купчиха.
– То есть?
– Четверть часа назад два господина увезли красавицу Паолу.
Екатерина подавила крик ужаса; она вспомнила о беспокойстве Рене, о том, что он рассказал ей.
«Не права ли флорентийская цыганка и не обречен ли уже на смерть мой дорогой Рене?» – подумала суеверная итальянка.
Предсказание, по-видимому, должно было скоро исполниться.
IX
Носилки, в которых ехала Паола, доехали до квартала Святого Павла и затем до ворот Святого Антония.
– Шутка сыграна, – сказал всадник, ехавший по левую сторону носилок. – Вылезайте, дорогая Паола. Если даже и пойдут по следам носилок, все равно ничего не узнают.
Паола вышла, а всадник нагнулся к ней, схватил ее за талию, поднял и посадил к себе на лошадь.
В это время другой всадник сказал носильщикам:
– Друзья мои, вы можете вернуться; вы нам больше не нужны.
Он бросил им четыре экю, и носильщики через ворота Святого Мартина вернулись в Париж.
Ноэ и Генрих поскакали во весь опор по направлению к Шарантону мимо монастыря Святого Антония. Но через четверть часа бешеной скачки они повернули назад и поехали по тропинке вдоль городской стены в северном направлении.
Паола все еще сидела в седле Ноэ.
Доехав до Монмартрских ворот, всадники остановились. Генрих спрыгнул с лошади и помог слезть Паоле.
Итальянка, поставив ногу в стремя, вскочила на лошадь Генриха.
– Прощайте, до вечера… – сказал Генрих другу.
Ноэ и Паола поскакали вдоль стены, а Генрих снял маску и вернулся в Париж пешком через Монмартрские ворота. Он шел к Лувру. На берегу Сены около Луврских ворот он догнал носилки, двигавшиеся в одном направлении с ним. Сидевшая в носилках женщина высунула из дверцы голову, и принц узнал Екатерину Медичи.
Генрих поклонился очень низко и посторонился, чтобы пропустить носилки.
Но королева махнула ему платком.
– Господин де Коарасс! – сказала она.
Генрих подошел.
– Вы идете в Лувр? – спросила королева.
– Совершенно верно, ваше величество.
– К королю?
– Ваше величество изволит насмехаться надо мной; я слишком ничтожный дворянин, чтобы иметь право запросто входить в королю. Я иду к де Пибраку, своему двоюродному брату…
Королева внимательно посмотрела на Генриха и нашла, что вид у него самый простодушный и естественный.
– В таком случае попрошу вас побыть несколько минут у Пибрака и подождать, пока я пришлю за вами.
– За мной… ваше величество?
– Я только что видела Рене, – сказала королева.
Генрих вздрогнул, но лицо его осталось бесстрастным.
– Рене сказал, что вы обладаете замечательным даром угадывать по звездам.
– Вашему величеству, без сомнения, известно, что я беарнец.
– Да.
– Я долгое время прожил в Пиренеях среди пастухов и цыган, занимающихся некромантией и хиромантией, и они посвятили меня в свою науку…
Генрих говорил с таким убеждением, что произвел сильное впечатление на королеву.
– Но я должен предупредить ваше величество, что, хотя я иногда угадываю, часто и ошибаюсь. Наука эта еще не вполне ясна для меня. Часто я иду ощупью, и достаточно малейшего препятствия, чтобы сбить меня с пути, то есть заставить погрешить против истины.
– Однако вы сказали правду Рене.
– Неужели?
– Да, де Коарасс, идите к Пибраку и ждите, пока я пришлю за вами. Я иду сейчас к принцессе Маргарите, а затем к себе. И хочу посоветоваться с вами, де Коарасс.
И королева отправилась в Лувр.
Генрих встретил Пибрака, осматривавшего пост швейцарцев.
– Пойдемте, – живо сказал ему принц, – проведите меня скорее к себе… это необходимо.
– Пойдемте!
Он провел принца по маленькой лестнице.
– Заприте дверь на задвижку, – сказал Генрих, – и не отпирайте, если постучат.
Он подбежал к шкафу, отворил его и поспешно проскользнул в потайной ход, оставив Пибрака в совершеннейшем изумлении.
Когда принц приложил глаз к отверстию в стене, королевы в покоях принцессы Маргариты не было.
Маргарита была с Нанси.
Прекрасная принцесса, лежа на оттоманке, подбрасывала своей маленькой ножкой красную атласную туфельку и грустно смотрела на камеристку, которая, сидя на скамейке, пришивала банты к платью принцессы.
– Ты думаешь, он любит меня? – спросила Маргарита.
– Я уверена в этом, ваше высочество.
Маргарита вздохнула.
– Господи! Как печально положение принцев… Принцы – рабы, дитя мое. Они не имеют права ни любить, ни быть любимыми, ни плакать, ни радоваться.
– Ваше высочество, вы преувеличиваете…
– Ты думаешь? Если бы я могла располагать собой, то вместо того, чтобы выйти замуж за этого противного принца Наваррского, стала бы простой дворянкой и отдала свою руку…
Нанси улыбнулась.
– В жизни бывают странные предчувствия, – продолжала Маргарита. – Когда я увидела его впервые неделю назад, я почувствовала необъяснимое волнение… и услышала внутренний голос, говоривший: «Этот человек сыграет важную роль в твоей судьбе».
Принц с радостью слушал признания Маргариты, но они были прерваны стуком в дверь. Вошла Екатерина. Она была бледна и взволнована.
Королева сделала знак Нанси, и камеристка немедленно вышла.
Екатерина не любила дочь; в жизни у нее была только одна искренняя, серьезная привязанность – к младшему сыну, герцогу Алансонскому. Но вследствие привычки или, быть может, потребности высказаться она приходила к дочери и поверяла ей свои горести.
Маргарита знала, что королева навестила Рене в тюрьме.
– Ну что, ваше величество? – спросила она.
– Ах! – вздохнула Екатерина. – Это ужасно… его заковали в цепи! Он сидит в сырой тюрьме! Король приказал, чтобы с ним обращались как можно суровее. Однако я надеюсь спасти его, – прошептала королева.
– Неужели! – воскликнула Маргарита.
– Но одно странное обстоятельство сильно расстроило меня.
Екатерина передала рассказ Рене о предсказаниях цыганки и де Коарасса.
Если бы королева была не так сильно взволнована, она заметила бы, как Маргарита сначала покраснела, а потом побледнела.
Принцесса ничего не знала о разговорах, происходивших между Рене и принцем, и его дар ясновидения глубоко поразил ее.
Королева продолжала:
– Я сначала думала, что гасконец – обманщик, но оказалось, что он рассказал Рене такие вещи, которых, кроме него, никто не знал.
– Неужели это правда? – воскликнула расстроенная принцесса.
– Он предсказал так же, как и цыганка, что его дочь станет причиной его смерти…
– Какой вздор!..
– …когда полюбит дворянина. Это предсказание так сильно поразило Рене, что он умолял меня увезти его дочь в Лувр и охранять ее. Но, прежде чем отправиться за Паолой, я заехала к Ренодену, президенту Шатле, который допрашивает преступников. Реноден обязан мне всем, и он обещал приложить все усилия, чтобы спасти Рене.
– Реноден – не парламент, – заметила Маргарита.
– Он обещал найти способ.
– Какой?
– Пока еще не знаю, но он найдет его. Я жду его сегодня в девять часов вечера. Итак, из Шатле, – продолжала королева, – я отправилась к Ренодену и уже от него на мост Святого Михаила.
– И что же?
– Паолу похитили.
Маргарита сделала жест удивления.
– За четверть часа до моего прибытия носилки в сопровождении двух всадников в масках остановились перед лавкой Рене; дверь отворилась, и Паола села в носилки.
– Это странно! – пробормотала Маргарита.
– Тогда у меня явилось новое подозрение; я вспомнила, что у де Коарасса, уверяющего, будто он умеет гадать по звездам, есть товарищ, так же, как и он, двоюродный брат Пибрака, и я подумала: уж не они ли похитили Паолу?
– Не может быть! – воскликнула принцесса, у которой сердце защемило от ревности.
– Если мое предположение верно, то Паола любит одного из них, – продолжала Екатерина, – и обманывает отца… В таком случае легко объяснить мнимый дар этого дворянчика.
– Действительно, – пробормотала Маргарита.
– Но это невероятно, – продолжала королева, не обращая внимания на возрастающее волнение дочери.
– Вы… думаете? – спросила с глубоким вздохом Маргарита.
– Я спросила, по какой дороге направились носилки.
– И последовали за ними?
– Да, до ворот Святого Антония. Там я встретила носильщиков и носилки, но уже пустые. Один из всадников посадил Паолу к себе в седло, и они поскакали по шарантонской дороге. Носильщики сильно устали. Было бы безумием преследовать людей, едущих на свежих лошадях. Я повернула в Лувр.
– Как же вы узнали, ваше величество, – спросила Маргарита, – что де Коарасс не принадлежит к числу похитителей?
– Я встретила его у ворот Лувра, идущего пешком и направлявшегося к Пибраку.
Лицо Маргариты просветлело.
– Следовательно, – прошептала королева, – этот человек сказал правду: он предсказал, что, когда дочь Рене будет похищена дворянином, флорентиец подвергнется смертельной опасности.
– Все это очень странно, ваше величество! – заметила Маргарита.
Екатерина была в отчаянии.
– Король неумолим, – сказала она, – и если Реноден не найдет способа…
– Реноден человек изворотливый, он сумеет найти выход, – возразила Маргарита, пытаясь успокоить королеву.
– Коарасс колдун, и я хочу посоветоваться с ним.
– Вы решились на это, ваше величество?
– Да, – подтвердила королева, – я хочу узнать… Нанси! Нанси!
Девушка не отвечала. Маргарита дернула за сонетку, проведенную в верхний этаж. Нанси, услышав звонок, сошла вниз.
– Дитя мое, – обратилась к ней Екатерина, – пойди к де Пибраку…
– Слушаю, ваше величество.
– Там ты увидишь его двоюродного брата де Коарасса.
– Слушаю, ваше величество.
– И проводишь его в мой кабинет.
Нанси поклонилась и вышла.
Генрих вышел из своего убежища, вернулся в комнату Пибрака, запер шкаф и сказал капитану гвардейцев:
– Отодвиньте задвижку… сейчас войдут.
Пибрак с удивлением взглянул на принца.
– Я расскажу вам все потом, – сказал Генрих, – теперь невозможно… нет времени…
Секунды через три Пибрак услышал, как постучали в дверь.
Вошла Нанси.
Генрих, сидя в глубоком кресле, небрежно перелистывал книгу об охоте.
– Господин де Коарасс, – сказала хорошенькая камеристка, – не угодно ли вам последовать за мной?
– Куда же вы меня поведете, прелестная девица? – спросил принц.
– К королеве Екатерине.
– К королеве! – воскликнул Пибрак.
– Королева узнала, что я занимаюсь некромантией. До свидания, кузен.
Принц последовал за Нанси.
В большом зале, примыкавшем к комнате Пибрака, где никого не было, Генрих остановился.
– Милая Нанси, мы, кажется, друзья…
– И союзники, господин де Коарасс.
– Ты знаешь много моих тайн…
– А вам известна моя…
– Я хочу довериться тебе.
– В чем дело? Говорите…
– А ты не… разболтаешь?
– Я буду нема, как дверь тюрьмы.
– Хорошо!
– Вы хотите поверить мне тайну, господин де Коарасс?
– Почти.
– Говорите!
– Как только ты проводишь меня к королеве, пойди к принцессе Маргарите и скажи ей: «Ваше высочество, Генрих де Коарасс умоляет вас не верить, что он колдун».
– Вот как! – воскликнула Нанси.
– «Он такой же колдун, как вы и я. Он умоляет ваше высочество подождать до вечера… он объяснит вам все».
– Отлично!
– Однако, – заметил принц, – добавь, что эта тайна чрезвычайно важна и де Коарасс рискует головой…
– Что вы говорите! – воскликнула изумленная камеристка.
– Я сказал тебе половину правды, дитя мое. Но ведь ты – мой друг.
– Без сомнения!
– И ты передашь это, как будто это истинная правда. Принцесса Маргарита будет молчать… и примет меня сегодня вечером…
Нанси подмигнула Генриху и проводила в кабинет королевы. Несколько минут спустя вошла Екатерина Медичи. Генрих притворился смущенным.
– Садитесь, де Коарасс, – сказала королева.
– Ваше величество… в вашем присутствии… я не осмелюсь.
– Де Коарасс, – повторила королева, – здесь нет ее величества… Вы колдун, а я несчастная женщина, которая просит вас погадать ей.
Генрих выдержал пристальный взгляд королевы.
– Итак, вы умеете гадать по звездам?
– Весьма мало…
– Вы предсказываете будущее?
– Я часто ошибаюсь, ваше величество…
– Но вы узнаете события, закрытые завесой прошлого?
– Благодаря некоторым кабалистическим приемам мне иногда открываются события, если они не слишком отдалены.
– Де Коарасс, вы только что видели, как я вернулась в Лувр?
– Да, ваше величество.
– Можете вы сказать мне, откуда я вернулась и что я делала по дороге?
– Попытаюсь, ваше величество.
– Дать вам руку?
– Да, ваше величество… но сначала…
Генрих встал и бросил рассеянный взгляд вокруг. Наконец взор его остановился на флаконе с какой-то черноватой жидкостью.
– Что это такое, ваше величество? – спросил он.
– Это симпатические чернила, – ответила королева.
Генрих взял флакон и поставил его на стол, перед которым сидела королева.
– Теперь, ваше величество, позвольте мне зажечь свечу и задернуть занавеси.
Генрих задернул занавеси, зажег свечу, поставил ее на стол и сел. Потом, взяв левой рукой флакон с симпатическими чернилами и поставив его между собой и пламенем свечи так, чтобы видеть жидкость насквозь, он сказал королеве:
– Теперь я попрошу дать мне вашу левую руку.
Королева протянула руку, а принц с важным и торжественным видом стал смотреть на жидкость.
X
Генрих прекрасно разыгрывал роль колдуна, но женщину, менее суеверную, чем королева, ему едва ли удалось бы обмануть.
– Ваше величество, – сказал он наконец, – я вижу, как вы идете в подземелье при свете факелов, которые несут перед вами два человека.
– Где находится подземелье? – спросила королева.
– Недалеко от Сены.
– Совершенно верно, – сказала королева.
– Ваше величество входит в темное и смрадное помещение; на земле лежит человек.
– Правда.
– Другой человек садится недалеко от вашего величества.
– Кто он?
– Лицо его в тени… я не могу разглядеть его.
– А… другой?
– Это Рене, – помолчав, ответил принц. – Подземелье, где находится ваше величество, – по всей вероятности, Шатле.
– Правда, – подтвердила удивленная Екатерина. – Что же я говорю Рене?
– Вы наклонились к нему и говорите вполголоса… вы говорите о человеке, которого я знаю…
– Кто же он?
– Позвольте…
Генрих снова начал внимательно рассматривать руку королевы, затем взглянул на флакон.
– Странно! – воскликнул он. – Этот человек – я сам!
Взволнованная, королева прошептала:
– Все это правда, де Коарасс.
– Рене говорит обо мне с ужасом, – продолжал принц.
– А… я?
– Вы! Я вижу, как вы нахмурили брови… Вы, кажется, рассердились на меня… вы называете меня обманщиком.
Последние слова принца уничтожили малейшие сомнения Екатерины. Для того чтобы рассказать все это, Генрих должен был или находиться в тюрьме, или присутствовать при разговоре королевы с Маргаритой.
– Страннее всего то, ваше величество, что вы говорите с Рене на языке, которого я бы не понял, если бы услышал его.
– И однако… вы поняли его?
– С помощью флакона.
Королева была поражена. Никогда шарлатанство Рене не давало таких результатов.
– Вы даете обещание Рене, – продолжал принц.
– Какое?
– Спасти его!
– И вы думаете, – спросила королева, смотревшая теперь на Генриха, как на оракула, – вы думаете, что я сдержу его?
– Да, ваше величество, – решительно ответил Генрих.
Королева вздохнула.
– Скажите мне, каким образом я могу это сделать?
Этот вопрос немного смутил Коарасса. Он закрыл глаза и некоторое время как будто совещался с таинственным миром, затем открыл их и устремил взор на флакон. Потом он опять взял руку королевы:
– Ваше величество, я вижу, как вы проходите через мост.
– Куда я направляюсь?
– Вы входите в мрачную, безлюдную улицу, затем я вижу вас с каким-то человеком…
– Кто он?
– Он весь в черном. Это судья.
– И что же этот судья? – спросила королева с беспокойством.
– Я вижу, как он идет… он приближается…
– Куда?
– Сюда.
– Зачем он идет?
– Он хочет сообщить вам, как вы можете сдержать свое обещание… Он спасет Рене!
– Вы уверены? – спросила королева.
– Я вижу это во флаконе.
– А когда он придет?
– Я постараюсь определить это по возможности точнее.
Генрих встал, взял свечу и подошел к песочным часам, стоявшим на камине. Он поднес к часам флакон и после минутного раздумья сказал:
– Судья придет вечером, между девятью и десятью часами.
– Правда, – прошептала королева.
Смущенная, она смотрела на принца блуждающими глазами и не решалась расспрашивать его.
– Вашему величеству не угодно более ничего узнать? – спросил Генрих.
– О нет! – ответила королева.
Генрих сел около стола и взял руку Екатерины.
– Что вы видите на мосту Святого Михаила? – спросила королева.
Генрих долго молча смотрел на флакон.
– Я вижу толпу народа, – сказал он наконец, – собравшуюся перед лавкой Рене.
– Лавка открыта?
– Нет, закрыта.
– И это все?
– Приближаются носилки и два всадника.
– И вы их знаете?
– Нет, ваше величество. И я не вижу их лиц.
– Отчего?
– На них надеты маски.
– Кто сидит в носилках?
– Носилки пусты.
– Продолжайте смотреть… Что, в них все еще никого нет?
– Нет, один из всадников слез с лошади; дверь лавки отворили. Оттуда выходит женщина.
– Кто же она?
– Это дочь Рене… Она садится в носилки… Носилки пускаются в путь.
– Следуйте за ними.
– Они переходят мост в Ситэ, затем переходят Сену еще раз… Направляются вдоль реки.
– Вниз по реке?
– Нет, вверх… Они выезжают из Парижа. Позвольте! – воскликнул Генрих. – Они останавливаются… дочь Рене выходит… садится на лошадь к одному из всадников. Всадники пускаются в галоп.
– Где они?
Генрих закрыл глаза, затем взглянул на флакон и снова закрыл их.
– Они скачут, – сказал он. – Скачут… вверх по Сене… Наступает ночь… Я ничего не вижу.
– Смотрите, смотрите!
Генрих покачал головой.
– Ночь… – повторил он.
Он поставил флакон на стол, притворился крайне уставшим и вытер лоб, как будто он был покрыт потом.
– Однако, де Коарасс, – настаивала королева, – мне хотелось бы узнать еще одну вещь.
– Говорите, ваше величество, я постараюсь ответить вам.
Он взял флакон и опять поднес его к пламени свечи.
– Исполнится ли предсказание цыганки относительно Рене – умрет ли он оттого, что его дочь выйдет замуж за дворянина?
– Да, ваше величество.
– Однако вы только что сказали, что судья спасет его. Час смерти Рене еще далек. Всадник, похитивший Паолу, не женится на ней?
– Он никогда не будет ее мужем.
– Почему?
– Потому что Рене найдет свою дочь.
– Когда?
Генрих посмотрел на песочные часы, потом взял перо и написал несколько цифр на листе пергамента, лежавшем на столе. Королева следила за ним с беспокойством.
– Через месяц, – сказал он наконец. – Ваше величество, умоляю вас не расспрашивать меня больше сегодня. Я очень устал и могу ошибиться.
– Хорошо, – согласилась королева, – я буду ждать вас завтра. Мне еще многое нужно узнать.
– Завтра я буду к услугам вашего величества.
Генрих встал и откинул занавеси.
Уже наступила ночь.
Екатерина протянула принцу руку для поцелуя:
– До завтра, де Коарасс.
Генрих отправился к Нанси. Хорошенькая камеристка ждала его в своей комнате, чтобы проводить к принцессе Маргарите.
– Идите скорее, – торопила она, – да идите же! Я передала принцессе ваши загадочные слова, и она сильно беспокоится.
– Неужели! – воскликнул Генрих.
Нанси взяла его за руку, и они сошли вниз.
Действительно, Маргарита ждала принца с нетерпением, смешанным с любопытством и страхом. Генрих угадал это по той поспешности, с которой она протянула ему руку.
– Вот колдун! – смеясь, сказала Нанси.
Камеристка ушла. Маргарита взглянула на принца.
– Ах! Объяснитесь скорее… пожалуйста, объяснитесь! – воскликнула она.
Принц поднес ее руку к своим губам для поцелуя. Маргарита увлекла его к оттоманке и усадила на нее.
– Ваше высочество, я доверяю вам тайну; но если королева узнает ее, то отправит меня на Гревскую площадь.
Маргарита задрожала.
– Боже мой! – воскликнула она.
– Я верю в благородство вашего высочества и скажу ее.
– Вы правы, – сказала принцесса, тихонько пожав ему руку. – Я ваш… друг… и не выдам вас… как бы ужасна ни была ваша тайна.
В голосе Маргариты звучало волнение.
– Успокойтесь, принцесса, я не совершил преступления и достоин вашей дружбы.
– Итак, говорите.
Принц рассказал Маргарите, как он встретился между Блуа и Туром с Рене и как потом еще раз увидел Рене в гостинице по дороге в Божанси.
– О, боже мой! – воскликнула Маргарита. – Так, значит, наш друг Ноэ и вы – те самые дворяне, которых хотел повесить Рене.
– Совершенно верно.
Принц объяснил, в каком он неприятном положении оказался, когда явился в Лувр, и в какой ужас повергла его репутация отравителя, которой пользовался Рене.
– Чтобы защитить нас от Рене, Пибрак вздумал представить нас королю, – рассказывал Генрих.
Рассказав принцессе о своем первом свидании с Карлом IX, Генрих поведал, как отважно Ноэ проник в комнату Паолы и подслушал, против своей воли, признания суеверного итальянца.
– Это подало мне мысль разыграть перед Рене роль колдуна. Мне помогло стечение обстоятельств.
И Генрих сообщил о похищении Годольфина и Паолы. Он скрыл от Маргариты только свою страсть к прекрасной Саре Лорио, существование отверстия в стене и свое настоящее имя. Он по-прежнему остался в ее глазах беарнским дворянином де Коарассом.
– Бедный друг мой! – сказала Маргарита. – Вы правы: если бы королева узнала истину, она приказала бы повесить вас на Гревской площади.
– Но она ничего не узнает.
Маргарита ответила не сразу. Наконец, подняв голову, она сказала:
– До сих пор все шло превосходно.
– Правда.
– Меня, однако, пугает будущее.
– Бог с ним!
– Как, вы будете продолжать вашу роль?
– Да, но это будет трудно. Однако Рене ведь узнавал же будущее благодаря ясновидению Годольфина. Отчего бы и мне не воспользоваться им?
– Правда… но…
Маргарита задумалась.
– Я тоже доверю вам тайну.
– Я слушаю, ваше высочество.
– Королева-мать однажды приказала переделать весь Лувр – когда король был в Сен-Жермене. Она велела проделать коридоры в стенах и местами пробить отверстия.
Генрих вздрогнул, вообразив, что принцессе известно о существовании отверстия в ее комнате.
– Однажды я заметила, что ее величество шпионит за мной – в стене моей комнаты просверлили отверстие.
Беспокойство Генриха усилилось.
– Вследствие своей подозрительности королева вздумала следить за мной. Ах, я забыла сказать вам, что я в то время занимала не эту комнату, а другую, в конце коридора.
Генрих вздохнул свободнее.
– Раз я заметила глаз, наблюдавший за мной…
– Глаз королевы?
– Да. Я отправилась к ней и объявила, что, несмотря на все уважение к ней, пожалуюсь королю, если она не разрешит мне перейти в другую комнату и не поклянется, что в новом помещении стены остались нетронутыми.
– Что ответила королева-мать?
– Королева испугалась гнева короля и дала мне клятву, о которой я просила; она слишком суеверна и не решится нарушить ее.
– Прекрасно.
– Погодите, – продолжала Маргарита, улыбаясь. – Некоторое время спустя обстоятельства, о которых я считаю бесполезным рассказывать вам…
«Так! – подумал Генрих. – Бьюсь об заклад, что речь идет о моем кузене Гизе».
– Некоторые обстоятельства заставили меня не доверять королеве; я отчасти ударилась в политику…
– Неужели! – улыбнулся Генрих.
– Но взгляды мои расходились со взглядами королевы-матери; я принимала у себя лиц, не пользовавшихся ее расположением. Хотя королева не подсматривала за мной в отверстия, пробитые в стене, но каждую минуту могла войти ко мне… И тогда я придумала способ не попасться.
Генрих улыбнулся.
Маргарита протянула руку к сонетке, проведенной в комнату Нанси.
– Мы с Нанси придумали просверлить отверстие, но не в стене, а в потолке кабинета королевы Екатерины, когда она уезжала на месяц в Амбуаз. Комната Нанси расположена как раз над кабинетом королевы. Мы подняли один из квадратов паркета и просверлили отверстие. Когда я занималась политикой, Нанси уходила в свою комнату и поднимала квадрат, чтобы убедиться, что королева у себя. Затем, когда она приводила в движение шнурок, осторожно, чтобы не зазвонил колокольчик, я, заметив это, выпроваживала посетителей через маленькую дверь.
– Недурно придумано, – сказал Генрих.
– Неправда ли? Но я уже не занимаюсь политикой.
– Вы уже не пользуетесь отверстием?
– Нет. Однако Нанси наблюдает на своем посту, потому что вы здесь…
– Ваше высочество объяснит мне теперь…
– Почему я вспомнила об отверстии?
– Да.
– Мы посвятим в нашу тайну Нанси. Она станет подслушивать все, что будет происходить в комнате королевы.
– А я буду передавать об этом королеве на следующее утро.
– Да. Таким образом, вы по-прежнему будете пользоваться репутацией хорошего колдуна.
Маргарита дернула за шнурок. Через несколько секунд вошла Нанси.
– Дитя мое, – сказала принцесса, – уже девять часов, проводи господина де Коарасса в твою комнату.
– Зачем, ваше высочество?
– Укажи ему известное тебе отверстие. Он послушает, о чем будет говорить королева Екатерина с президентом Реноденом, который скоро должен прийти.
Слова принцессы окончательно успокоили Генриха.
– Хотя я и рассказал королеве Екатерине о тайнах Рене, но оказался бы в большом затруднении завтра, потому что не смог бы передать ей, каким способом Реноден хочет спасти парфюмера.
Принц, втихомолку посмеиваясь, размышлял: «Странное здание Лувр. Здесь у каждого есть потаенное отверстие для наблюдения за другими, но никто не догадывается, что и другие прибегают к тому же самому способу. Королева шпионит за дочерью и не подозревает, что дочь в свою очередь наблюдает за ней, а последняя и представить не может, что у меня тоже есть тайный наблюдательный пункт…»
– Идите скорее! – торопила Маргарита.
Она протянула ему руку для поцелуя, а Нанси отворила дверь в коридор и втолкнула в нее принца.
– Скорее! – повторила она.
Генрих и Нанси на цыпочках поднялись в комнату камеристки, в которой не было зажжено огня. Только на полу блестела светлая точка.
– Вот отверстие, – сказала Нанси.
Генрих лег ничком и увидел прямо перед собой стол, за которым он только что гадал королеве. Екатерина сидела около стола. Напротив нее разместился лысый человек в черном одеянии. Это был Реноден.
– Слушайте внимательно, – сказала Нанси, – я ухожу.
Хорошенькая камеристка на цыпочках вышла из комнаты и отправилась к принцессе Маргарите, которая всецело посвятила ее в свою тайну.
Генрих внимательно слушал то, что Реноден говорил Екатерине…[78]
Сокровище гугенотов[79]
1
Когда колокол на башне королевского замка в Блуа пробил десять, король Генрих III как раз заканчивал ужин. В тот вечер, четвертого декабря 1576 года, за его столом присутствовали исключительно миньоны[80] – граф де Келюс, маркиз де Можирон, Жан д’Эпернон и Фредерик де Шомбург. Ужин прошел оживленно: яства оказались отменными, было изрядно выпито; на протяжении всего вечера сотрапезники едко злословили о женщинах, хотя и мужчинам доставалось не меньше.
– Господа, – наконец подвел итог застолью король, – как бы там ни было, но я отчаянно скучаю в Блуа. Кто из вас способен хоть немного развеять эту скуку?
Никто не успел вымолвить ни слова, как двери королевской столовой распахнулись, и в нее вступил рослый широкоплечий мужчина, в облике которого все изобличало прирожденного воина. Кивнув на вновь прибывшего, маркиз де Можирон заметил вполголоса:
– Скажу единственное, сир: развлечь вас смог бы кто угодно, но только не этот суровый господин!
– Месье маркиз, – сдержанно парировал вошедший, – я служу своим государям, а при необходимости готов отдать за них всю кровь до последней капли. Однако состязаться с записными шутами не в моих правилах!
Миньоны расхохотались, но король властным жестом заставил их умолкнуть.
– Здравствуйте, мой добрый Крильон! – благосклонно молвил Генрих, протягивая руку воину, чья отвага стала нарицательной. Генерал Луи де Крильон командовал гвардией короля, одновременно исполняя обязанности начальника дворцовой стражи.
– Сир, вам было угодно видеть меня?
– Да, Крильон, мой любезный друг… ведь вы друг мне, я не ошибся?
Генерал, явно не сочтя это обращение лестным для себя, отвечал с суровой прямотой:
– Сир, я неизменно оставался другом королей Франции, тем более что служу уже пятому из них, да хранит его Всевышний!
– Вот потому-то, любезный Крильон, я и призвал вас. Вы были нужны мне безотлагательно, но нужда эта относится к тому времени, когда мы еще не приступили к ужину и я еще чувствовал себя королем Франции. Я намеревался отдать вам распоряжения относительно Генеральных Штатов[81], заседание которых состоится в Блуа двумя днями позже. Но, будь я проклят, после ужина и этого журансонского вина я совершенно не могу вспомнить, что, собственно, имел в виду!
На лице Крильона не дрогнула ни одна черта.
Король сделал паузу и выжидательно взглянул на генерала. Однако, обнаружив, что тот и не собирается отвечать, продолжал:
– Я скучаю, мой любезный Крильон, смертельно скучаю!
Генерал продолжал хранить молчание.
– Только взгляните, – слегка заплетаясь языком, продолжал Генрих, – эти молодые дворяне осыпаны бесчисленными почестями, я набиваю их сундуки золотом и делю с ними власть, но ни один из них не в силах даже рассеять мою скуку!
– Прошу великодушно простить меня, сир, но это не так! – возмутился маркиз де Можирон. – Как раз в то мгновение, когда почтенный де Крильон переступил порог, я намеревался изрядно потешить ваше величество!
– Каким же это образом? – мгновенно оживился король.
– О, это забава, которая обещает многое, сир!
– Так выкладывай. И помни: если твоя басня и в самом деле развлечет меня, я сделаю тебя кавалером ордена Святого Михаила!
– Орден Святого Михаила! – с усмешкой пробормотал под нос д’Эпернон. – Нынче эта штуковина болтается на шее у всякого выскочки! Вот орден Святого Духа – другое дело!
– Месье д’Эпернон, – генерал шагнул было к разряженному в шелка, благоухающему мускусом и амброй придворному, однако остановился на полпути, – известно ли вам, что орден Святого Духа государи жалуют лишь тем, кто понюхал пороху и крови и от кого не разит за целое лье духами и притираниями, как от вас?
– Ох уж этот мне Крильон с его прямотой! – с досадливой усмешкой заметил король. – Как и положено воину, он бьет первым и наповал! Придержи язык, Жан, а я сделаю тебя кавалером ордена Святого Духа после первой же битвы!
– Полагаю, времени до этого события у нас вполне достаточно, – пробасил Крильон, пряча усмешку в густой бороде.
Он продолжал стоять, поскольку до сих пор никто не предложил ему сесть. Убедившись, что никому нет до него дела, генерал придвинул обтянутый кожей табурет и преспокойно уселся на него верхом.
– Забава! В чем же она заключается? – с детским нетерпением воскликнул Генрих. – Подавай-ка ее сюда!
– Извольте, сир! – тотчас отозвался маркиз де Можирон. – Здесь, в Блуа, за стенами замка, имеется улица, которая весьма круто поднимается в гору…
– Они все здесь крутые, как мельничные желоба! – заметил граф де Келюс.
– Не важно! Но на этой улице есть один дом…
– На всякой улице найдется дом! – угрюмо вставил де Шомбург, человек не более остроумный и веселый, чем Пепельная среда[82].
– Но в этом доме обитает девушка, прекрасная как день!
– Неудачное сравнение, – заметил король. – Сегодняшний день, например, с его туманом и моросью, способен даже записного весельчака ввергнуть в глубокую меланхолию.
– Конечно же, я имел в виду великолепный весенний день, сир! Эту девушку охраняет какой-то старикашка – слуга, как утверждают одни, или престарелый отец, как полагают другие. На улицу она выходит лишь по воскресеньям к мессе, да и то под покровом густой вуали… Словом, эту красотку держат под строжайшим надзором. И тут мне пришло в голову… Будучи, пусть и недолго, королем Польши[83], ваше величество нередко учиняло по ночам забавные скандальчики и разного рода шутовские дебоши, прогуливаясь с друзьями по Варшаве…
– Ах, как же я тогда развлекался! – сокрушенно вздохнул Генрих.
– Но чем же, сир, Блуа хуже Варшавы? Здесь уже в девять вечера колокол подает горожанам сигнал тушить огни, а уличная стража отправляется спать часом позже.
– А сейчас который час? – спросил король. – Дело к полуночи? Следовательно, городская стража уже беспробудно спит?
– Давным-давно. Поэтому мы ничем не рискуем, даже если похитим эту загадочную красотку.
– Вот оно что! – воодушевился король. – Это, по крайней мере, забавно. Разумеется, девица сия мне ни к чему, но само по себе похищение – нечто незаурядное… Ну, а как же мы поступим со стариком-цербером?
– Сир, недаром сказано: не откупорив бутылку, не узнать, каков букет вина!
– Метко! – Одобрительно кивнув, король повернулся к де Крильону: – А вы что скажете, друг мой?
– Не берусь судить, ваше величество, – пожал плечами генерал, – я далек от кухонных дел.
Король промолчал, пожевал губу и взялся за колокольчик. На звонок явился паж, и ему было велено подать государю плащ, шпагу и бархатную полумаску. Затем, обращаясь к миньонам, Генрих проговорил:
– Вы, господа, разумеется, тоже можете воспользоваться масками, если угодно, но для вас это вовсе не так важно, как для меня. Здешние гугеноты поднимут невероятный шум, если им по какой-то досадной случайности станет известно, что король Генрих предпринимает подобные эскапады!
– Государь! – воскликнул граф де Келюс. – Но ведь это же форменное дурачье!
– Я держусь того же мнения, – кивнул король, – но и с дурачьем иной раз приходится считаться! А вы, генерал, – продолжал он, обращаясь уже к Крильону, – вы с нами?
– Я, сир?
– Естественно. Вы же мой друг, если не ошибаюсь?
Герцог поднялся, ударом сапога опрокинул табурет и, бросив на четверку миньонов горящий презрением взгляд, пробасил:
– Вашему величеству угодно шутить, что вполне понятно. Все венценосцы из рода Валуа отличались тонким остроумием!
– О чем это вы, генерал? – надменно осведомился король. – Извольте объясниться!
Де Крильон, однако, и бровью не повел, хотя голос короля был полон едва скрываемого раздражения.
– Это несложно, сир. Мне едва исполнилось пятнадцать, когда меня сделали пажом при дворе короля Франциска I. Однажды вечером король сказал мне: «Вот записка, голубчик. Тебе надлежит отнести ее моей возлюбленной подруге Диане де Пуатье». Я взглянул на моего короля так, что ему мгновенно все стало ясно. «Этот мальчишка не создан для роли посредника Амура!» – произнес он и велел кликнуть другого пажа.
– И что же из этого следует? – прошипел, накаляясь, Генрих.
– А то, что спустя три десятилетия король Карл IX надумал возложить на меня некую обязанность, достойную заплечных дел мастера, а не благородного дворянина. Мне пришлось обнажить перед государем шпагу и сломать ее клинок о колено. Этого оказалось достаточно, чтобы ваш усопший брат – да воссияет ему вечный свет в чертогах Господа! – припомнил, что меня зовут Луи де Крильон, и принес мне самые учтивые извинения.
– В самом деле? – вскричал Генрих. Губы его подергивались, лицо исказила гримаса гнева.
– Я вовсе не требую извинений вашего величества, ибо вы, сир, еще слишком мало знаете меня, – с мужественной прямотой закончил де Крильон. – Умоляю лишь об одном: позвольте мне мирно отправиться в свою опочивальню.
Король не обронил ни слова. Отвернувшись от генерала, он раздраженно обратился к миньонам:
– Итак, господа, вы готовы следовать за мной?
Генрих первым покинул столовую. За ним двинулись де Келюс и де Шомбург, д’Эпернон и де Можирон замыкали шествие.
Начальник королевской стражи проводил всех четверых красноречивым взглядом. Лицо его омрачилось. На краткий миг он, казалось, погрузился в тягостное раздумье, но тут же опомнился, подхватил плащ и шпагу и со всех ног бросился к дверям.
– О нет, ни за что!.. – бормотал он уже на ходу. – Мой долг – спасти честь короля Франции! Разве это не одно и то же – честь рода де Крильон и могущественной династии Валуа?
Шаги генерала все учащались, и вскоре он уже бежал по мостовой вслед за удалявшимися гуляками.
2
Улочка, о которой говорил де Можирон, в самом деле круто поднималась вгору. Тесная, извилистая, мощенная разнокалиберными гранитными голышами, она словно вышла из глубин средневековья. По обе стороны тянулись безмолвные лачуги, и вдвойне странно выглядела здесь высокая, каменной кладки ограда с прочными воротами из дубовых брусьев. За оградой темнели кроны деревьев, между которыми виднелось внушительное здание из темно-красного кирпича – нечто среднее между небольшим замком и жилищем зажиточного буржуа.
Несмотря на полуночный час, в щели ставней пробивались полоски неяркого света. На первом этаже в небольшой комнате за прялкой сидела юная девушка. На вид ей было не больше шестнадцати лет. Ее чистое лицо, обрамленное русыми вьющимися волосами, словно сияло, а большие голубые глаза своим глубоким и нежным выражением напоминали глаза газели.
Девушка сосредоточенно пряла, склонившись к веретену. В это время дверь комнаты беззвучно отворилась, и вошел старец – до того дряхлый, изможденный и высохший, что казался скорее призраком, нежели живым человеком. Девушка тут же оторвалась от работы и с улыбкой проговорила:
– Доброго вечера, милый дедушка!
Шаркая и волоча ноги, старец приблизился к девушке и коснулся ее лба сухими губами. А затем с упреком проговорил:
– И тебе также, дорогая Берта! Уже поздно, зачем ты так засиживаешься за работой? Ты должна как следует отдыхать!
– Но, дедушка, разве нынче не четвертое декабря?
– Верно, четвертое.
– Канун созыва Генеральных Штатов?
В потускневших глазах старца вспыхнуло гневное пламя.
– Ты права, – проговорил он, – и очень скоро король Генрих – да низвергнет Господь его душу в преисподнюю! – соберет своих аристократов и соединится с Лотарингским домом[84] к погибели тех несчастных, что принадлежат к истинной церкви!
– Милый дедушка! – с нежной улыбкой ответила Берта. – Не следует впадать в уныние. Господь – несокрушимый щит верных, он бесконечно милостив, праведен и добр. И он не допустит, чтобы нам с вами причинили какой-либо вред. Кому нужны бессильный старец и беззащитная девушка?
Взор старика еще жарче воспламенился.
– Это так! – кивнул он. – Я действительно разменял десятый десяток лет и уже давным-давно не обнажал шпагу… Но если в этот дом попытаются вломиться мерзавцы… тогда-то старый сьер де Мальвен и припомнит, как некогда сражался плечом к плечу с благородным Байярдом[85], славнейшим из рыцарей!
Обняв старика, девушка с улыбкой воскликнула:
– Полно вам, милый дедушка! Нам нечего опасаться! Дом этот затерян на самой окраине, никто и не вспоминает о нем. И разве вас не любят, не почитают горожане?
– Жители Блуа – несомненно. Но эти чужеземцы, грязные наемники на содержании у Гизов, убийцы наших братьев по вере! – Он умолк, а затем проговорил уже много спокойнее: – Уже слишком поздно, Берта. Надо полагать, дворянин, посланный королем Наварры[86], сегодня не явится!..
Но не успело прозвучать последнее слово старика, как девушка насторожилась.
– Кажется, стучат!
Она поднялась, взглянула в щель между ставнями и замерла, прислушиваясь.
В самом деле, кто-то стучал в ворота, одновременно мужской голос звучно провозглашал:
– Ай да погодка!.. И до чего славно греет солнце по ту сторону Гаронны!
– Это он! – вскричал старик. – Я слышу пароль, о котором шла речь в письме. Отопри ворота, Берта, и да благословит Господь того, кто явился от наших братьев!
Девушка накинула плащ с капюшоном, прихватила лампу и связку ключей, после чего торопливо вышла в сад. Старик, намеревавшийся сопровождать ее, вскоре отстал.
Однако, прежде чем отпереть калитку в воротах, Берта приоткрыла крохотное смотровое оконце и робко спросила:
– Кто здесь в такой час?
– Гасконь и Беарн! – отозвался с улицы звучный молодой голос.
Берта повернула ключ в замочной скважине, и калитка распахнулась, пропустив рослого и стройного человека. Еще не переступив порог, незнакомец на мгновение замер, словно тихая красота белокурой девушки, озаренная пламенем масляной лампы, глубоко поразила его.
Не понадобилось и часа, чтобы Берта прониклась глубоким доверием к таинственному гостю. Прежде она никогда не видела этого человека, даже теперь она не знала его имени, и все же в ее сердце возникла твердая уверенность, что на него можно положиться во всем. Проводив незнакомца в покой для приезжих, она невольно воскликнула, заметив, как он отстегивает от перевязи свою шпагу:
– Ах, как же давно в этом доме не было ни одной шпаги!
Незнакомец улыбнулся, бросил быстрый взгляд на девушку и произнес:
– Ну, что ж! Во всяком случае это оружие в любое мгновение готово послужить вам защитой!
Берта подняла на незнакомца печальные глаза и откликнулась:
– Значит, мне больше нечего опасаться!
– Вы хотите сказать, что у вас были причины чего-то бояться?
– Так и есть! По крайней мере в последние дни… Город и королевский замок буквально кишат приезжими… в воздухе висит тревога… к тому же… к тому же среди приближенных короля слишком много записных наглецов.
– В самом деле? – незнакомец нахмурился.
– Именно, – продолжала девушка, проникаясь к позднему гостю все большим доверием. – Не далее как накануне… Но умоляю вас, не говорите об этом дедушке!.. На улице у ограды нашего дома долго топтались двое замаскированных дворян. Они пристально разглядывали ворота и дом. Мне удалось кое-что услышать из их разговора, хоть они и переговаривались полушепотом. Один из них сказал: «А ведь крошка-то чудо как хороша!» – Берта стыдливо потупилась. – А другой ответил: «Так за чем же дело стало? Давай ее умыкнем – и дело с концом!»
– Мерзавцы!
– Я проскользнула в калитку и тотчас заперла ее на ключ. Вообразите, как я провела эту ночь! Я дрожала, словно листок на ветру, и вскакивала от каждого шороха. Едва рассвело, я возблагодарила Всевышнего за то, что ночью ничего не случилось, и стала горячо молить его, чтобы он послал нам с дедушкой доблестного и доброго защитника!
Все еще продолжая свой рассказ, девушка приблизилась к окну и мельком заглянула в прорезь ставней. Внезапно она вскрикнула и поспешно отпрянула.
– Что с вами? – вскочил гасконец.
– Смотрите! Это они! – лицо девушки исказилось, голос сорвался.
Гасконец шагнул к окну и, в свою очередь, выглянул наружу.
– Однако! – невозмутимо произнес он. – Похоже, что я явился сюда весьма своевременно!..
В самом деле: на верхушке каменной ограды как раз появилась темная мужская фигура и уселась на ней верхом.
– Это они, они! – словно в забытьи, лепетала Берта.
– Не надо ничего бояться! – успокоил ее гасконец и задул лампу.
В комнате стало совершенно темно, после чего девушка услышала сухие щелчки взводимых пистолетных курков – один, а затем другой. Когда глаза ее немного привыкли к темноте и стали кое-что различать, Берта сумела разглядеть, что незнакомец засовывает пистолеты за пояс и оправляет перевязь со шпагой.
– Оставайтесь здесь и позвольте мне самому разобраться с наглецами, – наконец проговорил он. – Проклятье! Едва ли найдется на этом свете похититель благородных девиц, которому под силу испугать сына моей матушки!
3
Тем временем король, сопровождаемый миньонами, покинул замок через неприметную боковую дверь в стене. Можно было поручиться, что ни одна живая душа этого не заметила. Поначалу они старались двигаться как можно тише, соблюдая всяческие меры предосторожности, но, когда замок остался далеко позади, миньоны начали переговариваться во весь голос.
– Выходит, ты влюбился в эту малышку, маркиз? – спросил король у де Можирона.
– И да, и нет, государь!
– Как прикажешь это понимать, любезный?
– Но… Я… Я бы ответил «да», сир, но лишь в том случае, если она не придется по вкусу вам!
– Что за чепуха! – отозвался король. – Тебе ли не знать, что уже бог весть как давно женщины не вызывают у меня ни малейшего интереса. А ты что об этом думаешь, граф?
– Я, сир, предпочитаю мужскую дружбу – она не столь переменчива, как женская любовь! – отвечал де Келюс.
– Итак, любезный де Можирон, я прихожу к выводу, что малышка тебе по душе ровно настолько, насколько она не придется мне по вкусу?
– В том-то и дело, государь! И я побаиваюсь, как бы она вам не приглянулась!
– Что ж, посмотрим! – хмыкнул король. – Но тише! Я слышу позади чьи-то шаги. Избегайте имен и титулов, господа!
– Верно, сир! – согласился де Можирон. – Впрочем, мы уже почти на месте.
– Значит это и есть та самая кривая улочка?
– Именно. Видите ту высокую стену? Дом находится за ней!
Между тем де Келюс наклонился к уху д’Эпернона:
– Наш маркиз большой хитрец. Он похитит девчонку якобы для короля, а поскольку тот безразличен к дамам, немедленно сам воспользуется добычей!
– Между прочим, она мне тоже нравится, – вставил де Шомбург.
– Ну, так и бери ее! – рассмеялся де Келюс.
– А ежели и мне она приглянется, что тогда? – поинтересовался д’Эпернон.
Граф де Келюс негромко рассмеялся.
– Я вижу, господа, что эта девица просто нарасхват! Любопытно, как вы станете делить ее на троих, тем более что ни я, ни король не будем принимать в этом участия.
– Ты просто ее еще не видел!
– Чепуха! Кто-кто, а уж я-то не стану выставлять себя дураком из-за женщины. Я вообще смотрю на эти вещи иначе.
– А король?
– Король разделяет мою точку зрения. Он убежден, что даже самая прекрасная девушка на свете не стоит вазы, до краев наполненной персиковым вареньем.
– Аминь! – буркнул де Шомбург. – Но, клянусь тебе, Келюс, этот де Можирон не получит красавицы без драки!
– Сущее мальчишество! – вздохнул де Келюс. – Поистине верна старая пословица: Хватит и одной курицы, чтобы передрались все петухи! Мы друзья, и вдруг ни с того ни с сего вы готовы затеять свару из-за какой-то там смазливой мордашки!
– Дьявольщина! – проворчал д’Эпернон. – С какой это стати я должен отказываться в их пользу от своей доли!
– Ну, как вам будет угодно, – беззаботно посмеиваясь, отозвался де Келюс. – Но зачем, спрашивается, нам с королем понадобилось впутываться в эту историю?
В то же мгновение до них донесся раздраженный голос Генриха:
– Ты случайно не спятил, де Можирон? Да ведь эти ворота могут выдержать осаду целым полком!
– Не извольте тревожиться из-за таких пустяков, сир, – тотчас отозвался де Можирон. – Не далее как вчера я свел знакомство с причетником из здешней церкви, и тот припас для нас лестницу. Заодно я выведал кое-какие подробности. Изнутри эти ворота заложены железным брусом, а в его проушину продет обычный замок. Стоит только взобраться на стену, спрыгнуть вниз, в два удара сбить замок и тогда…
– И тогда ты отопрешь нам ворота изнутри! – подхватил король.
– Вы правы, государь!
С этими словами де Можирон нырнул в темноту и вскоре вернулся с легкой приставной лестницей. Король и трое миньонов остались внизу, а де Можирон с обезьяньей ловкостью вкарабкался на верхушку каменной ограды.
Оттуда он окинул взглядом темный сад, а затем обернулся к спутникам:
– Огня в доме нет, сад пуст, да и собак не слышно… Голубка сладко спит в своем гнездышке!
– Превосходно! – отозвался снизу Генрих. – Спускайся вниз и займись воротами, а то становится дьявольски холодно! Проклятая сырость!
Маркиз скрылся, и вскоре глухой шум известил его спутников о том, что он достиг земли.
Слегка ошеломленный прыжком с внушительной высоты, де Можирон некоторое время просидел, переводя дух, а затем энергично вскочил и бросился к воротам. Там он выхватил из ножен шпагу и вставил острие клинка в замочную скважину, чтобы отпереть замок.
– И поторопись! – крикнул король в щель между дубовыми створками. – Мне холодно, как в последнем круге ада.
Ответа не последовало, так как на темя незадачливого маркиза как раз в это мгновение обрушился страшный удар рукоятью шпаги. Де Можирон был так потрясен этим неожиданным нападением, что не издал ни звука. Однако, увидев, что к нему снова приближается темная тень, маркиз отпрянул, прижался к воротам, прикрывая спину, и, в свою очередь, обнажил клинок.
– Не стоит тратить столько сил! – негромко заметил незнакомец. – Ибо если верно то, что я – дворянин, а ты – мерзкий разбойник, ты будешь пригвожден острием моей шпаги к этим самым воротам!
– Ко мне! – неистово возопил де Можирон. – На помощь!
Шпаги противников скрестились. Звон и скрежет стали донеслись до ушей короля и его миньонов.
– Господа, – заметил Генрих, – малышку-то, оказывается, недурно стерегут! Что нам теперь делать, как вы считаете?
– Думаю, нам следует вернуться в замок и улечься спать! – ответил де Келюс, человек, в чьей голове просто не укладывалась мысль, как можно рискнуть жизнью ради какого-то там любовного приключения.
Д’Эпернон предпочел отмолчаться, и лишь Фредерик де Шомбург взволнованно воскликнул:
– Надо поспешить ему на помощь!
– Это вполне достойно благородных людей! – отозвался король, широко зевая. – По крайней мере, слегка согреемся. От этой сырости в долине Луары просто нет спасения!
Де Шомбург уже поднимался по приставной лестнице. Тем временем схватка между маркизом и таинственным защитником Берты де Мальвен становилась все ожесточеннее. Уже дважды клинок незнакомца задевал грудь де Можирона, но тот все еще продолжал упорно сопротивляться, ибо недаром был выучеником самого Генриха III, который заслуженно считался лучшим фехтовальщиком Франции.
– Гляди-ка! – вдруг выкрикнул гасконец. – Оказывается, со шпагой ты управляешься совсем недурно. А не угодно ли тогда отведать вот этого! – Он ловко парировал выпад де Можирона, уведя его оружие далеко в сторону, а затем нанес миньону еще один тяжелый удар эфесом шпаги в висок, после чего тот мешком рухнул на землю. В то же мгновение на верхушке стены появился де Шомбург.
– Ах, вот оно что! – без особого удивления буркнул гасконец. – Значит, вас здесь двое?
Но едва де Шомбург спрыгнул вниз, как на стене зачернела тень третьего врага.
– Ба, да эти молодчики нынче сыплются сюда, прямо как град! – изумился защитник девушки. – Что ж, будь я проклят, но придется, видимо, выступить в роли солнца и покончить с этим неприятным явлением природы!
Произнеся это, южанин занял позицию у каменной ограды, прикрывавшей его тыл, и проделал это с тем мастерством и хладнокровием, которые изобличают подлинного мастера граненого клинка.
4
Фредерик де Шомбург был храбр от природы, но это была та слепая, почти животная отвага, которой нередко отличаются потомки тевтонов. Он не придавал значения рыцарским обычаям, которые обычно соблюдали французы, а всякая учтивость в таких обстоятельствах казалась ему излишней. Поэтому он немедленно ринулся на противника, уже успевшего уложить маркиза.
– Я вижу, месье, вам неведомы даже азы этого благородного искусства! – насмешливо воскликнул гасконец. – В сущности, я могу прикончить вас как цыпленка, предназначенного для вертела.
Одно-единственное едва заметное движение шпагой – и оружие было выбито из рук ошеломленного де Шомбурга.
Убедившись, что и этот негодяй обезврежен, защитник чести Берты де Мальвен произнес:
– А вот и следующий!
Пока обескураженный де Шомбург разыскивал в темноте свою шпагу, гасконец повернулся к новому противнику, только что спрыгнувшему со стены. Лицо его скрывала черная бархатная полумаска.
– Вот даже как? – расхохотался гасконец. – Оказывается, вам, месье, угодно сохранять инкогнито?
Кончик его шпаги уже мерцал в нескольких дюймах от лица врага. Однако король – а это был именно он! – немедленно встал в позицию, и гасконец моментально понял, что имеет дело с опытным фехтовальщиком, на счету которого не один десяток поединков.
– Тем лучше! – сказал он. – Это уже гораздо забавнее!
Де Шомбург, наконец-то отыскавший свою шпагу, бросился на помощь королю, но тот резко осадил миньона:
– Не вмешивайся! Пусть этот фанфарон убедится, что мне не нужен помощник, чтобы прикончить какого-то нищего проходимца, клянусь собачьим хвостом!
Шомбург покорно отступил к воротам, а гасконец невольно подумал: «Сдается мне, где-то я уже слышал подобную клятву!»
– Ну-с, месье, к делу! – заявил король. – Я намерен как можно скорее убить вас, чтобы согреться.
Гасконец расхохотался и сделал выпад из третьей позиции, что было совершенно необычным приемом, изобличавшим полную свободу владения оружием.
– Вашей милости не на что жаловаться, поскольку мое положение гораздо менее выгодно! – заметил он, немедленно переходя в еще более изящную кварту[87].
– Каким это образом? – спросил король, удивленный такой сменой позиций. Гасконец, не прекращая поигрывать шпагой, насмешливо ответил:
– У меня на родине никто не боится, когда стынут ноги или руки.
– А чего же там боятся? – рассеянно спросил король, напряженно следивший за каждым движением незнакомца. Он уже успел заметить, что имеет дело с достойным противником.
– У нас любят доброе вино, а от него краснеет кончик носа.
– Значит, в ваших краях много пьют?
– Чрезвычайно – ведь вино дешево. Но ведь всем известно, что покрасневший от вина кончик носа не менее чувствителен к холоду, чем виноградная лоза в плохую зиму!
– Остроумный ответ, – отступая на шаг, заметил король. – Но он не объясняет, почему я в более выгодном положении, чем вы.
– Да ведь нос вашей милости прикрыт полумаской, тогда как мой совершенно беззащитен! – с этими словами гасконец сделал совершенно неожиданный выпад, и острие его шпаги коснулось плеча короля.
Прикосновение стали заставило Генриха вскрикнуть.
Этот возглас словно подстегнул де Шомбурга – он бросился к воротам и с силой отчаяния принялся трясти кованый железный брус, испуская вопли: «Сюда! Сюда! На помощь!» В конце концов скобы не выдержали тевтонского натиска, брус выскочил из них, и створки ворот начали поддаваться. Едва они разошлись настолько, что в просвет смог бы протиснуться человек, во двор, споткнувшись о бесчувственное тело де Можирона, ворвались де Келюс и д’Эпернон.
– Вот тебе на! – пробормотал гасконец. – А я-то думал, что град уже кончился!
Теперь придется иметь дело сразу с четырьмя противниками, не считая одного поверженного. Он неожиданно отпрыгнул в сторону – и ровно в то же мгновение король сделал очень резкий выпад. Шпага его, не найдя цели, просвистела в воздухе, Генрих подался вперед, потерял равновесие и упал на одно колено. Воспользовавшись краткой паузой, гасконец выхватил из-за пояса оба пистолета и крикнул:
– Эй, вы, малопочтенные господа! Я с удовольствием прикончу вас одного за другим, но если вам взбредет в голову наброситься на меня вчетвером, то, клянусь собором всех святых, двоих из вас я мигом отправлю в преисподнюю парочкой пистолетных пуль. А что будет потом, мы еще посмотрим!
Эта угроза удержала миньонов от опрометчивых действий. Тем временем король уже снова был на ногах.
– Господа, ни шагу дальше! Даже не пытайтесь прийти на помощь. Месье принадлежит мне!
– Вот речь истинного дворянина! – тут же откликнулся гасконец, возвращая пистолеты на место.
Король снова шагнул к нему, высоко держа шпагу.
– Вы ранили меня! – оскорбленно проговорил он.
– Уж таков мой обычай! – хмыкнул в ответ гасконец.
– Следовательно, мне придется вас убить!
– Если бы так и вышло, я бы несказанно удивился!
– Клянусь собачьим хвостом, с этим я еще ни разу не ошибался…
– Меньше слов, ваша милость, – посмотрим, каковы вы в деле.
Обменявшись этими репликами, противники вновь приступили к поединку. Однако он долго оставался безрезультатным, так как оба фехтовали с невообразимым искусством. Самые виртуозные выпады, неожиданные удары и приемы встречал умелый рипост[88].
– Клянусь собачьим хвостом, – наконец воскликнул король, переводя дух, – вы отменно фехтуете!
– Ваша милость слишком снисходительны ко мне! – насмешливо ответил гасконец.
– Не желаете ли немного передохнуть?
– С удовольствием! – учтиво согласился гасконец и воткнул шпагу в землю. Король последовал его примеру.
В тот же миг на улице послышались звуки торопливых шагов и в проеме ворот возникло новое действующее лицо. То был генерал Луи де Крильон.
При виде начальника королевской стражи миньоны испытали невыразимое облегчение. Они уже начали опасаться, что королю придется туго и им придется ввязаться в драку, чтобы отомстить храброму гасконцу. Вот тут-то и пригодилась бы прославленная шпага де Крильона!
Несмотря на то что черты его лица оставались неразличимы в темноте, король моментально узнал фигуру генерала. Однако он спросил:
– Вы ли это, Крильон?
– Да, – сдержанно откликнулся тот. – Похоже, я подоспел вовремя. Ваша милость нуждается в помощи.
Как и все прочие, Крильон опасался разоблачить инкогнито своего государя, поэтому избегал каких бы то ни было титулований.
Король тем временем продолжал:
– Нам повстречался здесь дворянин с берегов Гаронны, и фехтует он, скажу я вам, на славу!
– Следует делать то, что умеешь и можешь! – небрежно откликнулся гасконец. Тем не менее при звуках его голоса Луи де Крильон вздрогнул.
– Что с вами, генерал? – спросил король.
– Нет-нет… ничего! – генерал сделал шаг вперед, пытаясь рассмотреть в сумраке лицо гасконца.
– Желаю здравствовать, ваше превосходительство! – проговорил тот.
– Тысяча пороховых бочек! Это же он! – вскричал де Крильон.
– Вы хотите сказать, что знаете этого господина? – осведомился король.
– Еще бы не знать! – ответил генерал и поспешно склонился к уху короля.
– Государь! – вполголоса начал он. – Если тридцать лет преданной службы короне что-нибудь значат в ваших глазах, то вы немедленно отошлете прочь этих холуев, нарядившихся дворянами, этих миньонов, смердящих мускусом, этих…
– Тише, тише, генерал! – с явным неудовольствием остановил его король. – В конце концов, речь идет о моих друзьях!
– Но не столь верных, как я, государь! Умоляю вас исполнить мою просьбу во имя короны Франции!
– Ох, Крильон! – проворчал король. – Вечно вы заставляете меня плясать под вашу дудку! Ступайте в замок, господа, – Генрих обернулся к миньонам, – я вскоре вас нагоню.
– Вот это мне по душе! – вырвалось у де Келюса.
– Ну, а мне так и подавно! – эхом отозвался д’Эпернон. О лежавшем в беспамятстве маркизе все словно позабыли, и лишь де Шомбург спросил:
– А что делать с де Можироном?
Крильон пнул неподвижное тело носком сапога и произнес:
– Падаль она и есть падаль. Надобно зарыть ее где-нибудь в дальнем углу сада.
– Ошибаетесь, генерал, – возразил гасконец, – я совершенно уверен, что этот господин жив!
– Ну, так пусть его уберут отсюда!
Дюжий де Шомбург взвалил бесчувственное тело маркиза на плечо и двинулся вслед за де Келюсом и д’Эперноном.
Как только они отдалились, генерал снова обратился к королю:
– Именем ваших предков, сударь, – уберите шпагу в ножны!
– Да кто же, в конце концов, этот господин? – поразился король.
– Единственный, не считая меня, искренний друг вашей милости!
– Что это вы такое говорите, Крильон? – возмутился гасконец. – Я знать не знаю этого господина!
Вместо ответа генерал церемонно снял шляпу и провозгласил:
– Имя господина, стоящего перед вами, – король Франции!
Негромко вскрикнув от изумления, гасконец попятился, а затем далеко отбросил свою шпагу. Сталь зазвенела, наткнувшись в темноте на камень мостовой.
5
Неожиданная откровенность начальника стражи не понравилась королю. Генрих был весьма не прочь побесчинствовать, но при единственном условии: его инкогнито должно остаться нераскрытым. Вот почему он с нескрываемым негодованием выкрикнул:
– Вы просто спятили, Крильон!
– Ничего подобного, сир!
– Кто этот господин?
Гасконец шагнул к королю и опустился на колено.
– Уж если вы, ваше величество, были столь великодушны, что скрестили со мной шпагу, то будьте великодушны и в остальном. Я прибыл в Блуа издалека с единственной целью – испросить себе аудиенцию у вашего величества, ибо у меня имеется важное поручение к вам!
– Кто же дал вам это поручение?
– Ныне покоящийся с миром король Карл IX на смертном одре! – взволнованно и торжественно проговорил гасконец.
– Вы говорите о моем брате? – вздрогнув, воскликнул Генрих. – Вы знали его?
– Мне не раз доводилось целовать его царственную руку, сир!
– Если это правда, сударь, кто бы вы ни были, я дозволяю вам исполнить это поручение!
– Сир, если мне не послышалось, вы недавно жаловались на усталость…
– Вы правы, так оно и есть. Что ж, отправимся в замок.
– Если это возможно, не сегодня, сир!
– Но почему?
– В этом доме находятся два беззащитных существа – старик и юная девушка. Фавориты вашего величества вынашивают преступные замыслы против них, и мне пришлось взять обоих под свое покровительство!
– Да кто же вы такой, если беретесь защищать кого попало?
– Клянусь, что назову свое имя во время аудиенции, которую вашему величеству будет угодно мне дать!
– Но я желаю знать это немедленно!
Чтобы унять королевский гнев, в беседу вмешался все это время безмолвствовавший де Крильон:
– Я надеюсь, что вы, сир, не откажете в этой просьбе человеку, за которого я готов поручится бессмертием собственной души!
– А если я все-таки откажу?
– В таком случае мне остается одно: посоветовать этому господину сохранять молчание до тех пор, пока ваше величество не отдаст приказ его пытать!
– Генерал! Не кажется ли вам, что вы позволяете себе слишком вольно держаться со своим королем?
– О, сир, если бы все ваши подданные брали с меня пример, вы бы неминуемо стали величайшим монархом на свете. Ведь и сердце, и голова у вас на своих местах, не то что у этих жалких червей, которые пресмыкаются у подножия вашего трона!
На сей раз Крильон попал туда, куда метил.
– Ладно! – уже гораздо мягче проговорил король. – Пусть этот господин пока держит свое имя в тайне. Но завтра я жду его в замке на утреннем приеме в моей опочивальне!
Гасконец снова опустился на колено.
– Вы, сир, достойный потомок великого короля-рыцаря! – произнес он. – Всем сердцем благодарю вас!
– Надеюсь увидеться с вами завтра! – обронил король. – Нам пора, Крильон! Бррр… Этот проклятый холод!
– Прошу прощения, сир! Позвольте мне сказать пару слов этому господину, перед тем как мы простимся.
Крильон шагнул к гасконцу, а тот, сжав запястье генерала, шепнул:
– Будьте немы как рыба!
– Зачем вы явились сюда? – взволнованно спросил Крильон.
– Я хочу лично присутствовать на заседании Генеральных Штатов.
– Вы?
– Именно так!
– Но ведь это все равно, что подставить обнаженную грудь под удары всех мечей, чьи владельцы кормятся щедротами де Гизов!
– Ах, мой Крильон, – смеясь и внезапно переходя на «ты» с пожилым воином, ответил гасконец. – Сдается мне, ты начинаешь сдавать! Неужели ты думаешь, что грудь, которую не сумела поразить шпага самого французского короля, столь уязвима для лотарингских принцев? Полная чепуха!
– Но вы-то, по крайней мере, здесь не в одиночестве?
– О нет! Со мною моя верная «фламандка».
– Что за «фламандка», объясните?
– А вот эта самая шпага. Ею мой дед сражался во Фландрии, и с успехом!
– Не выкована еще такая шпага, которую нельзя было бы сломать!
– Ба! Уж не струсил ли старина Крильон? Это, право, забавно! Спокойной тебе ночи! И король прав – становится все холоднее. Отправлюсь-ка я спать!
Спустя четверть часа после того, как безвестный гасконский дворянин имел неслыханную честь скрестить шпаги с самим королем Франции, ворота дома на извилистой улочке снова были наглухо заперты, а сам молодой человек вернулся под его гостеприимный кров.
В комнате первого этажа Берта де Мальвен горячо молилась Пресвятой Деве. При виде гасконца девушка в восхищении воскликнула:
– Вы спасли мне жизнь и честь, месье! – Заметив мимолетную улыбку на лице гостя, Берта вдруг смутилась и покраснела. Быстро справившись с собой, она продолжала: – Их было четверо, я видела, но нисколько не боялась! Я сразу поняла, что вас не одолеть и целой армии врагов!
Гасконец бережно взял в свои ладони маленькую ручку девушки и, почтительно коснувшись ее губами, воскликнул:
– Дорогая мадмуазель, все дело в том, что я был совершенно уверен: Господь не оставит меня, ибо он вверил мне, а не кому-либо другому защищать и беречь вас!
Затем они уселись рядом в просторных креслах – двадцатилетний юноша с горделивым взором, ускользающей усмешкой и сердцем истинного льва, и нежная белокурая голубка, чье сердце все еще неровно билось после пережитого, – и принялись весело болтать так, как болтают лишь в юности, поминутно заливаясь румянцем и волнуясь от близости друг друга.
Молодой гасконец немало порассказал о Наварре, о нравах и обычаях своих сородичей, о старых добрых порядках, царящих при дворе наваррских королей, а в заключение сказал:
– Голубушка Берта, я думаю, вам ни в коем случае не следует оставаться в Блуа! Ведь король и его развратные миньоны, не знающие, что такое честь и совесть, слишком часто наезжают сюда и подолгу остаются в замке. И пока они здесь, вам грозит опасность. Если на то будет ваша воля, я могу увезти и вас, и вашего почтенного дедушку в Наварру. Сьер де Мальвен спокойно окончит там свои дни, а вам мы подыщем муженька на славу!
От этих слов мадемуазель Берта смутилась до такой степени, что гасконец не смог сдержать себя и расцеловал девушку. Но тут снова послышался энергичный стук в ворота, выходящие на улицу.
– Боже праведный! – только и смогла пролепетать Берта. – Это снова они!
– Тревожиться не надо, – успокоил ее гасконец. – Это всего лишь ночные пташки, которым не по нраву дневной свет!
Прихватив перевязь со шпагой, он отправился к воротам и вскоре вернулся в сопровождении Луи де Крильона и двух вооруженных до зубов дворян из числа королевских гвардейцев.
– Я здесь, – едва переступив порог, объявил генерал, – чтобы сменить вас. Мы трое останемся в доме, и ни миньоны, ни их приспешники больше не посмеют сунуть сюда нос, а вы сможете отдохнуть!
– Превосходно, генерал, – ответил гасконец, – но в отдыхе я не так уж нуждаюсь. Наоборот – мне необходимо немного прогуляться по городу. Вам известно, когда прибывает герцог де Гиз?
– Его высочество ожидают завтра утром.
– А герцогиня Монпансье?
– Я полагаю, она тайно прибыла нынче ночью! – ответил Крильон.
Гасконец представил генерала Берте, добавив:
– Я оставляю вас, мадемуазель, под охраной генерала Крильона. В этом мире не найти более искусной и смертоносной шпаги!
Крильон церемонно поклонился и возразил со своим обычным прямодушием:
– Ну, разве что после вашей!
Гасконец запахнулся в длиннополый плащ и надвинул шляпу на самые брови.
– Куда вы направитесь? – полюбопытствовал Крильон.
– Немного пройдусь, подышу свежим воздухом, – с тонкой усмешкой ответил гасконец.
6
Путь его лежал к глухой улочке, спускавшейся к самому берегу Луары. По дороге он пристально вглядывался в окрестные дома, пока наконец не остановился, негромко воскликнув: «Да вот же он! И вдобавок ветка остролиста над дверью!» Больше не колеблясь, он трижды постучал в дверь.
Из глубины дома не донеслось ни звука. На востоке уже начинало сереть, но густая тьма все еще лежала между домами и оградами. Стук, однако, донесся до ушей старухи-соседки. Высунувшись в окно, она полюбопытствовала:
– Чего вам надобно, месье?
– Здравствуйте, почтенная мадам, – обернулся гасконец, – я всего лишь приезжий, ищу жилье для постоя.
– Не там ищете, месье, – отвечала старуха, – дом этот принадлежит мэтру Гардуино, здешнему прокурору. Вот уж кому и в голову не пришло бы пускать к себе чужаков-постояльцев!
– А это что же такое? – осведомился гасконец, указывая на ветку остролиста. – Этим знаком везде, где бы мне ни доводилось бывать, помечают дома, в которых принимают жильцов.
– Ах, Боже правый, – воскликнула старуха, – в самом деле – остролист! Вы, должно быть, правы, месье! Но не видать мне царствия небесного, если я хоть что-нибудь понимаю. Видано ли, чтобы мэтр Гардуино, этот глухой нелюдим и скряга, стал принимать постояльцев? И подумать страшно!
– Но, мадам, вы сами убедились, что это так и есть!
– Тут явно не обошлось без вмешательства самого сатаны, покровителя гугенотов! Впрочем, месье, всю прошлую неделю меня не было дома, и вернулась я только вчера к ночи… Вот разве что за это время мэтр Гардуино умудрился почить в Господе, и его дом приобрел кто-то другой!
– Такое иной раз случается, почтенная мадам! – со смешком отозвался гасконец и принялся колотить в дверь с удвоенной силой.
Наконец внутри послышался шум, затем дверь слегка приотворилась, уронив на ступени полосу света от масляной лампы, и молодой голос строго спросил:
– Кто стучит и по какой причине?
– Гасконь и Беарн! – вполголоса произнес ранний гость.
Дверь мгновенно распахнулась. На пороге возник юноша лет двадцати двух. Вглядевшись в сумрак, он почтительно склонился и поднес руку гасконца к губам.
– Здравствуй, Рауль! – кивнул гасконец.
– Мое почтение, монсеньор, – ответил юноша.
Гасконец шагнул в дом, и дверь за ним немедленно захлопнулась. Заскрежетали засовы.
– Теперь можно и побеседовать, друг мой! – проговорил гасконец, усаживаясь верхом на скамью, словно на боевого коня. – И прежде всего: больше не величай меня монсеньором.
– А как же в таком случае вас называть?
– Сойдет, например, сьер де Журансон[89], или еще проще – месье Журансон.
Юноша сдержанно поклонился.
– Давненько мы с тобой не виделись, любезный Рауль! – продолжал гасконец.
– Чуть ли не полных два года! Но я употребил это время не без пользы… месье Журансон. И, как вы сами видите, сумел проложить себе дорогу…
Оба были давними знакомцами – еще с тех времен, когда тринадцатилетний Рауль служил пажом при дворе короля Карла IX, отдавшего богу душу двумя годами ранее.
– Прямо к сердцу самой герцогини? – с усмешкой спросил гасконец.
– Ну, едва ли!.. – Рауль скромно опустил глаза. – Хотя, как знать?.. Может быть, вы и правы…
– Иными словами, ты расстался со своей прежней возлюбленной Нанси?
– О нет, месье! Я по-прежнему горячо люблю Нанси!
– Но как же тогда тебя понимать?
– Я служу вашей милости, завоевывая доверие герцогини.
– А, ну, тогда совсем другое дело! – по губам гасконца скользнула тонкая усмешка. – Но довольно шуток. Перейдем к делу. Когда вы прибыли?
– Накануне вечером. Гардуино был предупрежден и своевременно вывесил над дверью ветку остролиста.
– И герцогиня в самом деле приняла его дом за гостиницу?
– Даже ни на миг в этом не усомнилась!
– Ну, а сам Гардуино? Он не вызвал у нее подозрений?
– Кому могло бы прийти в голову, что этот старый крючкотвор – один из самых энергичных и проницательных вождей гугенотов?
– Превосходно! Сколько человек в свите герцогини?
– Только ваш покорный слуга. Герцогиня отказалась от свиты и эскорта, ибо ей угодно, чтобы никто не заподозрил о ее присутствии в Блуа. Сегодня вечером у нее встреча с герцогом де Гизом – тот должен прибыть нынче утром.
– Ты хочешь сказать, что кроме тебя, при ней никого нет?
– Именно так, если не считать одного малолетнего пажа, которого барон Эрих де Кревкер, один из миньонов Генриха, с приятелями подвергли жестоким истязаниям.
– Мальчик, верно, проникся к этим господам глубокой симпатией?
– Он ненавидит их, как и я!
– А где сама герцогиня?
– В спальне наверху. Она почивает.
– О, если бы я был уверен, что она внезапно не проснется, – с улыбкой заметил гасконец, – я поднялся бы туда, чтобы взглянуть на нее во сне.
– У нее очень чуткий сон!
– Но я здесь вовсе не ради нее. Мне необходимо увидеться с Гардуино!
Гасконец не успел договорить, как одна из боковых дверей беззвучно отворилась и на пороге появился крохотный, сгорбленный и совершенно иссохший старик. Казалось, все, что оставалось в нем от жизни, сосредоточилось в его пронзительных глазах. Внимательные и быстрые, они горели умом и энергией.
Старик молча приблизился и пристально вгляделся в лицо гасконца. Тот извлек из кармана половинку золотой монеты, распиленной особенным образом, на что старик – это и был мэтр Гардуино – с глубоким почтением поклонился.
– Не угодно ли вам последовать за мной, чтобы засвидетельствовать, что мы располагаем достаточными средствами? – проговорил он.
– Я готов! – кивнул гасконец.
Мэтр Гардуино провел его через анфиладу комнат, тщательно прикрывая за собой двери, и наконец оба спустились по винтовой лестнице в тщательно замаскированное подземелье. Едва его окованная полосами кованого железа дверь захлопнулась, у гасконца вырвался невольный возглас: весь пол тайного хранилища был покрыт грудами золотых и серебряных монет.
7
На башне замка Блуа колокол пробил десять раз. Приемная, примыкавшая к королевским покоям, уже была битком набита придворными, ожидавшими пробуждения Генриха III.
В одной из глубоких оконных ниш вполголоса переговаривались де Келюс и де Шомбург.
– Это грязное животное де Можирон навлек на нас немилость государя, – жаловался де Шомбург. – Король отправился в постель в ужасающем расположении духа, не удостоив ни словом никого из нас!
– А разве он не прав? – небрежно обронил де Келюс. – Только таким законченным идиотам, как де Можирон, д’Эпернон и твоя милость, могло втемяшиться в голову оторвать порядочных людей от приятного ужина и потащить их в промозглый туман в поисках опаснейших приключений!
– Сдается мне, этот сумасшедший гасконец мог бы прикончить нас всех одного за другим!
– В том числе и самого короля! Именно этим я и объясняю себе его скверное настроение: Генрих не любит стычек с людьми, владеющими шпагой не хуже, а, пожалуй, и лучше его самого!
– Видел ли ты сегодня маркиза?
– Де Можирон тоже провел не лучшую ночь: его лихорадит, а ушибленная голова распухла, как тыква.
– Но каков этот старый дьявол де Крильон! Нам уже почти удалось задвинуть его в тень, и вот – он снова в чести у государя!
Пока миньоны обменивались соображениями относительно вчерашних событий, в приемной послышался заливистый звон колокольчика. Именно так Генрих III обычно оповещал пажей о пробуждении своей особы. Толпа ожидающих зашевелилась, а два камер-пажа, до этой минуты сидевшие у дверей, сейчас же вскочили и кинулись в опочивальню. Граф де Келюс, носивший звание первого камердинера короля, также последовал за ними.
Заметив его, король отложил молитвенник, чтение которого по утрам считал своим долгом, и расслабленно произнес:
– Мое почтение, Жак! Как спалось?
– Неважно, государь.
– Мне тоже. Было бы вернее сказать, что я и вовсе не сомкнул глаз. Эту ночь я провел в размышлениях!
– Вот как? – делано удивился Келюс, пытаясь понять, в каком расположении духа пребывает король. Однако лицо монарха оставалось непроницаемым.
– Да-да, – продолжал Генрих, – я упорно размышлял и, похоже, раскрыл тайну бедствий, терзающих человечество, а заодно и несчастий, разрушающих устойчивость самых могучих держав!
– Черт побери! – восхитился де Келюс. – Неужели вам это удалось, сир?
– Безусловно! Итак, первопричина всех бед – женщины!
– Золотые слова!
– Не правда ли, любезный? Эти жалкие, коварные, склонные к изменам, скрытные, полные наглости и лишенные какого бы то ни было стыда существа губят все, к чему бы ни прикоснулись!
– Невозможно не согласиться, сир!
– Посуди сам – и содрогнись! Ведь что могло произойти минувшей ночью! Дьявол-гасконец едва не прикончил меня… Его клинок зацепил мое плечо, и если бы на мне не было медальона с мощами святого Дени, предохраняющими от всяческих ран, то беды не миновать…
Граф никогда не упускал возможности польстить сюзерену. Поэтому он сказал:
– Вот тут я позволю себе возразить, сир! Неужели вам не кажется, что само провидение не раз оглянется и поразмыслит о последствиях, прежде чем лишить жизни французского короля?
Генрих бледно улыбнулся шутке и велел пажам убраться в дальний угол покоя. Как только они удалились, он продолжал:
– Предположим, я легко отделался. Смерть, в конце концов, – пустяк! Но ты вообрази, де Келюс, что было бы, если б на шум явился ночной дозор! Меня моментально опознали бы, и можешь представить, какой скандал мог разразиться!
– Вы снова правы, сир! Это было бы просто неслыханно.
– И все это – бог мой! – из-за женщины… какой-то девчонки, до которой ни мне, ни тебе нет никакого дела!
– Несомненно!
– Я подумываю издать эдикт[90] против всех женщин! И начну, думается, с королевы, отправив ее в ссылку в один из отдаленных замков или монастырей. А когда при дворе вообще не останется женщин как таковых, мы позабавимся на славу, увидишь!
– Так или иначе, но это на редкость глубокая мысль, сир!
– Однако пора одеваться! Ты поможешь мне. И знай – прежде всего я намерен подвергнуть кое-кого примерному наказанию. И начну с маркиза де Можирона, предав его опале!
– Неужели, сир?
– Я так решил. Поручаю тебе передать ему это. Помимо того, я подвергну опале и де Шомбурга. Оба они – безнадежно испорченные люди, готовые променять мою дружбу на общение с женщинами.
– А как быть с Жаком д’Эперноном? – осведомился де Келюс, уже начавший опасаться за себя.
– Хм… Ты разве не заметил, что вчера д’Эпернон присоединился к нам без всякого удовольствия?
– В точности, как и я, сир!
– Следовательно, д’Эпернона мы оставим в покое. Ах да – ведь я обещал принять этого пройдоху-гасконца!
– Надеюсь, вы велите вздернуть его, сир?
– Отчего же? Он мне понравился. Второго такого фехтовальщика днем с огнем не сыскать. Кроме того, этот бородатый бес де Крильон явно ему покровительствует!
– Ну, это другое дело! И все-таки: как вы намерены поступить с этим гасконцем?
– Он вскоре явится сюда, тогда и решим.
– Сюда?!
– Именно. Я назначил ему аудиенцию во время утреннего приема.
– Сир! Вы поступаете, как некий искатель приключений, а не владыка могущественной державы…
– Не горячись, мой граф! Все его поведение вызывает глубокое доверие… Но тише – я слышу шаги! Кто-то стучит в потайную дверь!
Неподалеку от королевского ложа располагалась небольшая дверь, тщательно скрытая в складках гобеленов и драпировок. Она вела в один из бесчисленных переходов замка. Именно оттуда доносился осторожный стук.
– Отопри! – велел Генрих графу.
Открыв дубовую створку, де Келюс оказался лицом к лицу с упитанным и краснолицым господином, чью голову украшали серебристые седины. Едва пришелец шагнул в опочивальню, как король воскликнул:
– Ба! Да ведь это же мэтр Фангас, старший конюший нашего де Крильона!
– Он самый, сир! – с глубоким поклоном ответствовал тот. – Ваш покорный слуга.
– Что же это понадобилось генералу в такую рань?
– Лично ему – ничего, сир. Но мне вверено в обязанность доставить к вашему величеству некоего дворянина из Гаскони.
– А! Превосходно!.. – Король на удивление резво выбрался из постели, обулся и накинул на плечи бархатный камзол. – Где он, этот гасконец?
– Ожидает в галерее, сир!
– Так пусть войдет!
– Покорно прошу простить меня, сир, но осмелюсь напомнить, что вами обещана ему приватная аудиенция с глазу на глаз!
– Припоминаю… Да, все верно! Де Келюс, голубчик, ступай в приемную, а заодно скажи тем, кто там собрался, что нынче утренний прием не состоится!
Граф поморщился и вышел, по пути ломая голову – что же это за гасконец, который вчера едва не отправил короля на тот свет, а сегодня принят им в опочивальне как самое доверенное лицо.
Едва за ним сомкнулись створки резной двери, ведущей в приемную, как Фангас откинул драпировку и гасконец вступил в опочивальню.
8
Король Генрих III буквально лопался от любопытства – до того ему не терпелось взглянуть на своего былого противника. Внешность его – благородная и мужественная – пришлась по душе монарху, к тому же гасконец проявил себя как непревзойденный фехтовальщик, что в глазах Генриха значило немало. Поэтому он милостиво произнес:
– Сударь, если наша беседа окажется продолжительной, присаживайтесь вон в то кресло. Ныне я в превосходном расположении духа и готов вас выслушать.
– Милость вашего величества безгранична, – ответил гасконец, тем не менее оставшись стоять, – однако я постараюсь быть предельно кратким. Думаю, вашему величеству и без меня сегодня будет достаточно забот!
– Что вы имеете в виду, месье?
– Если бы вы, государь, соблаговолили хотя бы на минуту приоткрыть одно из окон опочивальни… вернее, повелели мне это исполнить…
– При чем тут окно?
– Тогда бы вы убедились, что улицы Блуа до краев полны народа. Вы бы услышали рев труб, выстрелы из аркебуз и приветственные крики, которыми горожане обычно выражают свой восторг!
– В чем же причина подобного ликования?
– В том, что его высочество герцог Генрих де Гиз, метко прозванный в народе Меченым, намеревается вместе с вашим величеством участвовать в заседании Генеральных Штатов!
Тон гасконца был почтительным, но в нем отчетливо звучала насмешка.
Король нахмурился.
– Герцог де Гиз обязан дождаться моего дозволения на въезд в город, в данную минуту являющийся королевской резиденцией!
– Истинная правда, сир! Да ведь герцог и ждет, терпеливо ждет, потому что кому, если не ему, известна справедливость пословицы: «Кто умеет ждать, тот дождется большего!»
Король раздраженно взмахнул рукой, но в конце концов не удержался и шагнул к окну, толкнул створку и, навалившись на подоконник, высунулся наружу.
Гасконец был прав. Из окна королевской опочивальни была видна широко раскинувшаяся долина Луары, сама река и большая часть города. Улицы были полны ликующими толпами, которые сплошным потоком устремлялись к причалам, находившимся у подножия замка.
– Взгляните, сир, – негромко проговорил гасконец, стоя позади короля, – барка герцога сейчас находится несколько выше по течению!
Генрих III перевел взгляд – громадная барка под парусами, сплошь разукрашенная лотарингскими знаменами и гербами, величественно спускалась к Блуа по течению. Ее сопровождали тучи лодок и суденышек поменьше.
– У герцога неслыханно пышная и многолюдная свита! – добавил гасконец. – Право, сир, это больше похоже королевский эскорт!
Король мрачнел с каждым мгновением.
– А теперь взгляните на дорогу, что тянется вдоль этого берега реки, – продолжал гасконец. – Как ослепительно сверкает солнце на кирасах всадников и начищенных стволах аркебуз! Это воинство – тоже свита герцога.
Генрих побагровел и свирепо топнул ногой.
– Что, в конце концов, происходит? – рявкнул он. – Он что, намерен посмеяться надо мной, явившись сюда с целой армией!
– Так или иначе, но свита герцога де Гиза весьма напоминает регулярную армию, сир!
Король захлопнул окно с такой силой, что жалобно задребезжали стекла.
– В сущности, – продолжал гнуть свое гасконец, – герцог поступает вполне разумно, если его цель – показать вам, сир, что при необходимости он готов выставить тысячи вооруженных до зубов людей. Эта дисциплинированная и хорошо обученная лотарингская армия может в один прекрасный день соединиться с армией испанского короля…
– Что за чушь? – едва владея собой, выкрикнул король.
– Чушь? – тут же насмешливо отозвался гасконец. – Разве испанский король не истинный сын католической церкви?
– При чем тут это?
– Он не менее добрый католик, чем лотарингские герцоги. Разве Генеральные Штаты, созванные вашим величеством, не ставят своей целью укрепление католической церкви?
– Естественно! – король выглядел растерянным.
– А вместе с тем и искоренение гугенотов?
– До последнего отпрыска!
– Тогда вам, сир, следует знать, что это на руку испанскому королю и герцогу Лотарингскому!
– И каким же образом?
– Сначала – о короле Испании. Там, далеко на юге Франции, простираются обширные Пиренейские горы, чьи вершины поднимаются к самой небесной синеве. У их подножия, в долинах и ущельях, живет немногочисленный и довольно бедный народ. Но эта горстка храбрецов оберегает Францию от испанского вторжения, и пока они живы, испанский король не решится перейти границу нашей державы. Увы, но эти отважные горцы – гугеноты, а ваше величество стремится уничтожить их всех до последнего. И если эта цель будет достигнута, то руки у испанского короля будут окончательно развязаны, да и герцог де Гиз получит свою выгоду. Испанскому королю жарковато в Мадриде, ведь он немец по происхождению и не жалует тамошний климат. Зато в Бордо или Тулузе он будет чувствовать себя почти как дома…
– Но-но! Бордо и Тулуза принадлежат Франции!
– Возможно. Но королю кажется, что это поправимо. Что касается герцога, то он, наоборот, весьма теплолюбив. В Нанси зимой холодно, и река Мерт, протекающая через город, нередко покрывается толстым льдом. Мозельское вино, что дают тамошние виноградники, по мнению многих, кисловато… Однако герцог и не помышляет о небе Гаскони, ибо в любом случае предпочитает то солнце, что ложится на паркет через широкие окна Лувра!
– Да вы спятили, месье! Что это за бред?
– Мне и самому хотелось бы, сир, чтобы мои слова оказались не более чем бредом. К счастью, испанский король не способен в одиночку добиться своей цели, как и герцог де Гиз никогда не решится выступить без могущественного союзника. Но вместе они добьются своей цели, и довольно быстро!
Король в гневе вскочил, воскликнув:
– Да кто вы, собственно, такой, чтобы говорить со мной подобным образом?!
– Вы спрашиваете, кто я? А ведь мы с вами встречались, сир! Но если уж вы не припоминаете меня, благоволите вспомнить большой портрет, висящий на стене главного зала Сен-Жермен-ан-Ле?
– Но ведь это же… Это портрет короля Наварры Антуана, главы дома Бурбонов!
– Вы абсолютно правы!
– Но что же может быть общего между вами обоими?
– Взгляните на меня получше, сир!
Глаза короля впились в дышащее молодостью и здоровьем лицо гасконца. Внезапно Генрих пораженно отшатнулся.
– Как… Но разве это возможно?
Изысканная учтивость манер гасконца мигом улетучилась. Он нахлобучил на голову свою широкополую шляпу и, откинувшись в кресле, проговорил:
– Если верно, дорогой кузен, что все дворяне равны, начиная с герцога и заканчивая мелкопоместным землевладельцем, то о королях вполне можно сказать то же самое. Мое имя – Генрих де Бурбон, я – король Наварры. И, несмотря на то, что ваши владения бескрайни, а мои – просто крошечные в сравнении с вашими, мы все же можем подать друг другу руки как равные! И это не станет унижением ни для одного из нас.
Генрих III все еще не мог опомниться.
– Значит, вы – Генрих де Бурбон?
– Несомненно, сир!
– Мой кузен?
– Да, сир!
– И супруг моей сестры Марго?
– Ах, сир, не стоит в эту минуту напоминать мне о ней!
– То есть… Но почему?
– Хотя бы потому, что это может привести нас к обсуждению весьма и весьма щепетильных вопросов!
– Вы намекаете на то, что приданое сестры все еще вам не выплачено?
– Оставим это, сир. Возможно, мы и вернемся к этим делам, но лишь после заседания Генеральных Штатов!
– Почему бы и не сейчас?
– Потому что в эту минуту меня гораздо больше интересуют не мои, а ваши дела, сир! – Генрих Наваррский шагнул к зеркальному окну и снова распахнул его. – Проклятье! Скажем прямо: у нашего кузена де Гиза отменная армия, и я не поручусь, что ему не взбредет в голову осадить замок Блуа и захватить в плен ваше величество…
Генрих III едва заметно вздрогнул и непроизвольно нащупал рукоять шпаги.
9
Чтобы читатель глубже понял скрытый смысл беседы двух Генрихов, необходимо вернуться в набитый сокровищами тайный подвал, в который мэтр Гардуино привел на рассвете своего гостя.
Действительно, золотые и серебряные монеты ковром устилали весь пол подземелья. Здесь можно было отыскать монеты всех стран и эпох, а по углам высились четыре бочки, наполненные вовсе не вином, а слитками драгоценных металлов. Никто из жителей Блуа даже вообразить не мог, что полунищий отставной прокурор может оказаться владельцем таких ценностей!
Тщательно задвинув засов на двери, старик укрепил свечу на краю одной из бочек. Тем временем Генрих Наваррский устроился на донце другой.
– Что ж, дорогой мэтр, – произнес он. – Пора нам поговорить начистоту. Вы, разумеется, уже догадались, кто я такой?
– О, разумеется! – ответил старик. – Вы – один из приближенных короля Генриха… Возможно, граф Амори де Ноэ, о котором я наслышан…
– Ошибаетесь!
– Значит, де Гонто?
– Нет!
– Де Левис?
Генрих улыбнулся и потрепал старика по плечу.
– Бедняга Гардуино! Похоже, вам изменяет если не память, то зрение! Возможно ли такое: вы, друг моего отца, не узнаете сына, который похож на него как две капли воды?
Бывший прокурор ошеломленно потер глаза, всмотрелся – и в ту же минуту перед ним восстал образ Антуана де Бурбон, правда, помолодевшего на три десятка лет.
– Ваше величество! Простите великодушно! – забормотал старик в величайшем смущении и, с усилием преклонив колено, припал сухими губами к руке юного короля. Затем, еще раз взглянув на юношу, он восторженно воскликнул: – Истинная правда! Вы и в самом деле словно оживший портрет вашего венценосного батюшки!
– Оставим это, мой добрый Гардуино! – отмахнулся Генрих. – Как вы думаете, какую сумму составляет это сокровище? – Он широким жестом обвел подземелье.
– Восемьсот тысяч турских ливров[91], государь. Гугеноты копили его в течение двадцати лет.
– И оно позволит нам не только вести войну, но и одержать победу!
– Увы, я совсем одряхлел и едва ли доживу до победы…
– Кто знает?.. Но вот что еще важно: недостаточно располагать этими громадными деньгами. Чтобы воспользоваться ими, нам необходимо исхитриться и вывезти их отсюда!
– О, избавьте меня от них, государь, и чем скорее, тем лучше. С тех пор, как двор прибыл в замок Блуа и город заполнился приезжими, я каждый день умираю от страха, что по какой-то нелепой случайности наш тайник будет обнаружен. И прошу простить меня, но я не в силах понять, почему вашему величеству пришло в голову превратить мой дом в постоялый двор, да еще и такого пошиба, чтобы в нем могла остановиться сама герцогиня де Монпансье, наш заклятый враг!
– Вот что я отвечу вам на это друг мой. Еще в детстве мне доводилось слышать одну историю. Рассказывают, что король Людовик XI своим указом приговорил одного из дворян к смертной казни. Однако судья по имени Тристан в течение многих лет искал преступника по всей Франции – и безрезультатно. А в это время осужденный жил в Париже и благополучно дождался смерти короля и отмены приговора.
– Я полагаю, государь, этот Тристан был никуда не годным судьей!
– Ничего подобного! Он поставил вверх дном всю страну, но ему в голову не пришло послать стражу обыскать… свой собственный дом. А ведь именно в доме Тристана и поселился этот осужденный, сняв у него каморку в подвале. А теперь прикинь, мой добрый Гардуино. Мне достоверно известно, что католики откуда-то пронюхали о наших сбережениях. Больше того: герцог де Гиз получил от своих лазутчиков сведения, что наши сокровища спрятаны в Блуа. Само собой, лотарингцы примутся рыскать повсюду, но только не в том доме, в котором остановилась сама герцогиня Монпансье!
– Вы правы, государь!
– Теперь-то тебе ясно, почему твой дом превращен в солидный постоялый двор? Здесь наши сокровища будут в целости и сохранности, и мы сможем благополучно переправить их в Наварру!
– Но ведь это огромный груз! Как же тайно вывезти его отсюда?
– И об этом я уже подумал. Ближайшей ночью ты раздобудешь несколько таких же бочек, как та, на которой я сейчас сижу. А затем с помощью пажей герцогини, старшего и младшего, которые всецело мне преданы, заполнишь эти бочки монетами и слитками.
– Это-то несложно. Но как везти такую ценность через всю Францию?
– Это уж не твоя забота, старина!
Промолвив это, Генрих поднялся и в сопровождении Гардуино направился к выходу из тайника. Когда они вернулись в комнату, служившую бывшему прокурору одновременно спальней, столовой и гостиной, Гардуино, немного поколебавшись, произнес:
– А теперь, государь, я должен сделать важное признание. Я виновен в краже!
Король Наварры в недоумении взглянул на старика. Тот продолжал:
– Вам, разумеется, известно, что покои герцогини находятся в двух шагах от моей комнаты…
– Тогда тебе следовало бы говорить потише!
– Эти предосторожности излишни. Накануне вечером я подмешал к ее вину сильное снотворное средство. Сейчас она спит непробудным сном и не проснется еще час или два. Но едва она смежила веки, как я проник в ее опочивальню через потайную дверь в стене, ибо мне не терпелось узнать, что за послание доставил ей накануне рейтар[92] из отряда герцога де Гиза. Вот оно! – с этими словами Гардуино извлек из сундука плотный бумажный свиток со сломанными сургучными печатями.
Пробежав взглядом письмо, Генрих восхищенно воскликнул:
– Ах, дьявол! Моя очаровательная кузина – ловкий политик, но именно поэтому нельзя ни на минуту спускать с нее глаз! Это письмо, Гардуино, надобно немедленно вернуть на место. А завтра вечером за ужином тебе придется подсыпать ей еще одну порцию твоего адского зелья. Я явлюсь сюда около десяти, и мы перепрячем наше сокровище в более надежное место. А теперь прощай, старина, я должен спешить!..
Старик склонился в поклоне, а Генрих Наваррский отправился на ту самую аудиенцию у короля Генриха III, о которой шла речь в предыдущей главе.
10
Последние слова короля Наварры заставили Генриха III схватиться за шпагу. Он воскликнул:
– На чем основано ваше мнение? Вы в самом деле считаете, что герцог де Гиз решится осадить мою резиденцию?
– Нет, сир, я не говорил ничего подобного. Это ваши слова. Я сказал всего лишь то, что ему будет легко осуществить нечто подобное, имея под рукой свиту, больше похожую на армию, готовую к бою.
– Чепуха! Мы готовы отразить натиск любого врага!
– Ваша свита и гвардия малочисленны, сир… Только на рейтаров и швейцарцев можно положиться. Но важнее другое: вы намерены выступить рука об руку с герцогом де Гизом, чье растущее могущество представляет для вас серьезную опасность, против маленького народа, не представляющего для Франции ни малейшей угрозы. Наоборот!.. С вашего позволения, сир, я разовью эту мысль – ведь вы сказали, что охотно выслушаете меня. К тому же вполне очевидно, что я явился сюда в обличье бедного гасконского дворянина не в своих интересах, а в ваших собственных…
– Продолжайте же, любезный кузен!
– Ваше величество, если вы знаете Наварру, то поймете, что я беспокоюсь вовсе не о ее судьбе. Наши поля не так уж плодородны: каждый пшеничный стебель, пробиваясь к солнцу, вынужден сдвинуть с места камешек. Но высокогорные долины и пастбища покрыты густыми травами, наши девушки прелестны, а наше вино веселит и согревает сердца. Люди, живущие в горах, ближе к Богу и с пренебрежением относятся к роскоши. Да, мы бедны, но эта бедность не в тягость нам, и нам нет дела до того, что творится в блистательных столицах! В то же время на пиренейских перевалах, у подножия ледников, у входов в ущелья и вдоль берегов горных рек стоят многочисленные крепости, форты, редуты и бастионы. И если враг устремится из-за гор на равнины Прованса, я возьму свой верный рог, протрублю сбор, и в ответ на этот призыв из-за каждой скалы, с каждого клочка виноградника, из каждой хижины появится воин, вооруженный с ног до головы и готовый умереть по первому же приказу за свою родину!
– В самом деле? – иронически усмехнулся Генрих III.
– Именно так, сир, – нисколько не смущенный этой иронией, продолжал король Наварры. – Вы мечтаете истребить гугенотов? Однако для того, чтобы преуспеть в этом, вам придется заключить союз с испанским королем, лотарингскими герцогами и другими католическими властителями, но, несмотря на это, ни жалкий наваррский королишка, ни его крестьянское войско не сдадутся без самого ожесточенного сопротивления!
– Довольно дерзкие речи! – обронил король.
– Ничего удивительного, сир, – ответил кузен, – ведь в моих жилах течет та же кровь, что и в ваших! Но позвольте мне продолжить, ибо, как я уже говорил вначале, меня привели сюда вовсе не мои, а ваши интересы. Смею заверить, что вы обманываете себя, полагая, что именно вы будете председательствовать на заседании Генеральных Штатов, а целью этого заседания является борьба с гугенотами. Заседание возглавит тот, кто мнит себя истинным правителем Франции – герцог де Гиз. А истребление гугенотов задумано с одной целью – ослабить ваше величество. Только слепой не видит, что герцог уже давно примеряет вашу корону!
– Вы с ума сошли! – хрипло выкрикнул король, хватив кулаком по столу.
– Увы, нет, сир! Позволю себе довести до сведения вашего величества, что герцогиня Монпансье уже запаслась прелестными очаровательными позолоченными ножницами, посредством которых король Генрих III будет пострижен в монахи в ту же минуту, как Священная лига[93] объявит его низложенным и провозгласит королем Франции Генриха Лотарингского, герцога де Гиза!
Невольно вскрикнув, король отшатнулся. В его взоре мелькнул ужас. То, как король Наварры произнес эти слова, звучало с невероятной убедительностью, и Генрих Валуа буквально почувствовал, как его макушку холодит металл роковых ножниц коварной герцогини.
Кузен сжал его руку и продолжил тем же тоном:
– Посудите сами, сир: стал бы я, гугенот, ради пустых слов пробираться в чужом обличье в самое гнездо наших противников, положившись лишь на честь и благородство потомка Святого Людовика, нашего с вами предка! Этой смертельной опасности я подверг себя, чтобы своевременно предупредить ваше величество о грозящей лично вам жалкой участи. Разве после этого я не заслуживаю доверия? Если вы, сир, дорожите короной, вам не следует отвергать преданность маленького, но полного отваги народа, с чьей помощью вы наверняка сможете поставить на место и лотарингцев и испанцев!.. А теперь – прощайте! Вам известно, где меня отыскать; и если вам будет угодно увидеться со мной, дайте знать, и я немедленно явлюсь. Теперь же я хочу дать вам возможность углубленно поразмыслить над моими словами!
Почтительно поклонившись, Генрих Наваррский покинул опочивальню монарха через ту же потайную дверь, к которой его привел конюший Фангас. Оставшись в одиночестве, Генрих III принялся размышлять. Неужели кузен не лжет, отстаивая интересы гугенотов? Немыслимо! А что, если и в самом деле все именно так и обстоит?
Звук чьих-то осторожных шагов заставил короля отвлечься. Генрих поднял голову – перед ним стоял граф де Келюс.
– А, это ты, Жак! – рассеянно обронил Генрих.
– Да, государь.
– Где ты сейчас был?
– Прямо за этой дверью.
– Следовательно, ты все слышал?
– Да. Потому что интересы вашего величества – мои интересы!
– Значит, ты все знаешь?
– Я знаю одно, сир: этот король-еретик без государства, этот вконец обнаглевший гасконец осмелился интриговать против Франции и ваших ближайших друзей и союзников. Больше того – именно он добивается французской короны!
– Как! Этот наваррец?
– Это очевидно, сир!.. Было бы истинным проявлением государственной мудрости нынче же вечером арестовать его и отправить в Венсенский замок![94]
– О чем ты говоришь? Генрих Наваррский – мой кузен!
– И в то же время – гугенот! Поймите, сир, – вы только что поставили на карту спасение собственной души!
Король невольно вздрогнул и нащупал медальон с мощами, висевший у него на груди.
«Мальчишка-гасконец проиграл эту партию! – мелькнуло в голове де Келюса. – А герцог де Гиз многим обязан мне за находчивость!»
Генрих III все еще не мог взять себя в руки. Наконец, пробормотав короткую молитву, он снова обратился к графу:
– Ты прав, де Келюс. Я в самом деле рисковал быть осужденным на вечные муки в адском огне!
11
– Мой дорогой Рауль, – произнесла герцогиня, – известно ли тебе, что есть любовь?
– Ваше высочество, – отозвался бывший паж короля Карла IX, – любовь – это нечто такое, что каждый определяет со своей точки зрения.
– Это чересчур туманно!
– И все же я попытаюсь доказать вашему высочеству, что я прав!..
Эта беседа происходила в тот же день, когда Генрих Наваррский получил приватную аудиенцию у короля Генриха Валуа, в доме экс-прокурора Гардуино, по прихоти того же Генриха Наваррского превращенном в постоялый двор.
Стоял сумрачный декабрьский вечер. Над Луарой поднимался густой туман, пропитывая ледяной сыростью одежду редких прохожих. Однако в покое, где находилась Анна Лотарингская, герцогиня де Монпансье, в камине пылал жаркий огонь и все располагало к приятной беседе.
Читатель, вероятно, помнит, как Генрих Наваррский шутливо упрекнул Рауля в том, что он изменил своей давней сердечной привязанности – юной и пылкой брюнетке – и превратился в верного рыцаря сестры герцога де Гиза. Эта история стоит того, чтобы сказать о ней еще несколько слов.
Вскоре после кровавой Варфоломеевской ночи[95] Генрих Наваррский убедился, что сможет чувствовать себя в безопасности лишь при одном условии: если в окружении герцогов Лотарингии окажется человек, пользующийся их доверием и при этом всецело преданный королю Наварры. Только так Генрих мог проникнуть в замыслы своих врагов и быть готовым к отпору. Выбор короля пал на Рауля – в его пользу свидетельствовали красота, молодость, изысканные манеры и проницательный ум.
Спустя несколько дней герцогиня де Монпансье как бы случайно заметила на мосту Святого Михаила молодого дворянина, который буквально заливался горькими слезами. Герцогиня остановила карету неподалеку от Рауля – а это был не кто иной, как он, – и участливо поинтересовалась, в чем причина его горя.
– Сударыня! – отвечал Рауль, едва сдерживая рыдания. – Во время резни гугеноты убили мою невесту! Отныне я безутешен!
Говорить с красивой женщиной о любви к ней – девяносто шансов, что не будешь услышан. Но повествование о любви к другой – совсем другое дело. Тут вы в любом случае можете рассчитывать на внимание и жгучий интерес.
Глубокое горе юноши тронуло сердце герцогини; к тому же в то время сама она старалась забыть прежнего фаворита, и этот молодой человек, статный и красивый, показался ей подходящим средством от тоски. Вот почему она прихватила Рауля с собой в Нанси, и беседа, с которой началась эта глава, ясно свидетельствует, что это средство оказалось действенным…
Итак, Рауль заявил, что сможет доказать собеседнице: данное им определение любви – одно из самых точных. Вместе с тем он сразу же предупредил герцогиню:
– Если вашему высочеству угодно, я приведу неопровержимые доказательства, но извольте, мадам, запастись терпением, ибо речь моя не будет краткой!
– В предисловиях нет никакой нужды, – проговорила герцогиня, а затем взяла юношу за руку и, притянув его поближе к себе, усадила на обитую шелком скамеечку, стоявшую у ее ног. – Говори же, мой милый Рауль!
– Любовь, – начал юноша, – это, во-первых, порождение разгоряченного воображения, болезнь, которая сопровождается самыми разнообразными симптомами и не лечится одним и тем же лекарством.
– Ты полагаешь?
– При дворе покойного короля я знал одного дворянина, который утверждал, что самую пламенную любовь возбуждает та женщина, которая скверно обращается с вами и заставляет испытывать жестокие муки…
Герцогиня бросила на юношу красноречивый взгляд, в котором явственно читалось: «Неблагодарный!» Но Рауль невозмутимо продолжал:
– Если вы любите женщину страстно, она немедленно к вам охладевает; если же она сама испытывает подобное чувство к вам, то в самом скором времени ее общество становится для вас невыносимым.
– Не могу поверить, милый Рауль!
– Это уж как вам будет угодно. И тем не менее любовь чахнет и угасает на широкой и свободной дороге, где нет ни препятствий, ни ревности, ни измен. На самом деле ей просто необходимы всевозможные затруднения и тысячи адских мук, без которых она начинает походить на рыбу, выброшенную волной на берег, или певчую пташку, угодившую в воду.
– Не кажется ли тебе, что образ любви, нарисованный тобой, выглядит отталкивающе?
– Возможно, зато он правдив, и, если ваше высочество позволит, я докажу, что это совершеннейшая правда.
Не проронив больше ни слова, Анна Лотарингская бросила на юношу властный и одновременно чарующий взгляд. Рауль тотчас преклонил колени перед герцогиней и взял ее руку. Анна не отняла ее даже тогда, когда дерзкий юноша покрыл ее запястье поцелуями.
– Итак, слушаю тебя, мой разочарованный рыцарь! – произнесла она с тонкой улыбкой.
– Ваше высочество! – с горячностью продолжал Рауль. – Вам было угодно одарить меня, ничтожного и безвестного, своей благосклонностью и приблизить к себе. Здесь, в этом покое, мы одни, и наступил миг, когда гордая лотарингская принцесса исчезла, уступив место прекрасной женщине…
С этими словами Рауль, обняв герцогиню, припал к ее устам долгим поцелуем.
– И что же далее? Я хочу слышать!
– Сейчас, когда мы остаемся с глазу на глаз, мы всего лишь пара возлюбленных. Но уже завтра или, возможно, нынче вечером улицы Блуа заполнятся толпами простонародья, и во главе блистательной свиты, в окружении благороднейших представителей знати, в город вступит герцог де Гиз. Народ с приветственными кликами склонится перед герцогиней Анной, дочерью лотарингских владык, внучкой Людовика Святого, но никто не удостоит даже взглядом нищего дворянина, чья роль – всегда оставаться в тени!
Герцогиня обхватила ладонями голову юноши, зарывшись тонкими, унизанными кольцами пальцами в его шелковистые кудри, и вернула ему поцелуй.
– И оттуда, из этой тени, – продолжал Рауль, – ежеминутно ласкать вас взглядом, тайно боготворить вас в минуты, когда все остальные станут выражать вам свой восторг и преклонение, – это и есть мука, истинный ад, но в то же время и счастье…
– Ну, так будь же счастлив! – воскликнула герцогиня, снова награждая молодого человека поцелуем.
Рауль уже готовился развить свою любовную теорию, но в этот момент послышался стук в дверь. Прислуга мэтра Гардуино внесла ужин.
– Друг мой Рауль, – шепнула герцогиня, – ради того, чтобы доказать тебе, что любовь, которую ты приравниваешь к адской пытке, иной раз может превратиться в рай, приглашаю тебя поужинать вместе со мной!
Юноша ответил на приглашение радостным и взволнованным возгласом. Заперев дверь, он перенес уставленный яствами столик к креслу герцогини, а сам уселся напротив и, продолжая оживленно болтать, принялся ухаживать за своей госпожой.
– Не желаете ли отведать вот этого? – спросил он, берясь за хрустальный графин с белым вином.
– Что это за лоза?
– Луарское белое! Я предпочитаю его любому другому.
– Вот и пей его сам. А я верная поклонница журансонского! – с этими словами Анна взяла другой графин и наполнила свой бокал.
Ужин сопровождался милыми шутками и нежной пикировкой. Слушая остроумные речи пажа, герцогиня мелкими глотками попивала вино. Внезапно она проговорила:
– Как это странно!.. Меня нестерпимо клонит ко сну!
– Что же тут странного? – возразил Рауль. – Ваше путешествие было крайне утомительным, и я полагаю, что вы еще не вполне отдохнули!
Однако с каждой минутой Анна Лотарингская выглядела все более сонной и усталой, а часом позже уже спала глубоким сном без сновидений.
Как только ее дыхание стало ровным, а лицо разгладилось, Рауль покинул покои герцогини и направился к мэтру Гардуино. При виде юноши старик поднялся, глаза его вспыхнули:
– Итак?
– Она спит!
– Слава Всевышнему! Теперь мы можем без опасений впустить наваррского короля!
Рауль едва ли не бегом кинулся к входной двери и отпер ее.
12
На протяжении всего дня король Генрих III не имел возможности повидаться с Крильоном и обсудить с ним услышанное от наваррца. Но прибывший с большой помпой герцог де Гиз вел себя с такой глубокой почтительностью, так рассыпался в уверениях в безраздельной преданности, что король окончательно согласился с графом де Келюсом и пришел к выводу, что Генрих Наваррский – не кто иной, как мелкий провинциальный интриган.
Ближе к вечеру, оставшись наедине с де Келюсом, король оперся о стол и спросил напрямик:
– Итак, друг мой, ты не изменил своего мнения о моем кузене?
– Я уверен, государь, что будет большой ошибкой упустить этого наваррского проходимца, пытающегося рассорить ваше величество с верными друзьями!
– И ты полагаешь, что это так просто?
– Арестовать Генриха Наваррского? Видит бог, для этого достаточно трех ландскнехтов и капитана вашей гвардии.
– Но что скажет Крильон?
– Чепуха! Случай чрезвычайный, можно хотя бы раз обойтись в таком деле и без него. К тому же Крильона сейчас нет в Блуа!
– Вот это новость! И где же он?
Приняв таинственный вид, де Келюс беззастенчиво солгал:
– По моим сведениям, генерал срочно отправился в Орлеан, где у него есть на примете весьма состоятельная вдова. Ведь он недавно овдовел и намерен снова жениться!
– Вот как? Это даже забавно!.. Следовательно, Крильон не сможет нам помешать… Хм, это весьма существенно… Но как поступить с пленником, если я все-таки приму решение его арестовать?
– Отправьте его в Венсен, только и всего!
– Он может сбежать, и тогда ситуация резко ухудшится. Мой покойный брат, будучи на троне, однажды заключил Генриха Наваррского в тот же Венсенский замок, а он скрылся оттуда, и это, похоже, не составило для него особого труда.
– В таком случае остается единственный выход – без всякого шума отделаться от гасконского зазнайки! – Заметив, с каким отвращением король отшатнулся от него король, де Келюс поспешно добавил: – О, мне известно, сир, что вы не хотите оказаться замешанным в такие дела! Но разве у вас нет преданных друзей, владеющих шпагой? Мало ли какие ссоры происходят на ночных улицах, и никто не обязан знать, что перед ним – король Наварры, а не какой-нибудь заносчивый южанин! Невелика беда – одним покойником больше или меньше на дне Луары, тем более что об этом никто никогда не узнает!
– О каких друзьях ты толкуешь? Кто эти люди?
– Прежде всего – ваш покорный слуга. Затем – д’Эпернон и де Шомбург!
– Но я подверг де Шомбурга опале!
– Это верно, но подобные вещи совершаются не так уж быстро. Я думаю, что Фредерик еще не успел покинуть Блуа.
– Если он еще здесь, пусть остается. Я дарую ему прощение… Но вас всего трое, это слишком мало!
– Все, что мне нужно, сир, – это полномочия действовать. Об остальном вам незачем беспокоиться: все будет организовано, налажено и исполнено в глубокой тайне. Можно также обратиться за помощью к лотарингцам, не ставя их в известность о том, с кем придется иметь дело.
Генрих III все еще колебался. Наконец он проронил:
– Ты действительно уверен, что король Наварры злоумышляет против французской короны?
– Ни малейших сомнений!
– В таком случае поступай по собственному усмотрению. Я умываю руки!
– Что ж, – ответил мгновенно повеселевший де Келюс, – опрятность – не худшая из добродетелей. Однако если берешься за дело, тут уж не до чистоты рук!
С этими словами он поспешно направился к выходу из королевских покоев.
13
Едва оказавшись в мощеном известняковыми плитами дворе замка, граф де Келюс издали заметил мужскую фигуру, плотно закутанную в долгополый темный плащ. Миньон тотчас признал герцога де Гиза и, учтиво поклонившись, проговорил:
– Ваше высочество, благоволите уделить мне минуту внимания.
– Охотно, – ответил тот. – У вас ко мне дело?
– Я должен сообщить вам нечто весьма интересующее ваше высочество. Но для начала нам следовало бы отойти подальше от стены замка, ибо и у стен здесь имеются уши!
Де Гиз ответил коротким кивком. Достигнув середины обширного двора, де Келюс продолжал:
– Я мог бы оказать вашему высочеству важную услугу!
– Неужели? Я слушаю вас, граф!
– Вашему высочеству наверняка бы доставило удовольствие буквально одним ударом разделаться со своим злейшим политическим противником?
– Что вы имеете в виду?
– Разве я неясно выразился? Тогда скажите: как вы относитесь к королю Наварры?
– Как к заклятому врагу. Я ненавижу его всей душой!
– Выходит, вам было бы приятно узнать о его кончине?
– Разве он умер? – вздрогнул де Гиз.
– О, еще нет, но… Ждать этого совсем недолго, если мы уладим некоторые вопросы с вашим высочеством!
– Бросьте эти нелепые титулы! Говорите толком: вы желаете предложить мне какую-то сделку?
– Именно. Причем такую, какую я не стал бы предлагать наполовину разоренному наваррскому королю!
– Следовательно, вам нужны деньги, месье де Келюс?
– Вы проницательны, герцог! Я погряз в долгах, и мне во что бы то ни стало необходимы сто тысяч ливров, чтобы вырвать свои поместья из лап евреев-ростовщиков.
– Сто тысяч турских ливров? – удивился де Гиз.
– Вы полагаете, что жизнь короля Наварры не стоит такой безделицы?
– Сперва поясните, какая связь между названной вами суммой и Генрихом Наваррским.
– Если я получу эти деньги сегодня, то завтра… завтра ваше высочество узнает, что с его кузеном Генрихом де Бурбон случилась большая беда.
– Разве он в Блуа?
– Я совершенно уверен в этом!
– Значит, он скрывается у здешних гугенотов?
– Вполне вероятно, герцог!
– Но если это так и мне, как вы полагаете, так уж необходимо отделаться от кузена, то…
– Вы намекаете на то, что сможете обойтись без меня?
– Посудите сами, граф: сто тысяч турских ливров – большие деньги, целое состояние!
– То есть вы рассчитываете сэкономить на мне? С вашей стороны это будет ошибкой. Если я не приму участие в этом деле, король Наварры безусловно успеет покинуть город!
– Ну, Блуа не так велик, и если как следует поискать…
– Что ж, ищите! Но даже если вы и найдете его, в чем я сильно сомневаюсь, радости это вам не принесет: вы только вызовете гнев короля Франции и испортите все дело!
– А против вас он ничего не будет иметь?
– Дорогой герцог, если я берусь за дело, значит, чувствую твердую почву под ногами!
– Итак, вы все-таки желаете получить свои сто тысяч…
– О, в эту минуту мне будет достаточно слова вашего высочества…
– Что ж, даю вам его!
– Но понадобится кое-что еще…
– Как? Разве этого недостаточно?
– Мне нужны полдюжины рейтаров из числа тех, кто сочтет за честь отдать жизнь за ваше высочество!
Герцог окликнул пажа и велел ему позвать капитана Теобальда. Вскоре из темноты возникла фигура великана со зверской физиономией. Де Гиз вполголоса обронил несколько слов, и капитан, небрежно поклонившись де Келюсу, растворился во мраке.
Уже через четверть часа по тесным улочкам Блуа бесшумно пробирался небольшой отряд, состоявший из девяти человек. Все они были в полумасках; завидев их, прохожие торопливо жались к стенам, бормоча:
– Опять это дворянское отродье вышло на поиски приключений!
Отряд, возглавляемый де Келюсом, направился прямо к дому сира де Мальвена, но его предводитель постучал не в его ворота, а в окно по соседству. Окно тотчас распахнулось, оттуда высунулась голова того самого причетника, который недавно снабдил миньонов приставной лестницей.
– Где он? – резко спросил граф.
Причетник, очевидно, зная, о ком речь, мгновенно ответил:
– Ушел ближе к вечеру и пока не возвращался.
– Ты проследил за ним? Сможешь проводить нас туда?
Окно захлопнулось, затем причетник возник в дверях и повел де Келюса и его отряд в торговый квартал. Там он остановился перед домом мэтра Гардуино и коротко проговорил:
– Здесь!
– Но ведь это всего лишь постоялый двор!
– Возможно. Доподлинно мне это неизвестно, я редко заглядываю в эту часть города.
– Ты уверен, что он там?
– По крайней мере, я своими глазами видел, как он туда вошел.
– Ладно, проваливай! Вот тебе за труды!
Граф бросил причетнику золотую монету, и тот, ухмыляясь, нырнул за угол.
Обернувшись к своим спутникам, среди которых выделялся исполинским ростом капитан Теобальд, де Келюс проговорил:
– Для начала попробуем постучать и, придумав какую-нибудь уловку, проникнуть в дом. Если же нам не откроют, придется действовать силой.
«Лишь бы не столкнуться здесь с Крильоном!» – пробормотал под нос граф, в действительности не имевший ни малейшего понятия о том, где в действительности находится начальник королевской гвардии.
Однако он сразу же отбросил эту мысль и взялся за дверной молоток.
14
Часом ранее король Наварры шел этой же дорогой, а сопровождал его именно тот человек, которого так опасался де Келюс.
– И все же, сир, я по-прежнему уверен, – вполголоса обратился к Генриху генерал, – что вы, подвергнув себя смертельной опасности, прибыли в Блуа вовсе не для того, чтобы наставить нашего монарха на путь истинный. Разумеется, ваши слова должны были произвести на него глубокое впечатление…
– Я совершенно уверен, – перебил Генрих, – что он об этом даже не помышляет. Если же подобное впечатление и возникло, герцог де Гиз уже предпринял все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы рассеять его.
– Но если это так…
– Не важно, мой добрый Крильон. Все дело в том, что я поклялся королю Карлу IX, пребывавшему на смертном одре, что постараюсь помешать его преемнику на троне совершить ту же жестокую политическую ошибку, которую совершил он. Вернее, был вовлечен в целую цепь ошибочных действий и решений. Я исполнил свою клятву, хотя ни на миг не верил, что добьюсь результата. Но раз уж я в Блуа…
– Тогда я окончательно запутался, сир. Ради чего вы приехали сюда? Надеюсь, не затем, чтобы повидаться с герцогиней Монпансье?
– Ну уж нет! Герцогиня все еще ненавидит меня, хотя от ненависти до любви – один шаг, а порой и меньше. Так что я не теряю надежды… Впрочем, у меня есть цель намного более серьезная, чем мимолетное любовное приключение! Выслушай меня очень внимательно! Ты, должно быть, не раз слыхал, что в течение целых сорока пяти лет предводители гугенотов копили франк за франком, надеясь, что рано или поздно эти сбережения образуют фонд на случай неизбежной войны с католиками и их союзниками.
– Разумеется, слыхал. Равно как и то, что это самое «сокровище гугенотов», которое я, признаться, считаю досужей выдумкой, ныне достигло неописуемо громадных размеров.
– Знай же, Луи: оно существует на самом деле и находится не где-нибудь в горах Наварры, а здесь, в Блуа!
– Вот тебе и раз! Честно говоря, я бы предпочел, чтобы оно лежало в более надежном месте!
– Вот оно-то и привело меня в Блуа! – воскликнул Генрих, а затем поведал своему спутнику то, что уже известно нашим читателям. Когда король окончил, Крильон с сомнением заметил:
– Но почему, сир, вы решили, что в бочках золото будет сохраннее?
– Сырость не может повредить золоту, друг мой. Все дело в том, что бочки иногда путешествуют!
– Что именно вы имеете в виду, сир?
– Тебе наверняка известно, что по Луаре ходят целые караваны вместительных грузовых барок, перевозящих сено, зерно и топливо. Я приобрел одну из них. Ее команда состоит из моих приближенных в одежде матросов. На этой барке мы сможем беспрепятственно переправить все золото к морскому побережью. Но гораздо сложнее доставить бочки из дома мэтра Гардуино на причал, и тут я рассчитываю на тебя, мой Луи!
– Я жду приказаний, сир!
– Ну, так слушай же и запоминай. Пройдя до самого конца этой улицы, ты свернешь налево и окажешься на береговом откосе. Там ты увидишь стоящий уединенно довольно большой дом. Это большой и довольно грязный трактир под вывеской: «Добрый сеятель».
– Он мне известен.
– Несмотря на то что стража уже подала сигнал тушить огонь, трактир открыт всю ночь напролет. Ты постучишь, а когда трактирщик откроет, спросишь, доставлено ли уже вино из Божанси. Если он ответит утвердительно, входи. Там ты застанешь припозднившуюся компанию, среди которой окажется немало хорошо знакомых тебе лиц. Приведи этих людей к дому прокурора.
Де Крильон, не медля ни минуты, отправился выполнять поручение и вскоре оказался у дверей трактира. Назвав хозяину пароль и получив надлежащий ответ, генерал вошел в плохо освещенное помещение, где за столом, заставленным опустошенными бутылками, сидели с полдюжины матросов.
Впустив незнакомца, трактирщик в нерешительности затоптался на пороге, недоверчиво оглядывая подозрительного посетителя. Но тут один из матросов крикнул:
– Тысяча чертей! Да ведь это же Луи де Крильон собственной персоной! Живо запри дверь, дружище Трепассе, этот господин – из наших!
Трактирщик задвинул засов, а генерал в полном недоумении приблизился к столу, за которым восседала удалая компания, и вгляделся в лицо окликнувшего его матроса.
– Ба! Да ведь это же граф де Ноэ! – изумленно воскликнул он.
– Он самый, генерал, он самый!
Крильон перевел взгляд на другого матроса:
– Здесь и месье Лагир!
– Разумеется!
– А остальные господа?
– Это наши друзья… Вы, должно быть, от него?
– Верно. Барка готова?
– Еще бы. А бочки?
– Их как раз сейчас наполняют. Дело за вами!
Де Ноэ обернулся к трактирщику:
– Трепассе, живо – надежную телегу и трех лошадей в запряжку! Самое время отправиться за тем самым вином, которое мы обязались доставить по назначению!
Как только трактирщик вышел, граф проговорил, обращаясь к де Крильону:
– Вы, генерал, должно быть, не рассчитывали увидеть нас в таком обличье?
– Признаюсь – никак не ожидал! – ответил тот.
– Что ж, хоть костюмы у нас матросские, зато шпаги остались дворянскими, и они при нас!
С этими словами граф де Ноэ указал на шестерку добрых клинков, смирно пристроившихся в укромном углу.
15
Едва войдя в дом мэтра Гардуино, Генрих спросил, все ли благополучно обстоит с ее высочеством герцогиней. Получив ответ: «Беспробудно спит», он занялся укупоркой бочек, в которые бывший прокурор и Рауль буквально лопатами ссыпали золото и серебро. Затем с помощью Рауля король Наварры начал поднимать их по лестнице в прихожую, готовя к погрузке. Внезапно с улицы донеслись звуки множества шагов и приглушенные голоса.
Генрих мгновенно задул лампу и шепотом велел Раулю и старику хранить полное молчание. Затем он прислушался. Чей-то голос произнес: «Здесь!» – затем в ответ прозвучала реплика графа де Келюса.
«Ага! – нахмурился наваррский король. – Ошибки быть не может – голос этого малого я слышал сегодня утром в королевском замке!»
Отведя в сторону мэтра Гардуино, Генрих спросил шепотом:
– Старина, найдется ли в твоем доме добрая аркебуза?
– Даже две, и обе в превосходном состоянии!
– Они заряжены?
Получив утвердительный ответ, король одними губами воскликнул:
– Отлично! А теперь – следуйте оба за мной!
Он направился во внутренние покои. Гардуино и Рауль последовали за ним как раз в ту минуту, когда послышался стук в дверь. В кабинете бывшего прокурора Генрих остановился и сказал:
– Все совершенно очевидно, друзья! Король Франции, милостиво выслушавший мои речи сегодня утром, теперь, по-видимому, решил от меня отделаться. Придется защищаться! Гардуино, давай свои аркебузы, да поживее, а я тем временем постерегу у входа.
Спустившись к входной двери, Генрих припал к крошечному смотровому глазку, так хорошо замаскированному, что его не было видно снаружи. Де Келюс, уже в третий раз принимавшийся стучать, но так и не получивший ответа, советовался со своими сообщниками.
– Причетник обвел тебя вокруг пальца! – недовольно проговорил д’Эпернон. – Если бы это был постоялый двор, нам давным-давно открыла бы прислуга!
«Еще один давний знакомец! – подумал Генрих Наваррский. – Это же Жан д’Эпернон, если меня не подводит слух!»
– Надо стучать сильнее! – прохрипел де Шомбург.
«Ба! И этот мне известен!» – ухмыльнулся Генрих.
– А если они все же не откроют?
– Значит, вышибем дверь!
– Хм… Не так-то это просто. Дверь дубовая, и окована железными полосами!
Генрих, наблюдавший через глазок за происходящим на ступенях, увидел, как к двери приближается громила Теобальд.
– Вам не о чем тревожиться, господа, – пробасил великан, – мне еще не доводилось встречать такой двери, которая устояла бы перед моим напором! Иные мне удавалось вышибить одним-единственным ударом плеча!
Де Келюс выхватил шпагу и принялся колотить эфесом в дверь, зычно крича:
– Эй, проклятые мерзавцы! Откроете ли вы в конце концов посланцам самого короля?
Ответом служило полное безмолвие. Де Шомбург сказал:
– Ну-ка, месье Теобальд, продемонстрируйте-ка нам свой знаменитый удар плечом!
– Не извольте сомневаться! – прогудел могучий рейтар и уперся в дверь спиной, готовясь всей массой на нее налечь. При этом его спина закрыла глазок, через который Генрих следил за происходящим.
«Что тут поделаешь! – пробормотал наваррец. – У всякого смертного – своя судьба!»
Обнажив шпагу, он вставил клинок в смотровое отверстие, с силой подал его вперед – и тут же выдернул обратно. Великан-тевтон коротко вскрикнул и, хрипя, сполз на ступени.
В первое мгновение де Келюс и его сообщники решили, что гиганта от напряжения хватил апоплексический удар, но в следующую минуту они поняли свою ошибку.
– Смотрите – кровь! Кровь! – закричал один из рейтаров, бросившийся к своему капитану.
– Тише! – прошипел граф, услыхавший грохот колес телеги, которая сворачивала из глухого переулка на мостовую.
Генрих Наваррский, от которого также не ускользнули эти звуки, рассмеялся.
«Теперь наши силы равны! – подумал он. – Пусть только попробуют!»
16
Возглас рейтара изумил сообщников де Келюса.
– Кровь? – растерянно повторил де Шомбург. – Не может быть!
– Смотрите сами! – выставив перед собой окровавленные ладони, ответил рейтар.
В самом деле: из глубокой раны на спине капитана Теобальда толчками выплескивалась кровь. При этом за дверью по-прежнему не было слышно ни малейшего шума, а сама дверь даже не думала открываться.
– Проклятье, откуда здесь взялась эта кровь? – проговорил де Келюс, все еще не в силах осознать случившееся.
Однако телега приближалась, грохоча по булыжной мостовой. Д’Эпернон воскликнул:
– Погодите, господа! Пусть это мужичье минует нас, а уж тогда обследуем эту адскую дверь, убивающую одним прикосновением. С горожанами лучше не связываться, не то поднимется такой шум, что хоть святых выноси!
Все члены небольшого отряда поспешили прижаться к стене или укрыться в нише по соседству. Однако телега, как оказалось, вовсе не стремилась миновать жилище бывшего прокурора, превращенное в постоялый двор. Наоборот: возница рванул вожжи, осадил тройку крепких лошадей и остановил повозку прямо перед входом.
Де Келюс выругался сквозь зубы. Что могло здесь понадобиться этим людям в столь поздний час?
– Езжайте своей дорогой, любезные! – проговорил он. – Сигнал тушить огонь давно подан; не ровен час, вас застанет стража. Вам ведь наверняка известно, что ждет тех, кто в такое время болтается по улицам!
Графу ответил насмешливый голос:
– Да ведь никто и не болтается, сударь! Мы прибыли на место и остановились там, где нам надобно!
– Проезжай, мужлан, сказано тебе! – в бешенстве рявкнул де Келюс.
Выхватив шпагу, он угрожающе двинулся к телеге, за ним тотчас последовали остальные миньоны и рейтары.
– Вот вы как? – продолжал тот же голос. – Я вижу, у вас славная компания, сударь!
– Убирайся отсюда! – выкрикнул де Шомбург и попытался ухватить одну из пристяжных лошадей под уздцы.
Одновременно в первом этаже дома распахнулось окно, из которого послышался голос Генриха:
– Ага! Уж не наш ли это друг Ноэ?
– Он самый! – отозвался молодчик в матросской робе, первым вступивший в прения с де Келюсом.
– Отменно! Ноэ, любезный, я пересчитал этих бродяг – их было всего девять. Одного я уложил, осталось восемь. А много ли вас на телеге?
– Семеро! – ответствовал Ноэ.
– Следовательно, почти вдвое больше, чем потребуется, чтобы разогнать этот сброд! Мы с мэтром Гардуино очень просим: освободите нас от присутствия этих господ!
Генрих не успел закончить, как блеснула вспышка и раскатился звук пистолетного выстрела. Рядом с ухом короля Наварры пропела пуля, расщепив косяк окна.
– Вы неуклюжи, как медведь, месье д’Эпернон! – хохотнул Генрих. – Такой стрельбой не выслужить даже плохонького орденочка!
– Это он! Гасконец! – взревел де Шомбург.
– За дело, Ноэ! Задай им солидную трепку и гони пинками до самых ворот замка!
Де Ноэ, Лагир и остальные гасконские дворяне, сверкая обнаженными шпагами, уже окружили отряд де Келюса. На телеге оставался лишь один из спутников де Ноэ – рослый массивный мужчина, невозмутимо восседавший на козлах. Судя по всему, он сознательно, остался в тылу на тот случай, если его сотоварищам понадобится подмога.
Несмотря на крайнюю изнеженность, граф де Келюс был человеком не робкого десятка. Он не побоялся бы сойтись в поединке с кем угодно, и только Луи де Крильон внушал ему непреодолимый ужас. И неудивительно – де Крильон в те времена считался практически непобедимым бойцом, а его огромный опыт позволял ему одолевать даже физически вдвое более сильных противников. И теперь граф спокойно ожидал, когда же вступят в схватку де Ноэ и его товарищи.
Рейтары встретили приближавшихся гасконцев залпом из аркебуз. Однако спешка подвела их: из рядов атакующих выбыл всего один противник. Никто не собирался предоставлять им возможность перезарядить аркебузы, и рейтарам пришлось встретить противника лицом к лицу.
Де Келюс, д’Эпернон и пятеро наемников сошлись с гасконцами, и те в первые же мгновения вывели из строя двоих рейтаров. Сражающиеся тотчас разбились на пары – в этих поединках не принимали участия со стороны гасконцев только возница, а со стороны миньонов – де Шомбург, который тем временем предпринял новую попытку высадить дверь дома мэтра Гардуино.
Обнаружив это, кучер неторопливо покинул козлы, приблизился к де Шомбургу и веско произнес: «Прошу прощения, месье, но я вижу, вы не заняты. Посему…» – с этими словами он обнажил шпагу.
Фредерик де Шомбург, едва взглянув на того, кто бросил ему вызов, испуганно вскричал:
– Здесь сам де Крильон!
Де Келюс, до этой минуты успешно отражавший натиск графа Амори де Ноэ, услышав этот возглас, встревоженно обернулся – и тотчас рухнул на землю, сраженный метким выпадом де Ноэ!
Лагир и д’Эпернон рубились ожесточенно, не уступая ни пяди, но освободившийся де Ноэ поспешил на помощь к своим младшим друзьям, расправлявшимся с рейтарами.
Тем временем де Шомбург довольно прилично отражал выпады де Крильона, который пребывал в превосходном расположении духа.
– Любезный де Шомбург, – наконец заметил генерал, – не скрою, вы заслуживаете самой высокой похвалы. Фехтуете вы на славу!
– Большая честь – скрестить с вами оружие! – самодовольно ухмыльнулся де Шомбург.
– Вот потому-то я и пощажу вас в течение некоторого времени. Просто ради того, чтобы мы могли немного поболтать.
– Убейте меня, если сможете, но в пощаде я не нуждаюсь!
– И все-таки, – продолжал де Крильон, – какого дьявола вы здесь оказались, месье?
– А вы?
– Я здесь для того, чтобы помочь друзьям!
– Но ведь и я тоже!
– Вот как? Тогда продолжим!
Но продолжить им не удалось: возгласы и лязг клинков разбудили весь квартал. Возмущенные вопли разбуженных мирных горожан привлекли внимание дюжины рейтаров, пировавших в кабачке по соседству, и те тотчас кинулись на подмогу соотечественникам.
– Черт возьми! – проворчал де Крильон. – Это уже смахивает на самое настоящее сражение! Пора заканчивать!
Он сделал невообразимо сложный выпад, и де Шомбург рухнул на землю, как сноп.
Д’Эпернон, уже трижды раненный Лагиром, готовился удрать с поля боя, но появление рейтаров вернуло ему присутствие духа. Неожиданно в верхнем этаже дома Гардуино распахнулись два окна – в них возникли король Наварры и Рауль, поводя стволами аркебуз. Два выстрела слились один, и пара рейтаров, словно споткнувшись на бегу, рухнули на мостовую. И тут же прогремел могучий голос генерала, способный заглушить даже артиллерийскую канонаду:
– А, проклятые канальи! Выходит, вы забыли, что меня зовут Луи де Крильон?
Спустя несколько минут на улице перед домом отставного прокурора валялись шесть бездыханных тел. Де Шомбурга и графа де Келюса, которые еще подавали признаки жизни, перенесли в соседний дом, а д’Эпернон с уцелевшими рейтарами трусливо обратились в бегство.
Слегка отдышавшись, де Крильон обратился к Генриху Наваррскому:
– Мы должны спешить, сир! Если французский король узнает о гибели своих миньонов, у него хватит ума бросить на нас целую армию!
17
– Ты совершенно прав, друг мой, – ответил Генрих. – Я бы и сам не прочь как можно скорее покинуть Блуа, но… мы обязаны прихватить с собой престарелого сьера Мальвена и его внучку Берту!
– Вот как? – с улыбкой отозвался Крильон. – Готов поручиться, что вы уже…
– Это правда, мой добрый Крильон. Как душа моя с восторгом откликается на звон оружия, так и сердце широко открывается навстречу всякой новой страсти! Но, помимо того, этим двоим – старцу и юной девушке – грозит страшная опасность…
– Однако мои люди охраняют их, сир! С девушкой ничего не может случиться.
– Сегодня – да, но как знать, что будет завтра! Нет уж, Луи, отправляйся туда и приведи обоих прямо на барку!
Генерал коротко поклонился и отправился исполнять поручение короля. Тем временем Генрих приказал вносить из прихожей бочки с золотом и грузить их на телегу. Погрузка заняла не больше четверти часа, и уже можно было отправляться к причалу, но в последнее мгновение Генриху пришла в голову неожиданная мысль.
– Минуту, господа! – воскликнул он. – А не обзавестись ли нам пропуском, с которым нас не посмеет остановить ни одна католическая армия в мире?
– Что же это за пропуск? – полюбопытствовал Лагир.
– Сейчас поймете! – усмехнулся Генрих и, отведя в сторону мэтра Гардуино, негромко проговорил: – Я удостоверился, старина, что твое снотворное зелье действует отменно – несмотря на весь этот шум, герцогиня даже не проснулась. Но как продолжительно его действие? Хватит ли его хотя бы еще на пару часов?
– Что, собственно, вы намерены предпринять, сир?
– Ничего особенного: укутаю герцогиню плащом, возьму на руки и перенесу на барку!
– Сир! Какая мысль!
– Ты находишь? Тогда скажи: не проснется ли она прежде, чем окажется на судне?
– Нет, сир. Этот порошок будет действовать по меньшей мере до рассвета.
– Превосходно! Тогда – за дело!
Генрих подозвал де Ноэ и, посвятив его в свой план, встретил полное одобрение со стороны храброго гасконца.
Герцогиня по-прежнему находилась в наркотическом забытьи, у ее изголовья дежурил младший паж – тот самый юнец, что проникся смертельной ненавистью к приятелям Анны Лотарингской и в результате стал верным помощником Рауля.
Остановившись у ложа спящей, Генрих некоторое время всматривался в ее лицо, а затем произнес:
– И все-таки она поразительно красива, согласись, Амори!
– Это красота тигрицы, сир!
– Да, но тигры – красивые животные, с этим не поспоришь!
– Вот оно что! Я и позабыл о широте сердца вашего величества. Видно, оно не прочь вместить еще одну страсть?
– Хм… Как знать? Хотя сам я, пожалуй, пребываю в сомнении. Герцогиня, как-никак, моя кузина; помимо того, мне приходит в голову множество самых противоречивых мыслей…
– И, конечно же, одна лучше другой!
– Прежде всего следовало бы обратить Анну в протестантство, а для этого необходимо оградить ее от тлетворного влияния католической церкви. С этой целью мы ее и похитим!.. Не сочти за труд, любезный Ноэ, одолжи нам на время свой плащ!
Амори де Ноэ повиновался. Затем король Наварры, на лице которого все еще играла улыбка, вызванная его собственной шуткой, вместе с Раулем подняли бесчувственное тело женщины с постели, осторожно переместили на широкий суконный плащ графа и плотно закутали, оставив открытым только лицо.
– Друзья мои! – шутливо провозгласил Генрих, которому чувство юмора не изменило даже в такой напряженный момент. – Не годится обращаться с принцессой Лотарингской как с какой-нибудь дамой простого звания! Чтобы коснуться ее, надлежит быть как минимум принцем крови, потому-то я сам и займусь ею!
С этими словами он взвалил герцогиню на плечо и двинулся к выходу.
Мэтр Гардуино запер дверь, вверив свое жилище милосердию Божьему, и последовал за королем Наварры и графом де Ноэ к берегу Луары. Замыкали это шествие Лагир и Рауль, сжимавшие рукояти обнаженных шпаг.
– О, если б вы знали, сколько очарования в этой женщине! – вздохнул Рауль. – Какое несчастье, что я все еще люблю свою Нанси…
– По-прежнему?
– И даже больше, месье Лагир!
– А я, увы, слишком предан своему государю, – с таким же тяжелым вздохом подхватил Лагир. – Иначе я… я бы последовал за герцогиней даже на край света!
– Пока что вам придется последовать за ней всего лишь в Наварру!
– Вы полагаете, что король возьмет ее с собой?
– А как же иначе! Грешно было бы выпустить из рук такую заложницу!
– Тогда, по крайней мере, у меня остается хотя бы шанс попытать счастья с нею!
– До чего же вы наивны, мой дорогой!
– Но почему?
– Трудно даже вообразить, кто бы мог быть счастлив с этой фурией…
– А наш король?
– Да что вы! Генрих Наваррский ненавидит ее в той же мере, как и герцогиня его!
– Но от ненависти до любви, хоть это и звучит банально, – один шаг. Кроме того, король вовсе не чужд любовных приключений и побед на его счету – без счета!
– Аминь! – кивнул Рауль и снова вздохнул, припомнив, что еще совсем недавно надменная герцогиня была для него всего лишь обычной влюбленной женщиной.
18
При первых проблесках рассвета на фоне мутного декабрьского неба забрезжили очертания прибрежных холмов. Блуа уже давно скрылся из виду, барка стремительно неслась, подгоняемая быстрым течением вздувшейся от дождей Луары.
На палубе была разбита палатка, внутри которой на мягкой кушетке уложили все еще спящую герцогиню. Сьер де Мальвен и Берта устроились на корме. Их взгляды провожали родные края, которые оба покидали навсегда. Гасконцы, одетые матросами, умело правили баркой, держа судно на середине русла. Младший паж и Рауль дежурили у изголовья герцогини, дожидаясь ее пробуждения, а Генрих и Амори де Ноэ прогуливались вдоль борта, беседуя о событиях минувшей ночи.
– Сир, – наконец решился спросить граф, – я все еще не понимаю, что за пропуск, о котором вы говорили вы перед нашим отплытием из Блуа?
– Этот пропуск – герцогиня Лотарингская, друг мой!
– Герцогиня?
– До той минуты, пока она находится у нас на борту, никто не осмелится нас задержать. А почему – этого тебе сейчас не понять. Скажи-ка лучше, который час?
– Около семи утра.
– Если мэтр Гардуино прав, герцогиня будет почивать еще около часа. А за это время мы минуем Сомюр! Тебе наверняка известно, что в Сомюре расположена речная застава, гарнизон которой составляют люди герцога Франсуа, еще одного моего очаровательного кузена, который искренне меня ненавидит.
– Если вы угодите к нему в лапы инкогнито, сир, он без промедления прикажет вас повесить!
– К счастью, я хорошо осведомлен. Капитан, командующий речной стражей, – лотарингец. Он хорошо знает герцогиню. Остальное ты вскоре увидишь сам!
Вскоре среди клочьев утреннего тумана замелькали лачуги в пригородах Сомюра. В русло реки здесь далеко вдавалась низкая песчаная коса – на ее оконечности и располагалась застава. Задолго до того, как барка Генриха приблизилась к ней, от заставы отчалила небольшая лодка, в которой находились четверо стражников и начальник заставы.
Как только они поднялись на палубу барки, глава стражников немедленно пожелал увидеть ее капитана. Генрих тотчас направился к нему и приветствовал служаку на безукоризненном немецком языке.
– Кто вы такие? – осведомился капитан.
– Люди герцога де Гиза! – ответил Генрих.
– Куда следуете?
– В Нант.
– С каким грузом?
Генрих улыбнулся.
– Боюсь, что ваше любопытство чрезмерно, мой капитан!
– Что? – взревел тот. – Известно ли вам, молодой человек, что перед вами капитан Герман, состоящий на службе у его высочества герцога Анжуйского? Я имею право знать все, что касается судов, следующих по Луаре!
– Мне это известно, как известно и то, что прежде вы служили Лотарингскому дому.
– Вы не ошиблись, юноша, но какое это имеет отношение…
– А раз так, вы должны знать в лицо герцогиню де Монпансье.
– Само собой! Ведь я состоял в ее гвардии!
– Тогда взгляните сюда!
С этими словами Генрих подвел толстяка к палатке, бережно откинул полог и указал на спящую принцессу.
Капитану хватил одного взгляда: он испуганно отпрянул, отвесил неизвестно кому низкий поклон и поспешно бросился к лодке, чтобы отдать своим людям распоряжение беспрепятственно пропустить барку герцогини.
Кода застава осталась позади, Генрих обратился к де Ноэ:
– Ну что, надежен наш пропуск? Не будь этой дамы у нас на борту, мы бы так легко не отделались!
– Да, но как мы дальше поступим с герцогиней? – полюбопытствовал Ноэ.
– Для начала надо создать сносную обстановку, достойную знатной особы! – ответил Генрих. – Бери Рауля и займитесь убранством одной из кают. В трюме сыщется кое-какая мебель, а у Рауля – неплохой вкус. К тому же он до тонкости знает все привычки герцогини. За дело, друг мой, времени у нас совсем немного!
Де Ноэ в точности исполнил сказанное. Вот почему Анна Лотарингская, едва открыв глаза, обнаружила, что находится в довольно уютном и богато обставленном, но совершенно незнакомом месте.
– Где я? Что со мной? – растерянно пробормотала она, озираясь.
В это время в каюту между шторами пробился солнечный луч, и мысли Анны приняли иное направление. Она вскочила, бросилась к окну и откинула штору. Перед ней расстилалась обширная водная гладь!
Герцогиня беспомощно схватилась за виски, а затем отчаянно закричала:
– Рауль! Сюда! Ко мне, мой Рауль!
В ту минуту Анна Лотарингская поступила так, как поступают все женщины, оказавшиеся в опасности: из ее уст вырвалось имя того мужчины, которого она любила последним!
Однако на этот призыв никто не отозвался. Анна метнулась к двери, но та оказалась надежно запертой. Напрасно она стучала, продолжая звать Рауля, напрасно в бешенстве царапала холеными ноготками обшивку двери – все ее неистовство было бесполезно!
19
Как только ярость герцогини несколько улеглась, она взяла себя в руки, уселась на постели и принялась рассуждать.
– Ясно только одно, – сказала она себе, – поскольку кто-то воспользовался моим состоянием, чтобы переместить меня сюда, этот человек не намерен считаться с моей волей или желаниями. Следовательно, сколько бы я ни протестовала, это не даст никакого результата. Надо успокоиться, выждать и попытаться понять, что за этим стоит. С врагом, действующим тайно, бессмысленно бороться в открытую!
Придя к такому выводу, герцогиня поднялась, вернулась к окну и тщательно осмотрела его. Увы, окно оказалось слишком узким, чтобы она могла в него протиснуться. Зато за ним был хорошо виден холмистый берег реки с жухлой травой и редкими купами голых деревьев. Нигде не было видно ни малейших признаков человеческого жилья. Пейзаж не двигался, значит, судно, на котором она находилась, стояло на месте. Но что это за место?
Пока Анна в недоумении вглядывалась в туманную даль, дощатый настил под ее ногами дрогнул, покачнулся, и прибрежные холмы медленно поплыли назад. Барка снова двинулась вниз по течению.
Из этого герцогиня сделала вывод, что ее плавучая тюрьма пока еще не прибыла к месту назначения. Но что это за судно, кому оно принадлежит и куда направляется?
Впрочем, спешить не стоило: рано или поздно похититель объявится, и как знать (тут герцогиня тщеславно усмехнулась) – может, эта ловушка устроена не врагом, а обезумевшим влюбленным!
Взглянув на себя в зеркало из отполированной бронзы, висевшее на стене, Анна принялась приводить в порядок растрепавшиеся волосы. Другая женщина в такой ситуации давным-давно потеряла бы голову, но герцогиня Лотарингская должна быть во всеоружии, а ее главное оружие – красота!
Приведя себя в порядок, она снова стала рассуждать:
– Что могло случиться с моим Раулем? Мужчина, который не готов умереть, защищая возлюбленную, не достоин имени дворянина. Но Рауль – дворянин, он искренне любил ее, а это означает, что он убит. Иначе она не оказалась бы в таком положении!
Герцогиня глубоко вздохнула, две слезинки выкатились из уголков ее прекрасных глаз. Таким образом была отдана дань прежнему любовнику, а в следующее мгновение мысли Анны обратились к тому, кто ныне стал хозяином ее судьбы, а может быть, и жизни.
Внезапно ее сердце учащенно забилось: за дверью послышался звук шагов, затем в замке со скрежетом повернулся ключ и дверь распахнулась. На пороге возник красивый юноша, при виде которого герцогиня мгновенно почувствовала себя помолодевшей на несколько лет.
– Это… вы? – не скрывая изумления, произнесла Анна, узнав в вошедшем Лагира – отважного гасконца, с которым несколько лет назад она пережила настоящую любовную феерию, увенчавшуюся глубоким разочарованием.
– Готов служить вашему высочеству! – Лагир преклонил колено, поймал руку герцогини и дерзко поцеловал.
Анна тотчас отдернула руку и пронзила наглеца грозным взглядом.
– Значит, это твоих рук дело? – спросила она. – И ты посмел…
– Я не мог поступить иначе, ваше высочество!
В его словах прозвучала такая глубокая печаль, что Анна моментально поняла: молодой гасконец все еще любит ее и не в силах забыть. Должно быть, этот нищий мелкопоместный дворянин получил наследство и истратил его на то, чтобы организовать похищение той, без которой он не мыслил свою жизнь…
– Где мы находимся? – отрывисто поинтересовалась герцогиня.
– На Луаре.
– А куда плывет судно?
Лагир только развел руками:
– Не знаю, госпожа моя.
Даже если бы у ног Анны в ту минуту взорвалась бомба, она была бы поражена меньше. Как это понимать?! Гасконский мальчишка похитил даму королевской крови и понятия не имеет, куда теперь везет?
– Как это может быть? – возмущенно воскликнула она.
– Капитан судна не посвятил меня в свои планы.
– Что? Капитан?.. Значит, это… это не ваша затея?
– О, ни в коем случае, ваше высочество!
– Но что вы здесь делаете в таком случае?
– Я пришел, чтобы исполнить поручение капитана!
Анна метнула на гасконца еще один взгляд – на сей раз полный презрения – и пренебрежительно проговорила:
– Выходит, я ошиблась… И что же нужно от меня вашему капитану?
– Он желает быть представленным вашему высочеству.
– Как его зовут?
– Я не уполномочен объявлять его имя.
– И вы осмелились…
– Герцогиня! – неожиданно холодно возразил Лагир. – Я всего лишь получил распоряжение и исполнил его! Итак: угодно ли вам принять капитана?
– Пусть войдет!
Лагир коротко поклонился и исчез за дверью.
В ту же минуту лицо герцогини исказила гримаса. Она спрятала его в ладонях и прошептала:
– Он больше не любит меня!
Затем она стала ждать, чувствуя, как ее охватывает все более глубокий трепет. Наконец за дверью вновь зазвучали шаги и в каюту, держа в руке широкополую шляпу с пером, вошел плечистый молодой человек. С широкой улыбкой на смуглом лице он произнес:
– Желаю здравствовать, очаровательная кузина!
Герцогиня в ужасе отпрянула к окну. В голове у нее промелькнуло: «Я погибла, и все остальные тоже! Этот неотесанный южанин перехитрил нас всех!»
20
Прежде чем отправиться к Анне, Генрих обстоятельно привел себя в порядок. Он был тщательно причесан, надушен и разодет не хуже любого миньона короля Франции. И герцогиня не была бы столь опытной и искушенной женщиной, если бы, несмотря на потрясение, не заметила этого.
Переступив порог каюты, Генрих продолжал:
– Моя прелестная кузина, не хмурьтесь и не мечите на меня убийственные взгляды. Вам это не к лицу. Клянусь, когда вы узнаете, каким образом все это случилось…
– Вы пытаетесь оправдать насилие, учиненное вами над особой королевской крови? – поспешно перебила герцогиня.
– Именно так! Но если вы столь же добры, как и прекрасны, позвольте мне вашу ручку!
– А что последует за этим?
– Можете учинить мне форменный допрос, чтобы убедиться: я далеко не такой злодей, каким вам сейчас кажусь!
Король Наварры держался так шутливо, галантно и непринужденно, что Анне пришлось сменить гнев на милость. Она протянула ему свою холеную руку и тотчас проговорила:
– Итак, где мы сейчас находимся?
– Разумеется, на Луаре!
– А точнее?
– Где-то между Сомюром и Анжером.
– Уже легче! А откуда мы отчалили?
– Оттуда, где вы так крепко уснули, – из Блуа.
– Это был необыкновенно крепкий сон – ведь обычно я просыпаюсь от малейшего шороха!
– О да! Но об этом позаботился мэтр Гардуино.
– Кто это?
– Владелец дома, который вы приняли за постоялый двор. Он подмешал к вашему вину наркотическое зелье.
Герцогиня вспыхнула.
– Выходит, Рауль – предатель? – возмущенно воскликнула она.
– Как мой подданный, он не мог не выполнить приказание своего государя. Впрочем, все это уже не имеет никакого значения. Вы, должно быть, вообразили, что я похитил вас из-за того, что вы – истинная вдохновительница католической партии?
– А как еще вы можете объяснить это насилие?
– Вы чрезвычайно далеки от истины. Готовы ли вы выслушать меня внимательно? – Генрих снова поцеловал руку герцогини и продолжил: – До вас наверняка доходили слухи о том, что гугеноты собрали значительные средства, надеясь обеспечить ими ход неизбежной в будущем войны с католиками. А что вам известно о том, где прятали свое сокровище гугеноты?
– Но ведь это никому не известно! И сам король, и мои братья упорно разыскивали его, но ничего не добились…
– Они, герцогиня, не завладели этими громадными ценностями только по одной причине: они находились слишком близко. Золото гугенотов было спрятано в Блуа, в доме того самого отставного прокурора Гардуино, у которого вы на несколько дней сняли лучшие покои! Пришло время, и нам понадобилось вывезти его оттуда. И тогда…
– И тогда вы инкогнито явились в Блуа?
– Именно так!
– Но при чем здесь я? Зачем вы…
Генрих устремил на Анну нежный, полный сдержанной нежности взгляд:
– Готовы ли вы поверить мне, если я чистосердечно признаюсь?
– Все зависит от того, о чем пойдет речь.
– Тогда слушайте, Анна. Прежде чем покинуть дом Гардуино, я не устоял перед искушением и поднялся в вашу опочивальню, чтобы напоследок еще раз взглянуть на вас. Вы сладко спали и показались мне столь прелестной, что из глубины моей памяти всплыли некоторые детские воспоминания…
– Что вы имеете в виду?
– Однажды, мальчишкой четырнадцати лет, я побывал в Сен-Жерменском замке, где как раз в то время расположился двор короля Франциска II. Среди придворных дам я заметил девочку-подростка моих лет с глубокими синими глазами и золотистыми волосами. Ее образ глубоко запал мне в душу. Это были вы, Анна…
– В самом деле? – насмешливо обронила герцогиня.
– О, в те времена религия и политика еще не тревожили безмятежную лазурь этих прекрасных глаз. Ваше сердце еще не знало страстей, зато мое было ранено сразу и надолго.
– Уж не собираетесь ли вы объясниться мне в любви, кузен? – насмешливо поинтересовалась Анна.
– Вы совершенно правы, прекрасная кузина!
– Вы… вы меня любите?
– Не стал бы это отрицать, даже если б и хотел!
– Значит, чтобы доказать свою любовь ко мне, вы и похитили меня? – смеясь, задала следующий вопрос герцогиня Лотарингская.
– Исключительно с этой целью!
– Вы сошли с ума!
– Не важно! Ведь я люблю вас! – Генрих стремительно опустился на колени перед герцогиней, схватил обе ее руки и осы́пал их поцелуями, полными нескрываемой страсти.
Тяжеловесная барка продолжала свой бег вниз по течению, направляясь к устью прекрасной даже в это время года Луары.
21
Усевшись на палубе, Рауль и Лагир доверительно беседовали.
– Если б вы знали, друг мой, – наконец произнес Лагир, – как страстно она любила меня!
– Да ведь и меня тоже, любезный Лагир!
– Никогда не поверю, чтобы ее высочество испытывала к вам подобные чувства!
– Придется!
– Как? Неужели вы считаете, что женщины способны любить многократно? Верно, что у них бывают причуды и капризы, но истинная любовь – всегда одна-единственная.
– Следовательно, именно вам принадлежала эта «истинная любовь», дружище?
– Не знаю. Но так мне казалось, и довольно долго.
– Поразительная наивность! Забудьте об этом раз и навсегда. В любовных делах женщины ничем не отличаются от мужчин. А те, как известно, способны испытывать страсть одновременно к нескольким женщинам!
– Со мной ничего подобного не случалось… По-вашему, выходит, что герцогиня…
– По-моему, в то время, когда вы наслаждались «единственной истинной любовью», герцогиня делила свои милости между вами и графом Эрихом Кренкером!
– Этого не может быть! – в бешенстве вскричал Лагир.
– Вы ревнуете к прошлому? – иронично осведомился Рауль. – Это просто нелепо!
– В самом деле, друзья, гораздо больше смысла имело бы ревновать вашу даму к настоящему! – послышался позади чей-то насмешливый голос.
Оба приятеля обернулись – говорившим оказался де Ноэ. Молодой граф опустился рядом на доски палубы.
– Именно так, я ничуть не преувеличиваю. Видит бог – я горячо люблю и почитаю нашего короля, но должен признаться – порой он просто выводит меня из себя!
– Что случилось? – несказанно удивились Рауль и Лагир.
– Как вы думаете, где он находится в эту минуту? – спросил де Ноэ, и сам же ответил: – У ног герцогини Лотарингской, своего злейшего врага!
– Надеюсь, только для того, чтобы посмеяться над ней?
– Ничего подобного! Он даже не скрывает того, что боготворит ее…
– Ну, граф, это просто неуместное преувеличение! – вспыхнул Рауль. – Я повидал немало причудливых любовных связей при различных дворах, но чтобы король Наварры искренне полюбил герцогиню Монпансье, готовую выпустить из него по капле всю кровь!..
– Ах, Рауль, вскоре вы убедитесь еще и в том, что герцогиня весьма восприимчива к нежным словам нашего Генриха!
Рауль и Лагир обменялись многозначительными взглядами.
– Знаете что, Лагир, – усмехаясь, проговорил Рауль, – сдается мне, что оставлять барку под командованием нашего дорогого де Ноэ становится опасно. Он явно нездоров и бредит!
– Месье Рауль, – тут же возразил граф, – я не причисляю себя к тем, кто не понимает шуток, и всегда готов отплатить той же монетой. Но я готов поставить сотню пистолей[96] на то, что не пройдет и двух дней, как герцогиня пламенно полюбит нашего короля!
– В конце концов, – хмыкнул Рауль, – у нее всегда было полным полно капризов и причуд!
– А я… я готов держать пари на эту сумму! – подхватил Лагир, который все еще не мог смириться с тем, что герцогиня способна полюбить кого-либо, кроме него самого.
– Ставлю полсотни на то, что наш король никогда не полюбит герцогиню по-настоящему! – добавил Рауль.
– Ваши ставки приняты, господа! – с комической серьезностью объявил де Ноэ.
Между тем Генрих Наваррский все еще пребывал у ног Анны Лотарингской.
Герцогиня с полным основанием считалась самым изощренным политиком своего времени в Европе, но прежде всего она была женщиной и, конечно же, не могла остаться равнодушной к чувствам столь мужественного и красивого человека, будь он хоть трижды ее врагом. К тому же Генрих в тот день буквально превзошел себя. Прежде ей не удавалось как следует присмотреться к правителю крохотной Наварры, но сейчас она с удивлением обнаружила, что он вовсе не похож на того грубого мужлана, одетого в домотканое сукно и пахнущего сапожной кожей и чесноком, – именно таким его изображали при европейских дворах. Осознав это, Анна пустила в ход весь арсенал непревзойденной кокетки.
– И скажу вам откровенно, моя прекрасная кузина, – продолжал начатую речь Генрих, – за всю мою жизнь мне довелось только дважды пожалеть о том, что я родился принцем! Впервые это случилось, когда мне было пятнадцать лет и я влюбился в очаровательную цветочницу Флеретту. Я хотел жениться на ней, но этому, разумеется, воспрепятствовала моя матушка…
– А второй раз, кузен?
– Это и есть второй раз!
Герцогиня, с улыбкой взглянув на Генриха, проговорила:
– Почему вы уверены, что высокое происхождение отдаляет вас от меня?
– Не только оно! Прежде всего нас разделяют политические интересы.
– Какие глупости! – с очаровательной кошачьей гримаской возразила Анна. – Не очень-то вы задумывались о политике, похищая меня!
– Для меня любовь на первом месте, кузина!
Герцогиня расхохоталась так звонко, что этот смех был услышан даже на палубе.
– Вам нужны доказательства? – пожал плечами Генрих.
– Разумеется!
– Смотрите: наше судно остановилось. На правом берегу в полумиле отсюда расположено селение…
– И что же?
– Прямо сейчас мы сойдем на берег и остановимся в единственной здешней гостинице. Немного передохнув, вы можете приказать заложить лошадей и преспокойно вернуться в Блуа. Никто не станет чинить вам препятствий. Тем самым я докажу вам, что вы вовсе не пленница.
– Кажется, вы забыли о том, что вы – король Наварры!
– Сейчас я помню лишь о том, что безумно влюблен! – ответил Генрих.
Анна промолчала, а затем задумчиво проговорила:
– Сейчас я еще не слишком тоскую по своей свободе. Поэтому продолжим наш путь!
22
Надеялся ли Генрих на подобный ответ? Был ли уверен в своем неотразимом обаянии? Это никому не известно. Вместе с тем он не выказал ни малейшего удивления и ограничился лаконичным ответом:
– Будет так, как угодно вам, кузина!
– Значит, вы в самом деле меня любите? – спросила Анна.
– Да, это несомненно!
– Вы, король Наварры и супруг Маргариты Валуа?
– Будет вам! Марго первой покинула меня после памятной ссоры в Ажене и вернулась в Париж. По отношению к ней моя совесть чиста!
– Но задумывались ли вы, кузен, о том, что наши семьи враждуют уже много лет. Мои братья…
– Не стоит об этом! – Генрих вновь припал к руке герцогини и продолжил: – Я хотел бы сделать вам два предложения – одно из области чувств, а другое – политического свойства!
– Пожалуй, начнем с последнего!
– Не стоит. Там все крайне запутанно, тогда как то, что связано с моими чувствами, весьма просто и ясно.
– Говорите же, кузен, я слушаю вас!
– Ваш брат, герцог де Гиз, остановился в королевском замке, но вы избрали своей резиденцией дом скромного горожанина, никак не подобающий вашему высокому званию. Из этого я рискую заключить, что вы не собирались официально присутствовать на заседании Генеральных Штатов.
– У меня имелись для этого веские основания!
– Превосходно! Как бы там ни было, но, повинуясь внезапному капризу, вы вдруг взяли и покинули Блуа…
– Не вполне по собственному желанию, право!
– Нет, кузина, такой взгляд на это событие мне не нравится! Не забывайте: только что я предлагал вам свободу, но вы…
– Вы совершенно правы. Продолжайте!
– Вскоре наше судно прибудет в Бретань. Там у меня масса друзей; ни король, ни лотарингские герцоги туда не дотянутся. В тех же краях обитает в собственном замке сьер д’Энтраг, надежный друг моего отца. Если вам будет угодно, мы с вами задержимся там на несколько дней, а моя команда поведет судно к намеченной цели.
– И что же это за цель?
– Гасконь, кузина. Барка спустится до Пенбефа и двинется дальше вдоль морского побережья.
– А мы с вами тем временем воспользуемся гостеприимством сьера д’Энтрага?
– Верно. Его замок расположен несколько ниже Ансени. Мы окажемся там завтра на рассвете.
– И что же дальше?
– Дальше? Господь всемогущий! Разве любовь не отыщет средство примирить наш род с вашим?
В то же мгновение с палубы донесся голос де Ноэ – граф призывал Генриха.
– Что там случилось? – спросил король.
– Барка остановилась, и я жду ваших дальнейших приказаний, сир! – ответил де Ноэ.
– Благодарю, я вскоре поднимусь к вам! – ответил Генрих и обернулся к герцогине:
– Итак, вы приняли решение провести ночь на борту нашего судна?
– Разумеется, – кивнула Анна. – Таким образом мы быстрее достигнем владений сьера д’Энтрага.
– Я восхищен, мадам. Не соблаговолите ли вы пригласить меня поужинать с вами?
– Вы и в самом деле неотразимы! Ступайте на палубу и возвращайтесь как можно скорее!
Генрих с галантным вздохом поднялся с колен.
– Между прочим, – жестом остановила его герцогиня, – в вашей свите состоит один гасконский дворянин – его имя Лагир. Будьте любезны в дальнейшем не посылать его ко мне.
Смахнув с лица непрошеную улыбку, Генрих ответил:
– Вероятно, вы предпочтете пользоваться услугами вашего бывшего приближенного Рауля?
– Он тоже здесь, этот предатель, содействовавший моему похищению?
– Какие мелочи! – добродушно усмехнулся Генрих. – Разумеется, Рауль привязался к вам, но мне-то он предан гораздо больше!
– Тогда избавьте меня от удовольствия видеть и его! – в глазах герцогини на мгновение вспыхнула молния.
– Я предоставлю вам для услуг любого другого из моих гасконцев, а через самое короткое время вернусь и сам! – с этими словами Генрих Наваррский покинул каюту, оставив герцогиню в глубоком раздумье.
Спустя несколько минут легкое покачивание судна возвестило, что оно продолжает свой путь. Затем раздался стук в дверь и двое гасконцев внесли сервированный на двоих изящный резной столик. Один из них тотчас скрылся за дверью, а второй с почтительным поклоном обернулся к герцогине, ожидая приказаний. Этот рослый и голубоглазый юноша был красив той меланхолической и мечтательной красотой, которая свидетельствует о нежности души и глубокой чувствительности. В то же время герцогиня безошибочно определила, что этот темнокудрый молодой человек, натура совершенно девственная, способен на самую пламенную страсть и беззаветное самопожертвование.
Ей захотелось испытать на нем всепобеждающую мощь своей красоты. Анна вышла из затененного угла, в котором оставалась до сих пор, и остановилась так, что лучи заходящего солнца озарили ее лицо. Гасконцу оказалось довольно одного взгляда – он замер в восхищении! Даже в самых затаенных мечтах ему не являлось столь дивное создание!
Отметив для себя произведенное впечатление, герцогиня Лотарингская заговорила, придав своему голосу самое обольстительное звучание. В Нанси недаром говорили: не надо видеть герцогиню Монпансье, чтобы окончательно потерять голову: достаточно услышать только звук ее голоса.
– Не вас ли, месье, король Наварры приставил к моей особе? – осведомилась женщина.
Гасконец склонил голову в поклоне, смущенный и до крайности взволнованный.
– Представьтесь, прошу вас!
– Меня зовут Гастон, ваше высочество.
– Прелестное имя, месье, и оно мне весьма по душе!
Гасконец густо покраснел, а герцогиня подумала: «Не пройдет и дня, как этот малый будет безумно влюблен в меня!»
Вслух же она сказала:
– Вы состоите в свите наваррского короля?
– Да, ваше высочество.
Анна сделала знак, что он может быть свободен, однако прибавила с улыбкой:
– Попросите моего кузена спуститься сюда, иначе ему придется ужинать без меня!
Гастон, окончательно очарованный, со всех ног бросился выполнять просьбу, а герцогиня подумала: «Ну, что ж, любезный кузен, как ты ни ловок, мы еще поборемся!»
23
Поздней ночью, весело отужинав с герцогиней, король отправился в свою каюту. Барка продолжала неторопливо двигаться вниз по реке. Анна Лотарингская прилегла на кушетку, покрытую медвежьей шкурой – охотничьим трофеем Генриха, и погрузилась в размышления. Их предметом был вовсе не наваррский король, а бочки с золотом, стоявшие в трюме судна.
«Мой красавчик кузен, – думала она, – весьма красноречив, и его слова о внезапно вспыхнувшей любви ко мне звучат довольно убедительно. Но мне ли не знать, что в действительности ему нужно только одно: без помех и препятствий доставить сокровище гугенотов в безопасное место. Что касается меня, то я готова сделать все что угодно, лишь бы это золото не попало в руки еретиков, да истребит их Господь серным пламенем! Но как этого добиться? Для Священной лиги будет страшным несчастьем, если проклятые гугеноты получат средства, на которые можно нанять и экипировать целую армию… Генрих верит, что в Бретани груз, обременяющий трюм этой барки, окажется в полной сохранности, а он сам и его люди – в безопасности. Но это не так. Действительно, Бретань кишит вероотступниками, но там найдется и немало добрых католиков, а гарнизоном Ансени командует офицер, глубоко преданный королю Франции. Все, что ей требуется – найти средство предупредить начальника гарнизона. Тогда экипаж барки будет немедленно схвачен и брошен в тюрьму, а судно и его груз – арестованы. Но каким образом все это осуществить?
Горячечные размышления и тревога подняли герцогиню на ноги. Вскочив с кушетки, она подошла к окну. Ночь выдалась ясной, ярко светила луна. Судя по очертаниям берегов, барка сейчас находилась вблизи границы Анжу и Бретани.
«Замок сьера д’Энтрага расположен ниже по течению, чем Ансени, и там, как и в Сомюре, имеется речная застава. Если бы удалось предупредить начальника стражи, то все могло бы пойти так, как я и надеюсь. Но как это сделать?»
Продолжая ломать голову, Анна выглянула в оконце и окинула взглядом палубу. Она была пуста, лишь у руля маячила рослая мужская фигура, закутанная в плащ. Всмотревшись, герцогиня узнала молодого гасконца по имени Гастон.
«Вот оно – столь необходимое мне орудие!» – с внезапным торжеством подумала она и, набросив отороченную мехом накидку, бесшумно вышла из каюты.
В самом деле – у руля нес вахту Гастон. На протяжении всего вечера его неотступно преследовал прекрасный и недоступный образ этой властной и обольстительной женщины. Юноша грезил, и временами ему казалось, что он готов отдать жизнь за ночь любви с герцогиней, а рассудок подсказывал ему, что в этом нет ничего несбыточного. Он молод, силен, красив и страстен, и хотя не слишком родовит, но ведь и Анна Лотарингская, как он знал, не так уж щепетильна в этих вопросах. Время текло медленно, и постепенно мечты совершенно завладели всем его существом.
В таком состоянии его и застал де Ноэ, поднявшийся на палубу, чтобы убедиться, все ли в порядке на вахте. Уже уходя, граф сказал юноше:
– Около трех часов утра мы приблизимся к Ансени. Как только вдали появятся очертания колоколен городских церквей, немедленно разбуди меня!
– Будет исполнено, – кивнул Гастон.
– Но еще до того слева ты увидишь водяную мельницу. Будь внимателен, не пропусти ее. В этом месте постарайся вести барку как можно дальше от левого берега. В этих местах еще летом начали строить плотину, выворотили со дна Луары массу громадных валунов, да так и бросили. Если барка зацепит днищем эти камни, то немедленно пойдет ко дну.
– Я буду начеку, – заверил Гастон.
Как только де Ноэ ушел, юноша снова погрузился в мечты. «А почему бы герцогине и в самом деле не полюбить меня, – размышлял он. – Ведь дарила же она свою благосклонность и Лагиру, и Раулю… Во всяком случае я не предал бы ее так жестоко, как Рауль! О нет, за ее любовь я готов заплатить даже бессмертием души и последовать за возлюбленной хоть на край света!»
Течение его мыслей было прервано звуком легких шагов по палубе. Гастон обернулся и едва не вскрикнул от изумления: перед ним была та, о которой он грезил! Анна успела зажать ему рот нежной ладонью, благоухающей лавандой, и поспешно проговорила:
– Тише, Гастон! Меня совсем замучила бессонница, и я вышла глотнуть свежего воздуха.
Сердце Гастона забилось так, словно вот-вот выскочит из груди. Герцогиня уселась на бухту канатов у борта и продолжала:
– Вы уже давно на вахте, месье Гастон?
– Около двух часов, герцогиня.
– А где остальные вахтенные?
– Я один. Мы все стоим у руля по очереди.
– А почему вы так напряженно всматриваетесь в левый берег?
– Стараюсь своевременно заметить мельницу, ваше высочество.
– Что за мельница?
В двух словах Гастон поведал о том, что сообщил ему де Ноэ.
– Вы хорошо плаваете? – вдруг спросила она.
– Не хуже рыбы, ваше высочество!
Неожиданная и поистине дьявольская мысль вспыхнула в изощренном мозгу герцогини. Если барка наткнется на камни, бочки с золотом гугенотов уйдут на дно реки. Впоследствии их можно будет поднять; а если и нет – беда невелика, так как еретики и сами не смогут до них добраться… Такой поворот событий был бы весьма ей на руку.
– Ах, Боже правый! Следите же внимательно! – с нарочитым испугом воскликнула она. – Если мы столкнемся с этими валунами…
Юноша ответил ей взглядом, полным невыразимого восхищения, и проговорил:
– Ничего не бойтесь, выше высочество! Что бы ни случилось, я сумею вас спасти!
Анна приблизилась к юноше почти вплотную и многозначительно поинтересовалась:
– Случалось ли вам когда-нибудь бывать в Париже, месье?
В голосе ее звучала затаенная нежность.
– Никогда, мадам!
– Неужели? Значит, вы и понятия не имеете о жизни королевского двора?
– Увы, нет.
– Но ведь только там и может рассчитывать на карьеру столь красивый, одаренный и отважный дворянин, как вы!
Гастону едва удалось скрыть невольную дрожь.
– И только там он может обрести… Истинную любовь! – таинственным шепотом добавила герцогиня.
Юноша страстно взглянул на Анну: в тот миг она была хороша, как демон-искуситель!
24
Расставшись с герцогиней, Генрих Наваррский поднялся на палубу барки. Было довольно поздно, но де Ноэ, Рауль и Лагир все еще оставались там, продолжая беседу.
Лагир произнес:
– Нет, этого не может быть, чтобы герцогиня действительно полюбила нашего короля!
– Сердце женщины – тайна! – вздохнул Рауль.
– Поживем – увидим! – качая головой, проворчал де Ноэ.
– Друзья мои, – вмешался Генрих, слышавший последнее замечание. – Это поистине золотые слова: Поживем – увидим! Но, чтобы жить дальше, необходимо как следует есть и спать. И, поскольку вы уже поужинали, я бы советовал всем отправиться на боковую!
Лагир с Раулем откланялись и спустились вниз, а граф остался с глазу на глаз с королем. Генрих насмешливо полюбопытствовал:
– Не слишком ли рискованные пари ты заключаешь, друг мой Амори?
– Почему вы так решили, сир?
– Потому что ты можешь проиграть их!
– Как? Вы, сир, думаете…
– У меня нет других мыслей, кроме одной: как доставить наши бочки на место в целости и сохранности.
– И чтобы скоротать время, ухаживаете за герцогиней?
– Ты же не станешь отрицать, что моя кузина необычайно хороша собой?!
– Она столь же красива, сколь и лицемерна!
– Ну и что! Мера за меру, как говорит Библия… Но я хочу во что бы то ни стало добиться ее любви!
– Но ведь вы не любите ее!
– Разумеется, нет. Если бы я любил всех женщин, которые в меня влюблены, у меня не осталось бы времени вообще ни на что!
– Тогда – в добрый час!
– Все, что мне требуется, – чтобы герцогиня пылко любила меня хотя бы в течение одного часа. И это не каприз, а дальновидный политический расчет… Ты удивлен? Ну, так слушай же! Даже если это и случится, весь остаток своих дней Анна будет смертельно меня ненавидеть. Интересы наших семей слишком различны, чтобы эта ненависть могла в обозримом будущем сойти на нет. Вот почему, когда любовь отступит, ненависть вспыхнет с удвоенной силой. Но ненависть, которую питает уязвленное самолюбие, слаба и нерешительна. Герцогиня возненавидит наваррского короля сильнее, чем прежде, но лишится той твердости руки, той уверенности в поступках, какими обладала до сих пор. Столкнувшись со мной, она смутится, побледнеет и дрогнет, а в голове у нее останется всего одна мысль: «Я была его рабыней, прихотью, узницей!» Понимаешь ли ты меня?
– Не стану утверждать – ответил де Ноэ. – Я не слишком хорошо разбираюсь в вопросах политики и еще меньше – в тайнах женской души. Но я понимаю одно…
– Что именно?
– Сир, позвольте дать вам добрый совет!
– Говори, друг мой!
– Мы доставим герцогиню в Наварру, верно? А у нас в По имеется одна башня со стенами толщиной в двенадцать футов с дверьми, покрытыми тройной стальной броней…
– Продолжай!
– В ней я бы и заточил Анну Лотарингскую, а сам отписал ее проклятым братцам, выставив кое-какие условия…
– Что ж, возможно, твой совет и пригодится, – промолвил Генрих.
На этом разговор был окончен.
Постояв еще несколько минут на палубе, король спустился в каюту, в которой расположились престарелый сьер де Мальвен с Бертой.
Старик уже уснул, а молодые люди еще долго сидели, продолжая живой, игривый и нежный разговор. Генрих не выпускал из своих рук пальчики Берты, которая вся дрожала от волнения и не смела поднять взор на своего спасителя, оказавшегося не просто красивым и статным дворянином, но еще и королем.
– Дорогая моя, – наконец спросил Генрих, – знаете ли вы, почему я остановился в Блуа именно в вашем доме?
– Должно быть, сам Господь внушил вам эту мысль, сир!
– Вполне возможно! Но у меня были и другие причины, дорогая моя. Я был обязан сдержать клятву, данную вашему отцу.
– Моему отцу?
– Именно так, Берта! В кровавую Варфоломеевскую ночь он скончался у меня на руках и, перед тем как отойти к Господу, умолял меня позаботиться о вас.
Девушка взяла руку короля и с трепетом поднесла ее к губам.
«Она божественно красива, – подумал в ту минуту Генрих. – Но нет и нет… нечего и думать о том, чтобы соблазнить это невинное дитя!»
– И вот я везу вас в Наварру, – продолжал он, – там ваш дедушка обретет покой и достаток, а вас мы выдадим замуж за одного из самых отважных и мужественных молодых дворян!
Берта залилась краской и потупилась.
– Как вам нравится, например, наш храбрец Лагир? – спросил король.
– Я не знаю, сир, – наивно проговорила Берта. – До сих пор я не обращала внимания ни на одного людей вашей свиты. Но почему вы спрашиваете меня об этом?
Король уже собрался было ответить, но в это мгновение на палубе раздался истошный крик мэтра Гардуино:
– Ко мне! Ко мне!
– На помощь! – присоединился к нему голос де Ноэ.
Генрих вскочил и бросился наверх. Испуганная девушка последовала за ним.
Все гасконцы уже были там и прилагали нечеловеческие усилия, чтобы изменить курс барки, которую с огромной скоростью увлекал могучий поток – ответвление главного течения Луары.
– Что здесь происходит? – поспешно спросил Генрих.
– Мы погибли! Гастон уснул на вахте у руля и прозевал мельницу! Течение несет нас прямиком на камни!
Не успел Гардуино умолкнуть, как страшный удар до основания сотряс корпус судна. Раздался глухой треск и скрежет. Еще минута – и барка начала погружаться.
– Спасайтесь, кто может! – крикнул Генрих и, подхватив Берту на руки, шепнул девушке на ухо: – Ничего не бойтесь, сударыня, я превосходно плаваю!..
25
После ухода графа де Келюса король Генрих III позвонил и велел вбежавшему пажу подать чашку шоколада и справиться о здоровье маркиза де Можирона. Затем он открыл окно кабинета и взглянул вниз. И вот что предстало его глазам.
Граф появился в замковом дворе не один, а с каким-то дворянином. Приглядевшись, король узнал в нем герцога де Гиза.
– Ловко задумано! – пробормотал король. – Если графу удастся впутать в это дело де Гиза, то я останусь вообще ни при чем. Кому не известна вражда лотарингцев с Генрихом Наваррским! Счастье еще, что я не дал ему увлечь меня своими сладкими речами, да и де Келюс вовремя открыл мне глаза!
Вошел паж с чашкой шоколада; король опорожнил ее двумя глотками, а затем осведомился:
– Что, видел ли ты де Можирона?
– Я здесь, сир! – подал голос опальный миньон, немедленно возникший на пороге королевского кабинета.
Маркиз все еще был бледен, ступал нетвердо, а лоб его был перетянут черной шелковой лентой. Король встретил его словами:
– Да ты, любезный, смахиваешь на покойника!
– Я и сам был уверен, сир, что им стану! Придя в себя, я задавался единственным вопросом – уж не на том ли я свете!
– Ну, уж там-то тебя приняли бы со всей строгостью! Ставить на карту собственную жизнь из-за женщин, этих проклятых сосудов греха! Подумать страшно!
– О, сир, у меня было время глубоко поразмыслить о случившемся…
– Надеюсь, ты раскаялся? И превосходно! Не желаешь ли чашку шоколада?
– Я предпочел бы стаканчик вина, сир. Я испытываю такую слабость, что все плывет перед глазами!
Король распорядился подать вина, а затем снова обратился к маркизу:
– Как бы там ни было, но слабость не должна помешать тебе сыграть со мной хотя бы одну партию в шахматы!
– Не могу отказаться сир… да только игрок из меня никакой.
– Что поделаешь, любезный? – вздохнул король. – На безрыбье и рак – рыба.
– А что же де Келюс? Ведь он превосходный шахматист!
– Его сейчас нет в замке.
– А де Шомбург?
– Ни Шомбурга, ни д’Эпернона.
– Но где же они все, сир?
– Об этом ты узнаешь позже, а пока расставь-ка фигуры…
Следующие полчаса король провел в полном безмолвии, так как был всецело поглощен игрой. И только увенчав очередную комбинацию смертоносным матом, он с жесткой насмешкой проговорил:
– По-моему, ты даже не защищался, бедняга! В точности, как во время стычки с гасконцами.
– Сир!
– Правда, следует отдать должное тому малому, с которым мы сошлись минувшей ночью, – рука у него на редкость твердая.
– Если я еще когда-нибудь встречу этого проклятого негодяя…
– Ну, это вряд ли.
– Почему, сир?
– Об этом я не стану сейчас говорить! – отрезал король и снова покосился на окно, прислушиваясь. Из города не доносилось ни звука. – Проклятье! – наконец пробормотал он. – Да что же они там медлят?
И тут же из той части Блуа, что примыкала к реке, донесся звук выстрела.
– Ага! – с ухмылкой воскликнул Генрих. – Вот и началось!
– Что происходит, сир?
Вместо ответа король приказал:
– Сходи и позови ко мне кузена де Гиза. Передай, если он еще не лег, что я не прочь сыграть с ним партию-другую. Вот кто серьезный противник!
Можирон все так же нетвердо направился к двери, а король остановился у окна, опираясь на подоконник, и негромко пробормотал:
– У нашего наваррского родича слишком много амбиций… Сколько уступок ему ни делай, все мало. Так что уж лучше пусть случится то, что должно случиться. Взять хотя бы тот же Кагор[97] – недаром он сегодня намекнул на него… Что с того, что он был обещан ему моим покойным братом Карлом в качестве приданого Марго? Обещал-то Карл, ныне пребывающий на небесах, а при чем тут я?
Как только в кабинет вошел герцог де Гиз, из города снова загремели выстрелы из аркебуз.
– Как ваше самочувствие, кузен? – осведомился король. – Не мешает ли вам этот шум?
– Какой шум?
– Разве вы не слышите выстрелы?
– Чепуха! Должно быть, опять швейцарцы сцепились с ландскнехтами! – ответил герцог, изображая полное неведение.
Король кивнул на шахматную доску с расставленными фигурами, противники уселись, и игра началась. Оба играли посредственно: герцог был рассеян и зевал ходы, а король все время прислушивался к тому, что происходило в городе. За это время оттуда донеслось еще несколько выстрелов, затем все стихло.
– Кончено дело! – негромко произнес король.
– Да что там такое, сир? – Де Можирон буквально лопался от любопытства.
– Герцог утверждает, что это ссора швейцарцев с ландскнехтами.
Партнеры возобновили игру, а де Можирон, следивший за ними, только диву давался, подмечая ошибку за ошибкой, которые совершали на доске эти сильные и умелые игроки.
В конце концов Генрих III проговорил:
– Если дело сделано, почему никто не возвращается?
Герцог нахмурился и промолчал.
– Ваше величество ожидает кого-нибудь? – осторожно спросил де Можирон.
– Графа де Келюса.
– Вот как?!
Склонившись к уху миньона король прошептал:
– Они в городе, чтобы раз и навсегда отделаться от проклятого гасконца!
Маркиз невольно вздрогнул.
– Сир, тогда надо опасаться вовсе не за гасконца!
– О каком это гасконце речь? – невинно поинтересовался герцог.
– Не стоит лицемерить, герцог, вам это известно не хуже, чем мне, – резко ответил Генрих III. – Тем не менее будем считать это стычкой моих швейцарцев с вашими ландскнехтами…
Не успело отзвучать последнее слово, как в приемной послышался шум, затем дверь кабинета резко распахнулась. На пороге возник человек в залитом кровью камзоле, при виде которого король испуганно охнул.
26
Этим человеком был Жан д’Эпернон. Он был бледен и потрясен, в его глазах стояло безумие, свидетельствовавшее о недавно пережитом ужасе.
– Что? Что случилось?! – выкрикнул король.
– Целая толпа этих демонов… – только и пролепетал д’Эпернон, после чего голос его прервался.
– Где де Келюс?
– Он убит…
Король застонал.
– Достоверно не известно, – добавил фаворит. – Или убит, или смертельно ранен.
Герцог де Гиз по-прежнему сосредоточенно хмурился.
– Эти проклятые гасконцы! – словно в полубреду продолжал д’Эпернон. – Сказать по чести, их и было-то не больше десятка, а между тем… Беарнец стрелял в нас из окна – и каждая пуля находила цель!..
Речь миньона становилась все более бессвязной, похоже, он и в самом деле начинал бредить. Между тем король даже не вслушивался в его слова: уронив голову на руки, он раскачивался, бессмысленно повторяя:
– Он убит! Мой де Келюс пал!
Де Можирон кликнул пажей и собственноручно принялся перевязывать раненого. Внезапно король поднял голову и спросил:
– А что с де Шомбургом?
– Тоже мертв.
Пламя гнева вспыхнуло в глазах короля.
– Де Келюс убит, де Шомбург тоже, ты ранен! – вскричал он. – Я жажду мести!
– Сир! – внезапно послышался голос герцога. – Повелите мне самому взяться за это дело! Но мне понадобятся особые полномочия.
– Вы их получите! Ступайте, кузен! Сотрите Гасконь и этих гасконцев с лица земли!
– А если в их числе…
– Убейте их всех! Всех!
– А если среди них, – настаивал герцог, – окажется лицо, которое по праву своего рождения…
– Никаких исключений!
Герцог де Гиз молча поднялся и покинул кабинет.
В прихожей он едва не столкнулся с рейтаром, явившимся сюда вслед за д’Эперноном.
– Ага, – проворчал герцог, – вот от этого наверняка будет больше толку! – и сурово спросил у наемника: – Ты был среди тех, кого взял с собой Теобальд?
– Да, монсеньор.
– Что с капитаном?
– Он убит, монсеньор.
– Где и при каких обстоятельствах?
Рейтар в двух словах изложил суть происшедшего.
– Ты можешь отвести меня туда, где все это произошло?
– Я готов, монсеньор! – вытянулся в струнку рейтар.
Герцог де Гиз с некоторых пор пользовался при дворе почти безраздельными властью и влиянием. Именно об этом еще сегодня утром говорил королю Генрих Наваррский. И на призыв герцога вокруг него тотчас подобострастно столпилось множество придворных, готовых по первому знаку последовать за ним хоть в преисподнюю. Его высочество отобрал из них с десяток самых закаленных и надежных и, объявив, что они отправляются свести счеты с полудюжиной еретиков, вывел свой отряд за ворота замка. Впереди кавалькады скакал все тот же рейтар, указывая дорогу.
– Вот она, эта улица! – наконец объявил он.
Герцог невольно прищурился – именно здесь остановилась герцогиня Монпансье, его сестра!
– Где произошла стычка? – спросил он.
– У того дома, монсеньор! – отвечал рейтар.
Герцог едва сдержал готовый вырваться возглас. Перед ним был тот самый дом, где сняла покои Анна. Де Гиз спешился и постучал, но на стук никто не отозвался. Тогда он распорядился вышибить дверь, но дом оказался совершенно безлюдным. Герцог поспешно поднялся в опочивальню сестры. Постель была смята, подушка казалась еще теплой, но герцогини не оказалось и здесь.
– Мерзавцы бежали! – в отчаянии воскликнул он. – Но где же Анна?
Спутники герцога бросились расспрашивать соседей, надеясь выяснить хоть что-нибудь, но добытые ими сведения оказались весьма скудными. Якобы некие люди сразу после учиненного ими побоища нагрузили телегу множеством бочек, а затем направились к реке. Лишь один из соседей видел, как рослый мужчина нес к причалу на плече тюк, который можно было принять за бесчувственное человеческое тело, закутанное в плащ.
Герцог бросился к реке, но берег оказался совершенно пустынным. На водной глади ни единого суденышка, только следы копыт и тележных колес на песке. Гасконцев и след простыл!.. Внезапно послышался звук уверенных шагов.
– Эй, кто там? Сюда! – повысив голос, приказал герцог. Шаги ускорились, из тьмы вырос силуэт рослого мужчины в плаще.
– Кто вы? – прохрипел герцог.
– Луи Крильон, ваше высочество! – ответил мужчина в плаще.
– Генерал! – герцог стремительно бросился к Крильону. – Моя сестра!.. Не знаете ли вы, что с Анной?
Крильон не умел притворяться, а ложь была ему совершенно чужда.
– Успокойтесь, ваше высочество, – пробасил он. – Герцогиня в полной безопасности!
– Значит, вы видели ее? Где она?
– Я видел мадам! – коротко ответил Крильон.
Герцог тотчас схватил его руку:
– Говорите же – гасконцы похитили ее?
– Да, это так. Однако повторяю: с головы ее высочества не упадет ни единый волос!
– Значит, вам известно, куда ее увезли!
– Да.
– Вы укажете мне это место?
– Нет. Ни гасконцев, ни герцогини уже нет ни в Блуа, ни в его окрестностях.
– Где же она?
– Прошу простить меня, ваше высочество, – холодно ответил де Крильон, – но я дал слово его величеству королю Наварры, которого ваши люди столь безуспешно пытались умертвить, держать эту тайну при себе!
С этими словами генерал, поклонившись потрясенному до глубины души де Гизу, невозмутимо продолжил свой путь.
27
Серые башни замка Панестер, освещенные луной, отражались в мутных водах Луары. Сеньор Панестера носил титул видама[98], поскольку получил свой лен[99] от нантского епископа. Замок был древним сооружением, чьи стены помнили еще времена крестовых походов. Его стены местами обвалились, парк, заросший вековыми дубами и буками, был запущен, высохшие крепостные рвы заросли бурьяном. В ветреные зимние ночи ржавые флюгера на шпилях башен, беспорядочно вращаясь, наполняли воздух зловещим скрежетом и распугивали воронье. Подъемным мостом замка не пользовались с незапамятных времен, а в заброшенной кордегардии не было ни единого стражника.
Что и говорить – Панестерская видамия была чрезвычайно бедным леном, а сам видам, человек довольно пожилой, выглядел наполовину монахом, наполовину воином. В юности он был священнослужителем, в зрелые годы – воином, а в ту пору, когда он состоял при нантском епископе, ему поочередно доводилось быть и тем, и другим. Жилось владельцу замка туговато, ибо доходов его зе́мли почти не приносили. Вот почему в тот вечер, о котором здесь пойдет речь, он отужинал более чем скромно, отдав дань самой незатейливой стряпне, приготовленной кухаркой, носившей странное имя Схоластика.
Покончив с ужином, видам уселся в старинное, обитое кожей кресло поближе к очагу. Его прислужник Паком устроился на маленькой скамеечке у ног господина, чтобы развлечь его чтением вслух. Схоластика прикорнула в уголке, а Пуаврад, малолетний нищий бродяжка, которого держали в замке из милости, отправился в парк ставить силки на кроликов, которым предстояло украсить собой завтрашний обед главы дома.
Ставни еще не были закрыты, и спустя некоторое время до видама донесся отдаленный шум – то были крики о помощи, звучавшие с Луары.
Паком умолк на полуслове. Видам поднялся и, шагнув к окну, распахнул створку. Ночь была светлая, луна стояла в зените, а поскольку замок стоял невдалеке от реки – на правом берегу, как раз напротив злополучной мельницы, – сеньор мог видеть все, что происходило на воде.
– Боже, господин мой! – воскликнул Паком, несмотря на преклонный возраст, все еще сохранявший острое зрение. – Там какое-то судно терпит бедствие!
Видам кивнул.
– Ты прав. Какая-то барка наскочила на скалы… Гляди: экипаж решил спасаться вплавь! Бедняги! Вода в это время так холодна, что большинство из них пойдет ко дну еще на полпути к берегу!
– Надо попытаться помочь им, господин!
– Ты окончательно спятил, Паком! Мы не успеем выйти из замка, как их тела унесет река. И ты забыл о моем ревматизме, как, впрочем, и о своем!
– Но, господи…
– Уймись! А вдруг это гугеноты? Тогда туда им и дорога!
– А если они добрые католики?
– Тогда Господь не оставит их, а я на всякий случай прочту молитву в помощь плавающим и путешествующим!
Молитвенно сложив руки, видам пробормотал несколько слов на латыни и осенил себя знаком креста.
Тем временем Паком пристально следил за всем, что творилось на реке. Он видел, как люди с барки направились к левому берегу, более близкому к ним, и лишь один из них внезапно повернул и направился правому – туда, где виднелись с реки очертания замка. При этом у пловца была какая-то ноша.
– Что за безумец! – в ужасе пробормотал Паком. – Он непременно утонет!
Но опасения прислужника не оправдались: тот вскоре пересек Луару и выбрался на берег буквально у стен замка.
Этим пловцом был предатель Гастон. Он в числе первых бросился в воду, поддерживая на плаву смертельно испуганную герцогиню Анну, и, почти сразу сообразив, что остальные попытаются достичь левого берега, повернул направо.
Продолжая следить за тем, как спасшийся карабкается по береговому откосу, поддерживая какую-то женщину, Паком сочувственно проговорил:
– Мой господин! Пловец-то, оказывается, не один. При нем женщина!
– Вот как? И что же, она в состоянии передвигаться?
– Насколько я вижу – да.
– И слава Всевышнему!
– Нам следовало бы их приютить и обогреть… Они вымокли насквозь, и наверняка им не повредит глоток вина!
– Паком! – сурово проговорил видам. – Не следовало бы тебе предаваться столь необузданному великодушию! Разве тебе не известно, что в этом неурожайном году мы вконец обнищали? Вина у нас совсем мало, да и хлеб дорог… Нет, разумеется, дверь перед ними мы не запрем, но и специально зазывать к себе не станем. Авось пренебрегут нашим смиренным жилищем и пойдут себе своей дорогой.
– Ошибаетесь, господин! Мужчина подхватил женщину на руки и теперь направляется прямо к замку.
– Дьявол их несет!
– Я выйду и встречу их! – сказал Паком, не обращая ни малейшего внимания на ворчание хозяина. Он уже отпирал наружную дверь, когда из натопленной кухни донесся окрик видама:
– Смотри же, если эти двое – гугеноты, не вздумай их впустить!
28
Часом позже герцогиня де Монпансье и Гастон уже согрелись и почти обсохли, ибо им было предоставлено лучшее место у жарко горящего камина. Как ни был скуп владелец замка Панестер, но первые же слова, произнесенные герцогиней еще на пороге, заставили видама оказать спасшимся с затонувшего судна самое широкое гостеприимство. И вот как они звучали:
– Месье, ваше будущее обеспечено, если, разумеется, вы поведете себя разумно, даю вам слово Анны Лотарингской, герцогини де Монпансье!
При звуках этого имени видам почтительно склонился и выразил готовность служить прекрасной госпоже всем своим достоянием. Анна сразу же спросила:
– Найдется ли у вас крепкая лошадь, почтенный видам?
– Да, ваше высочество!
– На каком расстоянии от Анжера мы находимся?
– Всего в пятнадцати лье[100].
– А есть ли среди ваших слуг человек, которому можно всецело довериться?
Видам смутился. Паком слишком стар, его руки и ноги изувечены застарелым ревматизмом. Прислужнику не выдержать долгую дорогу в седле.
Но тут дверь отворилась, и перед ним предстал вернувшийся из парка бродяжка Пуаврад. Хозяина замка осенило:
– Мадам, вот за этого мальчишку я могу поручиться, как за самого себя! – воскликнул он.
– Умеешь ли ты ездить верхом? – спросила герцогиня.
– Конечно, мадам, но только если лошадь не оседлана, – отвечал Пуаврад, кладя на стол перед хозяином пару только что пойманных кроликов.
Герцогиня тотчас потребовала перо, чернил и клочок пергамента. Вышедшее из-под ее пера письмо звучало так:
«Ваше высочество, любезный кузен! В силу ряда чрезвычайных обстоятельств, слишком сложных, чтобы доверять их бумаге, я оказалась в пятнадцати лье от Анжера в замке видама де Панестер. Если Вы добрый католик и ненавидите гугенотов, самым спешным образом отрядите сюда отряд из тридцати ваших людей, вооруженных должным образом, дав им приказ беспрекословно мне повиноваться.
Остаюсь всецело преданной вашему высочеству,
Анна Лотарингская».Запечатав письмо свечным воском и приложив собственную печать, герцогиня надписала на свитке: «Его высочеству Франсуа де Валуа, герцогу Анжуйскому, губернатору Анжера». Затем, вручив его Пуавраду, она проговорила:
– Доставь это письмо в Анжер и вручи указанному лицу. Если вернешься и привезешь ответ до десяти часов завтрашнего дня, получишь десять пистолей!
Пуаврад в полном восторге пулей вылетел из замка, и вскоре топот копыт за окном возвестил, что он уже в пути.
Все эти переговоры велись в отдельном покое – Анна не хотела, чтобы Гастон знал о ее намерениях.
«Этот юноша предал своего короля, – решила она, – и, хотя это произошло под влиянием страсти, неизвестно, не ослабеет ли вдруг эта страсть. Что, если он начнет раскаиваться и вспомнит о долге и присяге? Нет, я ни в коем случае не могу положиться на беднягу Гастона!»
Одновременно в уме герцогини сложился план.
– Ваш замок, месье, построен в очень давние времена, не правда ли? – обратилась она к видаму.
– О, несомненно, ваше высочество! – отвечал тот.
– А найдется ли здесь достаточно надежная темница?
– У нас имеется даже ублиет![101]
– Превосходно! Выслушайте же меня внимательно. Известно ли вам, что на барке, с которой я спаслась, находилось еще немало людей?
– Конечно! У моего Пакома превосходное зрение, и он своими глазами видел, как они выбрались на берег и укрылись на недостроенной мельнице. Думаю, теперь они в безопасности. Вам, мадам, не стоит беспокоиться!
– Я не беспокоюсь. Но слушайте дальше: затонувшая барка перевозила невероятно ценный груз, а на ее борту находился сам король Наварры со своими приближенными.
– Король Наварры? Этот гугенот и отъявленный еретик? – вскричал видам, испуганно пятясь и осеняя себя крестным знамением.
– Именно он! Необходимо во что бы то ни стало заманить его в ваш замок. Я наполню золотыми дублонами ваш шлем, седельные кобуры и вот эту чашу для святой воды, если вы все исполните в точности так, как я вам сейчас скажу. Найдите лодку и отправляйтесь на мельницу. Скажите тем, кто там укрылся, что видели катастрофу на реке и готовы оказать им гостеприимство. Но ни в коем случае не подавайте виду, что знаете, кто они такие, и воздержитесь от проявления религиозных чувств. А затем… – тут голос герцогини понизился до едва слышного шепота.
– Я понял ваше высочество! Все будет исполнено! – с этими словами видам направился к выходу из покоев.
– Постойте! – остановила его на пороге герцогиня. – Еще до того мне потребуется от вас еще одна небольшая услуга.
Она снова склонилась к уху видама, после чего старик, уже предвкушавший обильную награду, вновь заверил герцогиню в своей преданности и последовал за ней туда, где Гастон по-прежнему сидел у огня, с наслаждением потягивая подогретое вино со специями.
При виде герцогини юноша поспешно поднялся. Глаза его вспыхнули.
– Мой дорогой! – проговорила Анна. – Вы все еще любите меня или ледяная вода несколько умерила ваш пыл?
– Люблю ли я вас? – вскричал юноша. – Да я готов ради вас на все, мадам! Возьмите мою жизнь, и я умру со счастливой улыбкой на устах!
– Ну, нет! – звонко рассмеялась герцогиня. – Таких страшных жертв я от вас ни за что не приму! Речь всего лишь о пустячной услуге. Господин видам сообщил мне, что в замке имеются довольно удобные для меня апартаменты. Однако они расположены в дальнем флигеле. Не соблаговолите ли вы, милый Гастон, лично осмотреть их и убедиться, достаточно ли эти помещения безопасны и удобны?
Гастон тотчас схватился за рукоять шпаги и вскочил, изъявляя полную готовность. Однако на ногах он держался не слишком уверенно – сказывались усталость и вино.
Прихватив масляную лампу, видам повел гасконца по длинному извилистому переходу, где все носило следы безжалостного времени. Старик, шедший впереди, ступал с большой осторожностью, словно опасаясь споткнуться в полумраке, Гастон же шествовал беззаботно, напевая под нос веселый мотивчик.
Внезапно на одном из поворотов галереи видам резко остановился и припал спиной к сырой стене.
– Что с вами? – удивился Гастон.
– Я… Мне… мне показалось, что…
– Да что же такое вам показалось?
– Там… кажется, я видел привидение!
– Чепуха! – небрежно бросил Гастон. – Дайте-ка сюда лампу, я пойду впереди!
Схватив лампу, юноша свернул за угол и торопливо зашагал дальше. Внезапно плиты пола дрогнули у него под ногой, подошвы сапог заскользили.
До ушей видама донесся истошный вопль. Лампа погасла, а затем из какой-то неведомой глубины послышался глухой всплеск рухнувшего в воду тела.
29
Благополучно доставив на берег потерявшую сознание Берту, Генрих Наваррский поручил заботы о девушке вдове мельника и отправился обратно на барку. Судно успело погрузиться довольно глубоко, но его корма все еще оставалась над водой.
Там оставался только Амори де Ноэ: Лагир, Рауль и остальные спутники короля бросились в воду вслед за ним. Что касается графа, то он, как капитан, собирался покинуть потерпевшую бедствие барку последним.
– Все ли спаслись? – первым делом спросил Генрих.
– Сир, – ответил де Ноэ, – погиб старый сьер де Мальвен, и герцогиня, скорее всего, тоже. После столкновения со скалой я первым делом бросился в ее каюту, но дверь оказалась запертой изнутри, а вода прибывала так быстро, что я и сам рисковал захлебнуться без всякой пользы. В конце концов мне пришлось вернуться на палубу.
– Но почему все это произошло?
– Видно, Гастон, стоя у руля, уснул или отвлекся.
– Но где же он сам?
– Не могу сказать… В этой панике я его не приметил… Может, он и сам стал жертвой своей оплошности!..
Тем временем барка продолжала неторопливо погружаться.
– Бедная Анна! – пробормотал король. – А ведь я уже почти был готов полюбить ее!..
– Поистине невосполнимая потеря для Священной лиги! – насмешливо обронил де Ноэ.
– Дьявол бы тебя побрал, Амори, вместе с твоей политикой! – гневно огрызнулся Генрих. – Сейчас меня гораздо больше тревожит судьба наших бочек. Впрочем, если их не унесет течение, они будут мирно покоиться на дне, пока мы не найдем способ извлечь их оттуда. Золоту вода не причинит вреда… А теперь нам пора убираться отсюда, и поживее!
В самом деле: корма барки скрылась под поверхностью и ледяная вода, продолжая подниматься, дошла королю и графу до пояса. Но уже через десять минут оба благополучно добрались вплавь до мельницы, где собрались все, кто пережил опасное приключение. Не было только сьерра де Мальвена, герцогини Лотарингской и Гастона. Мэтр Гардуино спасся только благодаря Раулю, который всячески помогал старику добраться до берега.
Мельничиха с сыновьями хлопотали, в очаге ревело пламя, а потерпевшие кораблекрушение, развесив одежду, принялись сушить ее, заодно согреваясь и сами.
– Где это мы оказались? – спросил король у одного из сыновей мельничихи.
– В пятнадцати лье от Анжера и в десяти – от Ансени.
Из дальнейших расспросов выяснилось, что, следуя пешком вдоль берега, до Ансени можно добраться часа за три-четыре. Однако у мельничихи имелась крепкая лодка, в которой могли поместиться двое гребцов, и, если воспользоваться ею, до ближайшего города можно добраться намного быстрее.
После короткого раздумья Генрих сказал:
– Дружище де Ноэ, я полагаю, тебе следует отправиться на лодке в Ансени.
– Но как быть, если меня задержат на речной заставе?
– Не беда, – вмешался старший сын мельничихи, – тамошние стражники меня отлично знают!
– Возьми с собой мое кольцо, а по прибытии на место предъяви его сьеру д’Энтрагу, – продолжал король. – Попроси у него для меня барку и десяток вооруженных парней. Если не будешь мешкать и все пройдет благополучно, ты сможешь обернуться к утру.
Де Ноэ отчалил немедленно: голод, холод, жажда и усталость отступили перед волей его государя. Между тем все, кто оказались на берегу, в ту минуту остро нуждались в горячей пище и добром стакане вина – сказывалось напряжение всех сил и пережитое потрясение. Бросив на стол кошелек, туго набитый серебром, Генрих сказал мельничихе:
– Добрая женщина, не найдется ли у тебя для нас немного мяса и вина?
– Увы! – сокрушенно ответила вдова. – Мы так бедны, что даже не держим вина. Все, что у нас есть, – кусок хлеба да ячменная похлебка!
Король огорченно взглянул на своих спутников, но внезапно плеск весел и скрип уключин, доносившиеся с реки, отвлекли его. Генрих поднялся и вышел на порог хижины мельничихи. Свет луны заливал речную гладь, а от противоположного берега к полуразрушенной мельнице быстро приближалась большая лодка. На ее носу восседал какой-то грузный человек, во всю размахивавший белым платком. То был достопочтенный видам, владелец замка Панестер.
Едва ступив на берег, он учтиво поклонился Генриху и проговорил:
– Прошу прощения, сударь, что обращаюсь к вам, не зная, кто вы такой, ибо не имел чести быть вам представленным. Но мой слуга видел, как вас постигло ужасное несчастье, и я готов предложить вам для отдыха и восстановления сил свой скромный кров. На этой нищей мельнице вы не получите ни еды, ни питья! Мое имя – видам де Панестер, я живу в замке на противоположном берегу.
Генрих сердечно поблагодарил, однако задумался – стоит ли принимать это радушное приглашение. Ему не хотелось ни на миг упускать из виду место, где ушло на дно сокровище гугенотов. Но тут он вспомнил, в каком состоянии находится несчастная Берта, потерявшая отца, и это обстоятельство решило дело. Он предложил своим спутникам бросить между собой жребий: кто из них останется присматривать за обломками барки, а остальные воспользовались вместительной шлюпкой видама и вскоре уже сидели в жарко натопленном главном зале замка за обильным ужином.
Нести караульную службу на берегу выпало Лагиру и старому мэтру Гардуино.
30
В этой истории предстоит сыграть заметную роль одному персонажу, которого мы до сих пор еще ни разу не упоминали. Чтобы познакомиться с ним, читателю предстоит последовать за нищим мальчишкой, скачущим по ночной дороге на неоседланной лошади в Анжер, прямиком в тамошний замок – резиденцию герцога Анжуйского.
Анжерский замок, несмотря на окружавшие его ухоженные сады с фонтанами и бесчисленными мраморными изваяниями, был довольно мрачным зданием. И даже роскошно украшенные внутренние покои залы, в которых по вечерам пылали тысячи свечей и раздавались звуки музыки, приглашающие кавалеров и дам к танцам, не могли развеять это впечатление.
Несмотря на все усилия, в замке царила скука. Дамы надували губки и строили капризные гримаски, кавалеры ходили с вытянутыми физиономиями, пажи не распевали и не проказничали. Даже слуги делали свое дело угрюмо и сосредоточенно. Недаром говорится – каков поп, таков и приход, ибо Франсуа, герцог Анжуйский и дофин Франции[102], был существом мрачным и нелюдимым с самого рождения. Что касается внешности этого носителя королевской крови, то его вполне можно было спутать с одним из тех искателей легкой наживы и приключений, которые толпами хлынули из Италии во Францию вслед за Екатериной Медичи, супругой короля Франции Генриха II и матерью самого Франсуа. Герцогу было всего двадцать шесть лет, но он казался стариком. Рыжеволосый, вечно всклокоченный, с глубоко посаженными злыми глазами, низкорослый и тщедушный, он вызывал отвращение с первого взгляда. Вдобавок в детстве он перенес оспу, оставившую неизгладимые рубцы на его лице.
Герцог, как и полагается особе его ранга, содержал двор, но только потому, что так было заведено задолго до него. Он давал балы, устраивал парадные обеды, но присутствовал на них с таким брезгливым равнодушием, выглядел так мрачно и неприветливо, что гости чувствовали себя подавленными, словно на похоронах.
Вместе с тем его приближенные из тех, что дольше других служили герцогу Анжуйскому, в один голос утверждали, что Франсуа де Валуа далеко не всегда был таким. Некогда он считался изысканным и приятным собеседником, всей душой любил охоту, женщин, доброе вино и музыку, а таким, как сейчас, стал после того, как его брат Генрих, тайно бежавший из Польши, буквально в последнюю минуту вырвал у него корону Франции после кончины короля Карла IX, его старшего брата.
Франсуа вставал поздно, обедал в два часа дня и ужинал в девять. Покончив с ужином, он запирался в кабинете с первыми подвернувшимися под руку придворными и усаживался играть с ними в карты – честь, которой все избегали, ибо даже небольшой проигрыш или обычное невезение приводили герцога в ярость.
В тот вечер, о котором мы ведем речь, все шло по заведенному порядку. Герцог Анжуйский сыграл несколько партий и, поскольку его партнеры приложили все силы, чтобы позволить ему выиграть, выглядел не столь мрачным, как обычно. Кроме того, его развлек гость – оказавшийся в Анжере проездом дворянин из Амбуаза по имени д’Асти.
Со времен кончины Карла IX и коронации Генриха III Амбуаз служил постоянной резиденцией королевы-матери Екатерины Медичи, и этот дворянин был одним из самых близких к ней лиц. Д’Асти был умен, глубоко разбирался в политических делах, и вдовствующая королева пользовалась его услугами, чтобы привести в порядок свои мемуары.
Как только пробило двенадцать, герцог обратился к своим партнерам:
– Господа, приказываю вам разойтись!
Оба приближенных и д’Асти тотчас поднялись со своих мест за ломберным столом, но Франсуа удержал амбуазца, обронив: «Останьтесь, я хочу с вами побеседовать!»
Когда в кабинете не осталось никого, кроме них, герцог спросил:
– Как поживает моя матушка в Амбуазе?
– Скучает, ваше высочество!
– В точности, как я!
– Его величество король Франции слишком суров к ней!
– Как, впрочем, и ко мне!
– Если бы вы, ваше высочество, нашли возможность навестить ее, она, скорее всего, была бы вам глубоко признательна.
– Но почему же матушка сама не пожалует ко мне?
– Она опасается вызвать неудовольствие короля.
– Зато сам король не особенно задумывается о том, довольны мы с нею или нет!
– Так и есть, ваше высочество!
– Генрих даже не счел нужным пригласить меня на заседание Генеральных штатов!
– Это же, слово в слово, произнесла и ее величество!
– Но зато там будет полным-полно лотарингских принцев, его добрых друзей.
– То есть истинных властителей Франции! – язвительно вставил д’Асти.
Внезапно во дворе замка загремели сапоги стражников, высыпавших из кордегардии, а со стороны подъемного моста послышался троекратный сигнал рога, возвестивший о прибытии посетителя.
– Что за дьявол смеет тревожить меня в полуночный час? – возмутился, побагровев, герцог Анжуйский. Тем временем в дверях кабинета уже вырос паж. Низко поклонившись, он доложил:
– Его высочество герцог де Гиз!
Франсуа де Валуа изумленно вскочил, а в следующее мгновение в кабинет вступил герцог де Гиз. Его шлем и нагрудный панцирь были покрыты толстым слоем дорожной пыли. Он был смертельно бледен, его глаза пылали злобой, движения казались неестественно резкими. Все в нем выдавало крайнюю степень раздражения.
– Ничего не скажешь, кузен, славная у вас стража! – вскричал он еще с порога.
– Вы хотите…
– Я хочу сказать, что речная застава в Сомюре даром проедает свое жалованье. И несмотря на то, что ею командует один из лучших ваших офицеров, беглые преступники все-таки умудрились пробраться через нее! Этот ротозей проглядел полную барку гугенотов, чуть не доверху нагруженную золотом!..
– Не могу поверить, кузен! Нынче во Франции золото стало такой редкостью…
– Вы правы, но ведь и вам наверняка доводилось слышать о так называемом «сокровище гугенотов»?
– С какой стати я должен верить досужей болтовне?
– Потому что это сущая правда. И его-то, это сокровище, Генриху, королю Наварры, удалось беспрепятственно провезти мимо сомюрских олухов! Но это еще далеко не все! Наваррец осмелился захватить в плен одну даму, и теперь он держит ее заложницей на своем судне.
– И кто эта дама?
– Моя сестра Анна!
У герцога Анжуйского вырвался возглас изумления.
– В своем ли вы уме, кузен?
– Более чем! – ответил тот и вкратце поведал родичу о событиях этого дня и ночи.
Он еще не закончил свой рассказ, как дверь кабинета снова распахнулась и паж доложил:
– Ваше высочество, прибыл какой-то мальчишка, проскакавший пятнадцать лье на неоседланной лошади, чтобы доставить вам срочное письмо.
– Кто его послал?
– Он уверяет, что письмо написано герцогиней Анной Лотарингской.
Генрих де Гиз и герцог Анжуйский одновременно воскликнули:
– Введи его!
31
А в это время наваррский король с аппетитом ужинал во владениях видама де Панестер. Хозяин проявил такое неслыханное радушие, что старик Паком только диву давался. Обычно скупой и прижимистый, сейчас он пожертвовал ради гостей всеми запасами кладовой и винного погреба, причем на свет явился даже бочонок журансонского вина, которым видам дорожил до крайности.
Генриху Наваррскому не раз доводилось топить неудачи на дне бокала, а сегодня у него было для этого немало причин. Крушение барки с золотом, гибель сьерра де Мальвена и герцогини Монпансье, с которой, как полагал король, она проведут несколько полных страсти и неги часов. За столом Генрих усердно налегал на журансонское, да и его спутники не отставали. Только Рауль, которому поведение владельца этого полуразрушенного замка с первых минут показалось подозрительным, держался осмотрительно и избегал хмельного.
Беседа за столом велась оживленно и порой принимала легкомысленный характер, чему способствовало отсутствие единственной дамы. Берта к ужину не вышла – горе вконец сломило бедную девушку. Только когда пробило полночь, король спохватился, вспомнив, что после такого дня всем следовало бы отдохнуть, и попросил проводить его в отведенный ему покой. Остальные гасконцы также поднялись, поблагодарив хозяина.
Сопровождать государя вызвался Рауль. Когда они остались одни в пустынной галерее, юноша обратился к Генриху:
– Сир, неужели мы отправимся спать?
– Что за странный вопрос, Рауль!
– Объяснюсь. Дело в том, что этот видам ведет себя довольно странно. И я боюсь, что если он по какой-то случайности унюхает, что под его кровом находится сам король Навар…
– Дружище! – поспешно перебил его Генрих. – Мыслимое ли дело – ведь я уже три ночи подряд не смыкаю глаз. Я просто падаю с ног, и скажу тебе по чести: именно по причине вероятного возникновения опасности мне необходимо выспаться. Иначе у меня не будет сил ни на что!
– Пусть так, сир, но мы останемся бодрствовать!
– Это славная идея. Тогда ты раздобудь стул и устраивайся на ночь у двери покоя мадемуазель Берты!
– А вы, сир?
– В моем покое расположатся остальные гасконцы.
В своем покое король, даже не раздеваясь, тут же рухнул в постель, а подоспевшие двое молодых людей решили бодрствовать и, чтобы прогнать сон, уселись играть в кости. Не прошло и часа, как один из них вдруг заметил:
– Странное дело! Еще никогда не было случая, чтобы вино так сильно ударяло мне в голову!
– А я вообще падаю со стула! – признался другой.
– Знаешь, дружище? Давай-ка поспим по очереди: час ты, другой – я!
– Отличная мысль! Кто останется караулить первым? Может, метнем кости?
Кости были брошены, и один из молодых людей тотчас улегся. Но не прошло и четверти часа, как тот, кому надлежало бодрствовать, уснул, так и не найдя в себе сил разбудить товарища.
И лишь Рауль, восседавший на стуле перед покоем Берты Мальвен, оказался более стойким. Объяснялось это просто: во-первых, он почти не пил за ужином, а во-вторых, не был так утомлен, как те, кто вел барку в Блуа против течения. Все это время он провел в опочивальне Анны Лотарингской, в тепле и покое.
Разумеется, ему хотелось вздремнуть, но далеко не так сильно, чтобы забыть о долге. Усевшись поудобнее, юноша протер глаза и принялся размышлять о том, что случилось с ним в последнее время.
И конечно же, главную роль в этих воспоминаниях играла Анна Лотарингская. Рауль осознавал, что в известной мере он сам явился виновником жестокой гибели, постигшей герцогиню. Это он предательски завлек ее в западню, а теперь ее прекрасное тело лежит, посиневшее и распухшее, на дне холодной реки, окутанной мраком… А как она любила его, как изощренны и нежны были ее ласки!..
Неожиданно Рауль вздрогнул и вскочил. Не снится ли ему это? Юноша с силой ущипнул себя – но нет, боль не заставила его очнуться. То, что он видел в эту минуту, происходило наяву!
Из дальнего конца сумрачной галереи к Раулю приближался призрак покойной герцогини! Лицо «покойницы», озаренное каким-то потусторонним светом, было мертвенно бледным, глаза полузакрыты. Простирая вперед полупрозрачные руки, она бесшумно и плавно устремлялась к молодому человеку, впавшему в оцепенение от ужаса. Остановившись в двух шагах, призрак произнес замогильным голосом, подобным шелесту опавших листьев:
– Ты, ты погубил меня! Ты обрек мою душу на вечные страдания, ибо я умерла без покаяния и отпущения грехов!
– Пощадите, ваше высочество! – заплетающимся языком пробормотал Рауль.
– А ведь я любила тебя! – продолжал призрак. – Да, любила… а ты… ты оказался негодяем и предал меня! – Призрак умолк, но спустя минуту заговорил вновь: – Да, я осуждена навек, но у тебя есть возможность заслужить мое прощение. Здесь, в этом замке, хранятся необычайно важные документы, от которых зависят не только исполнение планов, но и сама жизнь человека, который был моим заклятым врагом. Я буду возвращена в чистилище, если позволю Генриху Наваррскому взглянуть на эти бумаги. И ты должен помочь мне – хотя бы в память нашей любви! Следуй за мной, и я укажу тебе место, где они спрятаны!
Рауль, все еще не в силах произнести ни слова, безропотно последовал за герцогиней, а та уже удалялась вглубь галереи. Некоторое время он следовал за призраком по каким-то мрачным коридорам и переходам.
Наконец они оказались на том месте, где галерея круто поворачивала налево. Внезапно голубоватый свет, озарявший лицо герцогини погас. Две холеные, но необычайно сильные руки впились в шею Рауля и толкнули его вперед.
Юноша потерял равновесие, сделал шаг, другой – и вдруг почувствовал, как пол уходит из-под ног, а сам он проваливается в пустоту.
Его падение сопровождал так хорошо знакомый ему грудной женский смех.
32
Король Наварры спал сном праведника. А проснувшись, никак не мог сообразить, сколько времени длился его сон. Хуже того – он не сразу сумел понять, где находится. Генрих с удивлением разглядывал незнакомую обстановку, узкие окна с цветными витражами, высокие своды покоя. Но мало-помалу ему удалось припомнить все случившееся вчера. Конечно же, он в замке Панестер!
Но где же молодые гасконцы, которые должны были охранять его покой? Или они расположились по ту сторону двери, чтобы не потревожить покой короля?
Генрих поднялся, потер виски и прошагал через весь покой к выходу, чтобы позвать своих людей. Но, к его величайшему изумлению, дверь оказалась запертой снаружи, а все попытки открыть ее или позвать кого-нибудь криками и стуком, не дали результата!
Король стремительно бросился к ночному столику – и тут же вскрикнул от ярости и разочарования: его пистолеты, кинжал и шпага бесследно исчезли.
– Выходит, я в плену? – возмущенно вскричал Генрих, топнув ногой.
– Вас взяли в плен любовь и красота! – неожиданно отозвался насмешливый женский голос, который, казалось, исходил прямо из стены. Одна из дубовых панелей, которыми был обшит покой, ушла в сторону, и в образовавшемся проеме возникла дама. Генрих снова вскрикнул: перед ним была Анна Лотарингская, причем далеко не в обличье призрака. Лицо ее сияло. – Здравствуйте, милый кузен! – обратилась она к королю, протягивая руку.
– Вы… вы живы? – изумленно пробормотал Генрих.
– Как видите, сир! А вы-то сочли меня утонувшей и даже слегка взгрустнули, насколько мне известно. Это очень любезно с вашей стороны!
– Но как вам удалось спастись?
– Мне помог один из ваших спутников, – все с той же насмешкой проговорила Анна. – Молодость горяча и влюбчива, ну а я, как считают некоторые, все еще недурна собой.
– Гастон! – воскликнул Генрих, мгновенно догадавшись обо всем.
– Вы правы, сир!
– Подлый предатель!
– Да-да, это ужасно! Представляете, ведь он, уступая моей просьбе, направил барку на камни и отправил на дно все золото гугенотов до последнего дублона!
Герцогиня остановилась, чтобы насладиться эффектом, который должно было произвести ее признание. Однако в лице Генриха не дрогнул ни один мускул. Он холодно проговорил:
– Продолжайте, мадам! Хотя и этого хватит, чтобы сделать нас с вами еще большими врагами, чем прежде!
– Что вы говорите? – с видом оскорбленной невинности воскликнула Анна. – А ведь еще вчера вечером вы клялись, что любите меня, и я чуть было этому не поверила… Однако у меня очень тонкий слух. И спустя некоторое время после того, как вы покинули меня, я услышала, как вы нашептываете куртуазные нежности на ушко молоденькой девушке, которую поместили в каюте по соседству с моей. Мне стало ясно, что вы, сир, просто насмехались надо мной, и я поклялась сыграть с вами такую шутку, которая запомнится вам надолго. Мне это вполне удалось, и сейчас вы в этом убедитесь. Я…
– Не трудитесь, мадам, я и сам представляю, как это произошло. Вы явились к владельцу этого замка, открыли ему, кто я, и вместе с ним устроили ловушку, в которую я и угодил.
– Совершенно точно, любезный кузен!
– Мои спутники, разумеется, мертвы все до единого?
– Зачем же такое зверство! Они… они, так сказать, изолированы!
– Но известно ли вам, кузина, что одно дело – соорудить ловушку и загнать в нее зверя, и совсем другое – удержать его там?
– Ну, охранять вас будут получше, чем Венсенском замке. В Нанси…
– А! Значит, вам угодно доставить меня в Нанси? Поглядим, что из этого выйдет. Уж не с помощью ли этого видама и его дряхлого слуги вы собираетесь отконвоировать меня туда?
– Вы дурного мнения обо мне, кузен. Ведь вы какой-никакой, но король, а короли не путешествуют с такой жалкой свитой. Я успела позаботиться о гораздо более многочисленной и блестящей. Извольте взглянуть!
Анна распахнула окно и знаком предложила Генриху взглянуть во двор. И действительно: там уже располагался отряд всадников, на чьих сверкающих кирасах выделялись белые кресты – знак Лотарингского дома.
– Не правда ли, вполне достойная вас свита, кузен? – поинтересовалась герцогиня.
– О да! – ответил наваррский король, не сумев скрыть тяжелого вздоха. – Но, к счастью, у меня есть нечто, с чем я никогда не расстаюсь. И это нечто посильнее, чем жалкая кучка ваших ландскнехтов!
– Что же это такое, кузен?
– Моя звезда, кузина!
При этих словах Генрих иронически поклонился герцогине.
33
Жизнь в амбуазском замке, куда фактически сослали Екатерину Медичи, мать троих королей, занимавших престол при ее жизни, была невыносимо скучна и монотонна. Ее окружение состояло из нескольких придворных, оставшихся верными своей госпоже даже в опале, кавалера д’Асти и какого-то таинственного незнакомца, о котором немало болтали как в самом Амбуазе, так и в окрестностях.
Этот человек, окутанный ореолом тайны, был уже далеко не молод. Он постоянно носил черное, но его осанка и манеры выдавали привычку вращаться при дворе. При этом никто никогда не видел его лица – этот господин постоянно носил черную бархатную маску.
Незнакомец в маске появился в Амбуазе всего полгода назад, и само его появление было весьма необычным. К королеве-матери вошел паж с запиской, прочитав которую Екатерина буквально выбежала навстречу гостю, что было неслыханной честью. Но кем он был, что связывало его со стареющей королевой и чем объяснялось его огромное влияние на нее – не знал никто. Стоило случиться чему-нибудь из ряда вон выходящему, как Екатерина надолго запиралась с этим господином в своем кабинете. Именно так она поступила и после того, как д’Асти, возвратившийся из Анжера, вручил ей письмо, скрепленное печатью самого герцога Анжуйского.
Прочитав его, Екатерина с глубоким волнением обратилась к господину в маске:
– Знаешь, о чем он пишет? Генрих Наваррский угодил в хитроумную ловушку! Теперь он в руках герцога де Гиза и его адской сестрицы!
Глаза незнакомца при этих словах сверкнули так, будто в прорезях маски внезапно вспыхнули два раскаленных уголька. Однако он смолчал, ожидая продолжения.
– Франсуа просит меня прибыть в Анжер, ибо наваррского короля везут туда под конвоем и опасаются, что не смогут его удержать. Что скажешь?
– Надо ехать, ваше величество, не теряя ни минуты! Слишком много власти забрали в свои руки лотарингцы, а давать им волю нельзя!
– Согласна! Распорядись, чтобы начали готовить экипажи! Ты едешь со мной, и в пути мы подробно все обсудим. Сопровождать нас будут только кавалер д’Асти и мой паж.
Не прошло и часа, как кортеж королевы-матери уже был в пути. Путешествие продолжалось всю ночь, и при первых проблесках рассвета вдали показались остроконечные шпили башенок Анжерского замка.
Однако, перед тем как въехать в город, королева велела кучеру остановить лошадей и подозвала пажа.
– Возьми вот это кольцо, – обратилась она к юноше, – отправляйся в замок и ухитрись остаться хотя бы на минуту с глазу на глаз с герцогом Анжуйским. Предъяви ему кольцо и сообщи о моем прибытии в город. Я, однако, не стану пользоваться его гостеприимством и в замок не поеду. Предупреди, чтобы он ни словом не обмолвился обо мне при герцоге де Гизе или герцогине Анне, и попроси его немедленно нанести мне визит. Я остановлюсь, как обычно, у месье Луазеля.
Паж коротко поклонился, прыгнул в седло, пришпорил лошадь и помчался в город. Вслед за ним неторопливо покатил кортеж королевы-матери. На левом берегу Луары экипаж Екатерины Медичи остановился у скромного дома, над дверью которого виднелась вывеска: «Ради телесного здравия. Луазель: услуги цирюльника, банщика, хирурга и прочие».
Д’Асти постучал, и дверь моментально отворил невысокий пожилой толстяк, отвесивший на пороге низкий поклон знатным особам.
– Любезный Луазель, – сказала королева, – отведи мне мой обычный покой и подыщи помещение поукромней для этого господина!
Затем экипаж вкатился во двор дома, ворота за ним захлопнулись. Последние слова королевы, как вы уже поняли, относились к незнакомцу в маске.
Часом позже некий дворянин, закутанный в плащ и надвинувший на лоб шляпу так низко, что его лицо оставалось в тени, постучался в дверь заведения Луазеля. Цирюльник при его появлении едва не переломился в пояснице. То был Франсуа Валуа, герцог Анжуйский.
– Мой дорогой Франсуа! – обратилась к нему королева-мать после обмена приветствиями. – Говорил ли ты Генриху де Гизу о том, что отправил мне письмо?
– Разумеется!
– Это серьезная ошибка.
– Но почему, матушка?
– Потому что я не желаю, что бы он знал, что я здесь. Весь этот день я проведу у Луазеля, а ты изволь сообщить герцогу, что я не приехала и от меня не поступало никаких вестей.
– Но… ведь уже вечером сюда доставят этого закоренелого еретика Генриха Наваррского! Как нам с ним поступить?
– Об этом мы поговорим позже. И твердо запомни, сын мой: наваррский король для нас туда менее опасен, чем герцог де Гиз и его сестра. Сейчас я еще ничего не решила, но вечером буду ждать у потерны[103], выходящей к берегу Луары. Ты должен лично встретить меня и проводить в свои апартаменты. Там и поговорим!
34
Около восьми вечера вдовствующая королева покинула дом цирюльника Луазеля. Сопровождал ее только господин в маске.
– Уверяю тебя, – заметила по пути Екатерина, словно продолжая давно начатый разговор, – я люблю наваррского короля не больше, чем ты, но…
При этих словах взгляд таинственного незнакомца снова вспыхнул странным огнем.
– …Но, – продолжала она, – в одном я совершенно согласна с Макиавелли, этим гениальным политиком: иметь двух врагов гораздо выгоднее, чем одного.
– Довольно странное утверждение!
– Разве? Тогда подумай вот о чем: самый опасный для нас враг – тот, кто стремится к определенной цели, а мы являемся помехой на этом пути. Но если врагов двое, а цель одна, то – рассуждай логически – они становятся врагами между собой. Следовательно, значительная часть их ярости и мощи будет отвлечена от нас!
– Вы правы, это действительно так!
– Целью наших врагов является корона Франции. Соискателей двое: Генрих Наваррский и Генрих де Гиз. И ни один из них пока не сумел приблизиться к этой цели, потому что каждому из них постоянно приходится считаться с существованием соперника. Если бы один из них внезапно исчез, другой наверняка давно уже восседал бы на троне Валуа!
– Несомненно!
– Из этого следует, что если дом Валуа не в силах избавиться от всех врагов, пусть лучше их будет несколько. Вместе с тем, захватив Генриха Наваррского и предоставив лотарингцам решать его судьбу, мой младший сын всего лишь помогает Генриху де Гизу избавиться от соперника, но не приносит пользы трону Валуа… В поистине в скверную историю ввязался мой Франсуа!
Не обронив больше ни слова, королева-мать достигла скрытого в зарослях выхода из потерны, о котором еще утром говорила герцогу Анжуйскому. Но прежде чем постучаться в окованную железом дверь, она велела своему верному спутнику надвинуть шляпу на лоб и прикрыть лицо полой плаща – так, чтобы не было видно маски.
Незнакомец так и поступил. На стук королевы дверь немедленно распахнулась. В сумраке сводчатой галереи возникла невысокая фигура. Герцог поджидал мать, как она и просила, в одиночестве.
– Кто с вами, матушка? – тотчас спросил он.
– Это кавалер д’Асти, – невозмутимо солгала королева. Незнакомец при этом молча поклонился герцогу.
– Следуйте за мной, – сказал Франсуа. – Но осторожнее: здесь ступени!
Екатерина Медичи негромко рассмеялась.
– Полно, сын мой, – проговорила она. – В этом замке я и с завязанными глазами найду дорогу куда угодно. Я прожила здесь несколько лет вместе с твоим отцом еще в ту пору, когда он был, как и ты теперь, герцогом Анжуйским!.. А скажи-ка, что ныне находится в кабинете твоего покойного отца?
– Теперь там мой кабинет!
– Превосходно. А кто занимает помещение над твоим кабинетом?
– Там никого нет. Не терплю чужих шагов над головой!
– Еще лучше! Тогда проводи меня и моего спутника в тот покой, что наверху.
Герцог задвинул засов на двери потерны и двинулся вперед. За ним уверенно следовали королева-мать и незнакомец. Миновав галерею и одолев винтовую лестницу, все трое остановились у дверей верхнего покоя.
Екатерина Медичи спросила:
– Я полагаю, герцог де Гиз сейчас у тебя в кабинете?
– Нет, но он должен вскоре явиться туда, чтобы решить вопросы, связанные с королем Наварры. Впрочем, не исключаю, что он уже там…
– Тогда отправляйся к нему, Франсуа!
– А вы намерены остаться здесь? – удивился герцог.
– Именно так.
– Без свечей и лампы?
– Да.
– Когда мне вернуться за вами?
– Как только услышишь три удара в потолок своего кабинета.
– Пусть будет по-вашему, матушка!
Герцог поспешно удалился, а Екатерина с незнакомцем вошли в покой, который и в самом деле выглядел нежилым. Королева велела спутнику сесть в кресло у входа, а сама на цыпочках прокралась к стене напротив двери и нащупала скрытую пружину. Как только она ее нажала, послышался негромкий щелчок и из отверстия, открывшегося в стене, вырвался луч света.
– Что это? – в недоумении спросил незнакомец.
– Иди сюда, и увидишь! Но очень осторожно! – ответила Екатерина.
Незнакомец подкрался к освещенному отверстию и обнаружил, что в нем находится какая-то сверкающая пластина, расположенная под углом к вертикали.
– Это старое изобретение, которое наверняка тебе известно, – сказала королева. – В потолке нижнего кабинета также имеется отверстие, в глубине которого закреплено под таким же углом зеркало из полированной стали. В нем отражается все помещение. Система дополнительных зеркал передает это изображение сюда. С помощью этого устройства можно видеть, а заодно и слышать все, что происходит внизу. Взгляни-ка получше!
Человек в маске приник к отверстию.
– Действительно! – воскликнул он.
– Что там происходит?
– Перед письменным столом сидит какой-то мужчина; я не вижу его лица. Он раздраженно перелистывает книгу.
– Это герцог де Гиз. Он один?
– Пока да. Но вот дверь отворяется… Входит герцог Франсуа!
– Хорошо! Теперь уступи место мне!
Королева приблизила глаза к полированной пластине. Оба герцога безмолвно раскланялись. И тут же в глубине помещения отворилась еще одна дверь и в кабинет вошла дама. Екатерина тотчас узнала Анну Лотарингскую.
– Ну и ну! – тихонько пробормотала королева-мать. – Если в это дело вмешалась наша очаровательная герцогиня, то положение хуже некуда… Нельзя пропустить ни слова из их беседы!
Пожилая женщина приникла к отверстию, обратившись в слух.
35
– Итак, любезный кузен, – входя, проговорила Анна Лотарингская, – позвольте мне подвести краткий итог сложившейся ситуации!
– Прошу вас, кузина! – учтиво ответил Франсуа.
– Король Наварры в наших руках…
– Несомненно. И я готов поручиться, что стены его темницы буквально несокрушимы. Оттуда ему не выбраться без чьей-либо помощи!
– Недурно. Но главное в том, что короля доставили в Анжер глубокой ночью, его никто не видел, кроме нас, и никому не известно, что он здесь. За видама де Панестер я ручаюсь – болтать впустую он не станет. Таким образом, можно считать, что захват Генриха Наваррского осуществлен в полной тайне.
– Почему именно это обстоятельство вы сочли самым важным?
– Это дает нам огромное преимущество, кузен. Католическая вера, герцогство Лотарингское и Французское королевство не имеют врага злейшего, чем он. Его смерть будет повсюду воспринята с глубоким удовлетворением. Но если мы казним его без суда, вся Европа возмутится и даже король Франции будет вынужден привлечь нас к ответу. Но ведь у нас нет необходимости оповещать об этом всех и каждого, верно? Я полагаю, что в Анжерском замке наверняка отыщется какой-нибудь древний каменный мешок, в котором смрад, сырость и мрак быстро избавят узника от тягот земной жизни?
– Хм… если поискать как следует… – пожал плечами Франсуа.
Анна ответила ему ослепительной улыбкой.
– Я вижу, мы с вами найдем общий язык, ваше высочество, – заметила она.
– В зависимости от обстоятельств, – невозмутимо парировал герцог.
Эти слова заставили Анну Лотарингскую умолкнуть. Она быстро взглянула на собеседника, ожидая пояснений. Но Франсуа был истинным сыном Екатерины Медичи. В его жилах струилась итальянская кровь, а его принципы были целиком позаимствованы у гениального политического хамелеона Макиавелли.
– Вы все предусмотрели, любезная кузина, – начал он, – но почему-то избегаете касаться одного обстоятельства. А оно весьма важно: Генрих де Бурбон, король Наварры, после меня имеет наиболее весомые права на корону Франции…
– Мы с ним в совершенно равном положении! – торопливо вставил Генрих де Гиз.
– Прошу простить меня, герцог, но он на ступень ближе к трону! У моего царствующего брата нет и не предвидится прямых наследников. Следовательно, если он отойдет к Господу, я…
– Корона будет принадлежать вам, кузен!
– Я бы не взялся это утверждать. Ведь жизнь человека порой зависит от сущих пустяков. Случайная пуля на охоте, острие кинжала, неловкое падение с лошади или крупинка хитроумного яда – и человека нет!
При этих словах Генрих Гиз невольно взглянул на сестру.
– Поэтому, – продолжал герцог Анжуйский, – я хочу, чтобы вы, кузен и кузина, внимательно меня выслушали. Вы захватили наваррского короля… неплохой политический ход, но вы упустили из виду кое-что другое, и это серьезная ошибка…
– Что вы имеете в виду?
– То, что вы доставили его в Анжер, а не в Нанси! Там его судьба была бы всецело в ваших руках и вы могли бы поступить с Генрихом, как заблагорассудится, не считаясь ни с чем…
– Насколько я понимаю, – с возрастающим раздражением процедил де Гиз, – вы говорите о том, что здесь мы не вправе распорядиться судьбой нашего пленника?
– Именно это я и хотел подчеркнуть. Здесь дальнейшая судьба короля Наварры в первую очередь зависит от меня.
– То есть ошибка в том, что мы доверились вам?
– Повторюсь: все зависит от обстоятельств… Ведь если я помогу вам избавиться от наваррского короля, то этим самым решу ваши проблемы, но не свои. Я всего лишь подниму вас, герцог, на следующую ступень на пути к трону!
– Все это пустые формальности. Ведь сейчас даже речи нет о том, что кто-либо из нас станет царствовать!
– Хм… Кто знает, кто знает…
– Вам, ваше высочество, нет и тридцати, а нашему королю всего тридцать два!
– И я, и Генрих III – люди, а значит, мы оба смертны!
При этих словах герцог де Гиз снова обменялся взглядами с Анной Лотарингской. И надо отметить, что в этих взглядах скрывалась целая политическая программа.
– Любезный кузен, – начала герцогиня Монпансье, – мы предвидели такую реакцию с вашей стороны! Но теперь окажите любезность и выслушайте нашу позицию по этому вопросу. Видите ли, Варфоломеевская ночь оказалась всего лишь прологом к ожесточенной схватке католичества с еретиками-протестантами. Ныне эта борьба временно приостановилась, ибо у Священной лиги нет вдохновенного, энергичного и одаренного вождя. Нынешний король Франции, увы, стать таким вождем никогда не сможет. Он слишком порочен и изнежен, чтобы решать такие масштабные задачи, к тому же его престиж основательно подорван. У нас есть сведения, что Папа Римский вынашивает намерение отлучить нашего государя от Церкви. Если это случится, народ Франции отвернется от Генриха де Валуа и изберет другого короля. Но, хвала Всевышнему, в таких обстоятельствах народ не обладает правом свободного выбора, а избирает то лицо, на которое укажет святейший престол. Учитывая, что для Папы особо важны интересы Лотарингского дома, королем станет тот, на кого укажет ему наше семейство.
– А каковы на этот счет соображения вашего семейства?
– Будет названо имя лица королевской крови, которое станет нашим верным союзником.
– И кто же он, этот принц?
– Вам стоит сказать только одно слово, и вы им станете! – многозначительно произнесла Анна.
Герцог Анжуйский, несколько ошеломленный, откинулся в кресле, а женщина продолжала:
– Угодно ли вам, ваше высочество, ровно через шесть месяцев, считая с сего дня, стать королем Франции?!
В темном покое этажом выше Екатерина Медичи вполголоса пробормотала:
– Вот, значит, как? Выходит, я и в этот раз не ошиблась!
36
Однако пора вернуться к плененному королю.
Мы расстались с Генрихом Наваррским в то мгновение, когда он, выглянув из окна во двор замка Панестер, обнаружил там отряд лотарингцев, вооруженных до зубов и закованных в броню.
Тут уж и в самом деле оставалось надеяться только на свою звезду.
Но когда Генрих заявил об этом, герцогиня Монпансье возразила:
– Вам, кузен, придется немного подождать, пока ваша звезда вас выручит, но сейчас вы всецело в моей власти. Сейчас ко входу в замок подадут портшез[104]; вы же благоволите тем временем облачиться в монашескую рясу и надеть бархатную полумаску. И еще я хотела бы заручиться вашим словом, что в пути вы не попытаетесь тем или иным способом раскрыть свое инкогнито.
– А если я откажусь, моя прелестнейшая кузина?
– Тогда останется прибегнуть к средствам, которые лично мне внушают омерзение. Я позову своих людей, вам заткнут рот кляпом, свяжут руки, а на голову наденут матерчатый мешок.
– Не стоит беспокоиться, кузина. Я готов исполнить вашу милую причуду. Но каким образом будет осуществляться переезд?
– Вы поедете в портшезе, а я составлю вам компанию!
Генрих Наваррский при любых обстоятельствах оставался галантнейшим из принцев своего времени. Взяв руку герцогини, он запечатлел на ней нежный поцелуй и воскликнул:
– Ах, вы по-прежнему очаровательны, кузина! Какая жалость, что я не удостоился вашей любви!
– Вы снова за свое? – с улыбкой заметила герцогиня.
– Не снова, а всегда и всюду, пока дышу!
– Любезный кузен! – насмешливо ответила Анна. – Я пришлю к вам видама де Панестер в качестве исповедника, и вы сможете более обстоятельно поведать ему об одновременной жгучей любви к двум дамам сразу – ко мне и к девице Берте де Мальвен, которой вы объяснились прошлой ночью!
С этими словами герцогиня, все еще посмеиваясь, скрылась за потайной дверью.
Не прошло и часа, как Генрих Наваррский уже сидел вместе с Анной в портшезе, который несли около дюжины крепких носильщиков, направляясь к Анжерскому замку. Путь занял около семи часов. По знаку герцогини городские ворота распахнулись, пропустив необычный кортеж, при этом стражники даже не осмелились заглянуть за занавески портшеза. В точности то же произошло и в само́м замке, и, таким образом, прибытие пленного короля Наварры осталось тайной для всех, кто не был в нее посвящен.
Пока оба именитых путника поднимались по лестнице, герцогиня прошептала:
– Кузен, если я не ошибаюсь, еще совсем недавно вы говорили о вашей любви ко мне?
– Я люблю вас, кузина, в этом не может быть ни малейших сомнений!
– Кажется, я начинаю верить вам, но… но все-таки…
– Что означает ваша оговорка?
– Оставим это. А сейчас я приглашаю вас отужинать со мной.
– Где именно?
– В моих покоях. Я просила приготовить их к моему приезду.
– Я в восторге, – ответил Генрих, все это время напряженно размышлявший о том, как вырваться из плена. – И охотно принимаю ваше предложение!
На верхней площадке лестницы вместо слуг их поджидали двое мужчин, закутанных в плащи так, что лица было невозможно разглядеть. Однако Генрих моментально узнал обоих герцогов – де Гиза и де Валуа. Мужчины расступились, пропуская Анну и ее пленника. Кроме них, вокруг никого не было.
Герцогиня на миг задержалась рядом с одним из мужчин, а затем уверенно повела Генриха по полутемному переходу. Затем она толкнула какую-то дверь и предложила королю войти в небольшую комнату, добавив:
– Пока располагайтесь здесь. Через час я вернусь и мы отправимся ужинать. И не вздумайте пытаться бежать! Вас бдительно охраняют, и страже даны указания открывать огонь при малейшей попытке к бегству!
С этими словами Анна исчезла за дверью.
Читателю уже известно, что прямо оттуда она отправилась в кабинет герцога Анжуйского, где была окончательно определена участь короля Наварры. С той минуты судьба Генриха оказалась в полной зависимости от Анны. Добившись этого и получив от Франсуа некоторые инструкции, герцогиня вернулась к пленнику.
Обещанный ему ужин был накрыт в уютном, хорошо натопленном покое, где все предметы обстановки – стены, мебель, гобелены и ковры – были изумрудно-зеленого цвета. В глубине помещения, в алькове, стояла широкая кровать под балдахином, словно манившая к себе. Центральное место занимал резной стол, уставленный изысканными блюдами и винами.
– Прошу вас, кузен! – кокетливо пригласила Анна.
Генрих, не благодаря, шагнул к герцогине и с присущей ему галантной отвагой приобнял ее за тонкую талию, воскликнув:
– Как же вы очаровательны, кузина, и как нежно я вас люблю!
Анна рассмеялась, не предприняв ни малейшей попытки вырваться из королевских объятий.
– Знаете ли, кузен, – шепнула она, – в ваших глазах столько страсти, а ваша улыбка до того искренна, что я почти готова поверить вам!
– Иначе и быть не может, прекраснейшая из кузин! – воскликнул Генрих и, воспользовавшись моментом, запечатлел поцелуй на устах Анны.
– Право, из всех принцев, каких я знаю, вы – самый любезный! – нежно проворковала герцогиня в ответ. – Значит, вы все-таки любите меня?
– Клянусь бессмертием души!
– Зачем же вы любезничали на барке с этой простушкой Бертой?
– Уже тогда я чувствовал, что любовь к вам способна навлечь на меня одни лишь беды, и позаботился о противоядии.
– Вы к тому же и остроумны, кузен!
– И прибавьте – совершенно честен, кузина!
– Ну, тут бы я нашла что возразить!
– Не вижу смысла лукавить в такую минуту! Коль судьба пожелала отправить меня в Лотарингию, чтобы я окончил свои дни в какой-нибудь смрадной темнице, я готов навсегда забыть о делах государственных и жить одной любовью. Как знать, может, в любви мне повезет больше, чем в политике!
– Не исключаю, – не без иронии ответила Анна. – Однако пора и за стол! Пряные яства располагают к беседам о любви.
– Сущая правда!
– Не желаете ли отведать этого превосходного супа из раковых шеек?
– О, я бы с удовольствием, но…
– Что с вами, кузен? Почему хмуритесь?
– Мне не дает покоя одна мысль. При дворе кузена Франсуа служит целая толпа итальянцев, а итальянцы – известные отравители. Не знаете – не итальянец ли повар герцога Анжуйского?
– Ах, вот оно что! – смеясь, воскликнула герцогиня. – Смелее, сир, следуйте моему примеру! – и она с аппетитом принялась за суп.
– Теперь я совершенно спокоен, – кивнул Генрих и взялся за ложку.
Покончив с супом, женщина наполнила бокалы старым хересом из замковых подвалов. Генрих на это только хмыкнул.
– А как вы думаете, мадам, не итальянец ли виночерпий герцога?
Герцогиня, продолжая улыбаться, отпила глоток вина, и Генрих немедленно последовал ее примеру, осушив свой бокал за здоровье прелестной кузины.
37
По мере того, как ужин близился к концу, любезности Генриха становились все более настойчивыми. Герцогиня отделывалась шутками и смешками, но ее взгляд начинал туманиться. Наконец она со вздохом проговорила:
– Я все больше убеждаюсь, что вы, кузен, – человек, которому я могла бы довериться!
– Дорогая кузина… – начал было Генрих, но Анна остановила его жестом.
– Вы должны выслушать меня. Вы мой пленник, и ваше место – в Нанси, там вы и окончите свои дни. Однако…
Герцогиня поднялась и стремительно направилась к двери покоев, чтобы удостовериться, что их никто не подслушивает.
В каждом движении этой незаурядной женщины таилось столько грации и изящества, что Генрих невольно восхитился и воскликнул:
– Клянусь всеми святыми, кузина, король Генрих III совершил ужасную ошибку, не женившись на вас!
Эти слова произвели неожиданное действие: взор герцогини гневно сверкнул, губы сжались, и весь прекрасный облик превратился в олицетворение злобы и мщения. Перед Генрихом возникла настоящая фурия!
– О да, – ответила Анна, – этот человек – безумец! Я бы сделала из него величайшего государя христианского мира!
– Какая жалость, что я женат! – пробормотал король Наварры. – Вы бы помогли мне немного увеличить мою крохотную державу!
Анна не улыбнулась шутке. Ее лицо приобрело почти торжественное выражение.
– Кузен, не стоит шутить такими вещами! – проговорила она. – Давайте поговорим серьезно, ибо сейчас от вашего ответа зависит, наступит ли мир между нами или продлится кровавая война!
– По моему, кузина, военные действия в самом разгаре! Разве я не ваш пленник?
– И да, и нет!
– Как прикажете вас понимать?
– Вы похитили меня в Блуа и попытались доставить в Наварру. Я, в свою очередь, заманила вас в ловушку и привезла в Анжер, чтобы доказать только одну вещь: я, слабая женщина, могу бороться с вами на равных.
– Я в этом ни на миг не сомневался!
– Так слушайте же меня, кузен, я хочу открыть вам свое сердце. Невероятная мне досталась судьба! Король Карл IX должен был жениться на мне, но не женился. Генрих III считался моим женихом и отверг меня. Электор Палатина[105] также подумывал о браке со мной. Я была в двух шагах от корон Франции и Германии, но и та, и другая ускользнули. Дочь и сестра государей, я не смогла достичь вершин власти…
– А вы хотите властвовать?
– О, кузен! – воскликнула Анна. В эту минуту ее душа была во власти могучей бури страстей и желаний. – Ради короны я пошла бы на что угодно… Но будем последовательны. Сегодня по пути из замка этого жалкого видама я раздумывала о самых разнообразных вещах; и среди прочего мне представился план, который было бы совсем не сложно осуществить.
– Какой именно план?
– Я бы хотела разделить западную половину Европы на две примерно равные части.
Взгляд Генриха выразил лишь ироническое недоумение.
– Не кажется ли вам, кузина, что мы несколько уклонились от предмета нашей беседы? Я начал с объяснения в любви, а вы предлагаете перекроить карту Европы!
– Выслушайте же меня! Когда я говорю о половине Европы, я имею в виду ту часть суши, которая отделена Рейном от его устья до истоков и далее – через Альпы до самой Адриатики.
– Другими словами, это Фландрия, Лотарингия, Эльзас, Франш-Конте[106], Швейцария, Савойя и Италия?
– Вы не упомянули Францию и Испанию, кузен!
– И Наварру?
– Да, и ее. Из этой территории я бы выкроила два крупных государства. К первому отойдут Фландрия, Эльзас, Лотарингия, весь левый берег Соны и Роны, Италия, Савойя и Швейцария.
– А ко второму?
– Париж и окружающие его земли, Нормандия и Бретань, Анжу и Пуату, оба берега Луары и Гаронны…
– А также Наварра, Испания и Португалия?
– Совершенно верно!
– Славное выйдет королевство! Продолжайте же, кузина! И кого же вы прочите государем в первую державу?
– Моего брата Генриха де Гиза. Ему давно уже тесно в Лотарингии!
– Предположим. Ну, а кому предназначена вторая?
– Принцу, который, в зависимости от своего собственного желания, будет титуловаться королем Франции либо Гаскони.
– Гаскони? Почему, черт побери?
– Потому что, как я полагаю, ее истинной столицей должен стать Бордо.
– И кто же будет этим государем?
– Вы, кузен!
– Боюсь, что вино из погребов Франсуа Валуа отличается какими-то особыми свойствами, если оно способно внушать подобные идеи, кузина!
– Но я и не думала шутить!
– Нет? Тогда я приношу извинения! Я снова весь внимание!
– Давайте предположим, что карта Европы изменилась в соответствии с моим планом. В этом случае ваше государство будет включать половину Франции – а она на две трети католическая – и полностью католическую Испанию. Огромное большинство ваших подданных не станет мириться с королем-гугенотом. Следовательно, вам придется вернуться в лоно католической матери-церкви.
– Не вижу в этом ничего неосуществимого. Я не так легкомыслен, как вы полагаете, и не до такой степени ненавижу Папу, чтобы не суметь примириться с ним. Но что же дальше?
– Взойдя на трон, вы женитесь на мне, и мы разделим ту корону, которую вы получите из моих рук.
– Это будет в высшей степени справедливо, но…
– Разве вы только что не клялись мне в любви?
– О, разумеется! – воскликнул Генрих, горячо целуя Анну.
– Нас поддержит сам Папа! – продолжала она.
– Если, конечно, я отрекусь от реформатов.
– И тогда правящие дома Наварры и Лотарингии станут властителями судеб всего христианского мира.
– Все это, конечно, прекрасно, но…
В голосе Генриха слышались колебания, и герцогиня недовольно нахмурилась.
– Вы хотели возразить? – нетерпеливо спросила она.
– Все, что было сказано до сих пор, мне по нраву… Но как я могу жениться на вас, если я уже женат?
– Я предвидела это препятствие, кузен. В ту пору, когда вы женились на Марго, вы были гугенотом. Стоит вам вернуться в лоно католической церкви – и Папа расторгнет ваш первый брак!
– Превосходная идея, но…
– Снова «но»?
– Что будет с королем Франции Генрихом III?
– Мне уже доставили специально заказанные золоченые ножницы, чтобы выстричь волосы на его макушке, а затем запереть этого необузданного развратника в отдаленном монастыре.
– Превосходно! Вы, как всегда, дальновидны. Но…
– Не могу поверить! Еще одно «но», кузен?
– Это не вполне «но». Я всего лишь хотел поставить вас в известность, что испанский король уже обращался ко мне с подобным предложением!
– Это правда?
– Он предлагал мне руку своей сестры. Поговаривают, что она довольно красива.
– А далее?
– Далее – Париж и французский трон. А в качестве компенсации за мое нищее наваррское королевство, которое должно отойти Испании, мне предложили богатую Лотарингию вместе с вашими нансийскими дворцами и замками, кузина!
У герцогини вырвался гневный возглас.
– Но ведь вы отказались? – спросила она, немного остыв.
– Отказался, – кивнул Генрих.
– А что же вы ответите на мое предложение, кузен?
Генрих Наваррский был гасконцем, а гасконец, если существует даже ничтожная возможность ответить уклончиво, ни за что не ответит прямо. Так и сейчас – вместо ответа Генрих лишь несколько раз сокрушенно вздохнул.
– Как прикажете понимать эти вздохи? – осведомилась герцогиня.
– Я вспомнил о моей бедной Марго… Что будет с ней, если я отвергну ее?
– Ничего. Утешится с очередным любовником, вот и все!
– Как? – с деланым изумлением воскликнул Генрих. – Вы думаете, что Марго…
– Бога ради, кузен! Разве мало за ней числится любовных приключений!
– Не могу поверить!
– Сделайте над собой усилие, поскольку это чистая правда!
Генрих снова вздохнул, после чего проговорил:
– Ну, если это так, то нечего о ней и говорить!
Тем не менее он снова вздохнул.
– О ком или о чем вы вздыхаете теперь? – кокетливо поинтересовалась Анна.
– Несчастный Генрих Валуа! Что ему делать в глухом монастыре?
– Будет устраивать религиозные процессии по праздничным дням. Ведь вам известна эта его страсть?
– Да, верно! Я и забыл… – и Генрих снова вздохнул.
– Что еще вас смущает?
– Наш с вами кузен Франсуа. Как быть с ним?
– С герцогом Анжуйским? Да ведь ему осталось жить не больше года. По крайней мере, все лекари в этом сходятся!
– А, ну раз так, пожелаем ему мирной кончины!
Решив, что Генрих Наваррский окончательно сдался, герцогиня обвила его шею и нежно прижалась к нему.
– О, я знала, знала, что вы примете мое предложение, дорогой кузен! – прошептала она.
Генрих осторожно разомкнул кольцо ее объятий и с величайшим простодушием произнес:
– Да что вы такое говорите, дорогая? Я и не думал его принимать!
– То есть… то есть как?
– Тут и объяснять нечего. Вы ведь сами обмолвились, что герцогу Франсуа жить остается не больше года. Зачем же все эти интриги, если после его кончины прямым наследником Генриха III останусь я – и только я? Какой смысл добиваться того, что принадлежит мне по праву рождения?
Анна отпрянула, из ее бурно вздымающейся груди вырвался стон, напоминающий стон раненой тигрицы.
– Значит, вы… вы отказываетесь?
– Совершенно верно!
– И вас не страшит, что в моем лице вы обретете врага, который смертельно вас ненавидит?
– Да будет вам, кузина! От ненависти до сих пор не умерла еще ни одна женщина.
– Но вы в моих руках!
– Сейчас – несомненно. Но кто знает, что случится завтра? Бог всемогущ, а будущее туманно.
– Остерегайтесь!
– Мадам, – холодно произнес Генрих, – благодарю вас за честь, которую вы оказали мне, пригласив отужинать!
Затем король встал, показывая, что не видит смысла продолжать бесплодную дискуссию.
Бледная, как каррарский мрамор, от ярости герцогиня воскликнула:
– Знайте же, кузен, что этим ответом вы подписали свой смертный приговор. Лишь в моей власти было сохранить вам жизнь, но вы пренебрегли своим единственным шансом. Отныне никто не позавидует вашей участи!
– Желаю вам доброй ночи, очаровательная кузина!
Анна устремилась к двери, но на пороге задержалась на миг, чтобы послать Генриху уничтожающий взгляд. В этом взгляде смешались в одно ненависть разочарованного политика и гнев женщины, которую отвергли. Однако король Наварры, как бы ничего не замечая, твердой рукой наполнил свой бокал, осушил его до половины и проговорил:
– Нет, положительно, – ви́на погребов кузена Франсуа превосходны! Я был несправедлив, заподозрив его виночерпия!
Анна с грохотом захлопнула дверь. Заскрежетал ключ в замке. Генрих Наваррский наконец-то остался один.
– Дьявольщина! – пробормотал он. – Эта чудаковатая особа возомнила, что я соглашусь на такую бездну хлопот – и только ради того, чтобы именоваться королем Гаскони! И это в то время, как я совершенно уверен, что титул короля Франции все равно меня не минует… Но для того, чтобы это осуществилось, надо, по крайней мере, выбраться отсюда…. Впрочем, утро приносит совет – так, кажется, говорят англичане. Сейчас я слишком утомлен и нуждаюсь в отдыхе, а на свежую голову легче сообразить, как вырваться из этого капкана!
И все же, перед тем как погрузиться в сон, Генрих тщательно обследовал стены покоя и удостоверился, что, помимо той двери, через которую удалилась герцогиня де Монпансье, никакого другого входа сюда – ни явного, ни тайного – нет. Затем, забаррикадировав изнутри единственную дверь мебелью, король разделся и с наслаждением вытянулся на ложе.
Прошло всего несколько минут, Генрих начал было погружаться в дремоту, когда раздался звучный щелчок и кровать вместе с балдахином плавно заколебалась. Король попытался вскочить, но из этого ничего не вышло: три стальные пластины внезапно выскочили из деревянных боковин его ложа и прижали его так, что он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, а сама кровать начала медленно опускаться вниз. Сколько ни пытался Генрих вырваться из этих стальных объятий – бесполезно, а тем временем подъемный механизм продолжал делать свое дело.
Наконец все затихло, упругие пластины вернулись на место, и Генрих почувствовал, что свободен. В полной темноте он поспешно натянул на себя одежду и спустил ноги на пол. Он был сырым и ослизлым, в воздухе пахло гнилью.
В ту минуту король понял все, что произошло. Еще в детстве ему доводилось слышать о том, что в Анжерском замке имеется некая «зеленая комната», кровать в которой оборудована особым механизмом. С помощью этого механизма под покровом ночи владельцы замка отделывались от врагов и неугодных придворных. Те обычно исчезали бесследно, ибо подземелья, куда опускалась кровать вместе с жертвой, располагались глубоко, не имели ни единого выхода и были окружены могучей кладкой древнего фундамента замка.
– Однако! – удрученно пробормотал Генрих. – Правду сказать, моей звезде будет весьма непросто заглянуть сюда… Но в конце концов, ведь заглядывают же звезды даже на дно самых глубоких колодцев! И первое, что я сделаю, когда меня наконец-то оставили в покое, пусть и таким необычным способом, – как следует высплюсь. Кровать уже сделала свое черное дело, и новых каверз ждать не приходится. А силы мне очень и очень понадобятся!
С этими словами король Наварры снова улегся и вскоре крепко уснул.
38
Проснувшись, Генрих Наваррский с удовлетворением обнаружил, что в его темнице не так уж безнадежно темно. Откуда-то сверху пробивался узкий луч света, и, хотя он не достигал пола, узник мог осмотреться и понять, где находится.
Осмотр не принес ничего утешительного. Каменный мешок, куда поместили Генриха, имел овальную форму. Ни окон, ни дверей нигде не было видно. Стены были сложены из массивных гранитных глыб, известковый раствор между которыми от времени также превратился в камень. Высоко вверху виднелся прямоугольный люк, через который кровать опустили в темницу. Но, чтобы добраться до него, надо было каким-то образом снова привести механизм подъемника в движение, а сделать это можно было только извне. Сколько ни ломал голову король, ни единой возможности вырваться отсюда не было.
Оставалось ждать счастливой случайности; но как и откуда она могла явиться, Генрих не мог даже вообразить. Помимо всех этих тягостных мыслей его начали терзать голод и жажда. О нем забыли, или… или это месть Анны Лотарингской? Уж не решила ли она уморить его голодом, этой едва ли не самой мучительной из смертей?
Вскочив, Генрих принялся снова, уже в который раз, обследовать свой каменный мешок. Ничего, ни намека на какой-нибудь выход!.. Тем временем рассеянный свет, проникавший сверху, начал тускнеть, а затем окончательно исчез. Очевидно, снова наступил вечер – значит, он уже целые сутки провел в заточении без еды и питья.
Король вернулся и лег – надо было беречь силы. Он все еще пытался не терять бодрости, но действительность была так страшна и безысходна, что мало-помалу в его душу начинал проникать холодный ужас. Угодить в глупую ловушку, устроенную женщиной, и принять жестокую смерть в расцвете сил? Окончить свои дни в сырой яме, когда будущее только-только засияло ослепительной надеждой. Какая жестокая ирония судьбы!
Внезапно до обострившегося в тишине подземелья слуха короля долетел смутный шум. Генрих вскочил и прислушался. Может, это скрипят половицы наверху? Может, сейчас откроется люк и узнику спустят пищу и воду?
Шум повторился – однако сразу стало ясно, что он доносится не сверху, а снизу, из-под вымощенного каменными плитами пола. Затем послышался новый звук – что-то вроде скрежета отпираемого ржавого замка.
Сердце Генриха бешено застучало, в душе сверкнула искра надежды. Звук стал явственнее, но принял иной характер: справа из-под пола, у самой стены, зазвучали мерные негромкие удары какого-то инструмента вроде кирки.
Генрих приник ухом к полу. О да, звук становится все явственнее, теперь уже невозможно сомневаться: кто-то пробивается на помощь пленному королю! Но кто бы это мог быть? Амори де Ноэ? Кто-то еще из гасконцев? Или иной, пока еще неведомый спаситель?
Времени искать ответ на этот вопрос не осталось: внезапно плита, на которой он лежал, дрогнула. Генрих вскочил и отпрыгнул в сторону, а плита неспешно поднялась, под ней открылся слабо освещенный проход. Оттуда в темницу вползли на четвереньках двое мужчин – один из них явно был дворянином, но его лицо скрывала маска из черного бархата, другой выглядел простым мастеровым.
– Ваше величество, – произнес человек в маске, – вы здесь? Мы пришли освободить вас!
«Я определенно где-то слышал этот голос!» – подумал Генрих, вздрогнув. Дворянин в маске продолжал:
– Старайтесь не шуметь и не задавайте вопросов. Просто спрыгните вниз, а затем я выведу вас отсюда! – он протянул руку, помог Генриху спуститься и обернулся к мастеровому: – Установи плиту на старое место и приведи все в прежний вид.
Им пришлось подождать, пока тот закончит свое дело, после чего все трое двинулись вперед по тесной подземной галерее с низкими сводами. Дважды или трижды они останавливались, чтобы мастеровой-каменщик мог заделать проемы в кладке, из которой были вынуты несколько камней, а незнакомцу в маске пришлось отпереть и запереть несколько окованных железом дверей. Не прошло и часа, как распахнулась последняя дверь и в лицо короля Наварры ударила струя сырого ветра.
Генрих поднялся по ступеням – над ним распахнулось во всю ширь звездное небо, а у самых его ног с глухим ропотом катилась темная масса воды.
– Это Луара! – обронил сопровождавший его незнакомец. – А теперь продолжайте следовать за мной!
«Как странно! – снова подумал Генрих. – Я не могу отделаться от ощущения, что прежде слыхал этот голос, и не раз!»
Поначалу они двигались по тропе вдоль речного берега, а затем свернули и углубились в переплетение узких улочек и переулков Анжера.
– Куда мы направляемся? – наконец спросил Генрих.
– К свободе, сир.
– Вы полагаете, это была не мера устрашения, а серьезная опасность?
– Смертельная, сир. Вам предстояло погибнуть голодной смертью!
– Благодарю вас, – пробормотал Генрих, сдерживая внезапно охватившую его дрожь.
– К счастью, ваши друзья не спускали с вас глаз.
– Кто эти друзья?
Взгляд незнакомца сверкнул, когда он с горечью произнес:
– Люди, о чьих дружеских чувствах вы, сир, вряд ли подозревали.
– Я увижу их?
– И очень скоро! – незнакомец указал на одну из дверей, выходящих в переулок: – Прошу вас! – Он отступил, пропуская вперед мастерового с киркой. Тот извлек из кармана ключ.
– Выходит, именно здесь обитают мои неведомые друзья?
– Да.
– А вы? Кто вы такой?
– Я? Всего лишь выходец с того света.
– Что это значит?
– Судите сами!
С этими словами незнакомец приподнял маску и поднес фонарь ближе к лицу. У Генриха вырвался возглас, полный ужаса:
– Но ведь это невозможно! Ты же умер!
– Как бы там ни было, сир, – иронически заметил незнакомец, возвращая маску на место, – но вы, конечно, догадываетесь, что я не по собственной воле оказываю вам эту услугу!
– Иначе и быть не могло!
– Я всего лишь повинуюсь полученному приказу.
– Чьему?
– Сейчас узнаете, – незнакомец толкнул дверь, предложив Генриху войти.
– А что, если это всего лишь очередная ловушка?
– Стоило ли тогда столько возиться с вашим побегом? И зачем бы я стал показывать вам свое лицо?
– Дьявольщина! Ты прав! – Генрих решительно перешагнул порог.
Незнакомец провел его по сумрачному коридору и остановился перед еще одной дверью. Но, перед тем как открыть ее, он снова обернулся к Генриху и проговорил:
– Сир, я был вашим недругом, однако меня сделало им то зло, которое вы мне причинили…
– Ты сам навлек его на себя!
– Пусть так! Но, идя против вас, я лишь следовал повелениям свыше. Да, я был всей душой с вашими врагами…
– Что ты хочешь этим сказать?
– Если эти враги станут вашими друзьями, даруете ли вы мне прощение?
– Да. Можешь не сомневаться!
– Дайте слово, что никому не выдадите тайну моего воскрешения!
– Клянусь!
– Благодарю вас, ваше величество!
Человек в маске почтительно склонился, а затем постучал в дверь. Из комнаты ответил женский голос. Дверь отворилась, и пораженный Генрих Наваррский оказался перед лицом королевы-матери.
Екатерина Медичи приветствовала его:
– Добро пожаловать, сын мой!
Замаскированный незнакомец, повинуясь ее знаку, исчез. Королева опустилась в кресло и продолжала:
– Вы, надеюсь, уже догадались, кто вырвал вас из когтей смерти?
– Ваше величество!..
– Я хочу предложить вам забыть прошлое и помнить лишь об одном: вы – супруг французской принцессы. Понимаю, вы еще не опомнились и вам непросто осознать связь вещей и событий. Тогда садитесь и выслушайте со вниманием все, что я сейчас скажу!
Генрих повиновался.
– Этой ночью в Анжерском замке, – начала королева-мать, – состоялся тайный сговор. Я хорошо знакома с этим замком, так как долго жила здесь с покойным мужем-королем. В свое время я позаботилась о том, чтобы в любую минуту иметь возможность видеть и слышать все, что здесь происходит. Я прибыла сюда своевременно и благодаря этому слышала все, что происходило на совещании Генриха де Гиза и Анны де Монпансье с герцогом Анжуйским, а также беседу Анны с братом наедине и все, что было сказано между вами и герцогиней за ужином в «зеленой комнате». И вот этот разговор окончательно развеял мои сомнения. Я и прежде предполагала спасти вас, чтобы у лотарингской партии остался хотя бы один сильный и мужественный враг, но, после того как вы дали этой негодяйке решительный и достойный ответ, я поняла: будущее Франции – за вами!
А теперь я кратко изложу вам суть всех этих переговоров. Дому де Гизов во что бы то ни стало необходимо получить право по-своему распорядиться вашей судьбой. И, чтобы добиться этого, они предложили герцогу Франсуа поднять восстание против короля Генриха III, пообещав ему военную помощь и прямую дорогу к трону. Но мой младший сын понятия не имеет о том, что на самом деле он отравлен лотарингцами: несколько месяцев назад ему дали медленно, но неотвратимо действующий яд. Через год, самое большее через два, Франсуа покинет этот мир. Именно это время Гизы стремятся использовать для борьбы с королем, и, если бы им удалось привлечь на свою сторону единственных, кроме них, претендентов на корону, то есть вас и Франсуа, победа была бы им обеспечена. Поставив вас в крайне сложное положение, Анна рассчитывала, что вы вступите в заговор и пообещаете сделать ее своей женой. Тогда она позволила бы вам бежать, а вместо вас в подземелье бросили бы какого-нибудь другого несчастного. Но случилось то, что случилось, и было решено уморить вас голодом в подземелье под «зеленой комнатой».
Но все-таки они ошиблись в своих расчетах! Много лет назад я велела проложить тайный ход к этому подземелью, который ныне известен только мне. Этим я и воспользовалась, чтобы вызволить вас, Генрих!
Вдовствующая королева умолкла. Генрих с величайшим почтением поклонился, взял протянутую руку женщины и поцеловал ее.
– Да, времена изменились! – продолжала она, и в ее голосе зазвучала глубокая скорбь. – Мне пришлось сложить оружие. На протяжении десятилетий я оберегала дом Валуа от предательства и гибели. Но на моих глазах один за другим погибали потомки этого рода, не оставляя наследников. Теперь их осталось всего двое – король Генрих и Франсуа Анжуйский. Франсуа погублен ядом, и с этим уже ничего нельзя поделать, а Генрих бездетен. Вот-вот трон достанется лотарингцам! Разве могу я это допустить? И, если династии Валуа суждено пресечься, пусть лучше Генрих де Бурбон воссядет на трон французской державы!
– Но ваше величество, – воскликнул король Наварры, – ведь кузен Генрих сравнительно молод, крепок и здоров, он еще долго будет править страной!
– Пусть так, но кто примет корону из его рук?
– Разве у него не может появиться прямой наследник?
– Увы, нет… – печально проговорила королева-мать. – Но я рассчитываю на то, что, сколько бы ни продлилось правление Генриха III, вы не станете ни интриговать, ни прибегать к какому бы то ни было насилию, чтобы захватить трон. Если Генрих скончается, не оставив наследника, – трон по праву ваш. Но вы должны поклясться мне, что вплоть до этого времени будете всемерно защищать и ограждать трон дома Валуа от любых посягательств извне!
– Обещаю и клянусь бессмертием собственной души!
– Если так, позволь же обнять тебя, сын мой! – И Екатерина Медичи, крепко обняв наваррского короля, запечатлела на его устах материнский поцелуй.
Генрих ответил ей с такой же искренностью, а затем, опустившись на колено, торжественно произнес:
– Клянусь перед лицом вашего величества, что до последнего вздоха буду защищать французский трон, корону и жизнь короля Генриха III!
– Я верю тебе, сын мой, – твердо ответила королева-мать. – А теперь – в Амбуаз!
Не прошло и четверти часа, как к дому были поданы лошади и закрытая карета. Но лишь когда башни и стены Анжерского замка остались далеко позади, Генрих, ехавший верхом рядом с экипажем королевы-матери, наклонился к окну и проговорил, усмехнувшись:
– Воображаю физиономии моих приятелей-лотарингцев, когда, заглянув в темницу, они меня там не обнаружат!
– Их ждет еще более неприятный сюрприз, – ответила Екатерина Медичи. – В эту минуту мой человек мчится в Блуа с письмом к королю. Как бы этим двоим самим не оказаться в таком же положении, которое они предназначали тебе!
39
Наши читатели наверняка обеспокоены судьбой Рауля, прекрасного пажа, исполнявшего тайное политическое поручение при особе герцогини де Монпансье. Рауль преуспел в этом, герцогиня приблизила юношу к себе, а результатом этого стало ее пленение, гибель барки с сокровищем гугенотов, появление «призрака» Анны в замке Панестер и – падение Рауля в недра заброшенного ублиета.
Тем не менее судьба благоволила к красавцу-пажу и он не разбился при падении, как предполагала герцогиня. Заполненным водой ублиетом в замке видама так давно не пользовались, что все его дно покрылось толстым и мягким слоем тины и грязи. Мало того, с течением времени Луара несколько отступила от берега, и воды́ в каменной ловушке почти не осталось. Это обстоятельство и спасло Раулю жизнь.
Падение оглушило его, и некоторое время юноша провел без чувств. Придя в себя, он попробовал пошевелить руками и ногами и вскоре убедился, что они целы, если не считать синяков и многочисленных ушибов.
Первым делом Рауль выбрался из мокрой тины. Это потребовало усилий, но в конце концов ему удалось вскарабкаться на выступ каменной кладки, где он мог спокойно поразмыслить о том, что с ним случилось, и оценить ситуацию. Несомненно, графиня жива, а сам он стал жертвой ловкой мистификации. Но если Анна Лотарингская жива и скрывается, то ее ли рук делом было крушение барки, которое, казалось бы, ничто не предвещало? Однако в одиночку привести судно к гибели герцогиня не могла, следовательно, у нее имелся сообщник.
Кто он? Ответа у Рауля не было, да и найти его в том положении, в каком он оказался, было довольно затруднительно. Вокруг царила тьма, одежда его насквозь пропиталась ледяной сыростью, он не мог сделать ни шагу со своего выступа. Как знать, не таится ли рядом новая, еще более глубокая бездна?
Юноша решил собраться с силами и продержаться до наступления дня. Тогда, вероятно, хоть какие-то отблески света проникнут в мрачный каменный мешок, и это даст ему возможность понять, как выбраться отсюда.
Внезапно неподалеку от него послышался сдавленный стон. Рауль обратился в слух. Вскоре стон повторился. Этот звук издавал человек, и он показался ему чудесной мелодией.
Оказывается, у него есть товарищ по несчастью. Их двое – а в таком положении это удваивает шансы на спасение.
– Боже праведный! Где я? – невнятно произнес тот же голос.
– Ба! В других обстоятельствах я бы решил, что слышу своего друга Гастона! – вскричал Рауль.
– Силы небесные! Неужели это ты, Рауль? – простонал Гастон.
– Разумеется! Как ты тут оказался?
– Я сопровождал видама, чтобы по поручению герцогини Анны осмотреть покои, которые он ей отвел. Когда мы шли по галерее, пол внезапно выскользнул у меня из-под ног, и я рухнул вниз. Меня так ошеломило это падение, что я…
– Погоди, дружище! Прежде всего поведай, каким образом здесь очутилась герцогиня?
– Я помог ей спастись после крушения барки.
– Хм! Тут есть о чем поразмыслить… Итак, ты отправился осматривать ее покои и угодил в западню. Со мной, впрочем, произошло то же самое.
– Но как выбраться отсюда?
– Придется ждать рассвета. В этой темноте мы ничего не сможем предпринять. Я полагаю, что уже недолго – скоро начнет светать!
Оба умолкли, напряженно вглядываясь в глухую тьму.
Рауль оказался прав: мало-помалу мрак начал рассеиваться, превращаясь в некую серую мглу. Затем проступили очертания осклизлых гранитных стен ублиета, а еще через несколько минут Рауль разглядел фигуру Гастона, лежавшего в грязи в нескольких шагах от выступа, на котором он находился. Вскоре света уже хватало, чтобы сориентироваться.
Прежде всего Рауль убедился, что поблизости нет никаких ловушек и провалов. Затем он осторожно подобрался к Гастону и помог ему выбраться на сухое место, заодно убедившись, что у того ничего не сломано. После чего он опять уселся на выступе и обратился к молодому человеку:
– Прежде чем мы начнем выбираться отсюда, Гастон, нам следует поговорить!
– О чем? – удивился Гастон.
– О том, что в твоей истории слишком много темных мест. И я не сделаю ни шагу отсюда, пока не узнаю всю правду!
Вслед за этим Рауль принялся дотошно расспрашивать Гастона, и как ни выкручивался бедняга-гасконец, ему пришлось сознаться во всем, начиная с собственного любовного безумия.
Закончив допрос, Рауль широкими мазками живописал приятелю всю гнусность его поведения, но поскольку Гастон и без того был уже достаточно наказан за измену, понадеялся, что этот случай навсегда отобьет у него охоту к женщинам-политикам. Да ведь и совесть самого Рауля была не вполне чиста – его роль при герцогине Анне была несколько иной, чем это предполагалось вначале. Но главным аргументом в этом судебном процессе послужило то, что вдвоем с товарищем было гораздо проще выбраться из этой западни. Поэтому вскоре Рауль великодушно сменил гнев на милость, и оба принялись обсуждать различные способы покинуть ублиет.
Но, в сущности, способ был только один: воспользоваться тем отверстием, через которое сюда проникал свет. Это был довольно широкий горизонтальный сток, в прошлом по нему сюда врывались воды Луары. Правда, отверстие находилось довольно высоко, но, встав на плечи другу, можно было дотянуться до его края.
Гастон, как более высокий ростом, подставил свои плечи, Рауль взобрался на них, уцепился за край стока и подтянулся. Утвердившись там, он заглянул в канал стока и увидел речную гладь, озаренную солнцем, и часть противоположного берега. У самого выхода к реке он оказался слишком узким, чтобы через него мог протиснуться взрослый мужчина, но у Рауля уцелел кинжал, висевший на поясе, а плитки известняка, которыми был выложен сток, буквально рассыпались от старости. Поэтому расширить проход оказалось делом недолгим.
О завершении этой работы юноша оповестил Гастона ликующим возгласом. Однако на этом их злоключения не окончились. Было совершенно очевидно, что при свете дня появляться на берегу у самого замка слишком опасно. Не для того герцогиня расправилась с ними так жестоко, чтобы пощадить, если они снова окажутся у нее в руках!
Оставалось одно: преодолевая муки голода и жажды, ждать наступления вечера.
Каждый час казался обоим целым столетием. Наконец луч света, пробивавшийся в ублиет, начал меркнуть. Тогда Рауль снова взобрался на плечи товарища по несчастью, заполз в сток, нашел опору и протянул Гастону обе руки. Спустя минуту тот оказался рядом с ним.
Затем они поползли по трубе – навстречу жизни и свободе!
40
Близ ворот аквитанского города Нерак, в котором располагался собственный замок, а следовательно, и двор Генриха Наваррского, стоял славный белый домик, окруженный фруктовым садом и сплошь увитый виноградными лозами. Стоял теплый, словно в разгар весны январский вечер; на окрестных склонах распускались подснежники и фиалки, а на газоне перед домиком уже зацветали маргаритки. По террасе, выходящей на запад, прогуливались рука об руку двое молодых людей – восхитительно красивая темноволосая девушка и стройный дворянин, чей костюм свидетельствовал о том, что он только что вернулся из долгого и нелегкого путешествия.
Молодой человек, обращаясь к спутнице, говорил живо, ярко и убедительно, а та внимательно слушала его, хотя время от времени ее прелестное лицо освещала не лишенная иронии улыбка.
– Рауль, возлюбленный мой! – наконец проговорила девушка. – Речь ваша чрезвычайно цветиста и поэтична, но излагаете вы все вперемешку, и я совсем запуталась…
– Ох, моя дорогая Нанси, что поделаешь – так всегда случается, когда накопится такая бездна новостей и событий!
– Тогда стоит начать с самого начала и по порядку. Итак, наш король возвращается в Нерак?
– О да! Я опередил его на каких-то полчаса.
– А де Ноэ? А Лагир?
– Они сопровождают его величество.
– А барка?
– Она потерпела крушение и затонула, но золото удалось спасти, хоть и с нечеловеческими усилиями.
– Вот тут-то больше всего путаницы!
– Сейчас я все поясню. Выбравшись под вечер из ублиета, мы с Гастоном переплыли на противоположный берег Луары, где нас дожидались мэтр Гардуино и Лагир. Там мы высушили одежду и наконец-то смогли поесть. Тем временем на вместительной лодке прибыли Амори де Ноэ и сьер д’Энтраг, а с ними дюжина крепких молодцов в полном вооружении. Поняв, что король, судя по полному отсутствию вестей, угодил в плен, де Ноэ предложил осадить замок видама и взять его штурмом. Мы снова пересекли Луару и принялись стучать в ворота. Никто не отзывался, и мы выломали ворота, а за ними и дверь. Замок оказался пуст, нигде ни души, но в одном из дальних покоев мы обнаружили заплаканную, измученную и смертельно испуганную Берту де Мальвен.
– Но что случилось с королем?
– Короля эти негодяи отправили под сильным конвоем в Анжер, куда мы, разумеется, проникнуть в открытую не могли. Тогда мы решили, что король уж как-нибудь выпутается из силка, в который угодил, а сами занялись спасением бочек с золотом.
– Это было, я полагаю, далеко не просто?
– Две ночи подряд мы провели в ледяной воде, но в конце концов нам удалось выловить все до единой бочки. Мы погрузили их на лодку, и к утру на второй день были готовы к отплытию. Внезапно из-за поворота реки показалась большая барка. Она спускалась вниз по течению, а на ее носу стоял человек, размахивавший белым шарфом. Де Ноэ пригляделся и вдруг крикнул: «Да ведь это же наш король!» И в самом деле – это оказался Генрих Наваррский…
– Но как он очутился на этой барке, ведь Анжер лежит ниже по течению?
– Он плыл из Амбуаза, попав туда по суше.
– Значит, он побывал у королевы-матери? И ему удалось вырваться из когтей герцога де Гиза и герцогини де Монпансье, этого дьявола в обличье женщины, как кое-кто ее называет?
– Именно так, дорогая. Мне не известны все обстоятельства, но он был весел и свободен!
В эту минуту вдали показалось облако пыли.
– А вот, надо полагать, и сам монарх! – взглянув вдаль, заметил Рауль.
Не прошло и нескольких минут, как на дороге появился небольшой конный отряд во главе которого скакал всадник на великолепном коне. Шляпу его украшало пышное страусовое перо.
Между тем Нанси снова обратилась к молодому человеку:
– Рауль, дорогой! Наконец-то вы подробно рассказали мне о своих приключениях, но мне кажется, что вы упустили один важный момент. Уж слишком неохотно вы его коснулись.
– Что вы имеете в виду, возлюбленная?
– Я хочу понять, что вы делали в Нанси, в городе, который носит то же имя, что и я?
– Исполнял возложенную на меня важную миссию.
– И что это за миссия?
– Это государственная тайна, дорогая моя!
– Мне не хотелось бы уличать вас в лукавстве! Поэтому лучше бы вам, возлюбленный мой, самому поведать мне, как под прикрытием политической необходимости вы нарушили данные вами клятвы!
– Я никогда их не нарушал!
– В самом деле? А ведь я все время получала совсем другие сведения о ваших похождениях!
– Но вы же знаете, как преданно я люблю вас, Нанси!
– Не знаю, но хотела бы в этом убедиться. Поэтому я решила отложить наше бракосочетание.
– И до каких же пор?
– До того времени, когда мы с вами отправимся в Париж!
В следующее мгновение Генрих Наваррский на всем скаку осадил коня у ступеней террасы и спешился. А услышав последние слова Нанси, крикнул:
– Не впадай в отчаяние, мой Рауль! Всем известно, что Нанси – записная кокетка!
– Ах, ваше величество! – воскликнула девушка, заливаясь густым румянцем.
– Но долго ждать тебе не придется, – заключил король Наварры, – потому что в Париже мы окажемся очень скоро!
И, словно для того, чтобы лишний раз подтвердить свою репутацию самого галантного монарха Европы, Генрих шагнул к очаровательной Нанси и расцеловал ее в пунцовые щечки.
Александр Дюма
Железная маска
Вот уже почти сто лет эта таинственная история будоражит воображение писателей и ученых. Не найти более темной, более спорной и более популярной истории. Никто не знает о ней ничего определенного, но все в нее верят. Длительное тюремное заключение и тщательные предосторожности для изоляции узника вызывают невольное сочувствие, а тайна, окутывающая жертву, еще увеличивает его. Возможно, если бы было известно имя героя этой истории, она была бы уже забыта, превратилась бы в рядовое преступление, интерес к которому давно бы исчез. Но наказание, которому подвергли этого человека, было беспримерным – даже одиночной камеры оказалось недостаточно для сохранения тайны. Кем был этот человек в маске? Что послужило причиной его заключения – распутства придворного или дипломатические интриги, смертный приговор или смертельная битва? Что он утратил? Любовь, славу, престол? Как он вел себя, терпя мучения и не имея надежды – проклинал и богохульствовал или лишь покорно вздыхал? Каждый человек переживает страдания по-своему и представляет себе мучения узника исходя из собственного воображения и собственных чувств.
Страшно представить его участь – сорокалетнее заключение за ограждением из каменных стен и вдобавок железной маской. Должно быть, человеку этому было свойственно благородство, тайна его была связана с самыми возвышенными интересами, а сам он пал жертвой государственных секретов, пострадав во имя благополучия народов и спасения монархии.
Возможно, все это не так и по здравом размышлении окажется романтическим вымыслом. Однако не естественно ли, что тайна, которую хранили с такими предосторожностями и настойчивостью многие годы, оберегая правду об имени, возрасте и внешнем облике узника, диктовалась важными политическими интересами? Человеческие страсти, гнев, ненависть, месть не могут гореть так долго. Такие приказы нельзя объяснить только жестокостью. Неужели Людовик XIV не мог выбрать любую казнь, не утруждая себя тем, чтобы окружить некоего узника фантастическими бесконечными предосторожностями и постоянным наблюдением? Неужели он не боялся, что разгадка этой страшной тайны когда-то будет найдена и представит угрозу для самого его царствования? Отчего он заботился об узнике, которого было так трудно охранять и так опасно обнаружить? Достаточно было просто смерти при невыясненных обстоятельствах, – но король не хотел этого. В чем причина? Была ли это ненависть, гнев, страсть? Конечно нет! Меры, принятые против узника, были продиктованы чисто политическим интересом: король сурово хранил тайну, но не решался убить несчастного, возможно, не совершившего никакого преступления. А внимание и даже почтительность, проявленные по отношению к узнику в маске комендантом Сен-Маром и министром Лувуа, доказывают и его невиновность, и его высокое положение в обществе.
Я видел в истории человека в железной маске лишь злоупотребление силой, мерзкое преступление, возмутительное своей безнаказанностью. Несколько лет назад, когда мы с господином Фурнье решили представить этот сюжет на сцене, мы внимательно сравнивали различные опубликованные его версии. После успеха драмы, поставленной в «Одеоне», появились письмо господина Бийара, направленное им в Исторический институт и воспроизводящее сюжет, заимствованный нами у Сулави, и работа библиофила Жакоба, которая свидетельствует о глубоких исследованиях и огромной начитанности. Работа Жакоба не поколебала моих воззрений – я все равно последовал бы своему варианту понимания этой истории, ведь он гораздо драматичнее и кажется мне единственно правдоподобным, ведь в нем содержится мораль, очень важная для столь мрачной истории. История необычного узника нуждается в объяснении как из-за суровости и длительности заключения, так и из-за неясности причин, приведших к такой каре. Каждый новый исследователь оспаривает мнение предшественников и, в свою очередь, оспаривается преемниками. Нет ни одной безупречной версии. Вслед за первым вопросом: «Кто этот человек в маске?» – возникает второй: «Что послужило причиной столь невиданного наказания?» Для того чтобы ответить на эти вопросы, нужно располагать точными доказательствами, а не умозрительными заключениями…
Ничто не может убить интерес к тайне Железной маски, более того, он даже подогревается подробностями, которые приводят авторы и свидетели. Конечно, любое произведение на эту тему, пусть посредственное, пусть самое ничтожное, всегда пользовалось успехом.
Первым об узнике заговорил анонимный автор «Персидских записок», выпущенных в свет в 1745 г. Товариществом книгоиздателей Амстердама. На двадцатой странице мы читаем: «Рассказывая о делах неведомых, которые не описаны, но о которых невозможно умолчать, мы не можем обойти вниманием малоизвестный факт, касающийся принца Джафара (Луи де Бурбона, графа де Вермандуа, сына Людовика XIV и мадемуазель де Лавальер), которого Али-Хомаджу (герцог Орлеанский, регент) посетил в крепости Исфахана (Бастилии), где тот многие годы пребывал в заточении. Целью визита было убедиться в том, что принц, считавшийся умершим от чумы более тридцати лет назад, жив.
У шаха Аббаса (Людовика XIV) были законный сын Сефи-Мирза (Людовик, дофин Франции) и побочный сын Джафар. Принцы вечно ссорились и соперничали. Однажды Джафар, вспылив, дал пощечину Сефи-Мирзе. Шах Аббас, которому сообщили об оскорблении, нанесенном наследнику престола, собрал ближайших советников и сообщил им о преступлении Джафара, которое должно было караться смертью, однако один из министров предложил отослать Джафара в войско, стоявшее на границе с Фельдраном (Фландрией), а через несколько дней представить дело так, будто он погиб, тайно перевезти его в крепость на остров Ормуз (острова Сент-Маргерит) и навечно там заточить.
Это было исполнено при участии верных и умеющих хранить тайну подданных; принц тайно был привезен на остров Ормуз и передан коменданту крепости; тот получил приказ не показывать узника никому, кто бы этого ни добивался. Единственный слуга, знающий о тайне, был убит в пути воинами конвоя, а лицо его обезобразили кинжалами, чтобы исключить возможность опознания.
Комендант крепости обращался с узником в высшей степени почтительно, лично прислуживал ему и принимал в дверях камеры блюда из рук поваров – и никто из них никогда не видел лица Джафара. Однажды принц на дне тарелки вырезал ножом свое имя. Слуга отнес ее коменданту в надежде получить награду, но тут же был умерщвлен – никто не должен был знать государственную тайну.
Джафар долгие годы провел в крепости Ормуз, затем был переведен в крепость Исфахан. Здесь на принца также надевали маску, когда из-за болезни или по какой-то другой причине его мог кто-нибудь увидеть. Многие утверждали, что не раз видели узника в маске, который обращался к коменданту на «ты» и пользовался его безграничным почтением.
Джафар, намного переживший шаха Аббаса и Сефи-Мирзу, так и не был освобожден – не было никакой возможности вернуть положение, титул и привилегии принцу, чья могила была еще цела и о смерти которого существовали письменные свидетельства, вера в подлинность которых не подвергалась сомнению…»
Эта версия, первоисточник всех споров о Железной маске, сначала была общепринятой. До серьезной проверки она в общем соответствовала событиям, происходившим в царствование Людовика XIV.
Граф де Вермандуа действительно отправился в армию во Фландрию после недолгого пребывания при дворе, откуда был удален королем за распутство.
«Король, – пишет мадемуазель де Монпансье, – был чрезвычайно недоволен его поведением и не хотел его видеть». Юный принц, доставивший много горя своей матери пробыл при дворе всего четыре дня и в начале ноября 1683 г. был уже в лагере при Куртре; вечером 12 ноября он скверно почувствовал себя, а 19-го умер от скоротечной лихорадки.
Эта версия вызывает множество возражений. Однако если бы в то короткое время, в течение которого граф де Вермандуа пробыл при дворе, он дал пощечину дофину, об этом стало бы известно всем. Но история эта приводится только в «Персидских записках». Пощечина также неправдоподобна: нельзя не принимать во внимание разницу в возрасте между принцами. Дофин, отец герцога Бургундского, родился 1 ноября 1661 года, ему было двадцать два года, то есть он был на шесть лет старше графа де Вермандуа. И совершенно опровергает эту версию извлечение из письма Барбезье Сен-Марсу от 13 августа 1691 года: «Если вам будет необходимо просить у меня что-либо для узника, уже двадцать лет находящегося под вашей охраной, прошу прибегать к тем же предосторожностям, какими вы пользуетесь, когда пишете господину де Лувуа».
Ясно, что граф де Вермандуа, умерший, по официальным сообщениям, в 1683 году, не мог к 1691 году пробыть в заключении двадцать лет.
Спустя шесть лет после того, как к человеку в маске было привлечено внимание, Вольтер под псевдонимом Франшвиль выпустил сочинение «Век Людовика XIV». Именно в этом произведении появились новые подробности о таинственном узнике.
Вольтер называет дату, когда началось заточение человека в маске: через несколько месяцев после смерти кардинала Мазарини (1661); дает портрет узника: «выше среднего роста, молод, с красивым и благородным лицом, смугл, интересовался только своим голосом, никогда не жаловался на свое положение и не делал намеков на то, кем является»; «в нижней части (маски) имелись стальные пружины, позволявшие узнику есть, не снимая ее». Также Вольтер приводит дату смерти этого человека, похороненного в 1704 году ночью в приходе Сен-Поль.
Рассказ Вольтера повторял основные обстоятельства «Персидских записок», за исключением эпизода, относящегося к заключению Джафара. На узнике, когда его везли на остров Сент-Маргерит, а потом перевозили в Бастилию под охраной Сен-Марса, доверенного офицера, была надета маска и имелся приказ убить его, буде он откроет лицо. Маркиз де Лувуа, приехавший на остров повидаться с узником, разговаривал с ним стоя, проявляя уважение, граничащее с почтительностью. В 1690 году узник был переведен в Бастилию, и там ему были созданы лучшие условия, какие только были возможны в тюрьме: ему ни в чем не отказывали, а он любил тонкое белье и кружева, играл на гитаре; ему доставляли наилучшие кушанья, и комендант редко осмеливался присесть в его присутствии.
Вольтер пишет также, что старик врач, лечивший несчастного узника, так ни разу и не видел его лица, «хотя неоднократно смотрел ему язык да и все тело»; господин де Шамийар был «последним министром, знавшим эту тайну, и его зять маршал де Ла Фейад на коленях умолял сказать, кто же скрывался под железной маской. Перед кончиной в 1721 г. Шамийар признался, что дал клятву никогда не раскрывать этот государственный секрет». «Еще больше удивляет то, – пишет Вольтер, – что в то время, когда неизвестный узник был доставлен на остров Сент-Маргерит, ни одна значительная персона в Европе не исчезла».
Споры не утихали, и некоторые голландские ученые предположили, что узник в маске был молодым иностранным дворянином, камер-юнкером Анны Австрийской и предполагаемым отцом Людовика XIV. Это предположение возникло под влиянием книги, изданной в Кельне у Пьера Марто «Любовные утехи Анны Австрийской, супруги Людовика XIII, с С. D. R., подлинным отцом Людовика XIV, короля Франции, где можно найти подробности о том, что было предпринято для появления на свет наследника престола, и о развязке этой комедии». Брошюра выдержала пять изданий. На титуле третьего издания вместо инициалов С. D. R. стоит имя кардинала Ришелье. Но это явное заблуждение издателя, что легко выяснить при чтении самого произведения. Кто-то считал, что эти три буквы означают comte de Riviere, кто-то – comte de Rochefort, потому что его мемуары, редактированные Сандра де Куртилем, открываются этими инициалами.
«Это сообщение, – пишет автор, – раскрывает тайну незаконного происхождения Людовика XIV. Но, хотя в нем много нового и неизвестного для нас, во Франции сие не является тайной. Известная всем холодность Людовика XIII, неожиданное рождение Людовика Богоданного, появившегося на свет после двадцати трех лет бесплодного брака, а также другие значительные обстоятельства, ясно и убедительно доказывают незаконность его рождения. Надо обладать крайним бесстыдством, чтобы утверждать, будто виновником появления Людовика XIV на свет был король, почитающийся его отцом. Знаменитые парижские баррикады и мятеж, поднятый против Людовика XIV при его восшествии на престол, во главе которого встали самые высокие особы, сделали незаконность его рождения столь очевидной, что все только о том и говорили, и вряд ли у кого возникали в этом сомнения».
Вот в этот рассказ в нескольких строках.
«Кардинал Ришелье с гордостью следил за романом Гастона Орлеанского, брата короля, и своей племянницы Паризиатиды (госпожи де Комбале) и задумал выдать ее за него. Оскорбленный Гастон ответил кардиналу пощечиной, и тогда отец Жозеф подсказал Ришелье и его племяннице идею, как лишить Гастона короны, которую он мог бы получить из-за всем известного бессилия Людовика XIII. Они ввели в спальню к Анне Австрийской молодого человека С. Д., на тайную и безнадежную любовь которого королева уже обратила внимание. Анна Австрийская, по существу вдова при живом муже, почти не противилась, а на следующий день объявила кардиналу: «Ну что ж, вы сделали свое злое дело. А теперь позаботьтесь о том, чтобы я обрела снисхождение и благоволение неба, которое вы мне сулили. Позаботьтесь о моей душе, я надеюсь на вас». Вскоре по королевству разнеслась радостная весть о беременности королевы. Так явился на свет Людовик XIV, якобы сын Людовика XIII».
Эта таинственная история, впрочем, никого не убедила в незаконном происхождении Людовика XIV, но стала великолепным прологом к несчастной судьбе узника в маске и, несомненно, сыграла роль в том, что интерес к нему возрос.
Третьим историком, который заговорил об узнике с острова Сент-Маргерит, был Лагранж-Шансель. В возрасте восьмидесяти девяти лет он направил из своего замка Антониа в Перигоре письмо в «Анне литтерер», где опровергал версию, изложенную в «Веке Людовика XIV», и приводил сведения, которые почерпнул, когда сам был в заключении там же, где за двадцать лет до него содержался прославленный узник.
«В пору моего пребывания на островах Сент-Маргерит, – пишет он, – заключение Железной маски уже не было государственной тайной и я узнал подробности, о которых историк, более строгий в своих исследованиях, чем Вольтер, узнал бы, дай он себе труд поинтересоваться ими. Событие, которое он относит к 1662 году, спустя несколько месяцев после смерти кардинала Мазарини, на самом деле произошло в 1669 году, то есть через восемь лет после кончины его высокопреосвященства. Господин де Ламот-Герен, комендант островов в пору моего заточения, уверял, что этим узником был герцог де Бофор; его считали погибшим при осаде Кандии, однако тело так и не смогли найти. Господин де Ламот-Герен сообщил также, что Сен-Марс, переведенный сюда комендантом из Пиньероля, относился к узнику в высшей степени почтительно, лично подавал ему еду на серебряном блюде и нередко по его просьбе доставлял ему самую дорогую одежду. В случае болезни узник под страхом смерти должен был показываться врачу только в железной маске, а щетину на лице мог выщипывать, лишь когда оставался один, – стальными полированными и блестящими щипчиками. Многие рассказывали, что когда Сен-Марс отправлялся занять должность коменданта Бастилии, куда он перевез и узника, тот задал ему вопрос: «Король все еще хочет лишить меня жизни?» – и Сен-Марс ответил: «Нет, принц, вашей жизни ничто не угрожает, вы должны позволить сопроводить вас».
Более того, от Дебюиссона, кассира знаменитого Самюэля Бернара, который был переведен на острова Сент-Маргерит после нескольких лет пребывания в Бастилии, я узнал, что там он с несколькими другими заключенными был помещен в камеру, находившуюся под той, где содержался неизвестный, и они имели возможность переговариваться через дымоход камина, но когда они спросили узника, почему он не хочет сообщить им свое имя и рассказать о своих приключениях, то услышали: «Это признание будет стоить жизни и мне, и тому, кто проникнет в мою тайну».
Теперь, когда имя и титул узника не являются государственной тайной, я счел, что должен пресечь распространение вымыслов».
Библиофилу Жакобу эта версия кажется наиболее разумной.
«С 1664 года, – пишет он, – герцог де Бофор из-за самодовольства и легкомыслия стал причиной неудач нескольких морских экспедиций. В октябре 1664 года Людовик XIV упрекал его – крайне деликатно – и призывал служить усерднее, применяя врожденные таланты и преодолевая недостатки. Действительно, во многих случаях действия герцога де Бофора оказывались губительными для королевского флота. «История морского флота» Эжена Сю исчерпывающе определяет отношение «короля рынков», как называли де Бофора, к Кольберу и Людовику XIV. Кольбер хотел из своего кабинета направлять все маневры флота, которым командовал со всей непоследовательностью, присущей его натуре. В 1669 году Людовик XIV послал герцога де Бофора на помощь Кандии, осажденной турками. Бофор был убит во время вылазки 26 июня, через семь часов после прибытия на Крит. Герцог де Навайль, который вместе с ним командовал французской эскадрой, рассказывал: «По пути де Бофор встретил толпу турок, которые теснили небольшой отряд, встал во главе его, доблестно бился, но был покинут всеми, и никто никогда не узнал, что с ним случилось».
Слух о смерти герцога де Бофора распространился по Франции и Италии, где во время пышных похоронных церемоний в Париже, Турине и Венеции, произносилось множество надгробных речей. Но так как тело не было найдено, многие верили, что герцог вскоре объявится.
Ги Патен в двух письмах упоминает об этом же.
«Многие готовы держать пари, что г-н де Бофор не погиб!»
«Говорят, что господину де Вивонне поручено в течение двадцати лет занимать должность вице-адмирала Франции, но многим хотелось бы, чтобы господин де Бофор не погиб, а оказался в плену на каком-нибудь турецком острове; я же считаю его умершим».
Однако есть и противники этой версии.
«Многие донесения об осаде Кандии, – пишет библиофил, – составленные очевидцами и напечатанные в ту эпоху, свидетельствуют, что турки, по своему обычаю, отрубили герцогу де Бофору голову и выставили ее на всеобщее обозрение в Константинополе. Обезглавленное нагое тело не было опознано…
Даже отвлекаясь от опасностей и трудностей похищения герцога де Бофора, ограничимся утверждением: переписка Сен-Марса позволяет сделать вывод, что на попечении коменданта Пиньероля не было высокопоставленных узников, кроме Фуке и де Лозена».
Вряд ли Людовик XIV счел нужным применить столь суровые меры против герцога де Бофора. Он не представлял такой опасности для королевской власти, чтобы возникла нужда тайно нанести ему удар, а кроме того, трудно представить, чтобы Людовик XIV, победивший всех врагов, еще будучи несовершеннолетним, преследовал бы в лице герцога давний мятеж Фронды.
К тому же пристрастие человека в железной маске к тонкому белью и кружевам, его сдержанность и деликатность совершенно не соответствует грубому образу герцога де Бофора, каковым его изображают историки.
Аббат Пагон, проезжая через Прованс, посетил место заключения Железной маски: «В конце прошлого века знаменитый узник в железной маске, чьего имени, возможно, мы никогда не узнаем, был привезен на острова Сент-Маргерит; всего несколько человек прислуживали ему и имели право с ним говорить. Однажды Сен-Марс беседовал с узником, стоя в коридорчике, примыкающем к камере, дабы издали видеть всякого, кто подходит; в это время сын одного из его друзей подошел достаточно близко; комендант тотчас закрыл дверь камеры, подбежал к молодому человеку и испуганно спросил, слышал ли он что-нибудь. Молодой человек ответил отрицательно, но комендант в тот же день отправил его из крепости, а в письме другу написал, что этот случай мог дорого обойтись его сыну и что он отсылает его из страха, как бы тот не совершил еще какой-нибудь опрометчивый поступок.
2 февраля 1778 года я из любопытства вошел в бывшую камеру несчастного узника; свет в нее проникает через единственное окошко, выходящее на море; оно устроено было в толстой стене на высоте пятнадцати футов над дорожкой, по которой проходит караул, и перегорожено тремя решетками, установленными на равном расстоянии друг от друга, так что часовых и узника разделяли примерно два туаза. В крепости я встретил семидесятидевятилетнего офицера охранной роты, и он рассказал, что слышал от своего отца, служившего там же, что однажды часовой заметил под окном узника в море какой-то белый предмет, выудил его и отнес господину де Сен-Марсу; это оказалась рубашка тонкого полотна, на которой узник что-то написал. Господин де Сен-Марс, прочитав, спросил часового, не читал ли он это послание из любопытства. Часовой ответил отрицательно, однако через два дня его нашли мертвым в собственной постели. Офицер не раз слышал рассказ об этом от своего отца и от тогдашнего капеллана тюрьмы и считал его неоспоримым.
Другой факт также кажется мне достоверным.
Искали служанку для узника; женщина из деревни Монжен предложила свои услуги, но когда ее предупредили, что нельзя будет видеться с детьми и общаться с кем-либо, она отказалась от работы, за которую пришлось бы заплатить такую высокую цену.
Кроме того, на двух оконечностях форта со стороны моря были выставлены посты, которым был дан приказ стрелять по судам, плывшим ближе определенного расстояния.
Женщина, прислуживавшая узнику, умерла на острове Сент-Маргерит. Брат офицера, о котором я только что говорил и который пользовался доверием Сен-Марса, часто рассказывал сыну, что однажды ночью принял в тюрьме труп и на спине отнес на кладбище. Он думал, что умер узник, но это оказалась его служанка».
Итак, аббат Папон приводит любопытные подробности, но не называет имен, поэтому его версию невозможно опровергнуть…
Сент-Фуа выдвинул новую версию. В 1768 году он заявил, что «узником в маске был герцог Монмут», внебрачный сын Карла II, осужденный за мятеж и обезглавленный в Лондоне в 1685 году.
«В Лондоне распространился слух, что герцог Монмут был спасен – один из его сторонников, очень на него похожий, согласился умереть вместо него, а подлинный осужденный был тайно переправлен во Францию, где его ждало вечное заточение».
Монмут высадился в заливе Лайм в графстве Дорсет со ста двадцатью людьми; вскоре под его началом было уже шесть тысяч, даже некоторые города перешли на его сторону. Он провозгласил себя королем, утверждая, что рождение его было законным и что есть доказательства тайного брака Карла II с его матерью Люси Уолтерс. Он вступил в битву с королевской армией, и победа уже клонилась на его сторону, но у него кончились порох и пули, а лорд Грей, командовавший кавалерией, трусливо бросил его. Монмут попал в плен, был доставлен в Лондон и 15 июля приговорен к смертной казни.
Опубликованное в «Веке Людовика XIV» описание узника в железной маске вполне подходило к герцогу Монмуту. Сент-Фуа собрал все возможные свидетельства, чтобы подкрепить свою версию. Он воспользовался следующим отрывком из анонимного романа «Любовные увлечения Карла II и Иакова II. королей Англии»: «Перед мнимой казнью герцога Монмута пришел сам король в сопровождении трех человек, чтобы вывести его из Тауэра. Монмуту надели на голову капюшон, после чего король и его спутники сели вместе с ним в карету»
Сент-Фуа также сообщает, что отец Турнемин вместе с духовником Иакова II отцом Сандерсом нанес визит герцогине Портсмутской после смерти принца. Герцогиня сказала, что никогда не простит королю Иакову, что он допустил казнь герцога Монмута, забыв о своей клятве брату у его смертного одра, который рекомендовал ему ни в коем случае не лишать жизни своего племянника, даже если тот поднимет мятеж. Отец Сандерс ответил: «Король Иаков сдержал клятву».
«Некий английский хирург по имени Нелатон, – пишет Сент-Фуа, – проводивший все утра в кафе «Прокоп», обычном месте встреч писателей, рассказывал, что, когда он был помощником хирурга, жившего у Сент-Антуанской заставы, за ним прислали из Бастилии, чтобы пустить кровь узнику; комендант провел его в камеру, где находился узник, жаловавшийся на сильную головную боль; он говорил с английским акцентом, был одет в черно-желтый халат с крупными золотыми цветами, а лицо его было скрыто салфеткой, завязанной на шее».
Утверждение это неправдоподобно: невозможно использовать салфетку как маску, а кроме того, в Бастилии были хирург, врач и аптекарь, и никто не мог пройти туда без дозволения министра; даже на соборование нужно было разрешение начальника полиции.
Но поначалу казалось, что эта версия победила, возможно, по причине нетерпимого характера Сент-Фуа, который не выносил критики; его шпага наводила еще больший страх, чем перо, и ему боялись перечить.
Известно, что Сен-Марс, сопровождая узника в Бастилию, остановился вместе с ним в своем имении Пюльто. Фрерон обратился за подробностями к внучатому племяннику Сен-Марса, владельцу имения Пюльто в Шампани. Тот ответил: «Судя по письму г-на де Сент-Фуа, отрывок из которого вы привели, человек в железной маске до сих пор волнует воображение писателей; я расскажу, что мне известно об этом узнике. На островах Сент-Маргерит и в Бастилии он шел под именем де Ла-тур. Комендант и офицеры относились к нему с уважением, он получал все, что дозволено иметь узнику. Он часто совершал прогулки, и лицо его всегда было скрыто маской. Только после выхода «Века Людовика XIV» господина Вольтера я узнал, что маска была железная и на пружинах; возможно, мне забыли рассказать об этом, однако маску он носил лишь на прогулке или когда был вынужден появляться перед посторонними.
Господин де Бленвилье, пехотный офицер, имевший доступ к господину де Сен-Марсу, неоднократно рассказывал, что однажды он надел мундир и взял оружие солдата, который должен был заступить в караул на галерее под окнами камеры, которую занимал узник, и прекрасно разглядел того: без маски, бледный, высокий, хорошо сложенный, с полными икрами, седой, хотя еще в расцвете лет. Почти всю ночь он провел расхаживая по камере. Бленвилье добавил, что носил он одежду коричневого цвета, ему давали хорошее белье и книги, а комендант и офицеры, разговаривая с ним, стояли с непокрытой головой, пока он не предлагал сесть и надеть шляпы, а также нередко обедали с ним.
В 1698 году господин де Сен-Марс был переведен с должности коменданта островов Сент-Маргерит на ту же должность в Бастилию. Перед вступлением в нее он вместе с узником заехал к себе в Пюльто. Крестьяне вышли встретить сеньора. Господин де Сен-Марс ел вместе с узником, тот сидел спиной к окну столовой, выходившему во двор. Крестьяне не могли видеть, в маске он ел или нет, но заметили, что у господина де Сен-Марса рядом с тарелкой лежат два пистолета, прислуживал им единственный лакей, который плотно закрывал за собой дверь столовой. Когда узник проходил по двору, на нем всегда была черная маска, из-под которой видны были только губы и зубы. Он был высок и седовлас. Господин де Сен-Марс спал на койке, которую ему ставили рядом с постелью человека в маске. Господин де Бленвилье сообщил мне, что когда узник в 1704 году скончался, его тайно похоронили в приходе Сен-Поль, а в гроб насыпали какие-то снадобья, чтобы уничтожить тело. Я ни от кого не слышал, что у него был иностранный акцент».
Сент-Фуа опроверг рассказ, представленный от имени господина де Бленвилье, или, по крайней мере, воспользовался фрагментом этого письма, чтобы доказать, что узник не мог быть герцогом де Бофором. Человек, чьи зубы крестьяне могли видеть в прорезь маски, явно не был Бофором. Версия Сент-Фуа взяла верх, пока иезуит отец Гриффе, капеллан Бастилии, не посвятил Железной маске XII главу своего «Рассуждения о различных доказательствах, служащих установлению истины в истории», изданной в Льеже в 1769 году. Он первым привел отрывок, удостоверяющий, что человек в маске действительно существовал, – отрывок из рукописного дневника помощника коменданта Бастилии господина Дюжонка за 1698 год и похоронные записи церковных книг прихода Сен-Поль.
«В четверг 8 сентября 1698 года в три часа пополудни, – пишет Дюжонка, – господин де Сен-Марс, прибывший с островов Сент-Маргерит и Сент-Онора, вступил в должность коменданта Бастилии. Он привез в носилках узника, чье имя не называется и которого он содержал в заключении в Пиньероле; узник был обязан всегда носить маску; до ночи он был помещен в башню Базиньер, а в девять вечера я препроводил его в третью камеру башни Бертодьер. Когда я сопровождал узника, со мной шел некий Розарж, которого привез господин де Сен-Марс и обязанностью которого было прислуживать узнику; стол же ему обеспечивал сам комендант».
В дневнике Дюжонка смерть узника описана так: «Понедельник 19 ноября 1703 года. Вчера после мессы неизвестный узник в маске из черного бархата почувствовал себя плохо и сегодня около десяти вечера скончался. Господин Гиро, наш священник, вчера исповедал его. Так как смерть наступила скоропостижно, узник не смог причаститься святых даров и священник отпустил ему грехи перед самой кончиной. Похоронили его во вторник 20 ноября в четыре часа пополудни на кладбище прихода Сен-Поль. Похороны стоили 40 ливров».
Имя и возраст покойного от приходских священников скрыли. В церковной книге было записано: «Ноября девятнадцатого в Бастилии в возрасте около сорока пяти лет скончался Маркиали, и тело его было погребено на кладбище прихода Сен-Поль в присутствии господина Розаржа и господина Рейля, гарнизонного хирурга Бастилии, в чем они и расписались: Розарж, Рейль».
Как только узник умер, все, чем он пользовался, – белье, одежду, матрацы, одеяла, вплоть до дверей его камеры, а также деревянных частей кровати и стульев, сожгли. Серебряная посуда была переплавлена, стены камеры – заново оштукатурены и побелены. Сняли даже каменные плиты пола, вероятно, из опасения, что он спрятал между ними записку или оставил какой-нибудь знак, по которому можно будет узнать, кто он был.
Отец Гриффе, отвергнув мнение Лагранж-Шанселя и Сент-Фуа, поначалу склонялся к версии «Персидских записок», однако затем заявил, что для составления окончательного мнения необходимо знать точную дату прибытия узника в Пиньероль.
Сент-Фуа тотчас же ответил. Он добыл выписки из церковных книг кафедрального собора и установил, что Людовик XIV собственноручно написал капитулу и велел похоронить тело графа де Вермандуа, скончавшегося в городе Куртре, указав, чтобы он был погребен на хорах в той же могиле, что и графиня Елизавета де Вермандуа, жена Филиппа Эльзасского, графа Фландрского, умершего в 1682 году. Трудно предположить, чтобы Людовик XIV избрал фамильный склеп для захоронения «куклы».
Сен-Фуа не знал о письме Барбезье от 13 августа 1691 года и не мог опровергнуть версию насчет графа де Вермандуа. Но это письмо опровергает и версию, которую защищал Сент-Фуа: герцог Монмут был осужден в 1685 году. Так что в 1961 году Барбезье не мог писать о нем: «Узник, которого вы охраняете уже двадцать лет».
Барон Хейс в письме от 28 июня 1770 года, направленном в «Энциклопедический журнал», выдвинул еще одну гипотезу. Он приложил письмо, переведенное с итальянского и включенное в «Краткую историю Европы» Жака Бернара, которая выходила в 1685–1687 годах в Лейдене. Здесь мы читаем, что герцог Монтуанский намеревался продать свою столицу королю Франции, однако секретарь отговорил его и даже убедил объединиться с другими государями Италии, чтобы противостоять притязаниям Людовика XIV. Маркиз д’Арми, посол Франции при Савойском дворе, узнав о заговоре, принялся обхаживать секретаря, а однажды пригласил на охоту в нескольких лье от Турина. Они выехали вместе, но неподалеку от города их окружила дюжина всадников; они схватили секретаря, переодели, надели маску и доставили в Пиньероль. В крепости узник пробыл недолго, она находилась «слишком близко от Италии, и, хотя его тщательно охраняли, существовало опасение, как бы не заговорили стены». Его перевезли на острова Сент-Маргерит, «где он и находится в настоящее время под охраной господина де Сен-Марса».
Версия эта поначалу не произвела особого впечатления. Да, секретарь герцога Мантуанского Маттиоли в 1679 году при содействии аббата д’Эстрада и де Катина был арестован, тайно доставлен в Пиньероль и содержался под охраной Сен-Марса, однако его не следует отождествлять с Железной маской.
Катина в письме Лувуа пишет о Маттиоли: «Никто не знает имени этого негодяя».
Лувуа пишет Сен-Марсу: «Я восхищен вашим терпением, и вы получите приказ обращаться с негодяем, когда он не выказывает вам должного уважения так, как он заслуживает».
Сен-Марс отвечает: «Я приказал Бленвилье показать ему дубинку и сказать, что ему будут возданы чрезвычайные знаки почтения».
Лувуа пишет: «Подобным людям платье нужно выдавать раз в три-четыре года».
Совершенно очевидно, что это не тот безымянный узник, к которому относились с почтением, перед которым Лувуа стоял с непокрытой головой и которому выдавали тонкое белье и кружева.
Вольтер хранил молчание и не вступал в споры. Когда же все версии были высказаны, он начал их опровергать. В седьмом издании «Философского словаря» он высмеял попытки приписать Людовику XIV готовность служить надсмотрщиком и тюремщиком сначала у короля Иакова, а затем у короля Вильгельма и королевы Анны, с которыми он воевал. Вольтер опровергал Лангранж-Шанселя и отца Гриффе, возрождая версию «Персидских записок». «Все иллюзии рассеялись, остается узнать, кто был этот узник, неизменно носивший маску, и в каком возрасте он умер. Если ему не разрешали выходить во двор Бастилии, если ему позволяли говорить с врачом только в маске, то совершенно очевидно, что это было сделано из опасения, что будет замечено бросающееся в глаза сходство; он мог показать врачу язык, но не лицо; за несколько дней до смерти он сказал аптекарю Бастилии, что ему, как он думает, около шестидесяти, и господин Марсобан, хирург маршала де Ришелье, а впоследствии регента герцога Орлеанского и зять этого аптекаря, рассказывал мне об этом».
После этой статьи в «Философском словаре» следовало добавление книгоиздателя, приписанное самому Вольтеру. Издатель, называвший себя также и автором, отверг все версии, в том числе и версию барона Хейсса. По его предположению, Железная маска был старшим братом Людовика XIV. У Анны Австрийской был любовник, и рождение сына от него опровергло обвинение королевы в бесплодии. После тайных родов по совету кардинала Ришелье подстроили так, что король вынужден был разделить ложе с королевой. Плодом этой связи стал еще один сын, но Людовик XIV до самого совершеннолетия не знал, что у него есть брат. Политика Людовика XIV укрепила авторитет королевской власти, избавила корону от величайших затруднений, а память Анны Австрийской спасла от позора. Король нашел мудрое и верное средство укрыть покровом забвения живое свидетельство незаконной любви. Это избавило короля от необходимости прибегнуть к жестокости, которую другой монарх, не столь великодушный, счел бы необходимой.
После этого Вольтер избегает возвращаться к теме Железной маски. Не уместно ли предположить, что Вольтер выболтал секрет, укрывшись под псевдонимом, или высказал версию, близкую к истине, а потом замолчал, так как ему дали понять, насколько это опасно?
Но кем же был принц, ставший узником в маске, – побочным братом или братом-близнецом короля? Первое мнение поддержал господин Квентин Кроуфорд, а второе выдвинул аббат Сулави в «Воспоминаниях маршала де Ришелье». В 1783 году маркиз де Люше присудил оспариваемое отцовство герцогу Букингему. Он привел свидетельство мадемуазель де Сен-Кантен, любовницы министра Барбезье, которая умерла в Шартре в середине XVIII века. Она утверждала, что Людовик XIV обрек старшего брата на пожизненное заключение и внешнее сходство братьев заставило прибегнуть к маске для узника.
Герцог Букингем, приехавший во Францию в 1625 году, чтобы сопровождать в Англию Генриетту Французскую, сестру Людовика XIII, обрученную с принцем Уэльским, выказал пылкую любовь к королеве; похоже, Анна Австрийская не осталась равнодушна к его страсти. В одном анонимном произведении («Беседа кардинала Мазарини с газетчиком», Брюссель, 1649 г.) утверждается, что Анна Австрийская безумно влюбилась в Букингема и даже принимала его у себя, а также, что он снял перчатку с руки королевы и потом хвастался ею перед многими особами, чем крайне оскорбил короля. Будто бы однажды Букингем делал столь пылкие признания королеве, что та вынуждена была сказать: «Замолчите, милорд, так с королевой Франции не говорят». Эта версия относила рождение Человека в маске к более позднему времени – к 1637 году, но неоспоримая дата опровергает отцовство Букингема: 2 сентября 1628 года он был убит в Портсмуте.
После взятия Бастилии узник в маске вновь стал возбуждать всеобщее любопытство. 13 августа 1789 года на последней странице «Досугов французского патриота» анонимный редактор писал, что среди бумаг, найденных в Бастилии, видел листок с неразборчивым номером 64389000 и записью: «Фуке прибыл с острова Сент-Маргерит с Железной маской», затем следовало – ххх, а внизу – Керсадион. Редактор предположил, что Фуке совершил побег, но был схвачен и в наказание приговорен пожизненно носить маску. Это предположение произвело впечатление: в дополнении к «Веку Людовика XIV» приводятся слова Шамийара «Железная маска – это человек, знавший все тайны господина Фуке». Однако доказательств подлинности этого листка нет.
С тех пор как писатели перестали испрашивать у короля позволения и одобрения на свои публикации, чуть ли не каждый день стали появляться брошюры о Железной маске. Луи Дютан возродил версию барона Хейсса, дополнив ее новыми фактами. Он привел доказательства, что Людовик XIV приказал похитить министра герцога Мантуанского и упрятать его в Пиньероль. Дютан дает министру имя Джироламо Маньи. Он также приводит воспоминания некоего Сушона (возможно, того же офицера, которого Папон расспрашивал в 1778 году), семидесятилетнего старика; когда комендантом был Сен-Марс, отец Сушона служил в роте, охранявшей тюрьму. В воспоминаниях подробно описывается похищение узника в маске (в 1679 году), в них он называется имперским министром; также в них говорится, что «узник умер на островах Сент-Маргерит через девять лет после похищения».
Дютан приводит свидетельство герцога де Шуазеля, который, не сумев вырвать у короля Людовика XV тайну Железной маски, умолял госпожу де Помпадур выведать ее. Так он узнал, что узник «был министром некоего итальянского государя». Но господин Квентин Кроуфорд утверждал, что узник был сыном Анны Австрийской. А несколькими годами раньше адвокат Буш в «Очерках истории Прованса» назвал эту версию выдумкой Вольтера и предположил, что узник был женщиной.
В 1790 году были опубликованы «Мемуары маршала де Ришелье», доверившего Сулави свои заметки, библиотеку и переписку. Прежде чем представить отрывок из этих мемуаров, касающийся Железной маски, приведем еще две версии, не выдержавшие проверки.
Из рукописных воспоминаний де Бонака, бывшего в 1724 году послом Франции в Константинополе, известно: армянский патриарх Арведикс, инициатор жестоких преследований католиков, был изгнан и по просьбе иезуитов на французском корабле доставлен во Францию, где «был заключен в тюрьму, из которой ему не суждено было выйти». Арведикса привезли на острова Сент-Маргерит, а «оттуда перевезли в Бастилию, где он и умер». До 1723 года турецкое правительство неоднократно требовало освободить патриарха, но Франция отрицала причастность к похищению. Однако известно, что Арведикс перешел в католичество и умер в Париже на свободе, – запись о его смерти сохранилась в архивах иностранных дел.
Многие английские ученые считали, что человеком в маске мог быть Генри, второй сын Оливера Кромвеля, взятый в заложники Людовиком XIV.
Действительно, странно, что с 1659 года никто не знает, ни где жил, ни где умер второй сын протектора. Но почему он должен был стать узником во Франции, если его брат Ричард получил разрешение на проживание там? В этом предположении нет даже малой доли правдоподобия.
Вот отрывок из «Мемуаров маршала де Ришелье»: «Некоторое время во всех слоях общества гадали, кем был узник, известный под именем Железная маска. Но любопытство несколько приутихло, когда Сен-Марс перевез его в Бастилию: пошел слух, что издан приказ убить узника, если кто-то его узнает. Сен-Марс также дал понять, что всякий, кто проникнет в тайну узника, разделит его судьбу. Эта угроза произвела столь сильное впечатление, что при жизни короля об этом человеке говорили только намеками. Анонимный автор «Тайных записок о персидском дворе», изданных за границей спустя пятнадцать лет после смерти Людовика XIV, первым осмелился заговорить об узнике. Со временем свобода во Франции стала проявляться все с большей смелостью и в обществе, и в печати, память же о Людовике XIV перестала оказывать прежнее воздействие, и об узнике стали говорить открыто; сейчас, через семьдесят лет после смерти короля, меня все еще спрашивают, кем был узник в железной маске.
Этот вопрос я задал в 1719 году прелестной принцессе, которую регент любил и в то же время ненавидел, потому что она без памяти любила меня, а ему лишь выказывала почтение. Все мы были убеждены, что регенту известны имя человека в маске и причины, по которым он содержится в заточении, я, более любопытный и дерзкий, чем другие, попытался с помощью принцессы выведать у регента тайну; прекрасная принцесса отвергала домогательства герцога Орлеанского, испытывая к нему отвращение, но, поскольку он был страстно влюблен в нее и сделал бы все, чего бы она ни пожелала, я посвятил ее, безмерно любопытную, в свой план и попросил намекнуть регенту, что он будет вознагражден, если позволит ей прочесть документы, касающиеся Железной маски.
Герцог Орлеанский никогда не раскрывал государственных тайн. Трудно было предположить, что он даст записку, которая могла открыть положение и происхождение узника в маске. Так что обращение принцессы к регенту казалось по меньшей мере бесполезным, но на что не пойдешь ради любви…
Чтобы вознаградить принцессу, регент дал ей рукопись, а она переслала мне с шифрованным письмом. Вот исторический документ.
«Сообщение о рождении и воспитании несчастного принца, отторгнутого кардиналами Ришелье и Мазарини от общества и подвергнутого заточению по повелению короля Людовика XIV.
Составлено на смертном одре воспитателем принца.
Несчастный принц, которого я воспитал и оберегал до конца своих дней, родился 5 сентября 1638 года в половине девятого вечера, когда король ужинал. Его ныне царствующий брат родился в полдень, когда его отец обедал, однако сколь пышно и торжественно было рождение наследника, столь же печально и тайно было рождение его брата. Король, оповещенный, что королева должна родить второго младенца, велел остаться в ее спальне канцлеру Франции, повитухе, настоятелю придворной церкви, духовнику королевы и мне, дабы мы стали свидетелями, кто явится на свет, и свидетелями его решения в случае рождения второго ребенка.
Король был предупрежден предсказателями, что его супруга родит двоих сыновей; в Париж явились пастухи, заявившие, что им было Божественное внушение, после чего в Париже стали толковать, что если королева родит, как они предсказали, двух дофинов, это станет несчастьем для государства. Архиепископ велел запереть прорицателей в Сен-Лазар; король испугался беспорядков, которые могли бы произойти в государстве. Все произошло, как и было предсказано. Кардинал, которого король известил о пророчестве, ответил, что в рождении двух дофинов ничего невозможного нет и надо будет укрыть второго, поскольку в будущем он может начать войну против брата и завладеть престолом.
Король крайне страдал от неопределенности, но тут королева закричала, и мы испугались, что начались вторые роды. Мы немедленно послали за его величеством, который, представив, что станет отцом двух дофинов, едва не лишился чувств. Он сказал монсеньору епископу Мо, что просит его поддержать королеву. «Не покидайте мою супругу, пока она не разрешится от бремени. Я смертельно боюсь за нее». Сразу же после родов король собрал нас – епископа Мо, канцлера, сьера Онора, повитуху Перонет и меня – и в присутствии королевы объявил, что мы ответим головой, если проговоримся о рождении второго дофина, и что он желает, чтобы его рождение стало государственной тайной с целью предотвращения возможных бед в будущем, ибо в салическом праве ничего не говорится о наследовании короны в случае рождения у короля близнецов, которые оба почитаются старшими.
Предсказание сбылось, и королева, пока король ужинал, родила дофина, который был красивее первого; он непрестанно плакал и кричал, словно заранее сожалел, что появился на свет, где придется вынести столько страданий. Канцлер составил протокол о необычном рождении, единственном в нашей истории, но королю протокол не понравился, и он велел сжечь его на наших глазах; он заставил переделывать протокол много раз, пока тот не удовлетворил его, хотя настоятель придворной церкви протестовал, считая, что его величество не должен скрывать рождение принца; король же ответил, что действует в интересах государства.
Затем его величество велел подписать клятву; первым поставил подпись канцлер, затем настоятель придворной церкви, духовник королевы, а последним я. Клятву подписали также хирург и повитуха, и король унес ее вместе с протоколом; припоминаю, что его величество советовался с канцлером по формуле клятвы и долго тихо что-то обсуждал с кардиналом, после чего повитуха унесла младенца, родившегося вторым; опасались, как бы повитуха не проболталась о его рождении, и она рассказывала, что ей неоднократно грозили смертью, если она проговорится; нам тоже запретили говорить о ребенке даже между собой.
Ни один из нас не нарушил клятву; его величество ничего так не боялся, как гражданской войны, которую могли начать дофины-близнецы, кардинал поддерживал его в этом страхе и добился, чтобы ему поручили надзор за младенцем. Король приказал нам тщательно осмотреть несчастного, у которого были родинка над левым локтем, желтоватое пятнышко на шее и крошечная родинка на правой икре; его величество предполагал в случае кончины первого младенца сделать наследником второго близнеца, которого он доверил нам.
Госпожа Перонет заботилась о втором принце, как о собственном ребенке, но со временем все стали считать его бастардом какого-то вельможи, так как решили, что это любимый сын некоего богача, хотя тот его и не признал.
Когда принц немного подрос, кардинал Мазарини поручил его мне, чтобы я обучил его и воспитал как королевского сына, но соблюдая тайну. Перонет заботилась о нем до самой смерти и была весьма привязана к нему, а он еще более был привязан к ней. Принц получил в моем доме в Бургундии образование, приличествующее сыну и брату короля.
Во время беспорядков во Франции я неоднократно беседовал с королевой-матерью, и ее величество опасалась, что если о рождении этого ребенка станет известно при жизни его брата, молодого короля, то недовольные подданные поднимут мятеж – многие врачи считают, что близнец, родившийся вторым, был зачат первым, и, следовательно, по всем законам королем является он.
Тем не менее опасения не смогли принудить королеву уничтожить письменные свидетельства о рождении второго принца, поскольку она предполагала в случае несчастья с молодым королем и его смерти объявить, что у нее есть второй сын, и заставить признать его. Она не раз мне говорила, что хранит эти письменные доказательства у себя в шкатулке.
Я невольно стал причиной несчастий принца, хотя и не желал этого. Когда ему исполнилось девятнадцать, он настойчиво пожелал узнать, кто он, и так как я не отвечал на вопросы и был тем более непреклонен, чем сильнее он уговаривал меня, то решил притвориться, будто верит, что является моим незаконным сыном; я позволил ему думать так, но он продолжал искать способ узнать свое настоящее имя.
Прошло два года, и тут моя неосторожность позволила ему узнать о своем происхождении. Этой неосторожности я так и не могу себе простить. Я, к несчастью, оставил на видном месте шкатулку с письмами королевы и кардиналов; кое-что он прочитал, а об остальном догадался, так как был проницателен; позже он признался, что похитил недвусмысленное письмо, в котором шла речь о его рождении.
Помню, как его любовь и почтительность сменились злостью и грубостью, но я не знал, что он рылся в моей шкатулке, и потому не мог понять причину. Впоследствии он так и не признался, как ему удалось достать письма, – то ли с помощью слуг, то ли еще как-нибудь.
Однажды он попросил показать ему портреты покойного короля Людовика XIII и ныне царствующего короля; я ответил, что у меня только скверные портреты и что, когда живописец сделает новые, я покажу их ему.
Он попросил позволения съездить в Дижон. Впоследствии я узнал, что он намеревался там увидеть портрет короля, а затем отправиться ко двору, который пребывал в это время в Сен-Жан-де-Люс, сравнить себя с королем и проверить, похожи они или нет. Теперь я не оставлял его одного.
Принц был прекрасен, и уже несколько месяцев ему нравилась молодая домоправительница, она и дала ему портрет короля – вопреки моему запрету. Несчастный увидел на портрете себя. Это привело его в ярость, и он прибежал ко мне, восклицая: «Вот мой брат, а вот я!» – и показал похищенное письмо кардинала Мазарини.
Я отправил его величеству сообщение о вскрытии шкатулки и попросил указаний. Король велел кардиналу распорядиться, и тот приказал заточить нас обоих в тюрьму, а также дать понять принцу, что причиной несчастья стала его дерзость. Я страдал вместе с ним, пока не понял, что Господь судил мне покинуть сей мир, и все же не могу для спокойствия своей души и спокойствия своего воспитанника не написать эту записку – возможно, если король умрет, не оставив наследника, несчастный принц сможет выйти из нынешнего недостойного положения. Да и могу ли я, поклявшись против воли, умолчать о невероятных событиях, о которых должны узнать наши потомки?»
Этот документ вызывает множество вопросов. Кем был воспитатель принца? Несомненно, это был известный человек, так как пользовался доверием при дворе Людовика XIII. Почему документ, которому уже около ста лет, не подписан? Может быть, он был продиктован умирающим, у которого уже не осталось сил подписать его? Как документ покинул тюрьму?
На все эти вопросы нет ответов, и даже нельзя утверждать, подлинна ли эта записка. Аббат Сулави однажды спросил маршала де Ришелье: «Не может ли быть, что этот узник – старший брат Людовика XIV, рожденный не от Людовика XIII?» Маршал, казалось, смутился, но не стал ничего отрицать; он заверил, что узник не является ни незаконным братом Людовика XIV, ни герцогом Монмутом, ни графом де Вермандуа, ни герцогом де Бофором, как утверждают многие писатели. Их версии он назвал бредом, но добавил, что авторы рассказывают о случаях вполне возможных и что приказ умертвить узника, если он расскажет кому-нибудь о себе, существовал. Маршал признался, что ему была известна эта государственная тайна: «Господин аббат, когда в весьма преклонных годах этот узник скончался, он уже не имел никакого значения, но в начале своего правления Людовик XIV приказал подвергнуть его заточению ради высших государственных интересов».
Рассказ этот был записан в присутствии маршала, но позже на все расспросы аббата Сулави Ришелье отвечал: «Прочитайте то, что написал о Железной маске господин Вольтер, особенно последние слова, и подумайте».
В 1791 году некий господин де Сен-Мийель опубликовал в Страсбурге и в Париже книгу «Кто был в действительности Железная маска, сочинение, из коего благодаря неопровержимым доказательствам можно узнать, от кого сей знаменитый пасынок судьбы явился на свет, а равно когда и где он родился». Трудно вообразить всю степень самонадеянности этого автора. Он с ловкостью придумал версию, опирающуюся не на факты, а на догадки и предчувствия. Согласно его заключению, «Железная маска был законным сыном Анны Австрийской и кардинала Мазарини…» Он утверждает, что Мазарини был кардиналом-диаконом, а не священником и мог вступить в тайный брак с Анной Австрийской. «Первая фрейлина королевы-матери, старуха Бове, знала тайну этого брака, и королеве приходилось во всем уступать ей. Это привело во Франции к расширению прав первых фрейлин». (Письмо герцогини Орлеанской от 13 сентября 1713 года.) «Королева-мать, супруга Людовика XIII, не только влюбилась в Мазарини, но вышла за него замуж, так как он не был священником и даже не принадлежал ни к какому ордену. Ему надоела королева-мать, и он плохо к ней относился». (Письмо герцогини Орлеанской от 2 ноября 1717 года.) «Потайной ход, по которому он каждую ночь приходил к ней, до сих пор существует в Пале-Рояле». (Письмо герцогини Орлеанской от 2 июля 1719 года.) «Королева правит под воздействием страсти. При ее беседах с кардиналом видно по их взглядам, выражению глаз, по тому, как они ведут себя, что они так страстно любят друг друга, что расстаются с огромным трудом». (Гражданское прошение против заключения мира, 1649 года.)
Человек в маске сказал аптекарю Бастилии, что ему, вероятно, около шестидесяти лет. Значит, он родился в 1644 году – когда власть была в руках Анны Австрийской, но фактически правил Мазарини.
«В 1644 году Анна Австрийская покинула Лувр и переехала в Пале-Рояль, который Ришелье перед смертью завещал покойному королю. Едва поселившись там, она тяжело заболела желтухой, и врачи сочли, что болезнь случилась вследствие огорчений, горестей и занятий делами, весьма обременявших ее… Эти огорчения, несомненно, были выдуманы для оправдания мнимой болезни. Большие заботы начались у Анны Австрийской лишь в 1649 году, на деспотизм Мазарини она начала жаловаться только в конце 1645 года. В год, когда она носила траур по Людовику XIII, она посещала спектакли, но старалась укрываться у себя в ложе». («Мемуары госпожи де Мотвиль».)
В 1800 году «Магазен ансиклопедик» опубликовал статью, озаглавленную «Записки о проблемах истории и о способе их разрешения применительно к проблеме Человека в железной маске». Статья подписана С. D. О. Автор отождествляет Железную маску с первым министром герцога Мантуанского, которого называет Джироламо Маньи.
Тогда же господин Ру-Фазийак издал книгу «Исторические и критические изыскания о Человеке в железной маске и некоторые соображения, следующие из них», основанную на тайной переписке о похищении секретаря герцога Мантуанского, называемого Маттиоли, а не Джироламо Маньи.
В 1802 году аноним, подписавшийся Рет, опубликовал в виде письма из Турина, адресованного генералу Журда-ну, «Подлинный ключ к истории Человека в железной маске». Он писал, что секретаря герцога Мантуанского в 1679 году по приказу Людовика XIV похитили, надели маску и заключили в тюрьму, но не приводит доказательств.
Кроуфорд писал: «Я не сомневаюсь, что Человек в железной маске – сын Анны Австрийской, однако не имею возможности установить, был ли он братом-близнецом Людовика XIV, родился ли, когда королева не находилась в супружеских отношениях или когда была вдовой» («История Бастилии», 1798 год). Он отверг версию Ру-Фазийака, изложенную в «Исторических и литературных разностях, извлеченных из портфеля».
В 1825 году господин Делор разыскал в архивах письма, касающиеся Маттиоли, и опубликовал «Историю Человека в железной маске». Книгу перевели на английский язык, а в 1830 году – с английского на французский, под заглавием «Подлинная история государственного узника, известного под именем “Железная маска”». В этой книге приведен рассказ о втором сыне Оливера Кромвеля.
В 1826 году господин де Толе признал в узнике армянского патриарха.
Господин Дюфи издал «Историю Бастилии», где склонялся к мнению, что узник был сыном Букингема.
Среди лиц, чья роль в истории действительно велика и которым могли бы надеть маску, был также знаменитый интендант Фуке. На это обратил внимание в 1837 году библиограф Жакоб, который вновь занялся загадкой Железной маски. Оказался ли он удачливей предшественников?
В 1644 году Фуке был осужден на вечное заточение и содержался в Пиньероле под охраной Сен-Марса. Смерть интенданта 23 марта 1680 года оказалась мнимой. Тогда становится понятной почтительность Лувуа. Но какова бы ни была причина гнева Людовика XIV по отношению к Фуке – зависть к власти, присвоенной интендантом, ревность к любовницам или другие подозрения, – неужели король не удовлетворился разорением и пожизненным заточением врага?
Король, по мнению Жакоба раздраженный мольбами о помиловании интенданта, решил объявить его умершим. Всему виной была ненависть Кольбера. Но как объяснить почтительность Лувуа? Если Кольбер не стал бы кланяться Фуке, то мог ли это делать тюремщик?
Для обоснования этой версии собрано самое большое количество текстов и толкований, больше всего привлечено дат и ученых материалов – по сравнению с другими версиями.
Предосторожности, предпринятые для охраны Фуке в Пиньероле, совпадают с теми, что применялись в Бастилии и на островах Сент-Маргерит к Человеку в железной маске.
Большинство преданий об узнике в маске могут быть отнесены и к Фуке.
Железная маска появился сразу же после мнимой смерти Фуке в 1680 году.
Смерть Фуке в 1680 году представляется сомнительной. 20 декабря 1664 года Фуке был приговорен к вечному изгнанию. Однако «король счел, что было бы крайне опасно позволить Фуке выехать из королевства ввиду его особой осведомленности в важнейших государственных делах». Приговор был смягчен, и изгнание заменено вечным заточением. Фуке было «запрещено общаться с кем бы то ни было устно или письменно, выходить из своего помещения по какой-либо причине, а равно и для прогулок». Недоверчивость Лувуа на этом и основана. Рекомендуемые им предосторожности были ничуть не строже предпринятых по отношению к Железной маске.
Рассказанная аббатом Папоном история о рубашке, на которой было что-то написано и которую нашел караульный, может быть соотнесена с отрывками из писем Лувуа Сен-Марсу. «Ваше письмо было мне вручено вместе с новым носовым платком, на котором Фуке написал записку» (18 декабря 1665 года). «Можете ему объявить, что если он будет использовать столовое белье вместо бумаги, пусть не удивляется, когда больше не получит его от вас» (21 ноября 1667 года). Отец Папон сообщает, что слуга узника в маске умер в камере своего господина; известно, что слуга Фуке, разделявший с ним заточение, умер в феврале 1680 года (письмо Лувуа Сен-Марсу от 12 марта 1680 года). Хорошую одежду, тонкое белье, книги – все, в чем не отказывали узнику в маске, – получал и Фуке. Обстановка его второй камеры в Пиньероле обошлась в тысячу двести ливров.
Известно, что до 1680 года Сен-Марс охранял в Пиньероле лишь двух важных политических узников – Фуке и Лозена. Однако, согласно дневнику Дюжонка, «давний узник, который был в Пиньероле», должен был находиться в этой крепости до конца августа 1681 года, когда Сен-Марс перешел в форт Экзиль. Значит, между 23 марта 1681 года (дата предполагаемой смерти Фуке) и 1 сентября 1681 года Железная маска появился в Пиньероле, откуда Сен-Марс перевез с собой в форт Экзиль только двух заключенных. Один из них – вероятно, Человек в маске, вторым был Маттиоли, который умер до 1687 года, так как Сен-Марс привез с собой в эту крепость только одного узника. «Я отдам самые суровые приказы об охране узника и могу отвечать за то, что он никуда не денется» (письмо Сен-Марса Лувуа от 20 января 1687 года).
В переписке Лувуа и Сен-Марса есть упоминание о смерти Фуке 23 марта 1680 года, но затем Лувуа не пишет больше о покойном Фуке, а просто о господине Фуке. Большинство парижских историков утверждали, что Фуке был похоронен в том же склепе, что и его отец, в церкви монастыря ордена визитандинок в приделе Святого Франциска Сальского, но это не так. Склеп в приделе Святого Франциска Сальского не открывался после 1786 года, когда в нем похоронили Аделаиду Фелисите Брюлар, последнюю из Сийери. Монастырь был закрыт в 1790 году, а в 1802 году церковь передали протестантам, но могилы в ней сохранились. В 1836 году Буржский собор потребовал останки одного из своих архиепископов, который был погребен в этом монастыре. Все склепы были исследованы, все надгробные надписи восстановлены. Эпитафии Никола Фуке не было!
«Никто не знает, где умер этот знаменитый интендант», – пишет Вольтер в «Философском словаре».
Но эта версия рушится, когда возникает дата, о которую разбились версии о герцоге Монмуте и графе де Вермандуа: «Узник, которого вы охраняете уже двадцать лет» (письмо Барбезье от 13 августа 1691 года. Согласно этому свидетельству, узник, которого Сен-Марс охранял двадцать лет, не мог быть Фуке, так как к 1691 году Фуке находился бы в заключении уже двадцать семь лет, а если считать от его мнимой смерти, то всего одиннадцать лет.
Мы изложили все версии, выдвинутые для разгадки чудовищной тайны. Полагаем, что Человек в железной маске был рожден вблизи трона. И если тайна еще не разрешена, то из нашего рассказа следует: всюду, где бы ни находился узник в маске, ему под страхом смерти было приказано скрывать свое лицо.
Этот человек в маске встречается на протяжении полувека в разных концах Франции!
Значит, на протяжении полувека существовало лицо, знакомое и узнаваемое в любом уголке Франции, даже в тюрьме на отдаленном острове, и имеющее сходство с лицом узника!
Кем же мог быть человек, поразительно похожий на узника, кроме как Людовиком XIV, братом-близнецом Железной маски?
Опровергнуть эту версию могут лишь неопровержимые доказательства.
Мы ограничили себя лишь ролью судебного следователя и надеемся, что читатель не обидится за то, что придется самому делать выбор среди противоречивых версий. Думается, что сочиненный об этом роман не смог бы оказаться интереснее описанных изысканий. Все, что связано с узником в маске, до сих пор вызывает живой интерес. Чего мы добивались? Раскрыть ужасное преступление, заклеймить палачей? Факты, которые мы привели, говорят сами за себя и куда более красноречивы, чем досужие домыслы сочинителей.
Паскаль Бруно
Я собирался отправиться в Италию и побывать в местах, где происходят основные события некоторых моих рассказов. Все, что генерал Т. рассказал нам об этой стране, для меня было особенно важно. Поэтому при обработке рукописи генерала я с удовольствием воспользовался полученным от него разрешением и неоднократно обращался к его описаниям и воспоминаниям о местах, в которых он побывал.
Таким образом, в моих записках по Италии читатель найдет немало подробностей, собранных благодаря его любезному содействию. Однако этот благородный спутник покинул меня на южной оконечности Калабрии, не желая пересекать пролив. Пусть он и провел два года в ссылке на острове Липари, вблизи сицилийских берегов, но ни разу не побывал в Силиции и отказывался говорить об этой стране. Должно быть, оттого что опасался сам себя: ведь он, неаполитанец, мог и не избежать предвзятых суждений, вызванных взаимной неприязнью соседствующих народов.
Одним словом, я решил разыскать господина Пальмьери, сицилийского изгнанника, автора обширного двухтомника воспоминаний, – к сожалению, за последнее время я потерял его из вида. И от него узнать об острове, столь поэтичном и загадочном, уточнить общие сведения и разведать характерные мелочи, которые помогают заранее избрать важные пункты путешествия. Однако не успел я это сделать, как к нам на Монмартр, номер 4, однажды вечером пришел сам генерал Т. с господином Беллини, о котором я отчего-то позабыл. Генерал позвал его вместе пополнить маршрут моей предполагаемой поездки. Можно себе представить, как горячо был принят автор «Сомнамбулы» и «Нормы» в нашем сугубо артистическом обществе. Беллини родился в Катании, и первое, что увидели его детские глаза, было море. Море, чьи волны рождаются, омывая стены Афин, и с мелодичным шумом умирают у берегов Сицилии, второй Греции. Острова, где в окрестностях сказочной древней Этны по прошествии восьмисот лет еще живы мифы Овидия и поэмы Вергилия. Недаром Беллини считается наиболее поэтической натурой, какую только можно себе представить. Его талант должно воспринимать сквозь призму чувства, а не по канонам науки, есть лишь извечная песня, нежная и печальная, как воспоминание, есть только эхо, что дремлет в горах и лесах, что живет едва слышно, пока его не разбудит крик страсти или боли.
Итак, Беллини был именно тем человеком, что мне нужен. Пусть он уехал из Сицилии еще в молодости, и у него осталось о родном острове то неистребимое воспоминание, которое свято хранит поэтическое видение ребенка. Сиракузы, Агридженто, Палермо раскрылись перед моим умственным взором, подобно еще неведомой мне, но великолепной панораме, озаренной блеском его ярких рассказов и пылкого воображения. Наконец, перейдя от описаний географических к описанию нравов Сицилии (о которых я без устали его расспрашивал), Беллини сказал:
– Когда вы отправитесь по морю или по суше из Палермо в Мессину, сделайте милость, задержитесь в деревушке Баузе, что стоит на мысе Блан. Против постоялого двора вы увидите улицу, что идет вверх по склону холма и упирается в небольшой замок, устроенный подобно цитадели. К стене этого замка привинчены две клетки – одна из них пуста, а в другой уже двадцать лет лежит побелевший от времени череп. Спросите у первого встречного историю несчастного, которому принадлежала эта голова, и вы услышите один из тех рассказов, в которых, как в капле воды, отразился целый народ – от крестьянина до вельможи, от горной деревушки до крупного города.
– А вы сами не могли бы рассказать эту историю? – спросил я Беллини. – Она произвела на вас глубокое впечатление, это столь ясно из ваших же собственных слов.
– Охотно, – ответил он. – Паскаль Бруно, или, как его называют на родине и как о нем знал я, Паскуале Бруно, герой этой истории, умер за год до моего рождения, и я был вскормлен этим народным преданием. Уверен, оно еще живо на Сицилии. Однако я плохо говорю по-французски и, боюсь, не справлюсь со столь сложной задачей.
– Пусть вас это не смущает, – возразил я, – мы все понимаем по-итальянски. Говорите на языке Данте, он хорош, как и любой другой.
– Будь по-вашему, – согласился Беллини, пожимая мне руку, – но с одним условием.
– С каким?
– Обещайте, что после вашего возвращения, когда вы познакомитесь с деревнями и городами Сицилии, когда приобщитесь к ее дикому народу, к ее живописной природе, вы напишете либретто для задуманной мною оперы «Паскуале Бруно».
– С радостью! Договорились! – воскликнул я, отвечая на его рукопожатие.
И Беллини поведал нам историю, которую ниже найдет читатель.
Полгода спустя я уехал в Италию. Побывал в Калабрии, в Сицилии, однако более всех героических деяний прошлого меня привлекало народное предание, услышанное от музыканта-поэта. Предание, ради которого я проделал путь в восемьсот миль, ибо считал его целью своего путешествия. Наконец я добрался до Баузо, нашел постоялый двор, поднялся вверх по улице, увидел две клетки – одна из них была пуста…
Спустя некоторое время я вернулся в Париж. Вспомнив о взятом на себя обязательстве, я решил немедленно разыскать Беллини.
Но нашел лишь его могилу.
I
Судьба городов схожа с судьбой людей: случай определяет появление на свет и тех, и других, место, где возникают одни, и среда, в которой рождаются другие, оказывают влияние – хорошее или дурное – на всю их последующую жизнь.
Я видел благородные города, которые в своей гордыне пожелали господствовать над окружающим миром, где некоторые из домов посмели обосноваться на вершине облюбованной ими горы: эти города так и остались высокомерными и нищими, пряча в облаках свои зубчатые крыши и беспрестанно подвергаясь натиску стихий – грозы летом и вьюги зимой. Такие города можно принять за королей в изгнании, королей, окруженных немногими придворными, которые в злосчастии сохраняют им верность, королей, слишком надменных, чтобы, спустившись в долину, обрести там страну и народ.
Я видел городишки непритязательные, городишки, что спрятались в глубине долины. Они выстроились на берегу ручья фермы, мельницы, лачуги и, укрывшись от холода и зноя за грядою холмов, ведут спокойную, но безвестную жизнь, похожую на жизнь людей, лишенных страстей и честолюбия. Таких пугает всякий шум, слепит всякий свет, таких, чье счастье возможно лишь в тени и безмолвии.
Встречаются и другие города: некогда они родились жалкой деревушкой на берегу моря. Но после того, как корабли вытеснили лодки, а крупные суда – корабли, эти города сменили свои хижины на дома и дома на дворцы. И теперь золото Потоси и алмазы Индии стекаются в их порты, они швыряются деньгами и выставляют напоказ драгоценности, подобно тем выскочкам, что обдают прохожих грязью из-под колес своих роскошных экипажей и натравливают на них своих лакеев.
Наконец, встречаются города, которые выросли среди ласковой природы, которые шествовали по лугам, усыпанным цветами, где пролегли извилистые, живописные тропинки. Все предрекало этим городам долгие годы благоденствия, но нежданно-негаданно жизнь одного из них оказалась под угрозой соперника, появившегося у проезжей дороги. Соперник этот отчего-то привлек к себе торговцев и путешественников, предоставив несчастному предшественнику угасать в одиночестве, как угасает юноша, жизненные силы которого навеки подорвала неразделенная любовь. Вот почему к тому или иному городу испытываешь симпатию или отвращение, любовь или ненависть. Гуляя по их улицам ты словно имеешь дело с человеком, вот почему о нагромождении холодных, бездушных камней говорят, как о живом существе. Вот почему называют Мессину благородной, Джирдженти великолепным, Трапани непобедимым и наделяют эпитетами «верный» и «счастливый» Сиракузы и Палермо.
Согласитесь: если есть на свете город, которому была уготована счастливая доля, то это Палермо. Раскинувшись под облачным небом, на плодородной почве, среди чудесной природы, владея портом на море, которое катит свои лазурные волны, защищенный с севера горой Сент-Розали, а с востока мысом Наферано, окруженный со всех сторон холмами, которые опоясывают его обширную долину, Палермо, обернувшись лицом к Италии, лениво, томно и сладострастно смотрится в воды Тирренского моря. Так некогда смотрелись в волны Босфора или Киренаики византийские одалиски или египетские султанши. Напрасно сменяли друг друга завоеватели Сицилии – они сгинули, она осталась. От всех властелинов, плененных ее прелестью и красотой у нее, королевы-рабыни, сохранились не цепи, а ожерелья. Природа и люди соединились, чтобы сделать ее прекраснейшей из прекрасных. Греки оставили ей храмы, римляне акведуки, сарацины замки, норманны базилики, а испанцы церкви. К тому же под этими широтами цветет любой цветок, растет любое дерево. Вот отчего в ее великолепных садах произрастают олеандры Лаконики, пальмы Египта, смоковницы Индии, алоэ Африки, сосны Италии, кипарисы Шотландии и дубы Франции. Вот почему нет ничего великолепней дней Сицилии, если не считать ее ночей – ночей восточных, прозрачных и благоуханных, ночей, когда шепот моря, шелест ветра и гул городских улиц кажутся извечной песней страсти, когда все сущее – от волны до растения, от растения до человека – испускает затаенный вздох.
Поднимитесь на эспланаду Циза или на террасу Палаццо Реале, когда Палермо спит, и вам покажется, что вы находитесь у изголовья юной девы, грезящей о любви.
В этот час алжирские пираты и тунисские корсары вылезают из своих берлог, они поднимают треугольные паруса на своих берберийских фелуках и рыщут подле острова, словно сахарские гиены и атласские львы близ овчарни. Горе беспечным городам, которые засыпают без сигнальных огней и без береговой охраны – их жители пробуждаются от света пожаров, от криков жен и дочерей! Но до того, как подоспеет помощь, африканские стервятники успевают скрыться со своей добычей – на рассвете видны лишь вдалеке белые паруса их кораблей, которые вскоре исчезают за островами Порри, Фавиньяна или Лампедуза.
Иной раз море внезапно принимает свинцовый оттенок, ветер падает, жизнь в Палермо замирает. В эти дни с юга на север проносятся кроваво-красные облака, предвещающие сирокко или «хамсин», – подлинный бич арабов. Его горячее дыхание, родившись в ливийских песках, обрушивается на Европу усиленное гневом юго-восточных ветров. Тотчас же все пригибается к земле, вся природа трепещет, сетует, и Сицилия стонет, словно перед извержением Этны. Люди и животные лихорадочно ищут убежища и, найдя его, с трудом переводят дух – ведь сирокко побеждает любое мужество, подавляет любую силу, парализует любую деятельность. Палермо проходит через семь кругов ада, и длится это до того мига, пока чистый ветер, долетевший из Калабрии, не вернет силы погибающему городу. Воспрянув под таким животворным дуновением, Палермо облегченно вздыхает – так вздыхает человек, очнувшийся после обморока, – и беспечно возвращается к своей праздничной и радостной жизни.
Таким был октябрьский вечер 1803 года: сирокко дул весь день, но на закате небо прояснилось, море снова поголубело, со стороны Липарских островов повеяло прохладой. Как уже упоминалось, такая перемена погоды оказывает освежающее действие на все живые существа, которые понемногу выходят из оцепенения: можно подумать, будто присутствуешь при сотворении мира. К тому же Палермо, как мы уже говорили, более всех иных городов подобен истинному Эдему.
Среди дочерей Евы, обитающих в этом раю и занимающихся главным образом любовью, жила некая молодая женщина. Ей суждено сыграть в нашей истории столь важную роль, что нынче же следует обратить внимание читателей на нее и на виллу, где она живет. Выйдем же из Палермо через ворота Сан-Джорджио, оставим справа Кастелло-а-Маре и дойдем, никуда не сворачивая, до мола. Затем, пройдя по берегу моря, остановимся у восхитительной виллы, расположенной среди прекрасных садов, доходящих до подножия горы Пеллегрино. Эта вилла принадлежит князю де Карини, вице-королю Сицилии, который правит островом именем короля Фердинанда IV, что вернулся в Италию и вступил во владения своим родным городом, прекрасным Неаполем.
На втором этаже этой изящной виллы, в спальне, обитой ясно-голубым атласом, где занавески подхвачены шнурами, усыпанными жемчугом, а потолок расписан фресками, отдыхает на софе молодая женщина в домашнем капоте. Руки ее бессильно свесились, голова запрокинута, волосы растрепались – она лежит неподвижно, как мраморная статуя, но вдруг легкая дрожь пробегает по ее телу, щеки розовеют, глаза открываются. Теперь чудесная статуя ожила, вздохнула, протянула руку к мраморному столику с серебряным колокольчиком. Лениво статуя встряхивает колокольчик и, утомившись от одного этого движения, откидывается на софу. Однако серебристый голос колокольчика услышан. Дверь отворилась, и на пороге встала молодая хорошенькая камеристка, небрежность в туалете которой утверждает, что и она испытала на себе действие африканского ветра.
– Тереза? – хозяйка томно повернула голову к двери. – Господи, как душно. Неужели сирокко никогда не кончится?
– Что вы, синьора, ветер стих, теперь уже можно дышать.
– Принеси фруктов, мороженого… и отвори окно.
Тереза выполнила оба указания со всей расторопностью, на какую была способна: она и сама чувствовала еще некоторую вялость. Девушка поставила лакомства на стол и отворила окно, выходящее на море.
– Не печальтесь, ваше сиятельство, – обернулась она к госпоже, – завтра будет прекрасный день. Воздух прозрачен, и, хотя уже начинает смеркаться, остров Аликули прекрасно виден.
– Да-да… от свежего воздуха мне стало лучше. Дай мне руку, Тереза, я попробую добраться до окна.
Тереза подошла к графине. Та поставила на стол почти нетронутое фруктовое мороженое и, опираясь на руку камеристки, словно сквозь силу приблизилась к окну.
– Как хорошо! – сказала она, глубоко вдохнув. – Этот ветерок возвращает меня к жизни! Подвинь кресло и отвори окно… Да-да… то, что выходит в сад. Благодарю! Скажи, князь вернулся из Монреаля?
– Нет еще.
– Тем лучше: я не хочу, чтобы он видел меня такой измученной и бледной. Должно быть, я выгляжу ужасно.
– Госпожа графиня никогда еще не была столь хороша… Думаю, во всем Палермо не найдется женщины, которая бы не завидовала вам, ваше сиятельство.
– Даже маркиза де Рудини и графиня де Бутера?
– И даже они, синьора.
– Похоже, князь платит, чтобы ты мне льстила.
– Клянусь, я говорю то, что думаю.
– О, как прекрасна жизнь в Палермо, – сказала графиня, дыша полной грудью.
– В особенности если ты знатная, богатая и красивая женщина двадцати двух лет, – заметила с улыбкой Тереза.
– Ты права, дитя. Поэтому мне хочется, чтобы все подле меня были счастливы. Когда твоя свадьба?
Тереза ничего не ответила.
– Отчего ты молчишь? Разве она не в будущее воскресенье? – спросила графиня.
– Да, синьора, – кивнула камеристка, вздохнув.
– Что случилось? Уж не намерена ли ты отказать жениху?
– Нет, ваше сиятельство, все уже договорено.
– Тебе не по нраву Гаэтано?
– Отчего же? Он честный человек, и я буду с ним счастлива. К тому же, выйдя за него, я останусь у госпожи графини, а лучшего не стоит и желать.
– Почему же ты вздыхаешь?
– Простите меня, синьора. Подумала о родных местах.
– О нашей родине?
– Да. Когда вы, ваше сиятельство, вспомнили обо мне, своей молочной сестре, оставшейся в деревне, во владениях вашего батюшки, я собиралась выйти замуж за славного парня из Баузо.
– Почему же ты ничего не сказала мне? Если бы я попросила, князь бы взял его к себе в услужение.
– Ох, он не согласился бы стать слугой. Он слишком горд для этого.
– Правда?
– Да. Он однажды уже отказался поступить в охрану. Его звали люди князя де Гото.
– Так, стало быть, это дворянин?
– Нет, госпожа графиня, простой крестьянин.
– Как же его зовут?
– О, вряд ли госпожа графиня знала его, – поспешно заметила Тереза.
– И ты о нем печалишься?
– Трудно сказать, госпожа. Я знаю, что, если бы я стала его женой, а не женой Гаэтано, мне пришлось бы много и тяжело работать. Вовсе не так, как на службе у госпожи графини, где мне легко и приятно живется.
– Однако меня обвиняют в том, что я резка, надменна. Это правда, Тереза?
– Госпожа графиня бесконечно добра ко мне. Вот и все, что я могу сказать.
– Все дело в дворянстве Палермо: это оно клевещет на меня. Графы де Костель-Нуово были возведены в дворянское достоинство Карлом Пятым, а графы де Вентимилле и де Партанна, по их словам, происходят от Танкреда и Рожера. Однако женщины недолюбливают меня по иной причине: они ненавидят меня за любовь Родольфо, завидуют, что меня любит сам вице-король. Они изо всех сил стараются отбить его, обратить его внимание на себя, но тщетно: я красивее их. Карини постоянно твердит мне об этом, да и ты, обманщица, тоже.
– Не только его светлость и я говорим это госпоже графине. Кое-кто льстит ей еще больше.
– Кто же это?
– Зеркало, сударыня.
– Болтунья! Зажги свечи у большого зеркала.
Служанка повиновалась.
– А теперь затвори это окно и оставь меня одну. Достаточно будет воздуха из сада.
Тереза, поклонившись, вышла из комнаты; едва за ней затворилась дверь, как графиня подошла к зеркалу, взглянула на себя и улыбнулась, усаживаясь поудобнее.
Поистине, графиня Эмма была прелестна, О нет, графиня Джемма – родители изменили первую букву имени, данного ей при крещении, и с самого детства звали ее Джеммой, то есть «жемчужиной». К тому же, она была не права, когда в доказательство древности своего рода ссылалась лишь на подпись Карла Пятого: тонкий, гибкий стан изобличал в ней дитя Ионии, черные, бархатистые глаза – дочь арабов, а бело-розовый цвет лица – уроженку Галлии. С равным правом она могла считать, что происходит от афинского архонта, сарацинского эмира или нормандского капитана – такие красавицы встречаются прежде всего на Сицилии, а, кроме острова, в Арле, единственном городе на свете, где такое же смешение крови, такое же скрещение рас может объединить в одной женщине эти три столь различных типа. Но вместо того чтобы, как собиралась это сделать поначалу, прибегнуть к дамским хитростям, Джемма застыла у зеркала в порыве самолюбования: она удивительно понравилась себе в простом домашнем убранстве. Так, вероятно, взирает на себя цветок, склонившийся над поверхностью ручья. Однако в этом милом любовании не было гордыни – она словно возносила хвалу Господу, создавшему столь совершенную красоту. Одним словом, она не сделала ничего. Да и какая прическа лучше выявила бы несравненную прелесть ее волос, чем та естественная гармония, с которой кудри свободно рассыпались по плечам? Какая кисть могла бы улучшить и без того совершенный рисунок ее шелковистых бровей? Какая помада посмела бы соперничать с цветом ее сочных коралловых губ? Одним словом, она гляделась в зеркало с единственным желанием любоваться собой. Однако вскоре погрузилась в упоительные и восторженные мечты, ибо одновременно с ее лицом зеркало, стоящее у раскрытого окна, отражало небо, достойное быть фоном ее ангельской головки. Наслаждаясь безграничным чувством счастья, Джемма игриво считала в зеркале звезды, которые зажигались одна за другой, и вспоминала их названия, как только они появлялись на небосклоне.
Внезапно ей показалось, что тень загородила звезды и позади нее возникло чье-то лицо. Она поспешно обернулась: в окне стоял незнакомый мужчина. Джемма вскочила на ноги и открыла рот, чтобы позвать на помощь, но неизвестный, сложив с мольбой руки, проговорил:
– Во имя неба, сударыня, никого не зовите. Клянусь честью, вам нечего опасаться: я не желаю вам зла!..
II
Джемма упала в кресло. После появления незнакомца и его слов наступило молчание. Графиня успела бросить быстрый пугливый взгляд на незваного гостя, который проник в ее спальню столь непозволительным способом.
Это был молодой человек лет двадцати пяти или двадцати шести, по-видимому, простолюдин: на нем была калабрийская шляпа с широкой лентой, спускавшейся на плечо, куртка с серебряными пуговицами из бархата и такие же штаны. Его стан стягивал красный шелковый пояс с зеленой вышивкой и бахромой – такие пояса делают в Мессине. А та, в свою очередь, позаимствовала их у стран Леванта. Кожаные ботинки и гетры дополняли костюм истого жителя гор – костюм, не лишенный изящества и словно созданный, чтобы подчеркнуть стройность хозяина. Лицо незнакомца поражало суровой красотой: смелый и гордый взгляд, резкие черты, черные волосы и борода, орлиный нос и зубы, как у шакала.
Должно быть, Джемму совершенно не успокоил вид молодого человека. Она уже протянула руку к столу в поисках стоящего там серебряного колокольчика.
– Вы не поняли меня, сударыня? – спросил незнакомец, стараясь придать голосу чарующую мягкость, для какой, кажется и создан сицилийский язык. – Я не желаю вам зла. Напротив, если вы уважите мою просьбу, я буду боготворить вас, как мадонну. Вы прекрасны, как Божья матерь, будьте же милосердны, как она.
– Что же вам надобно? – спросила Джемма с дрожью в голосе. – Как вы посмели явиться сюда, да еще таким путем?
– Но как же иначе, сударыня? Неужели вы – знатная, богатая, любимая человеком высокого звания, почти королем, – согласились бы принять столь безвестного человека, человека, подобного мне?
Графиня молчала. Незнакомец продолжил:
– Но, если бы оказали мне такую милость, она могла бы запоздать, а у меня времени нет!
– Но что я могу сделать для вас? – спросила Джемма, чуть успокоившись.
– В ваших руках, сударыня, мое несчастье и мое блаженство, моя смерть и моя жизнь.
– Ничего не понимаю! Объясните же, в чем дело?
– У вас служит девушка из Баузо.
– Тереза?
– Да, Тереза, – голос молодого человека дрогнул. – Она собирается обвенчаться с камердинером князя де Карини, а ведь она моя невеста.
– Так это вы?..
– Да, мы собирались пожениться с Терезой, когда вы выписали ее к себе в услужение. Она обещала хранить мне верность, замолвить перед вами за меня словечко, а если вы откажете в ее просьбе, вернуться домой. Я ждал ее. Прошло целых три года, ее все не было. Я понял, что она не вернется, сам приехал сюда и все разузнал. Тогда я подумал, что могу броситься к вашим ногам и вымолить у вас разрешение на брак с Терезой.
– Я люблю Терезу и не желаю разлучаться с ней. Гаэтано – камердинер князя. Если он женится на ней, Тереза останется у меня.
– Коль таковы ваши условия, я готов поступить в услужение к князю, – проговорил молодой человек, сделав над собой заметное усилие.
– Тереза говорила, что вы не хотите быть слугой.
– Это правда. Но я готов на любую жертву ради нее. Однако, если возможно, я бы поступил телохранителем к князю – все же лучше, чем простым слугой.
– Хорошо, я поговорю с князем, и если он согласится…
– Князь согласится на все, чего бы вы ни пожелали, сударыня. Я знаю, когда вы просите – вы приказываете.
– Но кто мне поручится за вас?
– Порукой будет моя вечная признательность, сударыня.
– Кроме того, я должна знать, кто вы.
– Я человек, судьба которого зависит от вас. И этого достаточно…
– Князь спросит, как вас зовут.
– Какое дело князю до моего имени? Разве он когда-нибудь слышал его? И что значит для князя де Карини имя простого крестьянина из Баузо?
– Но я-то родилась там же, где и вы. Мой отец был графом де Кастель-Нуово и жил в небольшом замке неподалеку от деревни.
– Мне все это известно, сударыня, – голос молодого человека теперь звучал глухо.
– Я должна знать, кто вы. Скажите, как вас зовут, и я решу, как мне надлежит поступить.
– Верьте мне, ваше сиятельство, вам лучше не знать моего имени. Не все ли равно, как меня зовут? Я человек честный, Тереза будет счастлива со мной. Если понадобится, я жизнь отдам за вас и за князя.
– Не понимаю вашего упорства. Я хочу знать ваше имя! К тому же Тереза тоже отказалась вас назвать, когда я спросила ее. Будьте уверены, сударь, я ничего не сделаю для вас, если вы не назоветесь.
– Так вы этого желаете, сударыня?
– Не желаю, а требую…
– Умоляю вас в последний раз…
– Скажите, кто вы, или уходите, – проговорила Джемма повелительно.
– Меня зовут Паскуале Бруно, – ответил молодой человек ровным, тихим голосом. Можно было подумать, что он совершенно спокоен, одна внезапная бледность выдавала его душевную муку.
– Паскуале Бруно! – воскликнула Джемма, отодвигая кресло. – Паскуале Бруно! Уж не сын ли вы Антонио Бруно, чья голова в железной клетке висит в замке Баузо?
– Да, я его сын.
– Вам известно, отчего голова вашего отца находится в замке? Отвечайте!
Паскуале молчал.
– А оттого, – продолжала Джемма, – что ваш отец покушался на жизнь графа, моего отца.
– Да, сударыня, это так. Я знаю еще и то, что горничные и лакеи показывали вам, крохе, которую выводили гулять, эту клетку и говорили, что в ней голова преступника, который едва не убил вашего батюшку. Одного только они вам не рассказали: ваш отец обесчестил моего отца.
– Вы лжете!
– Да покарает меня Господь, если я солгал. Моя мать была красива и добродетельна, когда, на беду, граф полюбил ее. Она устояла перед его обещаниями, домогательствами, не испугалась и угроз. И вот однажды, когда мой отец отправился в Таормину, граф приказал четверым верным людям похитить матушку и отвезти в небольшой дом между Лимеро и Фурнани – нынче там постоялый двор… И там… там, сударыня, он надругался над нею!
– Граф был владельцем Баузо, крестьяне принадлежали ему душой и телом. Вашей матушке была оказана честь, когда граф обратил на нее внимание.
– Мой отец думал иначе, – сказал Паскуале, нахмурившись. – Должно быть, оттого что родился на земле князя Монкада-Патерно, в Стрилле. Отец ударил графа кинжалом. Рана не была смертельна, и слава богу, хотя я долгое время жалел об этом. Но сегодня, к моему стыду, это меня радует.
– Если память мне не изменяет, не только ваш отец был казнен как убийца, но и его братья: ваши дяди отбывают наказание на каторге.
– Да, они спрятали отца и, когда за ним явилась полиция, встали на его защиту. Их посчитали сообщниками и отправили на каторгу. Дядя Плачидо попал на остров Фавиньяна, дядя Пиетро – на Липари, а дядя Пепе – в Вулкано. Я был тогда ребенком, но и меня арестовали вместе с ними. Однако позже меня вернули матери.
– И что с ней стало?
– Она умерла.
– Где?
– В горах между Пиццо ди Гото и Низи.
– Отчего же она покинула Баузо?
– Отчего, спрашиваете вы? Чтобы каждый раз, проходя мимо замка не видеть, головы своего мужа… Для чего же еще?.. Да, она умерла без врача, без священника. Я похоронил ее на неосвященной земле и был ее единственным могильщиком… Надеюсь, вы простите меня, сударыня, но на свежей могиле матери я дал обет отомстить за гибель всей семьи, из которой уцелел я один, – к тому времени моих дядей, конечно, уже не было в живых, – отомстить вам, последней из семьи графа. Но что поделаешь? Я влюбился в Терезу, спустился с гор, чтобы не видеть могилы матери. К тому же я чувствовал, что готов нарушить клятву, и поселился в долине, неподалеку от Баузо. Более того, когда Тереза надумала поступить к вам в услужение, мне пришла в голову мысль наняться к князю. Долгое время эта мысль страшила меня, потом я с ней свыкся. Я решил повидать вас, и вот я пришел сюда, пришел безоружный, чтобы умолять вас о милости, хотя намеревался, сударыня, предстать перед вами как мститель.
– Вы, думаю, понимаете, конечно, – ответила Джемма, – что князь не может взять к себе человека, отец которого был повешен, а родственники осуждены на каторжные работы.
– Но почему, сударыня? Почему, если этот человек готов забыть о несправедливых приговорах?
– Вы с ума сошли!
– Вы знаете, госпожа графиня, что значит клятва для горца? Так вот, я обещаю нарушить свою клятву. Вы знаете, что значит месть для сицилийца? Я обещаю отказаться от мести… Я готов все предать забвению, не заставляйте же меня вспоминать…
– А в противном случае?
– Не желаю даже думать об этом.
– Хорошо, мы примем надлежащие меры.
– Смилуйтесь, сударыня, умоляю! Видите, я делаю все, что в моих силах, хочу остаться честным. Ручаюсь, я стану другим человеком. Стану, если поступлю к князю и женюсь на Терезе… К тому же я никогда не вернусь в Баузо.
– Я не могу ничего сделать для вас!
– Госпожа графиня, ведь вы любили!
Джемма презрительно улыбнулась.
– Вы должны знать, что такое ревность. Вы должны знать, какая это мука, когда чувствуешь, что сходишь с ума. Я люблю Терезу, я ревную ее, чувствую, что не совладаю с собой, если она выйдет замуж за другого. Тогда…
– Что тогда?
– Тогда берегитесь, как бы я не вспомнил о клетке с головой отца, о каторге, куда были сосланы мои дяди, и о могиле, в которой покоится моя мать.
В эту минуту странный крик, похожий на сигнал, раздался под окном спальни, и почти тотчас же прозвенел звонок.
– Князь! – воскликнула Джемма.
– Да, знаю! – пробормотал Паскуале. – Но прежде, нежели он войдет сюда, вы можете обещать мне… Умоляю, сударыня, снизойдите к моей просьбе: разрешите мне жениться на Терезе, попросите князя взять меня в услужение…
– Пропустите меня! – повелительно сказала Джемма, направляясь к выходу.
Но вместо того, чтобы повиноваться, Бруно подбежал к двери и запер ее.
– Вы посмели задержать меня? – спросила Джемма, взявшись на шнурок звонка. – Ко мне, на помощь! На помощь!
– Не зовите, сударыня, – проговорил Бруно, все еще владея собой. – Ведь я сказал, что не причиню вам зла.
Вторично раздался под окном тот же странный крик.
– Молодец, Али, ты на посту, мой мальчик! – крикнул Бруно. – Я знаю, пришел князь, я слышу его шаги в коридоре. Сударыня, сударыня, еще есть несколько минут, несколько секунд, еще можно избежать многих несчастий…
– На помощь, Родольфо, на помощь! – вновь закричала Джемма.
– Сударыня, у вас нет сердца, нет души, нет жалости ни к себе, ни к другим! – воскликнул Бруно, схватившись за голову и неотрывно глядя на дверь, которую сотрясала чья-то сильная рука.
– Меня заперли, – продолжала графиня, ободренная подоспевшей помощью, – я здесь, с мужчиной, он угрожает мне. На помощь, Родольфо, ко мне!..
– Я не угрожаю, я молю… я все еще молю… но раз вы сами этого пожелали!..
Бруно испустил крик, подобный крику дикого зверя, и бросился к Джемме. Он мог только задушить ее, ведь и в самом деле пришел безоружным. В ту же минуту дверь, скрытая в глубине алькова, распахнулась, раздался выстрел, спальня наполнилась дымом, и Джемма потеряла сознание. Она очнулась в объятиях вице-короля, с ужасом оглядела комнату и спросила, как только смогла говорить:
– Этот человек… где он?..
– Не знаю. Быть может, я промахнулся, – ответил князь. – Не успел я перескочить через кровать, как он прыгнул в окно. Вы лежали без сознания, я позабыл о нем и поспешил к вам. Быть может, я промахнулся, – повторил он, и стал осматривать стены. – Странно, я нигде не вижу следа от пули.
– Скорее шлите за ним погоню! – воскликнула Джемма. – Ни жалости, ни милосердия к этому человеку, ваша светлость! Он бандит и хотел задушить меня.
Поиски продолжались всю ночь, осмотрели виллу, прилегающие к ней сады, побережье – все было тщетно: Паскуале Бруно бесследно исчез. Наутро слуги обнаружили пятна крови, они вели от окна спальни и терялись на берегу моря.
III
Рано утром рыбачьи лодки вышли, как обычно, из порта и рассеялись по морю. В одной из них было двое: мужчина и мальчик лет двенадцати или четырнадцати. Эта лодка неподалеку от Палермо легла дрейф – этот маневр в месте, не особенно подходящем для рыбной ловли, мог показаться подозрительным, но мальчик занялся починкой сети. Что же касается мужчины, то он лежал, опершись головой о борт лодки, и, по-видимому, глубоко задумался. Время от времени он машинально опускал правую руку в море и, зачерпнув горсть воды, поливал левое плечо, стянутое окровавленной повязкой. Губы его то и дело сводила странная гримаса – он то ли смеялся, то ли скрежетал зубами. Разумеется, человеком этим был Паскуале Бруно. Мальчик же – тот самый страж, который дважды кричал под окном спальни, предупреждая об опасности. Достаточно было беглого взгляда, чтобы признать в мальчике сына более жаркой, чем Сицилия, страны. Так оно и было: родившись на берегах Африки, он случайно оказался на пути Паскуале Бруно. Вот как это произошло.
Около года назад, узнав, что князь де Монкада-Патерно, богатейший сицилийский вельможа, возвращается на небольшом судне из Пантеллерии в Катану со свитой из двенадцати человек, алжирские корсары устроили засаду за островом Порри, всего в двух милях от Сицилии. Корабль князя, как и предполагали пираты, свернул в пролив, отделяющий остров от побережья. Увидев это, пираты на трех лодках вышли из бухточки, в которой прятались, и налегли на весла, чтобы перерезать путь князю. Тот сразу дал команду направить судно к берегу и посадить его на мель возле Фугалло. Здесь глубина едва достигала трех футов, князь и его свита спрыгнули в воду, держа оружие над головой, – они надеялись добраться до деревни, видневшейся в полумиле от берега, так и не пустив его в ход. Но, как только они покинули корабль, другие корсары, которые в ожидании этого маневра успели зайти в устье Буфайдоне, выскочили из камышовых зарослей, среди которых течет река, и отрезали князю путь к отступлению. Завязалась схватка, пока телохранители князя отражали натиск первого отряда корсаров, подоспел второй их отряд. Поняв, что сопротивление бесполезно, князь сдался, умоляя, чтобы ему и его людям сохранили жизнь, и обещая заплатить за себя и за них богатый выкуп. Как только пленники сложили оружие, показалась толпа крестьян, вооруженных ружьями и косами.
Корсары, победившие князя и потому достигшие своей цели, не стали ждать ни минуты – они уплыли столь поспешно, что оставили на поле боя трех своих людей, посчитав их убитыми или смертельно ранеными. Среди прибежавших крестьян был и Паскуале Бруно: по прихоти кочевой жизни он появлялся то тут, то там, а беспокойный характер заставлял его ввязываться в каждое рискованное предприятие. Крестьяне обнаружили на песчаном берегу, где происходило сражение, двоих слуг князя де Патерно – один был убит, другой легко ранен в ногу – и трех корсаров, плававших в собственной крови, но еще живых. Двух ружейных выстрелов было достаточно, чтобы расправиться с двоими их них, и дуло пистолета уже было нацелено на третьего вместе с угрозой послать его вслед за товарищами, когда Бруно заметил, что третий пират еще совсем ребенок, Паскуале отвел от него оружие и заявил, что берет мальчика под свое покровительство. Послышался ропот неудовольствия, но Бруно никогда не отступал от своего слова: он зарядил карабин и заявил, что застрелит первого, кто подойдет к раненому. Бруно был известен как человек, способный на все, крестьяне отступились, позволив ему поднять мальчика и уйти вместе с ним. Бруно тотчас же направился к морю, сел в лодку, на борту которой совершал обычно свои походы и которой управлял так умело, что она повиновалась ему не хуже, чем лошадь повинуется всаднику, поднял паруса и взял курс на мыс Алига-Гранде.
Как только лодку подхватил ветер, и она перестала нуждаться в управлении, Бруно занялся раненым, по-прежнему лежавшим без чувств. Распахнул белый бурнус, в который был одет мальчик, и расстегнул пояс с висящим на нем ятаганом. В последних отблесках заходящего солнца Бруно увидел, что пуля прошла между правым бедром и ребрами и вышла возле позвоночника. Рана оказалась опасной, но не смертельной.
Вечерний ветер и освежающее действие морской воды, которой Бруно промыл рану, привели мальчика в чувство. Не открывая глаз, он пробормотал несколько слов на непонятном языке. Бруно, знавший по опыту, что огнестрельные раны могут вызвать сильную жажду, разгадал смысл слов мальчика и поднес к его губам полную флягу воды – раненый жадно приник к питью, снова пробормотал что-то непонятное и вторично впал в забытье. Паскуале уложил его как можно бережнее на дно лодки. Оставив рану открытой, он каждые пять минут смачивал ее морской водой: моряки считают ее действие целебным для любых ран.
В час вечерней молитвы мореплаватели подошли к устью Рагузы – им помог попутный ветер. Бруно без труда направил лодку вверх по течению реки и три часа спустя, оставив справа по борту Модику, прошел под мостом дороги между Ното и Каярамонти. Лодка сделала еще полмили, но плыть становилось все труднее. Он вытащил лодку на берег, скрыл ее в зарослях и, взяв мальчика на руки, продолжил путь пешком. Вскоре перед ним открылось узкое ущелье. Пройдя еще немного, он очутился между двумя отвесными склонами с пробитыми отверстиями пещер – остатками древнего поселения троглодитов, первых жителей Сицилии, которых греческие колонисты некогда приобщили к цивилизации.
Бруно вошел в одну из этих пещер и поднялся по лестнице на ее второй ярус, куда свет и воздух проникали через большую квадратную дыру; в углу было устроено ложе из тростника, он расстелил на нем бурнус мальчика и положил раненого на его бурнус. Вышел, чтобы раздобыть огня, вернулся с горящей еловой веткой в руках, прикрепил ее к стене и, усевшись на камень рядом с раненым, стал ждать, когда тот очнется.
Во время своих скитаний по Сицилии, которые помогали Бруно забыть об одиночестве, успокоиться и прогнать дурные мысли, он заходил в эту долину и жил в этой самой комнате, выдолбленной в скале три тысячи лет назад. Здесь он предавался смутным и бессвязным мечтам, которые чаще обуревают людей необразованных, но наделенных пылким воображением. Он знал, что пещеры были вырыты в давние времена ныне исчезнувшим племенем, и, свято чтя народные предания, полагал, что эти люди были волшебниками. Это убеждение, нисколько не пугало его, но, напротив, неудержимо влекло в эти места. Он слышал в юности немало сказок о волшебных ружьях, о неуязвимых людях, о путниках-невидимках, и в его бесстрашной душе, жаждавшей чудес, жило лишь одно желание: встретить колдуна, волшебника или самого дьявола, который в обмен на договор, скрепленный кровью, даст ему долгожданную власть над людьми. Но напрасно вызывал он тени древних обитателей долины: их призраки так и не явились ему. Вот так Паскуале Бруно, к своему великому огорчению, остался таким же человеком, как и все остальные. И все же он выделялся среди горцев – мало кто из них мог потягаться с ним силой и ловкостью.
Около часа сидел Бруно у изголовья раненого мальчика. Наконец тот вышел из забытья – он открыл глаза, недоуменно огляделся и остановил взгляд на своем спасителе, еще не зная, кто перед ним: друг или враг. Видимо, ему пришла в голову смутная мысль о самозащите: он поднес руку к поясу в поисках своего ятагана, но, не найдя его, тяжело вздохнул.
– Тебе больно? – спросил Бруно, прибегнув к франкскому языку, который понятен всем и каждому на берегах Средиземного моря, от Марселя до Александрии, от Константинополя до Алжира, и с помощью которого можно объездить весь Старый Свет.
– Кто ты? – спросил мальчик.
– Друг.
– Разве я не твой пленник?
– Нет.
– Как же я попал сюда?
Паскуале рассказал, ничего не скрывая. Мальчик безмолвно выслушал рассказ, а когда тот подошел к концу, взглянул прямо в глаза Бруно и с чувством глубокой благодарности спросил:
– Ты, кто спас мне жизнь, хочешь ли стать моим отцом?
– Хочу.
– Отец, – прошептал раненый, – твоего сына зовут Али. А ты? Как зовут тебя?
– Паскуале Бруно.
– Да благословит тебя Аллах! – сказал мальчик.
– Чего тебе хочется?
– Воды, хочется пить.
Из углубления в скале Паскуале взял глиняную кружку и спустился к ручью неподалеку от пещеры. Вернувшись, он бросил взгляд на ятаган мальчика и заметил, что раненый даже не попытался достать его. Али с жадностью схватил кружку и разом опорожнил ее.
– Да ниспошлет тебе Аллах столько счастливых лет, сколько капель в этом сосуде, – сказал Али, возвращая кружку.
– Славный малыш, – прошептал Бруно, – скорее поправляйся, а когда поправишься, вернешься к себе в Африку.
Мальчик поправился, но остался в Сицилии: он так полюбил Бруно, что не хотел с ним расставаться. С тех пор они были неразлучны. Али ходил с Бруно на охоту в горы, помогал ему управлять лодкой на море и готов был отдать жизнь по знаку названного отца.
Конечно, это Али сопровождал Бруно на виллу князя де Карини. Это он ждал его под окнами Джеммы и это он дважды подал сигнал о грозящей опасности – первый раз, когда князь появился у калитки, и второй, когда тот вошел в замок. Мальчик уже хотел было подняться в комнату Джеммы, чтобы помочь отцу, но тут Бруно выпрыгнул из окна. Али побежал за ним. Они добрались до берега, сели в ожидавшую их лодку, и, так как ночью нельзя было выйти в море, не возбудив подозрения, посчитали за лучшее смешаться с рыбачьими лодками, ожидавшими рассвета в порту. Этой ночью Али так же заботливо ухаживал за Паскуале, как тот ухаживал когда-то за ним. Князь де Карини не промахнулся – пуля, которую он напрасно искал в обивке стен, застряла в плече Бруно, и Али пришлось сделать лишь небольшой надрез острым, как бритва ятаганом, чтобы вынуть ее с противоположной входу стороны. Все это произошло почти без участия Бруно: он словно не думал о своей ране и только время от времени смачивал ее, как мы уже говорили, морской водой, пока мальчик для отвода глаз чинил сети.
– Отец, – вдруг прошептал Али, прерывая свое занятие, – взгляни-ка на берег!
– Что там такое?
– Толпа народа.
– Где?
– На дороге в церковь.
В самом деле, многолюдная вереница шла по извилистой дороге, что ведет на вершину святой горы. Бруно разглядел свадебное шествие, направляющееся в церковь святой Розалии.
– Правь к берегу и греби что есть мочи! – воскликнул он, вскочив на ноги.
Мальчик повиновался, и маленькая лодка полетела, словно на крыльях, по морским волнам. Чем ближе подходили они к берегу, тем свирепее становилось лицо Паскуале. Когда же оставалось проплыть каких-то полмили, он воскликнул в неописуемом отчаянии:
– Это Тереза! Они поторопились со свадьбой, не захотели ждать воскресенья, побоялись, как бы я не похитил ее!.. Бог свидетель, я сделал все, что мог! Я хотел, чтобы все кончилось хорошо… Они не захотели. Так горе им!
После этих слов Бруно с помощью Али поднял парус, и лодка, обогнув гору Пеллегрино, скрылась два часа спустя за мысом Галло.
IV
Паскуале не ошибся. Графиня действительно ждала любого безумства с его стороны и велела приблизить на три дня бракосочетание Терезы, утаив от девушки свою встречу с ее любовником. Сами же будущие супруги из чувства глубокого благоговения выбрали для обряда церковь святой Розалии, покровительницы Палермо.
То, что Палермо отдал себя под покровительство молодой и красивой святой, является одной из ярких черт города, где все дышит любовью. Подобно тому как Неаполь чтит святого Януария, Палермо чтит святую Розалию, видя в ней всемогущую носительницу небесной благодати. Но у этой святой имеется немалое преимущество перед святым Януарием: она француженка королевской крови и прямой потомок Карла Великого[107], как об этом свидетельствует ее генеалогическое древо, изображенное над внешним порталом церкви. Древо сие произрастает из груди победителя Видукинда и делится на несколько побегов, которые соединяются у его вершины, символизируя рождение Синебалдо, отца святой Розалии. Ни знатность, ни богатство, ни красота не тешили юную принцессу. Ее привлекала жизнь созерцательная, и от того в возрасте восемнадцати лет она покинула двор короля Рожера и исчезла, точно в воду канула. Нашли ее только после смерти, прекрасную, как при жизни, будто спящую, в той самой пещере, где она жила, и в том положении, в котором навеки почила безгрешным и целомудренным сном божьих избранников.
Пещера эта расположена на склоне бывшей горы Эвита, что стала известна в эпоху Пунических войн своей неприступностью, чем умело пользовались карфагеняне, однако в нынешнее время гора, овеянная воинской доблестью, обрела новое имя. Ее бесплодная вершина была освящена церковью и стала называться Паллегрино. Слово это имеет двойное значение – гора Благодати или гора Паломника. В 1624 году в Палермо разразилась эпидемия чумы, и жители обратились за помощью к святой Розалии. Ее чудотворное тело было вынуто из пещеры и с большой торжественностью перенесено в собор города. Едва святые останки коснулись порога этого полухристианского, полуарабского храма, как Иисус Христос, по заступничеству святой, избавил город не только от чумы, но также от войны и голода, если верить барельефу, высеченному Вилла-Реале, учеником Кановы. Благодарные жители Палермо превратили пещеру святой Розалии в церковь и провели к ней превосходную дорогу. Хотя некоторые и поныне считают, что постройка этой дороги восходит к тем временам, когда римляне перебрасывали между горами мосты и акведуки, становившиеся гранитной подписью метрополии. Наконец тело святой Розалии было заменено в том самом месте, где его нашли, мраморной статуей в венке из роз, которой скульптор придал позу, в какой почила святая. Это произведение искусства было богато украшено самим королем. Карл III Бурбонский пожертвовал покровительнице Палермо платье из золотой ткани стоимостью в пять тысяч франков, алмазное ожерелье и великолепные кольца. Кроме того, пожелав присовокупить к этим светским дарам поистине рыцарские почести, пожаловал ей большой мальтийский крест на золотой цепочке и орден Марии-Терезии – звезду, окруженную лавровыми венками с девизом Fortitudini[108].
Сама же пещера святой Розалии представляет собой углубление, образовавшееся в основной породе и в покрывающих ее пластах известняка. Со сводов ее свисают блестящие сталактиты. Слева от входа расположен алтарь, у подножия которого закреплена лежащая статуя святой, отчетливо различимая сквозь золотую решетку, а за алтарем бьет родник, утолявший некогда жажду отшельницы. К этой церкви, созданной самой природой, ведет портик длиной в три или четыре фута с увитыми гирляндами плюща стенами. Из портика солнечные лучи проникают в пещеру, словно разделяя световой завесой священника и молящихся.
В этой церкви и были обвенчаны Тереза и Гаэтано.
По окончании службы свадебное шествие спустилось в Палермо, где гостей ждали экипажи, чтобы отвезти их в деревню Карини, ленное владение князя Родольфо. По распоряжению графини там приглашенных ожидало богатое пиршество, на которое были званы все окрестные жители: гости собрались даже из деревень, лежащих на расстоянии двух-трех миль от Карини, – Монреаля, Капачи и Фавоты. Среди молодых крестьянок, постаравшихся нарядиться поярче, выделялись девушки из Пьяна де Гречи, свято сберегшие свой мораитский костюм. Ведь им завещали костюм этот предки, в свою очередь, получившие его от прадедов, которые тысячу двести лет назад покинули родной край ради новой родины.
Столы накрыли на эспланаде под сенью каменных дубов и сосен. Апельсиновые и лимонные деревья вкупе с изгородью из гранатников и индийских смоковниц дарили благоухание. К эспланаде вела дорога, обсаженная алоэ, чьи огромные цветы кажутся издали пиками арабских всадников, а стебли содержат волокна, более прочные и блестящие, нежели волокна льна и конопли. С юга над эспланадой высился дворец, а за ним упиралась в небо горная цепь, та самая, что делит остров на три части. На западе, севере и востоке взору трижды являлось волшебное море Сицилии: его можно принять за три различных моря благодаря своеобразной окраске каждого из них – в самом деле, из-за волшебной игры света, какую дарило заходящее солнце, море за Палермо казалось небесно-голубым, возле острова Женщин – серебряным, а о скалы Сен-Вито разбивались волны цвета жидкого золота.
Когда свадебное веселье было уже в полном разгаре, двери дворца отворились, и, под руку с князем, предшествуемая двумя лакеями с факелами в руках и сопровождаемая толпою слуг, по мраморной лестнице на эспланаду спустилась Джемма. Крестьяне хотели было встать, но князь дал знак, позволявший не беспокоиться. Они с Джеммой обошли все застолье и остановились за спиной молодоженов. Слуга принес золотой бокал, Гаэтано налил сиракузского вина, слуга подал бокал Джемме. Та пожелала новобрачным счастья, пригубила вино и передала бокал князю, который, осушив его, высыпал в пустой бокал целый кошелек унций[109] и велел вручить его Терезе – его свадебный подарок. В тот же миг раздались крики: «Да здравствует князь де Карини! Да здравствует графиня де Кастель-Нуово!», как по мановению волшебной палочки, по всей эспланаде зажглись огни, и знатные гости удалились, как мелькнувшее сказочное видение, оставившее после себя свет и радость.
Едва они удалились в замок, как послышались первые такты музыки: молодежь встала из-за стола и поспешила на площадку, приготовленную для танцев. По обычаю Гаэтано со своей молодой женой должен был открыть бал. Он уже собрался подойти к Терезе, но тут на дороге, обсаженной алоэ, появился новый гость – это был Паскуале Бруно в том же калабрийском костюме, который мы уже описали. Однако нынче из-за пояса торчали пистолеты и кинжал, а куртка, накинутая на правое плечо, как гусарский ментик, позволяла видеть окровавленный рукав рубашки. Первая заметила Паскуале Тереза: она вскрикнула, словно увидела привидение, и застыла на месте бледная, трепещущая. Толпа гостей замерла, неподвижная, безгласная, чувствуя, что надвигается нечто страшное. Паскуале Бруно подошел прямо к Терезе и, скрестив руки, пристально взглянул на нее.
– Это вы, Паскуале? – прошептала Тереза.
– Да, это я, – хрипло ответил Бруно. – В Баузо, где напрасно ждал вас, я узнал, что вы собираетесь выйти замуж в Карини. Надеюсь, я успел к мигу, когда смогу сплясать с вами первую тарантеллу.
– Это право принадлежит мужу, – прервал его Гаэтано, подходя к Паскуале.
– Нет, возлюбленному, – возразил он.
– Тереза – моя жена! – воскликнул Гаэтано, протягивая к ней руку.
– Тереза – моя возлюбленная, – сказал Паскуале, властно сжимая девичьи пальцы.
– Помогите! – закричала Тереза.
Гаэтано схватил Паскуале за ворот рубашки, но тут же с криком рухнул на землю: кинжал Паскуале вошел в его грудь по самую рукоятку. Мужчины бросились было к убийце, но тот, ни на миг не потеряв самообладания, вытащил из-за пояса пистолет и зарядил его, тем же пистолетом сделал знак музыкантам, чтобы те начали играть. Они машинально повиновались, никто из гостей не вмешался.
– Ну же, Тереза! – сказал Бруно.
В Терезе не осталось уже ничего человеческого, она походила на куклу, которую за веревочки страха дергает кукловод. Она повиновалась, и ужасный танец возле еще не остывшего тела длился до последнего такта. Наконец музыка умолкла, и Тереза упала без чувств на тело Гаэтано – казалось, только звуки оркестра поддерживали ее до сих пор.
– Благодарю, Тереза, – сказал Паскуале, холодно взглянув на девушку. – Больше мне от тебя ничего не нужно. Если кто-нибудь из присутствующих желает узнать мое имя – я Паскуале Бруно. И готов встретиться с любым из вас в месте, которое тот укажет.
– Сын Антонио Бруно, чья голова заточена в железную клетку во дворце Баузо? – раздался чей-то голос.
– Он самый, – ответил Паскуале. – Если желаете еще раз взглянуть на рекомую голову, поторопитесь. Клянусь богом, вскоре вы ее там не увидите!
С этими словами Паскуале исчез в темноте, никто не решился последовать за ним. Ведомые то ли страхом, то ли жалостью, гости занялись Гаэтано и Терезой.
Он был мертв, она сошла с ума.
В воскресенье, через неделю после описанных событий, в Баузо гремел праздник: деревня веселилась, в кабачках вино текло рекой, на перекрестках горели потешные огни, улицы, украшенные флагами, кипели народом. Особенно оживленно было на дороге к замку – люди собрались, чтобы посмотреть на состязание деревенских стрелков. Эту забаву усиленно поощрял король Фердинанд Четвертый во время своего вынужденного пребывания в Сицилии. Многие из тех парней, что упражнялись теперь в меткости, еще недавно могли проявить свое искусство, стреляя вместе с кардиналом Руффо по неаполитанским патриотам и французским республиканцам, однако теперь мишенью стала обычная игральная карта, а призом – стаканчик из серебра. Мишень поместили под железной клеткой с головой Антонио Бруно. До этой клетки можно было добраться только по внутренней лестнице замка, проходившей мимо окна, за которым клетка была вмурована в стену.
Условия состязаний были совсем простыми: желающему принять участие следовало внести в общий фонд – он предназначался для оплаты серебряного стаканчика – скромную сумму в два карлина за каждый предполагаемый выстрел и получить номер, указывающий его место в состязании. Неумелые стрелки оплачивали десять, дюжину и даже четырнадцать выстрелов, те же, кто был уверен в себе, – пять или шесть. Среди множества протянутых рук чья-то сильная рука подала два карлина, и смутный шум большого скопления народа почти скрыл громкий голос, потребовавший только одну пулю. Окружающие обернулись в сторону говорившего, удивленные кто скудостью платы, кто самомнением стрелка. Человеком, оплатившим этот единственный выстрел, был Паскуале Бруно.
Последние четыре года Паскуале ни разу не появлялся в деревне. Многие узнали его, но никто с ним не заговорил. Он слыл искуснейшим стрелком в округе, и теперь стало понятно, отчего он взял всего одну полю, пулю под одиннадцатым номером.
Состязание началось. Выстрелы вызывали либо смех, либо крики одобрения – однако запас пуль постепенно истощался, и вместе с ним стал понемногу затихать шум. Паскуале, опершись на свой английский карабин, стоял, погрузившись в задумчивость. Казалось, он остается безучастен и к восторгам, и к зубоскальству односельчан, наконец пришла его очередь. Услышав свое имя, он вздрогнул и поднял голову, словно не ждал, что его вызовут, однако быстро опомнился и занял место у натянутой веревки, что заменяла барьер. Зрители следили за ним с тревогой и любопытством: никто еще не вызвал такого интереса и никого еще не сопровождала такая напряженная тишина. Паскуале, должно быть, и сам сознавал важность выстрела, который ему предстояло сделать: он выпрямился, левой ногой шагнул вперед и, перенеся всю тяжесть тела на правую, приложил карабин к плечу. Взяв низ стены за исходную линию, медленно поднял ствол ружья. Каково же было удивление зрителей, не спускавших глаз с Паскуале, когда они увидели, что он, миновав мишень, целится в железную клетку. Стрелок и карабин на мгновение застыли, словно были изваяны из одного камня, наконец раздался выстрел, и череп, выбитый из железной клетки[110], упал к подножию стены. Дрожь пробежала по толпе, встретившей гробовым молчанием это чудо меткости.
Паскуале поднял череп отца и, ни разу не обернувшись, не сказав ни слова, зашагал по тропинке.
V
После описанных событий прошел год. По всей Сицилии, от Мессины до Палермо, от Чефалу до мыса Пассаро, все громче раздавались слухи о подвигах разбойника Паскуале Бруно. В странах, подобных Испании и Италии, где общество не дает подняться тем, кто рожден внизу, где душе, чтобы возвыситься, порой недостает крыльев, недюжинный ум оборачивается бедой для человека низкого происхождения. Этот человек пытается вырваться из общественных и моральных рамок, какими судьба ограничила его жизнь. Он преодолевает бесчисленные препятствия, неудержимо стремится к цели, постоянно видит источник света, которого ему не суждено достигнуть, и, начав путь с надеждой, заканчивает его с проклятием на устах. Он восстает против общества, которое Бог разделил на две столь несхожие части – одну для счастья, другую для страдания, он возмущен несправедливостью и сам возводит себя в ранг защитника слабых и врага сильных. Вот почему и испанский, да и итальянский бандит окружены ореолом поэзии и народной любовью: почти всегда он сбился с пути из-за несправедливости, что, не скрываясь, ворвалась в его жизнь, а нынче он своим кинжалом и карабином старается восстановить предопределенный порядок вещей, который нарушают лишь человеческие законы.
Неудивительно, что с таким прошлым за плечами, с присущей склонностью к риску и с редкостной силой и ловкостью Паскуале Бруно вскоре стал играть странную роль, которая, однако, пришлась ему по душе, – роль высшего судьи, если можно так выразиться. В Сицилии, и особенно в Баузо и его окрестностях, не совершалось ни одного беззаконного акта, который избежал бы его суда. Приговоры Паскуале почти всегда поражали людей богатых и сильных – неудивительно поэтому, что все обездоленные горой стояли за него. Когда некий синьор требовал непомерной аренды со своего бедняка фермера, когда корыстолюбие родителей мешало браку влюбленных, когда несправедливый приговор угрожал невиновному, шли к Бруно. Он, узнав об этом, брал карабин, отвязывал четырех корсиканских псов, единственных своих помощников, вскакивал на арабского скакуна, родившегося, как и он, в горах, выезжал из небольшой крепости Кастель-Нуово, своей резиденции, и представал перед синьором, строгим отцом или неправедным судьей. В тот же миг арендная плата снижалась, влюбленные вступали в брак, а арестованный получал свободу. Естественно, что люди, облагодетельствованные Паскуале Бруно, платили ему неограниченной преданностью. Напротив же, меры, какие предпринимались против него ни к чему не приводили – благодарные и бдительные крестьяне тут же предупреждали его о грозящей опасности.
Вскоре из уст в уста стали передаваться странные рассказы, ведь чем примитивнее человек, тем больше он верит в чудеса. Как-то раз, рассказывали, в бурную ночь, когда весь остров содрогался от ударов грома, Паскуале Бруно заключил договор с ведьмой и в обмен на свою душу приобрел три необыкновенных дара: становиться невидимым, мгновенно переноситься с одного края острова на другой и не страшиться ни пули, ни кинжала, ни огня. Договор этот, утверждала молва, заключен был на три года. Якобы Паскуале Бруно подписал его лишь для того, чтобы завершить дело мести, для которого и трех лет, как ему казалось, будет многовато. Сам Бруно этих домыслов не опровергал, понимая, что они ему на руку. Более того, он всеми силами старался придать им видимость правдоподобия. Благодаря связям с многими и многими людьми Паскуале узнавал такие подробности, о которых, казалось, не должна знать ни одна живая душа, – и это тоже подтверждало, что он иной раз и всегда по собственному желанию превращается в невидимку. Он оказывался за одну ночь на огромном расстоянии от места, где его видели накануне благодаря резвости любимого коня – но это убеждало людей в том, что расстояния для него не преграда. Кроме того, каждым случаем подтвердить свои мифические умения Паскуале пользовался с редким умением. Как тут не вспомнить такой случай.
Убийство Гаэтано наделало много шума, и князь де Карини приказал командирам своих отрядов как можно скорее поймать преступника, который своей безрассудной смелостью указывал на подлый характер действий тех, кто за ним охотится. Командиры передали этот приказ деревенским старостам. Как-то утром те предупредили судью в Спадафоре, что Паскуале Бруно минувшей ночью проехал через его селение, направляясь к Дивьето. Судья велел солдатам поджидать Паскуале у дороги, полагая, что он вернется тем же путем и, по всей вероятности, воспользуется темнотой.
Утром третьего дня – наступило воскресенье – солдаты, утомленные двумя бесплодно проведенными и бессонными ночами, собрались на постоялом дворе, шагах в двадцати от дороги. Они только успели усесться за стол, когда им сообщили, что Паскуале Бруно спускается по склону горы со стороны Дивьето. Времени устраивать засаду не было, и солдаты остались там, где были, когда же Паскуале приблизился к ним шагов на пятьдесят, они вышли и построились в боевом порядке перед дверью кабачка, всем своим видом показывая, что не обращают ни малейшего внимания на приближающегося всадника. Бруно заметил эти эволюции, но они, как показалось, его нисколько не побеспокоили. Вместо того чтобы повернуть обратно – сделать это было в ту минуту легче легкого, – он галопом продолжал свой путь. Солдаты взяли ружья наизготовку и, когда он проезжал мимо, встретили его оглушительным залпом, однако ни конь, ни всадник не пострадали. Солдаты недоуменно переглянулись и отправились к судье, поведать о случившемся. В тот же вечер слухи об этих странных выстрелах достигли Баузо, где люди, наделенные пылким воображением, решили, что тело Бруно заколдовано и что свинец сплющивается, а сталь тупится, едва коснется его. На следующий же день эти слухи получили весомые доказательства: у двери судьи, была найдена куртка Паскуале Бруно с тринадцатью дырами, а в карманах этой куртки лежали тринадцать пуль, и все они были сплющены. Более свободомыслящие люди, к примеру, нотариус из Кальварузо, Чезаре Алетто – от него стали известны эти подробности, – утверждали, что бандит, чудом избегший смерти, решил извлечь пользу из происшествия. Якобы он повесил куртку на дерево и сам всадил в нее все тринадцать пуль. Однако большинство продолжало верить, что тут не обошлось без колдовства, а страх, внушаемый одним именем Паскуале, многократно усилился. Этот страх был так велик, что из деревни он с быстротой молнии распространился на город.
За несколько месяцев до описываемых событий он обратился к князю де Бутера: просил его дать взаймы двести золотых унций для одного из своих добрых дел (речь шла о том, чтобы отстроить сожженный постоялый двор). Деньги нужно было отнести в уединенное место в горах и спрятать их там, чтобы на следующую ночь, Паскуале мог лично забрать их. В случае пренебрежения этой просьбой, которая более напоминала приказ, Бруно грозил открытой войной между ним, королем гор, и князем де Бутера, властителем долины. Если, напротив, князь будет настолько любезен, что не откажет Паскуале, все двести золотых унций будут ему возвращены сполна, как только удастся изъять эти деньги из королевской казны.
Князь де Бутера был одним из людей, которых в нынешнем обществе уже нет – последний представитель старого сицилийского дворянства, отважного и рыцарски благородного, как те норманны, что основали в Сицилии свое государство и провозгласили свою хартию. Его звали Геркулесом, и, казалось, он был рожден и воспитан по образцу именно этого античного героя. Он мог убить ударом кулака норовистую лошадь, сломать о собственное колено железный прут в полдюйма толщиной и свернуть трубочкой серебряный пиастр. А после одного события, во время которого князь де Бутера проявил редкое хладнокровие, он стал кумиром всего Палермо.
В 1770 году в городе из-за нехватки хлеба вспыхнуло восстание, правительство прибегло к ultima ratio[111], поставив на Толедской улице пушку. Народ двинулся против этой пушки, и артиллерист с фитилем в руке приготовился стрелять в народ, но в этот миг князь де Бутера уселся на ствол орудия, словно это было кресло, и произнес столь пламенную и убедительную речь, что люди тут же разошлись, а артиллерист, фитиль и пушка вернулись в арсенал, ничем себя не запятнав. Но народной любовью князь был вознагражден не только благодаря этому случаю.
Каждое утро он прогуливался по эспланаде своего парка, стоявшей над площадью Морского министерства. Так как ворота его поместья открывались для всех желающих с восходом солнца, он ежедневно встречал по пути множество бедняков. На эту утреннюю прогулку князь надевал просторную замшевую куртку с огромными карманами, набитыми золотыми и серебряными карлинами, которые он тут же раздавал все без остатка, сопровождая свои благодеяния одному ему присущими словами и жестами. Казалось, он готов был лишить жизни всех тех, кого собирался осчастливить.
Вот некоторые из его деяний.
Ваше сиятельство – говорила бедная женщина, окруженная многочисленными отпрысками, – сжальтесь над несчастной матерью, ведь у меня пятеро маленьких детей.
– Ну и что ж из этого? – гневно восклицал князь. – Разве я тебе их сделал?
И, угрожающе подняв руку, он бросал в фартук просительницы пригоршню монет.
– Господин князь, – обращался к нему какой-нибудь горемыка, – я голоден.
– Болван! – кричал князь, опуская на него свой увесистый кулак. – Не я же пеку хлеб! Проваливай к булочнику!
Зато после этого удара бедняк бывал сыт целую неделю[112].
Недаром, когда князь проходил по улицам, все прохожие обнажали головы, как это случалось при появлении на парижском рынке господина де Бофора, но, в отличие от главаря Фронды, сицилийский князь пользовался такой властью, что стоило ему сказать одно слово, и он стал бы королем Сицилии. К счастью, эта мысль даже не приходила ему в голову, и он оставался князем де Бутера, что, право, было даже более почетно.
Щедрость князя, однако, была не по нраву в самом его дворце, и более всего князя осуждал его мажордом. Нетрудно представить, что человек, характер которого мы попытались здесь обрисовать, с особым размахом проявлял свое гостеприимство и не сдерживал своей склонности к роскоши и великолепию во время своих знаменитых обедов. Судите сами: двери его дома бывали широко открыты, и каждый день за стол вместе с ним садилось не менее двадцати пяти – тридцати гостей, среди которых семь-восемь совершенно ему незнакомых, иные же, напротив, являлись к обеду с исправностью завсегдатаев.
В числе этих усердных и постоянных гостей был и некий капитан Альтавилла, получивший сей немалый чин за то, что сопровождал капитана Руффо из Палермо в Неаполь, и вернувшийся из Неаполя в Палермо с пенсией в тысячу дукатов. К несчастью, капитан любил азартные игры. Из-за этого пристрастия пенсии не хватило бы ему на жизнь, если бы он не нашел двух способов, усердно используя которые сделал трехмесячное содержание, получаемое им от казны, наименее значительной частью своих доходов. Первым способом, уже упомянутым и доступным, стали ежедневные обеды у князя. Второй же способ был несколько сложнее и заключался в том, что, вставая из-за стола, капитан всякий раз клал себе в карман поданный ему серебряный прибор. Некоторое время все шло гладко, это ежедневное присвоение чужого добра никем замечено не было. Но как бы ни был богат буфет князя и сколь бы быстро не восполнялись потери, в нем все же стали ощущаться недостачи, и подозрения мажордома тотчас же пали на сантафеда[113]. Он стал следить за капитаном, и через два-три дня его подозрения превратились в уверенность. Мажордом тотчас же предупредил князя, который, подумав немного, ответил, что до тех пор, пока капитан берет только поставленный ему прибор, возражать против этого нет необходимости. Однако хуже будет, если он положит в карман приборы своих соседей – вот тогда придется что-либо предпринять. К тому же, капитан Альтавилла оставался наиболее усердным посетителем его светлости князя Геркулеса де Бутера.
Послание Бруно застало князя на его вилле в Кастро-Джованни. Пробежав письмо, он спросил, не ждет ли кто-нибудь ответа. Когда выяснилось, что человек, принесший его, уже ушел, он положил письмо в карман с таким хладнокровием, словно то была обычная записка. Настала ночь, назначенная в письме Бруно, место, которое он указал, находилось на южном склоне Этны, возле одного из многочисленных жерл потухшего вулкана, что обязаны своей однодневной вспышкой вечно горящему пламени, которое, вырвавшись из земных недр, может уничтожить целые города. Вулкан именовался Монте-Бальдо – каждая из этих грозных вершин получала особое название при своем возникновении из земли. В десяти минутах пути от его подножия высилось огромное одинокое дерево, прозванное Каштаном ста коней. Считалось, что возле его ствола, имеющего в окружности сто семьдесят восемь футов, и под сенью его листвы, подобной целому лесу, может найти приют сто всадников вместе с лошадьми. В корнях этого дерева и велел Паскуале спрятать затребованные им деньги. Он вышел часов в одиннадцать из Сенторби и около полуночи разглядел при свете луны гигантское дерево и сарайчик, устроенный между его стволами для хранения богатого урожая собираемых каштанов. Чем ближе подходил Бруно, тем яснее рисовалась чья-то тень. Похоже было, что какой-то человек прислонился к одному из пяти стволов каштана. Вскоре эта тень приобрела более четкие очертания, бандит остановился и, заряжая карабин, крикнул:
– Кто здесь?
– Человек, черт возьми! – ответил чей-то громкий голос. – Неужто ты полагал, что деньги придут без посторонней помощи?
– Нет, конечно, – усмехнулся во тьму Бруно, – но я никогда бы не подумал, что посланец отважится дожидаться меня.
– Глупец, ты недооценил князя Геркулеса де Бутера. И в этом все дело.
– Так это вы, мой господин? – спросил Бруно, вскидывая карабин на плечо и со шляпой в руке подходя к князю.
– Я собственной персоной, бездельник! Я подумал, что и бандит может нуждаться в деньгах, как и все прочие смертные, и пожелал не отказать в помощи даже бандиту. Но мне взбрело в голову лично привезти ему деньги, чтобы он не подумал, будто я оказываю ему эту услугу лишь из страха.
– Ваша светлость достойны своей громкой славы, – сказал Бруно.
– А ты? Достоин ли ты своей славы? – осведомился князь.
– Все зависит от того, что вы слышали обо мне, господин, про меня ведь разное говорят.
– Вижу, – продолжал князь, – что ни сообразительности, ни отваги тебе не занимать: люблю храбрецов, где бы они ни встречались и кем бы ни были. Послушай, хочешь сменить свой калабрийский костюм на мундир капитана и повоевать с французами? Обещаю набрать для тебя солдат в моих владениях и купить тебе офицерский чин.
– Спасибо, господин, спасибо, такое предложение мог сделать только настоящий вельможа, но меня удерживает в Сицилии кровная месть. И до тех пор, пока это дело я не слажу, ответа я вам не дам.
– Да будет так, – сказал князь, – ты свободен. Но, поверь, тебе следовало бы согласиться.
– Не могу, ваша светлость.
– Ну, раз так, вот кошелек, который ты у меня просил. Убирайся ко всем чертям вместе с ним и постарайся, чтобы тебя не повесили против двери моего дома[114].
Бруно взвесил на руке кошелек.
– Кошелек что-то слишком тяжел, господин.
– Конечно. Мне не хотелось, чтобы наглец вроде тебя похвалялся, будто он назначил границы щедрот князя де Бутера. Вместо двухсот унций, о которых ты просил, я положил в него триста.
– Какую бы сумму вы ни соблаговолили принести, господин, деньги будут вам возвращены сполна.
– Деньги я дарю, а не ссужаю, – проговорил князь.
– А я беру их взаймы или краду, милостыни мне не надо, – отвечал Бруно. – Возьмите обратно свой кошелек, господин. Уж лучше я обращусь к князю де Вентимилле или к князю де Каттолика.
– Будь по-твоему, – сказал князь. – В жизни не видел такого привередливого бандита. Бездельник вроде тебя может меня с ума свести, и я удаляюсь, дабы остаться при своем рассудке. Прощай!
– Прощайте, господин, и да хранит вас святая Розалия!
Князь удалился, опустив руки в карманы замшевой куртки и насвистывая свой любимый мотив. Бруно смотрел ему вслед, и только когда князь скрылся из виду, он, в свою очередь, спустился с горы, тяжело вздохнув.
На следующий день хозяин сожженного постоялого двора получил из рук Али триста унций князя де Бутера.
VI
Вскоре после описанного нами разговора Бруно узнал, что повозка с ценным грузом должна выехать из Мессины в Палермо. Ее охранять поручено четверым жандармам во главе с бригадиром. То был выкуп князя де Монкада-Патерно, но благодаря хитрости, делавшей честь финансовому гению Фердинанда Четвертого, выкуп должен был увеличить неаполитанский бюджет, а не обогатить казну неверных. Впрочем, вот эта история в том виде, в каком я ее услышал, – она столь же занятна, сколь и достоверна. Уместно будет рассказать ее читателям, к тому же она даст представление о том, с каким простодушием подчас взимались налоги в Сицилии.
В начале этого повествования уже упоминалось, что князь де Монкада-Патерно был взят в плен берберскими корсарами возле деревни Фугалло по возвращении из Пантеллерии. Князя отвезли вместе со свитой в Алжир, где он согласился уплатить за себя самого и своих людей пятьсот тысяч пиастров (или два с половиной миллиона французских франков): половина этого выкупа подлежала оплате до его отъезда, а половина после того, как он вернется в Сицилию. Князь написал своему управляющему, чтобы уведомить его о случившемся и потребовать скорейшей высылки двухсот пятидесяти тысяч пиастров – цены его свободы. Так как князь де Монкадо-Патерно был одним из богатейших вельмож Сицилии, потребная сумма была без труда найдена и срочно отослана в Африку. Как истый последователь пророка алжирский дей выполнил свое обещание и тут же отпустил князя, взяв с того слово выслать в течение года оставшиеся двести пятьдесят тысяч. Князь вернулся в Сицилию. Он усердно собирал деньги для последнего взноса, когда в дело вмешался Фердинанд Четвертый, менее всего желавший, чтобы во время войны с Францией его подданные обогащали врагов Сицилии, и приказал внести рекомые двести пятьдесят тысяч пиастров в мессинскую казну. Князь де Патерно был одновременно человеком чести и законопослушным подданным: он подчинился приказу короля и послушался голоса совести. Понятно, что выкуп обошелся ему в семьсот пятьдесят тысяч пиастров, две трети которых были посланы корсару-мусульманину, а треть передана в Мессину в собственные руки де Карини, доверенного лица пирата-христианина. Вот эту сумму и решил послать вице-король в Палермо, резиденцию правительства, под охраной четырех жандармов и одного бригадира. Последнему было поручено, кроме денег для короля, передать письмо от князя де Карини его возлюбленной Джемме с просьбой отправиться в Мессину, где вице-короля удерживают дела государственной важности.
Вечером того дня, когда повозка с ценным грузом должна была миновать Баузо, Бруно отвязал своих четырех корсиканских псов, вышел с ними из деревни, где был признанным повелителем и хозяином, и устроил засаду у дороги между Дивьето и Спадафорой. Его ожидание длилось уже около часа, когда послышался топот всадников и стук колес. Паскуале проверил, в порядке ли карабин, убедился, что стилет мягко ходит в ножнах, свистнул собак, которые тут же прибежали и легли у его ног, и встал посреди дороги. Через несколько минут из-за поворота выехала повозка под охраной жандармов. Когда до незнакомца посреди дороги оставалось шагов пятьдесят, жандармы, заметив его, крикнули:
– Кто здесь?
– Паскуале Бруно, – ответил бандит.
По особому свистку хозяина замечательно выдрессированные псы поняли, что от них требуется, бросились навстречу маленькому отряду. От одного имени Паскуале четверо жандармов убежали: собаки, конечно, погнались за ними. Бригадир, оставшись один, выхватил из ножен саблю и направил коня прямо на бандита.
Паскуале приложил карабин к плечу и стал целиться так медленно и хладнокровно, будто стрелял по мишени: он решил выпустить заряд только тогда, когда всадник окажется от него шагах в десяти, но не успел он спустить курок, как лошадь с седоком рухнули на землю. Оказалось, что Али незаметно последовал за Бруно и, увидев, что бригадир собирается напасть, по-змеиному подполз к лошади врага и ятаганом перерезал ее коленные сухожилия. Всадник не успел опомниться, как его конь быстро и неожиданно упал, бригадир ударился головой о землю и лишился чувств.
Убедившись, что опасность миновала, Паскуале подошел к бригадиру. С помощью Али он перенес его в повозку, которую всего минуту назад тот пытался защищать, и, передав вожжи юному арабу, велел ему доставить и бригадира, и повозку в свою резиденцию. Сам же он направился к раненой лошади, отстегнул карабин, прикрепленный к седлу, вынул из седельных сумок бумаги, свернутые в трубку, свистнул собак, которые прибежали с окровавленными мордами, и отправился вслед за своей богатой добычей. Войдя во двор маленькой крепости, он запер за собой дверь, взвалил на плечи бесчувственное тело бригадира, внес его в комнату и положил на матрас, на котором любил отдыхать, не раздеваясь. Далее, то ли по рассеянности, то ли по неосторожности, он поставил в угол карабин бригадира и вышел из комнаты.
Пять минут спустя бригадир очнулся, осмотрелся, ничего не понял и, думая, что это сон, ощупал себя. Тут он почувствовал боль в голове, поднес руку ко лбу и, заметив на ней кровь, догадался, что ранен. Рана помогла ему собраться с мыслями – он вспомнил, что был арестован одним-единственным человеком, подло брошен подчиненными и что в ту самую минуту, когда он хотел расправиться с разбойником, лошадь под ним упала как подкошенная. После этого он уже ничего не помнил.
Бригадир был славный малый, он почувствовал всю тяжесть лежащей на нем ответственности, и сердце его сжалось от стыда и гнева. Внимательно оглядев комнату, он попытался уяснить себе, где находится, но окружающее было ему незнакомо. Он встал, подошел к окну и увидел, что оно выходит в поле. Теперь перед ним блеснул луч надежды: он решил вылезти из окна, сбегать за подмогой и расквитаться с бандитом. Он уже отворил окно, чтобы выполнить свое намерение, но, осмотревшись в последний раз, заметил карабин, стоявший неподалеку от изголовья покинутого им ложа. При виде оружия он почувствовал, что сердце бешено заколотилось у него в груди, теперь мысль о побеге сменилась другой мыслью. Он посмотрел, не подглядывает ли за ним кто-нибудь, и, убедившись, что никто его не видит и не может увидеть, поспешно схватил карабин, рискованное, но все же средство спасения, позволявшее ему немедля отомстить бандиту. Он открыл затвор, убедился, что порох насыпан, проверил шомполом, заряжен ли карабин, поставил его на прежнее место и снова лег, притворившись, будто еще пришел в себя. Едва он проделал все это, как вернулся Бруно. Он держал в руке горящую еловую ветку, которую бросил в очаг – тут же запылали сложенные там дрова, – затем открыл стенной шкаф, достал две тарелки, два стакана, две фляги вина и жареную баранью ногу, поставил все это на стол и, видимо, решил подождать, пока бригадир очнется, чтобы пригласить его на импровизированную трапезу.
Мы уже рассказывали о помещении, где происходила описываемая нами сцена: это была скорее длинная, чем широкая комната, с одним окном, с одной дверью и камином между ними. Бригадир, который служил теперь жандармским капитаном в Мессине, (он и описал нам все эти подробности) лежал неподалеку от окна, Бруно стоял перед камином, обратив невидящий взгляд на дверь, и, казалось, глубоко ушел в свои мысли.
Настала минута, которую ждал бригадир, решительная минута – теперь предстояло поставить на карту все, рискнуть головой, рискнуть жизнью. Бригадир приподнялся, оперся на левую руку и медленно протянул правую к карабину. Не спуская глаз с Бруно, он взял оружие между спусковой скобой и прикладом, потом на мгновение застыл, не решаясь пошевелиться, испуганный ударами собственного сердца, которые бандит наверняка услышал бы, если бы он не витал мысленно где-то очень далеко. Наконец, сообразив, что своими движениями выдает сам себя, бригадир постарался успокоиться, приподнялся, бросил последний взгляд на окно – единственный путь к отступлению, приставил карабин к плечу, тщательно прицелился, сознавая, что жизнь его зависит от этого выстрела, и спустил курок.
Бруно спокойно нагнулся, поднял что-то у своих ног, разглядел этот предмет на свету и повернулся лицом к бригадиру, потерявшему дар речи от изумления.
– Приятель, – сказал он ему, – когда вы вздумаете стрелять в меня, берите серебряные пули. Видите ли, все другие непременно сплющатся, как сплющилась вот эта. Впрочем, я рад, что вы очнулись. Я проголодался, и сейчас мы с вами поужинаем.
Бригадир застыл на месте, волосы стояли дыбом у него на голове, лоб был в поту. В ту же минуту дверь открылась и Али ворвался в комнату с ятаганом в руке.
– Все в порядке, мальчик, все в порядке, – сказал ему Бруно по-франкски, – бригадир разрядил свой карабин, только и всего. Ступай спать и не тревожься за меня.
Али вышел, ничего не ответив, и растянулся перед входной дверью на шкуре пантеры, которая служила ему постелью.
– Что же? Не слышали, что я вам сказал? – продолжал Бруно, обращаясь к бригадиру и наливая вино в оба стакана.
– Разумеется слышал, – проговорил бригадир, вставая, – и, раз я не сумел вас убить, я выпью с вами, будь вы хоть сам дьявол во плоти.
С этими словами он решительно подошел к столу, взял стакан, чокнулся с Бруно и залпом выпил вино.
– Как вас зовут? – спросил Бруно.
– Паоло Томмази, жандармский бригадир, к вашим услугам.
– Вот что, Паоло Томмази, – продолжал Паскуале, кладя руку ему на плечо, – вы храбрый малый, и я собираюсь кое-что обещать вам.
– Что именно?
– Вы можете в одиночку заработать три тысячи дукатов, обещанных за мою голову.
– Мысль недурна.
– Да, но ее надо зрело обдумать, – ответил Бруно. – А пока что – ведь жить мне еще не надоело – давайте-ка сядем к столу и все-таки поужинаем. О серьезных делах поговорим после.
– Вы позволите мне перекреститься перед ужином? – спросил Томмази.
– Разумеется, – ответил Бруно.
– Дело в том… Одним словом, я боюсь, как бы крестное знамение не обеспокоило вас. Всякое бывает.
– Нет, друг мой, не беспокойтесь. Это меня нисколько не обеспокоит.
Бригадир перекрестился, сел за стол и приступил к бараньей ноге, как приступает к еде человек, совесть которого вполне чиста, – несмотря на непростую и непонятную обстановку, он сделал все, что может сделать честный солдат. Бруно не отставал от него, и, видя, как эти два человека едят за одним столом, пьют из одной бутылки, опустошают одно и то же блюдо, никто не поверил бы, что всего какой-нибудь час назад они сделали все возможное, чтобы убить один другого.
Наступило недолгое молчание, вызванное отчасти важным занятием, которому предавались сотрапезники, отчасти думами, что не давали покоя им обоим. Паоло Томмази первый нарушил его, в надежде выразить мучившую его мысль.
– Приятель, – сказал он, – кормите вы на славу, что правда, то правда, да и вино у вас отменное, с этим нельзя не согласиться. К тому же угощаете вы как хлебосольный хозяин. Все это так… Но, признаться, я нашел бы угощение куда более вкусным, если бы знал, когда выберусь отсюда.
– Думается мне, что завтра утром.
– Разве я не ваш пленник?
– Пленник? Да на кой черт вы мне нужны?
– Гм… – пробормотал бригадир, – должно быть, дела мои не так уж плохи. Но, – продолжал он с отчетливо видимой тревогой, – это еще не все.
– Вас еще что-нибудь беспокоит?
– Беспокоит, да… – сказал бригадир, разглядывая лампу сквозь стекло стакана, – беспокоит… это довольно щекотливый вопрос.
– Говорите, я слушаю.
– Вы не рассердитесь?
– Мне кажется, вы имели возможность разглядеть уже мой характер.
– Вы не обидчивы, верно, и я в этом убедился. Итак, я хочу сказать, что на дороге есть, вернее был… что я не один был на дороге…
– Конечно, с вами были четверо жандармов.
– Да не о них толк. Я говорю о… некоем фургоне. Вот в чем загвоздка.
– Он во дворе, – ответил Бруно, в свою очередь разглядывая лампу сквозь стекло своего стакана.
– Догадываюсь, что он именно там, – сказал бригадир, – но, видите ли, я не могу покинуть вас один, без этого фургона.
– И поэтому вы уедете вместе с ним.
– И он окажется в целости и сохранности?
– Я бы так не сказал, приятель, – проговорил Бруно. – Однако недостача будет невелика… Невелика по сравнению с общей суммой, конечно. Я возьму лишь то, что мне крайне необходимо.
– Вы сильно стеснены в деньгах?
– Мне нужны всего триста унций.
– Что же, это разумно, – сказал бригадир, – очень многие на вашем месте были бы менее щепетильны, чем вы.
– И можете не сомневаться, я дам вам расписку.
– Да, по поводу расписки, – воскликнул бригадир, вставая. – У меня в седельных сумках были бумаги.
– Не беспокойтесь, – заметил Бруно, – вот они.
– О, спасибо, вы оказали мне огромную услугу.
– Понимаю, – проговорил Бруно, – я успел убедиться в их важности. Первая из них ваш диплом бригадира: я засвидетельствовал на нем, что вы доблестно вели себя и вас следовало бы произвести в унтер-офицеры. Вторая бумага содержит описание моей особы. Я позволил себе внести туда кое-какие исправления, так, например, в разделе особых примет прибавил слово incantato[115]. Наконец, третья бумага – письмо его светлости к графине Джемме де Кастель-Нуово. Я так признателен этой даме, ведь она отдала в мое распоряжение этот дворец, и не хочу мешать ее любовной переписке. Итак, вот ваши бумаги, любезный. Выпьем последний глоток за ваше здоровье и пожелаем друг другу спокойной ночи. Завтра, в пять утра, вы отправитесь в дорогу. Поверьте мне, путешествовать днем куда безопаснее, чем ночью. Со мной вам повезло, но ведь вы можете попасть и в другие руки.
– Должно быть, вы правы, – сказал Томмази, пряча бумаги. – Сдается мне, что вы гораздо честнее многих честных людей из моих знакомых.
– Весьма польщен. И рад, что у вас составилось обо мне столь лестное мнение, – это поможет вам спокойно уснуть. Кстати, хочу вас предупредить: не спускайтесь во двор, иначе мои псы растерзают вас.
– Благодарю за совет, – ответил бригадир.
– Спокойной ночи, – сказал Бруно.
Он вышел из комнаты, предоставив бригадиру либо продолжить трапезу, либо лечь спать.
Ровно в пять часов утра, как и было условлено, Бруно вошел в комнату своего гостя: тот уже встал и был готов к отъезду. Хозяин дома спустился вместе с ним по лестнице и проводил его до ворот. Бригадир увидел запряженную повозку и превосходную верховую лошадь в сбруе, перенесенной с коня, которого искалечил Али. Бруно попросил Томмази, которого назвал своим другом, принять от него на память этот подарок. Бригадир не заставил себя просить: он вскочил на коня, стегнул лошадей, впряженных в повозку, и уехал, явно восхищенный своим новым знакомым.
Бруно смотрел ему вслед: когда бригадир отъехал уже шагов на двадцать, он крикнул вдогонку:
– Главное, не забудьте передать прекрасной графине Джемме письмо князя де Карини.
Томмази утвердительно кивнул и скрылся за поворотом дороги. Теперь, если читатели спросят нас, почему Паскуале Бруно не был убит выстрелом из карабина Паоло Томмази, мы ответим им словами синьора Чезаре Алетто, нотариуса из Кальварузо:
– Думаю, что, подъезжая к своей резиденции, бандит из предосторожности разрядил карабин.
Что же касается Паоло Томмази, он всегда считал, что тут не обошлось без колдовства.
Мы передаем оба эти мнения на суд читателей и предоставляем им полную возможность выбрать из них то, которое придется им более по вкусу.
VII
Легко понять, что слухи об этих подвигах распространились за пределами области, подлежащей юрисдикции властей Баузо. По всей Сицилии только и разговоров было, что об отважном разбойнике, который захватил крепость Кастель-Нуово и, как орел, спускается оттуда в долину, чтобы нападать на знатных и богатых и защищать обездоленных и несчастных. Вот почему не было ничего удивительного в том, что имя нашего героя многократно упоминалось на костюмированном балу князя де Бутера, в его прекрасном дворце на площади Морского министерства.
Зная нрав князя, легко понять, сколь великолепны бывали такие празднества. Собственно, мы уже упоминали об этом. Но этот вечер превзошел все, о чем только можно было мечтать, – то была поистине воплощенная арабская сказка. Недаром воспоминание о нем поныне живо в Палермо, хотя Палермо и сам слывет городом чудес.
Представьте себе роскошные залы, стены которых снизу доверху увешаны зеркалами: из одних залов выходишь в обширные зеленые беседки с паркетным полом, с потолка которых свисают грозди превосходного сиракузского или липарского винограда. Другие же залы ведут на площадки, обсаженные апельсиновыми и гранатовыми деревьями в цвету или покрытых плодами. И беседки, и площадки предназначены для танцев: первые для английской жиги, вторые для французских контрдансов. Вальс же танцуют вокруг двух обширных мраморных бассейнов, в каждом из которых бьет восхитительный фонтан. От всех танцевальных площадок расходятся посыпанные золотом дорожки. Они ведут к небольшому возвышению, окруженному серебряными резервуарами со всевозможными напитками. Гости вкушают из них под сенью деревьев, усыпанных вместо настоящих плодов засахаренными фруктами. На вершине этого возвышения размещен крестообразный стол с тончайшими яствами, которые то и дело возобновляются при помощи хитроумного механизма. Музыканты невидимы: лишь звуки инструментов долетают до приглашенных – кажется, будто слух их услаждают воздушные феи.
Осталось оживить эту волшебную декорацию. Пусть же читатель вообразит на ее фоне очаровательных женщин и изысканнейших кавалеров колдовского Палермо, в костюмах, что великолепнее и причудливее один другого. Кто-то с маской на лице, кто-то с маской в руках. Все они вдыхают ароматный воздух, пьянеют от музыки невидимого оркестра, грезят или беседуют о любви. Как бы ни было прекрасно это видение, читатель, вообразивший это все же будет далек от той картины, что еще сохранилась в памяти стариков, которых я повстречал в Палермо, то есть через тридцать два года после описываемого нами вечера.
Среди групп приглашенных, прогуливающихся по аллеям и гостиным, особое внимание вызывала прекрасная Джемма в сопровождении свиты, которую она увлекла за собой, подобно тому как небесное светило увлекает свои спутники. Графиня только что появилась на балу в обществе пяти человек, одетых, как и она, в костюмы молодых женщин и вельмож, которые поют и веселятся на великолепной фреске живописца Орканья в пизанской Кампо-Санто в то время, как смерть стучится к ним в двери. Это одеяние тринадцатого века, одновременно наивное и изящное, казалось, было создано, чтобы подчеркнуть пленительную соразмерность фигуры графини, шествовавшей среди восторженного шепота под руку с самим князем де Бутера в костюме мандарина.
Он встретил графиню у парадного подъезда и теперь собирался представить ее, как он говорил, дочери китайского императора. Высказывая разные догадки насчет этой новой затеи, гости спешили вслед за ним, и процессия росла с каждым шагом. Князь остановился у входа в пагоду, охраняемую двумя китайскими солдатами, которые тут же открыли двери одного из покоев, обставленных в экзотическом вкусе, где сидела на возвышении княгиня де Бутера в китайском костюме, стоившем тридцать тысяч франков. Едва увидев графиню, она поднялась к ней навстречу, окруженная офицерами, мандаринами и обезьянами – персонажами, соревнующимися в блистательности, омерзительности или забавности. В этом зрелище было так много феерически восточного, что гости, пусть и привыкшие к блеску и роскоши, не могли сдержать выкрики удивления. Они окружили принцессу, трогали ее платье, украшенное драгоценными каменьями, раскачивали золотые колокольчики на ее остроконечной шляпе и, на минуту даже забыв о прекрасной Джемме, занялись исключительно хозяйкой дома. Все хвалили ее костюм, восхищались ею, и среди этого хора похвал и восторгов выделялся своим рвением капитан Альтавилла в парадном мундире. Князь подумал, что мундир свой капитан надел в качестве маскарадного костюма (заметим, что князь де Бутера продолжал кормить капитана обедами – к вящему отчаянию честного мажордома).
– А что вы скажете о дочери китайского императора, графиня? – спросил князь де Бутера графиню де Кастель-Нуово.
– Я скажу, – ответила Джемма, – что, к счастью для его величества Фердинанда Четвертого, князь де Карини находится в Мессине. Зная его характер, я полагаю, что за один взгляд принцессы он мог бы отдать ее отцу Сицилию, а это заставило бы всех нас прибегнуть к новой «Сицилийской вечерне»…
В эту минуту к принцессе подошел князь де Монкада-Патерно в костюме калабрийского разбойника.
– Разрешите мне как подлинному знатоку, ваше императорское высочество, рассмотреть поближе ваш великолепный костюм.
– Богоподобная дочь солнца, – проговорил капитан Альтавилла, обращаясь к принцессе, – берегите золотые колокольчики, предупреждаю, вы имеете дело с Паскуале Бруно.
– Пожалуй, принцесса была бы в большей безопасности возле Паскуале Бруно, – заметил чей-то голос, – чем возле некоего всем известного сантафеде. Паскуале Бруно убийца, но не вор, бандит, но не карманник.
– Неплохо сказано, – заметил князь де Бутера.
Капитан прикусил язык.
– Кстати, – сказал князь де Каттолика, – вы слыхали о его дерзкой выходке?
– Кого?
– Рекомого разбойника Бруно.
– Нет, и что же он сделал?
– Захватил фургон с деньгами, который князь де Карини отправил в Палермо.
– Мой выкуп! – воскликнул князь де Патерно.
– Вы правы, ваше сиятельство. Вам не повезло.
– Не тревожьтесь, ваша светлость, – прозвучал тот же голос, который уже ответил Альтавилла, – Паскуале Бруно взял всего-навсего триста унций.
– Откуда вам это известно, господин албанец? – спросил князь де Каттолика, стоявший рядом с говорившим красивым молодым мужчиной двадцати шести или двадцати восьми лет в костюме жителя Вины[116].
– Слухом земля полнится, – небрежно ответил албанец, играя своим драгоценным ятаганом. – Впрочем, если ваша светлость желает получить более точные сведения, пусть обратится вот к этому человеку.
Тот, на кого указал албанец, кто возбудил всеобщее любопытство, был нашим старым знакомым Паоло Томмази. Верный своему слову, едва приехав в Палермо, он отправился к графине де Кастель-Нуово. Узнав же, что она на балу, он воспользовался своим званием посланца князя де Карини, чтобы проникнуть в сады князя де Бутера. Уже через мгновение он очутился в центре толпы гостей, которые забросали его вопросами. Но Паоло Томмази, как мы уже знаем, был человеком, которого нелегко смутить. Оттого он прежде всего передал графине письмо от вице-короля.
– Князь, – обратилась Джемма к хозяину дома, пробежав это послание, – вы и не подозревали, что даете прощальный вечер в мою честь. Вице-король приказывает мне прибыть в Мессину. Как верная подданная, я отправляюсь в путь не позже завтрашнего дня. Благодарю вас, милейший, – продолжала она, вручая полный кошелек Паоло Томмази, – можете идти.
Томмази попытался воспользоваться полученным разрешением, но гости окружили его столь плотным кольцом, что об отступлении нечего было и думать. Пришлось поддаться на просьбы, тем более, что условием его освобождения был всего лишь подробный рассказ о встрече с Паскуале Бруно.
Надо отдать ему справедливость, Томмази рассказал о нем чистосердечно и просто, как это присуще только истинно мужественным людям. Без всяких прикрас он поведал своим слушателям о том, как был взят в плен и отведен в крепость Кастель-Нуово, как безуспешно стрелял в бандита и как тот наконец отпустил его, подарив великолепного коня взамен того, которого бригадир потерял. Все выслушали эту невымышленную историю в полном молчании, говорившем о внимании, и о доверии к рассказчику. Исключение составил один лишь капитан Альтавилла, который поставил под сомнение правдивость честного бригадира. В это мгновение, к счастью для Паоло Томмази, сам князь де Бутера пришел ему на помощь.
– Готов биться об заклад, – заметил князь, – что в этом рассказе нет ни слова лжи: все описанные этим честным малым подробности, по-моему, вполне соответствуют характеру разбойника Бруно.
– А разве вы его знаете? – спросил князь де Монкада-Патерно.
– Я провел с ним целую ночь, – ответил князь де Бутера.
– Но где же?
– На ваших землях.
Тут настал черед князя де Бутера – он поведал, как встретился с Паскуале под Каштаном ста коней, как он, сам де Бутера, предложил Паскуале служить в его войсках и как тот отказался. Рассказал и о том, что дал ему взаймы триста унций. При этих словах Альтавилла не мог удержаться от смеха.
– И вы полагаете, господин, что он вернет вам долг? – спросил он.
– Уверен в этом, – ответил князь.
– Раз уж мы коснулись этой темы, – вмешалась в разговор княгиня де Бутера, – признайтесь, господа, нет ли среди вас еще кого-нибудь, кто видел рекомого разбойника Бруно, разговаривал с ним? Обожаю истории про разбойников: слушая их, я положительно умираю от страха.
– Его видела также графиня Джемма де Кастель-Нуово, – заметил албанец.
Джемма вздрогнула, а все гости вопросительно посмотрели на нее.
– Неужели это правда? – спросил князь.
– Да, – ответила Джемма дрожащим голосом, – но я предпочла бы позабыть об этом.
– Зато он ничего не забыл, – прошептал молодой человек.
Гости окружили графиню, которая напрасно попыталась избежать расспросов. Пришлось и ей рассказать о сцене, с которой мы начали нашу историю, описать, как Бруно проник в ее спальню, как князь стрелял в него и как Паскуале явился в день свадьбы Терезы и убил из мести ее мужа – эта история была страшнее всех остальных и глубоко взволновала слушателей. На собравшихся повеяло холодом, и, не будь всех этих нарядов и драгоценностей, трудно было бы поверить, что присутствуешь на празднестве.
– Клянусь честью, – воскликнул капитан Альтавилла, первым нарушивший молчание, – бандит только что совершил свое величайшее преступление – он испортил праздник нашего гостеприимного хозяина. Я готов простить ему все остальные злодеяния, но этого простить не могу. Клянусь своими погонами, я отомщу ему. С этой минуты я без устали буду преследовать его.
– Вы это говорите серьезно, капитан Альтавилла? – переспросил албанец.
– Да, клянусь честью! Заявляю перед всем обществом: я ничего так не желаю, как встретиться один на один с этим бандитом.
– Что ж, это весьма нетрудно, – холодно проговорил албанец.
– Тому же, кто сведет меня с ним, – продолжал Альтавилла, – я обещаю дать…
– Бесполезно назначать награду, капитан, я знаю человека, который согласится безвозмездно оказать вам эту услугу.
– А где же я встречусь с этим человеком? – спросил Альтавилла, пытаясь насмешливо улыбнуться.
– Соблаговолите следовать за мной, и я обязуюсь свести вас с ним.
С этими словами албанец направился к выходу, как бы приглашая капитана следовать за ним.
Капитан немного помедлил, но понял, что зашел слишком далеко, чтобы отступать: взгляды всех гостей были прикованы к нему. Он понял, нет, скорее почувствовал, что тень слабости навсегда погубит его в глазах общества – к тому же он принял это предложение за шутку.
– Что ж! – воскликнул он. – Чего не сделаешь ради прекрасных дам!
И последовал за албанцем.
– Знаете ли вы, кто этот молодой синьор, переодетый албанцем? – спросила графиня у князя де Бутера, голос ее при этом подозрительно дрожал.
– Понятия не имею, – отозвался князь. – Кто-нибудь знает его?
Гости переглянулись, но никто не ответил.
– С вашего позволения, – сказал Паоло Томмази, поднося руку к козырьку, – я знаю, кто это.
– Кто же он, отважный бригадир?
– Сам Паскуале Бруно, господин!
Графиня вскрикнула и лишилась чувств. Так подошло к концу празднество.
Час спустя князь де Бутера сидел за письменным столом в кабинете и приводил в порядок какие-то бумаги, когда к нему вошел торжествующий мажордом.
– В чем дело, Джакомо? – спросил князь.
– Я же говорил вам, господин…
– Что именно?
– Вы только поощряете его своей добротой.
– Кого это?
– Капитана Альтавилла.
– А что он сделал?
– Что сделал, господин? Ваша светлость, конечно, помнит о моем предупреждении. Я не раз говорил, что он кладет себе в карман серебряный прибор.
– Ну а дальше что?
– Прошу прощения! Но вы ответили, господин, что до тех пор, пока он берет лишь свой прибор, возражать против этого не приходится.
– Помню.
– Так вот сегодня, господин, он взял не только свой прибор, но и приборы своих соседей. Мне недостает целых восьми приборов!
– Что ж, это дело другое, – сказал князь.
Он взял листок бумаги и написал следующие строки:
«Князь Геркулес де Бутера имеет честь довести до сведения капитана Альтавилла, что не обедает больше у себя дома, и в силу этого непредвиденного обстоятельства он лишен удовольствия видеть его за своим столом, а посему просит господина Альтавилла принять скромный подарок, долженствующий хоть немного возместить тот урон, который это решение наносит его привычкам».
– Вот возьмите, – продолжал князь, вручая пятьдесят унций[117] мажордому, – вы отнесете завтра и письмо, и деньги капитану Альтавилла.
Джакомо, знавший по опыту, что возражать князю бесполезно, поклонился и вышел. Князь спокойно продолжал разбирать бумаги. Прошло десять минут и он услышал какой-то шорох у двери кабинета. Подняв голову, он увидел человека, похожего на калабрийского крестьянина, – тот стоял на пороге, держа в одной руке шляпу, а в другой какой-то сверток.
– Кто здесь? – спросил князь.
– Я, господин, – ответил пришедший.
– Кто это «я»?
– Паскуале Бруно.
– Зачем пожаловал?
– Прежде всего, господин, – сказал Паскуале Бруно, подходя к князю и высыпая на его письменный стол содержимое своей шляпы, – прежде всего я хочу вернуть вам триста унций, которые вы так любезно дали мне взаймы. Деньги эти пошли на то дело, о котором я вам говорил: сожженный постоялый двор заново отстроен.
– Вижу, ты человек слова. Ей-богу, меня это радует.
Паскуале поклонился.
– Затем, – продолжал он после небольшой паузы, – я хочу вручить вам восемь серебряных приборов с вашими инициалами и гербом. Я нашел их в карманах у некоего капитана. Он, должно быть, украл их у вас.
– И ты возвращаешь мне краденое?! – воскликнул князь. – Забавно! Ну а что в этом свертке?
– В нем голова презренного человека, который злоупотреблял вашим гостеприимством, – сказал Бруно. – Я принес ее вам в доказательство моей вечной преданности.
С этими словами Паскуале Бруно развязал платок и, взяв за волосы окровавленную голову капитана Альтавилла, положил ее на письменный стол князя.
– На кой черт мне такой подарок? Что мне с ним делать? – воскликнул князь.
– Все, что пожелаете, господин, – ответил Паскуале Бруно.
После чего он поклонился и вышел.
Оставшись один, князь де Бутера несколько секунд не спускал глаз с головы мертвеца: он сидел, покачиваясь в кресле и насвистывая свой любимый мотив. Затем, что-то надумав, позвонил, – на этот звук явился мажордом.
– Джакомо, – сказал князь, – незачем тебе завтра утром идти к капитану Альтавилла. Разорви мое письмо, возьми себе пятьдесят унций и отнеси эту падаль на помойку.
VIII
В дни описываемых событий, то есть в начале 1804 года, Сицилия оставалась в полудиком состоянии, из которого ее вывели, хоть не полностью, король Фердинанд и оккупация англичан: шоссе, соединяющее сегодня Палермо с Мессиной и проходящее через Таормину и Катанию, еще не было проложено, и единственная, пусть и не весьма хорошая, но сносная дорога между этими двумя городами шла по берегу моря через Термини и Чефалу. Ныне, заброшенная ради своей молодой соперницы, эта старая дорога привлекает только художников, которые вдоль нее находят немало прекрасных видов. Сейчас, как и прежде путешествовать по этой дороге без единой почтовой станции можно тремя способами: верхом на муле, в паланкине с парой лошадей и в собственной карете, предварительно выслав вперед перекладных, которые будут ожидать путника через каждые пятнадцать миль.
Все это мы рассказали для того, чтобы объяснить, почему графине Джемме де Кастель-Нуово перед отъездом в Мессину, куда ее вызвал князь де Карини, предстояло выбрать один из этих способов. Ехать верхом на муле чересчур утомительно, путешествие в паланкине, помимо всех иных неудобств, главное из которых медлительность, грозило неприятностью совсем иного рода, а именно вызывало морскую болезнь. Неудивительно, что, особо не колеблясь, графиня выбрала карету и заранее выслала перекладных в те четыре пункта, где намеревалась остановиться: в Термини, Чефалу, Сант-Агату и Мелаццо.
Кроме этой предосторожности, относящейся только к способу передвижения, отдельному курьеру было поручено принять и другие меры: запасти в указанных пунктах как можно больше провизии. Это весьма разумный поступок и мы настоятельно рекомендуем всем, кто путешествует по Сицилии, поступать подобным образом – на постоялых дворах зачастую нечего есть, и обычно не хозяева кормят постояльцев, а, наоборот, постояльцы кормят хозяев. Вот почему первый и самый разумный совет, который вам дадут при появлении в Мессине и при выезде из нее, как исходной точки большинства поездок по стране, – запастись провизией, купить кухонные принадлежности и нанять повара. Это обычно увеличивает вашу свиту на двух мулов и одного человека – по простоте за них возьмут одну и ту же цену – и повышает расходы на три дуката в день. Напористые опытные в странствиях англичане покупают еще и третьего мула, которого нагружают палаткой. Несмотря на нашу любовь к этой великолепной стране, следует признать, что такая предосторожность пусть и не столь необходима, как все остальные, но все же весьма разумна. Кроме того, стоит принять во внимание плачевное состояние постоялых дворов, где наблюдается отсутствие животных, необходимых для удовлетворения насущных нужд постояльца, и в баснословных количествах тех животных, которые причиняют ему мучения. Последних из рекомых животных такое обилие, что мы встречали путешественников, заболевших от недостатка сна, а первых такое блистательное отсутствие, что мы видели англичан, которые, исчерпав все запасы съестного, со всей серьезностью обсуждали вопрос, не съесть ли им своего повара, ставшего теперь совершенно бесполезным. Вот до какого печального состояния в 1804 году от рождества Христова была доведена плодородная Сицилия, кормившая во времена императора Августа всю Римскую империю теми излишками провизии, что оставались невостребованными ее двенадцатью миллионами жителей.
Неведомо, был ли знатоком истории Сицилии путешественник, для которого готовился ужин на постоялом дворе делла Кроче, недавно отстроенном благодаря тремстам унциям князя де Бутера и расположенном между Фикаррой и Патти, на дороге, что ведет из Палермо в Мессину. Однако можно сказать, что он отличался редкой наблюдательностью и превосходно знал современную ему Сицилию. Усердие трактирщика и его жены, которые под наблюдением приезжего повара жарили рыбу, дичь и домашнюю птицу, показывало: тот, для кого были пущены в ход сковородки, вертела и духовка, не только не желает лишать себя необходимого, но и не является противником излишества. Он приехал сюда из Мессины, путешествовал в собственной карете и остановился в этой гостинице, потому что местоположение ему понравилось. Он сразу же вынул из своего сундука все, что необходимо подлинному сибариту и заядлому туристу, от простынь до столового серебра, от хлеба до вина. Он велел отвести себе лучшую комнату, он зажег благовония в серебряной курильнице и в ожидании ужина возлежал на розовом турецком ковре и курил трубку с янтарным чубуком, набитую лучшим синайским табаком.
С величайшим вниманием он следил за клубами душистого дыма, поднимавшегося и сгущавшегося под потолком, когда дверь в комнату отворилась, и на ее пороге остановился трактирщик в сопровождении ливрейного лакея графини де Кастель-Нуово.
– Ваше превосходительство, – проговорил достойный хозяин трактира, кланяясь до самой земли.
– Ну что там еще? – с явным мальтийским акцентом бросил, не оборачиваясь, путешественник.
– Ваше превосходительство, прибыла графиня Джемма де Кастель-Нуово…
– И что с того?
– Госпоже графине пришлось остановиться на моем скромном постоялом дворе…
– Дело в том, что одна из лошадей ее сиятельства захромала и продолжать путь нельзя, – добавил лакей.
– Дальше что?
– Госпожа графиня этой случайности сегодня утром предвидеть не могла, когда выехала из Сант-Агаты: она собиралась остановиться в Мелаццо. Там ее ожидают свежие лошади, а у нее с собой нет ничего съестного.
– Передайте графине, что мой повар и мои припасы к ее услугам.
– Приношу вам глубочайшую благодарность от имени моей госпожи, ваше превосходительство, – с поклоном произнес слуга. – Ее сиятельству, вероятно, придется провести ночь на этом постоялом дворе, ибо за свежими лошадьми надобно будет послать в Мелаццо, а у госпожи графини нет с собой ни посуды, ни белья. Поэтому она велела спросить, не будете ли вы, ваше превосходительство, столь любезны…
– Передайте графине мою нижайшую просьбу, – прервал его путешественник, – занять эту спальню со всем, что в ней находится. Я же, так уж распорядилась судьба, привык к неудобствам и лишениям, а потому удовольствуюсь первой попавшейся комнатой. Итак, передайте графине, что это помещение к ее услугам. А наш достойный господин трактирщик постарается подыскать мне какую-нибудь комнату получше.
С этими словами путешественник встал и последовал за трактирщиком, а слуга спустился во двор, чтобы передать графине просьбу любезного странника.
Джемма отнеслась к этому предложению, как королева, принимающая дань уважения подданного, а не как женщина, которой оказывает услугу незнакомый человек. Она так привыкла, что все подвластно ее воле, все покоряется звуку ее голоса, все повинуется взмаху ее руки, что нашла чрезвычайную любезность путешественника совершенно естественной и даже привычной. Говоря по секрету, она была так прелестна, когда, опираясь на руку своей камеристки, направлялась в предоставленную ей комнату, что весь мир мог бы пасть к ее ногам.
На графине был весьма элегантный дорожный костюм. Он напоминал короткую амазонку, облегающую грудь и плечи, и был отделан спереди шелковыми брандебурами. Для защиты от холодного горного воздуха вокруг шеи было обернуто кунье боа – украшение, еще неизвестное в те годы, но которое с тех пор вошло у нас в моду. Боа было куплено князем де Карини у мальтийского торговца, привезшего его из Константинополя. Голову графини украшала черная бархатная шапочка, похожая на чепчик, из-под которой выбивались великолепные волосы, завитые на английский манер, хотя честнее будет сказать, что это графиня собой украшала свой дорожный костюм.
Красавица ожидала увидеть спальню, приготовленную надлежащим образом, чтобы принять ее. Однако она была поражена роскошью, с которой неизвестный путешественник постарался скрасить бедность помещения: все туалетные принадлежности были серебряные, на столе лежала скатерть из тончайшего полотна, а восточные благовония, горевшие на камине, казалось, сделали бы честь и сералю.
– Клянусь, Джидза, поистине я родилась под счастливой звездой, – заметила графиня. – Подумать только: неловкий слуга плохо подковал лошадей, я вынуждена остановиться посреди дороги, и в этот миг неведомый мне добрый гений, пожалев меня, воздвигает этот сказочный дворец.
– Госпожа графиня не догадывается, кто этот добрый гений?
– Нет, даже не могу представать.
– Мне кажется, синьора, вам следовало бы догадаться.
– Увы, Джидза, – проговорила графиня, опускаясь на стул, – я понятия об этом не имею. А о ком подумала ты?..
– Я подумала… Да простит мне госпожа графиня, хотя думать так вполне естественно.
– Говори же!
– Я подумала, что его светлость, вице-король, зная, что госпожа графиня находится в дороге, не мог дождаться ее приезда и…
– Ты знаешь, твоя догадка весьма похожа на истину. Да, такое вполне возможно. В самом деле, кто еще мог бы с таким вкусом приготовить спальню, а затем уступить ее мне? Но я прошу тебя об этом молчать. Если это его сюрприз, я хочу полностью насладиться им, хочу изведать всю гамму чувств, вызванных неожиданным появлением Родольфо. Итак, давайте договоримся: он тут ни при чем, все это дело рук какого-то неизвестного путешественника… Оставь при себе свои догадки и позволь мне далее удивляться всему происходящему. К тому же, если это действительно был бы Родольфо, я бы первая догадалась об этом, а вовсе не ты… Как он добр ко мне, мой Родольфо!.. Он предупреждает все мои желания… Как он любит меня!..
– А ужин, так заботливо приготовленный, неужели вы думаете?
– Тсс!.. Я ничего не думаю, ровно ничего, я пользуюсь дарами, ниспосланными мне богом, и благодарю за них только бога. Взгляни на это столовое серебро, какая прелесть! Если бы мне не попался в пути этот благородный незнакомец, я просто не смогла бы есть из простого прибора. А эта серебряная чашка с позолотой… Можно подумать, что ее сделал сам Бенвенуто! Мне хочется пить, Джидза.
Камеристка, наполнив чашку водой, добавила туда несколько капель драгоценной липарской мальвазии. Графиня сделала два-три глотка, более для того, чтобы дотронуться до чашки губами, чем оттого, что ей и в самом деле хотелось пить. Путем этого ласкового прикосновения, она словно пыталась почувствовать, действительно ли любовник дал распоряжения, уважая ее потребности в роскоши и великолепии. Ведь если человек приучен к такому с детства, сия потребность превращается в необходимость.
Подали ужин. Графиня ела так, как едят изящные благовоспитанные женщины: едва прикасаясь к блюдам, как колибри, пчелы или бабочки. Рассеянная и несколько озабоченная, Джемма не отрывала взгляда от двери, и каждый раз, как та отворялась, она вздрагивала, глаза ее увлажнялись и ей становилось трудно дышать. Однако постепенно она впала в состояние сладкой истомы, причину которой сама не могла понять. Джидза встревожилась, заметив это.
– Госпоже графине нездоровится?
– Нет-нет, – ответила Джемма едва слышно. – Ты не находишь, что от этих благовоний слегка кружится голова?
– Не желает ли госпожа графиня, чтобы я отворила окно?
– Ни в коем случае! Мне кажется, что я вот-вот умру, но отчего-то я думаю, что такая смерть была бы очень приятна. Сними с меня шляпу – она давит на голову, мне тяжело в ней.
Джидза повиновалась. Длинные волосы графини роскошными волнистыми прядями пали до самой земли.
– Неужели, Джидза, ты не чувствуешь того же, что я? Что за неведомое блаженство! Словно небесная благодать струится по моим жилам, можно подумать, будто я выпила волшебный напиток. Помоги мне встать и добраться до зеркала.
Джидза, поддерживая графиню, довела ее до камина. Остановившись перед ним, Джемма облокотилась на каминную доску, опустила голову на руки и взглянула на свое отражение.
– А теперь, – проговорила она, – вели унести все это, раздень меня и оставь одну.
Камеристка повиновалась. Лакеи графини убрали со стола, и, когда они, закончив, вышли, Джидза выполнила вторую часть приказания своей хозяйки, по-прежнему стоящей у зеркала. Графиня едва шевелилась: она томно подняла сначала одну руку, а затем другую, чтобы горничная могла довести свое дело до конца. Госпожа словно была погружена в сон наяву – она вряд ли заметила, что камеристка закончила с нарядом хозяйки и вышла, оставив графиню одну.
В состоянии, похожем на сомнамбулическое, графиня машинально приготовилась ко сну, легла в кровать и, облокотясь на изголовье, несколько мгновений не спускала глаз с двери. Но, несмотря на все старания побороть сон, веки ее вскоре отяжелели, глаза закрылись, она опустилась на подушку и, глубоко вздохнув, прошептала имя Родольфо.
Проснувшись на следующее утро, Джемма вытянула руку, ожидая найти кого-то рядом с собой, но она была одна. Она обвела глазами комнату, затем взгляд ее остановился на столике возле кровати – на нем лежало незапечатанное письмо. Она взяла листок и прочла следующее:
Госпожа графиня, я мог бы отомстить вам как разбойник, но предпочел доставить себе королевское удовольствие. Для того же, чтобы, пробудившись, вы не подумали, будто видели сон, я оставил вам доказательство истинности всего случившегося: посмотритесь в зеркало.
Паскуале БруноДжемма почувствовала, как дрожь пробежала по ее телу и на лбу выступил холодный пот. По привычке она протянула руку к колокольчику, но тут же отдернула руку: инстинкт подсказал ей, что звать не следует. Графиня собрала все свои силы, соскочила с кровати, подбежала к зеркалу и вскрикнула: ее голова и брови были начисто выбриты.
Она тотчас же закуталась в шаль, поспешила сесть в карету и велела сию же секунду возвращаться в Палермо.
Приехав, она написала князю де Карини, что ее духовник во искупление грехов приказал ей сбрить волосы и брови и на год поступить в монастырь.
IX
Первого мая 1805 года в замке Кастель-Нуово царило веселье: Паскуале Бруно, находясь в прекрасном расположении духа, угощал ужином одного из друзей по имени Плачидо Мели – честного контрабандиста из деревни Джессо и двух девок, которых тот привез из Мессины, чтобы с особой приятностью провести ночь. Подобное дружеское внимание явно тронуло Бруно. Не желая оставаться в долгу у столь предупредительного приятеля, он решил задать настоящий пир: из подвалов маленькой крепости были извлечены лучшие вина Сицилии и Калабрии, первейшие повара Баузо трудились на кухне, и в ход была пущена та своеобразная роскошь, которая порой так нравилась герою нашей истории. Веселье било ключом, хотя сотрапезники лишь приступили к ужину. В это время Али принес Плачидо записку от какого-то крестьянина из Джессо. Плачидо прочел ее и с досадой скомкал в руках.
– Чтоб ему пусто было! – воскликнул он. – Ну и время же выбрал, негодяй!..
– Кто такой?
– Да капитан Луиджи Кама из Вилла-Сант-Джовани, чтоб его черт побрал!
– Тот Луиджи, что поставляет нам ром? – переспросил Бруно.
– Он самый, – ответил Плачидо. – Он пишет, что ждет меня на берегу моря, вся поклажа с ним и он хочет отделаться от нее, пока таможенники не пронюхали о его приезде.
– Дело прежде всего, дружище, – сказал Бруно. – Я тебя подожду. Кампания у нас собралась приятная. Будь спокоен, если не слишком задержишься, найдешь на столе немало всяких угощений. Напьешься, наешься, да и после тебя еще останется.
– Работы там на час самое большее, – продолжал Плачидо, соглашаясь с доводами хозяина дома. – А море всего в пятидесяти шагах отсюда.
– Перед нами же целая ночь, – заметил Паскуале.
– Приятного аппетита, приятель.
– Желаю удачи, друг.
Плачидо вышел, Бруно остался с двумя девицами. Как он и обещал своему гостю, веселье за столом ничуть не пострадало от отсутствия контрабандиста. Бруно был любезен с обеими дамами, разговор, жесты становились все оживленнее. И тут дверь отворилась и вошел новый посетитель. Паскуале обернулся и узнал мальтийского коммерсанта, о котором мы уже не раз упоминали, – Бруно был одним из лучших его клиентов.
– А, это вы? Добро пожаловать, особенно если вы принесли сласти, которые так любят в гаремах, латакию и тунисские покрывала. Вот две одалиски, которые ждут, чтобы я бросил им платок. Они, конечно, обрадуются, если он будет с золотой вышивкой. Кстати, ваш опиум творит чудеса.
– Весьма этому рад, – ответил мальтиец, – но я пришел не для того, чтобы торговать. Меня привело совсем иное дело.
– Ты пришел поужинать? Раз так, садись вот тут, и я еще раз скажу тебе «добро пожаловать». Это королевское место: ты будешь сидеть напротив бутылки и между двумя дамами.
– Вино превосходно, в этом нет никакого сомнения, а дамы очаровательны, – ответил мальтиец, – но я должен сообщить вам нечто очень важное.
– Мне?
– Да, вам.
– Так говори.
– Нет, я могу сказать это только с глазу на глаз.
– Секреты отложим на завтра, мой достойный командор.
– Однако время не терпит.
– В таком случае говори перед нами: здесь только свои. К тому же, я взял за правило не утруждать себя, когда мне весело, даже если дело идет о моей жизни.
– Речь именно об этом.
– Плевать! – воскликнул Бруно, наполняя стакан. – Бог не оставит в беде честного человека. За твое здоровье, командор.
Мальтиец опорожнил налитый ему стакан.
– Превосходно, а теперь садись и начинай свой секретный рассказ, мы слушаем.
Торговец понял, что придется выполнить прихоть хозяина дома, и сел за стол.
– Так-то лучше, – сказал Бруно, – ну, выкладывай свои новости.
– Вам, конечно, известно, что арестованы судьи селений Кальварузо, Спадафора, Баузо, Сапонаро, Давьето и Ромита?
– Слышал что-то в этом роде, – беззаботно проговорил Паскуале Бруно, выпив стакан марсалы, бархатной сицилийской мадеры.
– И вам известна причина их ареста?
– Догадываюсь. Должно быть, князь де Карина, раздосадованный решением своей любовницы, уединившейся в монастыре, нашел, что судьи избыточно медлительны и слишком затянули с арестом некоего Паскуале Бруно. А ведь его голова оценена в три тысячи дукатов. Так ли?
– Да, именно так.
– Как видишь, я и так все знаю.
– И все же вы можете кое-чего не знать.
– Один Бог велик и всеведущ, как говорит Али. Однако продолжай – я готов сознаться в своем невежестве и с радостью услышу что-нибудь интересное.
– А далее история такова: все шесть судей, объединившись, внесли по двадцати пяти унций. Иначе говоря, в общей кассе нынче лежат сто пятьдесят унций.
– Или тысяча восемьсот девяносто ливров, – подхватил Бруно с прежней беззаботностью. – Вот видишь: если я и не веду бухгалтерских записей, то вовсе не потому, что не умею считать… Что же далее?
– Далее они обратились к двоим или троим вашим приятелям из тех, кого вы встречаете чаще всего, и спросили, не желают ли они способствовать вашей поимке.
– Пусть спрашивают. Я уверен, что на десять миль кругом не найдется ни одного предателя.
– Ошибаетесь, – сказал мальтиец, – предатель нашелся.
– Вот как?! – воскликнул Бруно, нахмурившись, и схватился за стилет. – Но как ты узнал об этом?
– Самым простым и все же самым неожиданным образом. Я был вчера у князя де Карини, – он просил доставить турецкие ткани в его мессинский дворец, – когда вошел слуга и что-то сказал ему на ухо. «Хорошо, – громко ответил князь, – пусть войдет». А сам жестом приказал мне пройти в соседнюю комнату. Я повиновался, князь, видимо, не подозревал, что я с вами знаком, и я слышал весь разговор. Речь шла о вас.
– И что же?
– Так вот, пришедший и оказался предателем: он обещал, что откроет двери вашей крепости, выдаст вас врагам, пока вы спокойно ужинаете, и сам приведет жандармов в вашу столовую.
– И тебе известно имя предателя?
– Плачидо Мели, – ответил мальтиец.
– Дьявольщина! – вскричал Паскуале, скрипя зубами. – Он только что был здесь.
– И ушел?
– За минуту до вашего прихода.
– Значит, он отправился за жандармами! Ведь, если не ошибаюсь, вы как раз ужинаете.
– Как видишь.
– Все сходится. Если хотите бежать, нельзя терять ни минуты.
– Бежать?! – расхохотался Бруно. – Али!.. Али!..
Вошел Али.
– Запри ворота замка, мальчик! Выпусти во двор трех собак, а четвертую, Лионну, приведи сюда… Да приготовь все для обороны.
Женщины заплакали в голос.
– Замолчите, красавицы! – скомандовал Бруно, повелительно подняв руку. – Сейчас не время для песен! Тише, прошу!
Женщины умолкли.
– Побудьте с дамами, командор, – сказал Бруно. – А мне надо сделать обход своих владений.
Паскуале взял карабин, надел патронную сумку и направился к двери, но, прежде чем выйти, он остановился и прислушался.
– Что случилось? – спросил мальтиец.
– Слышишь, как воют собаки? Враги близко, думаю, они отстали от вас на каких-нибудь пять минут. Молчать, зверюги! – продолжал Бруно, отворив окно и издав особый свист. – Спасибо… Спасибо, я предупрежден.
Псы тихо поскулили и умолкли: женщины и мальтиец вздрогнули, в страхе ожидая самого худшего. В эту минуту вошел Али с Лионной, любимицей Паскуале, на поводке: умная собака подбежала к хозяину, встала на задние лапы, положила передние ему на плечи, взглянула на него и тоже тихонько завыла.
– Да-да, Лионна, – сказал Бруно, – ты замечательная псина.
Он приласкал собаку и поцеловал между глаз, как любовницу. Собака опять завыла, глухо и жалобно.
– Понимаю, Лионна, – продолжал Паскуале, – понимаю, дело не ждет. Идем, моя радость, идем!
И он вышел, оставив мальтийца и обеих женщин в столовой.
Паскуале спустился во двор, где беспокойно сновали собаки. Однако старался показать своим видом, что непосредственной опасности еще нет. Далее он отпер калитку в сад и стал обследовать его. Вдруг Лионна остановилась, понюхала воздух и подбежала к ограде. Ее тело напряглось, словно для прыжка, она лязгнула зубами и, глухо ворча, оглянулась на хозяина. Паскуале Бруно стоял в шаге позади нее.
По поведению собаки он понял, что где-то в этой стороне, и притом всего в нескольких шагах от них, притаился враг. Тут он вспомнил, что окно комнаты, где заперт Паоло Томмази, выходит как раз в эту сторону, и быстро поднялся по лестнице вместе с Лионной. Собака с налившимися кровью глазами, раскрыв пасть, пробежала по столовой, где обе девицы и мальтиец в ужасе ожидали конца этого приключения, и устремилась в соседнюю неосвещенную комнату, окно которой было отворено. Лионна тут же легла на пол и по-змеиному поползла к окну, затем с расстояния в нескольких футов от него и прежде, чем Паскуале успел ее удержать, как пантера, прыгнула с высоты двадцати футов в оконный проем.
Паскуале очутился у окна одновременно с собакой: он увидел, что она в несколько прыжков достигла уединенной оливы, затем услышал крик. Лионна, видимо, бросилась на человека, прятавшегося за этим деревом.
– На помощь! – звучал чей-то голос, и Паскуале узнал голос Плачидо. – Ко мне, Паскуале! Ко мне!.. Отзови собаку, не то я распорю ей брюхо.
– Пиль, Лионна… пиль! Возьми его, возьми! Смерть предателю!..
Плачидо понял, что Бруно все известно. Поняв, что отступать некуда, он испустил вопль, в котором звучали злоба и боль, и между человеком и собакой началась борьба не на жизнь, а на смерть. Бруно опершись на карабин, смотрел на этот странный поединок. В неверном свете луны долгие десять минут он следил, как боролись, падали и поднимались два тесно сплетенных тела. Сплетенных столь тесно, что временами невозможно было отличить человека от собаки, наконец, после беспощадной борьбы, один из сражавшихся упал и уже больше не поднялся: это был человек.
Бруно свистнул Лионну, снова, не проронив ни слова, вошел в столовую, спустился по лестнице и отворил калитку своей любимой собаке. Однако в ту минуту, когда окровавленная собака вбежала в дом – множество кровоточащих ран ей было нанесено ножом и зубами противника, – на дороге, поднимающейся к замку, блеснули при свете луны стволы карабинов. Бруно тотчас же забаррикадировал ворота и вернулся к перепуганным гостям. Мальтиец пил вино, девицы молились.
– Ну что? – спросил мальтиец.
– О чем вы, командор? – переспросил Бруно.
– Что с Плачидо?
– Его песенка спета, – ответил Бруно, – зато нам на голову вот-вот свалится целый сонм дьяволов.
– Каких именно?
– Если не ошибаюсь, вскоре к нам пожалуют жандармы и солдаты из Мессины.
– Что вы собираетесь делать?
– Перебить как можно больше этих негодяев.
– А далее?
– Далее… подорвать крепость со всеми остальными и с собой в придачу.
Девицы заплакали и закричали.
– Али, – продолжал Паскуале, – отведи милых дам в подвал и дай им все, что они пожелают, за исключением свечей. Не то они, пожалуй, раньше времени взорвут наше убежище.
Бедные девушки упали на колени.
– Ну полно, – сказал Бруно, топнув ногой, – прошу слушаться.
Он произнес это таким устрашающим тоном, что девицы тут же вскочили и без единой жалобы последовали за Али.
– А теперь, командор, – заметил Бруно, когда дамы вышли, – погасите свечи и сядьте в угол, подальше от пуль. Музыканты прибыли, тарантелла начинается.
X
Несколько минут спустя вернулся Али, неся на плече четыре ружья одинакового калибра и корзину с патронами. Паскуале Бруно распахнул окна, чтобы достойно встретить врагов, откуда бы они ни появились. Али взял ружье и собрался встать у одного из окон.
– Нет, дитя мое, – с подлинно отеческой нежностью проговорил Паскуале, – нет, это мое дело, только мое. Я не хочу связывать тебя со своей судьбой, не хочу увлекать туда, куда иду сам. Ты молод, ничто еще не встало на твоем пути, ничто не мешает следовать своей судьбе. Верь мне, не сходи с тропинки, проторенной людьми.
– Отец, – прочувствованно ответил юноша, – почему ты не хочешь, чтобы я защищал тебя, как Лионна? Ты же знаешь, у меня нет никого, кроме тебя, и, если ты умрешь, я умру вместе с тобой.
– Нет, Али, нет, если я умру, после меня останется на земле некое тайное и страшное дело, которое я могу поручить только моему сыну. Мой сын должен жить, чтобы сделать то, что ему прикажет отец.
– Я повинуюсь, – кивнул Али, – ибо отец повелевает, а сын подчиняется.
И, нагнувшись, он поцеловал руку Паскуале.
– Неужели я ничем не могу тебе помочь, отец? – спросил он.
– Заряжай ружья, – ответил Бруно.
Али приступил к делу.
– А я? – донесся голос из угла, где сидел мальтиец.
– Вас, командор, я берегу для другого дела: вы станете моим парламентером.
В эту минуту Паскуале Бруно увидел, как блеснули ружья другого отряда, который спускался с горы к оливе, под которой лежало теперь уже только тело Плачидо. Стало ясно, что солдаты направляются к условленному месту встречи. Люди, шедшие впереди, наткнулись на труп, и весь отряд окружил покойника, которого невозможно было узнать – так обезобразили его чудовищные челюсти Лионны. Но Плачидо именно у этой оливы обещал ждать солдат, а нынче чей-то труп лежал именно там и ни единой другой души не было видно поблизости, вывод напрашивался сам собой: умерший и есть Плачидо. Солдаты поняли, что предательство обнаружено, а, следовательно, Бруно предупрежден. Они остановились, чтобы обсудить, как быть дальше. Паскуале, стоявшему в амбразуре окна, было видно каждое их движение.
В эту минуту из-за облака показалась луна, и свет ее упал на Бруно, кто-то из солдат заметил его и указал своим товарищам, по рядам прокатился крик: «Бандит, бандит!» – в ту же секунду грянул ружейный залп. Несколько пуль попало в стену, другие, прожужжав над головой Бруно, засели в потолочных балках. В ответ Паскуале выстрелил по очереди из четырех ружей, заряженных Али: четыре человека упали. Отряд, который был набран не из солдат регулярных войск, а из солдат, подобных национальным гвардейцам, поставленным на охрану дорог, видя, с какой быстротой смерть спешит к ним навстречу, дрогнул. Понадеявшись на предательство Плачидо, люди ожидали легкой победы, а вместо этого оказались перед необходимостью начать подлинную осаду.
В самом деле, стены маленькой крепости высоки, ее ворота прочны. У солдат же не оказалось ничего, чтобы взять ее приступом, – ни приставных лестниц, ни топоров. Конечно, можно было попытаться убить Паскуале в тот момент, когда он целился из окна, но для людей, убежденных в неуязвимости противника, успех такого выстрела был более чем сомнителен.
Одним словом, солдаты решили, что следует, не медля, отойти в безопасное место и обсудить положение, однако отряд отступил недостаточно быстро, и Паскуале Бруно успел послать вдогонку еще две смертоносные пули. Видя, что нападение с этой стороны на время отложено, Бруно перешел к окну, обращенному к деревне: ружейные выстрелы привлекли внимание первого отряда, и едва Паскуале появился в амбразуре окна, как был встречен градом пуль. Однако та же удача, граничащая с чудом, уберегла его от этого града: воистину, можно было подумать, что он и в самом деле заколдован. Зато ни один его выстрел не пропал даром – об этом Паскуале мог судить по донесшимся до него проклятиям.
Неудивительно, что с этим отрядом произошло то же, что и с предыдущим: он пришел в смятение, однако, вместо того, чтобы обратиться в бегство, солдаты выстроились у стен крепости – маневр, из-за которого Бруно мог стрелять по врагам лишь наполовину высунувшись из окна. Но, так как Паскуале счел бесполезным подвергать себя столь серьезной опасности, эта обоюдная осторожность привела лишь к тому, что на время огонь прекратился.
– Ну что, вы отделались от них? – спросил мальтиец. – Можем торжествовать победу?
– Нет еще, – отвечал Бруно. – Это всего лишь передышка. Должно быть, солдаты отправились в деревню за лестницами и топорами, и мы скоро услышим о них. Однако беспокоиться не следует, – продолжал он, – мы не останемся в долгу, они тоже о нас услышат… Али, принеси-ка бочонок с порохом. За ваше здоровье, командор!
– Что вы собираетесь делать с бочонком? – с явным беспокойством спросил мальтиец.
– Не стоящие внимания пустяки… однако вы увидите.
Али вернулся с бочонком в руках.
– А теперь, – сказал Бруно, – возьми бурав и просверли в бочонке отверстие.
Али повиновался с той покорностью, которая лучше всяких слов говорила о его преданности. Паскуале разорвал полотенце, надергал из него ниток, густо посыпал их порохом, заложил этот самодельный фитиль в бочонок и замазал отверстие влажным порохом, укрепив таким образом фитиль. Едва он закончил эти приготовления, как снизу донеслись удары топора: солдаты ломились в ворота крепости.
– Ну, разве я был неправ? – спросил Бруно.
Он подкатил бочонок к порогу комнаты, откуда начиналась лестница, спускавшаяся во двор, затем вернулся и взял из очага горящую еловую ветку.
– А… – протянул мальтиец, – начинаю понимать.
– Отец, – сказал Али, – солдаты вернулись, они поднимают лестницу.
Бруно подбежал к окну, из которого стрелял в первый раз, и увидел, что враги и в самом деле несут лестницу, без которой невозможно говорить об осаде. К тому же солдаты, устыдившись своего поспешного отступления, идут на приступ не без лихости.
– Ружья заряжены? – спросил Бруно.
– Да, отец, – ответил Али, подавая ему карабин.
Паскуале, не оборачиваясь, взял ружье, которое протягивал ему юноша, и стал целиться еще более сосредоточенно, чем до сих пор. Раздался выстрел, и один из двух солдат, несших лестницу, упал.
Убитого солдата тут же сменил другой – Бруно взял второе ружье, и этот солдат рухнул рядом с товарищем.
Дважды были заменены убитые, и дважды повторялось одно и то же: казалось, лестница обладала некоей роковой особенностью: стоило человеку прикоснуться к ней, как он падал мертвым. Осаждающие бросили лестницу и второй раз отступили, ответив Бруно залпом, столь же бесполезным, как и предыдущие.
Между тем солдаты, осаждавшие крепость со стороны ворот, с удвоенной силой стучали топорами, а собаки ожесточенно лаяли и выли: время от времени удары становились глуше, а собачьи голоса громче. Наконец одна створка ворот подалась, и два или три человека проникли через это отверстие во двор. Однако по их отчаянным крикам товарищи поняли, что те имеют дело с врагами, куда более страшными, нежели это казалось поначалу, стрелять же в собак было невозможно из опасения убить людей. Поочередно осаждающие проникли во двор, который вскоре наполнился солдатами. И тут началось нечто вроде циркового представления – борьба людей с четырьмя сторожевыми псами, неистово защищавшими узкую лестницу, которая вела на второй этаж. Внезапно дверь наверху этой лестницы отворилась, и бочонок с порохом, приготовленный Бруно, покатился, подпрыгивая на ступеньках, и разорвался, как снаряд, посреди сгрудившихся тел.
От этого чудовищного взрыва часть крепостной стены рухнула, и все живое во дворе было уничтожено.
Среди осаждающих началось замешательство, однако оба отряда успели соединиться и все еще представляли собой немалую силу – более трех сотен боеспособных человек. Жгучий стыд охватил солдат при виде того, что они не могут одолеть одного человека, командиры воспользовались настроением подчиненных, чтобы подбодрить их. По приказу офицеров осаждающие, выстроившись в колонну, походным маршем двинулись в сторону пробоины, образовавшейся в стене, и, развернувшись, беспрепятственно вошли во двор, оказавшись прямо против лестницы. Солдаты снова остановились в нерешительности.
Наконец несколько человек стали подниматься по ней, поощряемые криками товарищей, за ними последовали другие, и на лестнице стало так тесно, что пожелай передние солдаты отступить, они не могли бы этого сделать, волей-неволей им пришлось налечь на дверь – против их ожидания, она сразу же отворилась. С громкими победными криками осаждавшие вбежали в первую комнату. В эту минуту дверь второй комнаты распахнулась, и солдаты увидели Бруно: он сидел на пороховой бочке, держа по пистолету в каждой руке, одновременно из той двери выскочил мальтиец и крикнул со страхом, в истинности которого трудно было усомниться:
– Назад! Назад! Крепость заминирована! Еще один шаг, и все мы взлетим на воздух!..
Дверь захлопнулась словно по мановению волшебной палочки, а победные крики сменились криками ужаса, на узкой лестнице раздался топот множества ног – несколько солдат выскочили из окон: всем этим людям казалось, что почва колеблется у них под ногами. Спустя каких-нибудь пять минут Бруно снова оказался хозяином крепости, что же до мальтийца, то он воспользовался случаем, чтобы сбежать.
Не слыша более шума, Паскуале подошел к окну: осада крепости превратилась в блокаду, против всех ее входов были установлены сторожевые посты, солдаты укрылись за бочками и повозками. Очевидно, был придуман какой-то новый план кампании.
– Глупцы, они хотят, похоже, взять нас измором, – проговорил Бруно.
– Презренные собаки! – выругался Али.
– Не оскорбляй несчастных животных: они погибли, защищая меня, – с улыбкой заметил Бруно. – И не называй людей иначе – «люди» порой куда более бранное слово.
– Отец! – воскликнул Али.
– Что случилось?
– Видишь?
– Нет.
– Вон там, светлая полоса?..
– В самом деле. Что бы это значило?.. До рассвета еще далеко. К тому же свет этот на севере, а не на востоке.
– Горит деревня, – догадался Али.
– Проклятие! Неужели это правда?
В эту минуту издали донеслись крики отчаяния… Бруно бросился к двери и оказался лицом к лицу с мальтийцем.
– Это вы, командор? – воскликнул он.
– Да, да, я… собственной персоной… Смотрите не ошибитесь и не примите меня за кого-нибудь другого. Я ваш друг.
– Добро пожаловать. Что там происходит?
– Видите ли, отчаявшись захватить вас, начальство приказало поджечь деревню. Пожар потушат лишь тогда, когда крестьяне согласятся выступить против вас. Властям осточертела вся эта канитель.
– А что же крестьяне?
– Они отказываются.
– Я так и знал: они скорее дадут сгореть своим домам, чем тронут хоть волос на моей голове. Хорошо, командор, возвращайтесь к тем, кто вас послал, и скажите, чтобы они тушили пожар.
– Как так?
– Я сдаюсь.
– Ты сдаешься, отец? – вскрикнул Али.
– Да… но я дал слово сдаться одному-единственному человеку и сдамся только ему. Пусть потушат пожар, и тем временем успеют доставить из Мессины этого человека.
– Но кто же он?
– Паоло Томмази, жандармский бригадир.
– У вас нет других пожеланий?
– Еще одно.
И он что-то тихо сказал мальтийцу.
– Надеюсь, ты не просишь сохранить мне жизнь? – спросил Али.
– Разве я не сказал, что после моей смерти мне потребуется от тебя еще одна услуга?
– Прости, отец, я позабыл.
– Ступайте, командор. Сделайте все, как я сказал. Если пожар будет потушен, я пойму, что мои условия приняты.
– Вы не сердитесь на меня за то, что я взялся за это поручение?
– Я же сам сказал, что назначаю вас парламентером.
– Да, верно.
– Кстати, – молвил Паскуале, – сколько домов они успели поджечь?
– Когда я поспешил к вам, горели два дома.
– Вот кошелек, в нем триста пятнадцать унций. Раздайте эти деньги погорельцам. А теперь прощайте.
– Прощайте.
Мальтиец вышел.
Бруно отбросил подальше оба пистолета, вновь сел на пороховую бочку и погрузился в глубокую задумчивость. Юный араб вытянулся на шкуре пантеры, служившей ему постелью, и остался лежать с закрытыми глазами и совершенно неподвижно – можно было принять его за спящего. Зарево пожара побледнело, а значит, условия Бруно были приняты.
Прошло около часа, дверь комнаты отворилась, и на ее пороге остановился человек. Видя, что ни Бруно, ни Али не обращают на него ни малейшего внимания, он несколько раз нарочито кашлянул: это был способ деликатно заявить о своем присутствии. Бруно поднял голову.
– А, это вы, бригадир? – проговорил он, улыбаясь. – Одно удовольствие посылать за вами: ждать не приходится.
– Да… меня встретили в четверти мили отсюда на пути к вам. Мой отряд перебросили сюда… и мне передали вашу просьбу.
– Да, мне хотелось доказать вам, что я человек слова.
– Клянусь, я и без того это знал.
– Я обещал дать вам заработать те пресловутые три тысячи дукатов, и мне захотелось выполнить свое обещание.
– Черт!.. Черт! Черт возьми! – произнес бригадир с возрастающим чувством.
– Что вы хотите этим сказать, приятель?
– Хочу сказать… хочу сказать… что лучше бы я заработал эти деньги как-то иначе… получил бы их за что-нибудь другое… да вот хоть выиграл бы в лотерею.
– Почему же, позвольте вас спросить?
– Потому что вы храбрец, а храбрецов не так уж много на белом свете.
– Полно, не все ли равно? А для вас это повышение, бригадир.
– Знаю, знаю… – ответил Паоло в полном отчаянии. – Итак, вы сдаетесь.
– Сдаюсь.
– И сдаетесь именно мне?
– Именно вам.
– Честное слово?
– Честное слово. Можете отослать весь этот сброд, я не желаю иметь с ними никакого дела.
Паоло подошел к окну.
– Разойдитесь! – крикнул он. – Я отвечаю за пленника. Сообщите в Мессину об его аресте.
Солдаты встретили эти слова громкими криками радости.
– Теперь, – сказал Бруно, обращаясь к бригадиру, – садитесь за стол, и давайте закончим ужин, который был прерван этими болванами.
– Охотно, – ответил Паоло, – ведь я только что проделал за три часа целых восемь миль. Умираю от голода и жажды.
– Ну что ж, – продолжал Бруно, – раз вы так хорошо настроены и нам остается провести вместе единственную ночь, надо провести ее весело. Али, сбегай за нашими дамами. А пока что, – продолжал Паскуале, наполняя два стакана, – выпьем-ка за ваше производство в унтер-офицеры.
Пять дней спустя после описанных нами событий князю де Карини в присутствии красавицы Джеммы, которая лишь неделю назад вернулась из монастыря, где она отбывала наложенное на нее послушание, сообщили, что его приказ наконец выполнен: Паскуале Бруно схвачен и заключен в мессинскую тюрьму.
– Превосходно, – сказал он, – пусть князь де Гото уплатит обещанные три тысячи дукатов, а затем велит судить и повесить бандита.
– О, мне было бы так интересно взглянуть на этого человека, – проговорила Джемма тем нежным, ласкающим тоном, которому князь ни в чем не мог отказать. – Я никогда не видела его, а ведь о нем рассказывают чудеса…
– Не беспокойся, мой ангел, – ответил князь. – Мы прикажем повесить его в Палермо!
XI
Князь де Карини, верный обещанию, которое дал любовнице, велел перевести заключенного из Мессины в Палермо, и Паскуале Бруно под усиленной охраной был доставлен в городскую тюрьму, расположенную на Палаццо-Реале, рядом с домом для умалишенных.
К вечеру второго дня в его камеру явился священник. При виде священнослужителя Паскуале Бруно встал, однако, сверх всякого ожидания, отказался исповедаться, священник стал настаивать, но ничего, казалось, не могло побудить Паскуале выполнить этот христианский долг. Видя, что ему не побороть упорства заключенного, священник осведомился о причине такого упорства.
– Дело в том, – ответил Бруно, – что я не желаю совершить святотатство.
– Каким же образом, сын мой?
– Во время исповеди надо не только раскаяться в своих преступлениях, но и простить преступления других, верно?
– Несомненно, без этого не может быть подлинной исповеди.
– Так вот, – продолжал Бруно, – я никому ничего не простил. И, следовательно, исповедь моя будет ненастоящей исповедью, а я этого не хочу…
– Быть может, под вашим упорством кроется нечто иное? – продолжал священнослужитель. – Быть может, вы страшитесь признаться в своих грехах, ибо они так велики, что отпустить их не сможет ни один священник? Успокойтесь, Господь Бог милостив, и надежда не потеряна, если раскаяние грешника искренне.
– И все же, отец мой, что будет, если после отпущения грехов, перед смертью мне придет в голову грешная мысль и я не смогу отогнать ее?
– Плоды вашей исповеди будут потеряны, – ответил священник.
– Значит, мне нельзя исповедаться, – сказал Паскуале. – Ибо грешная мысль наверняка придет мне в голову.
– И вы не можете изгнать ее из своего разума?
Паскуале улыбнулся.
– Отец мой, именно она и дает мне силы жить. Неужели вы могли подумать, что без этой дьявольской мысли, без последней надежды на месть я позволил бы выставить себя на посмеяние перед собравшейся толпой? Ни за что на свете! Скорей я задушил бы себя вот этой цепью! Я решился на это еще в Мессине, но тут был получен приказ о моем переводе в Палермо. Я понял, что она пожелала видеть, как я умру.
– Кто это?
– Она.
– Но если вы умрете нераскаянным грешником, бог не простит вас.
– Отец мой, она тоже умрет нераскаянной грешницей, ибо умрет в ту самую минуту, когда меньше всего этого ожидает. Она тоже умрет без священника, без исповеди… Она тоже не получит прощения, и мы будем прокляты оба.
В эту минуту вошел тюремный сторож.
– Отец, – сказал он, – все готово для заупокойной службы.
– Вы упорствуете в своем отказе, сын мой? – вновь спросил священник.
– Да, – спокойно подтвердил Бруно.
– В таком случае я больше не буду настаивать и отслужу за вас заупокойную мессу. Впрочем, надеюсь, что во время службы дух божий снизойдет на вас и внушит вам правильные помыслы.
– Возможно, отец мой, только вряд ли.
Вошли жандармы, отвязали Бруно и отвели его в ярко освещенную церковь Сен-Франсуа-де-Саль, находившуюся как раз против тюрьмы. Согласно обычаю, осужденный должен был присутствовать на собственной заупокойной службе и провести в церкви ночь перед казнью, которая была назначена на восемь часов утра.
В одну из колонн клироса было вмуровано железное кольцо, Паскуале подвели к этой колонне и привязали цепью к кольцу, однако цепь была достаточно длинна, чтобы он мог подойти к балюстраде, возле которой принимали причастие коленопреклоненные прихожане.
Перед началом мессы служители из дома для умалишенных принесли гроб и поставили его посреди церкви: в гробу лежала покойница. Безумица, скончавшаяся в этот же день, и директору больницы пришла в голову мысль воспользоваться отпеванием живого преступника для упокоения души умершей душевнобольной.
Впрочем, это было удобно и для священника, так как позволяло ему сберечь время и силы. Одним словом, распоряжение директора устраивало совершенно всех, а потому не встретило ни малейшего возражения. Пономарь зажег две свечи – одну у изголовья, другую в ногах усопшей, и заупокойная месса началась, Паскуале с благоговением выслушал ее всю, от начала до конца. По окончании мессы священник подошел к осужденному и спросил, не смягчилось ли его сердце, однако тот ответил, что, невзирая на церковную службу, невзирая на молитвы, которые он сам прочел, чувство ненависти, питаемое им, не ослабело. Священник обещал прийти еще раз в семь часов утра, чтобы после ночи, проведенной в одиночестве и размышлениях в Божьем храме, перед лицом распятия, узнать, по-прежнему ли он думает о мести.
Бруно остался один. Он глубоко задумался, вся прожитая жизнь прошла у него перед глазами, начиная с раннего детства, когда ребенком он только начинал познавать мир. Напрасно он перебирал прожитые годы в поисках вины: ведь должен был он в чем-то провиниться, дабы навлечь на себя несчастья, поразившие его в юности. Он ничего не нашел, кроме почтительного, сыновнего повиновения родителям, которых дал ему бог. Он вспомнил отчий дом, такой мирный и счастливый, который сразу по неизвестной ему тогда причине стал обителью горя и слез. Он вспомнил день, когда отец куда-то ушел, вооружившись стилетом, и вернулся в крови, он вспомнил ночь, когда человек, даровавший ему жизнь, был арестован, как арестован теперь он сам, вспомнил, что мальчиком его привели в церковь, подобную этой, и он увидел там отца в цепях, таких же, как вот эти цепи. И ему показалось, что причиной всех бед, обрушившихся на его семью, было некое злокозненное влияние, игра случая, торжество победоносного зла над добром.
Дойдя до этой мысли, Паскуале перестал понимать что-либо в обещаниях блаженства, якобы уготованного людям на небесах. Более того, он, как ни старался, не мог припомнить, чтобы ему хоть раз в жизни явилось хваленое провидение. Понадеявшись, что в эти последние минуты ему, быть может, приоткроется извечная тайна, он бросился ничком на пол, всей душой моля бога открыть ему суть страшной загадки, приподнять край непроницаемой завесы, предстать перед ним в образе отца или тирана. Надежда оказалась тщетной, ответом ему была тишина, и только голос собственного сердца глухо повторял: «Мщение! Мщение!»
Тогда он подумал, что, быть может, ответ кроется в смерти и что ради этого откровения в церковь и принесен гроб, ведь человек, самый ничтожный, принимает свою жизнь за центр мироздания и думает, будто все нити бытия ведут к нему, а его жалкая личность служит стержнем, вокруг которого вращается вселенная. Он медленно поднялся на ноги, более осунувшийся, побледневший от этих мыслей, чем от мысли об эшафоте, и устремил взгляд на гроб: в нем лежала женщина.
Паскуале вздрогнул, сам не зная почему, он попробовал рассмотреть покойницу[118], но край савана упал на ее лицо и закрыл его. Внезапно на память ему пришла Тереза, Тереза, которую он не видел с того самого дня, когда отрекся от Бога и от людей, Тереза, которая три года провела в доме для умалишенных, откуда и был принесен этот гроб. Тереза, его невеста, с которой он находился, быть может, у подножия алтаря, куда издавна мечтал привести ее и где, по горькой иронии судьбы, они наконец встретились – она, сраженная смертью, он, приговоренный к смерти. Сомнение становилось невыносимым, он шагнул к гробу, чтобы узнать правду, но что-то резко остановило его: это была цепь, которая не давала ему отойти от колонны, он простер руки к покойнице, но никак не мог дотянуться до ее лица. Он поглядел, нет ли поблизости какой-нибудь палки, чтобы приподнять саван, однако ничего не нашел; задыхаясь от бесплодных усилий, он попытался ухватить край савана и сдернуть его, но тот словно прирос к месту. Тогда в порыве неописуемой злобы он обернулся, схватил обеими руками цепь и изо всех сил стал трясти ее, пытаясь развить, но звенья были крепко заклепаны, и цепь не распалась. От бессильного гнева холодный пот выступил у него на лбу, он снова опустился на пол у подножия колонны, уронил голову на руки и застыл в полной неподвижности, безгласный, как статуя Уныния, и когда утром в церковь пришел священник, он нашел его в той же позе.
Священнослужитель подошел к нему безмятежно спокойный, как и подобает носителю мира и благодати, он подумал, что Паскуале спит, и положил руку ему на плечо. Паскуале вздрогнул и поднял голову.
– Ну как, сын мой, – спросил священник, – готовы ли вы исповедаться? Я готов отпустить вам грехи…
– Я отвечу вам немного погодя, отец мой. Но прежде окажите мне последнюю услугу, – сказал Бруно.
– В чем дело? Говорите.
Бруно встал, взял священника за руки и подошел с ним к гробу настолько, насколько позволяла длина цепи.
– Отец мой, – проговорил он, указывая на покойницу, – приподнимите, прошу вас, край савана, я хочу видеть лицо этой женщины.
Священник приподнял саван. Паскуале не ошибся: в гробу лежала Тереза. Он с глубокой грустью посмотрел на нее, затем сделал знак священнику, чтобы тот опустил саван. Священник исполнил его просьбу.
– Скажите, сын мой, – спросил он, – не навел ли вас вид этой женщины на благочестивые мысли?
– Отец мой, эта женщина и я были созданы, чтобы жить счастливо, не ведая греха. Она сделала из нее клятвопреступницу, а из меня убийцу. Она привела нас обоих – эту женщину дорогой безумия, а меня дорогой отчаяния на край могилы, куда мы оба сойдем сегодня. Пусть Бог простит ее, если посмеет, я ее не прощу!
В эту минуту вошли стражники, чтобы вести Паскуале на казнь.
XII
Небо было безоблачно, воздух чист и прозрачен, Палермо пробуждался, словно в ожидании праздника: занятия в школах и семинариях были отменены, и, казалось, все население собралось на Толедской улице, по которой должен был проехать осужденный, так как церковь Сен-Франсуа-де-Саль, где он провел ночь, находилась на одном ее конце, а площадь Морского министерства, где готовилась казнь, – на другом. Все окна нижних этажей были заняты женщинами, ибо любопытство подняло их на ноги в тот час, когда они обычно еще нежились в постели, за иными зарешеченными окнами[119], как тени, мелькали монахини различных монастырей Палермо и его окрестностей, а на плоских крышах города колыхалась, словно хлебное поле, толпа выше всех забравшихся зрителей. У дверей церкви осужденного ждала повозка с впряженными в нее мулами, впереди нее шествовали члены конгрегации белых монахов, первый из них держал крест, а четверо остальных несли гроб, позади повозки ехал верхом на коне палач с красным флагом в руке, за палачом шли двое его помощников, наконец, за помощниками палача выступала конгрегация черных монахов, замыкая шествие, которое двигалось между двойными рядами стражников и солдат, по бокам шествия и среди толпы сновали мужчины в длинном сером одеянии с капюшонами на голове, в которых были проделаны отверстия для глаз и рта, они держали в одной руке колокольчик, а в другой кошель и собирали деньги на то, чтобы помолиться об освобождении из чистилища души еще живого преступника. В городе распространился слух, что осужденный отказался от исповеди, и этот поступок, шедший вразрез со всеми религиозными догмами, придавал особый вес молве об адском пакте, якобы заключенном между Бруно и врагом рода человеческого, молве, которая распространилась с начала его недолгой и бурной карьеры, и чувство, близкое к ужасу, охватило всю эту снедаемую любопытством, но безмолвную толпу, ибо ни единый звук – будь то возглас, крик или шепот – не нарушил заупокойных молитв, которые пели белые монахи во главе шествия и черные монахи в его хвосте. Чем дальше повозка с осужденным продвигалась по Толедской улице, тем больше становилось и количество любопытных, которые примыкали к шествию и провожали его по направлению к площади Морского министерства. Один Паскуале казался спокойным среди всех этих возбужденных людей: он смотрел на окружающих без приниженности и без гордыни, как человек, который, осознав обязанности личности перед обществом и права общества по отношению к личности, не раскаивается в том, что пренебрег первыми, и не жалуется на то, что общество покарало его за нарушение вторых.
Шествие задержалось в центре города, на площади Четырех кантонов: на Кассарской улице собралось столько народу, что шеренга солдат была смята, люди хлынули на середину улицы и передние монахи не могли пробиться дальше. Воспользовавшись этой остановкой, Паскуале встал во весь рост и посмотрел вокруг с высоты повозки, словно искал кого-то, кому хотел отдать последний приказ, сделать последний знак, но, как ни всматривался осужденный в толпу, он, видимо, не нашел человека, которого искал, так как снова опустился на охапку соломы, служившую ему сиденьем, лицо его приняло мрачное выражение и становилось все мрачнее по мере того, как шествие продвигалось к площади Морского министерства. Здесь вновь образовался затор, потребовавший очередной остановки. Паскуале вторично встал на ноги, бросил сначала безразличный взгляд на противоположный конец площади, где стояла виселица, затем осмотрел всю огромную площадь, которая была словно устлана головами, за исключением безлюдной террасы князя де Бутера, и остановил свой взгляд на роскошном балконе, затянутом шелковой тканью с золотыми цветами и защищенном от солнца пурпурным навесом. Здесь, окруженная самыми красивыми женщинами и самыми знатными кавалерами Палермо, восседала на возвышении прекрасная Джемма де Кастель-Нуово, которая, желая насладиться агонией своего врага, приказала поставить свой трон точно против эшафота. Взгляд Паскуале Бруно встретился с ее взглядом, лучи их скрестились, подобно двум молниям, исполненным ненависти и мести. Они еще не успели оторваться друг от друга, когда из толпы, окружающей повозку, донесся какой-то странный крик: Паскуале вздрогнул, мгновенно повернул голову, и его лицо сразу приняло прежнее спокойное выражение, более того, в нем промелькнуло нечто похожее на радость. В эту минуту шествие снова тронулось, но тут раздался громкий голос Бруно:
– Остановитесь!
Слово это возымело магическое действие: толпа словно разом приросла к земле, все головы повернулись к осужденному, и тысячи горящих взглядов устремились на него.
– Чего тебе? – спросил палач.
– Хочу исповедаться, – ответил Паскуале.
– Священник ушел, ты сам его отослал.
– Мой духовник – вот тот монах, слева от меня, в толпе. Я не хочу другого, мне нужен мой духовник.
Палач нетерпеливо покачал головой, но в то же мгновение народ, слышавший просьбу осужденного, закричал:
– Духовника! Духовника!
Палачу пришлось повиноваться, шествие остановилось перед монахом: это был высокий юноша с темным цветом лица, видимо, исхудавший от поста и молитвы. Едва он влез в повозку, как Бруно упал на колени. Это послужило всеобщим сигналом: на площади, на балконах, в окнах, на крышах домов люди преклонили колена, исключение составили лишь палач, оставшийся в седле, да его помощники, которые продолжали стоять, как будто эти проклятые Богом люди потеряли надежду на прощение своих грехов. Одновременно монахи затянули отходную, чтобы заглушить голоса исповедника и духовника.
– Я искал тебя, – сказал Бруно.
– Я ждал тебя здесь, – ответил Али.
– Я боялся, что они не выполнят данного мне обещания.
– Они выполнили его: я на свободе.
– Слушай меня хорошенько.
– Слушаю.
– Здесь, справа от меня… – Бруно повернул голову, так как руки его были связаны. – На этом балконе, затянутом золотой тканью…
– Да.
– Видишь женщину, молодую, красивую, с цветами в волосах?
– Вижу. Она стоит на коленях и молится, как и все остальные.
– Это и есть графиня Джемма де Кастель-Нуово.
– Под ее окном я ждал тебя в тот вечер, когда ты был ранен в плечо?
– Да. Эта женщина – причина всех моих несчастий. Это она заставила меня совершить мое первое преступление. Она же привела меня сюда.
– Понимаю.
– Я не умру спокойно, если она останется жить всеми уважаемая и счастливая, – проговорил Бруно.
– Можешь не тревожиться, – ответил юноша.
– Спасибо, Али.
– Позволь обнять тебя, отец.
– Прощай!
– Прощай!
Молодой монах обнял осужденного, как это делает священник, отпуская грехи преступнику, спустился с повозки и затерялся в толпе.
– Вперед! – приказал Бруно.
И шествие снова повиновалось, как будто тот, кто произнес это слово, имел право повелевать.
Народ встал с колен, Джемма села на прежнее место с улыбкой на устах. Шествие продолжало путь по направлению к эшафоту. Подъехав к подножию виселицы, палач слез с коня, взобрался по лестнице, чтобы укрепить кроваво-красный флаг на поперечной балке[120], и, убедившись, что веревка крепко привязана, сбросил с себя куртку, которая стесняла его движения. Паскуале тотчас же спрыгнул с повозки, отстранил, передернув плечами, подручных палача, которые хотели помочь ему, взбежал на помост и прислонился к лестнице, по которой он должен был подняться, повернувшись к ней спиной. Монах, несший крест, поставил его перед Паскуале, дабы тот мог видеть его во время своей агонии. Монахи, которые несли гроб, сели на него, вокруг эшафота выстроились солдаты, и на помосте остались только обе монашеские конгрегации, палач, его помощники и осужденный.
Паскуале поднялся по лестнице с тем же спокойствием, которое он выказывал до сих пор, не пожелав, чтобы его поддержали, и так как балкон Джеммы находился как раз напротив него, было замечено, что он взглянул в ту сторону и даже улыбнулся. В то же мгновение палач накинул петлю на шею осужденного и всей своей тяжестью навалился на его плечо, в то время как помощники уцепились за его ноги, но тут веревка, не выдержав тяжести четырех тел, лопнула и вся постыдная группа, состоящая из палача, его сподручных и жертвы, скатилась на помост. Один человек вскочил на ноги первый: это был Паскуале Бруно, руки которого развязали перед повешением. Он выпрямился среди полной тишины, из его правого бока торчал нож, который палач всадил ему по самую рукоять.
– Мерзавец! – воскликнул бандит, обращаясь к заплечных дел мастеру. – Мерзавец, ты не палач и не бандит, ничего ты не умеешь – ни вешать, ни убивать!
С этими словами он вытащил нож из своего правого бока, всадил его в левый и упал замертво.
Вся площадь громко ахнула, толпа пришла в волнение: одни постарались убежать, другие ринулись к эшафоту. Тело осужденного унесли монахи, палача растерзал народ. Так закончил свои дни Паскаль Бруно, имя которого на языке прекрасной Сицилии звучит как Паскуале.
Вечером того же дня князь де Карини ужинал у архиепископа Монреальского, а Джемма, которая не была принята в высоконравственном обществе прелата, осталась в одиночестве на вилле Карини. Погода была так же великолепна, как и утром. Из окна спальни, обитой голубым атласом – в ней разыгралась первая сцена нашей повести, – по-прежнему был отчетливо виден остров Аликуди, а за ним, словно в дымке, выступали острова Филикуди и Салина. В другом окне, выходившем в парк с его апельсиновыми, гранатовыми деревьями и прекрасными соснами, высилась справа во всем величии гора Пеллигрино, слева вдали терялся в дымке, однако был различим Монреаль.
Именно у этого окна, устремив взгляд на старинную резиденцию нормандских королей и пытаясь узнать среди карет, спускавшихся в Палермо, экипаж вице-короля, долго сидела графиня Джемма де Кастель-Нуово. Наконец темнота ночи сгустилась, отдаленные предметы растворились, словно их не бывало. Графиня встала, позвонила камеристке и, усталая после всех волнений этого дня, легла в постель. Томным голосом она велела затворить окно, из которого были видны острова, говоря, что ночью ее обеспокоит свежий морской бриз, однако окно, выходившее в парк, велела оставить приоткрытым, чтобы в него проникал воздух, напоенный ароматом жасмина и цветущих апельсиновых деревьев. Князю де Карини лишь поздно вечером удалось ускользнуть из-под бдительного надзора своего гостеприимного хозяина. На часах собора, построенного Вильгельмом Добрым, пробило одиннадцать, когда экипаж вице-короля, запряженный четверкой превосходных коней, унес его из резиденции архиепископа. Князю потребовалось не более получаса, чтобы доехать до Палермо, и еще каких-нибудь пять минут, чтобы домчаться до виллы Карини. Он спросил у камеристки, где Джемма, и та ответила, что графиня почувствовала себя усталой и легла спать около десяти часов. Князь вбежал по лестнице и хотел было отворить дверь спальни, но она была заперта изнутри, тогда он направился к потайной двери, которая вела в альков Джеммы, тихонько открыл ее, боясь разбудить красавицу, и задержался на минуту, чтобы полюбоваться ею во время сна – зрелище поистине сладостное для влюбленных глаз.
Комната освещалась алебастровой лампой, висевшей на трех усыпанных жемчугом шнурах у самого потолка, чтобы ее свет не беспокоил спящую. Князь склонился над кроватью, ему хотелось получше рассмотреть Джемму. Она лежала на спине, грудь была почти обнажена, вокруг шеи обернуто кунье боа, темный цвет которого превосходно оттенял белизну кожи. Князь глядел с минуту на эту прекрасную статую, но вскоре ее неподвижность поразила его – он наклонился еще ниже и заметил странную бледность лица, прислушался и не уловил дыхания, он схватил руку Джеммы и ощутил поистине могильный холод. Тогда он обнял возлюбленную, чтобы прижать ее к себе, отогреть у своей груди, но тут же с криком разжал руки: голова Джеммы, отделившись от туловища, скатилась на пол.
Наутро под окном спальни графини слуги нашли ятаган Али.
1
Ланды – природная область на юго-западе Франции, наклоненная к морскому побережью равнина, лежащая между Атлантическим океаном и Пиренеями. Ланды отделены от побережья песчаными дюнами, а сама равнина заболочена, покрыта зарослями кустарников и малопригодна для ведения сельского хозяйства. (Здесь и далее примеч. ред., если не указано иное.)
(обратно)2
Людовик XIII Справедливый из династии Бурбонов правил с 1610 по 1643 год.
(обратно)3
Саржа – плотная шелковая или хлопковая ткань, которую в прошлом использовали для обивки стен и мебели.
(обратно)4
Симара – распашная одежда без рукавов с застежкой спереди, часто из фиолетового бархата или сукна. Была распространена среди знати в Южной Европе.
(обратно)5
Шпалера – тканый настенный ковер с сюжетными и орнаментальными композициями.
(обратно)6
Кобольд – дух домашнего очага в мифологии Северной и Западной Европы, напоминающий славянского домового. Кобольдов считают добродушными, но очень шумливыми и злопамятными.
(обратно)7
Саламандры (небольшие земноводные, живущие во влажных лесах), по средневековому западноевропейскому поверью, живут в огне.
(обратно)8
Баски – народ, населяющий обширный регион Северной Испании и Юго-Западной Франции.
(обратно)9
Лен – земли, пожалованные вассалу сеньором в наследственное владение.
(обратно)10
Феспид – древнегреческий поэт и драматург, живший в VI в. до н. э. Ему приписывают создание самых первых, еще до Эсхла и Софокла, в которых участвовали один актер и хор. Трагедии Феспида до наших дней не сохранились.
(обратно)11
Персонаж итальянской комедии дель арте: назойливый и педантичный старик-нотариус, судья, секретарь или врач, сыплющий иноземными словами.
(обратно)12
Персонажи итальянских комедий XVI–XVII вв.
(обратно)13
«Брюнетка», буквально: «мавританка, цыганка» (исп.).
(обратно)14
Сатиры (в древнегреческой мифологии) – лесные божества, демоны плодородия, жизнерадостные козлоногие существа. Считались ленивыми и распутными, проводили время в пьянстве и в погонях за нимфами.
(обратно)15
Фавн – одно из древнейших итальянских божеств, покровитель гор, лугов, полей, пещер и стад, дарующий плодородие полям, животным и людям.
(обратно)16
Так называли незаселенные земли в испанской провинции Мурсия, а позднее – в Чили и Перу.
(обратно)17
Парки – три богини судьбы в древнеримской мифологии – Нона, Децима и Морта. Их часто изображали в виде трех безобразных старух.
(обратно)18
Псевдоним Франсуа Рабле, которым писатель пользовался, опасаясь репрессий со стороны церкви.
(обратно)19
Фахверк – средневековый тип зданий, в которых несущие конструкции – деревянные балки – находятся снаружи постройки.
(обратно)20
Согласно древнегреческому мифу, царь Сипила Тантал, чтобы испытать всеведение богов, убил своего сына Пелопа, приготовил блюдо из его мяса и подал его на пиру богам. Те, однако, сразу поняли замысел Тантала и воскресили убитого. В наказание Тантал был обречен на нестерпимые муки голода и жажды в подземном царстве.
(обратно)21
Аграмант – тонкий плетеный шнур, использовался для узорчатых украшений на одежде.
(обратно)22
Булимия – нервное расстройство, характеризующееся острыми приступами мучительного голода, который практически не удается утолить.
(обратно)23
Альпаргаты – сандалии.
(обратно)24
Наваха – большой складной нож.
(обратно)25
Сид Кампеадор (1045–1099) – национальный герой Испании, участник Реконкисты, блестящий полководец. Перед последней битвой с маврами был ранен отравленной стрелой и вскоре умер. Жена Сида облачила его тело в доспехи и усадила на коня, чтобы его армия не догадалась о смерти предводителя и не утратила боевой дух.
(обратно)26
Герои средневековых испанских рыцарских романов.
(обратно)27
Андруэ Дюсерсо – династия знаменитых французских архитекторов эпохи Возрождения.
(обратно)28
Штоф – тяжелая шелковая или шерстяная ткань с тканым рисунком.
(обратно)29
Родомонтада (фр.) – бахвальство, напыщенная речь пустого фанфарона.
(обратно)30
Короткая горизонтальная драпировка в верхней части штор или занавесей с различными декоративными элементами в виде кистей, воланов или вырезов.
(обратно)31
Мушки – кусочки черного пластыря, тафты или бархата, которые дамы приклеивали на лицо, грудь или плечи в виде «родинок». В XVIII в. мушки стали не только элементом макияжа, но и орудием флирта, существовал даже так называемый «язык мушек».
(обратно)32
Жирандоль – канделябр с многочисленными рожками для свечей, расположенными по окружности, украшенный хрустальными подвесками, отражающими и преломляющими свет.
(обратно)33
Сегидилья – испанский народный танец, сопровождаемый хоровым пением. Сегидильи исполняли в Кастилии уже в XV веке.
(обратно)34
Ян Брейгель Бархатный (1568–1625) – выдающийся фламандский художник, мастер пейзажей и натюрмортов.
(обратно)35
«Памятный след зубов» (лат.).
(обратно)36
Семь отроков Эфесских – христианские мученики, заживо замурованные в пещере за то, что отказались приносить жертвы языческим богам, проспавшие там больше двух веков и проснувшиеся живыми и здоровыми. Почитаются в православии, католицизме и в исламе. Собака упоминается только в исламской версии предания.
(обратно)37
Над морской пучиной (лат.)
(обратно)38
Лестригоны – народ великанов-людоедов в греческой мифологии.
(обратно)39
Павана – торжественный медленный танец, распространенный в Западной Европе в XVI–XVII вв.
(обратно)40
«От укуса этой змеи нет лекарства в аптеках!» (исп.)
(обратно)41
Иосиф, прозванный Прекрасным, – персонаж библейского Пятикнижия. Проданный братьями в рабство в Египет, Иосиф был брошен в темницу по наговору жены своего хозяина Потифара, с которой он не захотел разделить ложе.
(обратно)42
Шемизетка – полупрозрачная короткая блузка с рукавами, отделанная кружевами.
(обратно)43
Во Франции в XVII–XVIII вв. была очень популярна старинная игра с мячом, предшественница современного тенниса. Игроки перебрасывали небольшой мяч через сетку или натянутую веревку с помощью бит или деревянных лопаток, напоминающих ракетки. Только в Париже в конце XVII в. насчитывалось 200 залов для этой игры.
(обратно)44
Щепотку соли (лат.).
(обратно)45
Жорж де Скюдери (1601–1667) – французский поэт и драматург XVII в. Его перу принадлежат шестнадцать пьес: двенадцать трагикомедий, две трагедии и две комедии.
(обратно)46
Которую за ниточку приводят в движение другие (лат.).
(обратно)47
То есть предпочитаю вино, разбавленное ключевой водой.
(обратно)48
Шлафрок – длинный и теплый домашний халат, который обычно подпоясывали витым шнуром с кистями.
(обратно)49
Сен-Жермен-ан-Лэ – городок, расположенный в 19 км к западу от Парижа. Со времен Средневековья там находилась загородная резиденция королей Франции – Сен-Жерменский замок.
(обратно)50
Ритурнель (от фр. ritournelle – «возвращение») – инструментальное вступление, интермедия.
(обратно)51
Мир Божий – в Средние века прекращение войн и междоусобиц в дни, освященные воспоминаниями о событиях из жизни Христа. Это прежде всего важнейшие церковные праздники, а также дни сочельника и поста.
(обратно)52
Ламии – вампиры, привлекающие прохожих под видом прекрасных дев или юношей и высасывающие у них кровь.
(обратно)53
Грации – в древнеримской мифологии три богини веселья и радости жизни, олицетворение изящества и привлекательности.
(обратно)54
Планшетки – обтянутые замшей стальные пластинки, которые для жесткости вставлялись в дамские корсеты.
(обратно)55
«Бургундский отель» – крупнейший драматический театр Парижа в XVII в. и первый постоянный театр во Франции, театр «Маре» («Театр на Болоте») располагался в квартале, носившем название «Болото». В труппах этих театров играли самые выдающиеся актеры того времени.
(обратно)56
Строительство Нового моста было завершено в конце правления короля Генриха IV. В 1614 г. по повелению королевы Марии Медичи в средней части моста, опирающейся на остров Ситэ, была установлена статуя всадника в честь ее супруга Генриха IV, убитого фанатиком Франсуа Равальяком.
(обратно)57
Баркан – старинная плотная шерстяная или хлопчатобумажная ткань с рубчатой поверхностью.
(обратно)58
Козья ножка – стоматологический инструмент с крючкообразной рабочей частью и массивной ручкой, применявшийся для удаления зубов и корней зубов еще во времена Средневековья.
(обратно)59
Любыми способами (лат.)
(обратно)60
Лютеция – древнее поселение кельтского племени паризиев на месте современного Парижа, существовавшее в I в. до н. э. Название поселения происходит от латинского слова lutum, что в переводе означает «грязь».
(обратно)61
Монфокон – огромная каменная виселица, построенная еще в XIII в. за северо-восточной окраиной Парижа. Одновременно на Монфоконе могло быть повешено до 45 преступников.
(обратно)62
Озеро неподалеку от Неаполя, представляющее собой заполненный водой вулканический кратер. В прошлом в его окрестностях постоянно выделялись ядовитые вулканические газы.
(обратно)63
Фланконада – фехтовальный термин: боковой удар, одновременно уводящий в сторону клинок противника.
(обратно)64
Жак Калло (1592–1635) – выдающийся французский гравер и рисовальщик, мастер офорта, работавший в Италии, Нидерландах и Франции.
(обратно)65
Кончетто – вычурная метафора, характерная для поэзии эпохи барокко. Прославленный итальянский поэт Джамбаттиста Марино (1569–1625) был одним из самых выдающихся представителей такой изощренной литературной манеры.
(обратно)66
Панье (фр.) – каркас из ивовых прутьев, стальной проволоки или пластин китового уса, придававший пышность женским юбкам. В Восточной Европе панье называли фижмами.
(обратно)67
Буквально: Винопийца, Свернишея, Ерш и Верзила.
(обратно)68
Марк-Антуан де Сент-Аман (1591–1661) – французский поэт, один из основателей Французской Академии, автор не только изысканных од, но и веселых «плутовских» поэм и сонетов.
(обратно)69
Маска Гиппократа – признак тяжелых воспалительных поражений внутренних органов и близкой смерти: запавшие глаза, впалые щеки, заострившийся нос, синевато-бледная кожа, покрытая каплями холодного пота.
(обратно)70
Гарпократ – божество молчания у древних греков; изображался в виде юноши, приложившего палец к губам.
(обратно)71
Эндимион – в древнегреческой мифологии знаменитый своей красотой юноша, царь Элиды. Согласно мифу, богиня Диана усыпила Эндимиона, чтобы поцеловать юношу, к которому она питала непреодолимую любовь.
(обратно)72
Гревская площадь – площадь в Париже у набережной Сены, где на протяжении нескольких веков совершались публичные смертные казни. На площади были установлены постоянные эшафот, виселица и позорный столб.
(обратно)73
Благовоспитанный человек, то же, что и джентльмен.
(обратно)74
Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (1525–1594) – выдающийся итальянский композитор, один из крупнейших полифонистов эпохи Ренессанса. Мотет – вокальное многоголосное произведение, один из главных жанров в музыке эпохи Возрождения в Западной Европе.
(обратно)75
Гименей – в древнегреческой мифологии божество брака, олицетворяющее собой особую песнь, которая исполнялась в Греции на брачном пиру.
(обратно)76
«Стремиться к высокому!» (лат.).
(обратно)77
Боскет – искусственная рощица, группа декоративных кустов и деревьев, расположенных на поляне или газоне.
(обратно)78
Цикл романов продолжают «Похождения прекрасной Нанси» и «Приключения червонного валета».
(обратно)79
Так с XVI века называли французских протестантов-кальвинистов. Несмотря на жестокие преследования со стороны королей-католиков, гугеноты оказывали серьезное сопротивление, что привело к целому ряду междоусобных войн во Франции. К гугенотам принадлежали, в основном, мелкое дворянство и зажиточные горожане.
(обратно)80
Миньон (фр. mignon – крошка, симпатяга) – начиная с XVI в. во Франции так именовали фаворитов, любимцев высокопоставленных аристократов и монархов.
(обратно)81
Генеральные Штаты во Франции XVII в. – совещательный орган, который созывался по инициативе короля в критические моменты для оказания помощи правительству. В его состав входили представители всех трех сословий – дворянства, духовенства и зажиточных горожан-буржуа.
(обратно)82
Пепельная среда – первый день Великого поста в церкви латинского обряда. В этот день предписывается строгий пост, сокрушение о своих грехах и покаяние, проводится особый обряд посыпания голов верующих освященным пеплом.
(обратно)83
Генрих III, еще будучи герцогом Анжуйским, был избран королем Польши, однако оставался им всего несколько месяцев (с 24 января 1574 по 18 июня 1574 г.), так как тем же летом взошел на трон королей Франции.
(обратно)84
Лотарингский дом – один из величайших владетельных домов в истории Европы. К нему принадлежали и герцоги де Гизы, сыгравшие выдающуюся роль в религиозных войнах между католиками и протестантами во Франции и едва не занявшие королевский престол.
(обратно)85
Пьер Террай де Байярд (1473–1524) – французский рыцарь и полководец времен Итальянских войн, прозванный рыцарем без страха и упрека и добрым рыцарем. В те времена был во Франции поистине «культовой фигурой».
(обратно)86
Речь идет о Генрихе IV (1553–1610) – лидере гугенотов эпохи Религиозных войн во Франции, короле Наварры с 1572 г., а впоследствии – короле Франции. Генрих IV был основателем французской королевской династии Бурбонов.
(обратно)87
Терция, кварта – позиции в фехтовании. В терции острие клинка смотрит в лоб противника, рука фехтовальщика полусогнута, гарда находится на уровне пояса; в кварте острие клинка находится левее головы противника и блокирует возможный ответный выпад.
(обратно)88
Рипост – ответный удар или ответный укол после парирования или ухода с линии атаки противника.
(обратно)89
От названия гасконского региона Журансон, славящегося замечательными белыми винами.
(обратно)90
Эдикт – правовой акт, нечто среднее между указом и декретом.
(обратно)91
Турский ливр – золотая монета, в 16 в. считавшаяся основной валютой Франции. Содержал около 0,6 г чистого золота. Свое название турский ливр получил в связи с тем, что чеканился на монетном дворе в городе Тур.
(обратно)92
Рейтары (от нем. Reiter – «всадник») – наемные солдаты конных полков в Европе XVI–XVII вв. Были вооружены преимущественно огнестрельным оружием. Рейтар набирали преимущественно в Южной Германии.
(обратно)93
Священная лига – католическая партия во Франции, созданная в 1576 г. герцогом Генрихом де Гизом для борьбы с гугенотами. Священную лигу поддерживали папа Сикст V, орден иезуитов и король Испании Филипп II.
(обратно)94
Венсенский замок в предместье Парижа в средние века служил королевской резиденцией, а во времена французских религиозных войн в XVI в. стал одной из самых мрачных тюрем Франции.
(обратно)95
Варфоломеевская ночь – массовое истребление гугенотов во Франции, учиненное католиками в ночь на 24 августа 1572 г., в канун дня св. Варфоломея. Резня произошла спустя шесть дней после свадьбы сестры короля Маргариты Валуа с протестантом Генрихом Наваррским, на которую в Париж съехалось множество самых богатых и влиятельных гугенотов. В те дни погибло около 30 тыс. человек.
(обратно)96
Пистоль – так в XVI в. французы называли испанские золотые монеты – дублоны, имевшие хождение по всему Французскому королевству. Пистоль содержал около 6, 5 г чистого золота.
(обратно)97
Город на юго-западе Франции на реке Ло, притоке Гаронны. Центр виноградарства и виноделия.
(обратно)98
Видам – в феодальной Франции наместник епископа, первоначально управлявший церковными имениями, а затем получивший их в собственное владение.
(обратно)99
Лен – земельный надел, полученный вассалом от своего сеньора на условиях несения военной или придворной службы в пользу сеньора.
(обратно)100
Лье – французская единица измерения расстояния, равная 4445 м.
(обратно)101
Ублиет – подземная тюрьма в средневековых замках в виде колодца с люком наверху; «каменный мешок».
(обратно)102
Дофин Франции – титул наследника французского престола.
(обратно)103
Потерна – подземный коридор (галерея), предназначенный для связи между различными укреплениями крепости или замка. Нередко потерны оканчивались за пределами укреплений в потайных местах, что позволяло осажденным незаметно покидать замок или неожиданно атаковать неприятеля.
(обратно)104
Портшез – носилки в виде кресла или небольшой кабины, укрепленной на двух шестах для переноски носильщиками. Использовались в Европе вплоть до XVIII в. в качестве «элитного транспорта» знати.
(обратно)105
Электор – титул в Германии, присваивавшийся в 16–17 вв. наиболее влиятельным князьям, которые имели право участвовать в избрании императора Священной Римской империи германской нации.
(обратно)106
Небольшой регион на востоке Франции.
(обратно)107
Нет нужды напоминать читателям, что мы пишем не трактат по истории Сицилии, а вспоминаем древнее предание. Нам прекрасно известно, что Карл Великий был тевтонец, а не француз. (Прим. автора.)
(обратно)108
Храбрость (лат.).
(обратно)109
Монета стоимостью в три дуката. (Прим. автора.)
(обратно)110
Железные клетки, в которых в Италии выставляют головы преступников, не имеют проволочной сетки. (Прим. автора.)
(обратно)111
Последний довод (лат.).
(обратно)112
Тем, кто желает получить более обширные сведения о князе де Бутера, память о котором и по нынешнее время жива в Сицилии, следует обратиться к остроумным и забавным мемуарам Пальмьери де Мичике. (Прим. автора.)
(обратно)113
Так называли военных, последовавших за кардиналом Руффо, чтобы завоевать Неаполь. (Прим. автора.)
(обратно)114
В Палермо смертная казнь приводится в исполнение на площади Морского министерства, против дворца князя де Бутера (Прим. автора.)
(обратно)115
Заговорен (итал.).
(обратно)116
Албанская колония. Хотя жители ее и покинули землю предков при взятии Константинополя Магометом II, они до сих пор носят свой национальный костюм. (Прим. автора.)
(обратно)117
630 франков. (Прим. автора.)
(обратно)118
В Италии покойников отпевают в открытом гробу и заколачивают его лишь перед тем, как опустить в могилу. (Прим. автора.)
(обратно)119
В Палермо монахиням запрещено бывать на городских праздниках, и все же они незримо присутствуют на них. Каждый зажиточный монастырь снимает этаж какого-нибудь дома на Толедской улице, из зарешеченных окон этого дома, куда они добираются из монастыря по подземным ходам, иной раз в четверть мили длиною, святые отшельницы и взирают на религиозные и светские праздники. (Прим. автора.)
(обратно)120
Французская виселица сильно отличается от итальянской: первая имеет форму латинской буквы F, вторая буквы Н, поперечину которой подняли бы на самый верх. (Прим. автора.)
(обратно)



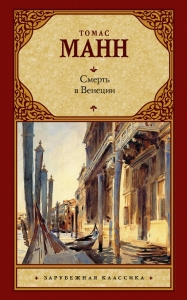




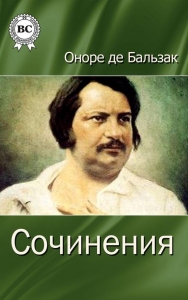

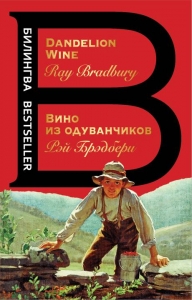

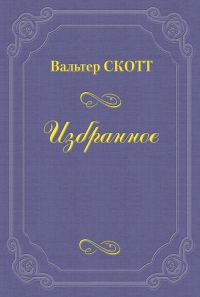
Комментарии к книге «Железная маска (сборник)», Александр Дюма
Всего 0 комментариев