Редьярд Киплинг Строители моста
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
* * *
Финдлейсон, инженер, служивший в департаменте общественных работ, мечтал по окончании возложенной на него работы получить повышение – по крайней мере, должность инспектора; друзья говорили, что он заслуживает большей награды, чем та, которая представлялась ему в его мечтах. В течение трех лет он переносил жару и холод, разочарования и неудобства, опасности и болезни и ответственность, слишком тяжелую для одной пары плеч; за это время большой мост у Каши через Ганг вырастал под его наблюдением день за днем. Теперь, если все пойдет хорошо, менее чем через три месяца его превосходительство, вице-король, откроет мост, архиепископ благословит его, первый поезд с солдатами пройдет по нему и будут произнесены торжественные речи.
Инженер Финдлейсон сидел на своей дрезине в том месте узкоколейки, откуда громадные, облицованные камнем насыпи расходились в две стороны и тянулись на три мили к северу и югу по берегам реки, и позволил себе помечтать об окончании своей работы. Эта работа представляла собой мост длиной в милю и три четверти; его решетчатые фермы «системы Финдлейсона», опирались на двадцать семь кирпичных быков. Каждый из этих быков – в двадцать четыре фута в поперечнике, – облицованный красным камнем из Агры, опускался на восемь футов ниже слоя зыбучих песков Ганга. Над ними проходило полотно железной дороги в пятнадцать футов шириной; еще выше над ним шла дорога для экипажей в восемнадцать футов шириной, окаймленная тротуарами для пешеходов. С обеих сторон моста подымались башни из красного кирпича, снабженные бойницами для ружей и амбразурами для орудий. От них отлого спускались в обе стороны дороги к еще не оконченным дамбам, которые кишели сотнями медленно двигавшихся крошечных ослов, подымавшихся с набитыми мешками из зиявшего внизу рва. Жаркий полуденный воздух был наполнен стуком копыт и палок погонщиков, чмоканьем и шлепаньем густой грязи. Река была очень мелка; на ослепительно белом песке отмелей стояли небольшие суда, на который опирались средние фермы моста, где клепка еще не была закончена. В небольшом углублении, где еще оставалось достаточно воды после засухи, большой кран беспрерывно двигался взад и вперед, ставя на место пластины железа, храпя и ворча, как слон, работающий на лесном дворе. Сотни клепальщиков рассыпались по боковым решеткам и железной кровли железнодорожной линии, спускались с невидимых подмостков под балки, цеплялись за карнизы быков и подымались по стойкам пешеходной части моста; их горны и искры, вылетавшие при каждом ударе молота, казались бледно-желтыми при ярком свете солнца. С запада и с востока, с севера и с юга, вдоль берегов с шумом и свистом проносились локомотивы, таща за собой платформы, нагруженные бурыми и белыми камнями. Боковые стенки платформ откидывались, и несколько тысяч тонн материала для расширения плотины с грохотом сбрасывались на дно реки там, где берега еще не были укреплены.
Финдлейсон обернулся и окинул взглядом страну, которая благодаря ему изменила свой характер на протяжении семи миль. Оглядел шумное селение, где жили пять тысяч рабочих; взглянул через реку – на дальние быки, исчезавшие в дымке; наверх, на сторожевые башни – одному ему было известно, насколько они мощны – и с довольным вздохом убедился, что работа его исполнена хорошо. Перед ним, залитый солнечными лучами стоял его мост; нужно было только несколько недель работы, чтобы скрепить фермы на трех средних быках. Его мост, грубый и некрасивый, как первобытный грех, но «пукка» – прочный настолько, что останется стоять и тогда, когда исчезнет память даже о фермах «системы Финдлейсона».
Хитчкок, помощник Финдлейсона, подъехал рысью на маленьком кабульском пони с длинным хвостом. Благодаря долговременной практике пони этот мог бы благополучно пройти по любой перекладине. Хитчкок кивнул своему начальнику.
– Почти все готово, – улыбаясь, проговорил он.
– Я только что думал об этом, – сказал начальник. – А ведь недурно сделано для двоих, не правда ли?
– Для одного с половиной. Господи, что за глупый щенок я был, когда приехал сюда на работу! – Хитчкок чувствовал себя очень старым после разнообразных переживаний этих трех лет, которые научили его чувствовать свою власть и ответственность.
– Да, вы были несколько похожи на жеребенка, – сказал Финдлейсон. – Хотел бы я знать, как вам понравится конторское дело, когда здешняя работа окончится?
– Я буду ненавидеть его! – сказал молодой человек. Его взгляд следил за направлением взгляда Финдлейсона. – Ну, разве это не чертовски хорошо? – пробормотал он.
«Я думаю, что мы будем вместе продолжать службу, – мысленно сказал себе Финдлейсон. – Ты слишком хороший юноша, чтобы уступить тебя другому. Был ты щенком, а теперь ты мой помощник. Личный помощник, и будешь им и в Симле, если мне удастся это дело».
Действительно, вся тяжесть работы выпала на долю Финдлейсона и его помощника, молодого человека, выбранного им именно благодаря его неопытности: таким образом легче было приспособить его к делу. Тут находилось около пятидесяти европейцев, мастеровых и подмастерьев, взятых из железнодорожных мастерских, и около двадцати надсмотрщиков, белых и метисов, управлявших по указанию первых толпами рабочих. Но никто, кроме Финдлейсона и его помощника, вполне веривших друг другу, не знал, как мало можно было доверять всем этим подчиненным. Много раз они переживали внезапные кризисы – вследствие поломки блоков, порчи кранов, ярости реки – но ни в одном из этих случаев не было среди рабочих человека, про которого Финдлейсон и Хитчкок могли бы сказать, что он работает так же усердно, как они. Финдлейсон мысленно перебрал все с самого начала: месяцы кабинетной работы, пропавшие даром, когда правительство Индии, решавшее дела на бумаге, в последнюю минуту прибавило два фута к ширине моста и таким образом уничтожило, по крайней мере, пол акра расчетов. Хитчкок, не привыкший к разочарованиям, закрыл лицо руками и заплакал. Вспомнил Финдлейсон и душераздирающие задержки в исполнении контрактов, заключенных в Англии; бесполезные переписки по поводу громадной суммы комиссионных, в случае, если он заключит один – только один – сомнительный договор; борьбу, последовавшую за отказом; осторожную, вежливую обструкцию с другой стороны – следствие этой борьбы. Вспомнил, как молодой Хитчкок, употребив два месяца своего отпуска и выпросив у Финдлейсона десятидневную отсрочку, истратил свои жалкие, скудные сбережения на смелую поездку в Лондон, где, как уверял он и как доказали последующие контракты, он сумел вселить страх божий в человека, пользовавшегося таким влиянием, что, по его словам, боялся только парламента. Он утверждал это до тех пор, пока Хитчкок не сразился с ним за его собственным обеденным столом – и он стал бояться моста у Каши и всех, кто говорил в его пользу. Потом появилась холера, ночью в селении вблизи того места, где строили мост; за холерой разразилась оспа. Лихорадка никогда не покидала селения. Хитчкок был назначен судьей третьего класса с широкими полномочиями – вплоть до права применять телесные наказания; а Финдлейсон наблюдал за тем, чтобы он умеренно пользовался своей властью, и учил, на что следует смотреть сквозь пальцы, а на что обращать особое внимание. Воспоминания были долгими; вспоминались бури, внезапные разливы реки, смерть всякого рода и вида, яростное, страшное возмущение против канцелярской рутины, почти сводящей с ума человека, знающего, что разум его должен быть занят совсем другим; засухи, санитарные и финансовые вопросы, рождения, свадьбы, похороны и волнения в селении, где жили рабочие, принадлежавшие к двадцати враждующим между собой кастам; аргументы, объяснения, увещевания и полное отчаяние, когда человек ложится спать, благодаря Бога за то, что его ружье лежит разобранным в ящике. Над всем этим царил остов моста у Каши – плита за плитой, балка за балкой, ферма за фермой, – и каждый бык напоминал Хитчкока, расторопного человека, преданного своему начальнику.
Итак, мост был создан двумя людьми – если не считать Перу, который, конечно, сам-то считал себя одним из строителей моста… Он был ласкар (матрос-индус), кхарва из Бульсара, знакомый со всеми портами между Рокхемптоном и Лондоном и достигший степени серанга (боцмана). Но рутина, царящая на британских судах, и требования аккуратности и чистоты одежды надоели ему; он бросил службу и ушел в глубь страны, где люди его калибра всегда могут найти занятие. По умению обращаться с машинами и тяжелыми грузами Перу мог считаться достойным всякой платы, какую бы он ни назначил, но жалованье надсмотрщика устанавливалось по обычаю, и Перу получал плату более низкую, чем заслуживал. Он не боялся ни быстрого течения, ни подъема воды. Как бывший серанг (боцман), он умел поддерживать свой авторитет. Не было такого тяжелого железного предмета, для поднятия и установки которого Перу не сумел бы придумать какого-нибудь сложного приспособления, которое всегда соответствовало своему назначению. Перу спас от гибели перекладину быка N 7, когда новый проволочный трос попал в кран, и громадная плита закачалась, угрожая соскользнуть со своего места. Туземцы-рабочие потеряли голову, громко кричала и суетились, а у Хитчкока правая рука была сломана упавшей доской; он спрятал ее в рукав пальто и упал в обморок; потом пришел в себя и распоряжался в течение четырех часов, пока Перу не крикнул сверху: «Все в порядке!», и плита не легла на место. Никто лучше Перу не умел вовремя отпустить и натянуть канат, обращаться с лебедками, ловко поднять упавший в шахту локомотив; если нужно было, он раздевался и нырял, чтобы посмотреть, смогут ли глыбы вокруг быков устоять при напоре воды матушки-Гунги; или отправлялся во время муссона вверх по реке, чтобы доложить о состоянии набережной. Он бесстрашно прерывал военные советы Финдлейсона и Хитчкока; если ему не хватало слов на удивительном английском – или еще более удивительном «lingua franca» – полупортугальском, полумалайском языке – он брал веревку, чтобы показать узлы, которые рекомендовал. Он управлял своей собственной армией рабочих, таинственных родственников из Кутч Мандви, которых нанимали на месяц.
Работать Перу их заставлял в полную силу. Никакие родственные связи не могли заставить Перу внести в список рабочих людей слабосильных или легкомысленных.
– Моя честь – честь этого моста, – говорил он тому, кого собирался уволить. – Что мне за дело до вашей чести? Ступайте, работайте на пароходе. Это единственное, на что вы годны.
Кучка хижин, где жил он и его команда, ютилась вокруг ветхого жилища одного морского жреца, который никогда не ступал на «Черные Воды», но был избираем духовником двумя поколениями морских разбойников, на которых не имели никакого влияния миссии или те вероучения, которые навязывают морякам агентства, помещающиеся вдоль берегов Темзы. Жрецу ласкаров не было никакого дела до их касты да и вообще до чего бы то ни было. Он ел то, что приносилось в жертву его церкви, спал, курил и снова спал, «потому что, – говорил Перу, – затащил его на тысячу миль в глубь страны, – он очень святой человек. Ему все равно, что вы едите, только бы не мясо – и это хорошо, потому что на суше мы, кхарва, поклоняемся Шиве; на море, на суднах „Кумпании“, мы строго следуем приказаниям Бурра Малум (штурмана), а на этом мосту мы слушаемся того, что говорит Финдлейсон-сахиб».
Финдлейсон-сахиб велел в этот день убрать леса сторожевой башни на правой стороне дамбы, и Перу и его помощники разбирали и сбрасывали бамбуковые жерди и доски так быстро, как, наверно, они никогда не разгружали каботажного судна.
Со своего места Финдлейсон мог слышать звук серебряного свистка Перу и скрип шкивов в блоках. Перу стоял на самом верху сторожевой башни, одетый в свою старую форменную синюю одежду.
Так как Финдлейсон сказал, что жизнь Перу не из тех, которые можно губить зря, то он взобрался на самую верхушку башенной мачты и, прикрыв глаза рукой, по-матросски крикнул протяжно, как часовой на вахте: «Смотрю!» Финдлейсон рассмеялся, а потом вздохнул. Уже много лет он не видел парохода, и тоска по родине овладела им. Когда его дрезина проходила под башней, Перу спустился по веревке, как обезьяна, и крикнул:
– Теперь, кажется, хорошо, сахиб! Наш мост почти совсем готов. Как вы думаете, что скажет матушка Гунга, когда над ней пройдет железная дорога?
– До сих пор она мало говорила. Не мать Гунга задерживала нас.
– У нее всегда будет время на это; а задержка-то все-таки была. Разве сахиб забыл прошлогоднее осеннее наводнение, когда плашкоуты затонули безо всякого предупреждения или, вернее, с предупреждением только за полсуток.
– Да, но теперь только уж очень сильное наводнение может принести нам вред. Дамба хорошо укреплена.
– Матушка Гунга глотает большие куски. На дамбе всегда найдется достаточно места для лишнего камня. Я говорю это Чота-сахибу, – под этим именем он подразумевал Хитчкока, – а он смеется.
– Ничего, Перу. Через год ты можешь выстроить мост по своему вкусу.
Ласкар усмехнулся.
– Тогда это будет сделано иначе – мой мост не будет таким, как Кветтский; он будет без каменной кладки под водой. Я люблю висячие мосты, которые летят с берега на берег одним взмахом, словно сходни. Тогда никакая вода не может принести вреда. Когда приедет открывать мост лорд-сахиб?
– Через три месяца, когда станет прохладнее.
– Ого! Он похож на Бурра Малум. Он спит внизу, когда идет работа. Когда все кончено, тогда он выходит на палубу, дотрагивается до чего-нибудь пальцем и говорит: «Черт возьми! Здесь не чисто!»
– Ну, Перу, лорд-сахиб не будет чертыхаться.
– Да, сахиб; но все же он выходит на палубу только тогда, когда работа окончена. Даже Бурра Малум «Нербудды» сказал раз в Тутикорине…
– Ну тебя! Ступай отсюда! Я занят.
– Я также, – ответил Перу, нисколько не смутившись. – Можно взять джонку и поплавать вдоль дамбы?
– Чтобы укрепить ее руками? Я думаю, она довольно прочна.
– Нет, сахиб. Дело вот в чем. На море, в «Черной Воде», у нас есть достаточно простора, чтобы беззаботно носиться взад и вперед. Здесь у нас совсем нет места. Видите, здесь мы ввели воду в док и заставили ее бежать между каменными стенами.
Финдлейсон улыбнулся при слове «мы».
– Мы взнуздали и оседлали ее. Она не похожа на море, которое может разбиваться о мягкий берег. Она – матушка-Гунга – в железных цепях.
– Перу, ты ездил по свету даже больше меня. Поговорим теперь как следует. Насколько ты – в глубине сердца – веришь в матушку-Гунгу?
– Во все, что говорит наш жрец. Лондон – Лондон, сахиб, Сидней – Сидней, а порт Дарвин – порт Дарвин. И матушка-Гунга – матушка-Гунга, и, когда я возвращаюсь на ее берега, я знаю это и поклоняюсь ей. В Лондоне я поклонялся большому храму у реки, потому что Бог находится внутри него… Да, в джонку я не возьму подушек.
Финдлейсон сел на лошадь и поехал к бунгало, в котором жил со своим помощником. За последние три года это место стало для него родным домом. Он жарился во время жаркого времени года, обливался потом во время дождливого и дрожал от лихорадки под тростниковой кровлей; известковая штукатурка у двери была покрыта набросками чертежей и формулами, а дорожка, протоптанная к циновке на веранде, указывала, где он ходил, когда бывал один. Для работы инженера нет восьмичасового ограничения, и оба они, Финдлейсон и Хитчкок, ужинали в верховых сапогах со шпорами; куря сигары, они прислушивались к шуму в селении, когда рабочие возвращались с реки и начинали мелькать огоньки.
– Перу отправился в джонке. Он взял с собой двух племянников, а сам развалился на корме, словно командир, – сказал Хитчкок.
– Это хорошо. Вероятно, он задумал что-нибудь. Можно было бы думать, что десять лет, проведенных на британско-индийских судах, могли бы выбить большую часть религиозных представлений из его головы.
– Так оно и есть, – усмехаясь, проговорил Хитчкок. – Я застал его на днях за самым атеистическим разговором с их толстым гуру. Перу отрицал действие молитвы и предлагал гуру отправиться в море, полюбоваться бурей и посмотреть, может ли он остановить муссон.
– И все же, если бы вы увезли его гуру, он мгновенно покинул бы нас. Он тут болтал мне, как молился куполу св. Павла, когда был в Лондоне.
– Он рассказал мне, что мальчиком, когда он в первый раз спустился в машинное отделение парохода, он молился цилиндру низкого давления.
– Недурной предмет для молитвы. Теперь он умилостивляет своих богов и хочет узнать, как отнесется матушка-Гунга к тому, что через нее будет перекинут мост… Кто там?
Какая-то тень показалась в дверях, и Хитчкоку подали телеграмму.
– Могла бы уже она привыкнуть к этому… Просто телеграмма. Вероятно, ответ Ралли насчет новых болтов… Боже мой!
Хитчкок вскочил.
– Что такое? – спросил начальник и взял телеграмму. – Так вот что думает матушка-Гунга! – сказал он, прочитав ее. – Хладнокровнее, юноша. Мы знаем, что нам делать. Посмотрим. Мьюр телеграфирует полчаса тому назад: «Разлив Рамгунги. Берегитесь». Ну, для того чтобы вода могла дойти до Мелипур-Гаута, нужно… один, два… девять с половиной часов и семь с половиной до Лотоди… До нас она дойдет, скажем, часов через пятнадцать.
– Черт побери этот горный поток Рамгунгу. Финдлейсон, ведь это на два месяца раньше, чем можно было ожидать, и левый берег еще весь завален строительным материалом. На целых два месяца раньше!
– Так и бывает. Я знаю реки Индии уже двадцать пять лет и не претендую на понимание их… Вот новая телеграмма. – Финдлейсон открыл ее. – На этот раз Кокран с Гангского канала: «Здесь сильные дожди. Плохо». Мог бы не прибавлять последнего слова. Ну, больше нам ничего не нужно знать. Придется заставить людей работать всю ночь и очистить русло. Вы пойдете с востока и встретитесь со мной на середине. Спустите все, что может плыть, ниже моста: у нас достаточно всего этого, чтобы не трогать судов с камнями и не дать им протаранить быки. Что у вас есть на восточном берегу, о чем нужно позаботиться?
– Понтон, большой понтон с подъемным краном. Другой кран на исправленном понтоне; там же тележки с материалом для заклепки быков. От 20-го до 23-го номера. Каменная кладка должна выдержать.
– Хорошо. Отправьте все, что можете. Мы дадим четверть часа рабочим, чтобы они закончили ужин.
Вблизи веранды стоял большой ночной гонг, использовавшийся только в случае наводнения или пожара в селении, Хитчкок велел подать лошадь и отправился на свою сторону моста, а Финдлейсон взял обтянутую сукном колотушку и ударил по гонгу так, что металл зазвенел изо всех сил.
Задолго до того, как замолк последний звук, все гонги в селении подхватили призыв. К нему присоединились хриплый вой раковин в маленьких храмах, дрожащие звуки барабанов и тамтамов. В лагере европейцев, где жили заклепщики, охотничий рог Мак-Картнея, надоедавший по воскресеньям и праздникам, отчаянно ревел, призывая: «По местам!» Локомотивы, один за другим возвращавшиеся домой после дневной работы, засвистели один за другим, пока свист их не достиг самых отдаленных мест. Потом большой гонг прогремел три раза в знак того, что речь идет о наводнении, а не о пожаре; эхо раковин, барабанов и тамтамов повторило призыв, и селение задрожало от топота голых ног, бежавших по мягкой земле. Подобный призыв означал всегда приказание всем вернуться на работу и ожидать распоряжений. Люди толпами собирались в сумерках со всех сторон; некоторые останавливались, чтобы подвязать передники или сандалии; надсмотрщики выкрикивали приказания рабочим, которые бежали и останавливались у мастерских, чтобы взять ломы и кирки; локомотивы, ползя по своему пути, врезались в толпу. Темный людской поток исчез во мраке речного русла, перескакивая через груды материала, закипел вдоль решеток ферм, окружил краны и, наконец, остановился – каждый человек на своем месте.
Потом тревожный звук гонга донес приказание собрать с русла весь материал и отнести на берег выше метки самой высокой воды. Сотни ярких лампочек, покрытых железной сеткой, загорелись сразу, когда рабочие принялись за ночную работу, чтобы подготовиться к надвигавшемуся наводнению. Перекладины трех средних быков, которые опирались на временные плавучие подпорки, не были еще укреплены. Их нужно было скрепить возможно большим количеством болтов. Сотня ломов разбирала шпалы временной железнодорожной линии, по которой материалы подвозились к незаконченным быкам. Снятые шпалы нагружались на платформы и отвозились пыхтевшими локомотивами в те места, где до них не могла добраться вода.
Склады материала на песке таяли под напором кричащей армии рабочих, и вместе с ними исчезали ряды казенных складов: окованные железом ящики с заклепками, клещами, резаками, запасными частями машин, помпами и цепями. Большой кран, подымавший все тяжести на верхнюю часть моста, должен был быть снят последним. Массивные глыбы выбрасывались с флотилии судов в более глубокие места, чтобы защитить быки, а пустые суда спускались под мостом вниз по течению реки. Тут свисток Перу раздавался громче, чем где бы то ни было. Первый удар в большой гонг заставил с поспешностью вернуться джонку. Перу и его люди, обнаженные по пояс, работали, спасая «честь и славу», значившие для них более, чем жизнь.
– Я знал, что она заговорит! – кричал Перу. – Я знал, но телеграф дал нам предупреждение. О, сыны неразумнорожденные, дети невыразимого позора! Разве мы здесь только для виду, для того, чтобы смотреть на эту вещь? – «Эта вещь» был кусок размотавшегося троса.
Перу творил с ней чудеса, прыгая со шкафута на шкафут, помахивая ею и сыпля морскими выражениями.
Финдлейсон более всего заботился о судах с камнями. Мак-Картней со своими рабочими скреплял концы трех ненадежных перекладин. В случае, если бы вода была очень высока, плывущие суда могли бы повредить быки, а судов в узком канале была целая флотилия.
– Отведите их за сторожевую башню! – крикнул он Перу. – Там заводь, отведите их ниже моста!
– Акча! (Очень хорошо.) Я знаю. Мы привязываем их проволочными канатами, – послышался ответ. – Эй, прислушайтесь, как работает Чота-сахиб.
Из-за реки слышался почти беспрерывный свист локомотивов, сопровождаемый треском осыпавшихся камней. В последнюю минуту Хитчкок потратил несколько сот тележек трактийского камня на укрепление своих дамб.
– Мост вызывает на борьбу матушку-Гунгу! – со смехом сказал Перу. – Но я знаю, чей голос окажется громче, когда она заговорит.
Целыми часами обнаженные люди с громкими восклицаниями и криками работали при огнях. Ночь была жаркая, безлунная; в конце она омрачилась тучами и внезапно налетевшим шквалом, заставившим Финдлейсона серьезно задуматься.
– Она надвигается! – сказал Перу как раз перед восходом зари. – Матушка-Гунга проснулась! Слушайте! – Он опустил руку за борт лодки, и вода тихо зажурчала. Небольшая волна звонко ударилась об одну сторону быка.
– На шесть часов раньше, – сказал Финдлейсон, мрачно нахмурившись. – Теперь мы ни на что не можем рассчитывать. Лучше вывести всех людей из русла реки.
Снова раздался удар большого гонга, и во второй раз послышался топот босых ног и лязг железа; стук инструментов прекратился. В наступившей тишине люди слышали глухой шум воды, медленно продвигавшейся по пересохшим пескам.
Надсмотрщики один за другим кричали Финдлейсону, который находился у сторожевой башни, что с их части русла все очищено. Когда умолк последний голос, Финдлейсон поспешно прошел по мосту до того места, где постоянный железный настил переходил во временный деревянный, укрепленный на трех центральных быках, и встретил тут Хитчкока.
– С вашей стороны все очищено? – спросил Финдлейсон, и голос его гулко прозвенел.
– Да, теперь заполняется восточный канал. Мы ошиблись в расчете. Когда может обрушиться на нас эта штука?
– Трудно сказать. Подымается она очень быстро. Взгляните! – Финдлейсон указал на доски под его ногами, где песок, выжженный и загрязненный за несколько месяцев работы, начинал шептать и шипеть.
– Какие приказания? – сказал Хитчкок.
– Сделайте перекличку, сосчитайте запасы и молитесь за мост. Вот все, что я могу придумать. Спокойной ночи. Не рискуйте своей жизнью, стараясь выловить то, что поплывет по течению.
– О, я буду так же благоразумен, как вы. Спокойной ночи. Боже мой, как она быстро надвигается. А вот и ливень!
Финдлейсон отправился на свой берег, прогнав последних рабочих Мак-Картнея. Рабочие рассеялись вдоль дамб, не обращая внимания на холодный предрассветный дождь, и ждали наводнения. Только Перу держал своих людей позади сторожевой башни, где стояли суда с камнями, привязанные тросами и цепями.
Пронзительный крик пронесся по стройке, переходя в рев страха и изумления: поверхность реки побелела от берега до берега среди каменных дамб, и брызги белой пены взлетали выше быков. Мать-Гунга поспешно разливалась до самых берегов, и вестником ее прихода была стена воды шоколадного цвета. Среди рева воды раздался стон – жалоба ферм, осевших на опоры, когда течение унесло из-под них плоты. Суда с камнями стонали и ударялись друг о друга в образовавшемся водовороте; их неуклюжие мачты подымались все выше и выше на неясном горизонте.
– Прежде, когда она не была заключена в эти стены, мы знали, что она сделает. Теперь, когда она так стеснена, Бог знает, что она может сделать! – сказал Перу, смотря на бешеное волнение вокруг сторожевой башни. – Ого!.. Ну, значит, война! Держитесь крепче! Боритесь изо всех сил! Так только и можно победить женщину.
Но матушка-Гунга не хотела бороться так, как желал этого Перу. После первого напора воды, который пронесся вниз по течению, больше не появлялось водяных стен, но сама река вздулась, как змея, пьющая воду летом, напирая на дамбы, стараясь разрушить их и обрушиваясь на быки с такой силой, что даже Финдлейсон начал производить мысленно вычисления, чтобы проверить устойчивость своих сооружений.
Когда наступил день, все селение охнуло. «Еще прошлым вечером, – говорили друг другу люди, – русло реки походило на город. Взгляните теперь».
Они смотрели с изумлением на глубокий, быстро мчавшийся поток воды, которая лизала верхушки быков. Возвышенные места вверх по течению реки обозначались только водоворотами и пеной. Отдаленный берег был подернут пеленой дождя, за которой скрывался конец моста; а в нижнем течении освободившаяся от оков река разлилась, словно море, до горизонта. По воде, качаясь, неслись трупы людей и животных; по временам кусок тростниковой крыши точно таял, ударившись о быки моста.
– Сильное наводнение, – сказал Перу, и Финдлейсон утвердительно кивнул головой.
Наводнение было настолько сильным, что он не имел ни малейшего желания видеть его. Мост выдержит то, что происходит теперь, но может оказаться не в состоянии выдержать большее; а если – один шанс из тысячи, – хотя бы в одной из дамб окажется какой-либо недостаток, матушка-Гунга унесет в море его честь. Самое худшее было то, что ничего нельзя было сделать; оставалось только сидеть и ждать, и Финдлейсон сидел, закутавшись в свой плащ, пока шлем на его голове не превратился в мягкую массу, а сапоги не погрузились в грязь по щиколотку. Он не замечал времени: река сама отсчитывала часы, дюйм за дюймом, фут за футом, на дамбе, а он, окоченевший и голодный, прислушивался к стону барж, к глухому грохоту под быками и к сотням шумов, составляющих ансамбль наводнения. Слуга, с которого ручьями текла вода, принес ему еду, но он не мог есть; однажды ему показалось, что он слышит слабый звук свистка локомотива с противоположной стороны реки, и он улыбнулся. Гибель моста принесет немало вреда его помощнику, но Хитчкок – молодой человек, перед которым открыто будущее. Для него же этот удар означал уничтожение всего, что делало ценной его жизнь. Люди его профессии будут говорить о его неудаче. Он вспомнил, каким снисходительным тоном говорил он сам, когда водопровод Локгарта был прорван наводнением и превратился в кучи кирпича и тины; Локгарт совершенно упал духом и умер. Финдлейсон вспомнил, что сам говорил, когда циклоном снесло мост Сумао; и яснее всего ему припомнилось лицо бедного Хартонна три недели спустя, отмеченное печатью стыда. Мост его, Финдлейсона, был вдвое больше моста Хартонна, и на нем он применил новый способ скрепления свай. У них на службе не принимаются извинения. Правительство могло бы, пожалуй, выслушать его, но люди его профессии будут судить его по тому, выстоит ли его мост или обрушится. Он мысленно перебирал все: ферму за фермой, кирпич за кирпичом, бык за быком, вспоминая, сравнивая, оценивая и пересчитывая, нет ли какой-нибудь ошибки; и в течение долгих часов ряды формул, танцевавших и кружившихся у него перед глазами, вызывали по временам холодный страх, который охватывал его душу. Его расчет был, несомненно, верен, но какой человек может знать арифметику матери-Гунги? В то время как он убеждался при помощи таблицы умножения в верности своего расчета, река могла подмыть основание одного из тех восьмидесятифутовых быков, от которых зависела его репутация. Снова к нему пришел слуга с едой, но во рту у него было сухо; он мог только выпить, и мозг его снова вернулся к десятичным дробям. А река продолжала подыматься. Перу в дождевике сидел, скорчившись, у его ног, наблюдая то за выражением его лица, то за рекой, но ничего не говорил.
Наконец, ласкар встал и отправился в селение, шлепая по грязи. Наблюдать за судами он оставил одного из своих подчиненных.
Вскоре он вернулся, чрезвычайно непочтительно гоня перед собой жреца исповедуемой им религии – толстого старика с седой бородой и в мокрой одежде, развевавшейся по ветру. Никогда еще не приходилось видеть такого жалкого гуру.
– К чему жертвоприношения, и керосиновые лампы, и сухие зерна, если ты только и можешь, что сидеть на корточках в грязи? Ты долго имел дело с богами, когда они были довольны и доброжелательны. Теперь они разгневаны. Говори с ними!
– Что значит человек перед разгневанным богом! – жалобно проговорил жрец, вздрагивая от порыва ветра. – Пустите меня в храм, и я помолюсь там.
– Сын свиньи, молись здесь. Неужели ты не обязан что-нибудь дать нам взамен соленой рыбы, порошка сои и сушеного лука? Призывай богов громко! Скажи матушке-Гунге, что с нас довольно. Прикажи ей успокоиться на ночь. Я не могу молиться, но когда я служил на судах «Кумпании» и когда люди не слушались моих приказаний, я…
Выразительный взмах троса закончил фразу, и жрец, вырвавшись от своего ученика, убежал в селение.
– Толстая свинья! – сказал Перу. – После всего того, что мы сделали для него! Когда вода спадет, я позабочусь о том, чтобы достать нам нового гуру. Финдлейсон-сахиб, темнеет, наступает ночь, а со вчерашнего дня вы ничего не ели. Будьте умны, сахиб. Ни один человек не может вынести бодрствования и серьезных мыслей на пустой желудок. Ложитесь, сэр. Река сделает то, что сделает.
– Мост – мой; я не могу оставить его.
– Что же, ты поддержишь его руками? – смеясь, сказал Перу. – Я тревожился за мои суда и краны до наводнения. Теперь мы в руках богов. Сахиб не хочет поесть и прилечь? Так примите вот это. Это заменит и мясо, и хороший грог. Это убивает всякую усталость, а также и лихорадку, появляющуюся после дождя. Сегодня я ничего не ел весь день, кроме этого.
Он вынул маленькую жестяную табакерку из-за грязного пояса и вложил ее в руку Финдлейсона, говоря:
– Ну не бойтесь. Это не что иное, как опиум, чистый опиум из Мальвы.
Финдлейсон высыпал на ладонь два-три темных шарика и почти бессознательно проглотил их. Во всяком случае, это было хорошее предохранительное средство от лихорадки – лихорадки, которая подкрадывалась к нему из сырой грязи, – и он видел, что мог сделать Перу во время удушливых осенних туманов, благодаря небольшой дозе, взятой из жестяной коробочки.
Перу кивнул головой; глаза его блестели.
– Скоро, скоро сахиб почувствует, что он снова хорошо думает. Я также.
Он спрятал свою сокровищницу, накинул снова дождевой плащ и на корточках спустился вниз стеречь суда. Было слишком темно для того, чтобы разглядеть, что делалось дальше ближнего быка, а ночь, казалось, придала новые силы реке. Финдлейсон стоял, опустив голову на грудь, и думал. Был один пункт при расчете прочности одного из быков – седьмого, – который он еще не вполне установил. Цифры не складывались в уме в определенном порядке, а появлялись одна за другой через громадные промежутки времени. В ушах у него раздавался звук, густой и мягкий, похожий на самую низкую басовую ноту, восхитительный звук, о котором он размышлял, казалось, в продолжение нескольких часов. Потом рядом с ним очутился Перу, кричавший, что трос лопнул, и суда с камнями сорвались. Финдлейсон видел, как флотилия судов двинулась веерообразно при протяжном скрипе тросов.
– Дерево ударило по ним! Все уплывут! – кричал Перу. – Главный канат лопнул! Что сделает сахиб?
В уме Финдлейсона внезапно промелькнул чрезвычайно сложный план. Он увидел канаты, тянувшиеся от судна к судну прямыми линиями и пересекавшиеся под прямыми углами; каждый канат казался нитью белого огня. Но среди них была одна главная. Он видел эту нить. Если бы ему удалось сразу дернуть ее, то с математической точностью пришедшая в беспорядок флотилия собралась бы снова под прикрытие сторожевой башни. «Но почему, – думал он, – Перу так отчаянно хватается за него, удерживает его, когда он поспешно спускается к берегу? Необходимо отстранить ласкара, осторожно и медленно, потому что надо спасти суда и, кроме того, показать, что чрезвычайно легко разрешить проблему, казавшуюся такой трудной». А потом – но это было вовсе не важно – трос проскользнул сквозь его сжатую ладонь и обжег ее; высокий берег исчез, и вместе с ним исчезли, медленно рассеиваясь, все проблемы. Он сидел в дождливой тьме – сидел в лодке, которая вертелась, словно волчок, а Перу стоял над ним.
– Я забыл, – медленно сказал ласкар, – что для людей голодных и непривычных опиум хуже всякого вина. Те, кто умирает в Гунге, идет к богам. Но у меня нет желания предстать перед такими высокими существами. Может сахиб плыть?
– Зачем? Он ведь может летать – летать быстро, как ветер, – послышался неясный ответ.
– Он обезумел! – пробормотал Перу. – Однако отбросил он меня, словно связку хвороста. Ну, он не почувствует близости смерти. Лодка не может продержаться и часа, даже в том случае, если не натолкнется на что-нибудь. Нехорошо смотреть на смерть открытыми глазами.
Он снова подкрепился из жестяной коробочки, присел на корточки на носу качавшейся, тонущей, потрепанной лодки и стал пристально, сквозь туман, смотреть на окружавшее его ничто. Тепло и дремота овладели Финдлейсоном, главным инженером, долг которого требовал, чтобы он был у своего моста. Тяжелые капли дождя ударяли его, вызывая тысячу легких содроганий, а тяжесть времени от начала веков сомкнула его веки. Он думал и понимал, что он в полной безопасности, потому что вода настолько плотна, что человек, наверно, может ступить на нее и, стоя неподвижно, раздвинув ноги, чтобы удержать равновесие – это было самое главное, – быстро достичь берега. Но еще лучший план пришел ему в голову. Нужно было только усилие воли, и душа выбросит тело на берег, как ветер переносит кусок бумаги или гонит бумажный змей. Потом – тут лодка завертелась с головокружительной быстротой – предположим, что сильный ветер подхватит освобожденное тело? Подымется оно кверху, как змей, и упадет, сломя голову, на далекие пески, или будет парить в воздухе без цели, целую вечность?
Финдлейсон ухватился за борт, чтобы удержаться, потому что, казалось, готов был бежать, не обдумав еще всех своих планов. Опиум действует на белого человека сильнее, чем на черного. Перу был только спокойно равнодушен ко всем случайностям.
– Она не может дольше прожить, – ворчал он. – Она уже расползлась по всем швам. Если бы она была, по крайней мере, джонкой с веслами, мы выгребли бы. Финдлейсон-сахиб, она наполняется.
– Ачха! Я улетаю. Лети и ты.
В своем воображении Финдлейсон уже выбрался из лодки и кружился высоко в воздухе, отыскивая место, где мог бы ступить на землю. Его тело – он был искренне огорчен его грубой беспомощностью – лежало на корме; вода заливала ноги.
– Как смешно! – сказал он сам себе со своего наблюдательного пункта. – Это Финдлейсон – начальник моста у Каши. Бедное животное также утонет. Утонет, когда оно так близко от берега. Я… я уже на берегу. Почему оно не идет за мной?
К его громадному отвращению, он нашел свою душу вернувшейся в тело, а это тело барахталось и задыхалось в глубокой воде. Мука соединения была ужасна, но нужно было бороться и за тело. Он чувствовал, что яростно ухватился за мокрый песок и делал громадные шаги, какие делают во сне, чтобы удержаться в водовороте, пока не освободился наконец от власти реки и не упал, задыхаясь, на мокрую землю.
– Не в эту ночь, – на ухо ему проговорил Перу. – Боги покровительствовали нам.
Ласкар осторожно поставил его на ноги, и они зашуршали среди сухих стеблей.
– Это какой-нибудь остров, где в прошлом году была плантация индиго, – продолжал он. – Здесь мы не встретим людей, сахиб, но берегитесь: все змеи на протяжении ста миль выброшены сюда наводнением. Вот и молния, по следам ветра. Теперь мы можем видеть; но идите осторожно.
Финдлейсон был слишком далек от того, чтобы бояться змей и вообще испытывать какое-либо человеческое волнение. После того как он протер глаза, он видел замечательно ясно и шел, как ему казалось, охватывавшими весь мир шагами. Где-то, во мраке времен, он выстроил мост – мост, который тянулся через безграничные пространства блестящих морей; но потоп унес его, оставив под небесами только один этот остров для Финдлейсона и его товарища, единственных оставшихся в живых из людей.
Беспрестанная молния, извивавшаяся голубыми змейками, освещала все, что можно было видеть на маленьком клочке земли, – кусты терновника, кучку качавшихся с треском бамбуковых стволов и серое сучковатое дерево «питуль», осенявшее индусский храм, на куполе которого развевались лохмотья красного флага. Святой человек, который избрал своим летним местопребыванием этот храм, давно покинул его, а непогода сломала выкрашенное в красный цвет изображение его бога. Финдлейсон и Перу, с отяжелевшими ногами и руками, со слипающимися глазами, споткнулись о выложенный кирпичом очаг и упали на землю под покровом древесной листвы. Дождь и река продолжали бушевать.
Стебли индиго зашуршали; в воздухе распространился запах скота, и появился громадный и мокрый зебу, направлявшийся под дерево. Вспышки молнии освещали трезубец Шивы на боку, дерзкую голову и спину, блестящие глаза, похожие на глаза оленя, лоб, увенчанный венком из поблекшего златоцвета, и подгрудок, почти касавшийся земли.
Сзади него слышался шум – это другие животные пробирались через чащу, звук тяжелых шагов и громкого дыхания.
– Тут есть еще кто-то, кроме нас, – сказал Финдлейсон. Он стоял, прислонив голову к дереву и смотря сквозь полузакрытые веки. Он чувствовал себя вполне спокойно.
– Правда, – глухо сказал Перу, – тут есть кто-то, и немаленький.
– Кто же тут? Я не вижу.
– Боги. Кто же другой? Смотрите.
– А, правда! Боги, конечно, боги.
Финдлейсон улыбнулся, и голова его упала на грудь. Перу был вполне прав. После потопа кто же может остаться в живых на земле, кроме богов, сотворивших ее, – богов, которым каждую ночь молилось селение, богов, чьи имена были на устах всех людей, богов, принимавших участие во всех делах человеческих? Он не мог ни поднять головы, ни шевельнуть пальцем в охватившем его оцепенении, а Перу бессмысленно улыбался молнии.
Бык остановился у храма, опустив голову к сырой земле. В ветвях зеленый попугай расправлял свои мокрые крылья и громко вскрикивал при каждом ударе грома. Круглая лужайка под деревом заполнилась колеблющимися тенями животных. За быком по пятам шел черный олень – такой олень, какого Финдлейсон во время своей давно прошедшей жизни на земле мог видеть лишь во сне, олень с царственной головой, черной, как черное дерево, с серебристым брюхом и блестящими прямыми рогами. Рядом с ним, с опущенной к земле головой, с зелеными горящими глазами, с хвостом, постоянно ударявшим по сухой траве, шла тигрица с толстым животом и широкой пастью.
Бык присел у храма, а из тьмы выскочила безобразная серая обезьяна и села по-человечески на место упавшего идола. Дождь скатывался, словно драгоценные камни, с волос на ее шее и плечах.
Другие тени пришли и скрылись за пределами круга, среди них пьяный человек, размахивавший палкой и бутылкой с вином. Потом из-под земли раздался хриплый, громкий крик:
– Вода уже спадает. Час за часом вода спадает, а их мост еще стоит.
«Мой мост, – сказал себе Финдлейсон. – Теперь это, должно быть, очень старинная работа. Что за дело богам до моего моста?»
Глаза его блуждали во тьме, пытаясь разглядеть, откуда слышался рев. Крокодил – тупоносый меггер, частый посетитель отмели Ганга – появился перед зверями, бешено ударяя хвостом направо и налево.
– Они сделали его слишком прочным для меня. За всю эту ночь я мог оторвать только несколько досок. Стены стоят! Башни стоят! Они заключили в цепи мой поток воды, и моя река уже более не свободна. Божественные, снимите это ярмо! Верните мне вольную воду от берега до берега. Это говорю я, мать-Гунга. Правосудие богов! Окажите мне правосудие богов!
– Что я говорил? – шепнул Перу. – Здесь действительно совет богов. Теперь мы знаем, что весь мир погиб, за исключением вас и меня, сахиб.
Попугай снова закричал и замахал крыльями, а тигрица, плотно прижав уши к голове, злобно зарычала.
Откуда-то из тьмы появились раскачивающийся большой хобот и блестящие клыки, и тихое ворчание нарушило тишину, наступившую за рычанием тигрицы.
– Мы здесь, – сказал низкий голос, – великие. Единственный и многие. Шива, отец мой, здесь с Индрой. Кали уже говорила. Гануман также слушает.
– Каши сегодня без своего котваля! [1] – крикнул человек с бутылкой вина, бросая свою палку; остров огласился лаем собак. – Окажите ей правосудие богов!
– Вы молчали, когда они оскверняли мои воды! – заревел большой крокодил. – Вы не подали признака жизни, когда мою реку заключили в стены. У меня не было никакой поддержки, кроме собственной силы, а ее не хватило – силы матери-Гунги не хватило против их сторожевых башен. Что мог я сделать! Я сделал все. А теперь, небожители, всему конец.
– Я приносил смерть. Я развозил пятнистую болезнь из одной хижины их рабочих в другую, и они все-таки не остановились. – Хромой осел с разбитым носом, вылезшей шерстью, кривоногий, спотыкаясь, выступил вперед.
– Я извергал им смерть из моих ноздрей, но они не останавливались.
Перу хотел подняться, но опиум сковывал его члены.
– Ба! – сказал он, отплевываясь. – Это сама Ситала, Мать-оспа. Есть у сахиба платок, чтобы закрыть лицо?
– Не помогло! В продолжение целого месяца они дарили мне трупы, и я выбрасывал их на отмели, а работа их все продвигалась. Демоны они и сыны демонов! А вы оставили мать-Гунгу одну на посмешище их огненной колесницы. Правосудие богов на этих строителей мостов!
Бык прожевал жвачку и медленно ответил:
– Если бы правосудие богов настигало всех, кто смеется над священными предметами, на земле было бы много темных храмов, мать.
– Но это больше чем насмешка, – сказала тигрица, протягивая лапу. – Ты знаешь, Шива, и вы также, небожители, вы знаете, что они осквернили Гунгу. Они, конечно, должны быть отведены к истребителю. Пусть судит Индра.
Олень отвечал, не двигаясь:
– Как долго продолжалось это зло?
– Три года по счету людей, – сказал крокодил, плотно прижавшись к земле.
– Разве мать-Гунга собирается умереть через год, что так стремится отомстить сейчас же? Глубокое море еще только вчера было там, где она течет теперь, а завтра – как считают боги то, что люди называют временем – море снова покроет ее.
Наступило долгое безмолвие; буря улеглась, и полный месяц стоял над мокрыми деревьями.
– Судите же, – угрюмо сказала река. – Я рассказала о своем позоре. Вода все спадает. Я не могу ничего больше сделать.
– Что касается меня, – то был голос большой обезьяны, сидевшей в храме, – мне нравится наблюдать за этими людьми, вспоминая, что и я строила немало мостов во время юности мира.
– Говорят, – прорычал тигр, – что эти люди явились из остатков твоих армий, Гануман, и потому ты помогал им.
– Они трудятся, как трудились мои армии, и верят, что их труд прочен. Индра слишком высоко, но ты, Шива, знаешь, что земля покрыта их огненными колесницами.
– Да, я знаю, – ответил бык. – Их боги научили их этому.
Среди присутствующих раздался смех.
– Их боги! Что знают их боги? Они родились вчера, и те, кто создал их, вряд ли успели остыть, – сказал крокодил. – Завтра их боги умрут.
– Ого! – сказал Перу. – Матушка-Гунга говорит дельно. Я сказал это падре-сахибу, который проповедовал на «Момбассе», а он попросил Бурра Малума заковать меня за грубость.
– Наверно, они делают такие вещи, чтобы быть угоднее богам, – снова сказал бык.
– Не совсем, – выступил слон. – Они делают это для выгоды моих «магаджунс» – моих толстых ростовщиков, которые поклоняются мне каждый новый год, когда рисуют мое изображение на первых страницах своих счетных книг. Я смотрю через их плечи при свете ламп и вижу, что имена в этих книгах – имена людей из далеких мест, потому что все эти города соединены между собой огненными колесницами, и деньги быстро приходят и уходят, а конторские книги становятся толсты, как… как я. А я – Ганеса, приносящий счастье – благословляю мои народы.
– Они изменили лицо земли – моей земли. Они убивали и строили новые города на моих берегах, – сказал крокодил.
– Это только перемещение грязи. Пусть грязь копается в грязи, если это нравится грязи, – ответил слон.
– А потом? – сказала тигрица. – Впоследствии увидят, что матушка-Гунга не может отомстить за оскорбление, и отойдут сначала от нее, а потом постепенно и от всех нас. В конце концов, Ганеса, мы останемся с пустыми алтарями.
Пьяный человек, шатаясь, поднялся на ноги и громко икнул в лицо собравшимся богам.
– Кали лжет. Моя сестра лжет. И этот мой посох – котваль Каши, и он ведет счет моим пилигримам. Когда наступает время поклоняться Бхайрону – а это бывает всегда, – огненные колесницы двигаются одна за другой и каждая везет тысячу пилигримов. Теперь они уже не ходят пешком, но ездят на колесах, и моя слава все возрастает.
– Гунга, я видел твое русло у Приага почерневшим от пилигримов, – сказала обезьяна, наклоняясь вперед, – а не будь огненных колесниц, они приходили бы медленнее и в меньшем количестве. Помни это.
– Они всегда приходят ко мне, – с трудом выговаривая слова, продолжал Бхайрон. – И днем, и ночью молятся мне все простые люди в полях и на дорогах. Кто ныне подобен Бхайрону? Что это за разговор о перемене религий? Разве моя палка котваля Каши ничего не значит? Она ведет счет и говорит, что никогда не было так много алтарей, как теперь, и огненная колесница хорошо служит им. Бхайрон я – Бхайрон простого народа и главный из небожителей настоящего времени. И потому мой посох говорит…
– Смирно, ты! – прервал бык. – Мне оказывают поклонение в школах, и они говорят очень мудро, ставя вопрос, един я или множествен. Этим восхищается мой народ. И вы знаете, что я такое. Кали, жена моя, ты также знаешь.
– Да, я знаю, – сказала, понурив голову, тигрица.
– Я также выше Гунги. Потому что вы знаете, кто подействовал на умы людей так, что они стали считать Гунгу самой святой из всех рек. Кто умирает в этой воде, вы знаете, как говорят люди, приходит к нам, не понеся наказания, а Гунга знает, что огненная колесница привозила ей множество людей, желающих достигнуть этого; и Кали знает, что ее главнейшие празднества происходили среди паломников, привозимых огненными колесницами. Кто поражал в Пури перед изображением божества тысяча в один день и в одну ночь и привязал болезнь к колесам огненных колесниц так, что она пробежала с одного конца земли до другого? Кто, как не Кали? Прежде, когда не было огненной колесницы, это был тяжелый труд. Огненные колесницы сослужили хорошую службу матушке-смерти. Но я говорю только о своих алтарях, я не Бхайрон простого народа, а Шива. Люди проходят мимо, произнося слова и рассказывая о чужих богах, а я слушаю. Вера сменяется верой в моих школах, а я не чувствую гнева, потому что когда сказаны все слова и окончены новые сказки, люди возвращаются к Шиве.
– Правда. Это правда, – пробормотал Гануман. – К Шиве и другим возвращаются они, мать. Я проникаю из храма в храм на севере, где поклоняются одному Богу и Его Пророку; и теперь в их храмах видно только мое изображение.
– Не за что тебя благодарить, – сказал олень, медленно поворачивая голову. – Я – этот единый и его пророк также.
– Вот именно, отец, – сказал Гануман. – А на юг еду я, старейший из всех богов, с тех пор как люди знают богов, и я проникаю в храмы новой религии, где изображают нашу двенадцатирукую женщину, которую они зовут Марией.
– Я знаю, – сказала тигрица. – Ведь эта женщина – я.
– Именно так, сестра. Я иду на запад между огненными колесницами, являюсь перед строителями мостов в различных видах, и ради меня они меняют свою веру и становятся очень мудрыми. Я сам строитель мостов – мостов между «Этим» и «Тем», и каждый мост, в конце концов, неизменно ведет к Нам. Будь довольна, Гунга! Ни эти люди, ни те, которые последуют за ними, вовсе не насмехаются над тобой.
– Так я, значит, одна, небожители? Не успокоить ли разве мой поток, чтобы как-нибудь не снести их стен? Не иссушит ли Индра мои источники в горах и не заставит ли меня смиренно ползти вдоль их набережных? Не зарыться ли мне в пески, чтобы не сделать чего-нибудь неприятного для них?
– И все из-за небольшой полосы железа с огненной колесницей наверху? Право, матушка-Гунга вечно молода! – сказал слон. – Ребенок не мог бы говорить глупее. Пусть прах копается в прахе, прежде чем обратится в прах. Я знаю только, что мой народ богатеет и возносит хвалы мне. Шива сказал, что люди в школах его не забывают; Бхайрон доволен своей толпой простого народа; а Гануман смеется.
– Конечно, я смеюсь, – сказала обезьяна. – Мои алтари немногочисленны в сравнении с алтарями Ганесы или Бхайрона, но огненные колесницы привозят и мне новых поклонников из-за Черной Воды – людей, которые верят, что их бог – труд. Я бегу перед ними, призывая их, а они следуют за мной.
– Так дай им труд, которого они так желают. Устрой плотину поперек моего течения и отбрось воду назад на мост. Некогда ты был искусен в этом, Гануман. Спустись и подними мое русло.
– Кто дает жизнь, может и взять жизнь, – обезьяна поцарапала длинным указательным пальцем грязь. – Но кому будет польза от убийств? Очень многие хотели бы умереть.
С воды донесся отрывок любовной песни, какую поют юноши, пасущие скот в жаркие полуденные часы поздней весны. Попугай радостно закричал и стал спускаться вниз головой по ветке все ниже и ниже, по мере того как песня становилась громче, и вдруг, освещенный лунным светом, предстал молодой пастух, любимец гопи, [2] идол мечтательных девушек и матерей, еще не родивших ребенка, – Кришна, возлюбленный. Он остановился, чтобы подобрать свои длинные мокрые волосы, и попугай вспорхнул ему на плечо.
– Летаешь и поешь, поешь и летаешь, – икая, проговорил Бхайрон. – Оттого ты и опаздываешь на совет, брат.
– Ну так что же? – со смехом сказал Кришна, откидывая голову. – Вы мало что можете сделать без меня или Кармы. – Он погладил попугая и снова засмеялся. – Что означает это собрание, эта беседа? Я услышал рев матушки-Гунги во тьме и быстро вышел из хижины, где лежал в тепле. А что вы сделали Карме, что он так мокр и молчалив? А что делает здесь матушка-Гунга? Разве небеса так переполнены, что вы приходите сюда расхаживать по грязи, как звери? Карма, что они делают?
– Гунга просила отомстить строителям моста, и Кали за нее. Теперь она просит Ганумана утопить мост, чтобы спасти ее честь! – крикнул попугай. – Я ждал здесь, зная, что ты придешь, о мой господин.
– А небожители ничего не сказали? Разве Гунга и Мать Печалей переговорили их? Разве никто не замолвил слово за мой народ?
– Ну, – сказал Ганеса, беспокойно переступая с ноги на ногу, – я говорил, что это забавляет прах и нам незачем губить его.
– Я был доволен, что дал им возможность трудиться, – очень доволен, – сказал Гануман.
– Что мне за дело до гнева Гунги? – сказал бык.
– Я Бхайрон простого народа и этот мой посох – котваль Каши. И я защищал простой народ.
– Ты?
Глаза молодого бога засверкали.
– Разве теперь я не первый из богов на их устах? – возразил, не смутившись, Бхайрон. – В защиту простого народа говорил я; много мудрых вещей сказал я, которые уже позабыл теперь. Но этот мой посох…
Кришна нетерпеливо обернулся, увидел крокодила у своих ног и, встав на колени, обвил руками холодную шею.
– Мать, – нежно сказал он, – иди опять в свою воду. Это дело не для тебя. Как может этот живой прах повредить твоей чести? Ты давала их полям урожай год за годом, и они стали сильны благодаря твоему разливу. В конце концов, они все приходят к тебе. Зачем убивать их теперь? Сжалься, мать, ненадолго – ведь это ненадолго.
– Если это ненадолго… – начало медлительное животное.
– А разве они боги? – возразил со смехом Кришна; его глаза глядели в тусклые глаза реки. – Будь уверена, что это ненадолго. Небожители слышали тебя, и правосудие свершится. Иди, мать, снова в воду. Много людей и зверей теперь в водах – берега рушатся, – села исчезают из-за тебя.
– Но мост – мост стоит!
Меггер, ворча, вернулся в заросли, когда Кришна встал.
– Кончено! – злобно сказала тигрица. – У небожителей нет более правосудия. Вы пристыдили Гунгу и насмеялись над ней, когда она просила только несколько десятков жизней.
– Моего народа – тех, что лежат под кровлями из листьев вон в том селении; молодых девушек и юношей, которые поют им песни во тьме; ребенка, который родится на следующее утро, – того, что зародился ночью! – сказал Кришна. – А какая польза, что это будет сделано? Завтрашнее утро застанет их за работой. Да если бы вы даже унесли весь мост от одного конца до другого, они начали бы снова. Выслушайте меня. Бхайрон всегда пьян. Гануман со своими новыми загадками насмехается над своим народом.
– Ну какие же они новые! – смеясь, сказала обезьяна.
– Шива слушает толкования разных школ и мечтания святых людей; Ганеса думает только о своих толстых купцах; но я, я живу с моим народом, не требуя даров, и потому получаю их ежедневно.
– Очень уж ты нежен со своим народом, – сказала тигрица.
– Он мой. Старухи грезят мною, ворочаясь во сне; девушки прислушиваются, поджидая меня, когда идут наполнять свои кувшины к реке. Я хожу с молодыми людьми, ожидающими у ворот в сумерки, и кличу седобородых. Вы знаете, небожители, что я один из всех нас не нахожу удовольствия на наших небесах, когда здесь на земле пробивается зеленая былинка или хотя бы два голоса раздаются в сумерках среди подрастающих колосьев. Мудры вы, но живете слишком далеко, забывая, откуда вы появились. А я не забываю. Вы говорите, что огненные колесницы питают ваши храмы? И огненные колесницы привозят тысячи пилигримов туда, куда в былое время приходили десятки? Верно. Верно, но только на сегодняшний день.
– Но завтра они умрут, брат, – сказал Ганеса.
– Тише, – сказал бык, когда Гануман снова нагнулся вперед. – А завтра, что же завтра, возлюбленный?
– Только вот что. Новые слова будут передаваться из уст в уста простого народа – слова, которых не смогут остановить ни человек, ни бог, – дурные, дурные, ничтожные, маленькие слова, передающиеся среди простого народа (и неизвестно, кто пустил их), гласящие, что вы надоели им, небожители, утомили их.
Боги тихо засмеялись.
– А потом, возлюбленный?
– И чтобы скрыть эти чувства, мой народ сначала будет приносить тебе, Шива, и тебе, Ганеса, больше жертв и станет громче восхвалять вас. Но слова уже пущены, и впоследствии мой народ будет платить меньше дани вашим толстым браминам. Затем люди станут забывать ваши алтари, но так медленно, что ни один человек не сможет сказать, когда и как началось это забвение.
– Я знаю… я знаю!.. Я говорила то же, но они не хотели слушать, – сказала тигрица. – Нам нужно было убивать… нам нужно было убивать!
– Теперь слишком поздно. Вы должны были убить вначале, когда люди по ту сторону воды еще ничему не научили наш народ. Теперь мои люди видят их работу и уходят, раздумывая. Они совсем не думают о небожителях. Они думают об огненной колеснице и других вещах, что сделаны строителями мостов, и, когда ваши жрецы протягивают руки за милостыней, они дают немного и неохотно. Это только начало; пока так поступают один, два, пять или десять, но я брожу среди моего народа и знаю, что у него в сердце.
– А конец, насмешник над богами? Каков будет конец? – спросил Ганеса.
– Конец будет такой же, как начало, о несообразительный сын Шивы! Пламя замрет на алтарях и молитва на языке, пока вы снова не станете маленькими богами – богами джунглей, – имена которых охотники за крысами и ловцы собак шепчут в чащах и в пещерах, жалкими божками деревьев и отдельных селений, какими вы были вначале. Вот конец для тебя, Ганеса, и для Бхайрона – Бхайрона простого народа.
– Это случится очень нескоро, – проворчал Бхайрон. – И это ложь.
– Много женщин целовало Кришну. Они рассказывали ему это, чтобы утешить себя, когда у них показались седые волосы, а он передал нам этот рассказ.
– Их боги пришли, и мы их переделали. Я взял женщину и сделал ее двенадцатирукой. Так вывернем мы всех их богов, – сказал Гануман.
– Их боги! Вопрос идет не об их богах – один или три, мужчина или женщина. Дело в людях, двигаются они, а не боги строителей мостов, – сказал Кришна.
– Пусть будет так. Я заставил одного человека поклоняться огненной колеснице, когда она стояла, дыша огнем, и он не знал, что поклоняется мне, – сказала обезьяна Гануман. – Они только несколько изменяют имена своих богов. Я буду по-прежнему руководить строителями мостов. Шиве в школах будут поклоняться те, кто сомневается и презирает своих товарищей; у Ганесы останутся его купцы, а у Бхайрона – погонщики ослов, пилигримы и продавцы игрушек. Возлюбленный, они только изменят имена, а это мы уже видели тысячу раз.
– Конечно, они только изменят имена, – повторил Ганеса; но боги беспокойно задвигались.
– Они переменят больше, чем имена. Меня одного они не смогут убить, пока девушка и мужчина встречаются друг с другом или весна следует за зимними дождями. Небожители, не напрасно я ходил по земле. Мой народ не сознает еще, что он уже знает; но я, живущий между людьми, читаю их сердца. Великие владыки, начало конца уже зародилось. Огненная колесница выкрикивает имена новых богов, а не старых под новыми именами. Теперь пейте и ешьте побольше. Погружайте ваши лица в дым алтарей, прежде чем они потухнут. Берите дань и слушайте звуки цимбал и барабанов, пока есть еще цветы и песни. Как считают люди, конец еще далек; но по счету времен у нас, знающих, он наступит сегодня. Я сказал.
Молодой бог замолчал; его собратья долго, безмолвно смотрели друг на друга.
– Этого я не слышал прежде, – шепнул Перу на ухо своему товарищу. – Но иногда, когда я смазывал маслом части машин в машинном отделении «Гурка», я думал, так ли уже мудры наши жрецы – так ли мудры. День настает, сахиб. Они уйдут к утру.
Желтый цвет на небе становился ярче, и тон реки изменился, когда исчезла тьма.
Внезапно слон затрубил, словно по знаку погонщика.
– Пусть судит Индра Отец всех, говори ты! Что скажешь ты о слышанном нами? Действительно ли Кришна солгал или…
– Вы знаете, – сказал бык, вставая на ноги. – Вы знаете загадку богов: «Когда Брама перестанет грезить, небеса и ад и земля – все исчезнет». Будьте довольны. Брама еще грезит. Грезы его приходят и уходят, и природа грез изменяется, а Брама еще грезит. Кришна слишком долго ходил по земле, но, несмотря на это, я еще больше полюбил его за переданный рассказ. Боги изменяются, возлюбленный, – все, кроме Одного!
– Да, все, кроме того, который зажигает любовь в сердцах людей, – сказал Кришна, завязывая свой пояс. – Ждать недолго, и вы узнаете, лгу ли я.
– Правда, времени, как ты говоришь, немного. Ступай снова в свои хижины, возлюбленный, и весели молодежь, потому что Брама еще грезит. Ступайте, дети мои! Брама еще дремлет, и, пока он не проснется, боги не умрут.
* * *
– Куда они ушли? – сказал пораженный ужасом ласкар, слегка дрожа от холода.
– Бог знает! – сказал Финдлейсон.
Река и острова вырисовывались теперь в дневном свете, и на сырой земле под деревом не было следов копыт или следов обезьяны. Только попугай кричал в ветвях; дождевые капли градом катились с его крыльев, когда он встряхивал ими.
– Вставайте! У нас ноги закоченели от холода. Испарился ли из тебя опиум? Можешь ли ты двигаться, сахиб?
Финдлейсон, шатаясь, поднялся на ноги и встряхнулся. Голова у него кружилась и болела, но действие опиума прошло, и, освежая голову в воде пруда, главный инженер моста у Каши поразился, каким образом он попал на остров, и стал раздумывать, какие шансы для возвращения домой представляет ему день и – главное – как обстоит дело с его мостом?
– Перу, я забыл многое. Я был под сторожевой башней, наблюдая за рекой… А потом!.. Унесло нас течение?..
– Нет. Суда сорвались, сахиб, и (если сахиб забыл об опиуме, Перу не станет напоминать о нем) мне показалось, – было так темно, – что какой-то канат, за который уцепился сахиб, сбросил его в лодку. В виду того что мы оба с Хитчкоком-сахибом выстроили, можно сказать, этот мост, я также сел в лодку, которая въехала, словно верхом на волнах, в мыс этого острова, разбилась и выбросила нас на берег. Я испустил громкий крик, когда лодка оторвалась от пристани, и, без сомнения, Хитчкок-сахиб приедет за нами. Что касается моста, то при постройке его умерло столько людей, что он не может умереть.
Палящие лучи солнца, выглянувшего после бури, вызвали из напоенной водой земли все ее ароматы; при ярком свете солнечных лучей человек не мог думать о сновидениях во тьме. Финдлейсон смотрел вверх по течению реки, которая ослепительно блестела на солнце, пока глаза у него не заболели. На Ганге не было видно берегов, тем более линии моста.
– Мы спустились очень далеко, – сказал он. – Удивительно, что мы не утонули раз сто.
– Это менее всего удивительно, потому что ни один человек не умирает раньше своего времени. Я видел Сидней, я видел Лондон и двадцать больших портов, но, – Перу взглянул на мокрый полинявший храм под деревом, – никогда человек не видел того, что мы видели здесь.
– Чего?
– Разве сахиб забыл?.. Или только мы, черные люди, видим богов?
– У меня была лихорадка, – сказал Финдлейсон, продолжая пристально смотреть на воду. – Мне казалось, что остров заполнен разговаривавшими зверями и людьми, но я не помню. Я думаю, лодка может теперь продержаться на воде?..
– Ого! Так, значит, это правда. «Когда Брама перестанет грезить, боги умрут». Теперь я знаю, что он хотел сказать. Однажды гуру сказал мне то же, но тогда я не понял. Теперь я поумнел.
– Что такое? – сказал через плечо Финдлейсон.
Перу продолжал, как будто говоря сам с собой:
– Шесть… семь… десять муссонов тому назад я стоял на вахте на «Ревахе» – большом судне «Кумпании» – и был большой «туфан», зеленая и черная вода билась о судно; и я крепко держался за спасательный круг, задыхаясь под потоком воды. Тогда я подумал о богах – о тех, которых мы видели сегодня ночью… – Он с любопытством, пристально посмотрел в затылок Финдлейсону, но белый человек смотрел на реку. – Да, я говорю о тех, которых мы видели в прошлую ночь, и молил их защитить меня. И, когда я молился, продолжая смотреть, громадная волна подхватила меня и бросила на кольцо большого черного носового якоря. «Ревах» поднялся высоко-высоко, наклонившись на левый борт, и вода стекла у него с носа, а я лежал на животе, держась за скобу и смотря вниз в великую глубину. Тогда, даже перед лицом смерти, я подумал, что если перестану держаться, то умру и для меня не будет ни «Реваха», ни моего места на кухне, где готовят рис, ни Бомбея, ни Калькутты, ни даже Лондона. «Как могу я быть уверен, что боги, которым я молюсь, все же останутся?» – сказал я. Так думал я, а «Ревах» опустил нос, вроде как падает молоток, и волны ворвались и смыли меня на корму, и я чуть было не сломал себе берцовую кость о лебедку; но я не умер, и я видел богов. Они хороши для живых людей, но не для мертвых; они сами это говорили. Поэтому, когда я вернусь в селение, я отколочу гуру за то, что он задает нам загадки, которые вовсе не настоящие загадки. Когда Брама перестанет грезить, боги умрут.
– Взгляните вверх по реке. Этот свет ослепляет. Нет там дыма?
Перу прикрыл глаза рукой.
– Он умный человек и сообразительный. Хитчкок-сахиб не решился довериться гребному судну. Он взял у Рао-сахиба паровую яхту и плывет искать нас. Я всегда говорил, что при постройке моста должна была бы быть паровая яхта у нас.
Владение Рао из Бараона лежало в десяти милях от моста. Финдлейсон и Хитчкок проводили большую часть своего скудного свободного времени в игре на бильярде и на охоте с этим молодым человеком. В течение пяти или шести лет его воспитанием руководил англичанин, любитель спорта, и теперь он по-королевски тратил доходы, накопленные правительством Индии за время его несовершеннолетия. Паровая яхта с серебряными поручнями, с тентом из полосатой шелковой материи и палубой из красного дерева была новой игрушкой, которая страшно досаждала Финдлейсону, когда Рао явился посмотреть на постройку моста.
– Это большое счастье, – пробормотал Финдлейсон; но он все же боялся, ожидая известий о мосте.
Нарядная, голубая с белым труба быстро продвигалась вниз по течению реки.
На носу виднелся Хитчкок с биноклем; лицо его было необыкновенно бледно. Перу крикнул, и яхта направилась к острову. Рао-сахиб, в охотничьем костюме и семицветном тюрбане, размахивал своей царственной рукой, а Хитчкок громко кричал, не дожидаясь, о чем его будет спрашивать Финдлейсон, так как знал, что первый вопрос его будет о мосте.
– Все прекрасно! Клянусь Богом, Финдлейсон, я не надеялся снова увидеть вас! Вы миль на двадцать ниже моста… Да, ни один камень не тронут… А как вы себя чувствуете? Я попросил яхту у Рао-сахиба, и он был так добр, что отправился вместе со мной! Прыгайте!..
– А, Финдлейсон, вы здоровы? Небывалое бедствие случилось прошлой ночью, а? Мой королевский дворец течет, словно дьявол, а урожай будет плох во всей моей стране… Вы дадите задний ход, Хитчкок? Я… я не разбираюсь в паровых машинах. Вы вымокли? Вам холодно, Финдлейсон? У меня есть что поесть, да и выпейте хорошенько.
– Я безгранично благодарен вам, Рао-сахиб. Я думаю, вы спасли мне жизнь. Как Хитчкок…
– О!.. У него волосы стояли дыбом! Он приехал ко мне среди ночи и вырвал меня из объятий Морфея. Я очень встревожился, Финдлейсон, и потому отправился с ним сам. Мой главный жрец, он теперь очень сердит. Поедем скорее, мистер Хитчкок. В три четверти первого я должен быть в главном храме, где мы освящаем какого-то нового идола. Не будь этого, я попросил бы вас провести день со мной. А ведь чертовски скучны эти религиозные церемонии, Финдлейсон, э?
Перу, хорошо известный экипажу яхты, стал у штурвала и умело повел яхту вверх по реке. Но пока он правил, он мысленно пускал в дело два фута наполовину расплетенного троса, и спина, по которой он ударял, была спиной его гуру.
Сноски
1
Деревенский старшина, стражник, полицейский.
(обратно)2
Гопи (по-санскритски – пастушка) – мифические существа, влюбленные в бога Кришну.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




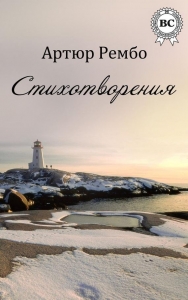

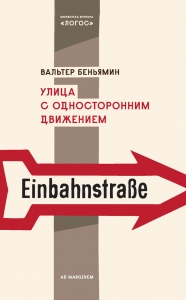



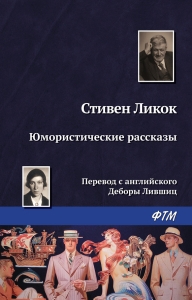

Комментарии к книге «Строители моста», Редьярд Джозеф Киплинг
Всего 0 комментариев