Посвящается Мэв
ГЛАВА ПЕРВАЯ
I
Титусу семь. Он заточен в Горменгасте. Вскормлен тенями; возрос, так сказать, в тенетах ритуала: ибо уши его – эхо, глаза – каменный лабиринт; и все же в теле мальчика кроется нечто иное, отличное от этого укутанного в тени наследия. Ибо прежде и превыше всего он – ребенок.
Ритуал, более неодолимый, чем все, до чего смог додуматься человек, бьется с цепкой тьмой. Ритуал крови, порывистой крови. Этой проворной чувствительностью он обязан не пращурам своим, но беспечным ордам, в коих счет идет на триллионы, – всем детям, когда-либо населявшим планету.
Дар смышленой крови. Крови, которая хохочет, когда догматы твердят: «Плачь». Крови, скорбящей, когда иссохший закон каркает: «Веселись!» О, маленькая революция в великих тенях!
Титус семьдесят седьмой. Наследный владетель осыпающейся вершины, океанов крапивы, империи красной ржавчины, глубоких, по лодыжки, следов, оставленных ритуалами в камне.
Горменгаст.
Погруженный в себя, губительный, он размышляет о чем-то во мгле: незапамятной давности каменная кладка, башни, дворы. И все это разваливается? Нет. По проходам меж шпилей порхает зефир, посвистывает птица, рукав отделяется от задохнувшейся реки. В самой глуби стиснутого каменного кулака подергивается кукольная ручка – бунт тепла на заледеневшей ладони. Сдвигается долгая тень. Дергает ножкой паук…
И тьма вьется меж персонажами.
II
Кто же они, персонажи? И что узнал он о них и о доме своем с того далекого дня, когда графиня Гроанская разродилась им в комнате, полной птиц?
Он узнал азбуку аллей и арок: язык темных лестниц и обжитых ночницами стропил. Огромные залы стали местами его игр, прямоугольные дворики – полями, колонны – деревьями.
И еще он узнал, что рядом всегда есть глаза. Глаза, надзирающие за ним. Ноги, идущие за ним по пятам, и руки, которые держат его, когда он вырывается, поднимают, если он падает. Поднявшись, он без улыбки смотрит вокруг. Высокие фигуры склоняются. Иные в драгоценностях, а те – в лохмотьях.
Персонажи.
Живые и мертвые. Облики, голоса, полнящие его разум, ибо настали времена, когда живые лишаются сущности и действовать начинают мертвые.
Кто эти мертвые – эти жертвы ожесточения, не способные больше ничем, кроме эха своих голосов, повлиять на жизнь Горменгаста? Ведь зыбь еще расходится смутными кольцами, и на покрытой гусиной кожей воде, под которой мирно покоятся давно затонувшие камни, совершается некое движение. Персонажи, от которых Титусу остались только имена, хотя среди них – отец его, при рождении Титуса все еще были живы. Кто они? Ведь ребенку еще предстоит услышать о них.
III
Пускай они появятся на быстрый, бесплотный миг – призраками, отдельными, несхожими, завершенными. Даже и сейчас, как перед смертью, они пребывают в движении, каждый в своей стихии. Холодный ли свиток Времени развивается сам собой, пока не заслышатся голоса мертвых годов, или это биение настоящего пробуждает духов и посылает их блуждать, проницая стены?
Была когда-то библиотека – ныне она обратилась в пепел. Соберем ее заново во всей долгой ее протяженности. Толще каменных ее бумажные стены, укрепленные знанием, философией, поэзией, полночными часами плывущей по ней или пляшущей, топоча. Огражденный щитом из льна, и телячьей кожи, и хладной тяжести чернил, дух Сепулькревия, грустного Графа, семьдесят шестого властителя полутьмы, сидит посреди нее, погруженный в раздумья.
Пять лет тому. Ничего не ведая о приближении сов, несущих ему погибель, он изливает печаль каждым безжизненным жестом, каждой тонкой чертою, как будто тело его – стеклянное, с опрокинутым сердцем в середке, подобным повисшей слезе.
Само дыхание Графа есть род отлива, что относит его все дальше от него самого, он скорее сплывает, чем правит руль к острову безумия – в стороне от всех торговых путей, по мертвой зыби, к утесам, пылающим в высоте.
О том, как он умер, Титус не знает ничего. Ибо еще не успел познакомиться и уж тем более поговорить с долговязым Лесным Человеком, Флэем, прежним слугой его отца и единственным свидетелем гибели Сепулькревия, случившейся, когда тот, помешавшись, вошел в Кремнистую Башню и отдал себя на поживу голодным совам.
Флэй, смахивающий на мертвеца, немногословный, с коленями, при каждом паучьем шаге сообщающими о его продвижении, – только он из призраков, коих выводим мы напоказ, остался еще в живых, хоть его и изгнали из замка. Однако столь основательно вплетен он в клубок закоренелой жизни замка, что если и дано было хоть кому-то из людей заполнить оставшуюся от него пустоту своим призраком, так именно Флэю.
Ведь отлучение есть разновидность смерти, и ныне по лесу бродит другой человек – вовсе не тот, каким был семь лет назад первый слуга Графа. И потому в то самое время, когда он, оборванный и бородатый, расставляет в папоротниковой балке силки на кроликов, призрак его сидит в высоком коридоре, безбородый, прежний, под дверью хозяина. Откуда ему знать, что через недолгое время он собственной своею рукой начертит новое имя на свитке со списком убитых? Он знает одно: над жизнью его нависла опасность, каждая жилка его долговязого, напрягшегося, угловатого тела вопит о желаньи избавиться, наконец, от непереносимой вражды, от ненависти, от злых предвкушений. И знает также, что этого не случится, пока либо он, либо тучный, обвислый кошмар, к которому все и сводится, не исчезнет с лица земли.
И это случается. Обвислый кошмар, главный повар Горменгаста, уплывает, подобный облитому светом луны ламантину, длинный меч, вонзенный лишь за час до гибели Графа, торчит, точно мачта, из его огромной груди. И вот он снова приходит в места, обжитые им на собственный вкрадчивый, жестокий манер. Из всех громоздких туш – самая иллюзорная, поскольку призрак лишен и веса и плоти, – это, конечно, Абиата Свелтер, бродящий, весь в нездоровом, слизняком отзывающем сале, по волглым туманам, что колышутся над полами Великой Кухни. Над смутными вертелами и налитыми вполовину водою котлами, в коих варится мясо, над чанами величиною с ванны встает и наплывает волной миазмов едва-едва различимый смрад сегодняшней жратвы. Плывущий сквозь жаркое марево на всех своих развернутых, раздутых парусах, призрак Свелтера еще более размывается завесою испарений, становится призраком призрака, и только брюква головы его сохраняет натуральную сплошноту. На жирной физиономии повара проступает, словно злая испарина, надменность.
Сколь ни заносчиво и злобно огромное это привидение, но и оно сторонится, уступая дорогу вышедшему на инспекционный обход привидению Саурдуста. Распорядитель Ритуала, самый, может быть, незаменимый человек из всех них, краеугольный камень и хранитель закона Гроанов, выступает, перебирая вялыми, заскорузлыми пальцами узлы спутанной бороды. Едва волоча ноги, движется он, и багровые лохмотья должностного одеяния грязными фестонами свисают с его тощего тела. Здоровье у него даже для призрака совсем никудышное, непрестанный сухой ужасный кашель колотит его, заставляя черно-белые пряди подскакивать и опадать. Теоретически он радуется тому, что дом обрел в Титусе наследника, однако обязанности старца слишком тягостны, чтобы он мог позволить себе веселие сердца, даже если допустить, что ему когда-либо удавалось заманить в этот запинающийся орган чувство, столь пустяковое. Шаркающей походкой переходя от церемонии к церемонии, держа сухую голову гордо поднятой вопреки естественной ее тяге свеситься на дряхлую грудь, покрытый столькими морщинами и вмятинами, сколько виднеется трещин и дыр на рассохшемся сыре, он олицетворяет древность высокого своего положения.
Плотское тело его погибло в роковой библиотеке, которая ныне в призрачном виде своем служит пристанищем для тени Сепулькревия. Приходя сквозь душный чад Свелтеровой кухни и сливаясь с ним, старый Распорядитель Ритуала не может ни предугадать, ни вспомнить (кто способен сказать, к чему клонятся мысли фантомов?), что он умрет или уже умер от едкого дыма, который наполнит его до самых изморщенных губ, умрет от огня и удушья, от пламени, лижущего его морщинистую кожу золотыми и алыми языками.
Не может он знать и того, что это Стирпайк уничтожил его, что запал подожгли их светлости Кора и Кларисса, и что с того самого часа перед его властителем, священным и неприкосновенным Графом легла прямая и ясная дорога к безумию.
И наконец, по коридору, испещренному пятнами света и жемчужно-серых теней, тихо проходит Кида, молочная мать Титуса. То, что она обратилась в привидение, представляется только естественным – в ней и при жизни-то присутствовало нечто неосязаемое, отчужденное, призрачное. Смерть человека, бросившегося в бездонный колодец сумеречного воздуха, – это жестокая смерть, но и она не столь ужасна, как последние мгновения Графа, главного повара или дряхлого Распорядителя Ритуала; да и гнет жизни человек такой сбрасывает все же быстрее, чем долговязый обитатель лесов. Как и в прежнее время, еще до того, как бежала она из замка навстречу погибели, Кида печется о Титусе – так, словно сама ее кровь нашептывает ей советы всех матерей, когда-либо живших на свете. Смуглая, светящаяся почти топазовым светом, она все еще молода, единственный изъян ее – это вечное проклятие Внешнего Люда, преждевременный распад необычайной его красоты, порча, которая с безжалостной быстротой разъедает почти призрачную их молодость. Она единственная здесь, кто происходит из этого обреченного роком, угнетенного нищетой сообщества отверженных, чье безотрадное селенье лепится к внешней стене Горменгаста, подобное наросту из скрепленных грязью моллюсков.
Неудержимое сияние солнца, прожегшего путаную пряжу туч, врывается в сотни окон Южных стен. Свет его слишком ярок для призраков, и Кида, Саурдуст, Флэй, Свелтер и Сепулькревий, расточаются в солнечных лучах.
Таково, стало быть, краткое описание Мертвых Персонажей. Тех нескольких, изначальных, которые, умерев, оставили пустоты в самой сердцевине жизни замка еще до того, как Титусу исполнилось три года. На содеянном ими зиждется будущее. Сам Титус без них бессмыслен, ибо младенчество его питалось поступью, поступками, обликами этих людей, которые он различал на фоне высоких потолков, их смутными очертаниями, их быстрыми или медленными движениями, различиями их запахов и голосов.
Все способное двигаться порождает последствия, отзвуки, и вполне вероятно, что Титус, повзрослев, еще услышит дальнее эхо того, что шепталось тогда, в его первые годы. Ибо брошен он был не в застывшее скопище персонажей – не в покойную картину, но в подвижную арабеску, мысли которой были действиями, а если и не были, то, подобно нетопырям, свисали с чердачных стропил либо кружили меж башен на прожилистых, как листья, крыльях.
ГЛАВА ВТОРАЯ
А что же живые?
Мать его полуспит, полубодрствует: бодрствованием гнева, отрешенностью оцепенения. Она видела Титуса семь раз за семь лет. А после забывала и залы, служившие ему приютом. Но сейчас она наблюдает за ним из скрытных окон. Любовь ее к сыну тяжка и бесформенна, как пена. Белые коты тянутся за нею на целый фарлонг. Снегирь свил гнездо в красных ее волосах. Такова Графиня Гертруда, великанша.
Не столь грозна, но столь же мрачна и непредсказуема сестра Титуса. Чувствительная, как отец, но лишенная его ума, Фуксия размахивает флагом своих черных волос, прикусывает детскую нижнюю губу, хмурится, смеется, размышляет, она нежна, раздражительна, подозрительна и доверчива – и все это по десяти раз на дню. Багровое платье ее воспламеняет серые коридоры или, полыхая в пробившем высокие ветви солнечном столбе, обращает густую зеленую темень в еще более зеленую мглу или в еще более мглистую зелень.
Кто связан с Титусом кровным родством? Только бессмысленные Тетки, Кора с Клариссой, двойняшки, сестры Сепулькревия. Мозги их извяли настолько, что восприятие оными любой новой мысли чревато кровоизлиянием. Вялы и тела сестер – до того, что пурпурные их платья, свисают ли они с их плеч или же с плечиков, выказывают одинаковые признаки наличия под ними нервов и жил.
Другие? Люди менее знатные? В порядке высоты положения в обществе первыми, возможно, следует упомянуть Прюнскваллоров, то есть Доктора и его туго обтянутую тканью, из-под которой топырятся кости, сестру. Доктора с его смехом гиены, странноватым изящным телом, целлулоидным лицом.
Главные недостатки его? Невыносимая высота голоса, смех, способный свести с ума, и аффектированная жестикуляция. Основное достоинство? Неповрежденный ум.
Em сестра Ирма. Тщеславная, как дитя; тощая, как журавлиная нога; и слепая в своих черных очках, точно сова при солнечном свете. Со ступеньки, отведенной ей на общественной лестнице, она срывается по меньшей мере три раза в неделю – но лишь для того, чтобы снова вскарабкиваться назад, оживленно виляя тазом. Мертвые белые руки свои Ирма сжимает под подбородком в высокой надежде скрыть таким способом плосковатость груди.
Кто следующий? В рассуждении общественного положения – никто. Невозможно назвать никого, кто в первые несколько лет жизни Титуса сыграл хоть какую-то роль, сказавшуюся на будущем ребенка; вот разве Поэта – человека с клинообразной головой и неудобным телом, мало известного верховным жрецам Горменгаста, хоть и имевшего некогда репутацию единственного, кто способен увлечь Графа беседой. Почти забытое действующее лицо, засевшее в своей комнатке над каменным обрывом. Стихов его никто не читает, однако он обладает определенным престижем – как человек благородный, во всяком случае, понаслышке.
Забудем, однако, про голубую кровь, и на поверхность сразу всплывет целый косяк имен. Баркентин, въедливый сын покойного Саурдуста, Распорядитель Ритуала, низкорослый и вздорный семидесятилетний педант, заступивший место отца (не обеими, впрочем, ногами, ибо нога у Баркентина только одна, и проходы его по скудно освещенным коридорам сопровождаются гулкими, отзывающими эхом ударами злобного костыля).
Флэй, уже являвшийся нам в обличьи собственного привидения, более чем жив и поныне – и обитает в лесу Горменгаст. Немногословный, похожий на мертвеца, он не в меньшей мере, чем Баркентин, принадлежит к традиционалистам старой школы. Впрочем, отличие его от Баркентина в том, что вспышки гнева, одолевающего Флэя, когда он сталкивается с пренебрежением Законом, порождаются ослеплением горячей преданности, а не безжалостной, каменной нетерпимостью калеки.
Несправедливо, конечно, упоминать о госпоже Шлакк в последнюю очередь. Того обстоятельства, что на ее попечении находится сам Титус, наследник Горменгаста, как находилась в пору своего детства и Фуксия, безусловно достаточно, чтобы поместить старушку во главе любого списка. Но она такая крохотная, такая пугливая, такая старенькая, такая сварливая, что никогда не смогла бы, да и не захотела б, возглавить какую ни на есть процессию, даже и на бумаге. То и дело брюзгливо вскрикивая: «Ох, слабое мое сердце! ну как они могут?», бедняжка спешит к Фуксии либо для того, чтобы отшлепать погрузившуюся в размышления девушку и тем облегчить душу, либо из потребности зарыть в платье Фуксии сморщенную сливу своего личика. Опять оставшаяся наедине со своей комнатой, старушка лежит на кровати, покусывая крохотный кулачок.
А вот в молодом Стирпайке нет ни сварливости, ни страха. Если когда-либо в узкой груди его и обитала совесть, то он давно уже выковырял эту неудобную штуку и забросил так далеко, что, буде она ему снова понадобится, он нипочем не сможет ее отыскать.
День рождения Титуса ознаменовался началом восхождения Стирпайка по крышам Горменгаста и концом его службы на кухне Свелтера – в чадной провинции, бывшей и слишком неприятной, и слишком малой для его извилистых дарований и всевозраставших амбиций.
Высокоплечий почти до уродства, со стройным и ловким телом и конечностями, с тесно посаженными глазами цвета подсохшей крови, он все еще карабкается наверх – теперь уже не по спинному хребту Горменгаста, но по винтовой лестнице самой его души, устремляясь к некой вершине, намеченной свербящим воображением юноши, к какому-то фантастическому, недосягаемому орлиному гнезду, ему известному лучше, чем нам, – оттуда он сможет взирать на мир, простершийся внизу, в упоении потрясая колтунными крыльями.
Ротткодд спит себе без задних ног в гамаке, висящем у дальней стены Зала Блистающей Резьбы – длинного чердачного помещения, в котором хранятся лучшие образцы искусства обитателей Нечистых Жилищ. Прошло уж семь лет с тех пор, как он наблюдал отсюда за шествием, загибавшимся далеко внизу от озера Горменгаст – в тот день, когда Титус обрел титул Графа, – и с той поры в жизни его не произошло ничего, не считая ежегодного появления новых скульптур, добавлявшихся к раскрашенным изваяниям длинного зала.
Похожая на маленькое пушечное ядро голова господина Ротткодда сонно покоится на локте, гамак легко покачивается под зуденье плодовой мушки.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
На грубой обочине замковой жизни – обочине неровной, как береговая линия ободранного бурями острова, – размещаются прочие фигуры, замершие на месте либо медленно подвигающиеся к центру. Все они вышли из топи беспредельной пустоты – из безвременных, мутных вод. Да, но кто же они, ступившие на этот хладный брег? Уж наверное столь грозный простор изрыгает никак не меньше, чем богов: покрытых чешуею царей или тварей, чьи распростертые крылья способны затмить небо от края до края. Или хоть крапчатого Дьявола с медным челом.
Но нет. Ни чешуи, ни крыльев здесь не видать.
Когда они выходили на берег, стояла тьма, не позволявшая их разглядеть; впрочем, сумрачное пятно, для одного человека великоватое, послужило предвестием появления стайки седовласых Профессоров, в чьих руках Титусу вскоре придется покорчиться.
Зато никакая завеса полусвета не скрывает от нас высокоплечего молодого человека, входящего в маленькую, вроде келейки, комнату из прохода, выложенного камнями – сухими, серыми и шершавыми, как слоновьи бока. И когда он оборачивается, чтобы взглянуть вдоль по коридору, холодный свет вспыхивает на высокой белой припухлости его лба.
Войдя, он закрывает за собою дверь и задвигает засов. Окруженный белыми стенами, он, переходя комнату, кажется колдовски отделенным от мирка, что обступает его. Он более схож с тенью молодого человека, высокоплечей, скользящей по белизне тенью, чем с движущимся в пространстве материальным телом.
В середине комнаты стоит простой каменный стол. Стеснившись примерно в центре его, здесь застыли: винный графин с витым горлом, несколько пачек бумаги, перо, немногие книги, приколотая к пробке ночница и половинка яблока.
Минуя стол, молодой человек, не замедлив шага, берет яблоко, надкусывает его и кладет обратно – и внезапно возникает впечатление, что он вот-вот воспарит в воздух; но нет, ничего подобного не происходит. Пол комнаты имеет странный наклон и молодой человек идет по нему вниз, туда, где пол теряется за скрывающей проем в стене занавеской.
Миг – и молодой человек оказывается за нею, и тьма, лежащая там, принимает его, так сказать, в себя, сглаживая резкие очертания его тела.
Теперь он находится в устроенном вровень с полом, давно не используемом камине. Здесь очень темно, и темнота эта не столько умеряется, сколько усиливается рядками маленьких, поблескивающих зеркал, вмещающих конечные отражения того, что происходит в комнатах, которые примыкают, одна над другой, к схожему с расщелиной дымоходу, уходящему оттуда, где стоит в темноте молодой человек, туда, где высокий воздух вьется над изгрызенными непогодой крышами, неровными, растрескавшимися, будто черствые корки, страшно краснеющими в пытливых лучах закатного солнца.
Весь последний год ушел у него на то, чтобы проникать в эти комнаты и залы, примыкающие, одна над другой, к высокой расщелине дымохода, и затем высверливать отверстия в каменной кладке, дереве и штукатурке – дело нелегкое, когда колени твои и спина вжаты в противоположные стены неосвещенной трубы, – покамест свет не прорвется во тьму дымохода сквозь дырку размером не больше монеты. Для работы этой приходилось, разумеется, выбирать время с осмотрительностью, дабы не возбудить никаких подозрений. Более того, дырки надлежало проделывать как можно ближе к выбранным для них положениям – в удобных местах, которые естественным образом предоставляла для них та или эта комната.
Он не только тщательно отобрал помещения, в которые, как ему представлялось, стоит по временам заглядывать: либо для того, чтобы насладиться подслушиванием ради подслушивания, либо в надежде найти подспорья для осуществления своих планов.
Методы, к коим он прибегал, маскируя отверстия, которые, расположи он их неудачно, ничего бы не стоило обнаружить, были и разнообразны, и остроумны – возьмем хоть логово Баркентина, Распорядителя Ритуала. В комнате этой, грязной, как лисья нора, висел на правой от входа стене писанный давно уж пошедшим пузырями маслом портрет всадника, взгромоздившегося на пегую кобылу; так вот, молодой человек не только проделал пару дырок в холсте, прямо под рамой, чья тень лежала на масле подобно длинной черной линейке, – он также отрезал пуговицы всадника и продырявил зрачки – и его, и лошади. Круглые отверстия эти, расположенные на разных высотах и широтах, давали молодому человеку разные ракурсы комнаты, в зависимости от того, в какой ее угол подвигалось на жутком костыле жалкое тулово Баркентина. Глаза кобылы, коими молодой человек пользовался чаще всего, позволяли во всех подробностях видеть матрас, на котором Баркентин проводил большую часть своего досуга, завязывая на бороде узлы и распуская их или подымая тучи пыли всякий раз, что он в приступе раздражения задирал и ронял единственную свою ногу, к тому ж еще и иссохшую. Сложная система проволочек и зеркалец, пристроенных в самом камине и непосредственно у отверстий, позволяла получать отражения тех, кто находился в нежилых помещениях, посылая эти отражения вниз по черному дымоходу: зеркальце переглядывалось с зеркальцем, перенося потаенные подробности действий и движений всякого, кто попадал в беспощадную их орбиту – передавая их одно другому, пока основание стеклянного созвездия не доставляло молодому человеку очередного развлечения либо интересных сведений.
Сидя в темноте, он мог, например, полюбоваться Груболотом – акробатом, часто пересекавшим свою комнату на руках, перебрасывая с одной ступни на другую поросенка в зеленой ночной рубашке; или перевести взгляд на соседнее зеркало, показывающее Поэта, который впивался маленьким ротиком в булку, склонив длинный клин головы и краснея от натуги, поскольку не мог прибегнуть к помощи обеих рук – одна писала, – между тем как глаза его (настолько расползшиеся в стороны, что, казалось, им никогда уж больше не сойтись) источали одухотворенность, даже и не снившуюся ни одному существу из плоти и крови.
Однако в сети молодого человека забредала рыба и покрупнее всех упомянутых нами (бывших, если не считать Баркентина, всего лишь креветками Горменгаста), и он обращался к зеркалам более беспощадным, к более увлекательным зеркалам, отражавшим саму дочь Гроанов, удивительную Фуксию, чьи волосы отливали вороновым крылом, и матушку ее, Графиню со стаей птиц на плечах.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
I
В то теплое летнее утро огромное, похожее на заржавелый колокол сердце Горменгаста вполовину спало и казалось, что приглушенные удары его никаких отзвуков не порождают. В зале с оштукатуренными стенами зевало безмолвие.
Иногда из прибитого над дверью этой залы красного от ржавчины шлема или шишака доносился песчаный, осыпчатый звук и миг спустя из глазной прорези высовывался галочий клюв – высовывался и тут же исчезал. Покрытые штукатуркой стены уходили вверх, в пасмурный и, похоже, беспотолочный сумрак, разрежаемый лишь одиноким, высоко пробитым окном. Теплый свет, пробивавшийся сквозь заросшее паутиной стекло, намекал на присутствие галерей, не то балконов где-то выше окна, но ничего не говорил о наличии там каких-либо дверей и вообще способов, коими можно было б на эти балконы попасть. Несколько лучей солнечного света наклонными диагоналями тянулись из окошка по зале, точно медные провода, и каждый завершался на досках пола лужицей янтарной пыли. Паук сажень за саженью спускался вниз на рискованно длинной нити и, вдруг пронизав солнечный луч, обращался на миг в безделушку из светозарного золота.
Ниоткуда не доносилось ни звука, но вот окошко – точно настал срок разрядить сгустившееся напряжение – раскрылось, и солнечные лучи исчезли, поскольку в залу просунулась потрясающая колокольцем рука. Почти сразу послышался топот, а мгновенье спустя распахнулась и захлопнулась дюжина дверей, и по зале, пересекая ее во всех направлениях, засновали люди.
Колокольчик умолк. Рука выдернулась из окошка, люди исчезли. Не осталось ни единого признака того, что меж оштукатуренных стен когда-либо двигалось или дышало хотя бы одно живое существо, что когда-либо открывалось множество дверей, – разве вот белесый цветочек остался лежать в пыли под заржавленным шлемом, да дверь залы еще тихо покачивалась взад и вперед.
II
Она покачивалась, мельком показывая фрагменты беленого коридора, загибавшегося по дуге, столь широкой и плавной, что там, где наконец исчезала из виду правая стена, потолок, казалось, поднимался над полом не более чем на высоту лодыжки.
Этот коридор, длинный, сужающийся в пепельно-белой перспективе, изгибающийся с безнатужной легкостью парящей в воздухе чайки, внезапно ожил. Ибо к пустой зале стало быстро приближаться нечто, в чем лишь с большим трудом – во всяком случае, пока оно не одолело трети длинной, ведущей сюда дуги, – можно было различить коня и всадника. Резкое щелканье копыт вдруг раздалось прямо за качкой дверью, и маленький серый пони толкнул ее мордой, заставив широко раствориться.
На пони сидел Титус.
Он был в свободном одеянии из грубой ткани, обычном для всех детей замка. Первые девять лет жизни наследнику Графства полагалось проводить среди людей из низших сословий, стараясь постигнуть их помыслы и побуждения. В пятнадцатый день рождения ему следовало оборвать всякую дружбу с ними, буде таковая возникнет. Всей его повадке надлежало перемениться, заместив прежние дружеские отношения с челядью замка новыми, более строгими и разборчивыми. В ранние же годы потомок Рода обязан был, ибо того требовала традиция, каждодневно проводить, по крайности, определенные часы, с детьми невысокого звания – есть в их обществе, спать в их спальнях, брать вместе с ними уроки у Профессоров и участвовать, наряду с прочей мелюзгой низкого разбора, в разного рода освященных веками играх и обрядах. Но и при всем том Титус сознавал, что находится под постоянным призором: со стороны должностных особ, следивших, чтобы он не нарушил каких-либо правил, а порой и со стороны мальчиков. Не доросший еще до понимания всего, что проистекало из его положения, он все же вырос достаточно, чтобы осознавать свою исключительность.
Раз в неделю, перед утренними занятиями, ему разрешалось в течение часа кататься на серой лошадке под высокими южными стенами, и возносимая ранним солнцем фантастическая тень мальчика во весь опор неслась за ним по высоким камням. Стоило Титусу взмахнуть рукой и теневой двойник его на идущем галопом теневом скакуне тоже замахивался.
Однако сегодня, вместо того чтобы рысью направиться к любимой южной стене, Титус, поддавшись озорному капризу, поворотил пони в черную от мха арку и въехал в замок. Сердце его быстро билось в утренней тишине, пока он скакал по каменным коридорам, в которых до сей поры не бывал.
Он знал, что еще пожалеет о самовольной отлучке с занятий – ему не один уже раз приходилось за ослушание подобного рода проводить долгие летние вечера под запором. И все же он наслаждался пронзительным вкусом свободы, рожденной быстрым рывком уздечки, избавившим его от присутствия конюха. Всего несколько минут одиночества выпало ему, но, остановившись в высокой оштукатуренной зале – с ржавым шлемом над ним и смутными, таинственными балконами, висящими много выше шлема, – он почувствовал, что внезапно обуявший его мятежный зуд уже притупился.
Сколь маленьким ни выглядел Титус на своем сером пони, в уверенности, с которой он возвышался в седле, ощущалась некая властность – нечто внушительное, как будто детское тело его отличалось немалым весом либо силой – сплавом духа и плоти, прочной основой, скрытой под капризами, страхами, смехом, слезами и энергичной живостью семи его лет.
Далеко не красивый, этой властностью он тем не менее обладал. В нем, как и в матери, чуялся некий размах, как если бы рост и иные размеры его не имели никакого отношения к логике футов и дюймов.
Медленной, шаркающей походкой в залу вошел конюх, что-то насвистывая по вечной своей привычке, не покидавшей его никогда – чистил ли он коня или занимался чем-то иным, – и войдя, сразу повел серого пони к учебным классам, на запад.
Сидя на ведомом в поводу пони, Титус смотрел в затылок конюха. Он так и не произнес ни слова, как будто все происшедшее было множество раз отрепетировано загодя и не требовало никаких пояснений. Мальчик хорошо знал и этого человека, и его посвистыванье, неотделимое от него, как неотделимо бурное море от звуков, которые оно порождает, – чуть больше года прошло уже со времени, когда Титус получил свою серую лошадку на церемонии, известной как «Дарение пони» и неизменно устраиваемой в третью пятницу после шестого дня рождения любого мужского потомка Рода, ставшего, по причине смерти отца, графом еще в малые годы. За все это время, а пятнадцать месяцев – немалый срок для ребенка, способного хоть с какой-то отчетливостью припомнить лишь последние четыре года, Титус и конюх обменялись не более чем дюжиной фраз. Не то чтобы они не любили друг друга: просто конюху достаточно было делиться с мальчиком уворованным где-то печеньем с тмином, не прилагая никаких усилий к тому, чтобы завязать разговор, а Титусу хватало и таких отношений, поскольку конюх оставался для него всего лишь приволакивающим ноги человеком, который ухаживает за пони, – мальчик довольствовался знанием его повадок, его шаркотни, белого шрама над глазом, посвистываньем.
Через час занятия шли уже полным ходом. Подперев ладонями подбородок, Титус сидел за покрытым кляксами столом, и мечтательно созерцал меловые значки на аспидной доске. Значки изображали результат деления на однозначное число, но вполне могли составлять и тайное послание, которое тысячу лет назад направил своему теперь уж вымершему народу помешанный пророк. Мысли Титуса, как и мысли маленьких его сотоварищей, сидевших в обитой кожей классной комнате, блуждали далеко отсюда – но не в мире пророков, а в мире предназначенных для обмена стеклянных шариков, птичьих яиц, деревянных кинжалов, тайн и рогаток, полуночных пиршеств, героев, смертельной вражды и беззаветной дружбы.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Облокотясь о подоконник, Фуксия смотрела на разлегшиеся внизу неровные крыши. Багряное платье ее горело странной краснотой, чаще встречающейся в живописи, чем в Природе. Оконница, окружавшая не только ее, но и простертую за нею неразличимую мглу, обратилась в раму шедевра. Неподвижность девушки усиливала этот обманный эффект, впрочем, если бы Фуксия и пошевелилась, движение ее скорей создало бы впечатление ожившей картины, а не изменения, совершившегося в Природе. Впрочем, композиция оставалась неизменной. Черные волосы девушки опадали неподвижно, сообщая бесконечную изысканность лежащему за ней объему губчатой тени, подчеркивая в нем то, чем он и был, – не темноту саму по себе, но пространство, изголодавшееся по солнечному свету. Лицо, шея и руки девушки отливали теплым загаром, но казались от близости красного платья бледными. Она смотрела вниз, за пределы картины – на северные аркады, на Баркентина, куда-то тащившего свое жалкое, корявое тело, припадая на костыль и порицая мух, которые улетели за ним, едва он миновал проем между крышами и скрылся из виду.
Вот тогда Фуксия и пошевелилась – обернулась на звук, вдруг раздавшийся за ее спиной, и обнаружила глядящую на нее нянюшку Шлакк. Карлица держала в руках поднос, обремененный стаканом молока и гроздью винограда.
Старушка была раздражена и обижена, поскольку весь последний час она проискала Титуса, которому в его теперешнем возрасте хлопотливая любовь Нянюшки уже только мешала.
– Где же он? Ох, ну где же он? – поскуливала она, и личико ее морщилось от тревоги, бессильные, тонкие, точно веточки, ноги, вечно поспешавшие то по одному, то по другому делу, ныли. – Где этот греховодник, мой маленький, гадкий Граф? Бог да поможет моему бедному слабому сердцу! Куда же он подевался?
Сварливый голосок старушки отзывался над ее головою, пока она обходила зал за залом, слабеньким эхо, пробуждая дремавших по гнездам птенцов.
– А, это ты, – сказала Фуксия, быстрым взмахом ладони отбросив волосы с лица. – А я-то думаю – кто это?
– Конечно, я! Кто ж тут еще может быть, глупая ты? Никто же другой в твою комнату не заходит. Уж в твои-то годы могла бы хоть это знать. Могла бы?
– Я тебя не заметила, – сказала Фуксия.
– Зато я тебя заметила – выставилась в окно, будто бревно какое, и ничего не слышит, а уж я-то зову ее, и зову, и зову, чтобы она мне дверь открыла. Ох, слабое мое сердце! вечно одно и то же – кричишь, кричишь, кричишь, никто не отвечает. И зачем я живу, стараюсь? – Старушка вытаращилась на Фуксию. – Как будто стоит жить ради тебя\ Может, хоть этой ночью помру – злоумышленно прибавила она и прищурилась, не спуская с Фуксии глаз. – Ну что же ты молоко не берешь?
– Поставь его на стул, – сказала Фуксия, – после выпью, и виноград. Спасибо. До свидания.
При властном этом выдворении, которое, при всей его резкости, никакой недоброты не подразумевало, глаза госпожи Шлакк наполнились слезами. Однако сколь ни была она дряхла, мала и обидчива, гнев вновь взбурлил в ней, словно крохотный ураган, и вместо того, чтобы по обыкновению брюзгливо воскликнуть: «Ох, слабое мое сердце! как ты могла?» – старушка схватила Фуксию за руку и попыталась отогнуть ее пальцы назад, а не справившись с этим, совсем уж вознамерилась укусить ее светлость за руку, да обнаружила вдруг, что саму ее тащат на руках к постели. Утратив возможность совершить свою мелкую месть, она на несколько мгновений смежила веки, куриная грудка ее вздымалась и опускалась с фантастической быстротой. Открыв же глаза, Нянюшка первым делом увидела на своей ладони ладонь Фуксии и, приподнявшись на локте, стала шлепать по ней, и шлепала, и шлепала, пока не устала, а там уж и прижалась морщинистым личиком к багряному платью.
– Прости, – сказала девушка. – Я вовсе не то хотела сказать моим «до свиданья». Просто мне нужно было побыть одной.
– Почему? – Голос госпожи Шлакк был чуть слышен, так глубоко зарылась она в платье Фуксии. – Почему? почему? почему? Как будто я тебе мешаю, только и знаю, что путаться у тебя под ногами. Как будто я не знаю тебя всю насквозь. Разве не я учила тебя всему с самого детства? Разве не я тебя укачивала, противная ты? Не я? – Она подняла к Фуксии заплаканное личико. – Не я?
– Ты, ты, – отозвалась Фуксия.
– Ну вот! – сказала нянюшка Шлакк. – Ну вот!
Она выползла из постели и с трудом спустилась на пол.
– Немедленно слезь с покрывала, неряха ты этакая, и нечего так на меня глядеть! Я, может, зайду к тебе вечерком. Может быть. Не знаю. Может, еще и не захочу.
Нянюшка заковыляла к двери, потянула за ручку, и через несколько мгновений вновь оказалась одна в своей комнатке, и, широко раскрыв глаза в красных ободках, улеглась на кровать, похожая на выброшенную куклу.
Фуксия, оставшись одна, присела к зеркалу, середку которого так густо усеяли оспины, что как следует разглядеть себя она могла, лишь заглянув в его относительно незапятнанный угол. Гребешок со множеством недостающих зубьев ей удалось, наконец, отыскать в ящике под зеркалом, но едва она собралась причесаться – занятие, к которому Фуксия пристрастилась совсем недавно, – как в комнате потемнело, ибо половину дававшего свет окна вдруг заслонил неведомо откуда взявшийся молодой человек с задранными плечьми.
Не успев даже задуматься, каким это образом кто бы то ни было мог появиться на ее подоконнике, расположенном в сотне футов над землей, и уж тем более не успев узнать знакомый силуэт, Фуксия схватила со столика и занесла над головой щетку для волос, готовая – она и сама не знала, к чему. В миг, когда кто угодно другой завизжал бы или просто сбежал, она приготовилась к бою – с существом, которое, почем знать, могло оказаться и чудищем с крылами нетопыря. Впрочем, еще не успев метнуть щетку, она узнала Стирпайка.
Стирпайк постучал костяшками пальцев в перемычку окна.
– Добрый день, мадам, – сказал он. – Позвольте вручить вам мою визитную карточку.
И он протянул Фуксии клочок бумаги, на котором значилось:
«Его Дьявольское Пронырство, Архиудачливый Стирпайк»
Еще не успев прочесть эти слова, Фуксия издала обычный ее короткий, бездыханный смешок – девочку развеселил шутовской тон Стирпайкова «Добрый вечер, мадам», совершенного в своей неуклюжести.
Пока она жестом не пригласила его спрыгнуть на пол, – а иного выбора у нее не было, – Стирпайк ни на вершок не сдвинулся с места, но стоял, сложив руки и склонив голову набок. Стоило же ей повести рукой, он немедля ожил, будто внутри него спустили курок, и через миг уже отвязал от пояса веревку и швырнул ее за окно, где она и осталась болтаться. Высунувшись в окошко, Фуксия посмотрела вверх и увидела, что веревка, минуя семь этажей, уходит на неровную крышу, где, надо думать, она привязана к какой-то башенке или трубе.
– Все готово для возвращения, – сказал Стирпайк. – Ничего нет лучше веревки, мадам. Какая-нибудь лошадь ей и в подметки не годится. Веревка сползает себе вниз по стене по первому же вашему слову и даже кушать не просит.
– Что ты заладил «мадам» да «мадам»? – сказала Фуксия – к удивлению Стирпайка, несколько громче, нежели следовало. – Тебе же известно мое имя.
Стирпайк, мгновенно проглотив, переварив и извергнув ее раздражение, ибо он никогда не тратил времени на оправдания своих промахов, верхом уселся на стул и уперся подбородком в его спинку.
– Запомню навсегда, – пообещал он, – что вас надлежит называть исключительно по имени, избирая при этом исключительно почтительный тон, леди Фуксия.
Фуксия, думая о чем-то своем, неопределенно улыбнулась.
– Что ты действительно умеешь, – наконец сказала она, – так это лазать. Помнишь, как ты вскарабкался ко мне на чердак?
Стирпайк кивнул.
– И по стене библиотеки, когда она загорелась. Кажется – как давно это было.
– Я помню также, если мне дозволено будет упомянуть об этом, леди Фуксия, как я карабкался в грозу по камням, неся вас на руках.
Казалось, будто из комнаты вдруг выкачали весь воздух – столь страшное молчание воцарилось в ее разреженной атмосфере. Стирпайку почудилось, будто он уловил легчайшую тень румянца на щеках Фуксии.
В конце концов он сказал:
– Не желаете ли вы, леди Фуксия, как-нибудь исследовать со мной крыши вашего огромного дома? Я был бы рад показать вам мои находки, ваша светлость, там, на юге, где гранитные купола обросли мхом, в который по локоть уходит рука.
– Да, – ответила она, – да…
Резкое, мертвенно-бледное лицо молодого человека отталкивало ее, но живость и общая таинственность притягивали.
Она уже собралась попросить его уйти, но ничего еще не успела сказать, как он, не коснувшись рамы, прыгнул в окно, недолго повисел, покачиваясь на натянутой веревке, а после, перебирая руками, полез вверх, к изломанной крыше.
Отворотясь от окна, Фуксия увидела на своем рассохшемся туалетном столике нерасцветшую розу.
Взбираясь по веревке, Стирпайк вспоминал, как семь лет назад день рождения Титуса стал началом его путешествия по крышам Горменгаста и концом каторги на Свелтеровой кухне. Вздернутость плеч не облегчала усилий, которые ему приходилось сейчас прилагать. Но он был ненатурально проворен, а физических цепкости и отваги в нем было не меньше, чем духовных. Пронзительные, близко сидящие глаза его не отрывались от точки, в которой закреплена была веревка, как если б точка эта стала зенитом его устремлений.
Небо потемнело, поднялся резкий ветер, скоро нагнавший дождь. Вода зашипела, стекая по каменной кладке. Она соскальзывала в сотни естественных стоков. Световые шахты, дымоходы, воздушные люки гулко кашляли, водостоки ворковали. На крышах возникали заводи, отражавшие небо так, точно они залегли здесь от века, подобные горным озерам.
Стирпайк с аккуратно намотанной на поясницу веревкой бежал, будто тень, по черепичным скатам. Ворот его куртки был поднят, лицо обросло водяной бородой.
Высокие, мрачные стены вздымались в мокром воздухе, словно отвесы причалов, словно узилища обреченных, или изгибались гигантскими дугами беспощадного камня. На скрытых летящими тучами зубчатых вершинах Горменгаста мотались вставшие дыбом волосы – клубки из намокшего фукуса. Опоры, пласты неразличимых каменных украшений маячили над головой Стирпайка, подобно каркасам разрушившихся кораблей или выброшенным на берег чудовищам, чьи извергающие воду пасти и лбы сотворены сардоническими усилиями тысячи бурь. Крыша за крышей, каждая со своим наклоном, взлетали или спадали перед его глазами, под ногами тускло поблескивали в дожде терраса за террасой, ливень плясал и посвистывал на их давно обезлюдевших плитах.
Мир разнообразнейших форм пролетал мимо него, ибо Стирпайк несся быстро, как кошка, не останавливаясь, сворачивая то в одну, то в другую сторону и замедляя побежку лишь при встрече с препятствием более сложным, нежели заурядно рискованный узкий мосток. Время от времени он на бегу взмывал в воздух, словно от избытка жизненных сил. Внезапно, обогнув черный от плюща дымоход, он перешел на шаг, а там, нырнув под арку, пал на колени и поднял заскрежетавший петлями, давно не используемый световой люк. Миг – и он соскочил, пролетев футов двенадцать, в маленькую комнатку. Здесь было очень темно. Стирпайк отмотал с поясницы веревку и бухтой набросил ее на гвоздь в стене. Затем огляделся. По стенам комнатки висели вплотную ящички со стеклянными крышками, наполненные бабочками самых разных обличий. Длинные тонкие булавки, пронзавшие насекомых, удерживали их на пробковых подстилках, но сколь ни осторожен был в обхождении с ними давний собиратель этих нежных созданий, время взяло свое: не осталось ни единого ящичка с неповрежденной бабочкой, а на донышках большинства тепло светились опавшие крылья.
Стирпайк подошел к двери, прислушался, открыл ее. Пыльная лестничная площадка легла перед ним, приставная лестница спускалась слева в еще одну комнату, такую же заброшенную, как первая. И эта была пуста, лишь в середине ее возвышалась пирамида изгрызенных книг, меж которых шустро шныряли мышиные выводки. Двери в ней не имелось, но с одной из стен вяло свисал кусок мешковины, прикрывавший трещину, достаточно широкую, чтобы Стирпайк мог бочком протиснуться в нее. Новые лестницы, новая комната – на этот раз длинная, вроде галереи. В дальнем ее конце стояло чучело оленя с белой от пыли спиной.
Переходя комнату, Стирпайк уловил краем глаза заключенные в раму не сохранившего стекол окна зловещие очертания Горы Горменгаст, высокие утесы ее, светившиеся в летящем небе. Струи дождя хлестали в окно, разбиваясь о доски пола, так что катышки пыли разбегались во все стороны, точно шарики ртути.
Приблизясь к двойным дверям, Стирпайк провел ладонями по мокрым волосам и опустил воротник куртки; затем, выйдя из комнаты и свернув налево, прошел коридором, который вывел его к верхней площадке еще одной лестницы.
Едва заглянув за перила, он отскочил назад – внизу по озаренной светильниками комнате шла графиня Гроанская. Казалось, она плыла в белой пене; пустые комнаты за спиною Стирпайка наполнились отзвуками неторопливых вибраций, многосложным гулом, эхом мява, Стирпайку не слышного, низким рокотом котов. Коты истекали из залы под ним, как белая отливная волна истекает из устья пещеры, увлекая за собою камень, увенчанный красными водорослями.
Эхо замерло. Безмолвие натянулось, как простыня. Стирпайк торопливо спустился в нижнюю комнату и поворотил на восток.
Графиня шла подбоченясь, чуть опустив голову. Лоб ее рассекали морщины. Графине мало было того, что утвердившаяся с древних времен приверженность долгу и обычаю по-прежнему почитается нерушимо священной во всех уголках замка. Сколь бы грузной и ушедшей в себя ни казалась она, ей было присуще по-змеиному быстрое чутье на опасность, и хоть Графиня не могла пока ткнуть, так сказать, пальцем в точную причину своих сомнений, ею, тем не менее, владела подозрительность, настороженность, жажда мести – пусть и неизвестно кому.
Она перебирала обрывки сведений, кои могли иметь отношение к странному пожару в библиотеке мужа, к его исчезновению и к пропаже главного повара. Едва ли не в первый раз она прибегла к услугам своего от природы мощного мозга – мозга, который так долго убаюкивало мурлыканье белых котов, что пробудить его поначалу оказалось непросто.
Сейчас она направлялась к Доктору. Графиня не заходила к нему уже несколько лет да и в последний-то раз явилась лишь для того, чтобы передать на попечение Доктора дикого лебедя со сломанным крылом. Доктор неизменно гневил ее, но Графиня против собственной воли питала к нему странное доверие.
Спускавшаяся по длинным маршам каменных лестниц неровная волна у ее ног обратилась в подобие медленного водопада. У подножья последней лестницы Графиня остановилась.
– Держитесь… поближе… поближе… друг… к другу, – громко сказала она, выкладывая слова, как крупные камни, по которым переходят ручей – одно отделялось от другого заметными промежутками и оттого казалось, при всей звучности и хрипоте ее голоса, что их произносит ребенок.
Коты удалились. Графиня снова стояла на твердой земле. Дождь бубнил за свинцовым переплетом окна. Она подошла к двери, открывающейся в аркады. За ними, на дальнем краю прямоугольного дворика стоял дом Доктора. Выйдя под дождь, как будто его и не было вовсе, Графиня, высоко подняв крупную голову, с монументальной, неторопливой размеренностью зашагала под ливнем к этому дому.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
I
Прюнскваллор сидел у себя в кабинете. Собственно, это Прюнскваллор называл его «кабинетом». Для сестры Доктора Ирмы то была просто комната, в которой брат норовил забаррикадироваться всякий раз, когда она желала поговорить с ним о чем-либо важном. После того как он оказывался внутри, запирал замок, навешивал цепочку да еще и окна замыкал на шпингалеты, ей только и оставалось что биться о дверь.
В этот вечер Ирма была несносней обычного. В чем дело, – снова и снова осведомлялась она, – что мешает ей встретить человека, который оценит ее и восхитится ею? Она вовсе не хочет, чтобы он, этот гипотетический поклонник, посвятил ей всю свою жизнь, потому что мужчина должен и трудиться (при условии, конечно, что труд не будет отнимать у него слишком много времени), – разве не так? Но если он окажется богатым и захочет посвятить ей всю свою жизнь, тогда что ж – обещать она ничего, конечно, не может, но, по крайней мере, готова внимательно выслушать его предложение. У нее длинная, безупречная шея. Грудь плосковата, это правда, да и ступни тоже, но, в конце-то концов, женщина не может обладать всеми достоинствами сразу.
– Ведь двигаюсь-то я красиво, Альфред? – с неожиданным пылом вскричала она. – Я говорю, двигаюсь-то я красиво?
Ее брат, сидевший подперев длинной белой ладонью длинное розовое лицо, оторвал взгляд от скатерти, на которой он изображал скелет страуса. Рот Доктора машинально открылся – то был скорее зевок, чем улыбка, впрочем, и зевок этот полыхнул немалым количеством зубов. Затем гладкие челюсти Доктора снова сомкнулись, и он уставился на Ирму, в тысячный раз дивясь безумному стечению обстоятельств, обременившему его такой сестрой. Поскольку то был уже тысячный раз, и, стало быть, навык у Доктора имелся, удивление его продлилось всего-навсего пару сокрушенных секунд. Но и за эти секунды он в который уж раз впитал в себя совершеннейший идиотизм ее тонкого, безгубого рта, конвульсивную глупость кожи под глазами, раскатистый рев угнетенных чувств, отзывавшийся в ее голосе всего лишь слабеньким блеянием, гладкий, пустой лоб (с которого пышные, жесткие, мышастые волосы тянулись, туго облегая черепную коробку, назад, чтобы сплестись в плотный, твердый, как булыжник, узел) – лоб, походивший на ровно оштукатуренный фасад заброшенного дома, в котором обитает разве что призрак птицеподобного постояльца, скачущего в пыли и охорашивающегося перед потускневшими зеркалами.
«Господи-господи! – думал он, – почему из всех созданий, населяющих шар земной, именно я, ни в каких умертвиях не повинный, наказан подобным образом?»
Доктор опять улыбнулся. На сей раз улыбка его не несла никакого сходства с зевком. Челюсти Доктора растворились, как крокодильи. И как только смогла голова человека вместить столь жуткие, столь ослепительные зубы? Совершенное сходство с новехоньким кладбищем. И заметьте, полностью анонимным. Ни на одном надгробии не вытесано имени владельца. Пали ль они в боях, сии непоименованные, недатированные дентальные мертвецы, чьи монументы сверкают под солнцем, когда челюсти раскрываются, а когда закрываются, встают во тьме плечом к плечу, с течением лет все теснее притираясь друг к дружке? Прюнскваллор улыбался. Ибо он находил утешение в мысли, что существуют вещи и похуже метафорической обремененности такой сестрой, и одна из них состоит в обремененности ею во всем буквальном кошмаре такового явления. Ибо воображению Доктора явилась редкостной живости картина – сестра сидит у него на спине, вдвинув плоские ступни в стремена, ее каблуки впиваются ему в бока, а он, закусив удила, скачет во весь опор вкруг стола, дергаясь под перекрестными ударами хлыста, и в этом галопе расточается вся его жалкая жизнь.
– Когда я задаю тебе вопрос, Альфред, – я говорю, когда я задаю тебе вопрос, Альфред, я исхожу из предположения, что ты все-таки человек настолько воспитанный, пусть даже ты мне и брат, что ответишь, вместо того, чтобы глупо ухмыляться собственным мыслям.
Следует сказать, что если и существовало нечто такое, в чем Доктор отродясь замечен не был, так это именно способность глупо ухмыляться. Форма его лица просто-напросто не позволяла проделать что-либо подобное. Да и лицевые мышцы Доктора совершали совсем иные движения.
– Сестра моя, – сказал он, – поскольку ты мне сестра, прости, если сможешь, своего брата. Он, затаив дыхание, ждет от тебя ответа на свой вопрос. Вопрос же таков, о горлица моя: «Что ты ему сказала?» Ибо он забыл все в такой полноте, что если бы сама кончина его зависела от сказанного тобою, ему пришлось бы жить дальше – с тобой, его ягодным леденцом, с тобой одной.
Ирма никогда не прислушивалась к более чем пяти первым словам чрезмерно извилистых периодов брата, и потому немалое число оскорблений пролетало мимо ее ушей. Оскорблений, лишенных какой-либо злобы, но доставлявших Доктору что-то вроде словесного самоувеселения, без которого ему пришлось бы всю жизнь безвылазно просидеть у себя в кабинете. Который, к тому же, был никакой и не кабинет, поскольку хоть вдоль стен его и тянулись книжные полки, помимо них в нем обретались лишь очень удобное кресло да очень красивый ковер. Письменный стол отсутствовал. Бумага с чернилами – тоже. Отсутствовала даже мусорная корзина.
– Так о чем ты меня вопрошала, плоть моей плоти? Я постараюсь помочь тебе, чем смогу.
– Я сказала, Альфред, что я не лишена обаяния. А также изящества и ума. Почему за мной никто не ухаживает? Почему никто никогда не делает мне авансов?
– Ты имеешь в виду – финансовых? – спросил Доктор.
– Я имею в виду – возвышенных, одухотворенных, Альфред, и ты это прекрасно знаешь. Что есть в других такого, чем не обладаю я?
– И наоборот, – сказал Прюнскваллор, – чего нет в них такого, чем ты уже обладаешь?
– Я не понимаю тебя, Альфред. Я говорю, я тебя не понимаю.
– Именно-именно, – отозвался брат, простирая вперед руку и трепеща по воздуху пальцами. – И мне хотелось бы, чтобы ты это прекратила.
– Но моя манера держаться, Альфред! Неужели она не бросается в глаза? Что же напало на представителей твоего пола – они совсем уже не способны увидеть, как красиво я двигаюсь?
– Возможно, мы слишком возвышены, одухотворены, – сказал доктор Прюнскваллор.
– Да, но моя осанка, Альфред, моя осанка!
– Она слишком натужна, о сладчайший белочек, слишком, слишком натужна. На безотрадной дороге жизни тебя кренит то в одну, то в другую сторону – да еще и бедра твои вращаются на ходу. О нет, дорогая моя, твоя осанка отталкивает мужчин, вот и все. Ты пугаешь их, Ирма.
Вот уж чего Ирма снести не могла.
– Ты никогда не верил в меня! – закричала она, вскакивая из-за стола, и безупречная кожа ее густо покраснела. – Но я тебе вот что скажу. – Голос Ирмы поднялся до пронзительного визга. – Я леди! Ты что думаешь, мне нужны мужчины? Скоты! Я их ненавижу! Слепые, тупые, неуклюжие, отвратительные, тяжеловесные, вульгарные твари и ничего больше. И ты тоже один из них! – взвизгнула она, тыча пальцем в брата, который, чуть приподняв брови, вернулся к оставленному было изображению страуса. – Ты тоже один из них! Ты меня слышишь, Альфред? один из них!
Вопли ее привлекли слугу. Последний неблагоразумно приоткрыл дверь, якобы намереваясь спросить, не звонила ль хозяйка, а на деле – желая узнать, что тут творится.
Горло Ирмы трепетало, как тетива.
– На что он нужен настоящей леди, мужчина? – возопила она и вдруг, увидев в дверях физиономию слуги, сцапала со стола нож и метнула его в эту физиономию. Впрочем, прицел ее оказался совсем не хорош – быть может, оттого, что она прилагала слишком много усилий, чтобы остаться леди, – и нож вонзился в потолок точнехонько над ее головой да там и остался, в совершенстве имитируя трепет ее горла.
Доктор, неторопливо добавив последний позвонок к хвосту страусиного скелета, оборотился к двери, в которой оцепеневший слуга, разинув рот, таращился на дрожащий нож.
– Не будете ль вы столь любезны, милейший, что уберете вашу чрезмерно раскормленную тушу из проема двери, ведущей в эту комнату? – произнес Доктор тонко, неторопливо, – и постараетесь держать ее на кухне, за что вам, собственно говоря, и платят, ведь ваше место, ежели не ошибаюсь, между кастрюль?., ну так вот, окажите любезность. Никто не звонил и вас сюда не призывал. Голос вашей хозяйки, хоть он и высок, ничего общего со звоном колокольчика не имеет… то есть, решительно ничего.
Физиономия сгинула.
– И что хуже всего, – послышался прямо из-под ножа полный отчаяния крик, – он больше не приходит повидаться со мной! Никогда! Никогда!
Доктор поднялся из-за стола. Он понимал, что речь идет о Стирпайке, хотя сестра, быть может, и не испытала ни разу рецидива подавленной страсти, разросшейся в ней с того дня, когда этот молодой человек впервые послал в ее слишком податливое сердце свои льстивые стрелы.
Брат Ирмы отер салфеткою губы, смахнул с брюк крошку и распрямил длинную, узкую спину.
– Я спою тебе песенку, – сказал он. – Сочинил ее вчера вечером в ванне, ха-ха-ха-ха! – этакая безалаберная нескладица, так я ее и назвал – безалаберная нескладица.
И скрестив на груди изящные белые руки, он пошел вокруг стола.
– Начинается, сколько я помню, так… – Понимая, впрочем, что Ирма скорее всего не станет слушать его декламацию, Доктор снял со стола бокал, стоявший рядом с ее тарелкой, и: – …Ирма, дорогая, тебе не помешает глоток вина, прежде чем ты отправишься спать – ведь ты, судорожная моя, намереваешься с минуты на минуту отбыть в Страну Грез – ха-ха-ха! – и всю ночь провести там в обличии истинной леди.
С проворством профессионального престидижитатора Доктор вытащил из кармана пакетик, извлек из него таблетку и уронил ее в бокал Ирмы. Плеснув туда же немного вина, он с преувеличенной грацией, редко его покидавшей, протянул бокал сестре.
– А я налью немного себе, – сказал он, – и мы выпьем за общее наше здоровье.
Ирма, уже упавшая в кресло, сидела, спрятав в ладонях длинное мраморное лицо. Черные очки ее, коими она защищала от света глаза, ухарски съехали на щеку.
– Надо же, я совсем забыл о своем обещании! – воскликнул, застыв перед нею и по-птичьи склонив набок целлулоидную голову, Доктор – очень высокий, худой и прямой, весь – олицетворенная чувствительность и нервная интеллектуальность.
– Первым делом, добрый глоток упоительного вина с виноградников под мечтательным холмом – так и вижу его, – и ты, Ирма, ты ведь тоже способна его увидеть? Крестьяне трудятся, потея под солнцем, – а почему? А потому что у них нет иного выбора, Ирма. Они беспросветно бедны, согбенные шеи их кривы. И эти мужчины, мужья, Ирма, как всякий достойный муж, заботятся о своих возлюбленных – ласкают лозы загрубелыми дланями, шепчутся с ними, улещивают их. «О виноградинки, – бормочут они, – дайте нам вина. Ирма ждет». Ну и вот оно, вот оно, ха-ха-ха-ха! Восхитительно вкусное, белое, в хрустальном бокале. Запрокинь главу и глотай, моя капризная королева!
Ирма немного встряхнулась. Она не услышала ни слова. Она томилась в собственном, личном аду унижения. Глаза ее обратились к ножу в потолке. Тонкий рот дернулся, но Ирма все же взяла протянутый братом бокал.
Брат чокнулся с нею и, повторяя движенье его руки, Ирма непроизвольно подняла бокал к губам и отпила.
– А теперь та самая нескладица, набросанная в присущей мне небрежной манере. Да, но как же она начинается? Как она начинается?
Прюнскваллор знал, что уже к третьей строфе на Ирме скажется сильное, лишенное вкуса снотворное, растворенное им в вине. Он уселся на пол у колен сестры и, подавив отвращение, похлопал ее по ладони.
– Первейшая из дам, – сказал он, – взгляни на меня, если сможешь. Сквозь полуночные очки свои. Это будет совсем не страшно – для того, кто вскормлен на ужасах. Итак, слушай…
У Ирмы уже слипались глаза.
– Начинается, ежели не ошибаюсь, так. Я назвал мою песенку «Костистый конь».
Костистый конь, вильни крестцом, Берцовой костью громыхни, Грядущее, как серный ком, Лежит в морской тени. Не мчишь ты больше от души Средь лютиков и росных трав, Лишь ветер, воя, тормошит Твой тазобедренный сустав.– Тебе нравится, Ирма?
Та сонно кивнула.
Напружась, похрусти сильней Пологой пагодой спины Еда да йод – за гранью дней Кому они нужны? Костистый конь внезапно сел, Взметнув весь остов разом; Я косо на него глядел — Ведь он же был не связан. Ничем – ни связок и ни жил. Лишь только…[1]Тут Доктор, забывший, что дальше, снова покосился на сестру свою Ирму – та крепко спала. Доктор позвонил в колокольчик.
– Горничную вашей хозяйки, носилки и двух мужчин, чтобы их тащить. – В двери появилось лицо. – И мигом.
Лицо исчезло.
Когда Ирму уложили в постель, и прикрутили лампу, и тишина водворилась в доме, Доктор отпер дверь кабинета, вошел и плюхнулся в кресло. Ломкие с виду локти его оперлись о мягкие подлокотники. Пальцы переплелись, образовав подобье изысканного гнезда, и в это гнездо Доктор погрузил длинный свой подбородок. Еще через несколько секунд он снял очки и положил их на подлокотник. Затем, снова сцепив пальцы под подбородком, закрыл глаза и негромко вздохнул.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Впрочем, ему суждено было вкусить лишь несколько мгновений покоя, поскольку вскоре за окном послышались чьи-то шаги. Правда, донеслось этих звуков всего-навсего два, но в весомости и неспешности их слышалось нечто, внушившее Доктору мысль об армии, движущейся в совершенном согласии – грозно, размеренно. Дождь затих и удар каждой ноги о землю различался с пугающей ясностью.
Прюнскваллор распознал бы эту зловещую поступь и средь миллиона других. Однако в вечерней тиши мысли Доктора полетели за призраком армии, пробудившемся в его поскакучем мозгу. Но что же в механической поступи этого статного призрака сводило горло и челюсти вяжущей судорогой, порождаемой обыкновенно мыслью о ломтике лимона? Отчего на глаза набежали слезы? И заколотилось сердце?
Углубляться в эти материи Доктору было некогда и потому он одновременно отбросил со лба космы седых волос и выбросил из головы армию на марше.
Достигнув двери прежде, чем треньканье колокольчика привлекло бы к ней совершенно ненужных в этом случае слуг, он открыл ее и предстал перед грузной фигурой, уже собравшейся садануть по двери поднятым кулаком…
– Добро пожаловать, ваша светлость, – сказал Доктор. Тело его чуть согнулось вперед в пояснице, зубы блеснули, а сам он меж тем гадал, с какой, во имя всяческих ересей, стати Графине явилась в голову мысль посетить своего врача в этот полуночный час. Она вообще никого не посещала, ни днем, ни ночью. То было не в ее правилах. И тем не менее – вот она.
– Осадите коней. – Голос Графини был тих, но тяжек.
Одна из бровей доктора Прюнскваллора взлетела едва ль не до самого верха лба. Приветствие, прямо сказать, необычное. Можно подумать, что он вознамерился заключить Графиню в объятия. Да одна только мысль об этом леденила его!
Однако следом Графиня произнесла:
– Ладно, можете войти, – и вторая бровь Доктора взлетела вслед за товаркой так прытко, что та испуганно дернулась.
Данное ему разрешение «войти», когда он и так внутри, было достаточно странным, а уж то, что гостья дозволяет хозяину войти в его собственный дом, представлялось и вовсе нелепым.
Медленная, тяжкая, тихая властность, звучавшая в голосе Графини, делала положение еще более затруднительным. Графиня вступила в прихожую.
– Я хотела увидеться с вами, – произнесла она, не сводя, однако ж, глаз с двери, которую уже закрывал Прюнскваллор. Когда же двери осталось пройти путь всего лишь в шесть дюймов, чтобы, лязгнув засовом, замкнуться от ночи, – постойте! – сказала Графиня. – Придержите дверь!
Затем крупные губы ее напучились, как у ребенка, и она свистнула – протяжно, до странного мелодично. Нежная, одинокая нота, какой и не ждешь от столь массивного существа.
Доктор, повернувшийся к ней, выглядел истинным воплощением растерянного недоумения, хотя зубы его поблескивали по-прежнему весело. Впрочем, он еще поворачивался, а уж нечто, уловленное краем глаза, зацепило его внимание. Нечто белое. Шевелящееся.
В щели, оставленной почти закрытой дверью, Доктор увидел у самой земли личико – круглое, как полная луна, и мягкое, как мех. В последнем не было ничего удивительного, поскольку личико и было покрыто шерсткой, казавшейся в тусклом свете прихожей болезненно бледной. Едва Доктор успел осознать увиденное, как это личико сменилось вторым, а следом, тихие, как смерть, объявились третье, четвертое, пятое… Сплоченной чередою коты проскальзывали в прихожую, так тесно следуя один за другим, что их вполне можно было принять за нечто единое – за белый хвост ее светлости.
Прюнскваллор, так и не снявший ладони с дверной ручки, смотрел, ощущая легкое кружение в голове, как мимо ног его струится этот волнистый поток. Кончатся они когда-нибудь? Прошло уже больше двух минут.
Он перевел взгляд на Графиню. Та стояла, обвитая, точно маяк, пенным прибоем. Красные волосы ее, освещенные неяркой лампой, сочились тусклым светом.
Прюнскваллор был уже совершенно счастлив. Ибо смутили его не столько коты, сколько невразумительные приказы Графини. Теперь же смысл их стал вполне очевиден. И все же, как странно – велеть стае котов осадить коней!
При этой мысли брови его, неохотно сползшие до середины лба, пока он ждал возможности затворить дверь, снова взвились вверх – так, будто грянул стартовый пистолет, и быстрейшую из них ожидала награда.
– Вот… все… мы… и здесь, – сказала Графиня. Прюнскваллор обернулся к двери и увидел, что поток и вправду иссяк.
– Так-так-так-так! – заливисто вскричал он, привстав на цыпочки и бия руками по воздуху, словно был эльфом и намеревался взлететь. – Как это чарующе, воистину чарующе, что вы посетили меня, ваша светлость. Бог да благословит мою аскетичную душу, если вы не оторвали старого отшельника от занятий самоанализом! Ха-ха-ха-ха-ха! И вот, как вы соизволили выразиться, вы все и здесь. В чем никак уж нельзя усомниться, не правда ли? Ах, как мы повеселимся! Игры в мяузыкальные стулья и прочее в том же роде! ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!
Почти непереносимая высота его смеха погрузила прихожую в полную тишину. Коты, сидевшие, выпрямив спины, не сводили с него глаз.
– Но я заставляю вас ждать! – вскрикнул Доктор. – Ждать у меня в прихожей! Разве вы калека какая-нибудь, ваша светлость, или некая плодовитая нищенка, чьим околдованным отпрыскам я способен, как она полагает, вернуть человеческий облик? Разумеется, нет, клянусь всяческой очевидностью! так чего же ради оставлять вас на этом холоде – в этой сырости – в сих несносных сенях, при том, что дождевая вода стекает с вас положительными водопадами… и потому… и потому, если вы дозволите мне показать вам путь… – Он взмахнул длинной, тонкой, изящной рукой и белая ладонь на конце ее затрепыхалась, точно шелковый флаг, – …я распахну пару дверей, зажгу одну-две лампы, стряхну крошку-другую и мы будем готовы к… Какое ж вино мы предпочтем?
И странно вспархивая ногами, он устремился к гостиной.
Графиня последовала за ним. Слуги уже убрали со стола оставшуюся от ужина посуду, оставив гостиную столь безмятежно спокойной, что трудно было поверить, будто именно в этой комнате Ирма совсем недавно покрыла себя позором.
Прюнскваллор, пропуская Графиню, широко распахнул дверь. Распахнул с театральной бесшабашностью, подразумевавшей, надо думать, что если дверь разломится или сорвется с петель или картина слетит со стены, то и пускай их. Дом принадлежит ему, он вправе делать здесь все, что ему заблагорассудится. Ежели он решился рискнуть сохранностью своего имущества – это касается только его. А в случаях, вроде нынешнего, разного рода мелочные соображения приходят в голову только черни.
Графиня прошествовала в середину комнаты и здесь остановилась. Она рассеяно обозрела все ее окружавшее – длинные лимонно-зеленые шторы, резную мебель, темно-зеленый ковер, серебро, фарфор, обои в бледно-серую с белым полоску. Возможно, разум Графини и обратился к пропахшему свечным салом, полному птиц, тускло освещенному хаосу ее спальни, однако никакого выражения на лице Графини не обозначилось.
– И… все… ваши… комнаты… похожи… на… эту?.. – пророкотала она, едва опустившись в кресло.
– Э-э, позвольте подумать, – сказал Прюнскваллор. – Нет, не в точности, ваша светлость… не в точности.
– Полагаю… они… безупречно… чисты… Ведь… так… а?
– Надеюсь, что так, да, да. Очень надеюсь. Не то чтобы я в течение года посещал больше пяти-шести из них, но при том количестве слуг, которые порскают взад-вперед со щетками и метлами, лязгая ведрами и выжимая тряпки, и при наличии сестры моей, Ирмы, порскающей по пятам их, приглядывая, чтобы кривое делалось прямым и наоборот, я ничуть не сомневаюсь, что все тут у нас простерилизовано настолько, что уж почти и не дышит – ни пятнышка на перилах, и ни единого микроба, питающего надежду на спокойное существование.
– Ясно, – сказала Графиня. Просто поразительно, сколько убийственного неодобрения удалось ей вложить в это короткое слово. – Однако я пришла поговорить с вами.
С миг она задумчиво проглядела перед собой. Коты, не шевелившие ни единым усиком, заполнили комнату. Их геральдические фигуры украшали каминную доску. Стол являл собою монолит белизны. Кушетка преобразилась в сугроб. Ковер был словно вышит глазами.
Голова ее светлости, всегда казавшаяся куда более крупной, чем то дозволено человеческой голове, была отвернута в сторону от Доктора и несколько склонена, так что мощная шея Графини напряглась, сохранивши, впрочем, пышность и полноту на ближней к Доктору стороне ее. Щека Графини почти совсем заслонила профиль. Волосы были по большей части забраны вверх в подобия красноватых гнезд, то, что осталось неприбранным, тлело, спадая змеиными кольцами на плечи и только что не шипя.
Доктор развернулся на узких ступнях, напыщенным жестом растворил дверцу горки из атласного дерева, дернув головой, отбросил со лба копну седых волос и переплел под подбородком длинные белые пальцы. Затем, снова поворотясь к Графине (так и сидевшей, подставляя взорам его плечо и примерно осьмушку лица), сверкнул зубами и вопросительно завел брови:
– Ваша светлость, – сказал он, – то, что вы решили нанести мне визит и обсудить со мной некую тему, – великая честь для меня. Но прежде всего – что вы будете пить?
Распахнув дверцу горки, Доктор выставил напоказ самую редкостную и изысканную коллекцию вин, какую только можно было подобрать в его погребе.
Графиня повела по воздуху огромной головой.
– Кувшин козьего молока, Прюнскваллор, если вас не затруднит, – сказала она.
Все в Докторе, что почитало красоту, изящество, тонкость и избранность, – а в нем присутствовали многие качества, живо откликавшиеся на эти абстракции, – скукожилось, будто улиточьи рожки, и едва не приказало долго жить. Впрочем, когда он, внешне сохранивший полное самообладание, вновь повернулся к Графине, ладонь его, вознесенная было в воздух, но задержанная на полпути к солнцу, плененному некогда на давно уж забытых виноградниках, всего лишь запорхала туда-сюда, будто дирижируя оркестриком гномов. Доктор отвесил поклон, блеснул зубами, позвонил в колокольчик, и когда в двери появилось лицо:
– Коза у нас есть? – спросил он. – Ну же, ну же, любезный – да или нет? Есть у нас коза или таковая отсутствует?
Слуга положительно заверил его, что коз в хозяйстве не имеется.
– Ну так, сделайте милость, отыщите какую ни есть. И немедля. Нам необходима коза. Ступайте.
Графиня уселась поудобнее, широко раздвинув ступни и свесив по сторонам кресла тяжелые весноватые руки. Наступило молчание, которое даже Прюнскваллор не нашел чем нарушить. В конце концов, нарушил его голос Графини.
– Зачем вы втыкаете ножи в потолок?
Доктор заново перекрестил уже скрещенные ноги и последовал за безучастным взглядом Графини, прикованным к длинному хлебному ножу, который, казалось, вдруг заслонил собою все находившееся в комнате. Одно дело – нож в каминной решетке, или на подушке, или под креслом, и совсем другое – нож, окруженный белой пустынею потолка: такому негде укрыться, он наг и вопиющ, как свинья в кафедральном соборе.
Впрочем, Доктор находил плодоносным любой предмет разговора. Его пугало лишь отсутствие темы, а столкнуться с таковым ему случалось редко.
– У этого ножа, ваша светлость, – сказал он, окидывая названное орудие взглядом, исполненным глубочайшего уважения, – хоть нож он всего только хлебный, имеется своя история. История, мадам! И весьма интересная.
Он обратил к гостье взгляд. Гостья безучастно ждала.
– Сколько ни выглядит он скромным, неромантичным, несоразмерным и грубым, для меня этот нож многое значит. Хоть я, мадам, смею вас уверить, я – человек не сентиментальный. Тогда почему же? – спросите вы себя. Почему? Позвольте, я вам все расскажу.
Он сцепил ладони и несколько сгорбил узкие, изящные плечи.
– Именно этим ножом, ваша светлость, я произвел первую мою успешную операцию. Я скитался в то время в горах. Огромных, поросших травою горах. Полных своеобразия, но начисто лишенных обаяния. Я был один с моим верным мулом. Мы заблудились. Над головою моей промчал метеор. Но что проку было нам от него? Никакого решительно не было. Он лишь вывел нас из себя. На миг в нездоровых зарослях папоротника обозначилась тропа. Определенно не та, что нам требовалась. Она лишь привела бы нас обратно в трясину, из которой мы только что выбрались, убив на это полдня. Каково изложено? Как коряво изложено, ваша светлость, ха-ха-ха-ха-ха! Так о чем я? Ах, да! Совершенная тьма. Многие мили до чего бы то ни было. И что же вдруг происходит? Удивительнейшее событие. Я погоняю мула палкой – в ту минуту я ехал на нем, – и внезапно эта скотина вскрикивает, точно дитя, и оседает наземь. А оседая, поворачивает ко мне огромную, косматую голову и, хоть света совсем мало, я вижу, что глаза его положительно молят меня об избавлении от некой непонятной мне муки. Следует сказать, ваша светлость, что мука есть вещь мучительная для всякого, кого она мучает, но обнаружить вместилище муки в муле, во тьме, средь гор и нездоровых зарослей папоротника это… э-э… нелегко (литота!), ха-ха-ха! Однако надо же что-то и предпринять. Мул, здоровенный такой, уже лежит в темноте на боку. Я успел соскочить с него, пока он оседал, и уже напрягал мои умственные способности до пределов возможного. Глаза животного, не отрывавшиеся от меня, походили на лампы, в которых кончается масло. Я задал себе пару вопросов – уместных вопросов, как мне представлялось в то время, – и первый из них был таков: ЯВЛЯЕТСЯ ли его мука душевной или телесной? В первом случае, темнота не составит помехи, однако исцеление окажется делом прекаверзным. Во втором, темнота не сулит никакого добра, зато задача, которую предстоит разрешить, – вполне по моей части. Или почти по моей. Я выбрал второе, и благодаря скорее удаче, нежели тому удивительному шестому чувству, которое нарождается в человеке, очутившемся один на один с мулом среди поросших травою гор, почти сразу же обнаружил, что выбор мой оказался верен, ибо, едва решившись исходить из начал телесных, вцепился мулу в голову и повернул ее под таким углом, чтобы тусклое тление его глаз окатило – слабенько, разумеется, но, тем не менее, окатило смутным светом остальное его тулово. И я был немедля вознагражден. Взорам моим предстал чистейший случай «инородного тела». Вкруг задней ноги животного обвился – уж и не скажу вам, сколько раз – питон! Даже в тот страшный, все решающий миг я не мог не отметить его красоты. Он был гораздо, гораздо прекраснее моего старого мула. Но пришла ль в мою голову мысль, что мне надлежит перенести свою привязанность на рептилию? О нет. В конце концов, на свете существует не одна красота – есть еще и верность. К тому же, я терпеть не могу пешей ходьбы, а ехать верхом на питоне, ваша светлость, есть испытание, слишком обременительное для человеческого терпения. И кроме того…
Тут Доктор взглянул на свою гостью и немедля о том пожалел. Вытащив шелковый платочек, он отер им лоб, затем, еще раз сверкнув зубами, сообщил с отчего-то поубавившимся воодушевлением:
– Вот тогда-то я и вспомнил о моем хлебном ноже.
На миг наступило молчание. А когда Доктор набрал полную грудь воздуха и хотел продолжить рассказ:
– Сколько вам лет? – спросила Графиня. Однако прежде чем доктор Прюнскваллор успел перестроиться, в дверь стукнули, и появился, волоча за собою козла, слуга.
– Не тот пол, идиот! – Графиня тяжело поднялась из кресла и, подойдя к козлу, погладила его по голове большими ладонями. Козел потянулся к ней, напрягши веревку, и лизнул ее руку.
– Вы меня изумляете, – сказал слуге Доктор. – Не удивительно, что вы и готовите плохо. Прочь, любезный, прочь! Сыщите нам другое животное, да постарайтесь, во имя любви к млекопитающим, снова не напутать с полом! Иногда просто диву даешься, что же это за мир, в котором нам приходится жить, – клянусь всеми первоосновами, просто диву даешься!
Слуга удалился.
– Прюнскваллор, – произнесла Графиня, уже отошедшая к окну и глядевшая теперь во двор.
– Мадам? – откликнулся Доктор.
– У меня тяжело на сердце, Прюнскваллор.
– На сердце, мадам?
– На сердце и на душе.
Она вернулась к креслу, уселась заново и, как прежде, свесила руки по сторонам.
– В каком смысле, ваша светлость? – В голосе Прюнскваллора не осталось и следа пустой игривости.
– В замке неладно, – ответила она. – Не знаю, где именно. Но неладно.
Она смотрела на Доктора.
– Неладно? – наконец отозвался он. – Вы подразумеваете некое влияние – некое дурное влияние, мадам?
– Наверняка не знаю. Но что-то переменилось. Я это чувствую нутром. Завелся тут у нас некто.
– Некто?
– Враг. Человек или призрак – не знаю. Но враг. Понимаете?
– Понимаю, – ответил Доктор. Желанье шутить покинуло его окончательно. Он наклонился вперед. – Это не призрак, – сказал он. – Призракам не присуще стремление к бунту.
– К бунту! – громко произнесла Графиня. – К какому бунту?
– Понятия не имею. Но что же еще, мадам, могли б вы почувствовать, как вы изволили выразиться, нутром?
– Да, но кто здесь осмелится бунтовать? – прошептала Графиня, словно обращаясь к себе самой. – Кто осмелится?.. – И помолчав: – А сами вы кого-нибудь подозреваете?
– У меня нет доказательств. Но я поищу их. Ибо, клянусь ангелами небесными, раз уж вы заговорили об этом, значит в замок вселилось зло, ошибки быть не может.
– Хуже, – отозвалась Графиня, – хуже, чем зло. Измена. Она глубоко вдохнула и произнесла, очень медленно: – …и я сокрушу врага, истреблю – не только ради Титуса и его покойного отца, но больше того – ради Горменгаста.
– Вы говорите о вашем покойном муже, мадам, о высокочтимом лорде Сепулькревии. Но где же его останки, если он действительно умер?
– Не только это, любезный, не только! Что знаем мы о пожаре, погубившем его блестящий ум? Что знаем мы о пожаре, в котором, если бы не юный Стирпайк… – Она угрюмо примолкла.
– И что знаем мы о самоубийстве его сестер, об исчезновении главного повара в одну ночь с его светлостью, вашим мужем – все за один год, или чуть больше, – и о сотнях происшедших с тех пор отклонений от правил и странных событий? Что стоит за всем этим? Клянусь всей и всяческой иллюзорностью, мадам, у вас нелегко на сердце вовсе не без причины.
– А есть еще Титус, – сказала Графиня.
– Есть еще Титус, – быстрым эхо откликнулся Доктор.
– Сколько ему сейчас?
– Без малого восемь. – Брови Прюнскваллора приподнялись. – Вы с ним не видитесь?
– Вижу его из окна, – ответила Графиня, – когда он скачет вдоль Южной Стены.
– Вам следует встречаться с ним, ваша светлость, хотя бы время от времени, – сказал Доктор. – Клянусь материнством, вам следовало бы почаще видеться с сыном.
Графиня взглянула на Доктора, но ответ, который она могла б ему дать, навсегда отменили стук в дверь и новое явление слуги – на сей раз, с козой.
– Отпустите ее! – сказала Графиня.
Белая козочка подбежала к ней, словно притянутая магнитом.
– Кувшин у вас найдется? – спросила у Прюнскваллора Графиня.
Доктор повернулся к двери.
– Принесите кувшин, – сказал он в спину уходящему слуге.
– Прюнскваллор, – произнесла Графиня, опуская на пол свое тело, такое огромное в свете ламп, и поглаживая лоснящиеся уши козы. – Я не спрашиваю, на кого пали ваши подозрения. Нет. Пока не спрашиваю. Но рассчитываю на вашу бдительность, Прюнскваллор, на то, что вы будете следить за всем, как слежу я. Мы все должны быть настороже, Прюнскваллор, во всякую минуту. Я надеюсь, что где б вы ни отыскали ересь, вы известите меня о ней. Я питаю к вам что-то вроде доверия, любезный. Что-то вроде доверия. Не знаю, почему… – прибавила она.
– Мадам, – сказал Прюнскваллор, – я буду само внимание.
Слуга возвратился с кувшином и снова ушел.
Изящные занавеси слегка трепетали под ночным ветерком. Свет ламп золотил комнату, мерцая на фарфоровых чашах, на коренастых хрустальных вазах, на высоких перегородках эмали, на пергаменовых корешках книг, на забранных стеклом рисунках, висевших по стенам. Но живее всего отражался он от бесчисленных белых лиц неподвижных котов. Белизна их обесцвечивала комнату, охлаждала сочный свет. Этой сцены Прюнскваллор никогда уже не забыл. Графиня на коленях, перед умирающим огнем, коза, мирно стоящая, пока Графиня доит ее властными движениями проворных пальцев, странно его волнующими. Неужто это она – грузная, бесцеремонная, неуступчивая Графиня, столь пугающе лишенная материнских чувств, Графиня, которая целый год не говорила с Титусом, которая держит в трепете, даже в страхе, население замка, – скорее легенда, нежели женщина – неужели это и вправду она, и полуулыбка удивительной нежности играет на ее широких губах?
И тут он снова припомнил шепот Графини: «Но кто тут осмелится бунтовать? Кто осмелится?» – а следом и полное, безжалостное, органное звучание ее горла: «И я сокрушу врага, истреблю – не только ради Титуса…»
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Кора с Клариссой оказались, сами того не ведая, заточенными в новых покоях. Все выходы наружу Стирпайк заколотил гвоздями и запер засовами. До того они безвылазно просидели у себя два года, и языки их распустились настолько, что это снова грозило Стирпайку погибелью. При всей изворотливости и терпении, кои проявлял он в обращении с сестрами, молодой человек не смог отыскать никакого иного способа обеспечить их вечное молчание по части всего, связанного с пожаром в библиотеке. Никакого – за вычетом одного. Сестры верили, что из всех обитателей замка только их одних и обошла страшная болезнь, выдуманная Стирпайком и названная им «куньей чумой».
Двойняшки были в его руках, как вода. Он мог открывать и закрывать любой из краников их ужаса, по выбору. Сестры питали к нему трогательную благодарность за то, что сохранили, благодаря его великой мудрости, относительное здоровье. Если упорное нежелание умирать при наличии сотни причин, по которым именно это сделать и следовало, можно назвать здоровьем. Они ежеминутно трепетали, опасаясь столкнуться лицом к лицу с кем-либо из переносчиков заразы. Стирпайк же каждодневно снабжал их сведениями об умерших и тех, кому уже недолго осталось.
Сестры жили теперь не в тех просторных апартаментах, где Стирпайк впервые посетил их семь лет назад. У них больше не было ни Горницы Корней, ни гигантского дерева, великолепно протянувшегося в сотнях футов над землей, – ныне они проживали в первом этаже, на безвестной окраине замка, на промозглом каменном мысу, удаленном даже от наименее оживленных путей. Через него не только невозможно было пройти куда бы то ни было – мыс этот еще и обходили стороной из-за дурной его репутации. В пропитанном пагубной сыростью воздухе его прямо-таки витало двустороннее воспаление легких.
Сколь ни иронично это выглядит, но в таком-то вот месте тетушки и вкушали радость, доставляемую им ошибочной верой: только они смогли ускользнуть от смертельной заразы, которая в их воображении валила с ног обитателей Горменгаста. Подстрекаемые Стирпайком, они интересовались теперь лишь собой, предвкушая день, когда им, единственным, кто остался в живых, представится случай явить себя (соблюдя необходимые предосторожности) миру и наконец-то, после многолетних разочарований, стать неоспоримыми претендентками на корону Гроанов – этот массивный, величественный символ верховной власти, в самой середке которого красовался сапфир размером с куриное яйцо.
То был предмет самых оживленных их препирательств: следует ли распилить корону вместе с сапфиром пополам, чтобы каждая могла постоянно носить хотя бы часть ее, или оставить нетронутой, и надевать по очереди – сегодня одна, а завтра другая.
При всей важности и спорности этого вопроса, обсуждение его не вызывало в Коре и Клариссе зримого оживления. Даже движения губ их и того было не углядеть, поскольку сестры обзавелись привычкой неизменно держать рты чуть приоткрытыми, так что звучание их тусклых голосов не сопровождалось шевелением губ. Впрочем долгие, одинокие дни сестер по преимуществу проходили в молчании. Отрывистые появленья Стирпайка, – а они становились все более редкими, – составляли единственное их развлечение, если не считать неистовых, нелепых, параноидных видений наполненного тронами и коронами будущего.
Но как же случилось, что их светлостей, Кору с Клариссой, удалось упрятать от людей, а те, не моргнув глазом, спустили подобное беззаконие?
А его никто и не спускал, ибо для Горменгаста тетушки вот уж два года как умерли и были с соблюдением множества символических ритуалов похоронены в гробнице Гроанов, где и поныне лежали две куклы, вылепленные Стирпайком из воска ради этого кошмарного предприятия. За неделю до того, как манекены были опущены в причитающиеся им саркофаги, в покоях Двойняшек обнаружено было письмо – как будто б от них, в действительности же – подделанное молодым человеком. Страшные сведения содержались в нем: оказывается, бесследно исчезнувшие сестры семьдесят шестого Графа решились покончить с собой, для чего тайком покинули замок, дабы свести счеты с жизнью в одном из ущелий горы Горменгаст.
Сколоченные Стирпайком поисковые отряды никаких следов не нашли.
В ночь перед тем, как нашли их записку, Стирпайк отвел Двойняшек в занимаемые ими ныне комнаты якобы для осмотра двух скипетров, на которые он случайно наткнулся и которые заново вызолотил.
Все эти события произошли, казалось, давным-давно. Титус был тогда совсем еще маленьким. Флэя только что изгнали из Замка. Сепулькревий и Свелтер растаяли в воздухе. Исчезновение Двойняшек, присовокупившееся к исчезновению этих троих, на какое-то время изменило облик Замка, наполнив его ноющей болью, – словно человека, который разом лишился нескольких зубов. Теперь раны кое-как затянулись, а облик вновь стал привычным. В конце концов, Титус-то жив-здоров, а значит – продолжению Рода ничто не угрожает.
Сейчас Двойняшки сидели в комнате, проведя день в молчании, протянувшемся дольше обыкновенного. Лампа, стоявшая на железном столе (она горела весь день), давала им достаточно света для вышивания, но по какой-то причине ни та, ни другая вышиванием нынче заниматься не стали.
– Как долго тянется жизнь! – наконец сказала Кларисса. – Иногда мне кажется, что с ней и связываться-то не стоило.
– Насчет связываться я ничего не знаю, – ответила Кора, – но раз уж ты открыла рот, я имею право сказать тебе, что ты, как обычно, кое о чем забыла.
– О чем я забыла?
– Ты забыла, что вчера это делала я, а сегодня твоя очередь – вот о чем.
– Какая еще очередь?
– Утешать меня, – откликнулась Кора, не отрывая взгляда от железной ножки стола. – Ты можешь заниматься этим до половины восьмого, а потом настанет твоя очередь предаваться унынию.
– Ладно, – сказала Кларисса и тут же принялась гладить сестру по руке.
– Нет-нет-нет! – сказала Кора. – Не так демонстративно. Ты сделай вид, будто ничего не случилось – завари, к примеру, чаю и молча поставь его передо мной.
– Хорошо, – отозвалась, с некоторым неудовольствием, Кларисса. – Только ты все испортила – разве нет? – указав мне, что я должна делать. Теперь в моих поступках уже не будет необходимой участливости, ведь так? Хотя я могу попробовать сварить вместо чая кофе.
– Какая разница? – сказала Кора. – И вообще, ты слишком много болтаешь. Я вовсе не хочу неожиданно обнаружить, что наступил твой черед.
– Для чего? Для моего уныния?
– Да, да, – раздраженно ответила ее сестра и поскребла в круглом затылке.
– Так я, по-моему, его и не заслужила.
На этом разговор сестер прервался, поскольку занавесь за спинами их разошлась и появился, с тростью в руке, Стирпайк.
Двойняшки встали и, прижавшись друг к дружке плечами, поворотились к гостю.
– Ну-с, как тут мои неразлучницы? – спросил он. Поднявши тонкую трость, он с отвратительной наглостью пощекотал ее металлическим наконечником ребра их светлостей. На лицах сестер никакого выражения не проступило, они лишь произвели несколько замедленных, изгибчивых движений, сообщивших им сходство с восточными танцовщицами. На каминной полке отзвонили часы, и стоило им смолкнуть, как монотонный ропот дождя, казалось, усилился вдвое. В комнате стало совсем темно.
– Ты уже давно здесь не появлялся, – сказала Кора.
– Это верно, – согласился Стирпайк.
– Ты нас забыл?
– Ничуть, – ответил он, – ничуть.
– Так в чем же дело? – спросила Кларисса.
– Сидеть! – резко приказал Стирпайк. – И слушать меня.
Он вперил в сестер взгляд, всегда приводивший их в замешательство, и, не отрываясь, смотрел, пока они, пристыженные, не понурились, уставясь на собственные ключицы.
– Вы думаете, это так легко – не подпускать чуму к вашим дверям, да при этом еще и быть у вас на побегушках? Легко?
Сестры медленно, точно маятники, покачали головами.
– В таком случае, сделайте милость, не перебивайте меня! – с поддельным гневом воскликнул Стирпайк. – Как смеете вы кусать руку, которая вас кормит! Как вы смеете!
Двойняшки вылезли, точно единое целое, из кресел и двинулись в угол комнаты. На миг они остановились, обернулись к Стирпайку, дабы увериться, что именно этого он от них и ждет. Да. Суровый палец молодого человека указывал на плотный, волглый ковер, застилавший пол комнаты.
Глядя, как выжившие из ума жалкие создания в пурпурных платьях лезут под ковер, Стирпайк испытывал упоение ни с чем не сравнимое. Постепенными, простыми, коварными шажками он вел их от унижения к унижению, пока извращенное наслаждение не обратилось для него едва ли не в необходимость. Если бы молодой человек не получал, злоупотребляя своей властью над ними, причудливого удовольствия, сомнительно, чтобы он взвалил на себя хлопоты, потребные для сохранения их жизней.
Но, созерцая передвижные холмики, созданные ползающими под ковром Двойняшками, он не сознавал, что прямо на его глазах совершается нечто весьма необычное и даже небывалое. У Коры, по кроличьи приникшей к полу в унизительной тьме, вдруг зародилась мысль. Откуда она явилась и как вообще могла явиться, Кора себя спрашивать не стала, ибо Стирпайк, их благодетель, был для нее и Клариссы чем-то вроде бога. И тем не менее, непрошеная мысль эта вдруг распустилась в ее мозгу, подобно цветку. Сводилась же мысль к тому, что она, Кора, с великим удовольствием прикончила бы Стирпайка. Едва осознав ее, Кора ощутила испуг, вряд ли уменьшившийся от того, что ровный голос с пустопорожней неторопливостью произнес в темноте: «И… я… тоже. Вдвоем мы с этим справимся, верно? Вдвоем-то справимся».
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Была в Южном крыле почти забытая лестничная площадка, расположенная высоко и за многие десятилетия обжитая сменявшимися поколениями сизовато-серых мышей – созданий до странности малых, величиною не больше фаланги пальца, водившихся, похоже, только в этом крыле, поскольку нигде более их никогда не видали.
В давние годы этот, редко теперь навещаемый кусок пола, огороженный с одной стороны высокой балюстрадой, являлся, надо полагать, предметом живой заботы какого-то человека либо нескольких людей, поскольку хоть краски и поблекли, а все ж заметно было, что половицы выкрасили некогда в сочный и яркий кармазиновый цвет, а три стены – в ослепительнейший из желтых. Балясины балюстрады имели окрас чередующийся – яблочно-зеленый и лазурный, в последний были окрашены и пустые дверные коробки. Коридоры, расходившиеся отсюда, сужаясь в перспективе, продолжали кармазиновую тему полов и желтую – стен, но все это утопало в густых тенях.
Балюстрада располагалась на южной стороне и окно, пробитое в скате крыши над нею, впускало сюда свет дня, а временами и солнца, лучи которого преображали заброшенную площадку в космос, в небесную твердь, наполненную сверканием пляшущих пылинок, в пространство, вмещающее и звезды, и то светило, что посылало сюда лучи свои, и лучи эти танцевали средь звезд. Там, где они прерывались, пол расцветал словно розами, стены изливали шафрановый свет, а балясины пылали, подобные кольцам цветных змей.
Но и в самые безоблачные летние дни, когда солнечный свет пробивался в окошко, в блеске здешних красок присутствовал пигмент распада. Красный цвет лишился былой пламенности, зажигавшей некогда доски пола.
По этой-то цирковой арене состарившихся красок и разгуливали семейства серых мышей.
Когда Титус впервые приметил красочную балюстраду, он находился двумя этажами ниже обнесенного желтыми стенами балкона. В тот день он исследовал нижний этаж и, заблудившись, испугался, ибо перед ним раскрывались, словно пещеры, комната за комнатой, то утопающие в тенях, то плывущие в пустом солнечном свете, льющемся на пыль просторных полов, почему-то пугавших мальчика своей золотистой заброшенностью пуще самых непроглядных теней. Если бы Титус не сжимал изо всех сил ладони, то давно уже завопил бы – эти покинутые покои и залы внушали страх даже отсутствием в них привидений, порождая чувство, что перед самым его приходом кто-то покидает каждый из коридоров, каждую залу, наводя на мысль, что все это – декорации, которые только и ждали его появления.
И вот, измученный разгулявшимся воображением, ощущая, как гулко колотится его сердце, Титус свернул за угол и оказался перед лестничным маршем, спускавшимся на два этажа от обители серых мышей.
Едва завидев лестницу, Титус бросился к ней с такой радостью, словно каждая из балясин ее приходилась ему давним другом. Но даже охваченный облегчением, слышащий, как в ушах отдается гулкое эхо его шагов, Титус широко раскрыл глаза, приметив лазурь и яблочную зелень балясин – каждая глядела высоким постаментом неповиновения. Одни перила, державшиеся на этих подспорьях, были бесцветны, светились отглаженной ладонями слоновой кости белизной. Ухватясь за балясины, Титус глянул сквозь них вниз. Глубины, раскрывшиеся перед ним, были, казалось, почти лишены признаков жизни. Только птица медленно пролетела над другой, далекой площадкой, да кусок штукатурки выбился из теней, клубившихся тремя этажами ниже птицы – и все.
Титус взглянул вверх и увидел, что до верхушки лестницы осталось совсем немного. Как ни тянуло его бежать из этих возвышенных мест, он не устоял перед соблазном добраться до самого верха – туда, где горели краски. Серые мыши, запищав, прыснули по коридорам и норкам. Лишь небольшое число их осталось у стен и какое-то время наблюдало за Титусом, перед тем как снова заснуть или вернуться к тому, что они грызли.
Все это место показалось мальчику неописуемо золотистым и дружественным – настолько дружественным, что даже близость пустой комнаты, расположенной под ним, почти не портила Титусу наслаждения, которое он здесь испытывал. Он сидел, прислонясь к желтой стене, и смотрел, как маневрируют в длинных лучах солнца пылинки.
– Это мое! мое! – громко сказал он. – Я сам все это нашел.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
В гнусном подземельном свете, наполнявшем Профессорскую, трое, восседавшие в ней, казалось, плыли, влекомые бурыми валами. Табачный дым обращал ее в подобие выкрашенной умброй гробницы. Эти трое представляли собой зачаток ежедневного собрания, столь же священного и неукоснительного, как мартовский слет грачей на верхушке ильма – правда, отнюдь не столь оживленного! – собрания Профессоров, происходившего после того, как часы отбивали одиннадцать, и для них наступало время недолгой передышки.
Ученики их – воробушки, так сказать, Горменгаста – наперегонки носились по огромному, выложенному красным песчаником двору, который со всех сторон обступали высокие, покрытые плющом, сложенные из того же камня стены. Лезвия бесчисленных ножей изъязвили шероховатую поверхность этих стен, ибо никак не меньше тысячи иероглифических инициалов были выскоблены в камне! Сотни старательно вырезанных наставительных изречений и слов, значение коих давным-давно лишилось своей злободневности. Насечки поглубже являли взорам схемы тех или иных игр местного изобретения. Немало мальчиков обливалось у этих стен слезами, немало кулаков было ободрано о камень, когда голова противника отпрядывала в сторону, уклонясь от удара. Немало детей пробивалось назад, в открытый двор, с окровавленными ртами, и тысячи неустойчивых пирамид из мальчишеских тел, пошатываясь, добредали сюда и рассыпались, когда самый верхний малец хватался, в конце концов, за верхние плети плюща.
Попасть во двор можно было тоннелем, начинавшимся прямо под длинной южной классной комнатой с люком в полу, от которого шли вниз ступеньки. Тоннель, старый, заросший папоротником, сотрясали в этот миг варварские отзвуки свиста, издаваемого ордой мальчишек, устроивших в краснокаменном дворе, с незапамятных времен бывшем местом их игр, кучу-малу.
Но те трое, что сидели в Профессорской, находили отдохновение скорее в ослаблении, нежели в усилении телесной активности.
Войти сюда из коридора Профессоров – значило претерпеть удивительную перемену обстановки, примерно такую же внезапную, какую мог бы испытать купальщик, который, поплавав в чистой, прозрачной воде, вдруг заплывает в бухту, заполненную неким супом. Не только воздух Профессорской, казалось, меркнул от смеси запахов: смрада застоялого табачного дыма, пересохшего мела, гниющего дерева, чернил, спиртного и сверх всего – плохо выделанной кожи, но и общий тон комнаты являл собою транскрипцию этих запахов, поскольку стены ее были выкрашены в какой-то лошадиный, наиунылейший из коричневых цвет, оживлявшийся разве что редкими, скучно мерцавшими головками чертежных кнопок.
Справа от двери висели черные Профессорские мантии, пребывавшие в различных стадиях распада.
Из трех Профессоров первым, кто достиг нынешним утром этой обители, дабы с удобством развалиться в единственном ее кресле (он имел обыкновение покидать класс за двадцать минут до официального завершения урока, чтобы наверное застать кресло незанятым), был Опус Трематод. Он скорее лежал, нежели сидел на том, что было известно среди преподавателей под названием «Трематодова Люлька». И то сказать, господин Трематод довел сей предмет обстановки – или же символ физической праздности – до такого состояния, что оседание любого другого тела в этот бугристый кратер конского волоса обратилось в предприятие буквально опасное.
Ежедневные потакания своей праздной лени, происходившие перед утренней переменой и возобновлявшиеся перед ударом обеденного колокола, чрезвычайно ценились Опусом Трематодом, добавлявшим в это время собственные облака табачного дыма к тем, что уже заволакивали потолок Профессорской. Он выдыхал их в таких количествах, что могло показаться, будто доски пола охвачены пламенем, а центром возгорания является как раз господин Трематод, лежащий, вот как сейчас, под углом в пять градусов к полу в позе, каковая хотя бы спасала его от асфиксии. Впрочем, если что и горело, так только табак в его трубке, и, лежа на спине и испуская белые кольца дыма из широкого, мускулистого, безгубого рта (несколько смахивающего на рот огромной, благодушной ящерицы), он олицетворял собою столь грубое пренебрежение ко всем вообще – своему и прочих людей – дыхательным органам, что оставалось только дивиться, как такой человек уживается в мире, в коем встречаются также хризантемы и юные девы.
Голова Трематода была запрокинута. Длинный, выпяченный, смахивающий на батон подбородок торчал в потолок. Елаза траурно следовали за волнистым восхождением свежего дымного кольца, пока его не поглощала колеблющаяся вверху пелена. В вялости этого человека, в его пугающей невозмутимости присутствовала своего рода законченность.
Из двух его компаньонов по Профессорской тот, что помоложе, Перч-Призм, распластался, с видом отчасти вызывающим, по краешку длинного, заляпанного чернилами стола. Древнюю деревянную поверхность эту густо покрывали: учебники, синие карандаши, трубки, до различной высоты заполненные белым пеплом и остатками табака; куски мела, один носок, несколько пузырьков с чернилами, бамбуковая трость, лужица белого клея, карта солнечной системы, почти целиком обуглилась при одной давней незадаче с пузырьком кислоты; чучело баклана с лапками, прибитыми гвоздями к столу, что впрочем не помогло бедной птице сохранить прямизну осанки; выцветший глобус с нацарапанной желтым мелком надписью «Выпороть Хитрована в четверг», начинавшейся под экватором и далеко уходящей за южный Полярный круг; множество листков, заметок, инструкций; роман, озаглавленный «Потрясающие приключения Купидона Котта»; и, по меньшей мере, дюжина высоких, потрепанных пагод, образованных желтоватыми тетрадями с прописями.
Перч-Призм расчистил немного места на дальнем конце этого стола и теперь сидел там, скрестив руки. То был низенький, пухленький человечек, обладавший самоуверенностью, которая пропитывала всякое его движение, каждое произносимое им слово. Нос у него был несколько поросячий, страшновато настороженные глаза походили на черные пуговицы, а кругов под ними хватало, чтобы заарканить и удушить уже при рождении всякую мысль о том, что ему еще не исполнилось пятидесяти лет. Впрочем, нос, выглядевший так, словно он появился на свет всего пару часов назад, прилагал на свой поросячий манер большие усилия, чтобы скомпенсировать впечатление, производимое этими кругами, и в конечном итоге сообщить Перч-Призму вид человека относительно молодого.
Опус Трематод в своем любимом кресле; Перч-Призм на краешке стола – а вот третий из присутствовавших в Профессорской господин, похоже, имел, в противоположность своим коллегам, чем заняться. Вперив пристальный взгляд в стоявшее на каминной доске маленькое бритвенное зеркальце и склонив голову набок, чтобы поймать тот свет, какому удавалось пробиться сквозь дым, Кличбор разглядывал свои зубы.
Он был по-своему красив. Чело и переносье несколько крупноватой его головы образовывали единую нисходящую линию, несшую признаки неоспоримого благородства. Подбородок, если смотреть в профиль, был столь же длинен, как лоб и нос вместе взятые, и шел строго параллельно оным. Львиная грива снежно-белых волос придавала Кличбору сходство с великим пророком. Зато глаза разочаровывали. Они даже и не старались помочь прочим его чертам исполнить данное ими обещание – черты эти могли бы стать идеальной оправой для глаз, горящих мистическим огнем. Глаза же господина Кличбора вообще никаким огнем не горели. Маленькие, скучного серо-зеленого цвета глазки, напрочь лишенные выражения. Заглянув в них, трудно было не обозлиться на его роскошный профиль, не обвинить оный в жульничестве. А уж зубы господина Кличбора, кариозные и неровные, составляли худшую из особенностей его лица.
Перч-Призм вдруг прытко вытянул вперед руки и ноги одновременно – вытянул и тут же втянул. При этом он еще закрыл блестящие черные глаза и зевнул так широко, как позволял его маленький, отчасти чопорный ротик. Затем хлопнул ладонями об стол, словно бы говоря: «Не сидеть же здесь, клюя носом, весь день!», собрал лоб в складки, вытащил небольшую, изящную, опрятную трубочку (Перч-Призм давно уже понял, что только она и способна защитить его от дыма, выдыхаемого прочими курильщиками) и набил ее, быстро двигая расторопными пальцами.
Полузакрыв глаза, он разжег трубку, отчего поросячий нос его осветился изнутри. В этот миг, когда черные рассудочные глаза Перч-Призма укрылись под веками, он походил не столько на мужчину, сколько на испорченное дитя.
Перч-Призм торопливо затянулся три-четыре раза. Затем, вынув трубку из аккуратного ротика:
– Это обязательно? – спросил он, приподымая брови.
Опус Трематод, лежавший в кресле, как на носилках, остался полностью неподвижным и только повел ленивыми глазами – и вел ими, пока те задумчиво не сфокусировались, да и то лишь наполовину, на принявшем вопросительное выражение лице Перч-Призма. Обнаружив однако, что Перч-Призм обращается не к нему, а к кому-то другому, господин Трематод истомлено вернул глаза на место и покатил их дальше, к маячившим чуть позади расплывчатым очертаниям Кличбора. Этот царственный господин, с такой скрупулезной дотошностью изучавший свои зубы, величаво нахмурился и обернулся к Перч-Призму.
– Что – обязательно? Объяснитесь, любезный юноша. Если я что-нибудь и ненавижу, так это предложения из двух слов. Слушаешь вас, любезный юноша, и кажется, что где-то рядом падает и разбивается глиняная плошка.
– Вы отвратительный старый педант, Кличбор, сильно запоздавший на собственные похороны, – сообщил Перч-Призм, – а разум ваш так же скор, как беременная черепаха. Ради всего святого, перестаньте, наконец, возиться с зубами!
Лежащий в потертом кресле Опус Трематод закрыл глаза и, разделив длинные, кожистые губы так, что те образовали слегка изогнутую кверху кривую, – это могло бы, пожалуй, сойти за признак сардонического веселья, если б из легких Трематода не исходило пугающее количество дыма, поднимавшегося в воздух, принимая форму убеленного снегом ильма.
Кличбор повернулся спиною к зеркалу, окончательно утратив возможность видеть в нем и себя, и доставляющие ему столько горестей зубы.
– Перч-Призм, – произнес он, – вы просто-напросто нетерпимый выскочка. Какое вам, черт побери, дело до моих зубов? Будьте добры предоставить мне заниматься ими, сударь.
– С наслаждением, – сказал Перч-Призм.
– Меня мучает жуткая боль, дорогой друг. – В голосе Кличбора проступила нотка слабости.
– Скряга вы, вот вы кто, – сказал Перч-Призм. – Ни с каким старым хламом расстаться не способны. Они вам, кстати, и не к лицу. Выдерите их.
Кличбор вновь обрел сходство с массивным пророком.
– Никогда! – вскричал он, но погубил величественность своего восклицания тем, что прищелкнул зубами и жалостно застонал.
– Мне вас ни капельки не жалко, – сказал, болтая ногами, Перч-Призм. – Вы старый дурак, и если бы вы учились в моем классе, я порол бы вас дважды в день до тех пор, пока вы не избавились бы от вопиющей нерадивости (это раз) и от патологической привязанности к этим гнилушкам (это два). Ни капельки мне вас не жалко.
На сей раз можно было с уверенностью сказать, что Опус Трематод, испуская едкое облако, улыбнулся.
– Бедный, старый, никчемный Кличбор, – сказал он. – Бедный Клыконосец!
И Трематод зашелся странным, только ему свойственным хохотом, одновременно буйным и беззвучным. Тяжелое, распростертое тело его, облаченное в черную мантию, подпрыгивало и опадало. Колени задрались к подбородку. Руки беспомощно болтались по сторонам от кресла. Голова каталась из стороны в сторону. Он походил на человека, отравленного стрихнином и доживающего последние свои минуты. Однако изо рта его, даже не раскрывшегося, не исходило ни звука. Понемногу судороги ослабли, а когда лицо Трематода опять обрело присущий ему от природы песчаный оттенок (ибо рвущийся наружу хохот залил его темной краснотой), он вновь напустил на себя серьезный вид и углубился в процесс курения.
Кличбор с горделивой грузностью шагнул в середину комнаты.
– Так я для вас «никчемный Кличбор», не так ли, господин Трематод? Вот, значит, как вы меня трактуете? Таково, стало быть, направление неотесанных мыслей ваших? Ага!..ага!.. – Старания Кличбора произносить все это так, будто он погружен в философические размышления касательно натуры Трематода, оказались трогательно неудачными. Он покачал маститой главой. – Какой же вы грубиян, друг мой. Вы точно животное – и даже растение. Быть может, вы позабыли, что не далее как пятнадцать лет назад меня прочили на Руководящую Роль. Да, господин Трематод, именно «прочили»! Сколько я помню, как раз тогда и была совершена трагическая ошибка – в штат зачислили вас. Хм… С тех пор, сударь, вы только и были что позором нашей профессии – пятнадцатилетним позором. На свой же счет – каковы бы ни были мои недостатки – я желал бы уведомить вас, что у меня за спиной значительный опыт, о коем я не считаю нужным здесь распространяться. Вы – лодырь, сударь мой, отвратительный лодырь! И проявляя неуважение к старому учителю, вы всего-навсего…
Однако новый приступ боли заставил Кличбора умолкнуть, схватившись за челюсть.
– Ох, мои зубы! – простонал он.
Во время этой страстной речи мысли Опуса Трематода витали неведомо где. Если бы его попросили повторить хоть одно из обращенных к нему слов, он не смог бы.
Но вот сквозь плотную пелену его грез пробился голос Перч-Призма.
– Мой дорогой Трематод, – произнес этот голос, – не вы ли – или не вы? – при одном из тех редких случаев, когда сочли возможным показаться в классе – в тот раз, если не ошибаюсь, им оказался пятый «Г» – отозвались обо мне, как о «напыщенном пустомеле с мочевым пузырем вместо головы»? Мне передали, что именно так вы меня аттестовали. Ну-ка, скажите, вы или не вы? – звучит вполне в вашем духе.
Опус Трематод потер ладонью длинный, выпуклый подбородок.
– Возможно, – наконец сказал он, – впрочем, не знаю. Никогда не прислушиваюсь к тому, что говорится вокруг.
И удивительные пароксизмы начались заново – подскакивание, перекатывание, беспомощность, бесшумный утробный хохот.
– Весьма удобная память, – сказал Перч-Призм с еле приметной ноткой раздражения в отчетливом, резком голосе. – А это еще что?
Какой-то шум поднялся в коридоре. Нечто схожее с высоким, тонким, мяучащим криком чайки. Опус Трематод приподнялся, опираясь на локоть. Пронзительный звук усиливался. Внезапно дверь распахнулась, и перед Профессорами предстал в раме дверной коробки Школоначальник.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Если существовала когда на свете первородная дутая фигура или просто пустое место, архетип этот воскрес в облике Смерзевота. Он представлял собою символ в чистом виде. В сравнении с ним даже господин Трематод выглядел сверхзанятым человеком. Школоначальника почитали за гения – хотя бы потому, что он ухитрялся самыми замысловатыми способами спихивать исполнение своих обязанностей на других людей, отчего у него никогда не возникало необходимости делать хоть что-то. Подпись его, которая все же должна была время от времени появляться под каким-нибудь длинным уведомлением, которого, впрочем, никто не читал, всегда оказывалась поддельной – даже изощренная система спихивания своих обязанностей, на которой зиждилась всеобщая вера в его величие, неизменно приводилась в действие не им самим, а кем-то другим.
Сразу за Школоначальником в комнату проник крошечный конопатый человечек, толкавший перед собою высокое шаткое кресло с приделанными к ножкам колесиками, в котором и восседал Смерзевот. Это произведение мебельного искусства, напоминавшее пропорциями высокий стул для младенца – у него имелся даже столик, из-за которого частью высовывалась голова Смерзевота, – всегда честно предупреждало школяров и преподавателей о приближении их начальника, поскольку колесики кресла отчаянно нуждались в смазке. Они визжали.
Смерзевот и конопатый малютка составляли разительный контраст. Не существовало решительно никакой причины, по которой обоих следовало считать человеческими существами. Наличия какого-либо общего знаменателя в них не усматривалось. Разумеется, у каждого имелось по две ноги, по два глаза, по одному рту и так далее, но это ничуть не убеждало в подобии их природы – а если и убеждало, то лишь в той мере, в какой и жирафа, и горностая относят к вместительному разряду, именуемому «фауной».
Обернутый в темно-серую мантию, вышитую в два оттенка зеленого знаками Зодиака (из коих, по причине складок и засаленности, ни одного, за вычетом Рака на плече, разглядеть возможности не было), Смерзевот сильно походил на неумело свернутый кулек. Он спал или почти спал, поджав под кресло ноги. На коленях его покоилась грелка.
На лице Школоначальника навечно застыло покорное выражение человека, накрепко усвоившего, что один день отличается от другого только листком календаря.
Поднятые на уровень подбородка руки его вяло покоились на столике. Въезжая в комнату, он приоткрыл один глаз и отсутствующе вперился оным в табачный дым. Глаз вовсе не стремился что-либо увидеть и остался вполне доволен, когда через несколько минут различил в дыму три расплывчатые фигуры. Фигуры эти – Опус Трематод, Перч-Призм и Кличбор – стояли в ряд; Трематод выкарабкался-таки из своей люльки, потратив столько же усилий, сколько потребовалось бы для того, чтобы выбраться из болотной трясины. Все трое смотрели на восседающего в кресле Смерзевота.
Лицо у него было круглое и мягкое, как клецка. Оно как будто не имело строения – ничем не подтверждало того, что под кожей его кроется череп.
Неприятное это впечатление могло бы свидетельствовать о не менее неприятном нраве. По счастью, таковой отсутствовал. Лицо, однако ж, отображало соответственную бескостность владельца в его отношении к миру. Усмотреть в Смерзевоте хоть какой ни на есть нрав было невозможно, зато и слабостей, как таковых, у него не имелось – одно лишь отрицание самой идеи характера. Ибо бесхарактерность его не была положительным качеством – если, конечно, не считать квелость медузы результатом волевого усилия.
Поселившееся на лице его выражение предельной отрешенности, пустой умиротворенности внушало едва ли не страх. То был род безразличия, посрамлявшего всякое рвение, всякую страстность натуры, и заставлявшего человека задумываться: чего ради тратит он столько телесных и душевных сил, когда каждый день подпихивает его все ближе к могильным червям. Благодаря то ли темпераменту своему, то ли отсутствию такового, Смерзевот нечувствительно достиг того, чего так жаждут мудрецы: равновесия. В его случае то было равновесие между двумя несуществующими полюсами, но все-таки равновесие, пусть и сбалансированное на лишь воображаемой точке опоры.
Конопатый карлик выкатил высокое кресло в середину комнаты. Кожа настолько туго обтягивала маленькое тельце его и насекомовидное личико, что конопушки увеличивались в размерах вдвое против обычного. Совсем махонький, он заносчиво глядел между ножек кресла, и морковные волосы его блестели от масла. Зачесанные назад, они плотно прилегали к угловатой насекомой головке. Вокруг, явственно смердя, вставали и исчезали в дыму стены цвета лошадиной шкуры. Несколько чертежных кнопок мерцали на темно-бурой коже.
Смерзевот свесил одну руку пообок кресла и согнул истомленный палец. Мух (таково было прозвище конопатого карлика) вытащил из кармана листок бумаги, но вместо того, чтобы передать его Школоначальнику, с необычайным проворством вскарабкался по дюжине перекладинок кресла и крикнул Смерзевоту в ухо:
– Рано! Рано! Их тут всего трое!
– Что? – пустым голосом вопросил Смерзевот.
– Их тут всего трое!
– Которых, – после долгой паузы поинтересовался Смерзевот.
– Кличбор, Перч-Призм, Трематод, – пронзительным блошиным голосом ответствовал Мух. И подмигнул сквозь дым троице Профессоров.
– А эти что, не годятся? – пробормотал, не раскрывая глаз, Смерзевот. – Они же мои подчиненные, ведь… так?..
– Еще бы! – ответил Мух. – Еще бы! Но эдикт, сударь, обращен ко всей профессуре.
– Я забыл, про что он. Напомни… мне…
– Да там все написано, – сказал Мух. – Вот он, сударь. Вам, сударь, остается только его зачитать.
И снова рыжий коротышка почтил троицу преподавателей на удивление фамильярным подмигом. Нечто непристойное чуялось в том, как восковой лепесток его века, намекая неизвестно на что, падал, накрывая яркое око, и вновь поднимался, даже не трепетнув.
– Отдай его Кличбору. Пусть зачитает, когда придет время, – сказал Смерзевот, укладывая перед собою на столик свисавшую руку и вяло поглаживая грелку… – Иди, узнай, почему задержались остальные.
Мух ссыпался по перекладинкам кресла и выскочил из его тени. Бойкими, нахальными шажками пересек он комнату, сильно оттопыривая назад голову и мягкое место. Но еще прежде чем он добрался до двери, та отворилась и вошли двое Профессоров – у одного из них, Фланнелькота, обе руки были заняты тетрадями, а изо рта торчало печеньице с тмином; у спутника же его, Стрига, руки остались пустыми, зато голова была забита теориями по части подсознания всех и каждого, кроме него самого. У Стрига имелся друг по имени Сморчикк – он тоже вот-вот объявится: того, в отличие от Стрига, распирали теории касательно подсознания собственного и ничьего больше.
Фланнелькот относился к своей работе очень серьезно и неизменно пребывал в состоянии озабоченной удрученности. Мальчики обращались с ним хуже некуда, да и коллеги – тоже. Никто не желал замечать, как много он трудится; впрочем, иного выбора у него и не было. Фланнелькот обладал развитым чувством долга, которое быстро обращало его в человека больного. Лица Фланнелькота никогда не покидало жалобно неодобрительное выражение, свидетельствовавшее о присущем ему усердии. В Профессорской он всегда появлялся ко времени, когда в ней уже не оставалось ни одного свободного стула, а в классе – когда там еще не появилось ни одного ученика. Всякий раз, как он куда-то спешил, оказывалось, что рукава его мантии завязаны узлом, а в его тарелке на учительском столе вместо сыра лежат обмылки. Сегодня, входя в Профессорскую с кипой тетрадей в руках и печеньем во рту, он пребывал в большем, чем обычно, смятении. Состояние его не улучшилось от того, что он увидел Школоначальника, смутно маячившего прямо перед ним, подобно Юпитеру средь облаков. Фланнелькот впал в такое замешательство, что печенье заскочило ему в дыхательное горло, а груда тетрадей выскользнула из рук и с громким стуком осыпалась на пол. В наступившей тишине послышался мучительный стон, изданный, впрочем, схватившимся за челюсть Кличбором. Благородная голова последнего раскачивалась из стороны в сторону.
Стриг рысцой пробежался от двери и, отвесив Смерзевоту небрежный поклон, уцепил Кличбора за пуговицу.
– Вам больно, дорогой мой Кличбор? Больно? – осведомился он резким, неприятным, пытливым тоном, в котором милосердия было не больше, чем в сердце вампира.
Кличбор возмущенно дернул барственной главой, но до ответа не снизошел.
– Будем считать, что вам больно, – продолжал Стриг. – Возьмем эту гипотезу за основу: Кличбора, человека, возраст которого лежит в промежутке от шестидесяти до восьмидесяти лет, терзает боль. Вернее сказать, он думает, что таковая его терзает. Следует быть точным. Как служитель науки, я стою за точность. Ну-с, что дальше? Почему, принимая во внимание, что Кличбор предположительно испытывает боль, он думает также, будто боль эта как-то связана с его зубами? Мысль, разумеется, нелепая, но, как я уже сказал, необходимо принимать во внимание и ее. А почему?
А потому, что все это символы. Не существует такой вещи, как «вещь» per se[2]. Всякая вещь – только символ чего-то иного, что и является тождественным себе самому, ну и так далее. Точка зрения моя такова, что и зубы его, пусть даже явственно гнилые, суть лишь символы пораженного болезнью сознания.
Кличбор взрыкнул.
– Но чем поражено его сознание? – Стриг схватил Кличбора за мантию чуть ниже левого плеча и, подняв лицо вверх, внимательно оглядел его крупную голову.
– У вас рот дергается, – отметил он. – Интересно… весьма… интересно. Вы, вероятно, о том не догадываетесь, но у вашей матери была дурная наследственность. Очень дурная наследственность. Или наоборот, вам вечно снятся горностаи. Впрочем, не важно, не важно. Вернемся к нашей теме. На чем мы остановились? Да-да, ваши зубы – символы, как мы уже сказали, не так ли? – пораженного болезнью сознания. Так вот, какого же рода эта болезнь? Вот в чем вся суть. Какого рода болезнь сознания могла бы подобным образом воздействовать на ваши зубы? Откройте-ка рот, милостивый государь…
Однако Кличбор, скудные запасы терпения и учтивости коего уничтожил новый мучительный приступ боли, поднял огромную, величиною с поднос ступню и со слепым облегчением обрушил ее на ботиночки господина Стрига. Сапог Кличбора накрыл их обе, причинив, надо думать, немалую боль, поскольку лоб господина Стрига покраснел и наморщился; однако он даже не пискнул, а только сказал:
– Интересно, весьма интересно… похоже, все дело в матери.
Утробный хохот, вновь обуявший Опуса Трематода, сделал с ним, кажется, все мыслимое и немыслимое, только что не разорвал пополам, и все же не отыскал ни единого отверстия, чтобы через него прорваться наружу.
К этому времени от двери просочились сквозь дым другие Профессора. Среди них был и Сморчикк, приятель Стриг, а вернее последователь, поскольку он разделял все Стриговы воззрения, но только в противоположном смысле. В простые последователи господин Сморчикк не годился, поскольку был бунтарем – особенно в сравнении с тремя господами, которые, проникнув в комнату стайкой столь сплоченной, что академические шапочки их образовали почти сплошную поверхность, уселись, как заговорщики, в самом дальнем углу. Они, эти трое, питали верноподданнические чувства не к кому-либо из членов преподавательского штата и уж тем более не к такому отвлеченному понятию, как «штат» сам по себе, но к престарелому эрудиту, бородатому господину без определенных занятий, чьи высказывания относительно Смерти, Вечности, Страдания (и несуществования оного), Истины, да, собственно, всего, о чем трактует философская наука, днем и ночью гудели у них в ушах, точно пламя в печной трубе.
Стремление ни в чем не отступать от воззрений Учителя по столь великим вопросам, развило в них страх перед коллегами и некоторую задерганность, каковая – на что Перч-Призм имел жестокость не раз и не два указывать им – не совмещалась с их собственной теорией несуществования. «Ну что вы так дергаетесь? – обыкновенно спрашивал он. – Если страдания не существует, так вас и уколоть-то нечем». После чего все трое, Пикзлак, Шплинт и Вроет, немедля слипались друг с дружкой, образуя подобие черного шатра, – обмен мнениями по поводу наилучшего опровержения сказанного засасывал их на манер водоворота. Как же им хотелось в такие минуты, чтобы их бородатый Наставник был с ними! Уж он-то знал ответы на все хамские вопросы.
Несчастные они были люди, все трое. И не по причине врожденной меланхоличности, но из-за собственных теорий. Так они, стало быть, и сидели: кольца дыма вились вокруг, а глаза каждого с настороженной опаской шарили по лицам еретических их собратий – а ну как кто-нибудь в очередной раз покусится на их веру.
Кто еще вошел в комнату?
Только Цветрез, щеголь; Корк, попрошайка; и холерический Мулжар.
Все это время Мух проторчал в коридоре, засунув пальцы в рот и издавая наипронзительнейший, какой только существует на свете, свист. Свист ли тот стал причиной скорого появления в конце коридора нескольких запоздавших Профессоров или они так и так направлялись в Профессорскую, но сомневаться в том, что взвизгливая музыка Муха заставила их ускорить шаг, не приходится.
Дым уже курился над ними, когда они приближались к двери, ибо входить в «Трематодово пекло», как это у них называлось, с чистыми легкими никто из них ни малейшего желания не имел.
– Там Зевотник, – сказал Мух, когда Профессора в развевающихся мантиях поравнялись с ним. Дюжина бровей взлетела вверх. Случай увидеть Школоначальника им представлялся не часто.
Когда за последним из них закрылась дверь, обитая кожей комната обратилась в место, куда человеку, склонному к астме, заходить не рекомендуется. Никакие цветы не смогли бы в нем расцвести – разве нечто изможденное да шипастое, какой-нибудь эдакий кактус, давно обвыкшийся с пылью и сушью. Ни единая певчая птичка не смогла бы здесь выжить – о нет, ворон и тот бы издох – дым забил бы ее узкое, сладкое горло. Здешний воздух и слыхом не слыхивал о благоуханных пастбищах – об утренних зорях в сверкающих росами ореховых лесах – о ручейках и о свете звезд. То была кожаная пещера, в которой клубилась коричневатая мгла.
Мух, острое насекомое личико коего едва различалось в дыму, вскарабкался, перебирая руками планки, до верху кресла и обнаружил, что Смерзевот спит, а грелка его холодна как лед. Мух потыкал Школоначальника костлявым пальчиком в ребра – там, где Телец лез на Скорпиона. Голова заснувшего Смерзевота совсем съехала вниз и теперь едва виднелась из-за кресельного столика. Ноги так и остались поджатыми под сиденье. Смерзевот походил на какую-то лишившуюся обжитой раковины тварь – лицо его выглядело отвратительно голым. Голым не только физически, голым – ибо абсолютно пустым.
Топоток Муха не заставил Школоначальника вздрогнуть и пробудиться, как случилось бы со всяким нормальным существом: сие свидетельствовало бы о наличии в нем хоть какого-то интереса к жизни. Смерзевот просто открыл глаза. Оторвав их от физиономии Муха, он обвел взглядом кучку людей в мантиях.
И снова зажмурился.
– Для… чего… здесь… все… эти… люди? – Голос Смерзевота отплывал от его мякотной головы, как длинная бумажная лента. – И для чего я сам? – добавил он.
– Острая необходимость, – ответствовал Мух. – Должен ли я напомнить вам об Указе Баркентина?
– Почему бы и нет? – сказал Смерзевот. – Только не слишком громко.
– И надлежит ли Кличбору зачитать его, сударь?
– Почему бы и нет? – ответил Школоначальник. – Но сначала наполни грелку.
Взяв холодную бутылку, Мух сполз с кресла и бойко затопотал сквозь скопление преподавателей к двери. Прежде чем достигнуть ее, он, воспользовавшись тем, что видимость в комнате была никудышная, но преимущественно – редким проворством своих маленьких, тощеньких пальцев, – избавил Фланнелькота от старинных золотых часов на золотой же цепочке, господина Стрига – от нескольких монет, а Цветреза – от расшитого носового платка.
Когда он вернулся с горячей грелкой, Смерзевот уже снова спал. Тем не менее Мух всучил Кличбору бумажный свиток и лишь после этого забрался на кресло-каталку, чтобы пробудить Школоначальника.
– Читайте, – сказал Мух. – Это от Баркентина.
– Но почему л? – спросил, держась рукою за челюсть, Кличбор. – Черт бы побрал Баркентина с его указами! Черт бы его побрал, говорю я!
Он развернул свиток и, в несколько грузных шагов достигнув окна, поднес бумагу к тому свету, какому удавалось пробиваться сквозь стекло.
Профессора к этому времени уже сидели на полу, группками или поодиночке – Фланнелькот, например, устроился на холодном пепелище под каминной доской. Когда бы не отсутствие вигвамов, скво, перьев и томагавков, можно было б решить, что это индейское племя разбило стоянку под нависающим дымом.
– Давайте, Кличбор! Давайте, старичок! – сказал Перч-Призм. – Вгрызитесь в эту бумагу.
– Мне всегда казалось, что для ученого-гуманитария, – произнес невыносимый Стриг, – что для ученого-гуманитария Кличбор обладает недостаточно полноценным умом, прискорбно неполноценным, и прежде всего потому, что он с трудом понимает предложения, содержащие больше семи слов, а кроме того – из-за неудовлетворенного комплекса власти, который сводит на нет все потуги его ума.
В дыму раздалось рычание.
– Да в чем же дело? В чем дело? Ага!
То был голос Цветреза. Донесся он с дальнего конца длинного стола, на котором Цветрез сидел, болтая тонкими, элегантными ножками. Узкие, заостренные туфли его были начищены до такого лоска, что сияние их носков пробивалось сквозь дым, будто свет факелов сквозь туман. Никаких иных признаков ног в комнате вот уже полчаса как не замечалось.
– Кличбор, – продолжил он, подхватывая сказанное Перч-Призмом, – ваш ход, милейший! Ваш ход! Да изложите же нам суть дела, ага! Изложите нам суть. Ага, он что, читать не умеет, старый прохвост?
– О, это вы, Цветрез? – произнес еще один голос. – Я вас все утро ищу. Господи, помилуй! как у вас туфли-то начищены, Цветрез! А я гадаю, какие это там, черт возьми, огоньки светятся! Но серьезно, Цветрез, я в большом затруднении. Честное слово. Жена моя, вы же знаете, сейчас в ссылке и жутко болеет. А что я могу поделать, я, может, и мот, и транжира, но, получая раз в неделю по плитке шоколада… Сами понимаете, дорогой друг, это конец – или почти конец, если только… Мне тут вдруг стукнуло в голову… э-э… может быть, вы могли бы?.. Ну хоть что-нибудь, до вторника… Между нами двумя, знаете ли, хе… хе… хе!.. Так неудобно просить… но нищета и прочее… Нет, право же, Цветрез (однако и обувка у вас, старина, блеск!), право же, если бы вы смогли…
– Тишина! – возопил Мух, перебив Корка, который и не знал, что сидит так близко к коллеге, пока не услышал рядом жеманного говора Цветреза. Все знали, что у Корка нет жены – ни в ссылке, ни больной, вообще никакой нет. Все знали также, что бесконечные его попытки занять денег объясняются не столько бедностью, сколько желанием порисоваться. Наличие ссыльной жены, умирающей в невообразимых мучениях, сообщали его облику – так, во всяком случае, представлялось Корку – нечто романтическое. Не сочувствия жаждал он, но зависти. Кем бы он был без угасающей ссыльной супруги? Просто Корком. И только. Корком для коллег, Корком для себя самого. Четырьмя буквами на двух ногах.
Впрочем, Цветрез, воспользовавшись дымом, уже улизнул от стола. Он сделал несколько грациозных шагов и напоролся на вытянутую ногу Мулжара.
– A-а, чтоб тебя Сатана порол до посинения! – взревел с пола отвратительный голос. – Чтобы черт оторвал твои вонючие ноги, кто бы ты ни был, зараза!
– Бедный старичок Мулжар! Бедный старый боров! – То был уж другой голос, познакомее; следом что-то, похоже, неуправляемо заколыхалось, не издавая, впрочем, ни звука.
Фланнелькот сидел, покусывая нижнюю губу. Он опаздывал на занятия. Собственно, все опаздывали. Но никто, кроме Фланнелькота, по этому поводу не волновался. Фланнелькот знал, что к этой минуте потолок его класса уже посинел от чернил, что маленький кривоногий мальчишка, Кучик, уже катается по полу под партой, судорожно изрыгая дурные слова, из каждой деревянной засады привольно палят рогатки, а зловонные бомбы превращают его класс в тошнотворный ад. Он знал все это и не мог ничего предпринять. И прочие учителя тоже знали это, однако не питали никакого желания предпринять что-либо.
Чей-то голос воззвал из мглы:
– Тишина, господа, слушаем господина Кличбора!
…и следом другой:
– О дьявол, мои зубы! о мои зубы!
…и еще один:
– И хоть бы ему горностаи все время не снились!
…и еще:
– А куда подевались мои золотые часы?
И снова голос Муха:
– Тишина, господа! Тишина, слушаем Кличбора! Вы готовы, милостивый государь?
Мух заглянул в лицо Смерзевота.
Смерзевот произнес в ответ:
– Почему бы… и нет? – со странно долгим промежутком между «почему бы» и «и нет».
И Кличбор приступил к чтению:
Эдикт 1597577361544329621707193
Смерзевоту, Школоначальнику, а также господам, состоящим в штате Профессоров: всем Младшим Учителям, Кураторам и прочим обличенным властию лицам:
В нынешний _____ день_____-го месяца восьмого года Семьдесят седьмого Графа, касательно: Титуса, Властителя Горменгаста – извещение и предупреждение дается всем относительно отношения их, обхождения и манеры поведения, равно как и обращения с вышеупомянутым Графом, каковой стоит ныне на пороге разумного возраста, да запечатлится с должным учетом всего, что подразумевается его происхождением, в сознании Школоначальника, господ, состоящих в штате Профессоров, младших учителей, кураторов и прочих, им подобных, в мере достаточной для того, чтобы оные лица отвлеклись от долга их пред незапамятным законом, определяющим отношение, каковое Смерзевот и проч. строжайшим образом обязаны выказывать, при том, что с семьдесят седьмым Графом обходятся они во всякой частности и во всяком случае так же, как со всяким иным вверенным их попечению отроком, без благоволения и потачки, нижеследующее: что смысл обычая, традиции и служения – и превыше всего, смысл обязанностей, неотделимых от всякой отрасли жизни Замка – должен неизгладимо запечатлеться в рассудке его, равно как и смысл ответственности, коей будет он облечен по достижении совершеннолетия, к каковому времени, при том, что годы развития его протекли средь юной замковой сволочи наинизшего разбора, 77-й Граф обретет, как тому и быть надлежит, искусность разумения, проникновение в человеческую природу, соответственную телесную крепость, но в добавление к оным и ученость, коей объем зависит от тех усилий, каковые Вы, Школоначальник, и Вы, господа из Профессорского состава, к тому приложите, что и является святой Вашей обязанностью, не говоря уж о привилегиях и чести, с нею сопряженных.
Все это, господа и милостивые государи, является или должно являться хорошо Вам известным, однако, поскольку 77-й Граф пребывает ныне в возрасте восьми лет, я, как Распорядитель Ритуала и проч., и проч., каковое положение наделяет меня правом в любую минуту являться в любой класс по собственному моему усмотрению, дабы ознакомиться с методами, коими Вы внушаете юношеству многоразличные знания Ваши, уделяя особливое внимание воздействию оных методов на развитие юного Графа, счел необходимым вновь напомнить Вам об ответственности, на Вас возложенной.
Милостивый государь Смерзевот, я желал бы, чтобы Вы внушили преподавателям понятие о величии служения их, и, в частности…
Тут Кличбор, челюсть которого вдруг обратилась в добела раскаленную наковальню, отбросил свиток и пал на колени, издав страдальческий вопль, пробудивший Смерзевота настолько, что ему удалось разлепить оба глаза.
– Это кто? – спросил он у Муха.
– Да Кличбор мается, – ответил карлик. – Можно я дочитаю?
– Почему бы и нет? – сказал Смерзевот.
Документ передал Муху Фланнелькот, разволновавшийся к этому времени до того, что ему стало невмочь усидеть на пепле: он уже видел, как Баркентин входит в его класс, видел, как гнусные глазки одноногой отвратности впиваются в чернила, так и стекающие с обитых кожею стен.
Мух выхватил бумагу из руки Фланнелькота и после упреждающего свиста, произведенного им с помощью соплеменных усилий пальцев, губ и трахеи, продолжил чтение. Свист получился таким пронзительным, что развалившиеся в разнообразных позах Профессора распрямились и сели, как один человек.
Мух читал быстро, слово слипалось у него со словом, и потому он прикончил эдикт Баркентина почти на одном дыхании:
…внушили преподавателям понятие о величии их служения, и, в частности, внушили оное тем из них, кто смешивает ритуальную возвышенность служения своего с заурядной привычкой, уподобляясь предосудительным подлипалам, приставшим к скале Замка, или же пакостной повители, дыханье его удушающей.
Подписано от имени и по поручению Баркентина, Распорядителя Ритуала, Хранителя Обрядов и наследственного попечителя рукописей
Стирпайком (Личным Секретарем).
Кто-то зажег лампу. Толку от нее, стоящей на столе, было всего ничего, но хотя бы грудь чучела баклана она осветила – правда, тускло. Нечто постыдное чудилось в необходимости зажигать ее в летний полдень.
– Если и есть на свете предосудительный подлипала, удушенный повителью, так это вы, друг мой, – сказал Перч-Призм Кличбору. – Вы сознаете, что весь этот документ обращен непосредственно к вам? Для старика вы слишком далеко зашли. Что вы станете делать, когда вас выставят, дружище? Куда пойдете? Есть на свете хоть кто-то любящий вас?
– А, будь оно все проклято! – заорал Кличбор с такой безудержной силой, что даже Смерзевот улыбнулся. То была, возможно, бледнейшая, легчайшая из улыбок, когда-либо оживлявшая на миг нижнюю половину человеческого лица. Глаза в ней участия не принимали. Глаза остались холодными, как блюдечки с молоком; лишь один из краешков рта приподнялся, как могла бы приподняться ледяная губа форели.
– Господин… Мух… – произнес Школоначальник голосом отсутствующим, как бы призраком уже угасшей улыбки. – Господин… Мух, …вирус… вы… этакий, где… вы?
– Сударь? – отозвался Мух.
– Это… был, …Кличбор?
– Он самый, сударь, – ответил Мух.
– И… как… он… в… последнее… время?
– Боли мучают, – сказал Мух.
– Сильные… боли?..
– Желаете, чтобы я выяснил, сударь?
– Почему… бы… и… нет?..
– Кличбор! – крикнул Мух.
– Что, черт бы вас взял? – откликнулся Кличбор.
– Начальник интересуется вашим здоровьем.
– Моим? – удивился Кличбор.
– Вашим-вашим, – подтвердил Мух.
– Сударь? – переспросил Кличбор, вглядываясь туда, откуда доносился голос.
– Подойдите… поближе… – сказал Смерзевот. – Я… не… вижу… вас… бедный… мой… друг.
– Я вас тоже, сударь.
– Протяните… руку… Кличбор. Нащупали… что-нибудь?..
– Это ваша нога, сударь?
– Это… она, …мой… бедный… друг.
– Да, это она, сударь, – сказал Кличбор.
– Вам… не… здоровится, …мой… бедный… друг?..
– Локализованные боли, сударь.
– Совсем… как… в… прежние… времена…когда… вы… еще… были… честолюбивы… Когда… у… вас… имелись… идеалы, …Кличбор… Мы… тогда… все, …помнится, …возлагали… на… вас… большие… надежды… – Послышался жутковатый смешок, такой могла бы издать овсяная каша.
– Точно так, сударь.
– Кто-нибудь… все… еще… верит… в… вас, …мой… бедный… друг?..
Ответа не последовало.
– Ну… же, …ну… Не вам обижаться на судьбу. Выискивать… недостатки… в… сухом, …увядшем… листе… О… нет, …мой… бедный… Кличбор, …вы… стали… зрелым… человеком… Быть… может, …перезрелым… Как… знать? Мы… все… становимся… со… временем… только… хуже. А… выглядите… вы… все… так… же, …друг… мой?
– Не знаю, – сказал Кличбор.
– Я… устал… – сказал Смерзевот. – Что… я… здесь… делаю? Где… этот… вирус, …господин…Мух?
– Сударь? – мгновенно откликнулся карлик.
– Увези… меня… отсюда. Выкати… в… какое-нибудь… тихое… место, …господин… Мух… В… мягкую… тьму… – Голос его, по-прежнему пустой и невыразительной, но обнаруживший вдруг начатки жизни, возвысился до призрачной трели. – Выкати… меня… – Смерзевот уже кричал. – В… золотистую… пустоту.
– Сию минуту, сударь, – сказал Мух.
На миг показалось, будто в Профессорскую залетели голодные чайки, но то был лишь визг несмазанных колес разворачиваемого кресла. Фланнелькот, покопавшись в двери, отыскал на ней ручку и дверь широко растворилась. В коридоре теплился свет. Сначала на фоне его закружились витки дыма, чуть позже обозначился фантастический силуэт Смерзевота, напоминающий мешок, прилаженный поверх высокого, шаткого кресла, со скрипом выезжавшего из комнаты, походя на ожившие высокие козлы.
Визг колес стих в отдалении.
Прошло какое-то время, прежде чем тишина нарушилась. Никто из присутствующих не слышал прежде, чтобы Школоначальник кричал на такой высокой ноте. Она окатила их холодной дрожью. Никто, опять-таки, никогда не слышал, чтобы он говорил так долго и так загадочно. Страшно было подумать, что в нем кроется не одно лишь ничтожество, к которому все они давно попривыкли. Однако, в конце концов, голос Корка прервал задумчивое молчание.
– Вот сказанул, так сказанул, – произнес Корк.
– Да уж, удивил, клянусь всеми печалями, – поддержал его Перч-Призм.
– Интересно, а сколько сейчас времени? – проскулил Фланнелькот.
Кто-то разжег в камине огонь, использовав для растопки несколько оброненных Фланнелькотом да так и не собранных с полу тетрадей. Поверх них пристроили глобус, изготовленный из какого-то легкого дерева, и через пару минут он уже озарился, и континенты посыпались с него, и запузырился океан. Нацарапанная мелком на его цветной поверхности памятка о необходимости выпороть Хитрована ушла в небытие вместе с наказанием, ожидавшим мальчишку, поскольку Мулжар о нем так и не вспомнил, а Хитрован напомнить не потрудился.
– Подумать только! – сказал Цветрез. – Да если подсознание нашего Начальника не обладает самосознанием, можете называть меня полной бестолочью, ага! …полной бестолочью! Это ж надо, а?
– Сколько времени, господа? Ну, пожалуйста, господа, который теперь час? – взмолился Фланнелькот, собиравший с пола тетрадки. Все происшедшее так подействовало на его нервы, что подбираемые тетради то и дело вываливались из рук и снова падали на пол.
Господин Сморчикк вытянул одну из огня и, держа за еще не обгоревший угол, помахал ею перед часами.
– На сорок минут опоздали, – сообщил он. – Теперь уж и не стоит… или стоит? Лично я, пожалуй, все-таки…
– Ага, и я! – вскричал Цветрез. – Гели у меня в классе нет сейчас ни пожара, ни наводнения, можете называть меня безмозглым ослом, ага!
Должно быть, та же мысль забрела в головы большинства присутствующих, поскольку все они устремились к двери. Один лишь Опус Трематод остался лежать в своем ветхом кресле, уставя батонообразный подбородок в потолок, закрыв глаза и растянув кожистый рот в гримасе настолько же неосмысленной, насколько и томной. Несколько мгновений спустя, сухой посвист дюжины веющих, обметающих стены коридора мантий предзнаменовал поворот дюжины дверных ручек и появление Профессоров Горменгаста в их классах.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Облачный покров, растянувшийся от горизонта до горизонта, обездвижил под собою воздух, как будто земля и небо так крепко приникли друг к другу, что совсем лишились дыхания. Под створожившимся чревом этого слитного свода воздух, в котором по некоей странной причуде света чуялось нечто подводное, казалось, отпрядывал от костлявой спины Горменгаста в объемах достаточных, чтобы встревожить цапель, стоявших, подрагивая и наполовину утопая в облаках, на давно позабытой, мощеной камнем террасе.
Ведшая к этой мостовой каменная же лестница затерялась под столетними, все погружающими в забвение плющами, ползучими побегами и сорными травами. Ни один живой человек никогда не ступал на гигантский ковер черного мха, покрывший мостовую, ни один не бродил вдоль ее обставленных стрельницами краев, там, где обитали цапли и ссорились галки да поочередно вершили свой грабеж солнечные лучи, и ветра, и дождь, и иней, и снег.
Некогда на эту террасу глядел переплет огромного створного окна. Он исчез. Ни битого стекла, ни железа, ни сгнившего дерева видно нигде не было. Быть может, под мхом и ползучими растениями крылись другие, более глубокие слои поросли, истлевшей от собственной древности; однако высокое окно уцелело, оберегая полую тьму лежащей за ним залы. Оно стояло, распахнув голый зев, в самой середине внутренней кромки мощенной террасы. По обе стороны от этой пещерной пасти были на изрядном расстоянии одно от другого пробиты в камне грубые дыры, служившие некогда добавочными окнами. Саму же залу обжили важные цапли – в ней они вскармливали и растили свой молодняк. Больше всего было здесь цапель серых, но имелись также альковы и ниши, в которых по освященному веками обычаю ютились и белые цапли, и выпи.
Пол этой залы, по которому когда-то в давно позабытый такт давно позабытой музыки плавно ступали, застывая и кружа один вкруг другого, влюбленные прошлых времен, – пол залы устилали теперь известково-белые прутья и веточки. Порою заходящее солнце, сползая к горизонту, забрасывало сюда косые лучи, и они скользили между неряшливых гнезд, и белые переплетенные прутья вспыхивали на полу, точно лепрозные кораллы, и там и сям (если дело происходило весной) сияло, как самоцветный камень, бледное голубовато-зеленое яйцо, или птенцы тянули из гнезд длинные шеи к окну, и тощие, припудренные пушком тельца их, освещенные западным солнцем, выступали из темноты, будто актеры на сцене.
Лучи позднего солнца ползли по неровному полу, выхватывая из мрака длинные, глянцевитые перья на шее цапли, стоявшей у разрушенного камина, затем что-то белело: это вспыхивал в тенях лоб ближней к цапле птицы… а затем, когда свет прорезал всю залу, в нем начинал вдруг плясать альков, полный всевозможных полосок, и пятен, и выпьей охряной желтизны.
Падали сумерки, каменные стены сочились зеленоватым светом. Далеко – над кровлями, над внешней стеной Горменгаста, над болотами и пустошами, над рекой и предгорьями с их лесами и рощами, над дальней дымкой неразличимых отсюда земель встала, поблескивая, как нефритовое изваяние, схожая с когтем вершина Горы Горменгаст. Зеленоватый свет нарушил оцепенение цапель, и из глубины залы понесся странный, стрекочущий, щелкающий щебет птенцов, видевших, что тьма сгущается, и понимавших, что для родителей наступает время охоты.
Какая бы сутолока ни царила в цаплятнике с его сводчатым потолком, некогда золотым и зеленым от росписей, ныне же темным, разрушающимся, покрытым хлопьями краски, свисающими, будто иссохшие крылья ночниц, а все же каждая птица, выходя из залы наружу, выглядела отдельным существом – каждая цапля, каждая выпь: отшельницей, важно выступающей на тонких ножках-ходулях.
Окунувшись в сумрак и словно бы выбив некую полую ноту, сладко отозвавшуюся у них в груди, они взвиваются в воздух – горстка цапель, отогнувших назад плавные шеи; большие, закругленные крылья их вздымаются и опадают в неторопливом полете; за ними взлетает другая, следом еще одна, а следом – ночная цапля, которая каркает так страшно, что волосы дыбом встают на голове, каркает жутче неземного буханья четы выпей, парящих, спирально возносясь в облака, высоко поднимаясь над Горменгастом, взревывая бычьими голосами.
Терраса широко разлеглась в зеленоватой мгле. Зияют окна, но все, что движется на ней, одето в перья. Да за сотни лет ничто и не двигалось здесь, кроме ветра, градин, туч, дождинок и птиц.
Раскинувшиеся под зеленоватым когтем Горы Горменгаст болотистые просторы обращаются вдруг в просторы тревоги и бдения.
Птицы неподвижно стоят – каждая на своем наследственном участке воды – глаза их поблескивают, головы отведены назад, готовые нанести кинжальными клювами разящий удар. Внезапно, в одно дыхание, клюв ныряет в темную воду и выдергивается из нее – и на смертоносном острие его бьется рыба. Еще миг – и цапля снимается, и уплывает по воздуху в царственном, важном полете.
Ночь долга, и время от времени птицы возвращаются домой – иногда с лягушками или водяными крысам в клювах, или с тритонами, или с бутончиками кувшинок.
Но сейчас терраса пуста. Все цапли на болотах, каждая на своем месте, каждая готова вонзить свой кинжал в воду. В птенячьей зале на миг воцаряется удивительная тишина.
Мертвенность воздуха между землей и облаками кажется странно зловещей. На всем играет зеленоватый полусвет. Он прокрался и в отверстую пасть залы, туда, где воцарилось молчание.
Тогда-то и появляется ребенок. Мальчик это, девочка или эльф – понять не хватает времени. Впрочем, изящная соразмерность тела – определенно детская, детская же и только детская – живость движений. На краткое мгновенье дитя замирает на башенке, торчащей на дальнем краю террасы, затем исчезает из виду, оставив лишь впечатление существа, переполненного жизнью, тонкого, как ореховый хлыст. Существо это соскакивает (ибо движение, им совершенное, – скорее соскок, чем прыжок или шаг) в темень под башенкой, исчезая почти так же стремительно, как появилось, но в самый миг его призрачного появления зефир пробивается сквозь стену мертвого воздуха и бежит – беззаботным, неприрученным существом, по иссохшему, сухопарому спинному хребту Горменгаста. Поиграв немного с флагами, он несется, виляя, под арками, с проказливым свистом кружит в пустых башнях и трубах и, наконец, снырнув в зубчатую трещину на пятиугольной крыше, попадает в общество суровых портретов – сотен рассеченных паутиной коричневатых лиц, – обнаруживает, что его затягивает в решетку на каменном полу, и, махнув на все рукой, смирясь перед законом тяготения и голубоватым трепетанием нисходящих потоков, поет, пролетая последние семь этажей, врывается в зал сизоватого света и захлестывает воздушным арканом Титуса.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Старый, старый старик, в чьих метафизических сетях столь бесповоротно увязли трое его учеников, Пикзлак, Вроет и Шплинт, наклонялся вперед так далеко, словно рука его лежала на призрачном набалдашнике незримой трости. Диво еще, что он не падал и носа не расшибал.
– На этом месте в коридоре всегда сквозит, – сказал он. Белые волосы его свисали с плеч вперед. Он хлопнул себя ладонями по бокам и снова уложил их одну на другую в той точке пространства, где мог бы находиться набалдашник. – А всякий сквозняк губит человека – уничтожает его – обращает в тень – бросает его на поживу волкам – вколачивает еще один гвоздь в крышку его гроба.
Протянув длинную руку, он поддернул толстые носки, в которые были заправлены штанины его брюк, потопал, распрямился, снова согнулся вдвое и окинул коридор неприязненным взглядом.
– Дрянное, продувное место. Причем безо всякой на то причины. Погибель человеческая, – сказал он. – И все же, – он тряхнул белыми локонами, – это, в сущности говоря, неверно. Я не верю в сквозняки. Не верю в простуду. Я вообще ни во что не верю, ха-ха-ха-ха-ха! К примеру сказать, я и с вами не могу согласиться, не приемлю, знаете ли.
Его собеседник, молодой человек с длинными впалыми щеками, дернул головой, словно увидев наставленное на него дуло ружья. Затем приподнял брови, как бы говоря: «Продолжайте…», – однако старик молчал. Тогда молодой человек возвысил свой ровный, бесцветный голос, как бы норовя пробудить мертвеца…
– Что значит, сударь, – вы не можете со мной согласиться?
– Просто-напросто не могу, – ответил старик, сгибаясь еще ниже и сцепляя перед собою ладони, – не могу, и все тут.
Молодой человек выпятил подбородок и вернул брови на место.
– Но я, знаете ли, еще ничего не сказал: мы с вами познакомились всего минуту назад.
– Возможно, вы правы, – ответил, поглаживая бороду, старик. – Вполне может быть, что вы правы, впрочем, наверное сказать не могу.
– Но говорю же вам, что я еще ничего не сказал! – Бесцветный голос прозвучал громче, глаза молодого человека приложили массу усилий, стараясь вспыхнуть, но то ли трут оказался сырым, то ли тяга слабоватой, да только ничего в глазах не затеплилось.
– Я ничего не сказал! – повторил он.
– А, вы об этом! – сказал старик. – Да оно мне и ни к чему. – Он издал низкий, чрезвычайно неприятный смешок умудренного всепониманием человека. – Я просто-напросто ничего не приемлю, вообще ничего. Возьмем, к примеру ваше лицо. Неправильное лицо – как, впрочем, и все остальное. Жизнь удивительно проста, если смотреть на нее с этой точки зрения – ха-ха-ха-ха!
Негромкое, утробное удовольствие, сообщаемое старику его отношением к жизни, показалось молодому человеку безобразным, и он, вопреки своей природе – меланхоличности, невыразительному лицу, пустому голосу, тусклым глазам – осерчал.
– А л не приемлю вас! – выкрикнул он. – Я не приемлю нелепый угол, под которым вы сгибаете ваше полумертвое, только для живодерни и пригодное тело. Не приемлю вашей белой бороды, свисающей с подбородка, точно грязная морская трава… Не приемлю ваших крошащихся зубов… Не…
Старик был в восторге: утробное клохтанье его все длилось, длилось…
– Так ведь и я тоже, молодой человек, – просипел он. – И я тоже. Тоже ничего этого не приемлю. Видите ли, я не приемлю даже того, что нахожусь сейчас здесь, а если б и принимал, то не принял бы долженствования этого. Все до смешного просто.
– Вы просто пытаетесь быть циником! – воскликнул молодой человек. – Только и всего!
– О нет, – сказал коротконогий старик. – Я никаких таких быть не приемлю тоже. Если бы только люди отказались от стараний быть чем бы то ни было! Да и чем они могут быть, в конце-то концов, помимо того, чем уже являются – или являлись бы, если б я принял за факт, что они хоть что-то собой представляют?
– Мерзость! мерзость! МЕРЗОСТЬ! – завопил впалощекий молодой человек. Угнетенные страсти его после тридцати проведенных в нерешительности лет нашли, наконец, выход. – Довольно, мы и так уже слишком долго провалялись в могиле, старая вы скотина, это там хорошо и правильно быть ничем – холодным и конченным. Но разве жизнь такова? Нет! нет! будем гореть! – вскрикивал молодой человек. – Сожжем нашу кровь на высоком костре жизни!
Однако старый философ ответил:
– Могила, молодой человек, вовсе не такова, какой вы ее себе представляете. Вы оскорбляете мертвых, молодой человек. Каждое ваше бездумное слово пятнает чью-то гробницу, уродует усыпальницу, возмущает грубым топотом покой смиренного могильного холма. Ибо смерть есть жизнь. Живо лишь то, что безжизненно. Разве не видели вы, как в сумерках спускаются к нам с холмов ангелы вечности? Еще не видели?
– Нет, – ответил молодой человек, – не видел!
Бородатый философ согнулся пониже и уставился на молодого человека.
– Как, вы ни разу не видели ангелов вечности с большими, как одеяла, крылами!
– Не видел, – ответил молодой человек, – и видеть не хочу.
– Для невежды не существует глубин, – продолжал брадатый старец. – Вы назвали меня циником. А как я могу им быть? – я ничто. В большом содержится малое. Но я вам вот что скажу: пусть Горменгаст – бессодержательный образ, пусть зеленые дерева, переполненные жизнью, переполнены на самом деле отсутствием оной, – но когда апрельский агнец поймет, что быть ничем – это больше, а не меньше, чем быть апрельским агнцем, – когда все это станет известным и признанным, тогда, о вот тогда… – Теперь он поглаживал бороду быстро-быстро. – …тогда вы приблизитесь к рубежам изумительного царства Смерти, где всякое движение совершается вдвое быстрее, где краски вдвое ярче, любовь великолепней вдвойне, а грех вдвойне пикантен. Кто, кроме человека дважды близорукого, не способен увидеть, что только в Потусторонности хоть что-то способно обрести Приемлемость? А здесь, здесь… – Он развел ладони, как бы отвергая земной мир. – Что есть приемлемого здесь? Здесь нет ощущений, никаких.
– Страдание и счастье, – сказал молодой человек.
– Нет-нет-нет. Чистой воды иллюзия, – возразил старец. – Вот в изумительном царстве Смерти Счастье безгранично. В сравнении с ним даже длящиеся месяц напролет танцы среди небесных лугов – ничто, решительное ничто. И пение человека, летящего верхом на огненном орле… пение из довольства сердца своего.
– А как насчет страдания? – спросил молодой человек.
– Люди изобрели идею страдания, дабы упиваться жалостью к себе, – прозвучало в ответ. – Но Истинное Страдание, которое мы узнаем в Потусторонности, – вот это штука стоящая. В том Царстве даже обжечь себе пальчик – значит пережить многое.
– А что будет, если я подожгу твою белую бороду, старый мошенник! – заорал молодой человек, зашибший в тот день ногу и так узнавший цену земным невзгодам.
– Что будет, если вы ее подожжете, дитя мое?
– Огонь истерзает твой подбородок, и ты хорошо это знаешь! – воскликнул юноша.
Презрительная улыбка, заигравшая на губах теоретика, оказалась для его собеседника непереносимой, и он, не сумев обуздать себя, схватил ближайшую свечу и подпалил бороду, мотавшуюся перед ним с вызывающим видом. Борода занялась быстро, сообщив ужасу и изумлению, обозначившимся на лице старика, нереальный, театральный оттенок, изобличавший самое что ни на есть истинное, пусть оно и было земным, страдание, что пронзило несчастного, когда он ощутил сперва в подбородке, а там и в щеках, жгучую боль.
Жуткий, визгливый вопль вырвался из его старого горла, и коридор мгновенно заполнили люди, точно они только и ждали за кулисами сигнала, чтобы выскочить на сцену. Голову и плечи старика окутали сюртуками и куртками, пламя сбили, но к этому времени нервный молодой человек со впалыми щеками уже успел куда-то удрать, и больше о нем никто никогда не слышал.
ПИКЗЛАК, ВРОСТ И ШПЛИНТ
Старика отнесли в его комнату, похожую на темно-красный ящичек: без ковра на полу, но с картинкой над камином, на которой сидела на лютике фея, рисуясь на фоне очень синего неба. Спустя три дня старик пришел в себя – но лишь затем, чтобы скончаться от потрясения через миг после того, как припомнил, что с ним случилось.
Среди присутствовавших в красной комнатке при кончине были и трое друзей старого обгоревшего педагога.
Они стояли в рядок, чуть ссутулясь, поскольку потолки в комнатке были низкие. Стояли в ненужной близости друг к другу, так что при легчайшем движении их голов старые, черной кожи академические шапочки соударялись, некрасиво съезжая набок.
И все-таки то была трогательная минута. Они чувствовали, что великий источник вдохновения уходит от них. Перед ними лежал, умирая, учитель. До конца оставшись его учениками, они столь безоговорочно верили в небытность телесных чувств, что когда учитель скончался, что еще оставалось им делать, как не оплакивать исток веры, навсегда их покинувший?
Головы троицы, накрытые черными кожаными шапочками, вытесняли ни в чем не повинный воздух с такой беспощадностью, будто лбы их, носы и подбородки принадлежали носовым фигурам кораблей, рассекающих незримые воды. Только ниспадавшие мантии, кожаные шапочки да кисточки, свисавшие с оных наподобие сероватых соплей, болтающихся под индюшачьим клювом, – вот и все, что было в них общего.
Пообок смертного одра находился низенький столик. Маленькая призма стояла на нем и бутылка из-под бренди с воткнутой в нее зажженной свечей. Только она и освещала комнатку, и все же красные стены полыхали безрадостным блеском. Головы трех Профессоров, примерно одинаково возвышавшиеся над полом, выглядели столь несхоже, что всякий, увидевший их, невольно задавался вопросом, к одному ли биологическому виду принадлежат их владельцы. Когда взгляд перебегал с одного из этих лиц на другое, возникало ощущение, какое испытывает ладонь, перескальзывая со стекла на наждак, а с наждака – на овсяную кашу. Наждачное лицо не представлялось ни более, ни менее интересным, чем стеклянное, но по его поверхности взгляду приходилось скользить замедленно – поросль, его покрывавшая, выглядела настолько грубой, рытвины, выходы костных пород, забитые всяким сором лощины и тернистые пустоши сулили такие опасности, что оставалось лишь дивиться, как взгляду вообще удается добраться с одного его конца до другого.
И напротив, попав на лицо стеклянистое, взгляду приходилось потрудиться, чтобы не соскользнуть с него.
Что до лица третьего, оно не было ни прискорбно скользким, ни неровным от бугристых оврагов и ползучих растений. Однако и пересечь его одним махом было так же невозможно, как неторопливо пройтись по стеклянной поверхности.
Это лицо надлежало медленно переходить вброд. Оно было мокрым. Всегда. Оно проступало из-под воды. Так что взгляд, надумавший спокойно прогуляться по всем трем лицам, ожидали испытания тяжкие, непривычные – скалы и мелколесье, скользкий лед и трудное плавание.
За Профессорами лежали на красных стенах их тени, почти вполовину такие же рослые, как они сами.
Стеклянный (профессор Пикзлак) склонил главу над телом покойного учителя. Лицо Профессора словно светилось снутри сумрачным светом. Ничего одухотворенного не заключалось в блеске его. Жесткий стеклянный нос был длинен и необычайно остр. Сказать, что Профессор был чисто выбрит, значило б не дать ни малейшего представления о покрове его лица, сквозь который волосу было пробиться не легче, чем травинке пронизать ледник.
Вслед за ним и профессор Вроет также склонил главу, и черты лица его размылись, слившись с основной массой головы. Глаза, нос, рот выглядели всего лишь покрытыми влагой припухлостями.
Что касается Профессора третьего, Шплинта, то, когда он, по примеру коллег, свесил голову над освещенным свечою телом, зрелище получилось такое, будто скалистый дикий ландшафт сам собой изменил вдруг угол, под которым он располагался в пространстве. Сорвись с него на белеющие под свечой простыни смертного ложа клубок змей или стая попугаев – это показалось бы только естественным.
Спустя недолгое время Пикзлак, Вроет и джунглеголовый Шплинт утомились молча стоять со склоненными головами над телом наставника, представлявшим, что там ни говори, не больно-то приятное зрелище даже для самых преданных учеников, – и выпрямились.
Атмосфера красной комнатки становилась гнетущей. Свеча в бутылке от бренди почти уже догорела. Еще различавшаяся над камином фея на лютике самодовольно улыбалась в раскачливом свете. Пора было уходить.
Да и что могли они сделать? Учитель умер.
И молвил Вроет, мокролицый:
– Вот квинтэссенция печали, Пикзлак.
И молвил Пикзлак, скользкоглавый:
– Вы слишком грубы, мой друг. Неужели нет в вас ни грана поэзии? Ведь сосульки Смерти пронзают его в сей миг.
– Чушь, – угрюмо и резко прошелестел Шплинт. Вообще-то, несмотря на его тропическую физиономию, человеком он был на редкость мягким, однако выходил из себя, если замечал, что коллеги, превосходившие его блеском ума, начинают выставляться друг перед другом. – Чушь. Не было ни квинтэссенции, ни сосулек. Был самый обычный огонь. Конечно, смерть жестокая, что говорить. И все же… – Шплинта вдруг охватило такое волнение, что глаза его стали едва ль не безумными, впервые за многие годы доказав, что они не зря занимают место на этом лице. – …и все же, послушайте! Он был человеком, не верившим в страдание, не признававшим огня! И теперь, когда он мертв, я вам скажу кое-что… Ведь он же мертв, не так ли?..
Шплинт торопливо окинул взглядом простертое тело. Страшно подумать, что произойдет, если старик все это время слушал их разговор. Двое других тоже склонились к трупу. Мертв, разумеется, хоть в колеблющемся свете и казалось, будто черты изгрызенного огнем лица жутковато движутся. Профессор Шплинт натянул простыню на голову мертвеца и повернулся к коллегам.
– Ну так что же? – спросил Пикзлак. – Поторопитесь!
Стеклянный нос его вспорол сумрачный воздух, когда он дернул головой в сторону корявого Шплинта.
– А то, Пикзлак. То самое, – откликнулся Шплинт. Взгляд его все еще сверкал. Он со скрипом поскреб подбородок и на шаг отступил от кровати. И поднял обе руки. – Слушайте, друзья. Когда я три недели назад сверзился с девяти ступенек и прикидывался, будто не чувствую боли, я ее чувствовал, признаюсь, – да еще какую! А теперь! Теперь, когда он умер, я упиваюсь этим признанием, потому что больше я не боюсь. И говорю вам – вам обоим, открыто и гордо, что жду не дождусь следующей передряги в этом же роде, сколь бы серьезной она ни оказалась, потому что мне больше ничего не придется скрывать. Я буду орать на весь Горменгаст: «Ой, как мне больно!» – и когда мои глаза наполнятся слезами, то будут слезы радости и облегчения, а не боли. Братья! коллеги! Неужто вы не понимаете?
Обуянный восторгом Шплинт шагнул вперед, уронил руки, которые так и продержал поднятыми все это время (и в них тут же вцепились коллеги, оказавшиеся по сторонам от него). О, какое ощущение дружества, какой разряд честного дружества, пронизал, подобно электричеству, шесть их ладоней!
Нужны ли им были слова? Они отвратились от прежней веры. Профессор Шплинт все уже сказал – за троих. Трусость (ибо пока старик был жив, никто из них не смел выразить и малейшее сомнение) сплотила их теснее, чем могло бы сплотить мужество.
– Насчет квинтэссенции печали – это я хватанул через край, – признал Вроет. – Я только потому так сказал, что он, как-никак, умер, а мы по-своему любили его – ну и потом, мне нравится, знаете ли, сказать порой что-нибудь этакое, заковыристое. И всегда нравилось. Однако на сей раз я переборщил.
– Да и я с моими «сосульками Смерти», пожалуй, тоже, – с некоторым высокомерием сообщил Пикзлак. – Впрочем, сказано было недурственно.
– Хоть и немного не к месту, поскольку он все же обжегся до смерти, – отозвался Вроет, не видевший причины, по которой Пикзлаку не следовало с такой же бесповоротностью отречься от сказанного им, с какой отрекся он сам.
– Как бы там ни было, – сказал Шплинт, обнаруживший, что сегодня ему выпала главная роль, достававшаяся обычно Пикзлаку, – мы свободны. Идеалы наши погибли. Мы уверовали в страдание. В жизнь. Во все то, чего по его утверждению, не существует.
Пикзлак, на стеклянном носу которого играл свет оплывшей свечи, приосанился и кичливым тоном осведомился у коллег, не кажется ли им, что было бы тактичнее беседовать об отказе от Верований покойного их учителя где-нибудь подальше от его бренных останков. Хотя он, конечно, не может их слышать, ему бы это определенно не пришлось по душе.
Они немедля покинули красную комнатку, и едва за ними захлопнулась дверь, пламя свечи, на краткий миг взвившись в краснеющий воздух, пало в чашечку жидкого воска и погасло. И красный ящичек обратился – это уж кому как больше понравится – либо в ящичек черный, либо в кусок пугающего, не поддающегося осмыслению пространства.
Стоило им выйти из комнаты покойника, и странная веселость запела в них.
– Вы правы, Шплинт, дорогой мой… вы совершенно правы. Мы свободны, тут не в чем и сомневаться. – Голос Пикзлака, высокий, резкий преподавательский голос звучал так жизнерадостно, что его сообщники невольно обернулись к нему.
– Я знал – под всем, что в вас есть наносного, кроется сердце, – хрипло откликнулся Вроет. – Я чувствую то же, что вы.
– Нам больше не нужно ждать появления Ангелов! – грянул во весь голос Шплинт.
– Не нужно больше с нетерпением дожидаться Окончания Жизни, – пророкотал Вроет.
– Вперед, друзья, – забыв о своем высоком достоинстве, пронзительно взвизгнул стеклянноликий Пикзлак, – начнем жить заново! – И, ухватив друзей за плечи, он быстро повлек их по коридору, высоко подняв голову – так, что академическая шапочка залихватски съехала набок. Три мантии, когда они ускорили шаг, заструились следом, три кисточки полетели по воздуху. Сворачивая то туда, то сюда, чуть ли не скользя над землей, они пронизывали артерии холодного камня, пока вдруг, выскочив на южной стороне Горменгаста под солнечный свет, не увидели перед собой омытый солнцем простор, предгорья в окаеме высоких деревьев, саму Гору, сверкающую в густой синеве неба. И вмиг воспоминания о том, что они видели в комнатке покойного наставника, улетучились из их голов.
– О роскошь! – восклицали они. – О вечная роскошь!
Рука в руке, трое получивших вольную Профессоров, припустились бегом, потом перешли на галоп, скачками пересекая золотистый ландшафт, а черные мантии их развевались по воздуху, и тени скакали бок о бок с ними.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Как раз на уроке Кличбора (день уже близился к концу) Титус впервые сознательно задумался об идее цвета: о том, что всякая вещь окрашена, всякая обладает собственным цветом, и о том, как этот цвет меняется в зависимости от местоположения вещи, освещения и ближайшего ее соседства.
Кличбор наполовину спал и большинство мальчиков тоже. В жарком воздухе класса реяли золотые пылинки. Однообразно тикали большие часы. Большая падальная муха лениво зудела на горячем оконном стекле или погуживала, как цитра, перебираясь с парты на парту. Всякий раз, как муха пролетала мимо какой-либо из них, перепачканные в чернилах ладошки норовили сцапать ее, линейки рассекали усталый воздух. По временам муха ненадолго присаживалась на край чернильницы или сзади на чей-нибудь воротник и, будто косарь, одновременно помахивала обеими передними лапками, потом задними, потирая одну о другую, помахивала, потирала, совсем как дама, когда, отправляясь на бал, натягивает она пару длинных, невидимых перчаток.
Ах, муха, муха, горько придется тебе на балу! Никто не станцует там лучше тебя, но все станут тебя сторониться – слишком оригинальной покажешься ты им, ибо опередила ты свое время. Другие дамы, не смогут они повторить коленца твои. Никто не сможет блеснуть, как ты, индиговым цветом чела иль крыла – но, синяя муха, никто и не захочет блеснуть. Вот какая ждет тебя злая беда. Не для тебя, о муха, гудение их бесед. Тебе ведь неведомы ни скандалы их, ни светские сплетни, ни лесть, ни привычные всем словечки – все безнадежно, муха, только и останется тебе, что подтягивать длинные перчатки. И то сказать, твой блеск отзывает ужасом. Держись же своих чернильниц и жарких оконных стекол, зуди себе во весь долгий летний семестр. И пусть тиканье огромных часов аккомпанирует твоему пению. Пусть свист березовой розги, глухие шлепки шариков из жеванной бумаги да заговорщицкий шепоток будут вечными спутниками твоими.
Созерцая одно поколение школьников за другим, жужжи, синяя муха, жужжи в их летних тюрьмах – ибо школьникам скучно. Тикайте, тикайте, часы! Юному Скарабею не терпится сразиться в «Колотушку», юный Песоко сгорает от желания взглянуть на своих выпрядающих нити тутовых шелкопрядов, Юпитер-младший нашел недавно гнездышко ржанки. Тикайте, тикайте, часы!
Шестьдесят секунд в минуте; шестьдесят минут в часе; шестьдесят раз по шестьдесят.
Умножаем шесть на шесть, а сколько нужно нулей добавить? По-моему, два. Шесть на шесть будет тридцать шесть. Тридцать шесть с двумя нулями – получается 3600. Три тысячи шестьсот секунд в каждом часе. Четверть часа осталась до тутовых шелкопрядов – до «Колотушки» – до гнездышка ржанки. Жужжи, жужжи, муха! Тикайте, тикайте, часы! Разделить 3600 на четыре и отнять немного, потому что на эту работу тоже уйдет время.
Девятьсот секунд! О, прекрасно! прекрасно! Секунды так малы. Одна – две – три – четыре – секунды так огромны.
Пальцы в чернилах ерошат вихор на лбу – классная доска обратилась в серое пятно. Один за другим, как в эфирной перспективе, различаются три последних урока. Туман забытых цифр, забытых карт, забытых языков.
Но пока дремал Кличбор – пока Песоко вырезал что-то на парте – пока тикали часы – пока жужжала муха – пока классная комната плыла сквозь медового цвета млечный путь пылинок – юный Титус (весь в чернилах, как и остальные, сонный, как остальные, он прислонился затылком к теплой стене, поскольку парта его стояла вплотную к ее коже) начал понемногу прислушиваться к ходу своих мыслей, поначалу лениво, рассеянно, без особого интереса: то была первая цепочка мыслей, какую он потрудился проследить достаточно далеко. С какой ленцой образы отделялись один от другого или прилеплялись на миг к ткани его сознания!
Титуса стало охватывать дремотное любопытство, вызванное не самой их последовательностью, но той легкостью, с какой мысли и картины способны следовать одна за другой. И первым цвет чернил, странно темная, плесенная синева чернил, заполнивших притопленную на краю парты чашечку, побудила его пройтись взглядом по нескольким лежавшим перед ним предметам. Чернила были синими, темными, заплесневелыми, грязноватыми, глубокими, как беспощадные воды ночи: а каковы остальные цвета? Титуса поразило их богатство, разнообразие. Прежде он видел в покрытых отпечатками пальцев учебниках лишь нечто, требующее прочтения или, по возможности, непрочтения, нечто такое, в чем можно заблудиться среди множества цифр и карт. Ныне он увидел их цветными прямоугольниками, окрашенными в бледную, выцветшую голубизну или в зелень лавра, с маленьким оконцем, прорезанным в голой белизне первой страницы – туда он печатными буквами вписал свое имя.
Крышка же парты была сепиевой, с золотисто-коричневыми и даже желтыми вкраплениями там, где поверхность ее растрескалась или была прорезана. Ручка Титуса с кончиком, изжеванным до того, что он походил на мокрую ветку со множеством сучьев, мерцала, как рыба, от стального пера всползала по вставочке индиговая синева чернил, столь чистая, некогда зеленая краска, ее покрывавшая, смешивалась понизу с этой синевой, а затем и с белизною пера.
Он даже собственную руку увидел теперь как нечто окрашенное и потом только сообразил, что это – часть его самого: охряный цвет запястья, чернота рукава, а затем… затем он увидел шарик, стеклянный шарик вблизи чернильницы, его спиральные, радужных цветов завитки, сплетающиеся с чистой, холодной белизной стекла – целое богатство. Взяв шарик, Титус пересчитал вьющиеся внутри цветные нити: красная, желтая, зеленая, фиалковая, синяя… белый, хрустальный мир, столь совершенный, облекал их со всех сторон, ясный, холодный и гладкий, тяжелый и скользкий. Как зазвенит он, как треснет со звуком ружейного выстрела, когда столкнется с другим таким же! Когда соскользнет на пол и ударится об него! Треснет, как выстрел, нацеленный в круглый, сверкающий лоб врага! О, красота стеклянных шариков! О, краснота их спиралистых линий! О, матовость тех, что купаются в молоке и крови! О, хрустальные миры, звенящие в карманах, наполняющие их тяжестью!
Как приятно было жарким летним предвечерием, пока Профессор спал за резным столом, осязать эту прохладную, блестящую виноградину! Как чудно ощущать прохладную, скользкую вещицу в своей горячей, липкой ладони! Титус сжал шарик, потом поднес его к свету. Повертел, держа большим и указательным пальцами, и цветные нити закружили одна вкруг другой, уходя и возникая, как витки бесконечной спирали. Красная – желтая – зеленая – фиалковая – синяя… Красная – желтая – зеленая – красная… желтая… красная… красная. Одна оставшись в его сознании, красная нить стала мыслью – окрашенной мыслью, – уведшей Титуса в более ранние послеполуденные часы. Потолок, стены, полы его мысли были красны, мысль облекала его со всех сторон, но скоро стены содвинулись, все поверхности стиснулись, сошлись в точку, размытость, отвлеченность исчезли, оставив после себя капельку крови, влажную, теплую. Сиял, падая на нее, свет. Капелька дрожала на костяшке его кулака – годы назад, в этом самом классе, он в ранний послеполуденный час подрался с одним мальчишкой. При этом воспоминании унылый гнев охватил Титуса. Этот образ, эта блестящая капелька крови светилась такой краснотой – а следом, пронизывая затаенный гнев, замелькали иные чувства, неся с собой приятное возбуждение, уверенность в себе и страх разбрызгать красную жидкость – этот поток баснословного и все же такого реального багреца. Затем бисеринка крови размылась, меняя неясные контуры, и обратилась в сердце… сердце. Титус приложил ладони к своей невеликой груди. Поначалу он ничего не почувствовал, но, подвигав пальцами, услышал двойной удар, и из другого раздела памяти хлынул новый гул: рокот реки в ту ночь, когда он оказался один в камышах и увидел меж их чернильных, толстых, словно канаты, колонн, похожее на битву небо.
Боевые облака что ни миг меняли очертания – они то крались, как краснокожие, по небесной тверди его воображения, то красными рыбами бились над горами, и головы их походили на головы древних карпов, обитающих во рву Горменгаста; тела же волоклись за ними фестонами, подобно лохмотьям или осенней листве. И небо, в котором плавали эти бессчетные, бесконечные твари, обратилось в океан, горы под ним – в коралловые полипы, а солнце – в глаз подводного бога, злобно озирающий океанское дно. Впрочем, вскоре огромный глаз утратил всю свою грозность, став просто шариком в ладони Титуса, ибо к нему по пояс в воде брела, разрастаясь по мере приближения, пока не обступила его и не сломала воображению хребет, ватага пиратов.
Были они высоки, как башни, с огромными лбами, выступающими над глубоко запавшими глазами, подобно выпуклостям нависающих скал. В ушах их болтались обручи из червонного золота, изо ртов, роняя капли, свисали острые, как косы, абордажные сабли. Из красной мглы выходили они, сощурясь от встречного солнца, и вода вкруг их поясов завивалась и закипала от горячего света, отраженного ими – такими огромными, что они заслоняли собою все остальное: но они все надвигались и надвигались, пока разум мальчика не переполнили их блестящие, как проволока, тела и каменные головы. Они надвигались, пока всего и осталось места, что для тлеющей головы центрального буканьера, великого владыки соленых вод, чье лицо покрывали, как мальчишечье колено, сплошь струпья и шрамы, чьи зубы были подпилены так, что походили формой на черепа, шею огибала нататуированная чешуйчатая змея. И пока голова вырастала в размерах, во тьме глазниц ее проступали глаза, а через миг уже ничего не было видно, кроме одного ока, неистового, зловещего. На мгновение глаз застыл, неподвижный. Только он и остался в огромном мире – этот шар. Он сам и был миром – и вдруг завращался, как миру и следует. Он кружил и разбухал, и вскоре остался один наполненный сознанием зрачок, и в этой ночной зенице Титус увидел собственное пытливое отражение. Кто-то приближался к нему из тьмы пиратского зрака, и скоро ржаво-красная точка света над челом близящейся фигуры обратилась в локон, выбившийся из копны материнских волос. Но прежде чем мать приблизилась, лицо и тело ее расплылись и место волос занял рубин Фуксии, подлетающий в темноте, как бы на нити. Затем исчез и он, а за ним – и стеклянный шарик, лежащий в ладони Титуса со всеми его спиралями – желтой, зеленой, фиалковой, синей, красной… желтой… зеленой… фиалковой… синей… желтой… зеленой… фиалковой… желтой… зеленой… желтой… желтой.
И Титус совершенно ясно увидел большой подсолнух на усталой щетинистой шее, который Фуксия таскала с собой последние два дня, однако рука, державшая его, – рука принадлежала не Фуксии. Пальцы ее – указательный и большой – легко сжимали тяжелое растение поближе к цветку, будто оно было хрупчайшей вещью в мире. На каждом пальце поблескивали золотые перстни, отчего ладонь походила на ратную рукавицу из пылающего металла – на часть доспеха.
В следующий миг, скрыв от него рукавицу, туча листьев взвихрилась вокруг Титуса – сонмище желтых листьев, вьющихся, ныряющих, взлетающих, проносясь по бездревесной пустыне, а сверху, с неба, охваченного пожаром, солнце изливало на них, стремительно несущихся, свет. Мир залила желтизна, и Титус уже поплыл в еще более глубокое чрево этого цвета, когда Кличбор вдруг вздрогнул и проснулся, и закутался в мантию, как бог, собирающий бурю, и с тусклым, бессильным хлопком уронил ладонь на поверхность стола. Нелепо благородная голова его поднялась. Надменный, пустой взгляд зацепился, наконец, за юного Песоко.
– Не будет ли с моей стороны чрезмерным нахальством, – помолчав, произнес он с зевком, выставившим напоказ кариозные зубы, – поинтересоваться у вас, что кроется за этой маской чернил и грязи – не некий ли молодой человек, не слишком прилежный молодой человек по прозванью Песоко? Сокрыто ли в этом убогом узле тряпья человечье тело и не принадлежит ли оное все тому же Песоко?
Кличбор еще раз зевнул. Один глаз его глядел на часы, другой, озадаченный, не отрывался от ученика.
– Изложу свой вопрос несколько проще: вы ли это, Песоко? Вы ли сидите во втором, считая спереди, ряду? Вы ли занимаете третью парту слева? И вы ли – если под темно-синим намордником и вправду прячетесь вы – вырезаете нечто несказанно увлекательное на крышке вашей парты? Для того ли я пробудился, чтобы застать вас за этим занятием, молодой человек?
Песоко, мальчик невзрачный, мелкий, немного поерзал.
– Ответьте же мне, Песоко. Вырезали ль вы нечто, полагая, что ваш старый учитель заснул?
– Да, господин, – ответил Песоко на удивление громко – так громко, что и сам испугался и огляделся по сторонам, словно пытаясь понять, кто это сказал.
– И что же вы резали, мой мальчик?
– Мое имя, господин.
– Как, все ваше, столь длинное, имя?
– Я успел вырезать только три первых буквы, господин.
Запеленатый в мантию Кличбор поднялся. С милостивым, царственным видом прошествовал он пыльным проходом к парте Песоко.
– Вы не закончили «С», – сообщил он отсутствующим, траурным тоном. – Закончите «С» и остановитесь на этом. «ОКО» же оставьте для другого урока… – Бессмысленная улыбка вспыхнула и погасла в нижней части лица Кличбора. – Скажем, для урока грамматики, – сказал он вдруг весело, жутковато не соответствующим его характеру голосом. И расхохотался, да так, что, пожалуй, хохот этот мог стать и неуправляемым, но приступ боли прервал его, и Кличбор схватился за челюсть – там, где она вопияла, призывая щипцы зубодера.
Спустя несколько мгновений:
– Встать! – приказал он. Присев за парту Песоко, он взял лежавший на ней перочинный ножик и трудился над «С», завершающим слово «ПЕС», пока звонок не обратил классную комнату в ложе реки, по которому стремительно понесся к двери поток мальчишек, так стремительно, словно они ожидали увидеть за нею воплощения их раздельных мечтаний – когти опасности, рога романтической любви.
ИРМА ЖАЖДЕТ УСТРОИТЬ ПРИЕМ
– Ну хорошо, хорошо, как хочешь! – вскричал Альфред Прюнскваллор. – Как хочешь!
Страстное, радостное отчаяние прозвучало в его голосе. Радостное, потому что решение, пусть и столь неразумное, было наконец, принято. Отчаяние, потому что жить с Ирмой означало, с какой стороны ни взгляни, пребывать в отчаянном положении – в особенности теперь, когда ее обуяло желание устроить прием.
– Альфред! Альфред! ты серьезно? Ты действительно постараешься сделать все, как я попрошу, Альфред? Я говорю, ты действительно постараешься сделать все, как я попрошу?
– Ради тебя я постараюсь расшибиться в лепешку, моя дорогая.
– Так ты решил, Альфред, – я говорю, ты решил? – бездыханно спросила она.
– Это ты у нас решаешь, дорогая моя пертурбация. А я подчиняюсь. Так уж сложилось. Я слаб. Я податлив. Ты сделаешь все на свой манер – чреватый, боюсь, чудовищными последствиями, – но на свой, Ирма, на свой. А прием, что ж, прием мы закатим. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!
Что-то не вполне искреннее прозвучало в визгливом его хохотке. Уж не примешалась ли к нему толика горечи?
– В конце концов, – продолжал он, усаживаясь на спинку кресла (ступни на сиденье, подбородок уперт в колени – ну вылитый кузнечик), – …в конце концов, ты прождала так долго. Так долго. Но, как тебе известно, я бы никогда ничего подобного не присоветовал. Ты женщина не из тех, что годны для приемов. Нет в тебе той ветрености, которая требуется, чтобы провести прием без сучка без задоринки. Но ведь все равно тебя с пути не свернешь.
– Никакими словами, – откликнулась Ирма.
– А уверена ли ты, что из твоего брата получится хороший хозяин?
– Ах, Альфред, я могла бы поверить в это! – сурово прошептала она. – Я была бы уверена в этом, если бы ты все время не умничал. Я иногда так устаю от твоих разговоров. И мне, вообще-то, совсем не нравится то, что ты говоришь.
– Ирма, – ответил ей брат, – так ведь и мне тоже. Ко времени, когда сказанное мною достигает моих ушей, оно теряет всякую свежесть. Мозг и язык так далеко отстоят друг от друга.
– Вот именно подобную чушь я и ненавижу! – с внезапным пылом воскликнула Ирма. – Поговорим мы, наконец, о приеме, или ты так и будешь смаковать плоды своего дурацкого остроумия?
– Перехожу на хлеб и воду. Что ты хочешь услышать?
Прюнскваллор слез со спинки кресла и сел в него. Затем слегка наклонился вперед, зажал коленями ладони и через увеличительные стекла очков выжидательно уставился на Ирму. Впрочем, она, глядя на брата сквозь собственные темные стекла, почти и не видела его увеличенных глаз.
Ирма чувствовала, что эта минута наделила ее некоторым моральным превосходством. Покорное выражение братнина лица придало ей силу, необходимую для того, чтобы открыть ему подлинную причину, по которой она так страстно желала устроить этот прием – к тому же, ей требовалась его поддержка.
– Знаешь ли ты, Альфред, – произнесла она, – что я подумываю о замужестве?
– Ирма! – воскликнул брат. – Не может быть!
– Еще как может, – чуть слышно отозвалась Ирма. – Еще как может.
Прюнскваллор совсем уж было собрался спросить, кого же намерена она осчастливить, но тут странное сочувствие к сестре, несчастному, в сущности говоря, созданию, сжало его сердце. Он знал, сколь скудны были предоставлявшиеся ей в прошлом возможности знакомства с мужчинами, знал, что она ничего не ведает о хитроумных гамбитах любви – ничего, кроме вычитанного из книжек. И знал также, что никого определенного на уме у нее нет. А потому сказал:
– Мы подыщем для тебя в точности такого мужчину, какой тебе требуется. Ты это заслужила. Самых что ни на есть чистых кровей – умеющего вострить уши и вилять хвостом. Клянусь всяческой безукоризненностью, ты, действительно, заслужила это. Мы…
Тут Доктор умолк. Он чуть было вновь не ударился в словесный загул, но вовремя вспомнил о данном сестре обещании и всего лишь склонился поближе к ней, чтобы выслушать то, что она имеет сказать.
– Я не разбираюсь в навостренных ушах и виляющих хвостах, Альфред, – произнесла Ирма, чуть приметно дернув уголком рта, – но я хочу, чтобы ты знал – я говорю, я хочу, чтобы ты знал: я рада, что ты понимаешь, в каком я нахожусь положении. Я чахну, Альфред. Ты сознаешь это? Ведь так, ведь так?
– Ода.
– У меня самая белая в Горменгасте кожа.
«И самые плоские ступни», – подумал ее брат, но вслух произнес:
– Да-да, но что нам должно сделать, о сладчайшая охотница… – «О девственность, рыскающая по дикой чащобе плотской любви»… – От этого описания сестры он воздержаться не смог. – …что нам следует сделать, дабы решить, кого мы пригласим? Я имею в виду, на прием. Вот наиважнейший вопрос.
– Да, да! – отозвалась Ирма.
– А когда решим, тогда уж и пригласим.
– Так будет проще, – сказала Ирма.
– И еще – в какое время суток он состоится?
– Вечером, разумеется, – сказала Ирма.
– И в каком платье им надлежит прийти?
– Ну, очевидно, в вечернем, – сказала Ирма.
– Но не кажется ли тебе, что это определяется тем, кого именно мы созовем. Что если дамы, моя дорогая, окажутся наряженными столь же роскошно, как ты? В вечерних платьях есть нечто жестокое.
– Ах, это не имеет смысла.
– Ты хочешь сказать, «не имеет значения»?
– Да, да, – подтвердила Ирма.
– И все же, может получиться неловко. Не уязвит ли их твое превосходство – или ты, охваченная сочувствием и любовью к ним, облачишься в лохмотья?
– Женщин не будет.
– Женщин не будет? – испугавшись на сей раз по-настоящему, воскликнул брат.
– Я должна быть одна… – негромко сказала сестра, подталкивая черные очки вверх по длинному заостренному носу, – с ними – с мужчинами.
– Но какие же тогда развлечения ожидают гостей?
– Я, – ответила Ирма.
– Да-да, и ты, несомненно, продемонстрируешь им твое очарование и всеведение, однако ж, любовь моя, ах, любовь моя, обдумай все еще раз!
– Альфред, – сказала Ирма, поднимаясь и так опуская одну из тазовых костей, и так воздымая противоположную, что в итоге таз ее приобрел очертания прямо опасные, – Альфред, – сказала она, – ну что ты упрямишься? Зачем нам женщины? Или ты забыл, что мы задумали? Забыл? Забыл?
Брату оставалось только дивиться. Неужели все эти годы она таила под своей неврастеничностью, суетностью, детскостью железную волю?
Он встал, ухватил сестру за бедра и резким рывком костоправа придал им верное положение. Затем уселся в кресло и затейливо переплел длинные, тонкие, словно бы журавлиные ноги, между тем как ладони его двигались, как будто омывая одна другую:
– Ирма, откровение мое, скажи мне только одно, – и он вопросительно поднял брови, – кто эти мужчины – эти самцы – эти бараны – эти коты – петухи, горностаи и гусаки, которых ты имеешь в виду? И каков будет размах нашего загула?
– Ты прекрасно знаешь, Альфред, выбирать нам не из кого. Кто тут есть из благородных людей? Я тебя спрашиваю, Альфред, кто?
– И действительно, кто? – в раздумье пробормотал Доктор, которому не приходило в голову ни единого имени. Мысль о том, чтобы устроить у себя дома прием, была столь нова для него, что на усилия, потребные для отбора гостей, Доктора уже не хватило. Все равно что пытаться подобрать исполнителей для еще не написанной пьесы.
– Что касается размаха, – ты меня слушаешь, Альфред? – я думаю пригласить человек сорок.
– Нет! нет! – вскричал ее брат, вцепляясь в подлокотники кресла, – право, ну не в эту же комнату! Этак у нас получится почище, чем с белыми котами. Не прием, а рукопашная.
Что это – уж не краска ли залила на миг лицо его сестры?
– Альфред, – помолчав сказала Ирма, – это последний мой шанс. Еще год – и от моих чар не останется даже следа. Время ли сейчас хлопотать о твоих удобствах?
– Выслушай меня, – очень медленно проговорил Прюнскваллор. В высоком голосе его проступила странная задумчивость. – Я буду краток, как только смогу. Но ты должна меня выслушать, Ирма.
Сестра кивнула.
– Если прием окажется не слишком многолюдным, тебя ожидает гораздо больший успех. Хозяйке большого приема приходится перепархивать от гостя к гостю, ни с кем не вступая в приятный и долгий разговор. Более того, и гости подпархивают к ней один за другим, стараясь показать, как им нравится в ее доме… На малом же приеме, где всякий на виду, и знакомство с гостями, и общее их размещение завершаются быстро. Так у тебя останется время на то, чтобы оценить каждого из приглашенных и решить, кому необходимо уделить побольше внимания.
– Я поняла, – сказала Ирма. – И еще я думаю развесить в саду фонари, чтобы можно было завлечь моего избранника под яблони.
– Милосердные небеса! – наполовину себе самому сказал Прюнскваллор. – Что ж, надеюсь, дождя не будет.
– Не будет, – подтвердила Ирма.
Такой он не знал ее никогда. Увидеть обратную сторону сестры, всегда представлявшейся ему односторонней – в этом присутствовало нечто пугающее.
– Ладно, значит, кое-кого нам придется сбросить со счетов.
– Да, но кто же они? Кто? – воскликнул Доктор. – Мне уже не по силам выносить это страшное напряжение. Кто эти мужчины, которых ты, похоже, видишь en bloc?[3] Эта преданная тебе орда, готовая, так сказать, по одному лишь свистку твоему проскочить двор, прихожую, ворваться вот в эту дверь и замереть в исполненных мужественности позах? Именем фундаментального милосердия заклинаю тебя, Ирма, открой мне – кто они?
– Профессора.
Произнося это слово Ирма сцепила за спиною ладони. Плоская грудь ее поднялась. Острый нос дернулся, ужасная улыбка осенила лицо.
– Они благородные люди, – громко выкрикнула она, – благородные! И достойны моей любви.
– Как? Все сорок? – Брат снова вскочил на ноги. Он был потрясен.
Но при всем том, логика сделанного Ирмой выбора была ему совершенно понятна. Кого еще можно здесь пригласить на прием, задуманный для достижения ее потаенной цели? Что касается «благородства» – возможно, таковое в них и присутствовало. Правда, в весьма малой доле. Если кровь Профессоров и отливала какой ни на есть голубизной, то уж на челюстях и под ногтями таковая сгущалась до грозовой синевы, и если происхождение их способно было выдержать критическое рассмотрение, то о настоящем Профессоров этого никак уж не скажешь.
– Какие перспективы открываются перед нами! Сколько тебе лет, Ирма?
– Ты и сам способен назвать их число, Альфред.
– Не без предварительных размышлений, – откликнулся Доктор. – Ну да ладно. Важно, на сколько ты выглядишь. Видит бог, женщина ты опрятная. Уже хорошо. Я просто пытаюсь поставить себя на твое место. Это требует усилий – ха-ха – не получается, и все тут.
– Альфред.
– Любовь моя?
– Как ты считаешь, какое число гостей было бы идеальным?
– При правильном их выборе, Ирма, я бы сказал – двенадцать.
– Нет, Альфред, нет, это же прием! Прием! Настоящие события происходят на приемах – не на дружеских вечеринках. Я читала об этом в книгах. По меньшей мере, двадцать – чтобы создать многообещающую атмосферу.
– Хорошо, дорогая. Очень хорошо. Не то чтобы мы стали приглашать и заплесневелое, одышливое животное с обломанными рогами лишь потому, что оно стоит в списке двадцатым, между тем как остальные девятнадцать – более чем пригодные для жениховства олени в самом соку. Но давай-ка вникнем в этот вопрос поосновательнее. Скажем, для простоты рассуждения, что мы понизили число вероятных претендентов до пятнадцати. Так вот, вряд ли мы можем надеяться, Ирма, любезная моя со-стратегиня, что среди этих пятнадцати отыщется более шести приемлемых для тебя мужей. Нет-нет, не надо морщиться – постараемся, как оно ни горько, быть честными. Это очень тонкое дело, поскольку вовсе не обязательно, что каждому из шести твоих вероятных избранников непременно захочется разделить остаток своей жизни с тобой, – о нет. Таковое желание может посетить совершенно других шестерых, тебе ни в малой мере не симпатичных. А за и над этими взаимозаменяемыми персонами нам надлежит создать нечто вроде подвижного фона из тех, кого ты, в чем я не сомневаюсь, отпихнула бы своими элегантно раздвоенными копытцами, если б они позволили себе хоть намек на заигрывание. С возмущением, Ирма, с возмущением, я совершенно в этом уверен. И тем не менее, они тоже пригодятся, поскольку нам необходимы тылы. Именно они придадут нашему приему потребную пышность, создадут многообещающую атмосферу.
– Альфред, а тебе не кажется, что нам следует назвать его soirée?[4]
– Насколько мне известно, законом сие не возбраняется, – ответил Прюнскваллор – с некоторым раздражением, быть может, поскольку сестра его явно не слушала. – Впрочем, Профессора, какими я их помню, – навряд ли та публика, что вяжется с подобным словом. И кстати, из кого состоит ныне их штат? Прошло немало времени с тех пор, как я в последний раз видел развевающуюся мантию.
– Я знаю как ты циничен, Альфред, но я хочу, чтобы ты осознал – таков мой выбор. Мне всегда хотелось иметь рядом с собой человека ученого. Я относилась бы к нему с пониманием. Я руководила бы им. Я защищала бы его и штопала ему носки.
– И никогда еще более мастеровитая штопальщица не укрывала ахиллово сухожилие мотком двойной пряжи!
– Альфред!
– Прости, принадлежность моя. Клянусь всей и всяческой непредвиденностью, твоя идея начинает мне нравиться. Со своей стороны, Ирма, я позабочусь о винах и ликерах, о бочонках и пуншевых чашах. Ты же возьмешь на себя съестные припасы, приглашения, муштру прислуги – нашей прислуги, а не этих ученых светил. А теперь, дорогая моя, – когда? Вот в чем вопрос – когда?
– Мое вечернее платье с тысячью рюшей и корсажем, покрытым выписанными от руки попугаями, будет готово через десять дней, так что…
– Попугаями?! – в испуге вскричал Доктор.
– Почему бы и нет? – резко отозвалась Ирма.
– Но… – Доктор пребывал в нерешительности, – и сколько их там?
– Господи, Альфред, какая тебе разница? Это красивые, яркие птицы.
– Да, но идут ли они к рюшам, сладкая ты моя? На мой взгляд, – раз уж тебе не терпится украсить корсаж, как ты его называешь, выписанными от руки существами, – разумно было бы выбрать существ, способных обратить помыслы Профессуры к твоей женственности, желанности, – существ, не столь агрессивных, как попугаи… Пойми меня правильно, Ирма, я всего лишь…
– Альфред! – голос сестры, заставил Доктора вжаться в спинку кресла.
– Я полагаю, что разбираюсь в этом лучше тебя, – с тяжеловесным сарказмом сказала Ирма. – Мне почему-то кажется, что, когда дело касается попугаев, ты можешь оставить его мне.
– Всегда готов, – ответил ей брат.
– Так хватит нам десяти дней, Альфред? – спросила она и поднялась из кресла, и, длинными бледными пальцами разглаживая пронизанные проседью волосы, приблизилась к брату. Выражение лица ее смягчилось. К ужасу Доктора, она присела на подлокотник его кресла.
Тут Ирму вдруг охватил шаловливый порыв, и она откинула голову так, что чрезмерно длинная, хоть и жемчужно-белая шея ее натянулась, изогнувшись назад, а шиньон бесцеремонно хлопнул ее между лопаток, словно желая избавить от кашля. И как только она убедилась, что это не братнины шуточки, исступленно-игривое выражение вновь воцарилось на перепудренном лице Ирмы, а ладони хлопнули у груди одна о другую.
Прюнскваллор, устрашенный еще одной неожиданно обнаружившейся гранью ее характера, глянул на нее снизу вверх и увидел, что один из коренных зубов сестры нуждается в пломбе, но счел, что сейчас не время упоминать об этом.
– Ах Альфред! Альфред! – воскликнула Ирма. – Я ведь женщина, разве не так?
Руки ее, вцепляясь одна в другую, дрожали.
– Я им еще покажу! – внезапно взвизгнула она, уже не способная владеть голосом. Затем, с видимым усилием подавив возбуждение, Ирма перевела взгляд на брата и улыбнулась ему с жеманством, которое было похуже всякого визга.
– Завтра я разошлю приглашения, Альфред, – прошептала она.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Три солнечных луча, пробившись сквозь мрак, ударили в землю и воспламенили ее. Яркий напор ближайшего обнаружил путаницу ветвей, тянущих лапы в безумном свечении, микроскопически совершенных, плывущих во тьме.
Второй из этих островков света, казалось, поплыл прямо над первым, ибо земля и небо слились в единый занавес мглы. На самом деле он был далек от первого, но расстояние между ними оставалось неощутимым.
На северной оконечности этого островка из золотой, как оса, земли вздымались смутные облики, похожие скорее на выплески каменной кладки, чем на шпицы и контрфорсы натурального камня. Солнечный луч приоткрыл один только палец некоего жилища, которое, расширяясь там, где уходило в окружающей мгле на север, обращалось в каменный кулак, а тот, в свой черед, перетекал, воздымаясь, в запястье, в локоть, похожий на размозженные пчелиные соты, а те – в незримое во мраке, костлявое, изъеденное временем плечо – но лишь для того, чтобы раскидываться все шире и шире, образуя в итоге гористое тело вечных башен.
Впрочем, ничего этого видно не было – только яркое, расщепленное острие окаменелого пальца.
Третий «остров» походил формой на сердце. Блистающее сердце, составленное из горящих плевелов.
По темному краю этого третьего светового пятна брела лошадь. Казалось, что размером она не превосходит муху. На лошади восседал Титус.
Углубившись в занавес мглы, отделявший его от городоподобного дома, в котором он жил, Титус нахмурился. Одна рука его вцепилась в гриву лошади. Сердце гулко стучало в полнейшей тиши. Но лошадь без колебаний шагала вперед, и размеренность ее поступи несколько успокоила Титуса.
Внезапно новый «остров» света, налетевший, волнуясь, с востока, все ширя и ширя ртутные границы свои, словно бы расталкивая мглу, образовал во мраке фантастический калейдоскоп летящих скал, деревьев, долин и кряжей – изменчивое «побережье», сверкающий, проработанный до последней детали рисунок. За этим светозарным разливом последовал новый, за ним другой. Огромные шафрановые разрывы вспыхнули в небе, и следом, от горизонта до горизонта, мир окатился голым светом.
Титус закричал. Лошадь тряхнула головой, и мальчик галопом поскакал к дому по земле своих предков.
Но и в волнении скачки Титус отвращал лицо от замковых башен, в единый миг возвысившихся над горизонтом, отвращал туда, где в холодном утреннем мареве Гора Горменгаст возносила в трепещущем воздухе свой когтевидный пик, словно бросая кому-то вызов: «Рискнешь? – казалось, кричала она. – Ты рискнешь?»
Привстав на стременах, Титус откинулся назад, натянул поводья и остановил лошадь, ибо редкостное смешение образов и голосов обратило его тяжко дышащее тело как бы в оркестровую яму. Леса, свежие и влажные, как сама любовь, прорастали колючими ветками сквозь него, сидевшего, полуповернувшись в седле, дрожащего. Пелена мокрой листвы волновалась под ребрами. Горечь листьев стояла во рту. Едкий, бродильный запах лесной, почерневшей от сгнивших папоротников земли на миг обжег ему ноздри.
Взгляд Титуса скользнул от голой вершины Горы Горменгаст вниз, к тенистым кущам, и вновь обратился к небу. Он смотрел на восходящее солнце. Всем телом ощущал он, как разгорается день. Титус развернул лошадь. Теперь Горменгаст остался у него за спиной.
Верхушка горы сверкала в необъятной пустыне света. Уродливые ее очертания говорили не то обо всем сразу, не то ни о чем. Пустынность горы будила воображение.
И снова долетел к нему ее голос.
– Рискнешь? Ты рискнешь?
К этому голосу присоединились сонмы других. Голосов, доносившихся с испещренных солнцем полян. С болот и с донной гальки рек. Птичьих голосов из зеленых низовий. Летевших оттуда, где сновали белки и лисы, где дятлы сгущали буколическим перестуком дремотный покой дня, где гнилое дупло дерева как бы сочилось и тлело, озаренное изнутри сладким, тайным припасом диких пчел.
Титус поднялся за час до колокола. Он оделся, беззвучно и торопливо, на цыпочках прокрался пустынными залами к южным дверям, и, перебежав обнесенный стеною двор, очутился в конюшнях Замка. Утро стояло темное, мглистое, но Титуса манил мир без Стен. По пути он остановился у двери Фуксии и постучал.
– Кто там? – Голос сестры, донесшийся из-за двери, казался странно хриплым.
– Я, – ответил Титус.
– Чего тебе?
– Да ничего, – сказал Титус, – хочу прокатиться верхом.
– Погода дрянь, – сказала Фуксия. – До свидания.
– До свидания. – Титус на цыпочках двинулся дальше по коридору, как вдруг за спиной его послышался стрекот дверной ручки. Он обернулся и увидел не одну только Фуксию, сразу отступившую в спальню, но и нечто, стремительно летевшее по воздуху прямо ему в лицо. Защищаясь, Титус вскинул руку и, более по случайности, чем вследствие ловкости, поймал в ладонь большой, липкий ломоть булки.
Титус знал, что покидать Замок до завтрака ему не дозволено. А выход за Внешние Стены еще пуще усугубил бы проявленное непослушание. Как единственный оставшийся в живых наследник славного рода, он обязан был оберегать себя строже, нежели человек обычный. Обязан в точности сообщать, когда и куда уходит, чтобы, если он вовремя не вернется, это сразу бы стало известным. Но нынешний день, как ни темен он был, оказался не в силах справиться с нараставшей неделями страстной потребностью – потребностью скакать и скакать, пока весь мир еще нежится в постелях, пить огромными глотками весенний воздух, покамест лошадь галопом мчит по лежащим за Внешними Стенами апрельским полям. И притворяться, на полном скаку, что он свободен.
Свободен!..
Какое значение имело это слово для Титуса, с трудом представлявшего, как можно перейти из одной части дома в другую без того, чтобы за тобой не следили, чтобы тебя не вели или не шли за тобой, никогда не знавшим уединения, ни с чем не сравнимого уединения, дарованного незначительным людям? Не быть носителем славного имени? Не иметь родословной? Быть существом нимало не интересным для тайных взоров взрослого мира? Расти, крадучись, как краснокожий: из детства в юность, из года в год, словно из заросли в заросль, словно от засады к засаде, взбираясь на деревья Юности и настороженно оглядываясь?
Из-за диких просторов, что окружали Горменгаст и тянулись, куда ни глянь, до горизонта, как будто замок был островом из тех, на кои высаживают бунтарей, островом, лежащим в пустынных водах, вдали от всех торговых путей – из-за этого ощущения шири, откуда было Титусу знать, что странное, ни на что не направленное недовольство, которое ныне время от времени посещало его, было тревогою существа, заключенного в клетку?
Другого мира он не знал. Здесь же вокруг него тлел сырой материал: реквизит и декорации любви. Любви страстной, бесполой и смутной, самонадеянной и опасной.
Будущее лежало перед ним бесконечностью ритуалов и педантства, но что-то билось в горле мальчика, и он восстал.
Стать шалопаем! Прогульщиком! Это почти то же, что стать Завоевателем – или Демоном.
Вот он и оседлал свою серую лошадку и поскакал в апрельскую ночь. И стоило ему проехать под одной из арок Внешней Стены и протрусить немного в сторону леса Горменгаст, как он заблудился, неожиданно и безнадежно. Тучи единым, казалось, махом отсекли весь свет, какой мог упасть с неба, и Титус очутился в гуще ветвей, хлеставших его в темноте. Потом лошадка забрела по колено в холодное топкое болото. Она дрожала под Титусом, пятясь в поисках более твердой опоры. Но солнце всходило, и Титусу удалось, наконец, понять, где он. Внезапно лучи пронизали мглу, и он увидел вдали – намного дальше, чем мог вообразить, – каменный посверк одного из западных отрогов Замка.
Солнечный свет разливался, покуда в небе не осталось ни облачка, и дрожь тревоги обратилась в трепет предвкушения – предвкушения приключений.
Титус знал, что его уже хватились. Завтрак, верно, закончился, но еще до завтрака в общей спальне мальчиков забили тревогу. Титус так и видел воздетые брови Профессора, обнаружившего в классной пустую парту, слышал гомон и домыслы учеников. А следом он ощутил нечто волнующее намного сильнее теплого поцелуя солнца чуть ниже затылка – мгновенное струение холодного, пахнувшего тростником апрельского воздуха по лицу – нечто пугающее и безумно влекущее, некий пронзительный посвист, сжавший желудок и холодком окативший бедра. Как будто герольд приключения освистнул Титуса, заставив его развернуть лошадь, а между тем ласковое золотистое солнце пробормотало то же известие, только голосом более сонным.
На миг сознание собственной отдельности ото всех захлестнуло Титуса – такое огромное, что обратило остальных обитателей замка в марионеток его воображения. Он мог бы по возвращении сгрести их одной рукой и сбросить в замковый ров – если бы пожелал возвратиться. Он больше не будет им рабом! Кто он, чтобы выслушивать их приказы: иди учись, присутствуй при том, присутствуй при этом? Он не просто семьдесят седьмой граф Горменгаст, он – Титус Гроан, сам себе голова!
– Ну, хорошо же! – крикнул Титус, обращаясь к себе самому. – Я им покажу!
И ударив каблуками в бока лошади, он поскакал к Горе.
Однако холодное дуновение весеннего воздуха, скользнувшее по лицу Титуса, оказалось не просто прелюдией его прогула. Оно, кроме прочего, предрекало новую перемену погоды, столь же скорую и нежданную, как восход солнца. Ибо, хоть облаков вверху не было, солнце заволоклось дымкой и уже не грело Титусу шею.
Он удалился мили на три от исходной точки своего бунтарского странствия и уже углубился в ореховые кущи, тянувшиеся к подножию Горы Горменгаст, когда, наконец, заметил, что воздух наполнился явственной мглой. И с этого мига вокруг него стала сгущаться белизна, казалось, всплывающая из самой земли, накапливающаяся везде, куда не повернись. Солнце обратилось в бледный диск, а там и вовсе исчезло.
Пути назад не было: Титус сознавал, что стоит ему повернуть лошадь, и он немедля заблудится. Он и так уж не видел впереди ничего, кроме мерцающего, понемногу тускнея, зарева – вверху, прямо перед собой. Это просвечивала сквозь густеющий туман вершина Горы Горменгаст.
Единственная его надежда состояла в том, чтобы, поднявшись повыше, выбраться из тумана, и потому, пустив лошадь рысью – опасной, поскольку видимость не превышала ярда-другого, он понесся (бледный свет наверху служил ему ориентиром) к предгорьям. Когда вновь засияло привольно солнце, и самые верхние клочья тумана свились в кольца внизу, Титус вполне осознал, что значит остаться одному. Такого одиночества он еще не испытывал. Безмолвие неподвижных высот и распростертый понизу мир фантастических испарений.
Далеко на западе плыл кровельный ландшафт грузного дома Титуса – плыл легко, будто каждый камень его был лепестком. Поперек одетых камнем челюстей огромной его головы тянулись, отражая зарю, сотни похожих на зубья окон. Они казались не столько стеклянными, сколько костяными, а то и такими же каменными, как сам облекавший их камень. С оцепенелостью этих окошек, холодными цепочками прорежающих камень, спорили акры плюща, растекшегося по крышам подобием темной воды и казавшегося неспокойным, влажно помигивающим миллионами сердцевидных вежд.
Вершина горы светилась над ним. Была ли на этих застылых склонах хоть одна живая душа, кроме прогулявшего школу мальчишки? Казалось, что сердце мира остановилось.
Трепетали листья плюща, то там, то здесь волновались по ветру флаги, но это движение не содержало ни цели, ни жизни – как плещущие по ветру длинные волосы трупа нисколько не отменяют смерти того, чью голову они украшают.
Ни одной головы не виднелось в верхних, заостренных окнах, разбросанных по челу замка. Встань кто-нибудь у одного из них, он увидел бы солнце, висящее на ширину ладони выше тумана.
От края до края земли раскинулся он, этот туман, подпирая пенной своею спиной грузную гору – плавучее бремя из грубых мергелей и сланцев. Пары тумана стекали по горным склонам. Он никнул к стенам замка – складка над мрачной складкой – великанской волной. Беззвучной, бездвижной, заклятой чем-то, превосходящим мощью луну, – волне этой недоставало сил, чтобы отхлынуть.
Ни дуновенья с горы. Ни вздоха со стороны спеленутого Замка, из глухого безмолвья тумана. Неужели ничто в нем не бьется? Ибо в подобной белой тиши отдалось бы эхом и самое тихое сердце, ухая сдвоенной барабанной нотой в далеких оврагах.
Солнце не оставляло пятен на меловом покрове. То было белое солнце, словно бы отразившее легший под ним туман – ломкое, точно стеклянный диск.
Но разве не неусыпна Природа и не вечно ли ставит она опыты над своими стихиями? Едва успел туман застыть, будто бы навсегда, тяжко вложить по длани холодного дыма в каждое ущелье, укутать периной равнины, прощупать холодными пальцами каждую кроличью нору, как посланный с севера студеный, стремительный ветер вновь дочиста вымел землю и стих, так же внезапно, как поднялся, словно его лишь для того, чтобы развеять туман, и прислали. И солнце вновь воротилось позолоченным шаром. Ветер сник, расточился туман, сгинули тучи, день стал тепл и юн, и склоны Горы Горменгаст обступили Титуса.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Далеко-далеко внизу застыла дюжина рощиц, похожих на скопленья людей. За ними на неровной земле там и сям проблескивали, отражая небо, паутинки воды.
Над этим совокуплением мерцания вод, ежевичных зарослей и приземистых, колючих кустов вставали со странной властностью купы деревьев.
Титусу эти рощицы показались удивительно живыми. Каждая выглядела совсем не схожей с другими, хоть все они были примерно равной величины и состояли из одних только ясеней и платанов.
Не оставалось сомнения, что в то время, как ближайший к Титусу лесок чем-то рассержен – ни единое из деревьев его не желало иметь ничего общего с соседом, каждое, пожимая плечами, отворачивалось от другого, – еще одну рощицу, отделенную от первой разве что сотней футов, явно томило сдержанное волнение, деревья ее согласно склонялись над какой-то зеленой, шепчущей тайной. Только одно из них держало голову несколько выше прочих. Голова эта отчасти клонилась набок, словно не желая упустить ни слова из взволнованного разговора, происходившего у дерева за плечом. Поведя глазами, Титус приметил еще одну рощу, в которой двенадцать деревьев, отогнувшись назад и поворотясь в пояснице, искоса посматривали на дерево, одиноко стоящее в стороне. Обратив к ним спину. Сомневаться не приходилось – этот отвращенный от товарищей взгляд свидетельствовал о презрении, питаемом деревом к толпившимся сзади.
Одни деревья теснились друг к другу, как бы от холода или испуга. Другие жестикулировали. Третьи, казалось, поддерживали одного из своих, видимо, раненного. Были купы заносчивые и скорбно свисавшие головы; были ликующие и такие, в которых каждое дерево словно спало.
Ландшафт жил, но и Титус тоже. В конце концов, они – всего лишь деревья: ветви, корни, листва. А это – его день, и времени тратить не стоит.
Он ускользнул от серой вереницы башен. Здесь над ним высились только горные скалы и папоротники, и утренние лучи плясали вверху в светозарной приземной дымке.
Стрекоза повисла над валуном у его локтя, и в тот же миг он вдруг осознал, что где-то за рощицами поет огромный хор птиц.
К северу от рощиц лежали сверкающие равнины, но птичьи голоса, столь тонкие и пронзительные, звучали не там, а на западе, ближе к подножью горы, на котором стоял Титус; там раскинулся, нежась под солнцем, лес. Одна зеленая складка за другой, купы и купы листвы уходили, волнуясь, к зубчатому горизонту.
Желания, разымавшие Титуса, обрели, наконец, ясную цель. Совесть больше не грызла его за то, что он сбежал с уроков. В нем вспыхнула любознательность.
Кто гнездится в этих высоких лиственных стенах? В стенах зеленых и солнечных? Какие там кроются тени? Какие желудевые россыпи и лиственные аллеи? Волнение, точно ударом молота, оглушило все совестливые помыслы о проступке, который он совершил.
Ему захотелось помчаться галопом, но усеянные камнями сланцевые склоны были слишком опасны. Однако спустившись пониже, на относительно твердую почву, он обнаружил, что здесь удается быстро одолевать вполне приличные расстояния.
Титус приближался к лесу, и зеленая стена вырастала в солнечном небе все выше, так что, в конце концов, ему удавалось вглядеться в верхние ветви, лишь задирая голову.
Земля, уходившая к западу вверх, укрыла от него Горменгаст. На востоке, за спиной Титуса, вздымался корявыми выступами горный склон. Грубые валуны лежали вокруг, в тени их горячих лбов и выпяченных челюстей изобильно росли разновидные папоротники.
По жарким верхушкам валунов порскали ящерицы, и при первом же шаге Титуса к лесной стене, с одного из них струйкой воды стекла змея, метнувшаяся поперек пути, погромыхивая гибким хвостом.
Что породило этот сотрясший его приступ любви? Гремучая змея; лощина, заросшая шелковистой травой; великанские валуны с их папоротниками и ящерками; зеленая лесная стена. Почему все это соединилось в такое влекущее, перенимающее дыхание целое?
Бросив поводья на шею лошадке, он подтолкнул ее в сторону Горменгаста.
– Ступай домой, – сказал он.
Пони глянула на него и сразу же поскакала прочь, помахивая из стороны в сторону головой. Через несколько мгновений она скрылась за подъемом, и Титус остался в совершенном уже одиночестве.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Утренние занятия начались. В классных комнатах одновременно происходили сотни событий. Но вне их дверей разыгрывалась драма иного рода: драма школьного безмолвия, ибо в разделявших классы пустынных холлах и коридорах оно воздымалось и опускалось, как нечто осязаемое, плеща о каждую дверь.
Через час младший учитель продребезжит в Центральном Зале медным колокольчиком, и безмолвие разобьется вдребезги, когда из своих узилищ хлынет, как саранча, мальчишечья масса.
В классных комнатах Горменгаста, как и в Профессорской, стены были обиты лошадиными шкурами. Но только это и объединяло их, поскольку и форма каждого из классов, и царившее в них настроение вряд ли могли отличаться сильнее.
Класс Трематода, к примеру, был долог, узок и скудно озарен светом, проникавшим в маленькое окошко, пробитое под потолком в дальнем его конце. Опус Трематод, задрапированный в красный плед, возлежал в кресле. Тень почти целиком накрывала его. И хотя он с трудом различал сидевших перед ним мальчиков, положение Трематода было выгоднее их положения, поскольку они его и вовсе не видели. Стола перед ним не было – он сидел, так сказать, в открытой тьме. На полу под его креслом валялась пара учебников, помещенных туда для проформы. Пыль покрывала их так плотно, что они походили на серые опухоли. Господин Трематод все еще не обнаружил, что учебники эти вот уж несколько лет как прибиты гвоздями к полу.
Класс Перч-Призма был беспощадно квадратен и освещен слишком уж хорошо, чтобы порадовать новичков. Древними, заплесневелыми были в нем лишь кожистые стены, да и те время от времени скоблились и маслились. Парты, скамьи и доски полов драили кипятком с содой, так что если не считать стен, комнату эту заливала нагая белизна, что и делало ее страшно непопулярной. Прибегнуть к услугам шпаргалки было в этом жестоком свете почти невозможно.
Класс Фланнелькота представлял собой короткий тоннель с полукруглым окном, занимавшим всю ближнюю к учителю стену. В противоположность Трематоду, таившемуся в тени, господин Фланнелькот, сидевший на очень высоком столе, являл взорам совсем иную картину. Поскольку свет вливался в комнату лишь через окно за его спиной, господин Фланнелькот, на взгляд его учеников, вполне мог быть вырезан из черной бумаги. Вот он сидит на фоне яркого полукруглого окна в конце тоннеля и резко жестикулирует, пресекая потоки света. В окне виднеется Гора Горменгаст и в это утро над сверкающей вершиной ее лениво плывут облачка, похожие на пух одуванчика.
Но из всех многочисленных классных комнат Горменгаста, обладающих каждая своим, неповторимым характером, одна выделялась в это утро особенно. Она располагалась в верхнем этаже – большой дремотный зал, заставленный куда большим количеством парт, чем требовалось, и куда более просторный, чем следовало (с преподавательской точки зрения). Драные лошадиные шкуры полосами свисали с его стен. Окно классной смотрело на юг, отчего полы ее, от века некрашеные, выцвели, и чернила, проливавшиеся на них семестр за семестром, поблекли до прекрасной, изнуренной голубизны, придав половицам оттенок почти феерический. Хотя больше ничего сколько-нибудь феерического в этой комнате не наблюдалось.
Чем, к примеру сказать, было вот это мешковидное чудище, этот храпящий холм, этот мертвенно тяжкий, вывихнутый какой-то кошмар? Мерзким и звероподобным выглядел он, лежавший, по-собачьи свернувшись, на Профессорском столе; ладно, пусть так, но что это? Кто-нибудь, пожалуй, сказал бы, что это мертвец, однако звуки сдавленного храпа исходили от него да временами посвист вроде того, какой издает, прорываясь сквозь зубчатую дыру в разбитом окне, ветер.
Впрочем, чем бы ни было это существо, ни страха, ни интереса не вызывало оно у двух, примерно, десятков мальчишек сонного, выпавшего из времени класса, у почти забытых всеми старшеклассников, имевших, судя по всему, свои, совсем особые заботы. Солнечные лучи проливались в высокое окно. Пыльная дымка наполняла комнату. Но ученикам было отнюдь не до сна.
Что происходило здесь? Сколько-нибудь приметного шума не слышалось, но напряжение, повисшее в воздухе, гулом отдавалось в ушах.
Ибо в комнате шла игра, сопряженная с опаснейшим риском. В ней-то и состояла отличительная особенность этого класса. Воздух был бездыханен. Те, кто не принимал участия в необычайном сражении, сидели на партах и шкафах. Вот-вот предстояло начаться новому туру. Бесхитростные лица зрителей были обращены к окну. Немало повидавшими казались они, эти жилистые дети случая. Ветераны уже вышли на позиции.
Все было готово. Из пола вынули две доски: первая подпирала подоконник, спускаясь под пологим углом. Потаенный испод ее с незапамятных времен отскабливался и натирался свечными огарками – он-то и глядел сейчас в потолок. Вторая длинная доска, также навощенная, лежала на полу встык с первой, образуя узкую, скользкую деревянную дорожку, футов на тридцать тянущуюся через класс от окна к противоположной стене.
Первый ход был за командой, сгрудившейся близ окна, и вот один из ее членов, черноволосый мальчишка с родимым пятном на лбу, вспрыгнул на подоконник, похоже, и не думая о том, что от него до земли – добрая сотня футов.
Вслед за тем члены противной команды, укрывшиеся за рядом парт в дальнем конце комнаты, разложили перед собой твердые, точно каштаны, бумажные пули, коими предстояло дать залп из обычных рогаток, круглая кожа которых стерлась от непрестанного использования до окончательной шелковистости. Прежде в дело шли пульки глиняные – даже стеклянные, но после третьей смерти, вследствие великих хлопот, коих потребовало сокрытие мертвых тел, решено было заменить их бумажными. Замена не сделала попадание пульки менее чувствительным – бумагу разжевывали, затем месили, добавляя к ней белую камедь, затем прессовали, зажимая в шарнирах на крышках парт. Летя с убийственной скоростью, такое ядро ударяло, точно хлыстом.
Но по кому же собирались они стрелять? Враги их стояли у окна и явным образом не готовились к тому, что в них полетит что-либо. Да стрелки на них и не смотрели – смотрели они прямо перед собой, но уже начали, каждый, прикрывать левый глаз и натягивать беспощадную резинку. И тут вдруг смысл игры раскрылся в череде резких и ритмичных движений. Слишком быстрых, слишком живых, слишком опасных для какого ни на есть танца или балета. Но требующих не меньшей искусности и соблюдения строгой традиции. Так что же здесь происходило?
Черноволосый мальчишка с родимым пятном присел, согнувшись, хлопнул в измазанные чернилами ладони и выпрыгнул из окна в утренний свет – туда, где ветви гигантского платана сплетались, пронизанные солнцем, словно прутья плетеной решетки. На миг он обратился в летучее существо – голова откинута, зубы оскалены, пальцы вытянуты вперед, глаза прикованы к белой ветке платана. В сотне футов под ним светился пыльный квадратный дворик. Из классной могло показаться, будто мальчишке того и гляди придет конец. Однако товарищи его вжались в стены по сторонам окна, а враги, присевшие за партами, не отрывали глаз от скользких досок, полоской льда пересекающих классную комнату.
Мальчик, прорезав воздух, вцепился в конец ветки и уже несся сквозь листву по длинной, занимающей дух дуге. В самой крайней точке этой идущей сверху дуги он как-то странно дернулся, еще догибая ветку вниз, и понесся назад – так высоко взлетев из листвы в пустой воздух, что оказался на миг много выше окна, из которого выскочил. Вот тут ему потребовались железные нервы, ибо оставалась лишь доля секунды до того, как он, напрягши волю, выпустит ветку из рук. Он снова несся по воздуху. Он падал – падал со скоростью и под углом, дававшим надежду не врезаться ни в оконную раму, ни в подоконник, но приземлиться на твердые ягодицы, молнией пасть с неба прямиком на пологую доску; и миг спустя врезаться в кожаную стену на дальнем конце комнаты, просвистев по доскам со скоростью пущенного из пращи камня.
Впрочем, при всей мгновенности его появленья в окне, при всей стремительности полета, ему не удалось достигнуть стены без повреждений. Ухо гудело, будто осиное гнездо. Убийственный перекрестный залп шести рогаток имел результатом один скользящий удар, три попадания по корпусу и два промаха. Однако игра продолжалась – он еще только влепился в бугристую кожу стены, а уж другой мальчик из его команды взвился в воздух: руки протянуты к ветке, глаза возбужденно сверкают. А стрелки, между тем, не тратя времени зря, перезаряжают оружие и опять прищуривают каждый по левому глазу и натягивают резинки.
Ко времени, когда мальчик с родимым пятном просеменил назад к окну, потирая огнем горящее ухо, из солнечного неба пало новое привидение, со свистом пронеслось по наклонной доске, скользнуло по классной и врезалось в стену – там, где кожа за годы получаемых ею ударов помрачнела и измахрилась. Безмолвие классной комнаты царило над всем – безмолвие, наполненное бледным солнечным светом. Пол расчертили золотые тени парт, скамей, огромной, треснувшей школьной доски. То было безмолвие летнего семестра – погруженного в себя, неспешного, сноподобного, подчеркиваемого быстрыми хлопками чернильных ладоней взвивающихся в воздух мальчишек, свистом рассекающих тишину бумажных снарядов, гаканьем их мишени, глухим ударом тела о стену и следом – шелестом перезаряжаемых рогаток; и вот снова – хлопок в ладони у окна и далекий шорох листвы, когда мальчик пролетает по зеленой дуге над квадратным двором. Команды менялись местами. Летуны брались за рогатки. Стрелки переходили к окну. В ней присутствовал собственный ритм – в опасной, варварской и все же торжественной игре – в ритуале, настолько же неоспоримом и священном, насколько может что-либо подобное уместиться в мальчишечьей душе.
Дьявольская удаль и стоицизм соединяли мальчишек. Взаимное знание перехватывающего горло восторга, с каким они молниями рассекали медовый воздух классной, делало их тайну более мрачной, влекущей, страшной и упоительно веселой – взаимное знание долгого, укрытого листвой полета в пространстве, память о свисте, с которым язвящая пуля проносится мимо головы и о боли при попадании.
Но нам-то что до всего этого? До ритма язвящих друг дружку мальчишек? Мальчишек, наполненных жизнью, точно рыбы и птицы? Только одно: все это происходило тем утром.
И что нам до жуткой черной груды на Профессорском столе? Солнечный свет, проливаясь сквозь крону платана, уже испещрил ее дрожащими ромбами. Груда храпела – звук немилый для слуха в первый урок летнего утра.
Однако мгновения этого безобразия были уже сочтены, поскольку от двери классной, почти из-под самого потолка внезапно донесся крик. Кричал постреленок, веснушчатый и тщедушный, помещавшийся на высоком шкафу, почти вплотную к стеклу веерного окошка над дверью. Стекло давно потемнело от грязи, однако маленький, размером с монету кружок на нем поддерживали в чистоте. Сквозь этот глазок мальчишка мог видеть весь коридор и при первых же признаках опасности осведомлять о ней не только класс, но и Профессора.
Редко случалось, чтобы Баркентин или Смерзевот обходили классы, и все же почиталось за лучшее, приходя в класс, первым делом подсаживать веснушчатого пострела на шкаф, ибо ничто так не досаждало мальчикам, как неожиданная помеха в их занятиях.
В то утро, лежа, будто игрушка, на верху шкафа, он так увлекся переменами счастья в ходе «игры», что уж больше минуты не взглядывал в глазок. А когда взглянул, то футах в двадцати от двери увидел слитную, подобную черной приливной волне, фалангу Профессоров с самим Смерзевотом впереди и над ними, катившим в высоком кресле на колесиках.
Возглавлявший фалангу Смерзевот на голову, даже на плечи превышал остальных, хоть и сидел в своем высоком, узком кресле отнюдь не распрямясь. Квартет приделанных к ножкам колесиков визжал, само же кресло раскачивалось взад-вперед, толкаемое младшим учителем, которого маленький соглядатай не видел, поскольку уродливое, высокое сооружение заслоняло его – уродливое до невероятия, с непропорционально большим «подносом» на уровне Смерзевотова сердца и ободранной приступкой для ног.
Та часть лица Смерзевота, какая возвышалась над подносом, позволяла заключить, что он не спит – верный признак того, что случилось нечто из ряда вон выходящее.
Шуршащую тьму за его спиной сплошь заполняли Профессора. Что уж такое приключилось в их собственных классах, и зачем их могло – в какое угодно время, не говоря о самом начале дня, – занести на этот дремотный этаж замка, догадаться было невозможно. И тем не менее, вот они – здесь, и мантии их обметают, шепча, обе стены коридора. Некая напряженность ощущалась в их поступи, своего рода повальная серьезность, отчасти пугающая.
Кроха-мальчик на шкафу предостерегающе заверещал, и в голосе его прозвучала визгливая нота, никогда прежде однокашниками не слышанная.
– Зевотник! – взвизгнул он. – Быстро! быстро! быстро! Зевотник и вся компашка! Снимите меня! Снимите!
Ритм рисковой игры нарушился. Ни единого снаряда не просвистело мимо головы последнего мальчишки, что вылетел из солнечного света и врезался в кожаную стену. Миг – и в классной стало подозрительно тихо. Мальчики в четыре ряда сидели, полуоборотясь, за партами, головы их клонились набок, они прислушивались к визгу колесиков Смерзевотова кресла, катившего к ним в тишине.
Кроха соскочил с высоты для него огромной прямо в руки крупного подростка с соломенными волосами.
Две половых доски отволокли на их место прямо под Профессорским столом и вбили в узкие длинные полости. Но при этом совершили ошибку, замеченную, когда исправить что-либо возможности уже не было. Одну из досок второпях уложили не той стороной.
На самом же столе так и продолжала похрапывать черная, тяжкая, на собаку похожая груда. Даже визгливый вопль часового вызвал лишь легкий встрепет ее сочленений.
Любой из мальчиков первого ряда, сочти он возможным достичь Профессорского стола и вернуться на место до появления Смерзевота с его командой, стряхнул бы складки мантии с головы Кличбора, лежавшей на столешнице между руками, и растряс бы его самого, хоть в какой-то степени вернув ему способность осознавать окружающее; ибо черная, бесформенная груда и вправду была старым учителем, укрытым тканью его собственной мантии. Ученики-то и набросили ее поверх преподобной главы Кличбора, как делали всякий раз, что он засыпал.
Но времени не было. Визг колес замер. Громко топоча и шаркая ногами, Профессора сомкнули ряды за спиной своего начальника. Дверная ручка начала поворачиваться.
Когда дверь открылась, за нею обнаружилось тридцать с небольшим мальчиков, которые, согнувшись над партами и сведя от усердия брови, истово скребли перьями.
На миг наступила жуткая тишина.
Затем голос младшего учителя, господина Муха, возвестил из-за спинки Смерзевотова кресла:
– Школоначальник! – и весь класс вскочил на ноги. Весь, кроме Кличбора.
Вновь заскрипели колеса, и высокое кресло въехало в один из заляпанных чернилами проходов между партами.
К этому времени в классную проникли вслед за Школоначальником и ученые шапочки, под плоскими верхушками которых без труда различались лица Опуса Трематода, Пикзлака, Перч-Призма, Вроста, Фланнелькота, Стрига и Мерцлина, Цветреза и прочих. Объезжавший классы Смерзевот, проинспектировав очередной, отсылал мальчишек в краснокирпичный двор, а учителей увлекал за собою, – так что теперь за ним тащился почти весь его штат. Вскоре мальчикам предстояло рассыпаться широким веером и выступить на целодневные поиски Титуса. Ибо причиной неслыханной нынешней суматохи стало его исчезновение.
Ах, сколько милосердия в том, что человек не ведает своего ближайшего будущего! Сколь страшно, сколь цепеняще было бы предвидение всеми грядущего события, от коего их отделяло лишь несколько секунд! Ибо ничто, кроме предвидения, не могло бы остановить того, чему предстояло внезапно свалиться на них.
Школяры еще стояли, господин Мух, младший учитель, достигший конца прохода, уже собрался поворотить кресло влево и подкатить его к столу Кличбора, дабы Смерзевот мог побеседовать со старейшим из своих Профессоров, когда произошла катастрофа, затмившая даже страшный факт исчезновения Титуса. Господин Мух поскользнулся! Заносчивая мелкая походочка его внезапно выродилась в кривой перебор ногами. Ноги его вдруг начали выстреливаться туда-сюда, как у лягушки. Но сколько ни дергались они, им не удавалось крепко утвердиться на скользком полу, ибо Мух наступил на ту самую доску, которую возвратили – перевернув – на ее место под столом Кличбора.
Отцепиться от Высокого Кресла Мух не успел. Кресло раскачивалось над ним, подобное башне, – и пока выстроившиеся длинной шеренгой Профессора вертели головами, выглядывая из-за плеч друг друга, пока мальчики стояли, оцепенев, за партами, случилось нечто, перепугавшее их куда сильнее, чем они могли когда-либо помыслить.
Ибо как только Мух с треском обрушился на пол, колеса высокого кресла, взвизгнув в последний раз, завертелись волчком, все шаткое сооружение подскочило, словно безумное, и с верхушки его что-то взвилось высоко в воздух. То был Смерзевот!
Он подлетел едва ли не до потолка и, будто гость с иной планеты, гость из вселенских царств дальнего Космоса, устремился, плеща всеми знаками Зодиака, к земле.
Когда б имел он у губ длинную медную трубу, когда б ему достало сил изогнуть спину и взмыть, приближаясь к полу, вверх, и промахнуть через комнату над головами школяров, над смятыми складками ткани, чтобы проплыть сквозь листву платана, над задворками Горменгаста и навеки покинуть рациональный мир, – тогда, если бы только в его власти было проделать все это, жуткого звука можно было б избежать: жутчайшего, тошнотворного звука, коего ни единый из мальчиков и Профессоров, услышавших его в то утро, забыть уже не сумел. Звук этот затемнил сердце и разум. Он затемнил и самый солнечный свет, заливавший летний класс.
Но мало того, что всех оцепенил треск, с которым раскололась, точно яйцо, голова Смерзевота – все словно сговорилось породить величайший из ужасов, и Рок распорядился так, что Школоначальник, пав совершенно отвесно, врезался макушкой в пол да так и остался стоять вверх ногами, сохраняя жуткое равновесие, как бы окоченев в преждевременном rigor mortis[5].
Дряблый, невесомый, слабенький Смерзевот, сей архисимвол спихивания обязанностей, отрицания и апатии, выглядел теперь так, словно вмещал – в перевернутом состоянии – больше воли к жизни, чем когда бы то ни было. Его закоченевшие в смертной судороге конечности оказались положительно мускулистыми. Расплющенный череп как будто поддерживал равновесие в теле, вдруг отыскавшем основание для продолжения жизни.
Первое после всхлипа ужаса движение, совершившееся в солнечном классе, произвели останки того, что было недавно Высоким Креслом.
Из-под них явился младший учитель – рыжие волосы вздыблены, бойкие глазки выпучены, зубы стучат от страха. Увидев своего стоящего на голове господина, он рванулся к окну. Ни следа былой заносчивости не виделось в нем, присущее ему чувство приличия было оскорблено настолько, что он не желал ничего, как только поскорее покончить с собой. Вскарабкавшись на подоконник, Мух перекинул ноги наружу и полетел к квадрату двора, лежащему в сотне футов внизу.
Из шеренги Профессоров выступил Перч-Призм.
– Все мальчики немедля удаляются во двор красного камня, – провозгласил он дробным, высоким стаккато. – И все тихо ждут там дальнейших распоряжений. Петрушкер!
Отрок с низко отвисшей челюстью и остекленелыми глазками дернулся, как ударенный.
– Петрушкер, – повторил Перч-Призм, – ты возглавляешь класс; Чеснокер, ты замыкающий. А теперь поторапливайтесь! Быстрее! А ну, равнение на дверь. Ты! да, ты, Шалфеер-младший! и ты, Мятник, или как тебя там, проснитесь. Ходу! ходу! ходу!
Ошарашенные школяры потекли в дверь, не отрывая глаз от покойного Начальника.
Трое-четверо прочих Профессоров, отчасти опомнившись после первого страшного потрясения, помогли Перч-Призму вытолкать учеников из класса.
Ну вот, мальчиков в классе не осталось. Солнечный свет играл на пустых партах, освещая лица Профессоров, но почему-то оставляя их мантии и шапочки такими черными, точно они одни и пребывали в тени. Освещал он и подошвы башмаков Смерзевота, назидательно указующие в потолок.
Оглядев Профессоров, Перч-Призм понял, что и следующий шаг предстоит сделать ему. Черные бусины глаз его засверкали. То, что сходило у него за нижнюю челюсть, выпятилось вперед. Круглое, детское, поросячье личико преисполнилось деловитой решимости.
Он открыл аккуратный, обличающий некоторую жесткость натуры ротик, собираясь попросить помощи в придании трупу благоприличного положения, но тут, со стороны совсем уж неожиданной прозвучал приглушенный голос. Он показался и далеким, и близким. Поначалу все затруднялись различить хотя бы слово, но миг-другой спустя голос зазвучал с большей ясностью.
– Нет, мальчик, я так не думаю, – произнес он, – ибо та любовь давно уж утрачена, моя королева, между тем как Кличбор оберегает вас… – И сонный голос продолжил в дремоте. – …когда подкрадутся… лев… я оборву им гривы… у-у-у… о-о-о. Коль змеи засипят на вас, я их попру ногами… надо полагать… и хищных птиц бесстрашно расточу.
Из-под складок ткани послышался свист и неожиданно беспозвоночная масса, дрогнув, начала расправляться: то Кличбор неспешно оторвал голову от рук. Еще не высвободившись из-под последних наслоений мантии, старик сел, выпрямившись, в учительском кресле и, пока он сдирал руками ткань с головы, голос его уже донесся из тьмы:
– …Назовите мне перешеек! – гулко бухнул он. – Оттростик?.. Блото?.. Птичтопь?.. Трясин?.. Волгл?.. Что! Может хоть кто-нибудь сообщить своему старому учителю название перешейка?
Рванувшись, Кличбор выпутал голову из последних покровов мантии и явил на свет длинное, слабое, благородное лицо, голое и маститое, как у какого-нибудь глубоководного монстра.
Прошло несколько мгновений, прежде чем его бледно-голубые глаза приноровились к освещению. Он поднял лепное чело и заморгал.
– Назовите мне перешеек, – повторил он, но уже не столь настоятельным тоном, ибо начал осознавать тишину, стоящую в классе.
– Назовите… мне… перешеек!
Глаза его уже свыклись со светом настолько, что он различил прямо перед собою стоящего на голове Школоначальника.
В необычайной тишине внимание Кличбора столь неотрывно приковалось к мреющему перед ним призраку, что отсутствия учеников он вовсе и не заметил.
Кличбор вскочил на ноги и, вытянув шею вперед, прикусил кулак. Затем вернул голову на место и встряхнулся, как большая собака; затем снова склонился, вгляделся еще раз. Про себя он молился, чтобы все это оказалось сном. Но нет, какой уж там сон. Кличбору и в голову не пришло, что Школоначальник мертв, и потому, с немалым усилием (полагая, что в душе Смерзевота совершился некий коренной перелом и он, в виде прелюдии к изъяснению такового, демонстрирует Кличбору чудеса балансирования), он (Кличбор) поаплодировал большими, красиво вылепленными ладонями, а завершив эту череду почтительных хлопков, соорудил на лице выражение и заинтригованное, и изумленное, расправил плечи, склонил голову набок, возвел брови и поднес ко рту толстый указательный палец правой руки. Кончики губ его приподнялись, хотя могли и опуститься, поскольку все силы Кличбора уходили на то, чтобы не показать своего ужаса.
Тяжкие удары его ладоней прозвучали одиноко. Комната возвращала их полнозвучным эхо. Словно бы в ожидании поддержки или объяснения, Кличбор скосился на класс, но увидел лишь бесконечную пустоту оставленных парт и косо ложащиеся на них широкие, дымные столбы солнечного света.
Он схватился руками за голову и сел.
– Кличбор! – Старика заставил обернуться дробный, резкий голос, прозвучавший за его спиной. Сзади, безмолвные, как Смерзевот и опустевший класс, стояли в две шеренги Профессора Горменгаста – подобьем мужского хора или пародии на Судный День.
С трудом поднявшись на ноги, Кличбор провел ладонью по лбу.
– Жизнь и сама всего лишь перешеек, – произнес голос за ним.
Кличбор повернулся на звук. Челюсть его отвисла, нервная улыбка обнажила гнилые зубы.
– Что это? – спросил он, схватив говорившего за мантию у плеча и дернув к себе.
– Держите себя в руках, – ответил голос, принадлежащий, как выяснилось, Стригу. – Мантия-то новая. Благодарю вас. Жизнь – всего лишь перешеек, сказал я.
– Почему? – спросил Кличбор, продолжая косить одним глазом на Смерзевота. Он, собственно, и не слушал.
– Вы спрашиваете меня, почему! – сказал Стриг. – Подумать только! Наш Школоначальник, – сказал он (слегка поклонившись трупу), – только что перебрался на второй континент. Континент Смерти. Но задолго до того, как он хотя бы…
Перч-Призм перебил господина Стрига:
– Господин Трематод, – крикнул он, – вы не поможете мне?
Однако, несмотря на все старания, Профессорам только и удалось, что поставить Смерзевота на ноги. Прежде чем снести останки в Профессорскую покойницкую, они ухитрились отчасти усадить их в кресло Кличбора, хотя, по правде сказать, скорее прислонили их к креслу, чем усадили в него, ибо Смерзевот так и остался тугим и неподатливым, будто морская звезда.
Ладно хоть мантию расправили. Присыпали мелом, соскобленным с аспидной доски, лицо, а когда нашли, наконец, среди обломков Высокого Кресла плоскую шапочку Смерзевота, то с должной благопристойностью водрузили ее на голову усопшего.
– Господа, – произнес Перч-Призм, когда все, велев младшему из Профессоров сбегать за доктором, гробовщиком, а затем в краснокаменный двор – уведомить школяров, что остаток дня им предстоит потратить на поиски однокашника, Титуса, – вернулись в Профессорскую. – Господа, – произнес Перч-Призм, – у нас два не терпящих отлагательства дела. Во-первых, нам, несмотря на задержку, надлежит незамедлительно приступить к поискам юного Графа; а во-вторых, необходимо, во избежание анархии, сию же минуту назначить нового Школоначальника. По моему мнению, – продолжил Перч-Призм, стискивая пальцами плечи своей мантии и покачиваясь на каблуках взад-вперед, – по моему мнению, выбор должен, как обычно, пасть на старшего члена штата, какова бы ни была его квалификация.
Все согласились с ним сразу. Все до единого увидели, как еще более праздное будущее распахивает перед ними свои горизонты. Один лишь Кличбор рассердился. Ибо в душе его смешивалось с гордыней негодование на перехватившего инициативу Перч-Призма. Как наиболее вероятный Школоначальник, править собранием должен был он, Кличбор.
– Что вы имели в виду, говоря «какова бы ни была его квалификация»… черт вас возьми, Призм? – взревел он.
Жуткие содрогания в центре комнаты – там, где разлегся на одном из столов Опус Трематод, – наводили на мысль, что господину этому не хватает воздуха.
Он завывал от смеха, как сотня гончих, хоть и совершенно беззвучно. Трематода трясло, мотало из стороны в сторону, слезы текли по грубому, мужественному лицу его, похожий на длинную булку подбородок содрогался, указывая в потолок.
Кличбор, отворотясь от Перч-Призма, обозрел господина Трематода. Краска залила благородный лик старика, но затем кровь вдруг отхлынула от щек его. В один ослепительный миг Кличбор узрил свою судьбу. Стоит он или не стоит во главе этих людей? Является этот миг или не является тем, критическим, в который ему надлежит проявить власть – либо отказаться от нее навсегда? Вот они перед ним, весь конклав. Вот он, Кличбор, стоит пред коллегами на глиняных ногах, во всей своей слабости. И что-то в старике по-прежнему не вяжется с гордой лепкой его лица.
В ту минуту Кличбор понял: он обязан показать им, что вылеплен из гораздо лучшего, чем они думают, теста. Он знал, что такое честолюбивые помыслы. Правда, Кличбор знавал их в давние года, и с тех пор они его более не посещали, но ведь знавал же.
Сообразив, что если не начать действовать без промедления, случая действовать ему больше может и не представиться, он совершенно обдуманно снял с ближайшего стола каменную бутылку красных чернил, подскочил к господину Трематоду, оглядел его откинутую голову, зажмуренные глаза, разинутые в пароксизме сейсмического хохота мускулистые челюсти, и одним поворотом запястья выпростал все содержимое бутылки в горловую воронку Трематода. И повернувшись к Профессорам:
– Перч-Призм, – возгласил он исполненным такой патриархальной властности тоном, что поразил Профессоров не менее, чем номером с бутылкой, – вам надлежит заняться организацией поисков Его Светлости. Возьмите с собой на краснокаменный двор весь штат. Фланнелькот, отправьте господина Трематода в лазарет. Призовите к нему врача. О результатах доложите нынче вечером. Меня вы найдете в кабинете Школоначальника. Приятного вам утра, господа.
И вея мантией, и потряхивая серебристыми волосами, он вышел из комнаты, и старое сердце его колотилось, как безумное. О, радость распорядчика! О, радость! Едва закрыв за собою дверь, Кличбор чудовищными, высокими скачками понесся к кабинету Школоначальника и рухнул в начальственное кресло – его кресло, отныне и навек! Он подтянул к подбородку колени, скособочился и заплакал, впервые за многие годы ощущая неподдельное счастье.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Подобно грачам, что кружат черной тучей над гнездами, Профессора, обуянные вихрем мантий и шкрябаньем академических шапочек, бочком-бочком, под хлопанье ткани, текли, каждый на свой манер, к узкой щели в боковой стене Залы Наставников, а там и сквозь нее.
Щель эта походила не столько на дверь, сколько на трещину, хоть и виднелись на ее притолоке остатки немногих досок, неосмысленно свисающих сверху, доказывая, что дверь здесь когда-то имелась. На досках этих едва различались слова: «Профессорские Покои: Строго приватно», – над коими чья-то непочтительная рука начертала горностая в шапочке и мантии. Обращали когда-нибудь Профессора внимание на этот рисунок или не обращали, – с определенностью можно сказать, что сегодня он был им неинтересен. Им было довольно протиснуться сквозь лаз в стене и тьма поглощала их одного за другим.
Притом что собственно дверь в лазе отсутствовала, сомневаться в «строгой приватности» Профессорских покоев не приходилось. Все, лежавшее за этой щелью в массивной стене, оставалось тайной для многих поколений, тайной, открывавшейся лишь сменяющим друг друга поколениям Профессоров – этой древней, непостижимой ораве, соваться в дела которой запрещала вековая традиция. Состоял некогда в одном давнем их штате молодой человек, заикнувшийся было о «прогрессе», так его немедля турнули.
Не Профессорское это дело, перемены. Дело Профессоров – с пониманием и одобрением созерцать шелушащуюся краску, заржавелый кончик пера, изрезанную крышку парты.
И вот уже они, все и каждый, пронизали тесный лаз. Ни души не осталось в Зале Наставников. Будто и не было здесь никогда никого. Зуд осы на пустом дощатом полу грянул громовым ревом, и тишина, словно некая субстанция, вновь затопила залу.
И где же теперь Профессора? Что поделывают? Они уже одолели треть кривого сводчатого коридора, завершавшегося нисходящим лестничным маршем, у подножья которого стоял титанический турникет.
Пока Профессора перемещались, словно гидроглавый дракон с сотней плещущих крыльев, можно было заметить, что при всем зловещем обличье верхней половины чудовища многочисленные ноги его не лишены определенной распущенности. Маленькие ножки мрака чуть ли не мельтешили, едва ль не приплясывали, большие же плюхали, порождая ступнями эхо, игриво и беззаботно, как будто приятеля хлопали по спине.
Впрочем, он не был таким уж веселым, этот огромный, сочлененный дракон. Ибо имелись у него две ноги, шагавшие не столь бойко, как прочие. Обе принадлежали Кличбору.
Как ни приятно быть Школоначальником, перемены в образе жизни, сопряженные с новым постом, уже досаждали старику. И все-таки разве не проглядывала в нем большая, нежели прежде, внушительность? Разве теперь он владел собою не в большей мере? Суровость и грусть проступали в лице его. Словно пророк, вел он своих подчиненных к покоям. Их покоям, больше уже не его. Вступив в должность Школоначальника, он лишился комнаты над Профессорскими Покоями, которую занимал три четверти жизни. Только ему из всех Профессоров предстояло вернуться назад, когда он сопроводит подчиненных на строго отмеренное расстояние и в одиночестве направиться в расположенную над Залой Наставников начальственную спальню.
Со времени, когда он впервые облачился в зодиакальную мантию высшего должностного лица, для него наступила трудная пора. Выиграл ли он в борьбе за власть или проиграл? Он жаждал уважения, но любил также и праздность. Время рано или поздно покажет, суждено ли благородству царственной главы Кличбора стать символом его руководящего положения. Пусть он и признанный начальник штата учителей, но коридоры Горменгаста топчет наравне с последним из учеников. Ему надлежит быть мудрым, строгим, но великодушным. Его должны уважать. То-то и оно… уважать. Не означает ли это, что работать придется сверх привычного?.. В его-то возрасте?..
Возбуждение, обуревавшее многоразличные ноги дракона, явственно проступило, лишь когда Профессора расстались с Залой Наставников, а заодно – и со своими обязанностями. Ибо труды их в классных комнатах Горменгаста на этот день завершились, и если они ценили что-то превыше всего, если Профессорские сердца влеклись хоть к чему-то, так это – к сладкому трепету, с которым Профессора каждодневно в пять часов возвращались к своим обителям.
Они уже вдыхали сокровенный воздух своих владений. Укромные улыбки играли на их лицах. Они приближались к миру, который понимали – не головами, но немым, упоенным, атавистическим разумением костного мозга.
Впереди долгий вечер. Пятнадцать часов не придется им видеть ни единого мальчишки с измазанной чернилами рожей.
С глубокими вздохами множества грудей гидроглавый дракон приблизился к каменной лестнице. За хвостом его, под сводчатым потолком длинного коридора, висела, скручиваясь кольцами, неосязаемая змея трубочного дыма.
Почти неприметное расширение коридора теперь уже бросалось в глаза. Движения Профессоров стали менее стесненными, дракон начал распадаться на куски. Расширение коридора обратилось в нечто необычайное, ибо перед Профессорами раскинулась величавая перспектива деревянных полов, тянувшаяся до места, в котором стены (отстоящие здесь одна от другой футов на сорок) резко расступались в обе стороны, охватывая нависшую над лестничным маршем просторную деревянную террасу. Марш был изрядно широк, и в распоряжении сходящих по нему Профессоров имелось достаточно места, которое они могли бы заполнить (явись им подобная прихоть), но, тем не менее, хоть вольность их повадки и возросла – ноги затопали шибче и замелькали шустрее, – у подножия лестницы снова образовался затор: обойти древний турникет и попасть в расположенную за ним ветхую палату не составляло никакого труда, да только обычай требовал, чтобы в нее проникали непременно сквозь турникет.
Наклонная кровля над лестницей пребывала в состоянии распада, зашедшего так далеко, что свет обильно лился в ее проломы, ложась золотистыми лужами по всему огромному маршу с его невысокими ступенями и широкими террасками плоского камня.
И вот теперь, после непростого пути из Залы Наставников, Великий Турникет задержал Профессоров.
Впрочем, спешить им было некуда. Не было ни толкотни, ни ажитации. Профессора вернулись домой. Апартаменты, окружавшие маленький квадратный дворик, ожидали своих хозяев. Ну, придется задержаться чуть дольше, чем хотелось бы, и что с того? Долгий, успокоительный, архаический, ностальгический, миндалем веющий вечер лежал впереди, а за ним – долгая, исполненная уединения ночь, после которой лязганье колокола разбудит их, и день, состоящий из пометок перьями и ногтями, шпаргалок и разбитых очков, чернил и чисел, береговых линий, предлогов, перешейков и проб, бумажных галок, пробирок, рогаток, химикалий и призм, дат, сражений, ручных белых мышей и сотен еще не сформировавшихся, гораздых на выдумки, недоумевающих лиц с красными, обветренными ничего не слышащими ушами, не завяжется снова.
Люди в мантиях и плоских ученых шапочках неспешно, почти величаво, проследовали один за другим через огромный красный турникет, гуськом втекая в лежащую за ним палату.
Впрочем, Профессора по большей части стояли стайками или сидели на нижних ступеньках, ожидая, когда наступит их черед проследовать через «турник». Торопливости никто не выказывал. Спешить некуда. Кое-где можно было приметить ученого мужа, привольно улегшегося на одной из ступенек или каменных площадок. Там и сям небольшие группки их, подобрав мантии, сидели, точно туземцы, на корточках. Кто-то – в тени, и эти казались очень темными, будто бандиты в неясном свете; кто-то – рисуясь силуэтами на фоне дымчатых, золотистых столбов солнечного света; кто-то – стоя, как бы оцепенев, в последних проливавшихся сквозь дырявую кровлю лучах.
Маленький мускулистый господин в бороде лопатой, покачиваясь, спускался по широким ступеням на руках. Голова его была по большей части укрыта от взглядов спадающей мантией, так что ему приходилось не только поддерживать тело в равновесии, но и нащупывать невидимыми руками край каждой ступени. Правда, время от времени голова выставлялась из складок мантии, и борода ненадолго показывалась грубой черной лопатой в нескольких дюймах от ступеней.
Среди тех немногих, кто озадаченно наблюдал за ним, не было никого, не видавшего это представление уже сотни раз. Некто, долгоногий и долгорукий, сидел, подобрав к синеватой челюсти колени и рассеянно поглядывая на силуэты коллег, сбившихся в кучку под роящимися золотыми пылинками. Если бы он сидел к ним поближе и не был так углублен в свои мысли, то, пожалуй, расслышал бы кое-какие странноватые восклицания.
Впрочем, он ясно видел, что в центре этой отдаленной группы некто приземистый и опрятный раздает коллегам что-то похожее на маленькие кусочки плотной бумаги.
Собственно, это они и были. Бойкий Перч-Призм распределял пригласительные билеты, доставленные ему в тот день особым нарочным.
Ирма и Альфред Прюнскваллоры
надеются иметь удовольствие
увидеть……………………..
числа……………….. (и проч.)
Приглашенные один за другим получали карточки и ни единый Профессор не смог воздержаться от удивленного аха либо хмыка или хотя бы прищура.
Некоторые были ошеломлены до того, что им на недолгий срок, пока не выровнится биение сердца, пришлось опуститься на ступени.
Стриг и Сморчикк уже принялись, постукивая по зубам позолоченными краешками приглашений, строить догадки относительно потаенного психологического смысла таковых.
Трематод, широкий безгубый рот которого изрыгал бесконечные клубы густого, облаковидного дыма, понемногу приготовлялся украсить исхудалое лицо свое гигантской улыбкой.
Фланнелькот взволновался до того, что жалко было смотреть, и уже пытался стереть с уголка карточки, каковую он решил всенепременно обрамить, нечистый след от большого пальца.
Кличбор стоял, отвесив массивную, как у пророка, нижнюю челюсть.
Общее число пригласительных билетов равнялось шестнадцати. Приглашены были все, вхожие в Кожаную Комнату.
Их, приглашения, то есть билеты, доставили, когда в Профессорской из учителей находился только Перч-Призм, отчего он и вызвался лично вручить билеты всем прочим.
Длинный кожистый рот Опуса Трематода вдруг распахнулся на лошадиный манер, и по испещренному солнцем помещению раскатился вой мертвенного веселья.
Десятка два плоских шапочек поворотились к нему.
– Ну, право же, – произнес резкий, отчетливый голос Перч-Призма. – Право же, дражайший Трематод! Разве так полагается принимать приглашение от дамы? Давайте-ка, прекратите.
Однако Трематод уже ничего не слышал. Мысль о приглашении на прием, устраиваемый Ирмой Прюнскваллор, каким-то образом пробилась сквозь самую чувствительно-тонкую область его грудобрюшной преграды, и он завывал и завывал, пока не лишился дыхания. Сипло пыхтя, припав к турникету, Трематод даже по сторонам не смотрел: он еще не покинул мир своего веселья; он, впрочем, сумел заново поднести пригласительный билет к влажным, галечным глазам, но лишь для того, чтобы раззявить в новом пароксизме широченную пасть – даром что все запасы смеха были уже исчерпаны.
Поросячьи черты Перч-Призма выразили подобие снисхождения, как если бы он понимал чувства господина Трематода, но был, при всем том, удивлен и рассержен присущей коллеге неотесанностью.
В пользу Перч-Призма можно сказать, что при всем его стародевичестве, при слишком отчетливом и неприятно педантичном выговоре, он обладал развитым чувством смешного, нередко заставлявшим его хохотать, когда разум и гордость взывали совсем к иному.
– Ну-с, а наш Школоначальник? – спросил он, оборотясь к персоне, так и стоявшей с ним рядом, распахнув, будто могила, зев. – Интересно узнать, что думает он. Что думает обо всем этом наш Школоначальник?
Кличбор испуганно дрогнув, очнулся. Он огляделся вокруг с меланхоличным величием занемогшего льва. Затем сообразил, что рот разинут, и закрыл его – неторопливо, дабы никто не подумал, что он станет из-за кого-то там спешить.
Он скосил безучастный взгляд на Перч-Призма, заносчиво глядевшего на него снизу вверх, постукивая лоснистой карточкой по блестящему ногтю большого пальца.
– Драгоценнейший Перч-Призм, – произнес Кличбор, – какое вам, спрашивается, дело до моей реакции на то, что, в конце-то концов, не такая уж в моей жизни и редкость? Вполне возможно, знаете ли, – продолжал он, изъяснясь слогом по-прежнему тяжеловесным, – весьма и весьма возможно, что в молодые годы мои я получал больше приглашений на разного рода торжества, нежели когда-либо получили или могли когда-либо надеяться получить за всю вашу жизнь вы.
– Ну а я о чем? – отозвался Перч-Призм. – Потому-то нам ваше мнение и интересно. Тут нам только Школоначальник и способен помочь. Что может быть более осведомительным, нежели получение сведений из надежнейшего источника, из уст самой, как принято выражаться, скаковой кобылки?
Присущая Перч-Призму опрятность мышления уже заставила его пожалеть, что слова эти обращены не к Опусу Трематоду – рот Кличбора, хоть и мало имевший в себе человеческого, на лошадиный нисколько не походил.
– Призм, – ответил Кличбор, – в сравненьи со мною, вы – человек молодой. Но не настолько, чтобы совсем ничего не ведать о нормах пристойного поведения. Будьте любезны, при всем вашем, достойном, скорее, свиномордой змеи, отношении к жизни, отыскать в душе место, по меньшей мере, для одного проявления деликатности, а именно: извольте обращаться ко мне в манере не столь оскорбительной. Я не позволю пререкаться со мной. Моим подчиненным надлежит усвоить это раз и навсегда. И я не желаю быть третьим лицом единственного числа. Я стар, допускаю. Но я, тем не менее, здесь. Здесь! – рявкнул он, – и стою на тех же каменных плитах, что и вы, наставник Призм. И я существую, черт подери! со всеми моими правами на то, чтобы со мной говорили и титуловали меня подобающим образом.
Он закашлялся и потряс львиной своей головой.
– Смените идиоматику, мой юный друг, либо грамматическое время, и одолжите мне носовой платок, чтобы прикрыть голову: она у меня раскалывается от этого солнца.
Перч-Призм немедля извлек синий шелковый платок и накрыл им раздраженную, величавую главу.
– Бедный, старый, колючий Кличбор, бедный, старый кусака, – задумчиво шептал он на ухо старику, завязывая узелки на свисающих со старческой головы уголках платка. – Ведь это именно то, что ему нужно, так пусть же он состоится – дикий разгул у Доктора, ха-ха-ха!
Кличбор, раздвинув вяловатые губы, улыбнулся. Никогда не удавалось ему надолго выдерживать поддельное достоинство; впрочем, он сразу вспомнил о своем положении и произнес замогильно властным голосом:
– Не зарывайтесь, сударь. Довольно вам наступать мне на мозоли.
– Воля ваша, мой дорогой Фланнелькот, а все-таки что-то странное затеяли эти Прюнскваллоры, – говорил, между тем, господин Корк. – Я, вообще говоря, сомневаюсь, что могу позволить себе посетить их. Я вот думаю, возможно, вы, э-э-э, смогли бы ссудить мне…
Но Фланнелькот прервал его.
– Меня тоже позвали, – сказал он, и пригласительный билет задрожал в его руке. – Много уже времени прошло…
– Много уже времени прошло с тех пор, как внешний мир нарушал подобным образом покой наших вечеров, – перебил его Перч-Призм. – Вам, господа, не мешало бы привести себя хоть в какой-то порядок. Вот вы, господин Трематод, – когда вы в последний раз видели даму?
– И еще бы столько же лет не видел, – ответил Опус Трематод и шумно втянул сквозь трубку воздух. – Всегда был равнодушен к этим курицам. Раздражают меня. Может, и не прав – вполне возможно – однако это уж другая история. Но внутренне – нет. Способны совершенно испортить день.
– Но вы же примете приглашение, не так ли, мой добрый друг? – спросил Перч-Призм, клоня прилизанную круглую голову набок.
Прежде чем ответить, Опус Трематод зевнул и потянулся.
– На когда там назначено, дружище? – поинтересовался он (точно для него, коего все вечера были схожи, как два зевка, это составляло какую-то разницу).
– Следующая пятница, семь часов вечера – просьба подтвердить получение приглашения, вот так, – на одном дыхании сообщил Фланнелькот.
– Если дражайший старичина Кличбор пойдет, – выдержав долгую паузу, объявил господин Трематод, – я не смогу остаться в стороне, пусть мне даже заплатят за это. Полюбоваться на него – все одно, что в театр сходить.
Кличбор обнажил в львином рыке неровные зубы, вытащил из кармана записную книжечку и, не сводя с Трематода глаз, сделал в ней пометку. Затем, приблизясь к своему мучителю:
– Красные чернила, – прошептал он и разразился неуправляемым хохотом. Господин Трематод окаменел.
– Ладно… ладно… ладно… – наконец выдавил он.
– Далеко не «ладно», господин Трематод, – сообщил, совладав с собою, Кличбор, – и не будет ладно, покамест вы не научитесь разговаривать с вашим Школоначальником как воспитанный человек.
Сморчикк, обращаясь к Стригу:
– Что касается Ирмы Прюнскваллор, налицо явный случай зеркального помешательства, вызванный расширением устрашительного протока – но и не только им.
Стриг, обращаясь к Сморчикку:
– Не могу с вами согласиться. Это все тень Доктора, павшая на ободранную, обнаженную душу сестры, в каковой тени она видит неотвратимую неизбежность; и вот здесь, согласен, устрашительный проток играет определенную роль, поскольку протяженность шеи и общая фрустрация создают в ее подсознании обобщенную тягу к мужчинам – воспринимаемым, натурально, как суррогаты страшненьких кукол детства.
Сморчикк, обращаясь к Стригу:
– Возможно, оба мы правы на свой лад. – Он лучезарно улыбнулся другу. – Давайте оставим пока эту тему. Мы узнаем больше, когда увидим ее.
– Да заткнитесь же вы, наконец! Старые бабы, – взревел, состроив зверскую рожу, Мулжар.
– Ах, пойдемте, пойдемте, ага! – сказал Цветрез. – Давайте повеселимся на славу! Подумать только! Если здесь не холодает, ага! – можете назвать меня малярийным больным.
И верно: оглядевшись по сторонам, они обнаружили, что давно уже погрузились в густой сумрак, солнечные пятна сместились, а из всех Профессоров только они и остались на ступенях.
Знаком велев всем следовать за собой, Кличбор провел их сквозь красный турникет, а миг-другой спустя, когда все миновали его скрежещущее дышло и пошли через лежащую за ним темную, разваливающуюся палату, развернулся и в одиночестве полез по лестнице вверх, чтобы вскоре снова попасть в Залу Наставников.
Подчиненные же его, перейдя осыпающуюся палату, проследовали гуськом по странно узкому и высокому коридору и, наконец, спустившись еще по одной лестнице – древней, орехового дерева, – прошли коридором, за дальней дверью которого располагался их дворик.
Вот здесь, в общинном уединении их покоев, возбуждение, возраставшее с тех пор, как они покинули Залу Наставников, спало; зато на смену ему явилось возбуждение нового рода. Достигнув дворика, они окончательно осознали, что впереди у них – еще один привольный вечер. Чувство высвобождения исчезло, но ощущение более радостное убыстрило сердца и ноги Профессоров. Им казалось, будто кишечники их наполнились водою. Большие комки стояли в горле каждого. Слезы блистали в уголках глаз.
Опоры сложенной из темного, золотисто-розового кирпича галереи светились (хоть она и лежала в тени) вдоль всего дворика. Над сводами галереи, футов на двадцать выше земли, тянулась по всему периметру сложенная из розоватого кирпича терраса; в глубине ее стену через равные промежутки прорезали двери Профессорских жилищ. Каждую украшал, согласно обычаю, список прежних жильцов, завершавшийся именем нынешнего. Имена эти были с тщанием врезаны в черную древесину, вертикальные столбцы маленьких, но отчетливых букв почти заполняли все свободное место. Сами комнаты, тесные, одинаковой формы, рознились одна от другой так же, как рознились характеры их обитателей.
По возвращении домой каждый Профессор первым делом входил к себе и сменял черную служебную мантию на темно-красную, вечернюю.
Плоские шапочки вешались снутри на двери или швырялись через комнату на какую-нибудь подсобную полку, а то и просто в угол. Именно этими полетами и объяснялась обвислость большинства из них. Брошенные правильным образом: из дверей, навстречу легкому сквозняку, они взвивались высоко в воздух, – донышком кверху, кисточки веют внизу, как обезьяньи хвосты. И когда сразу тридцать шапочек возносились над двором в солнечном свете, тут-то и воплощался в реальность ночной кошмар школяра.
Облачась в винно-красные мантии, Профессора выходили обыкновенно из комнат на розоватый кирпич террасы и там, облокотясь на балюстраду, проводили наиприятнейшие из дневных часов, беседуя либо размышляя, пока вечерний гонг не сзывал их в трапезную.
Старому Дворнику зрелище это неизменно согревало сердце, когда он, окруженный со всех сторон мерцающими галереями и долгой чередой опирающихся локтями на балюстраду винно-красных Профессоров вверху, облезлой метлой гнал перед собою по сочного тона кирпичам, устилающим двор, стадо взволнованных листьев.
В этот именно вечер, хотя ни единая шапочка обычного своего полета не совершила, Профессора впали в состояние крайнего легкомыслия – в особенности, под конец вечерней трапезы в Долгом Зале, трапезы, за которой высказывались бесчисленные догадки касательно сокровенных мотивов, побудивших Прюнскваллоров разослать приглашения. Наиболее фантастическую выдвинул Цветрез, и сводилась она к тому, что Ирма, коей понадобился муж, решила поискать его среди них. Услышав это, хамоватый Опус Трематод зашелся в приступе непристойного хохота и с такой силой треснул сырым окороком ручищи своей по длинному столу, что в воздух взвился целый corps de ballet[6] ножей, вилок и ложек, а две ножки стола подломились, и то, что еще уцелело от ужина девяти сидевших за этим столом Профессоров, в самом причудливом беспорядке рассыпалось по полу. Тем, кто держал стаканы в руке, еще повезло, а вот те, чье вино оросило собою осколки посуды, на миг-другой впали в задумчивость, прежде чем общее настроение вечера вновь овладело ими.
Мысль, что кто-то из Профессоров вдруг станет мужем, представлялась всем до нелепости смешной. Не то чтобы они считали себя недостойными этого, отнюдь. Просто подобного рода события принадлежали к другому миру.
– О да, Цветрез, о да, вы безусловно правы, – уверил его Сморчикк, как только ему представилась возможность сказать хоть что-то и оказаться услышанным. – Мы со Стригом рассудили примерно в этом же духе.
– Именно, именно, – подтвердил Стриг.
– В моем случае, – продолжал Сморчикк, – сублимация довольно проста, ибо при всех тех орлах и скалах, которые я вижу во всяком треклятом сне, – а они донимают меня каждую ночь, не говоря уж об автоматическом письме, вполне выявляющем мою абсурдную любовь к Природе, – поскольку читая то, что я написал как бы в некоем трансе, я понимаю, как глупо пытаться объять мыслью природные феномены, кои, в сущности говоря, суть не что иное, как совокупленье случайностей… э-э-э… о чем бишь я?
– А какая, собственно, разница? – сказал Перч-Призм. – Суть дела в том, что мы приглашены: что все мы будем гостями, и главное: всем надлежит вести себя соответственно приличиям. Черт возьми! – провозгласил он, обозрев лица коллег, – куда было б лучше, если бы пригласили только меня.
Ударил колокол.
Профессора поднялись, как один человек. Настало время исполнить традиционный обряд. Перевернув длинные столы – а таковых имелось ровно двенадцать – кверху ножками, они уселись, один за другим, на исподы столешниц, как если бы столы были баркасами, а Профессорам предстояло вот-вот отплыть на весельной тяге в некий сказочный океан.
На миг повисло молчание, затем снова ударил колокол. Эхо его не успело еще замереть в длинной трапезной, а уж двенадцать экипажей неподвижной флотилии возвысили голоса свои в невразумительном гимне давних времен, когда он, предположительно, нес в себе некий смысл. Ныне же гимн этот медленно и прерывисто плыл в тусклом свете, но никто из поющих не тщился как-то прикрыть звучавшую в их голосах скуку. Вечер за вечером они, с тех пор, как стали Профессорами, выпевали эти строки, и пение их походило на похоронное, столь невыразительным было оно:
Он наш — Древний свод Вещих рун, Дряхлый том, В томе том Истин сонм. Скорбь веков Велика. Веры суть Между строк Не видна Уж давно. Скрип пера Перетек Через двух: Плоть и дух, В исток, В день, где Правит рок, Где цветок Не иссяк. Для ветров Дан Сын, Для гробов Дан дрозд. И рожь, Чтобы песнь Избыть. Ждет нож, Ждет меч, Чтобы жизнь Пресечь, Чтобы тех, Кто тут, Изгнать. Древний свод Забыть, Измельчить Во прах, А прах Попрать. Он наш!ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Опушка леса, под высокими ветвями которого стоял Титус, выглядела тканым занавесом листвы, похожим более на зеленую стену, возведенную для какого-то сценического действа, чем на живую поросль. Состояло ли назначение ее, столь отвесной, столь плотной, в том, чтобы скрыть какую-то зарождавшуюся здесь драму? Или то был просто задник, на фоне которого давал представления некий бессмертный мим? Что было сценой, кто – зрителями? Ниоткуда ни звука.
Рывком разведя ветви, Титус пролез между ними и скользнул, извиваясь, в зеленую мглу; еще рывок – упираясь теперь ногами в огромный боковой корень. Роса остудила листья и мох. Помогая себе локтями, Титус протолкнулся вперед и обнаружил, что густое сплетение ветвей почти полностью преграждает ему путь; однако желание пробиться сквозь заросли лишь обострилось, поскольку одна из ветвей, откачнувшись назад, хлестнула его по щеке, – мгновенная боль заставила Титуса сражаться с мускулистыми ветками до тех пор, пока верхняя половина его тела не протиснулась в щель, которой ноющие его плечи не позволяли сомкнуться. Титус вытянул руки вперед, отметая листву от лица, и, отдуваясь, восстанавливая дыхание, оглядел уходящее в ясную даль лесное ложе, подобное морю золотистого мха. На этом уходящем вверх просторе вставали, химерами снов наяву, призрачные скопления древних дубов. Подобные крапчатым богам стояли они, каждый на собственном заповедном участке земли, широкие прогалины мха текли меж их зелеными и золотыми рядами, теряясь в ясной перспективе.
Когда дышать стало легче, Титус осознал безмолвие повисшей перед ним картины – подобия золотистого полотна с сотнями величавых дубов, витые ветви которых всё разделялись и разделялись, завершаясь позолоченными кончиками пальцев – крепкими желудями и глубокими ворохами легендарной листвы.
Сердце Титуса громко билось, а теплое дыхание тишины между тем обтекало его, поглощая.
Последнее усилие, рывок, освободивший его от последних цепких веток, и рука тернового дерева уродливыми пальцами содрала с Титуса куртку. Он оставил ее свисать с ветки, с длинных шипов, пронзивших ее, будто когти вурдалака.
Когда шум борений с ветками стих и снова пало теплое неизбывное безмолвие, Титус ступил на мох. Мох оказался упругим, пружинистым, а золотистая поверхность его – на удивление плотной. Титус сделал еще шаг, высоко подняв ногу, а опустив ее, обнаружил, что нет ничего проще, нежели плавно перелиться в следующее движение. Эта почва была словно и создана для бега, ибо каждый шаг подбрасывал тело, понукая его сделать следующий. Скакнув вправо, Титус гигантскими прыжками понесся по темно-зеленому краю леса. На время восторг этих пролетов по воздуху поглотил его целиком, но, едва новизна их начала приедаться, ее сменил всевозрастающий страх, ибо тянувшаяся справа сплошная завеса лесной закраины выглядела бесконечной, уходящей в неразличимую даль; а неподвижное, беззвучное свечение дубов и бескрайние мшистые просторы слева, казалось, не менялись ни на йоту, хоть мимо Титуса и проплывало одно дерево за другим.
Ни единого птичьего зова. Ни единой белки среди ветвей. Ни единого падающего листа. Даже ноги Титуса ударяли в мох беззвучно; только легкое дуновение, скользнувшее мимо, и напомнило ему, что в мире существует нечто, именуемое звуком.
И теперь он возненавидел то, что так ему полюбилось. Возненавидел мертвое, ужасающее безмолвие. Возненавидел золотистый свет меж деревьями, бесконечные прогалины мха – даже скользящий полет от одного оставленного им отпечатка ступни к другому, который еще предстояло оставить. Ибо казалось, что его тянет к себе некое опасное место либо существо, и сил одолеть эту тягу у него нет. Трепет, с которым он взвивался в воздух, обратился в трепет Страха.
Вообще говоря, Титус боялся отлучаться от темной стены справа, поскольку лишь с ее помощью и мог определить, где находится; однако теперь он видел в ней часть какого-то дьявольского замысла, ему стало казаться, что если он так и будет цепляться за ее спутанный подол, то к конце концов окажется в лапах некоего затаившегося в засаде ужаса, поэтому Титус резко поворотил влево и, хоть простор дубравы уже представлялся ему обиталищем отвратительных призраков, помчал в самое ее золотистое сердце со всей, на какую был только способен, скоростью.
Он несся во весь опор, а страхи его все возрастали. Он стал скорее антилопой, чем мальчиком, но при всей его быстроте оставался все-таки новичком в искусстве полета по мху, – ибо внезапно, еще летя по воздуху с выброшенными в стороны, чтобы не потерять равновесия, руками, Титус мельком, на кратчайшую долю секунды, увидел живое существо.
Подобно ему, существо летело по воздуху, однако тем сходство и исчерпывалось. Титус был худощав, но тяжеловат. Существо же это казалось почти бесплотным. Оно плыло, подобно перышку, по золотистому воздуху, вытянув вдоль тела тонкие руки и чуть отвернув и склонив голову, как если бы та лежала на подушке из воздуха.
Теперь Титус вполне уверовал, что спит: что бег его совершается в безднах сна: что страх его есть страх ночного кошмара: что увиденное им – всего лишь привидение, и что, хоть оно его заворожило, было б нелепостью преследовать столь мимолетное видение ночи.
Если бы Титус твердо знал, что не спит, он, конечно, ринулся бы в погоню, но слишком робкой была надежда нагнать стройное существо. Ибо, хоть эмоции и способны пренебречь бодрствующим разумом, заглушить его, в снах мир неизменно остается логичным. И потому, страшась золотистых дубов своего сновидения, Титус так и несся скачками – без усилий, без звуков, как оно и подобает сну, – в глубины леса, по упругому бархату мха.
Однако, как ни уверен был Титус в том, что он спит, как ни упруг и легок был внешне этот летучий бег, усталость одолевала мальчика. Инкрустированные, користые стволы гигантских дубов проплывали мимо него. Пустота стала еще полнее и страшнее с тех пор, как блуждающий призрак проплыл, заступив ему путь.
Внезапно ощущение усталости и голода пронзило Титуса; и сразу же уверенность в том, что он спит, стала слабнуть. «Если я сплю, – подумал он, – зачем отталкиваться от земли? Почему бы просто не полететь?» И чтобы проверить эту мысль, он оставил усилия и следил лишь за тем, чтобы сохранять равновесие всякий раз, как удар о землю вновь поднимал его в долгий, фантастический перелет; однако импульс ослабевал, перелеты становились все более куцыми, и наконец полет Титуса прервался.
При этом сломе ритма вера Титуса в то, что он спит, развеялась полностью. Слишком настырным стал голод.
Он огляделся. Все тот же лес облегал его мягкой своей циклорамой – ненавистным золотым сном.
Но при всем ужасе, вновь овладевшем Титусом, который уже не верил, что спит, испуг его отчасти умерялся странным волнением, казалось, не умалявшимся, но набиравшим силу, пока оно не обратилось в трепещущий под ребрами ледяной шар. Что-то, чего он подсознательно жаждал, не то явилось ему в золотистой дубраве само, не то явило свой символ. Осознав, что он не спал с той самой минуты, когда (как давно это было!) прокрался в конюшни Горменгаста, мальчик понял, что стройный дух – это схожее с тростинкой, с перышком нечто, взмывавшее с полуотвернутым лицом пологими вспорхами над широкой, как луг, прогалиной, – реален, и в этот самый миг находится с ним вместе в дубраве и, быть может, следит за ним.
Теперь не одна лишь сверхъестественность призрака влекла к себе Титуса, но и страстная потребность снова увидеть существо, столь несхожее со всем, чем был Горменгаст.
И все-таки – что же он видел? Описать сие он бы не смог. Все совершилось так быстро – этот пролет через поле его зрения, прерванный, так сказать, раньше, чем глаза его изготовились. Отвернутое лицо… отвернутое. Что же взывало к нему? Что олицетворяла эта малость, крохотная частица жизни? Ибо в выражении, с которым она прорезала пространство, присутствовало то качество, по которому бессознательно изнывал Титус. Долгими глиссадами золотистой осы она, точно вымысел, созданный в редкостной, изысканной атмосфере, коей и дуновения никогда не долетало до Титуса, выражала, взлетая над прогалиной, самую суть отчужденности: врожденную неприручаемость, дистиллированную, тающую красоту.
Все совершилось мгновенно. Посеяв смятение в уме и в сердце Титуса.
Что ощутил он, когда остановил в это утро лошадь и услышал голоса горы и лесов, чей клик: «Ты рискнешь?» – отзывался в нем эхом. Он увидел существо, живущее само по себе, не питающее уважения к древним властителям Горменгаста, к святости вековечного Рода, к ритуалам, творимым среди истертых ногами каменных плит. Существо, которому мысль о том, чтобы склониться перед семьдесят седьмым Графом, была столь же чужда, сколь птице или древесной ветви.
Титус ударил кулаком о ладонь. Страх охватил его. И волнение. Зубы его лязгали. Не изменился ли несколько свет, полого падающий на прогалины сквозь кроны деревьев? Не менее ль мертвенной стала недвижность воздуха? Ибо на миг Титусу показалось, будто он услышал вздох в листве над своей головой. Не пахнуло ли некой жизнью оцепенение полуденного покоя?
Куда теперь повернуть, Титус не знал и узнать возможности не имел. Лишь знал, что не может возвратиться туда, откуда пришел. И потому зашагал так поспешно и легко, как мог (чтобы избавиться от разбуженного прыжками и привольными перелетами ощущения ночного кошмара), в ту сторону, где скрылось из виду загадочное, плывшее по воздуху существо.
Прошло не много времени, и ни на что не похожие, мшистые, тянущиеся меж дубов прогалины украсились купами папоротника, которые казались в своем безразличии к солнечным лучам силуэтами: столь темны были эти обвислые иссиня-зеленые ветви, столь светозарен золотистый фон. Дух мальчика мгновенно воспрянул, и когда пышный ковер сменился жесткими стеблями и буйным обилием цветущих трав, когда – что подействовало на Титуса живительнее всего – даль избавилась от древнего наваждения дубов, коим бросили вызов полчища иных деревьев и порослей, когда последний из этих узловатых монархов отступил, и Титус очутился в окружении более свежем – тогда, наконец, кошмар отвязался, и мальчик вернулся, лишним доказательством чего стал обуявший его голод, в ясный, определенный, реальный мир, который хорошо знал. Земля впереди весело шла под уклон. Как и на дальнем краю дубравы, здесь тоже были разбросаны скалы и папоротники; и Титус вскрикнул от счастья, увидев, после запустения и неизбывной безучастности золотистых прогалин, живую тварь, – лиса, который при звуке шагов Титуса пробудился от полуденного сна в тихом папоротниковом гнезде, с незаурядным самообладанием поднялся на ноги и ровно потрусил по склону прочь.
У подножия склона начинался орешник. То там, то тут серебристые березы выставляли из его листвы свои перистые головы или, подобные зеленой тени, возвышались под солнцем темно-зеленые падубы. Титус услышал голоса птиц. Чем бы утолить голод? Время диких плодов или ягод еще не настало. Он заблудился, заблудился напрочь, и веселое возбуждение, которое он ощутил, вырвавшись из дубравы, уже спадало, обращаясь в уныние, – но тут, пройдя орешником с четверть мили, Титус различил донесшийся с запада плеск воды; слабенький, но отчетливый. Снова побежал он – теперь уже в сторону прохладного звука, – но вскоре вынужден был опять перейти на шаг: ноги устали, отяжелели, земля была неровна, и местами ползучий плющ покрывал ее. Плеск воды мгновенно усилился, однако и падубов в орешнике стало попадаться все больше, и тени деревьев над Титусом и у ног его сгустились до сочной, темной, черноватой зелени. Вода уже громко пела в его ушах, но деревья сплотились настолько, что, когда Титусу вдруг открылась слепящая ширь стремительной, испятнанной пеной реки, он испуганно вздрогнул, и в тот же миг из тени леса на другом берегу выступил человек.
Человек этот был сухопар и костляв, очень росл и худ; высокие, тощие плечи его загибались вперед, голова с мертвенно-бледным лицом и редкой бородкой на выдвинутой, как бы с вызовом, нижней челюсти, была втянута в плечи. Одежда его состояла из некогда черной пары, ныне до того отбеленной солнцем и сотнями рос, что она обратилась в истрепанные оливково-серые лохмотья, все в пятнах, неразличимые среди лесной листвы.
Пока сухопарый спускался к реке, некое потрескивание, происхождения коего Титусу уразуметь не удалось, плыло над яркими водами. Казалось, оно раздается при каждом шаге этого человека, похожее на далекий мушкетный выстрел или хруст ломающегося сухого сучка, и прерывается, стоит человеку остановиться. Впрочем, Титус скоро забыл про странный треск, поскольку человек на другом берегу, сойдя к воде, побрел по ней туда, где посреди потока пекся на солнце плоский камень размером со стол.
Вытаскивая из-под лохмотьев длинную бечеву с крючком и насаживая наживку, человек оглядывался по сторонам – поначалу почти небрежно, потом со все большей настороженностью, пока наконец не бросил бечевку на камень и не уставился, окинув взглядом противоположный берег, прямо на Титуса.
Титус, почти заслоненный густой листвой и не издавший до сих пор ни звука, испугался, что его вдруг обнаружат, настолько, что кровь прилила к его лицу. Но отвести глаз от этого изможденного человека он не мог. Тот уже присел на корточки. В маленьких глазках его, горевших под твердым, точно скала челом, вспыхнул странный свет, и он во весь свой хриплый голос крикнул через реку:
– Мой господин! – То был резкий, грубый крик, с перехватом в горле – таким, словно голосу давно уж не приходилось звучать.
Титус, чувства коего разрывались между желанием бежать от этих горячих, безумных глаз и волнением, вызванным встречей с хоть каким-то живым человеком, пусть даже столь изможденным и диковинным, выступил под солнечный свет, к кромке воды. Ему было страшно, сердце гулко билось, но он ощущал и голод, и страшную усталость.
– Кто ты? – крикнул он. Человек встал на горячем камне. Голова его выдвинулась в сторону Титуса; долговязое тело задрожало.
– Флэй, – ответил он, наконец, едва различимо.
– Флэй! – воскликнул Титус. – Я слышал о тебе.
– Угу, – сцепляя ладони, отозвался Флэй, – …вполне возможно, мой господин.
– Мне сказали, что ты умер, господин Флэй.
– Не сомневаюсь. – Он опять огляделся, впервые оторвав взгляд от Титуса. – Одни? – Вопрос хрипло прозвучал над водой.
– Да, – ответил Титус. – Ты болен?
Титус никогда еще не видал столь исхудалого человека.
– Болен, светлость? Нет, мальчик, нет… просто изгнан.
– Изгнан! – воскликнул Титус.
– Изгнан, мальчик… Когда вам было только… когда отец ваш… мой господин… – И он вдруг закончил. – Ваша сестра, Фуксия?
– С ней все хорошо.
– А! – сказал тощий человек, – не сомневался. – В голосе его прозвучала едва ли не счастливая нота, затем, с нотой совсем иной: – Вы устали, мой господин, запыхались. Что привело вас?
– Я сбежал, господин Флэй, – удрал. Я голоден, господин Флэй.
– Сбежал! – с ужасом прошептал сам себе долговязый человек, однако встал и рассовал по карманам бечеву и крючок, не позволяя себе задать сотню жгущих ему душу вопросов.
– Слишком здесь глубоко – слишком быстро. Сделал переправу – валуны – полмили вверх – недалеко, светлость, недалеко. Идите за мной по берегу, по вашему берегу реки, мальчик – кролика съедим… – Казалось, он разговаривает сам с собой, бредя по воде к своему берегу. – …Кролика и голубя, а потом отоспимся в хижине… Совсем он себя загонял… сын лорда Сепулькревия… того и гляди, упадет… Расскажи ему где-нибудь… глаза как у ее светлости… Сбежал из Замка!.. Нет… нет… так делать негоже… Нет, нет… придется назад отослать, семьдесят седьмой Граф… В кармане носил… величиной с обезьянку… давно…
Так бормотал Флэй, шагая с Титусом, следовавшим за ним по другому берегу, вдоль кромки воды, пока не добрались они до валунной переправы после бесконечного, казалось, похода. Река в этом месте мелела, но сдвинуть и расставить валуны по местам все же оказалось для Флэя нелегким трудом. Пять лет уже продержались они под напором воды. Переправу Флэй соорудил безупречную, и Титус немедля перешел на его берег. Миг-другой простояли они, стесненно вглядываясь один в другого; затем, неожиданно, все накопившееся за день физическое возбуждение, все потрясения и лишения обрушились на Титуса и он упал на колени. Исхудалый человек мгновенно подхватил мальчика и, осторожно уложив его себе на плечо, зашагал меж деревьев. При всей исхудалости господину Флэю выносливости было не занимать. Река скоро осталась далеко позади. Длинные, жилистые руки крепко прижимали Титуса к плечу; тощие ноги пожирали расстояние широкой, неторопливой, мускулистой поступью – удивительно, если не считать потрескивания в коленных суставах, беззвучной. За время изгнания в лесах и скалах Флэй научился ценить молчание, а умение отыскивать путь стало для него, точно он и родился в лесу, второй натурой.
Быстрота и сноровистость его поступи говорили о близком знакомстве с каждым уголком и закоулком этих мест.
То шел он лощиной, по пояс в папоротниках. То поднимался по склону, покрытому красноватым песчаником; то огибал скалу, верхушка которой нависла над основанием, а пространную поверхность покрывали наросты глиняных ласточкиных гнезд; то спускался в бессолнечную долину; то шагал по заросшим грецким орехом скатам, с которых каждый вечер с отвратительным постоянством стаи сов отправлялись в свои кровопролитные вылазки.
Когда Флэй, взобравшись на вершину песчаного холма, на миг остановился, переводя дыхание и глядя на распадок внизу, Титус, несколько времени назад настоявший на том, чтобы идти своими ногами, – поскольку даже Флэю не по силам было тащить его вверх по крутому косогору, – остановился тоже и, опершись ладонями о колени, и чувствуя, как онемели его усталые ноги, наклонился вперед, отдыхая.
Распадок или долинку под ними ограждали от внешнего мира лесистые склоны, и только с южной ее стороны вставала скальная стена, заросшая мхом и лишайником, ярко сиявшими в лучах заходящего солнца.
В дальнем конце этой серо-зеленой стены имелись в скале три глубоких промоины – две в нескольких футах над землей, а одна на уровне песчаного дна лощины.
По дну тек небольшой ручей, расширявшийся посередине, образуя просторную чистую заводь – на дальнем, сужавшемся конце этого озерца, стояла грубой работы плотина. При всей ее простоте на возведение плотины ушло немало долгих вечеров. Флэй приволок два самых тяжелых, какие смог одолеть, бревна и уложил их один близ другого поперек потока. Оттуда, где стоял Титус, ясно различался водослив в середине плотины. Звучание его струилось и трелилось в безмолвии вечереющего света, стеклянный голосок наполнял долину.
Они спустились в нее, в мозаику песка и трав, и пошли вдоль потока, пока не добрались до плотины, до разлива плененной воды. Ни дуновения не возмущало нежной синевы ее стеклянистой поверхности, в которой крохотно отражались растущие на склонах деревья. С тыла бревен и между ними Флэй вбил ряды кольев – это была крепь. Пространство между кольями заполнялось землей и камнями, пока не выросла стена и не возникло озеро, и новый звук не пришел сюда – звонкое пение сверкучего водослива.
Через несколько мгновений они достигли нижнего проема в скале. То была просто щель шириною в обычную дверь, но за ней открывалась пещера – просторная, увешанная листьями папоротника. Свет вливался в пещеру, отражаясь от стен широких естественных дымоходов, – тех самых устьеобразных промоин в скале, расположенных в дюжине футов над входом. Титус прошел за Флэем в щель и, ступив на прохладный, неправильный круг пола, подивился тому, как в пещере светло – даром что ни единый луч солнца не смог бы попасть сюда беспрепятственно, поскольку широкие каменные дымоходы изгибались и так и эдак, прежде чем дотянуться до солнечного света. И все же лучи солнца, отражаясь от стен дымоходов, заливали пол прохладным светом. Пещера была высока, сводчата, с несколькими массивными каменными полками и множеством созданных природой выступов и ниш. По левую руку располагался в стене самый обширный из выступов – подобие пятиугольного стола с гладкой поверхностью.
Это немногое Титус успел воспринять машинально, но он слишком устал и проголодался, чтобы отозваться на увиденное чем-то большим, нежели кивок и бледная улыбка, предназначенная долговязому человеку, который склонил к Титусу голову, словно желая понять, нравится ли здесь мальчику. Мгновение спустя Титус лежал на грубом папоротниковом ложе. Он закрыл глаза и, несмотря на голод, уснул.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Когда Титус проснулся, стены пещеры подрагивали в красном свете, а каменные выступы и полки выбрасывали, словно играя на концертине, непропорциональные тени и снова втягивали их. Папоротники, свисая со сводчатого потолка, светились, как языки пламени, а камни грубого очага, в котором Флэй час, а то и больше тому назад сложил из веток и еловых шишек большой костер, отливали жидким золотом.
Титус приподнялся на локте и увидел достойный пугала силуэт стоящего перед огнем на коленях легендарного господина Флэя (ибо Титус слышал об отцовском слуге немало рассказов) и двенадцатифутовую тень его, тянущуюся по мерцающему полу, всползая на стену пещеры.
«Приключение в самом разгаре», – несколько раз повторил себе Титус, будто сами эти слова были полны значения.
Мысленно он перебрал события только что закончившегося дня. Проснувшись, Титус не ощутил замешательства. Мгновенно он вспомнил все. Но воспоминания сразу же перебил дразнящий воображение густой запах какого-то жарева – возможно, он-то и разбудил Титуса. Долговязый человек медленно поворачивал и поворачивал что-то над пламенем. Сосущий голод стал непереносимым, Титус вскочил с ложа, и в тот же миг господин Флэй сказал:
– Готово, светлость, – сидите, я сейчас.
Разломав фазана на куски и полив их густым мясным соком, он принес Титусу жаркое на самодельной деревянной тарелке – поперечном, толщиною в четыре дюйма, спиле сухого дерева с выдолбленным посередке мелким углублением. В другой руке Флэй держал кувшин с ключевой водой.
Титус снова прилег, облокотись, на папоротниковую постель. Он слишком оголодал для каких-либо разговоров, и лишь махнул рукой нависшей над ним разболтанной фигуре – словно в знак признательности, – после чего, не тратя ни мгновения, впился, точно юный зверь, в сочное мясо.
Флэй вернулся к каменному очагу, и углубился в разного рода незначительные дела, лишь время от времени прерываясь, чтобы набить рот. Потом присел на каменный выступ у очага и уставился на огонь. Поначалу Титусу было не до того, чтобы присматриваться к нему, но вот, вылизав деревянную тарелку до последнего волоконца, он от души хлебнул холодной ключевой воды и поверх края кувшина вгляделся в изгнанного матерью старика – верного слугу своего покойного отца.
– Господин Флэй, – сказал он.
– Светлость?
– Как далеко я забрался?
– Двенадцать миль, светлость.
– Уже очень поздно. Ночь наступила, верно?
– Угу. Встретились на закате. Спать пора. Пора спать.
– Все это как сон, господин Флэй. Пещера. Ты. Огонь. Это все настоящее?
– Угу.
– Мне нравится, – сказал Титус. – Но, по-моему, я боюсь.
– Не положено, светлость – вам быть здесь – в моей южной пещере.
– А у тебя и другие есть?
– Да, две – на западе.
– Я приду посмотреть на них – если смогу как-нибудь удрать, а, господин Флэй?
– Не положено, светлость.
– Подумаешь, – сказал Титус. – Что еще у тебя есть?
– Хибарка.
– Где?
– В лесу Горменгаст – на речном берегу – лосось – иногда.
Титус поднялся, подошел к огню и сел, скрестив ноги. Пламя осветило его мальчишеское лицо.
– Знаешь, мне немного боязно, – сказал он. – Я никогда еще не ночевал вне замка. Меня, наверное, ищут… я думаю.
– А. сказал Флэй. – Не сомневаюсь.
– Тебе бывало когда-нибудь боязно? Совсем ведь один здесь.
– Мне не боязно, мальчик, – меня прогнали.
– Что это значит – прогнали?
Флэй пошевелился на своем каменном выступе, подтянул высокие, костлявые плечи к ушам – совсем как стервятник. У него словно бы защекотало в горле. Он перевел маленькие, запавшие глаза на юного Графа, сидевшего у огня, подняв к Флэю лицо с озадаченно наморщенным лбом. В конце концов, Флэй опустился, как некий механизм, на пол, – пока он сгибал и затем распрямлял ноги, коленные сочленения его потрескивали мушкетными выстрелами.
– Прогнали? – наконец повторил он, удивительно низким, севшим голосом. – Отослали, вот что значит. Лишили, светлость, лишили служения, священного служения. Пришлось вырвать себе сердце, вырвать, со всеми длинными корнями, светлость, – вот что значит «прогнали». Значит – вот эта пещера и пустота там, где я нужен. Нужен, – горячо повторил он. – Кто там теперь доглядывает?
– Доглядывает?
– Откуда мне знать? Откуда мне знать? – продолжал Флэй, пропуская вопрос Титуса мимо ушей. Годы молчания нашли, наконец, выход. – Откуда мне знать, какая дьявольщина там творится? Все ли хорошо, светлость? В замке все хорошо?
– Не знаю, – сказал Титус. – Вроде бы, да.
– Откуда ж вам знать, откуда знать, мальчик, – пробормотал Флэй. – Рано еще.
– А правда, что это мама тебя отослала? – спросил Титус.
– Угу. Графиня Гроанская. Она и прогнала. Как она, моя светлость?
– Не знаю, – сказал Титус. – Я ее вижу не часто.
– А… – сказал Флэй. – Превосходная, гордая женщина, мальчик. Понимает, что такое зло и величие. Следуйте ее примеру, мальчик, и в Горменгасте все будет хорошо; и вы исполните ваш древний долг, как исполнял ваш отец.
– Но я хочу свободы, господин Флэй. Не нужен мне никакой долг.
Господин Флэй резко наклонился вперед. Голова его поникла. В глубоких тенях глазниц загорелись глаза. Рука, на которую он опирался, задрожала.
– Нечестивые это слова, мой господин, нечестивые, – после долгого молчания произнес он. – Вы Гроан по крови – и последний в роду. Не должно вам подводить Камни. Нет, хоть и покрыла их крапива с крестовником, мой господин, – вы не должны их подвести.
Титус, удивленный взрывом красноречия в человеке столь неразговорчивом, уставился на Флэя; но скоро мальчику пришлось потупиться – уж слишком он устал.
Флэй поднялся на ноги – и пока он поднимался, сквозь щель, светившуюся в сплошной наружной тьме, точно ее отлили из золота, в пещеру впрыгнул заяц. На миг он замер, стоя столбиком и разглядывая Титуса, потом вскочил на замшелую полку, с которой свисал папоротник, и лег, недвижный, как изваяние, уложив, будто пару ножен, уши вдоль спины.
Флэй поднял Титуса и перенес на папоротниковое ложе. Но что-то вдруг совершилось в сознании мальчика. Не успела голова его коснуться папоротника, как он рывком сел, не открыв глаз, сомкнутых в глубоком, как показалось на миг Флэю, сне.
– Господин Флэй, – со страстной настойчивостью прошептал он. – Ах, господин Флэй.
Лесной человек немедля опустился на колени.
– Светлость? Что такое?
– Я сплю?
– Нет, мальчик.
– А спал?
– Пока нет.
– Значит, я это видел.
– Что видели, светлость? Ложитесь – успокойтесь.
– Это существо в дубраве – летающее создание.
Господин Флэй напряженно замер, и полная тишина наступила в пещере.
– Что за создание такое? – пробормотал он, наконец.
– Воздушное, летающее создание… что-то такое… нежное… я не разглядел лица… знаешь, оно плыло среди деревьев. Так оно настоящее? Ты видел его, господин Флэй? Кто это, господин Флэй? Скажи мне, прошу, потому что… потому что…
Однако нужды отвечать на вопрос мальчика не было – он заснул, и господин Флэй поднялся и, переходя пещеру, свет в которой померк, поскольку огонь уже еле теплился над пеплом, направился к выходу. Выйдя наружу, он прислонился к внешней стене пещеры. Луны не было, лишь россыпи звезд тускло отражались в озерце за плотиной. Неясное, как эхо в безмолвии ночи, тявканье лисы долетело из леса Горменгаст.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
I
Титусу предстояло провести в Лишайном Форте неделю. Грубые кубические блоки этого округлого, приземистого строения совершенно затерялись под сплошным покровом паразитического лишайника, от которого форт и получил свое имя. Покров был столь плотен, что в бледно-зеленой шкуре его вили гнезда самые разные птицы. Два покоя форта, верхний и нижний, содержались в сравнительной чистоте сторожем, хранившим ключ от форта и ночевавшем там.
Титусу уже дважды приходилось сидеть здесь под замком за вопиющие нарушения иерархического устава – хотя он так и не смог в точности уяснить, в чем они, собственно, состояли. Однако на сей раз отсидка ему предстояла куда более длительная. Впрочем, было облегчением знать уж и то, какое наказание его ожидает: когда Флэй оставил его на опушке леса, отделенной от Замка всего парой миль, страхи Титуса усилились настолько, что он принялся воображать кары самые жуткие. В Замке он появился ранним утром, успев застать три свежие поисковые команды, выстроившиеся в краснокирпичном дворе и уже готовые выступить. В конюшнях седлали лошадей, всадники выслушивали последние указания. Титус набрал побольше воздуху в грудь, вошел во двор и, глядя прямо перед собой, пошел по нему – сердце буйно колотится, лицо в испарине, штаны и рубашка изодраны в клочья. В тот миг мальчик радовался тому, что он – наследник возвышавшейся над ним гигантской груды камня и пространств, которые он пересек в это утро под ранним солнцем. Он стискивал кулаки и высоко держал голову, однако, не дойдя дюжины ярдов до крытой галереи, вдруг ощутил, что на глазах его закипают слезы, и побежал, и, наконец, ворвался в комнату Фуксии – растрепанный преступник с горящим взором, – кинулся к сестре и приник к ней, точно дитя.
Сестра обняла его и впервые за всю свою жизнь поцеловала, и неистово стиснула в объятиях; она любила его, как никогда никого не любила, и такая гордость тем, что он прибежал именно к ней, наполнила ее, что Фуксия в варварском торжестве завопила во весь свой юный, пронзительный голос и, оторвавшись от брата, подскочила к окну и плюнула прямо в утреннее солнце.
– Вот, что я о них думаю, Титус! – прокричала она, и брат подбежал к ней, и тоже плюнул, и оба расхохотались и хохотали, пока не повалились, лишившись сил, на пол, и не покатились по нему, в головокружительном восторге тиская друг дружку, и не утихли, наконец, изнуренные, лежа бок о бок, держась за руки и плача от открывшейся им взаимной любви.
Им, изголодавшимся по любви, но даже не сознававшим, что этот голод и порождает в них смятение, не сознававшим и самого смятения, в одно и то же мгновение открылась истина, вызвав потрясение, нашедшее себе один только выход – в телесной возне. В единый ослепительный миг они отыскали в себе веру друг в друга. Они посмели одновременно раскрыть сердца: Титус перед Фуксией, она – перед братом. Истина явилась им – эмпирическая, иррациональная, волнующая до пугливой дрожи. И состояла истина в том, что она, поразительная девушка, нелепо незрелая в свои двадцать лет, и все же щедрая, как бывает щедрым урожай, и он, мальчик, стоящий на пороге головокружительных открытий, связаны – более чем кровью, и одиночеством наследственного положения, и отсутствием матери, в обычном смысле этого слова, – более, чем всем этим связаны мгновенно возникшими узами сострадания и единства, узами, кажется, столь же нескончаемыми, как череда их предков, столь же смутными, неуяснимыми, неисследованными, как земли, ставшие темным их наследием.
Для Фуксии увидеть перед собой не просто брата, но мальчика, в слезах прибежавшего к ней, потому что ей, ей, единственной во всем Горменгасте он доверял – о, это искупало все. Какое ей дело до целого мира – она пошла бы на смерть, чтобы защитить брата. Она бы солгала для него! И как солгала! Она бы украла ради него! Ради него она бы убила! Фуксия поднялась на колени и, воздев сильные, округлые руки, испустила громкий, бессвязный вопль непокорства, но тут отворилась дверь и на пороге комнаты возникла госпожа Шлакк. Рука Нянюшки, лежащая на дверной ручке, до коей она не доставала головой, дрогнула, когда старушка, изумясь, увидела стоящую на коленях девушку и услышала ее необузданный вопль.
За Нянюшкой маячил, подняв брови, мужчина с впалыми щеками, облаченный в серую ливрею с поясом из какой-то морской водоросли, – именно такой полагалось, в согласии с неким принятым многие десятилетия назад невразумительным законом, носить лицу, исполняющему обязанности, кои исполнял ныне он. Гирляндочка золотистой травы спадала вдоль правой ноги его до колена. Погоды стояли сухие, и трава похрустывала при всяком его движении.
Титус, первым увидевший их, вскочил на ноги. Однако рот первой успела открыть госпожа Шлакк:
– Посмотрите на ваши руки! – запыхтела она. – На ваши ноги, ваше лицо! Ох, слабое мое сердце! Посмотрите на грязь, на ссадины и царапины, и, и, ох, моя нехорошая, нехорошая светлость, посмотрите на ваши лохмотья! Ох, я могла бы отшлепать вас, да, могла бы, как подумаешь, сколько я всего перештопала, и отстирала, и отгладила, и перебинтовала. О да, еще как могла бы, могла бы отшлепать, и пребольно, вашу жестокую, грязную светлость. Как ты мог. Как ты мог? А я, у меня сердце почти остановилось – да только тебе не до того, о нет, пусть я даже…
Впалощекий прервал ее жалостную тираду.
– Я должен отвести вас к Баркентину, – просто уведомил он Титуса. – Умойтесь, господин мой, и постарайтесь не задерживаться.
– А этому что от него нужно? – негромко спросила Фуксия.
– Не могу знать, ваша светлость, – ответил впалощекий. – Но ради блага вашего брата, почистите его и помогите придумать основательное оправдание. Возможно, оно у него уже имеется. Я не знаю. Не могу знать.
Водоросли его сухо хрустнули – он отвернулся от двери, уставив лукавый взгляд в потолок.
II
Последовавшая неделя стала длиннейшей в жизни Титуса, даже несмотря на незаконные визиты Фуксии в Лишайный Форт. Она отыскала неприметное, узкое оконце, через которое передавала брату все, какие исхитрялась скопить, хлеб и фрукты, тем самым разнообразя удовлетворительную, но малоинтересную еду, которую сторож, – по счастью, глухой старик – готовил для своего неоперившегося узника. Через то же оконце Фуксии удавалось пошептаться с братом.
Баркентин прочел Титусу продлинновенную лекцию, подчеркнув в ней ответственность, каковой ему предстоит облечься; но поскольку Титус с самого начала держался за историю о том, как он заблудился и не смог отыскать дорогу домой, единственным его преступлением сочтено было то, что он вообще куда-то ускакал. Дабы оценить таковой проступок, пришлось снять с высоких полок несколько тяжелых фолиантов, сдуть и стряхнуть пыль с их страниц – и наконец, отыскать соответственные стихи, содержащие прецедент для вынесения приговора: семь дней в Лишайном Форту.
За эту неделю морщинистая да и вообще отвратная физиономия Баркентина, «Властителя Грамот», часто являлась мальчику в ночной тьме. Не менее четырех раз Титусу снилось, как этот калека с жестким ртом и слезящимися глазами гонится за ним с замызганным костылем, ударяя им, будто молотом, в каменные плиты, как струятся за преследователем багровые лохмотья должностной дерюги, как оба они несутся по нескончаемым коридорам.
А просыпаясь, он вспоминал Стирпайка, стоявшего за креслом Баркентина или взлезавшего по стремянке, чтобы отыскать нужный том; вспоминал, как этот бледный мужчина, ибо таковым он был для Титуса, ему подмигнул.
Ничто из того, что знал Титус, никакие силы рассудка ничем тут помочь не могли – он испытывал отвращение, внутренне отшатывался от этого подмигивания, как отшатываешься от касания жабы.
В один из вечеров сотая по счету попытка Титуса пробить деревянную дверь складным ножом, который мальчик метал в нее, полагая, что именно такое применение находят ножам разбойники, была неожиданно прервана. Утром он вдосталь наплакался, поскольку солнце сияло в узких оконных амбразурах, и Титус изнывал по свежему в его памяти дикому лесу, по господину Флэю и Фуксии.
Прервал же попытку негромкий свист, донесшийся от одного из оконцев, и подойдя к нему, мальчик услышал хрипловатый шепот Фуксии:
– Титус.
– Да.
– Это я.
– О, здорово!
– Я надолго не смогу.
– Не сможешь?
– Нет.
– Ну хоть чуть-чуть, Фуксия.
– Нет. Должна занять твое место. Очередной идиотский обряд. Будем драгой искать во рву Утерянные Перлы или еще какую-то дрянь. Я уже должна быть там.
– А!
– Но я вернусь, как стемнеет.
– Здорово!
– Ты мою руку видишь? Дальше мне никак не достать. Титус, как смог далеко, протянул руку сквозь оконную щель в пятифутовой стене, но нащупал лишь кончики сестриных пальцев.
– Мне пора.
– Эх!
– Тебя скоро выпустят, Титус.
Безмолвие Лишайного Форта окружало брата с сестрой, подобно глубокой воде, и соприкасающиеся пальцы их могли быть носами затонувших кораблей, что трутся один о другой в подводных глубинах – таким огромным и живым и все же таким нереальным казалось их соприкасание.
– Фуксия.
– Да.
– Я должен кое-что тебе рассказать.
– Правда?
– Да. Тайну.
– Тайну?
– Да, и про мое приключение.
– Я никому не скажу! Никому, никогда. Что бы ты ни рассказал. Когда я вернусь ночью, а еще лучше – когда тебя выпустят, вот тогда и поговорим. Теперь уж недолго.
Она отняла пальцы. Титус остался один во вселенной.
– Не убирай руку, – сказала после недолгой паузы Фуксия. – Чувствуешь что-нибудь?
Он постарался протянуть пальцы еще дальше во тьму, коснулся чего-то завернутого в бумагу и смог подтянуть это что-то к себе. Бумажный пакетик с ячменным сахаром.
– Фуксия, – шепнул он. Но ответа не было. Сестра ушла.
III
В предпоследний день заключения Титуса посетил гость официальный. Сторож Лишайного Форта отомкнул массивную дверь, и медленно и тяжеловесно вошел на нелепо широких, плоских ступнях Школоначальник Кличбор в зодиакальной мантии и ученой шапочке с обвисшими уголками. Он прошел по устланному травой земляному полу шагов пять, если не больше, и только тогда заметил мальчика, сидящего за столом в углу покоя.
– А. Вот и вы. Да, именно, вот и вы. Как вы, друг мой?
– Хорошо, сударь, спасибо.
– Гм. А здесь не так чтобы очень светло, а, молодой человек? Как вы коротаете ваши досуги?
Кличбор приблизился к столу, за которым стоял теперь Титус. Мысли в благородной, львиной голове старика несколько путались от сочувствия, которое он испытывал к мальчику, однако Кличбор старался, как мог, выдерживать роль Школоначальника. Ему надлежало поселить в душе воспитанника доверие к себе. Такова одна из задач, стоящих перед Школоначальниками. Он должен быть Достойным и Строгим. Он обязан внушать Уважение. А что еще? Кличбор не помнил.
– Уступите мне ваш стул, мой юный друг, – произнес он звучным, торжественным голосом. – Вы ведь можете присесть на стол, не так ли? Определенно можете. Помнится, я, когда был мальчиком, умел проделывать подобные штуки!
Удается ли ему выглядеть хотя бы отчасти забавным? В слабой надежде, что все-таки удается, Кличбор искоса глянул на Титуса, однако на лице мальчика, пододвинувшего Школоначальнику стул и усевшегося, уложив ногу на ногу, на стол, не проступило никакого подобия улыбки. И все же выражение лица его вовсе не было замкнутым.
Кличбор, придерживая подол мантии вровень с плечами, и одновременно отклонив тело от бедер назад и выставив вперед и вниз голову, так что тупой конец длинного подбородка лег в поместительную душку его, словно яйцо в столовую подставку, возвел глаза к потолку.
– Как ваш Школоначальник, – сообщил он, – я счел непременным долгом перемолвится с вами, мой мальчик, in loco parentis[7].
– Да, сударь.
– И посмотреть, не удастся ли нам поладить. Гм!
– Спасибо, сударь, – сказал Титус.
– Гм, – произнес Кличбор. Последовало несколько мгновений довольно неловкого молчания. Затем Школоначальник, обнаружив, что принятая им поза требует от мышц, участвующих в ее сохранении, слишком большого напряжения, опустился на стул и бессознательно подвигал длинной, надменной челюстью вправо-влево, как бы испытуя ее на присутствие зубной боли, которая, странное дело, вот уж пять с лишним часов тому ни с того ни с сего утихла. Возможно, внезапный покой, осенивший тело и разум Кличбора, объяснялся именно тем, что к нему неожиданно – и надолго – вернулось нормальное самочувствие. А возможно, все дело было во врожденной его простоте, позволившей Кличбору почувствовать, что этот исключительный случай (мальчик и Школоначальник, неподвижно сидя один против другого, равно конфузятся перед лицом Взрослого Разума) знаменует существование некой реальности, обособленного мира, тайника, доступ к которому имеют только они. Как бы там ни было, он ощутил внезапный спад напряжения и откликнулся на него долгим, почти лошадиным вздохом с присвистом: Кличбор задумчиво взирал через стол на Титуса, нимало не задаваясь вопросом, приличествует ли Школоначальнику расслабленная, почти обмяклая поза, которую он принял, опустившись на стул. Но, снова заговорив, Кличбор, разумеется, волей-неволей стал выстраивать предложения в приевшейся, пустой манере, от которой ему уже было вовек не избавиться. Какие бы чувства ни крылись в душе Кличбора или в подложечной ямке его, избыть свои закоренелые привычки он не мог. Слова и жесты подчиняются собственным диктаторским, скудным на воображение законам – мертвенному ритуалу, отвергающему воодушевленность.
– Итак, ваш старый Школоначальник пришел повидаться с вами, мой мальчик…
– Да, сударь, – откликнулся Титус.
– …покинув свои классы и отринув исполненье обязанностей, дабы бросить взгляд на мятежного ученика. Ученика весьма непослушного. Удивительного мальчика, который, сколько я помню его успехи в учебе, имеет мало причин для отсутствия в местах обучения.
Кличбор задумчиво поскреб длинный свой подбородок.
– Как ваш учитель, Титус, я могу сказать лишь, что вы несколько осложнили нашу жизнь. Как поступить мне с вами? Гм. И действительно, как? Вас наказали. Вы и сейчас отбываете наказание, а потому рад отметить, что об этой стороне дела нам заботиться нечего; но что же могу я поведать вам in loco parentis? Я человек старый, вы, верно, так бы сказали, не правда ли, мой маленький друг? Вы ведь сказали бы, что я человек старый, не так ли?
– Наверное, так, сударь.
– И как человек старый, я должен был бы выказать ныне мудрость и глубину понимания, ведь так, мой мальчик? В конце концов, у меня длинные белые волосы, на мне длинная черная мантия, а это уже недурная отправная точка, верно?
– Не знаю, сударь.
– Верно, мой мальчик, верно. Поверьте мне на слово. Первое, чем надлежит обзавестись, если не терпится стать мудрым и проницательным, – длинной черной мантией и длинными же белыми волосами, а по возможности также и длинной челюстью. Такой, как у вашего старого Школоначальника.
Вообще-то Профессор не казался Титусу таким уж смешным, тем не менее он откинул назад голову и захохотал во все горло, да еще и прихлопнул ладонями по своему краю стола.
Словно вспышка света озарила лицо Кличбора. Беспокойство бежало из глаз его и укрылось там, где глубокие складки и ямочки, обращающие кожу дряхлых старцев в подобие сот, образуют пещеры и балки, в коих может оно укрыться.
Давно уж никто не смеялся – к тому же, искренне и безудержно – в ответ на что-либо им произнесенное. Кличбор отвернул от мальчика большую львиную голову, распуская старое лицо в широкой, мягкой улыбке. Губы его раздвинулись в нежнейшем из рычаний, и прошло некое время, прежде чем Кличбор смог позволить себе вновь повернуться к мальчику и вглядеться в него.
Но привычная повадка сразу возвратилась к нему, неосознанная, и десятилетия учительства забросили руки Кличбора за спину, под мантию, словно к пояснице его был приделан магнит, долгий подбородок снова уткнулся в шейную душку, райки глаз закатились до самого края белков, отчего он обрел вид не то закоренелого наркомана, не то лицемерного епископа с карикатуры – личное его сочетание, которое поколение за поколением сорванцов передразнивали, пока годы проплывали над Горменгастом, так что навряд ли остался в дортуарах, коридорах, классных, залах или дворах хоть уголок, где в то или иное время какое-нибудь дитя не застывало, на миг сцепив за спиною руки, опустив подбородок и возведя глаза горе – ну и, быть может, пристроив на затылке задачник взамен академической шапочки.
Титус наблюдал за своим Школоначальником. Он не боялся его. Но и не любил. И это печально. Кличбор, в высшей степени достойный любви по причине слабости его характера, некомпетентности, неудачливости во всех отношениях – как мужчины, ученого, начальника и даже собеседника, – тем не менее, оставался человеком более чем одиноким. Ведь слабый человек быстрее прочих находит друзей. Кличборова же мягкость, обманчивая властность, почти осязаемая человечность почему-то не действовали. Он являл собою очевидный образчик маститого рассеянного Профессора, вокруг которого всем остроклювым мальчикам мира следовало бы виться скворцовыми стайками, – неосознанно обожая его, пока они щебечут, пока выкрикивают свои стародавние шуточки, пока предаются внешне язвительному, но внутренне добродушному словоизвержению, дергают его за длинную, цвета черной грозовой тучи мантию, отстегивают быстрыми, как гадючьи языки, пальцами его подтяжки; умоляют дать им послушать, как тикают его огромные, из меди и рыжего от ржавчины железа, часы, коих цепочка заросла, как лишайником, ярью-медянкой; дерутся между ног его, подобных укрытым штанами ходулям прародителя аистов; а между тем, большие, жилистые, мягкие длани падшего монарха время от времени воздымаются, чтобы дать тычка какому-нибудь чрезмерно предприимчивому дитяти, а между тем, далеко вверху долгая, блеклая, львиная голова в неторопливом церемонном ритме движет туда и сюда глазами, как если б она была маяком, коего медленные, кружащие лучи рассеиваются и глохнут в морских туманах; и во все это время кисточка академической шапочки раскачивается, как хвост мула, над их головами, и свисают с достопочтенного зада брюки – под свист, под тысячи острот и выходок, что прорастают, подобно сверкающим плевелам, на пустырях мальчишечьих умов – и во все это время любовь их, будто подпочва, выступает наружу, являя себя уж тем, что они доверяют его притягательной слабости и хотят оставаться при нем, потому что он, совсем как они, невменяем, во всем великолепии его белых, точно первая страница новой тетради, локонов, с его запущенными зубами, с его завершенностью, зрелостью, лжевеличавостью, ребячливым нравом и детским терпением; словом, потому что он – один из них; потому что его можно поддразнивать и обожать, обижать и преклоняться перед ним хотя бы за одну его слабость. Ибо кто же заслуживает большей любви, чем неудачник?
Но нет. Ничего этого не было. Решительно ничего. Кличбор обладал всеми нужными качествами. В длинной веренице его безвольных провалов не было ни единого пропуска. Он словно бы создан был для скворцов Горменгаста. Он оставался здесь, рядом, но никто из них и близко к нему не подходил. Волосы его белели, как снег, но с таким же успехом они могли быть серыми, бурыми, а то и вовсе вылинять от холодного вероломства лет. Казалось, в совокупном оке кишащих вокруг детей засело слепое пятно.
Они ловили каждое слово этого огромного, доставшегося им в подарок льва. А тот взрыкивал в слабости своей, ибо у него ныли зубы. Он вышагивал по древним коридорам. Урывками задремывал за своим столом, в сменяющие друг друга семестры солнца и стужи. И вот теперь, он – Школоначальник, и одинок как никогда. И все же он обладал гордостью. Когти его притупились, но он держал их наготове. Впрочем, не в этот миг. В этот миг ранимое сердце его разрывалось от любви.
– Мой юный друг, – произнес он, по-прежнему не отрывая глаз от потолка, а подбородка от груди. – Я предлагаю вам поговорить со мной как мужчина с мужчиной. Проблема, однако же, в том… – на последнем слове он запнулся, – …проблема… в том… о чем мы станем говорить. – И, опустив несколько тускловатые очи, он увидел, что Титус нахмурился, размышляя. – Видите ли, молодой человек, как мужчина с мужчиной, мы могли бы поговорить о столь многом, не правда ли? Или даже как мальчик с мальчиком. Гм. Вот именно. Но о чем? Вот что имеет значение первостепенное, верно?
– Да, сударь. Наверное, так, – ответил Титус.
– Ну-с, если вам двенадцать, мой мальчик, а мне, скажем, восемьдесят шесть – а я полагаю, что эта цифра во всяком случае не преуменьшает мой возраст, – давайте-ка мы вычтем двенадцать из восьмидесяти шести и ополовиним результат. Нет-нет. Я не заставлю вас производить вычисления, поскольку это было бы совсем уж нечестно. О да, именно так, было бы – ибо что же хорошего в сидении под замком, если приходится еще и уроки делать? А? А? Тогда уж могли бы и не сажать, а?…Так, погодите-ка, на чем мы остановились? На чем мы остановились? Да-да-да, двенадцать из восьмидесяти шести это получится что-то вроде семидесяти четырех, верно? Хорошо, а что представляет собой половина семидесяти четырех? Любопытно… гм, да, дважды три шесть, одно в уме, а дважды семь, сколько я понимаю, четырнадцать. Тридцать семь. Но что есть тридцать семь? Ну как же, это ровно половина разделяющих нас лет. Поэтому. Если я постараюсь стать на тридцать семь лет моложе, а вы на тридцать семь лет старше, – правда, это будет весьма, весьма затруднительно, не так ли? Потому что вы-то тридцатисемилетним никогда не бывали, ведь так? Но с другой стороны, хоть ваш Школоначальник и был тридцатисемилетним, давным-давно, он ничего не способен припомнить о том своем состоянии, кроме разве того, что примерно в то время он купил целый мешок стеклянных шариков. О да, купил. А почему? Потому что преподавание грамматики, правописания и арифметики его утомило. О да, и потому что он понял, насколько счастливее люди, играющие в стеклянные шарики, тех, кто в них не играет. Так себе предложение, мой мальчик. Вот я и играл в них ночами, когда прочие молодые Профессора спали. В нашей комнате имелся один из тканых ковров Горменгаста, так что я зажигал свечу, расставлял шарики по углам узора на ковре и в самых середках малиновых и желтых цветов. Отлично помню этот ковер, как будто он и теперь здесь, в форту – ну вот, я практиковался каждую ночь, при свете свечи, пока не обрел умения так запустить шарик по полу, что, когда он ударялся о другой, то крутился, крутился, но оставался точно на месте, мой мальчик, меж тем как ударенный взлетал, точно ракета, и приземлялся на другом конце комнаты, в самой середке малинового цветка (если все у меня получалось), а если нет – достаточно близко, чтобы подставиться под новый удар. И в молчании ночи стеклянные шарики, соударяясь, издавали такие же звуки, с каким тонкие хрустальные вазы разбиваются о каменные полы – но я становлюсь чересчур поэтичным, мой мальчик, не правда ли? А мальчики не любят поэзию, верно?
Кличбор снял шапочку, опустил ее на пол и вытер чело самым большим и грязным носовым платком, какой когда-либо извлекался в присутствии Титуса из кармана взрослого человека.
– Ах, мой юный друг, звук этих шариков… звук этих глупых шариков. Мне горько, мой мальчик, вспоминать их стеклянные нотки – так же горько, как вспоминать стук дятла в летнем лесу.
– У меня есть несколько шариков, сударь, – сказал Титус, соскальзывая со стола и роясь в кармане штанов.
Кличбор уронил руки вдоль тела, и те повисли, как мертвые. Видимо, радость, вызванная тем, что скромный план его выполняется так успешно, оказалась настолько всепоглощающей, что у него не осталось сил управлять своими конечностями. Широкий, неровный рот старика распахнулся от счастья. Встав и повернувшись спиною к Титусу, он отошел к дальней стене маленького форта. Он был уверен, что радость написана у него на лице и что Школоначальникам не подобает обнажать таковые чувства перед кем бы то ни было, кроме, конечно, их жен, а у него жены не было… совсем никакой.
Титус наблюдал за ним. Как забавно он ставит на пол свои большие ступни – будто медленно шлепает по нему подошвами – не для того, чтобы причинить полу боль, но чтобы его разбудить.
– Мой мальчик, – сказал Кличбор, когда, согнав улыбку с лица, вернулся к Титусу, – вы знаете, это потрясающее совпадение. – Шарики имеются не только у вас, но… – И, словно из ущелья с рваными краями, он извлек из догнивающей тьмы кармана ровно шесть шариков.
– О, сударь! – сказал Титус. – Вот уж не думал, что у вас есть шарики!
– Мой мальчик, – отозвался Кличбор. – Пусть это послужит вам уроком. Так, а где же мы будем играть? А? А? Вот беда-то, мой юный друг, как долог путь вниз, до пола, и как скрипят мои бедные старые мышцы…
Кличбор в несколько приемов опустился на каменный пол.
– Нам следует изучить поверхность на предмет наличия неровностей, гм, да, вот чем должны мы заняться, не правда ли, мой мальчик? Изучить местность, как генералам, а? И наметить на ней поле сражения.
– Да, сударь, – согласился Титус и, упав на колени, пополз бок о бок со старым линялым львом. – Хотя, по-моему, сударь, пол достаточно ровный, один квадрат будет здесь, а…
Но в этот миг дверь растворилась снова и из солнечного света в серый сумрак форта вступил доктор Прюнскваллор.
– Так-так-так-так-так! – заливисто пропел он. – Так-так-так! Клянусь всяческим милосердием, что за ужасное место для содержания под стражей юного графа! Но где же он, легендарный маленький злоумышленник – сей нарушитель границ, презревший неписаные законы, сей греховный до мозга костей мальчуган? Да благословит господь мою потрясенную душу, если я не вижу сразу двух таких – и один куда крупнее другого – или тут кто-то есть с тобой, Титус? но если так, кто ж это может быть и что, во имя пыли и пепла, смогли вы сыскать на лоне земли столь волнующего, что вам приходится ползать по нему, обдирая животы о стерню, точно хищникам, подкрадывающимся к добыче?
Кличбор, кряхтя, встал на колени, а затем, подымаясь на ноги, наступил на полу мантии и продрал здоровенную дыру в ее изношенной ткани. Он распрямил спину и принял позу, приличествующую Школоначальнику; лицо его залила краска.
– Привет, доктор Прюн, – сказал Титус. – Мы просто думали поиграть в шарики.
– В шарики! а? Вот, клянусь всей и всяческой ученостью, весьма высококачественное изобретение, да благословит господь мою сферическую душу! – воскликнул врач. – Однако, если ваш соучастник это не сам Профессор Кличбор, наш Школоначальник, тогда глаза мои ведут себя чрезвычайно удивительным образом.
– Мой дорогой доктор, – произнес Кличбор, вцепляясь чуть ниже плеч руками в мантию, рваный лоскут которой влачился по полу, как спущенный парус, – это и вправду я. Мой ученик, юный граф, дурно себя повел, и я счел своим непременным долгом, воздействовать на него, in loco parentis, прибегнув к той мудрости, какой я располагаю. Дабы помочь ему, если смогу, ибо, как знать, и у стариков может отыскаться какой-никакой опыт; и вернуть его на стезю исполненной мудрости жизни – ибо, как знать, даже у стариков может…
– А вот не нравится мне «стезя исполненной мудрости жизни», Кличбор: гадковатая для Школоначальника фраза, если вы простите мне столь чертовски наглое замечание, – сказал Прюнскваллор. – Впрочем, я понял, что вы хотели сказать. Клянусь всем, что отдает проницательностью, скорее всего, понял. Но что за место для содержания ребенка! Ну-ка, дайте на вас посмотреть, Титус. Как вы себя чувствуете, мой бентамский петушок?
– Спасибо, сударь, хорошо, – сказал Титус. – Завтра я буду свободен.
– О Боже, это разбивает мне сердце, – воскликнул Прюнскваллор. – «Завтра я буду свободен», это же надо! Подойдите ко мне, мой мальчик.
У Доктора перехватило горло. Завтра я буду свободен, думал он, завтра я буду свободен! Вот только наступит ли завтра, в которое будет свободным это дитя?
– Итак, ваш Школоначальник навестил вас и вознамерился поиграть с вами в шарики, – сказал он. – А известно ли вам, что это великая честь? Вы поблагодарили его за то, что он вас посетил?
– Еще нет, сударь, – ответил Титус.
– Ну так надо бы поблагодарить, знаете ли, пока он не ушел.
– Он хороший мальчик, – сказал Кличбор. – Очень хороший. – И, помолчав, добавил, словно возвращаясь на твердую, требующую строгости почву: – …хоть и весьма озорной.
– Но я отвлекаю вас от игры – отвлекаю, клянусь всяческой неосмотрительностью! – вскричал Доктор, прихлопнув Титуса по затылку.
– Может, и вы с нами, доктор Прюн? – спросил Титус. – Тогда мы сможем сыграть в «треуголку».
– А как в нее играют, в «треуголку»? – заинтересованно спросил Прюнскваллор, поддернул элегантные брюки и присел на корточки, обратив к взлохмаченному мальчику смышленое розовое лицо. – Вы-то умеете, друг мой? – осведомился он у Кличбора.
– Еще бы, еще бы, – ответил Кличбор и лицо его посветлело. – Чрезвычайно возвышенная игра.
И он опять опустился на пол.
– Кстати, – Доктор живо повернулся к Профессору, – вы ведь будете на нашем приеме, не правда ли? Вы, сударь, как вам известно, главный наш гость.
Кличбор, скрипя и потрескивая фибрами и сочленениями, снова воздвигся на ноги, с миг простоял величаво и рискованно выпрямившись, и поклонился сидящему на корточках Доктору, отчего клок белых волос пал на его светло-голубые глаза.
– Сударь, – сказал он. – Я буду, сударь, и подчиненные мои со мною. Вы оказали нам великую честь.
После чего он с неожиданным проворством снова пал на колени.
Весь следующий час старый тюремный сторож, приникнув к удобной, величиною с чайную ложку замочной скважине внутренней двери, с изумлением наблюдал, как три фигуры ползают туда-сюда по полу тюремного форта, слушал высокие, переходившие в вопли гиены трели доктора Прюнскваллора, слушал глубокий, дрожащий голос Профессора, взревывавший, точно у старой, счастливой гончей, когда тот забывался, и отражаемые стенами камеры пронзительные вскрики ребенка, раскалывающиеся, как стекло, о каменный пол, когда шарики ударялись один о другой и, кружась на лету, со стуком рушились в положенные квадраты или разлетались по тюремному полу, словно падучие звезды.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Не было во всем Горменгасте звука, способного так оледенить сердце, как стук маленького засаленного костылька, с помощью которого Баркентин приводил в движение свое карликовое тельце.
Резкие, скорые удары этого словно бы железного обрубка по вогнутым камням походили на удары хлыста, на брань, на пощечины милосердию.
Не было в Замке человека, хотя бы раз да не слышавшего, как набирает мощь бряцание зловещего рычага, коим Распорядитель Ритуала проталкивал свое тело вперед, пока иссохшая нога его и костыль одолевали извилистые каменные коридоры со скоростью, в которую невозможно было поверить.
Немного было и таких, кто, заслышав цоканье костыля о далекие плиты, не отворачивал в сторону, чтобы уклониться от маленького, полного тлеющей ярости олицетворения закона, которое топало в багровых лохмотьях сернистым путем своим по середине коридора, никому не уступая дороги.
Наличествовало в этом самом Баркентине нечто от осы и нечто от исхудалой хищной птицы. Нечто от вывихнутого ветрами тернового дерева, а в ноздреватом лице его – нечто от гнома. Из глаз, жутковато слезящихся, сочилась сквозь пелену влаги злоба. Они, эти глаза, казались переполненными – похожими на старые, растрескавшиеся, пожелтевшие блюдца, в которые налили столько топазового чая, что тот вздувается посередке.
При всей нескончаемости, взаимосплетенности и бесчисленности залов и коридоров замка, даже в отдаленнейших из них, в темных оплотах, где, бесконечно далекое от главных артерий, промозглое, распадающееся в прах безмолвие нарушалось лишь редким падением обломка сгнившей древесины да уханьем филина – даже в этих местах забредшего туда человека тревожил, нагоняя страх, вездесущий перестук – и даже будь он чуть слышен, слаб, как щелчок ногтя по ногтю, звук этот, при всей его слабости, внушал ужас. Казалось, от него невозможно укрыться. Ибо костыль, древний, измызганный и крепкий, как железо, и был самим человеком. Доброй крови, доброй красной крови в Баркентине было не больше, чем в его страшной подпорке. Костыль вырастал из старца, как недужная, лишенная нервов конечность – добавочная конечность. Удары его о камень или гулкие доски пола говорили о злобе больше, чем любые слова – и на любом языке.
Фанатическая преданность Дому Гроанов давным-давно заменила в Баркентине интерес к живым людям или заботу о них – о самих представителях Рода. Графиня, Фуксия и Титус были для старика лишь звеньями кроваво-красной суверенной цепи – не более. Значение же имела цепь, а не звенья. Не живой кусочек металла, но громадная груда железа, покрытого патиной священной пыли. Баркентином владела Идея, а не телесные ее воплощения. Он жил в жарком море взыскательности, вожделения верности.
В это утро Баркентин встал, как и всегда, на заре. Сквозь окно своей зачумленной комнаты он вгляделся по-над темными низинами в Гору Горменгаст – не оттого что она светилась в янтарной дымке и казалась сквозистой, но чтобы понять, какого дня следует ждать. Погода могла, в определенной мере, изменить ритуал предстоящих часов. Отменить церемонию по причине неблагоприятной погоды было, разумеется, невозможно, однако существовали священные, имеющие не меньшую силу Альтернативы, предписанные в давние столетия наставниками в вере. Если, к примеру, в полдень не разразится гроза, если струи дождя не исчертят, не вспенят воду во рву, то церемония, к коей надлежит изготовить Титуса, сведется к тому, что он будет стоять в сплетенном из травы ожерелье на поросшем плевелами берегу рва прямо над отражением некоей башни и так метнет золотую монету, чтобы она, скользнув по поверхности и подлетев, в один скачок перемахнула отражение этой башни и ушла в водный образ распахнутого окна, в коем стоит, отражаясь в воде, его мать. И Титусу, и зрителям полагалось безмолвствовать и не шевелиться, пока во рву не уляжется содрогание последней искристой ряби, и голова Графини не перестанет дрожать в пустой тьме пещеровидного окна и не замрет во рву, – а вместе с нею и подобные иверням цветного стекла водоплавающие птицы на ее плечах, и все, что окружает ее в бездонных, набитых башнями глубинах.
Все это требовало безветренного дня и стеклянистой поверхности рва, а на случай дня ветренного в Фолиантах Ритуала приводился иной, равно почтенный способ украсить полдень во славу Дома, и описание действий участников церемонии.
Итак, у Баркентина имелась привычка распахивать окно на заре и вглядываться над кровлями и болотами туда, где расплывчатые или резкие, как острие ножа, очертания Горы указывали характер предстоящего дня.
Опершись, стало быть, о костыль в холодном свете нового дня, Баркентин яростно скреб когтистой рукой ребра, живот, подмышки – то, другое, все.
Одеваться он нужды не имел. На своем населенном вшами матрасе он спал прямо в одежде. Кровати у него не имелось – только кишащий жизнью матрас на лишенных ковра досках пола, в котором жили, плодились и издыхали тараканы, жучки и вообще насекомые всех мастей, на котором полночная крыса сидела стойком в серебристой пыли, подставляя длинные зубы бледным лучам, когда полнотелая луна заполняла ночное окно, точно собственная ее отвлеченная идея, заключенная в картинную раму.
В такой вот убогой норе пробуждался последние шестьдесят лет Распорядитель Ритуала. Завиваясь вокруг костыля, он подтоптывал к окну и почти сразу за тем оказывался близ двери, у шероховатой стены. Повернувшись спиной к этой неровной стене, он прижимался к ней и ерзал дряхлыми лопатками, вправо-влево, лишая душевного покоя колонию муравьев (только-только получивших от лазутчиков весть, что враги, поселившиеся под потолком, выступили в поход и уже наводят мосты над расщелинами в штукатурке), торопливо приготовлявшуюся к осаде.
Баркентин и понятия не имел, что, умеряя зуд между лопатками, он губит боеспособность целой армии. Старик терся спиной о шероховатую стену – туда, сюда, туда, сюда – движениями, видеть которые в человеке столь престарелом и низкорослом было страшновато. Высоко над ним громоздилась дверь, сильно похожая на амбарную.
Покончив с этим занятием, Баркентин, припадая на костыль, пропрыгивал через комнату туда, где торчал из пола железный обод. Он походил на устье дымохода – и впрямь, металлическая труба уходила от этого верхушечного зева, завершаясь несколькими этажами ниже подобным же ободом, или, вернее сказать, раструбом, на несколько вершков выступавшим из потолка столовой. Прямо под раструбом стоял двумя десятками футов ниже пустой, ни для чего более не используемый котел, ожидающий тяжелого камня, который утро за утром прогромыхивал по извилистой трубе, чтобы с безумным лязгом окончить свой полет в чреве сего содрогающегося вместилища, каковое, восприняв в себя булыжник, еще несколько минут после того утробно урчало.
Каждый вечер булыгу вынимали и относили под дверь Баркентиновой спальни, и каждое утро старик, подняв ее над выступающим из половых досок металлическим патрубком, плевал на нее и метал в кривую трубу, где грубый грохот ее замирал понемногу, приближаясь к столовой. То было уведомление слугам, что он спускается, что завтрак и множество прочих прелиминариев должны ожидать его, пребывая в полной готовности.
Громыхание камня отзывалось эхом в двух десятках сердец. В утро, о котором идет у нас речь, Баркентин, плюнув на здоровенный, размером с дыню, камень, отправил его в гулкий путь, пролегающий мимо многих погруженных во мрак этажей, населенных обитателями замка (кои, пробуждаясь, когда камень проносился сквозь смежные с их кроватями полые стены, проклинали Баркентина, рассвет и булыжного петуха) – в это именно утро руины старческого лица освещались не одним лишь вожделением ритуала: в нем присутствовало что-то еще, некая жажда обряда, совершаемого под его надзором, жажда, наполнявшая старца страстью, какую почти не способно было вместить столь дряхлое тело.
На стене его завшивленной конуры висела картинка, гравюра, пожелтевшая от старости, опозоренная пылью, ибо ее не оберегало никакое стекло – лишь маленький осколок былого стекления уцелел в уголку. Гравюра эта, большая и скрупулезно исполненная, изображала Кремнистую Башню. Художник, работая или изучая это строение, располагался, надо полагать, к югу от него, поскольку за зубцами стрельниц и подпирающих башню контрфорсов, возносившихся до самого неба, подобно морскому простору штормистых кровель, различались нижние отроги Горы Горменгаст, испятнанные купами кустарников и елей.
Баркентин, разумеется, не знал, что вход в Кремнистую Башню вырезан из гравюры. Отсутствовал малый, не более марки размером, кусочек бумаги. Стена за дыркой была трудолюбиво продолблена, так что тоннельчик пустой темноты отходил вбок от Баркентиновой спальни к пустому же, просторному дымоходу, верхнюю оконечность которого защищал от проникновения света оползень обвалившихся черепиц, давно уж скрепленный и устланный золотистым мхом, а круглое основание этого колодца черного воздуха выходило в келейку, столь полюбившуюся Стирпайку, что он даже в этот ранний, промозглый час сидел в ней прямо под дымоходом. Вокруг Стирпайка располагались с великой точностью размещенные, каждое под своим особым углом, собственной его конструкции зеркальца, а над головой молодого человека, усугубляя трубовидную тьму, мерцало иголками света иное созвездие зеркал, одно поверх другого.
Время от времени Баркентин отражался в размещенном за входом в Кремнистую Башню зеркальце, посылавшем его изображение вниз, на другое зеркальце шахты, а то вручало изображение другому, и так зеркальце переглядывалось с зеркальцем, доходя до Стирпайка, который склонялся с увеличительным стеклом в руке над основанием дымохода и, усмехаясь, вглядывался в конечное отражение миниатюрных багровых отрепьев педантичного карлы, поднимавшего над головою булыжник и швырявшего его в железную трубу.
Если Баркентин рано вставал со своего безобразного ложа, то Стирпайк в выбранной им потаенной каморке – безукоризненно чистой и яркой, как новенькая булавка, – вставал еще раньше. Речь тут не шла о привычке. Не было у него привычек подобного рода. Он просто делал то, что считал нужным сделать. То, что содействовало осуществлению его планов. Если подъем в пять утра приближал его к тому, чего он желал, значит, ничто не могло быть естественнее такого подъема. Не будь у него необходимости действовать, Стирпайк лежал бы все утро в постели, читая, упражняясь в вязании узлов на веревке, которую держал при кровати, складывая замысловатых бумажных галок и пуская их в полет по спальне, или полируя сталь бритвенно острого клинка своей шпажной трости.
В настоящий момент, в его интересах было убедить Баркентина в своей расторопности, сноровистости и незаменимости. Не то чтобы он не проник уже под вздорный панцирь мизантропии старика. В сущности говоря, Стирпайк был единственным, кому когда-либо удавалось добиться доверия Баркентина и ворчливого его одобрения.
Сам того не сознавая, Баркентин, отправляя свои повседневные обязанности, щедро расточал бесценные сведения, обильно вливал их в жадный, поместительный мозг молодого человека, честолюбивое устремление коего состояло в том, чтобы, накопив достаточно знаний о ритуалах и став единственным авторитетом во всем, касающемся до тонкостей закона (ибо Баркентина придется устранить), взять в свои руки церемониальную сторону жизни замка, изменив к собственной выгоде те догматы, что препятствовали обретению им окончательной власти, и подделав новые, хоть с виду и древние, документы, могущие в дальнейшие годы сослужить ему хорошую службу.
Баркентин говорил мало. Премудрость свою он изливал, не прибегая к пространным речам. По преимуществу, Стирпайк изучал «ремесло», вникая в действия старика и изучая Грамоты. Баркентин и понятия не имел, что день за днем срок его смерти и последнее пополнение знаний Стирпайка с равной скоростью сближаются во времени. Он не имел никакого желания давать молодому человеку наставления сверх удобных для него самого пределов. Бледное создание это было ему полезно, только и всего, и понимай Баркентин, сколь многие из сокровенных тайн Горменгаста уже открылись юнцу благодаря обмену случайными, вроде бы, замечаниями и постоянному корпению в библиотеке, он сделал бы все посильное, чтобы изгнать из замка этого выскочку, опасного, неслыханного выскочку, постигающего догматы лишь из стремления к личной власти, столь же холодного, сколь и неукротимого.
По разумению Стирпайка, миг, когда можно будет разделаться с Распорядителем Ритуала, был уже не за горами. Не говоря об иных мотивах, уничтожение столь уродливой твари, как Баркентин, представлялось Стирпайку и без того чрезмерно отсроченным – хотя бы с эстетической точки зрения. С какой стати этому скопищу всяческого безобразия дозволяется год за годом стучать здесь своим костылем?
Стирпайк обожал красоту. Она не поглощала его целиком. Она вообще на него не действовала. Но он ее обожал. Он был человек аккуратный, искусный, скользкий, как клинок в его трости, острый, как лезвие этого клинка, гладкий, как его сталь. Грязь оскорбляла его. Неопрятность – тоже. Баркентин, старый, чумазый, с морщинистым и ямчатым, будто сухая краюха, лицом, с косматой, грязной, колтунной бородой, внушал молодому человеку тошнотворное чувство. Настало время выдрать это грязное корневище ритуала из гигантского, разлагающегося остова замковой жизни и занять его место, а после того, как он доберется до этого сокровенного центра – кто знает, куда сможет завести его присущий ему уклончивый ум?
Для Баркентина всегда оставалось загадкой, как ухитряется Стирпайк утро за утром встречать его с такой сверхъестественной пунктуальностью. Нет, подручный его не сидел в ожидании под дверью Распорядителя, не торчал на одной из площадок лестницы, по которой Баркентин спускался в маленькую столовую. Ничуть не бывало. Стирпайк с гладко уложенными на высоком шаровидном челе соломенными волосами, отблескивающим бледным лицом и темно-красными глазами, смутительно живыми под песочными бровями, торопливо выходил из теней и, изящно притормозив несколько сбоку от старика, склонялся, начиная от бедер, под малозначительным углом.
И в это утро пантомима повторилась без каких-либо изменений. Баркентин, в сотый раз подивившись как удается Стирпайку столь точно соразмерять его, Баркентина, появление вверху ореховой лестницы со своим, насупил, по обыкновению, брови и сквозь пелену застилавшей глаза его неприятной влаги подозрительно обозрел бледного молодого человека.
– Доброго вам утречка, сударь, – сказал Стирпайк.
Баркентин, голова которого как раз доставала до перил лестницы, высунул смахивающий на носок сапога язык и прошелся им по останкам сухих, морщинистых губ. Затем, карикатурно скакнув вперед на иссохшей ноге, громко пристукнул рядом с нею костылем.
Выделано ль из возраста лицо его, как если бы возраст был веществом, или сам возраст являл собою абстракцию этого лица, бородатого ископаемого, что тлело и распадалось поверх его плеч, – сомневаться в наличии здесь архаизма не приходилось, – как будто нечто, перемещенное из прошлого в нынешний миг, смутно светится, видимое как бы сквозь темное стекло, отрицая и собственную анахроничность, и неоперившееся настоящее.
Он повернул это свое лицо к Стирпайку.
– К чертям твое «доброе утречко», прут ты окоренный, – произнес он. – Ишь, осклабился что твоя сухопутная минога! Что ты такое с собой учиняешь, а? Каждое клятое утро, а? Выскакиваешь из благопристойной темноты, будто тебя за ботву выдирают.
– Полагаю, сударь, тут не обходится без обыкновения умываться, коим я, по-видимому, обзавелся.
– Умываться, – прошипел Баркентин таким тоном, точно речь шла о чем-то заразном. – Умываться, жук ты щелкун!
Кем ты себя воображаешь, господин Стирпайк? Кувшинкой?
– Я бы так не сказал, сударь, – ответил молодой человек.
– Я тоже, – рявкнул человек старый. – Кожа, кости да волосы, вот и все. Вот что ты есть, паршивец, и ничего больше. Потускнел бы хоть малость. Нечего тут сиять – и чтоб больше не изображал мне каждое утро дурацкой вощанки.
– Вот тут вы совершенно правы, сударь, я слишком бросаюсь в глаза.
– Да только не тогда, когда ты нужен! – грянул Баркентин, начиная ковылять вниз по ступеням. – Когда ты нужен, тебя и видом не видать, а? Ведьмячье отродье, умеешь испаряться, если тебе это выгодно, а? Клянусь кишками гагарки! Я тебя насквозь вижу, смазливая тварь! Насквозь!
– Даже когда я невидим, сударь? – возводя брови, поинтересовался Стирпайк, легко шагавший рядом со стариком под стук костыля по деревянным ступеням, эхом отдававшийся со всех сторон.
– Клянусь мочой Сатаны, мопсик, твоя развязность опасна! – хрипло взревел Баркентин, поворачиваясь на ходу – с риском для жизни, ибо сохлая нога его замешкалась двумя ступенями выше костыля. – С северными галереями закончили? – Он выпалил этим вопросом в Стирпайка, уже иным тоном – не менее злобным и сварливым, но более приятным для уха молодого человека, поскольку не столь оскорбительным.
– Закончили прошлой ночью, сударь.
– Под твоим руководством, чего бы оно ни стоило?
– Под моим руководством.
Они приближались к первой площадке ореховой лестницы. Стирпайк, семеня за Баркентином, извлек из кармана циркуль и, как щипчиками, приподнял им колтун на затылке старика, обнажив сухую, точно у черепахи, шею. Порадовавшись такому успеху – тому, что он смог незаметно для калеки приподнять столь плотный узел грязных, седых волос, Стирпайк повторил проделанное, между тем как хриплый голос все продолжал звучать, а костыль – шлеп-шлеп-шлепать по длинной лестнице.
– Я осмотрю их сразу после завтрака.
– Разумеется, – отозвался Стирпайк.
– А приходило ли тебе, сосунку, в голову, что этот день священен даже для самой грязи замка? А? А? Что только раз в году, мальчишка, раз в году, чествуют Поэта? А? Почему – известно лишь вшам в моей бороде, но это так, клянусь черными душами скептиков, это так, закон законов, церемония чистейшей воды, дражайшее мое дитя. Ты говоришь, галереи готовы, но, клянусь болячками на моей ноге, ты дорого заплатишь мне, если красная краска выбрана неверно. А? Самая темная из всех красных? А? – самая темная из всех?
– Темнее не бывает, – ответил Стирпайк. – Чуть подтемнить – и получилась бы черная.
– Ад и черти, так было бы даже лучше, – сказал Баркентин. – А трибуна? – продолжил он, перейдя лестничную площадку из сучковатого черного ореха, снабженную отдельным от перил поручнем – сами перила перекосились во всех направлениях, пыль покрывала их, как снег покрывает зимой палисад. – А трибуна?
– Возведена и начищена, – сказал Стирпайк. – Трон Графини установлен и подлатан, высокие кресла для мелких дворян покрыты лаком. Длинноты разложены по местам и заполняют весь двор.
– А Поэт? – вскричал Баркентин. – Проинструктировал ты его, как я велел? Знает ли он, чего от него ожидают?
– Речь его готова, сударь.
– Речь? Кошачьи зубы! Поэма, ублюдок ты этакий, поэма!
– Она готова, сударь! – Стирпайк сунул циркуль в карман, вытащив взамен ножницы (казалось, карманы его набиты бесчисленными предметами, что, впрочем, не сказывалось ни на единой складке его одежды), и теперь отстригал свисающие над воротником клочья Баркентиновых волос, дурацким шепотком приборматывая, пока пряди их сыпались на ступени: – Циник, медник, злой жестянщик.
Они достигли другой площадки. Баркентин ненадолго остановился, чтобы почесаться.
– Стихи у него, может, и готовы, – произнес он, повернув разоренный временем лик к тощему молодому человеку с высоко поднятыми плечами. – Но сказал ли ты ему о сороке? А?
– Я сказал, что ему надлежит встать и начать декламацию не позднее, чем через двенадцать секунд после того, как из клетки выпустят сороку. Что во время декламации левая рука его должна сжимать кубок с водою из рва, в каковую емкость Графиня поместит предварительно синий камушек из реки Горменгаст.
– Все так, мальчишка. И что на нем должна быть Мантия Поэта, а ступни босые, это ты ему тоже сказал?
– Сказал.
– А желтые скамьи для Профессоров? Их отыскали?
– Да. В южных конюшнях. Я приказал покрасить их заново.
– А семьдесят седьмой граф, лорд Титус, знает ли этот щенок, что ему надлежит стоять, когда все остальные сидят, и сидеть, когда остальные стоят? Знает ли об этом мальчишка – а? а? – вертопрах этакой – ты его проинструктировал, а? свечка ты кожистая? Клянусь коликами моих семидесяти лет, твой лоб сверкает, как вонючий айсберг!
– Он получил инструкции, – ответил Стирпайк.
Баркентин опять заковылял вниз, к столовой. Одолев ореховую лестницу, Распорядитель Ритуала запрыгал, как обуянный бесом, по коридорам. При каждом ударе костыля пыль взвивалась над полом, и Стирпайк, вплотную следуя за хозяином, забавлялся тем, что выдумывал странные танцевальные па, своего рода контрапункт к отрывистому продвижению Баркентина – безмолвную, изощренную импровизацию, пронизанную, так сказать, непристойными, замысловатыми жестами.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Длинные летние минуты еле тянулись для Титуса, сидевшего за партой в классной, где профессор Цветрез (некогда положивший себе за правило хотя бы на один умственный час опережать учеников, что бы он им ни преподавал, но давно уже передумавший, решив взамен овладевать знаниями на равной с ними ноге), откинув, дабы никто не видел, чем он занимается, вверх крышку своего высокого стола, надолго прикладывался к злодейского вида бутылке с синей наклейкой.
Для Баркентина же, которому еще предстояло выполнить десятка два разного рода приготовлений, и который крыл на все корки рабочих в южном дворе, часы пролетали с быстротою минут.
И вот, по прошествии того, что представлялось бесконечностью Титусу и мгновенным взмахом подола времени – Баркентину, утро, летящее и медлящее, принесло долгожданный плод, и подобный воздушной виноградине, в светозарном коконе коей повисла на этот миг наша планета, – содрогнулся созревший фантом, именуемый полднем.
Прежде чем он пробудился, чтобы тут же скончаться, десятки колоколов и часов вскрикнули, извещая о нем, а через минуту после его кончины по всему Горменгасту залязгали в своих ржавых железных шатрах металлические языки. Казалось, ни один из механизмов земли не способен сразить или сковать этот призрак времени. Часы и колокола запинались, бухали, звенели. Они топотали, оставляя железные следы. Они били престарелыми кулаками, орали древними голосами – но призрак был старше их.
Полдень, спелый, как гром, и безмолвный, как мысль, удалился нетронутым.
Когда замерло последнее эхо даже тех часов из западных отрогов Замка, заупокойный звон которых вошел в поговорку, так что фраза «запаздывает, как западный звон» была у всех на устах, – когда умерло это эхо, Титус услышал нечто иное.
После медлительной панихиды курантов новый звук этот, прилетевший по мягким пятам маятников, показался омерзительно торопливым, безжалостным и нетерпеливым.
Как ни реален он был, в нем ощущалось фантастическое упорство охотничьего пса с ногами из камня или железа; гончей, которая с громом, алчно и неуклонно летит за добычей, стремительно смыкая расстояние, отделяющее порок от невинности.
Мальчик слышал этот звук так ясно, словно источник его был совсем рядом. Между тем коридор, которым шел Титус, был пуст, а перестук костыля доносился, на самом-то деле, из параллельного прохода, и Баркентина, до которого было всего несколько ярдов, отделяла от мальчика крепкая каменная стена.
Титус, прищурившись, замер на месте; ненависть, почти немыслимая на столь юном лице, исказила его черты. В Баркентине он видел олицетворение тирании, старости, всего, что держало его самого вдали от летних дней в лесу, от купания с друзьями во рву, от того, по чему он так тосковал.
Он стоял, содрогаясь от поднявшейся в душе горячей волны страха и отвращения, и внимательно вслушивался. В какую сторону движется за каменной стеною костыль?
На обоих концах Баркентинова коридора вспомогательные проходы соединяли оный с коридором, в котором стоял Титус. Мальчику показалось, что Распорядитель Ритуала поспешает в одну с ним сторону. Повернувшись, он пустился в обратный путь, но внезапно в коридоре потемнело от сплошной толпы Профессоров, надвигавшейся на Титуса в порхании эфиопских тканей и целого флота плоских шапочек. Теперь Титусу оставалось одно – бежать вперед в надежде проскочить соединительный проход до появления на другом его конце Баркентина.
Он побежал. Не из-за какого-то совершенного им проступка, не из осознанного страха. То был порыв, потребность исчезнуть. Бунт против всего, что старо. Всего, наделенного властью. Туманность ужаса поглотила его, и он побежал.
Вдоль правой стены возвышалась в тусклом, сообщавшем им пепельный оттенок свете фаланга изваяний. Установленные по большей части на тяжелых постаментах, они нависали над Титусом, и безмолвные члены их распиливали темный воздух или тупо таранили его обломками рук. Голов, окутанных паутиной, накрытых саваном вечного сумрака, видно почти что и не было.
Мгновения, подобные этому, Титус знал с детства. Однако он замечал их или запоминал не чаще, чем какой-нибудь ребенок замечает однообразный узор обоев своей спальни.
Он снова замер, увидев маленький, но безошибочно узнаваемый силуэт калеки, который, появившись из-за дальнего угла, направился к нему.
Даже не успев понять, что делает, Титус с быстротою белки скакнул в сторону и мгновенно окунулся в почти полную тьму, застоявшуюся за громоздкой, мускулистой статуей без головы и без рук. Постамент, на котором торчало, уравновесясь, это каменное тело, поднимался выше головы Титуса.
Он стоял там, дрожа, и слушал, как с запада близится шарканье многих ног, а с востока – стук костыля. Он старался не думать о том, что Профессора, возможно, заметили его. Он цеплялся за пустую надежду, что глаза их опущены долу, что Профессора не увидели, как он бежал перед ними, как нырнул за статую; еще более лихорадочной, страстной была надежда, что Баркентин не сможет с такого расстояния различить в коридоре какое-либо движение. Но, трепеща, Титус сознавал, что надежды эти питаются страхом, и оставаться здесь – безумие.
Шум уже буйствовал со всех сторон – тяжелая поступь, шуршание мантий, железный лязг костыля по плитам.
И наконец голос Баркентина заставил стихнуть все прочие звуки.
– Стоять! – гаркнул он. – Стоять на месте, Школоначальник! Клянусь чумой, да с вами тут весь ваш корявый штат, чтоб меня ад обгадил!
– Мои более чем достойные коллеги следуют за мной, – ответил старый, звучный голос Кличбора. И Школоначальник добавил, словно желая испытать свою храбрость перед лицом яростно взирающего на него существа в багровом тряпье: – Мои безмерно достойные коллеги.
Но Баркентина занимало иное.
– Что это было? – рявкнул он, еще на шаг подскочив к Кличбору. – Что это было, я спрашиваю?
Кличбор приосанился, приняв излюбленную, подобающую Школоначальнику позу, хотя старое сердце его болезненно билось.
– Не имею понятия, – сказал он. – Ни малейшего понятия не имею о том, чем могло быть то, о чем вы говорите. – Слова его вряд ли могли прозвучать значительнее и искреннее. Он, видимо, и сам это понял, поскольку добавил: – Ни малейшего представления, уверяю вас.
– Какое еще представление? Представление! – завопил Баркентин. – Да захлебнись оно черномазой кровью, ваше представление!
Еще подскок, скрежет костыля, и старик подобрался к Школоначальнику вплотную.
– Клянусь вонью ваших фонарей, в коридоре был мальчишка. Сию минуту. Что? Что? Сию минуту здесь болтался скользкий щенок. Вы это отрицаете?
– Я здесь ребенка не видел, – ответил Кличбор. – Ни скользкого, ни какого иного.
Он приподнял в ухмылке уголки рта да так и оставил их, довольный собственной шуткой.
Баркентин уставился на него, и будь зрение Кличбора получше, злоба, изливавшаяся из глаз калеки, пожалуй, смогла бы напугать старого Школоначальника до того, что он отказался бы от своих слов. Он и так уж сцепил под мантией руки и, вызвав в памяти образ Титуса – Титуса, глаза которого засияли тогда, в форту, при виде стеклянных шариков, – решил держаться за произнесенную им ложь с упорством Святого.
Баркентин перевел взгляд на Профессоров, теснившихся за спиной их начальника подобием черного хора. Слезящиеся, беспощадные глаза его перебегали с лица на лицо.
На миг в голове старика мелькнула мысль, что зрение его обмануло. Что он видел лишь тень. Поворотясь, Баркентин оглядел строй безмолвствующих монументов.
И тут гнев и досада вырвались наружу, и Баркентин с размаху треснул палкой по ближайшему каменному торсу. Хорошо еще костыль не сломал.
– Здесь было какое-то отродье! – завизжал он. – Но хватит об этом! Время уходит. Все подготовлено, что? Что? Все ли у вас готово? Помните, когда вы должны появиться? Порядок вы знаете. Черт подери, чтобы сегодня ни единой промашки!
– Подробности нам известны, – ответил Кличбор столь торопливо и радостно, что Баркентин, разумеется, подозрительно дернулся в его сторону.
– Какого это дьявола вы так развеселились? – прошипел он. – Клянусь геенной, тут что-то нечисто!
– Веселость моя, – произнес вдвое медленнее и величавее Кличбор, – порождается знанием, каковое, как люди культурные, разделяют со мною мои подчиненные, знанием, что сегодня нам предстоит услышать выдающееся поэтическое произведение.
Что-то засипело в горле Баркентина.
– А мальчишка, Титус, – выпалил он, – знает, чего от него ждут?
– Семьдесят седьмой Граф исполнит свой долг, – сказал Кличбор.
Этого находчивого ответа Школоначальника Титус не услышал, поскольку, обуянный внезапной усталостью, попробовал прислониться к стене коридора за ним – и обнаружил, что никакой стены нет. В бездыханном молчании он опустился на четвереньки и пополз в пустоту по узкой щели, и, достигнув барьера из волглых камней, обнаружил, что вправо от него чередой невысоких ступеней уходит тоннель. Он так и не узнал, что всего через несколько минут Баркентин продолжил свой путь по середине коридора мимо расступившихся перед стариком Профессоров, не узнал и того, что, когда Профессора удалились, Кличбор воротился и сдавленно прошептал:
– Выходите, Титус, выходите, покажитесь вашему Школоначальнику, – а, не услышав ответа, сам полез за каменный постамент, но лишь затем, чтобы удивиться и расстроиться, обнаружив пустую тьму.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Двор выстилали светлые изжелта-белые кирпичи – приятный сочный тон, успокоительный для глаза. Их уложили узкими сторонами вверх: способ, который, верно, потребовал количества кирпичей вдвое большего против обычного. Однако узор елочкой, использованный столетней давности мастерами, сообщал двору только ему присущий характер.
Сколь ни запачкались и ни истерлись кирпичи, поверхность двора по-прежнему веяла жизнью, как будто душа человека, который давным-давно распорядился, чтобы их уложили так-то и так-то, еще жила в ней. Кирпичи дышали. Пересечь двор означало – прогуляться по замыслу.
Столбы галереи окрасили: идея отвратительная, поскольку ничто лучше сизовато-серого камня их не сочеталось со светло-желтой кирпичной кладкой, из которой они, казалось, и вырастали. Тем не менее, их окрасили в густейший цвет, самый гнетущий из красных.
Правда, назавтра целая армия мальчишек начнет отскребать краску, но все же сокрытие нежно-серого камня представлялось вдвойне возмутительным в тот единственный в году день, когда двору выпадала высокая честь обратиться в сцену, на которой читает Поэт.
Установленная перед красными столбами Трибуна Поэта рдела и темнела – но лишь для того, чтобы снова вспыхнуть под полуденным солнцем. Древесная ветвь скользила по лику солнца, и заполненный скамейками двор, казалось, пошатывался, когда мерцающие тени листвы проносились по нему вперед, назад, вслед за колеблемой ветром ветвью.
Собравшиеся торжественно восседали на скамьях, поглядывая назад, на калитку, из которой мог с минуты на минуту появиться Поэт. Прошел уже год, как никто из присутствующих не видел этого высокого, нескладного человека, да и видели-то они его на этой же самой церемонии, которая в прошлый раз совершалась под разреженной, скудной моросью.
Графиня сидела перед первым рядом скамей. Слева от нее стояло кресло Фуксии. За креслом торчал Баркентин, по лицу которого лил пот раздраженного беспокойства; старик не сводил глаз (как, впрочем, и Графиня с Фуксией) не с калитки Поэта, но с дверцы в южной стене, через которую вот уже двадцать минут тому надлежало вбежать во двор Титусу.
За ними длинным рядом – словно желтые скамьи их были насестом черных индеек, – восседали Профессора. Кличбор, возвышавшийся в зодиакальной мантии посередине ряда, также смотрел на дверцу в стене. Вот он вытащил большой, неопрятный носовой платок и утер им чело. В тот же миг дверь распахнулась, и трое мальчишек подлетели, задыхаясь, к Баркентину.
– Ну? – просипел старик. – Ну? Нашли его?
– Нет, сударь! – задыхаясь, отвечали мальчишки. – Нигде не можем найти, сударь!
Баркентин, гневясь, треснул концом костыля по светлым кирпичам. Рядом с ним тут же возник Стирпайк – словно вырос из сочно светящейся земли. Он склонился перед Графиней, и та же тень волной окатила неровный рельеф заполняющих двор десятков голов. Графиня на поклон не ответила. Стирпайк распрямился.
– Я не смог отыскать ни единого следа семьдесят седьмого графа, – сказал он Баркентину.
– Черномазая кровь! – продрался сквозь стиснутые зубы голос старика. – Это в четвертый раз…
– Какое… такое… это? – Три эти слова Графиня выложила так, словно они были сделаны из свинца. Слова тяжко попадали в полуденный воздух.
Баркентин, обмотав должностными лохмотьями хилое тело, в гневе повернулся к Графине, взиравшей на него ледяными глазами. Причмокивая, старик поклонился.
– Госпожа моя, – сказал он, – уже в четвертый за шесть месяцев раз семьдесят седьмой граф отсутствует на священной…
– Клянусь тончайшим волосом с его головы, – перебила Графиня тоном, полным убийственной неторопливости, – даже если он будет отсутствовать по сто раз в час, я не позволю говорить о его поведении на людях. Я не позволю вам разглагольствовать о его промахах. Держите ваши соображения при себе. Мой сын – не раб, коего вы, Баркентин, вправе обсуждать с вашим бледным подручным. Подите прочь. Торжество продолжается. Найдите для мальчика замену на скамьях новичков. Свободны.
Тут в толпе за ними послышался ропот – то вошел в Калитку Поэт, предваряемый медленно вышагивающим человеком в шкуре лошади и с ее же хвостом, влачившимся за ним по кирпичам. Поэт – в мантии, с кубком ровяной воды в левой руке и манускриптом в правой, широким неловким шагом следовал за фигурой в лошадиной шкуре. Лицо его походило на клин. Безрассудство мерцало в мелких глазах. Он бледнел от смущения и недобрых предчувствий.
Стирпайк отыскал мальчика примерно Титусова возраста и роста и объяснил тому его роль, довольно простую. Мальчику надлежало стоять, когда остальные сидят, и сидеть, когда все стоят, – вот и все, о чем следовало помнить семьдесят седьмому, по полномочию, графу.
Когда Графиня положила в кубок камушек из реки Горменгаст, когда зрители снова уселись и никого, кроме Поэта и заместителя Титуса, на ногах не осталось, полная тишь пала на двор, и Поэт, сжимая в руке поэму и воздев лицо, возвысил глухой свой голос…
– Ее светлости, Гертруде, Графине Гроанской, и детям ее, Титусу, семьдесят седьмому властителю просторов, и Фуксии, единственному сосуду Крови с женской стороны: всем присутствующим дамам и господам и всем наследственным служителям; всем, исполняющим многоразличные обязанности, тем, соблюдение догматов коими служит оправданием их присутствия на сей церемонии, посвящаю я поэму, которая, по предписанью закона, должна быть обращена ко всем присутствующим здесь, как бы ни рознились они в отношении восприимчивости, занимаемого положения и прозорливости ума, ибо поэзия есть ритуал души, голос веры, суть Горменгаста, луна во всей красноте ее, трубление Гроанов.
Поэт примолк, чтобы глотнуть воздуху. Слова, только что им сообщенные, неизменно произносились перед самой поэмой, и теперь ему оставалось только открыть дверцу проволочной клетки и выпустить наружу сороку – символ, значение коего давно уж утратилось в архивах.
Сорока, каковой полагалось ввинтиться в солнечное небо и лететь, пока она не обратится в точку, ничего такого делать не стала. Скакнув из клетки и с миг простояв на краю трибуны, она, громко треща крыльями, подлетела к Графине, на плече коей и просидела до конца церемонии, время от времени поклевывая свои черные крылья.
Поэт, подняв манускрипт к глазам, сделал глубокий, сотрясший его вздох, открыл маленький ротик, отступил назад и, потеряв равновесие, только что не сверзился по ступенькам, крутенько уходившим с узкой трибуны на семь футов вниз, к земле. Визгливый смех, донесшийся со скамей новичков, пронзил теплый день, как игла пронзает подушку.
Юного нарушителя увел особый служитель. Вновь наступила дремотная тишь, затопившая, как некая жидкость, испещренный тенями двор.
Поэт, чью кожу кололи иглы стыда, взошел на трибуну. Он снова поднял, приступая к чтению, манускрипт, и пока он читал, во дворе удлинялись тени. Вверху моталась, подобно мигрени, туча скворцов. Мальчишки на скамьях новичков, передразнивавшие поэта и пихавшиеся локтями, один за другим засыпали. Графиня зевнула. Летний день расплавился в вечер. Стирпайк бегал глазами туда-сюда. Баркентин раздраженно почмокивал.
Голос Поэта гудел, гудел. Явилась звезда. За нею другая. Земля плыла по Вселенной. Графиня снова зевнула и в который раз взглянула на западную дверь.
Где же Титус?
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
С самого рассвета лощина купалась во мраке. На заре полоска почти горизонтального света проскользнула сквозь массу деревьев в смутный угол ее, где выгибало спины стадо гигантских папоротников (их длинные ветви висли, как лошадиные гривы). Они отливали холодным, зеленым, сердитым блеском. Их стоило выставить напоказ. Но длинный луч удалился, словно не найдя того, что искал.
Пока поднималось солнце, лощина, казалось, темнела вместо того, чтобы копить набирающий силу свет. Своды листвы возносились над нею, один объемистый слой над другим обвисал темнеющими пеленами.
Весь день здесь покоилась, окутывая стволы, тьма, страшная дневная тьма, непроницаемая, как ночь.
И при том самые верхние ветви деревьев, верхние слои листвы блистали под безоблачным солнечным небом.
Когда наступал вечер и солнце повисало над западным горизонтом, затопленная мраком лощина начинала светлеть. Пологие лучи изливались с запада; прогалина встряхивалась и затем, безмолвная и неподвижная, точно собственное живописное изображение, раскрывала все свои тайны.
Среди деревьев, растущих в этой округлой низине, было одно, требовавшее немедленного внимания. Обхват его был таков, что прочие деревья, обступившие это, хоть тоже высокие, мощные, выглядели побегами. То был царь. И только один он был мертв.
Однако сама эта мертвенность наполняла его жизнью. Жизнью, не нуждавшейся в апрельских соках. Глыба ствола его походила на башню, возведенную посреди увитой зеленью беседки, и когда свет с запада ударял в нее, глыба светилась, жестко и гладко, как мрамор или слоновая кость, ибо цветом походила на бивень.
Дерево вырастало из устланной сепиевым дерном смутной котловины. Золото пестрило эту больную, гниющую почву там, куда падали прямые лучи, и светлые ромбы удлинялись, покамест садилось солнце.
В шестидесяти футах от земли ствол мертвого великана покрывали оспины дупел. Они походили на входы во что-то или же на иллюминаторы корабля, выступающие ободы их были гладки, как шелк, и тверды, как кость.
Вот здесь-то, в этих зевах великого дерева, в шестидесяти футах над землей, где ствол оставался еще таким же массивным, как у закутанного в дерн основания, – здесь и помещалось самое средоточие жизни.
Не было в этом высоком, шелковистом утесе ни единой пещеры, в которой не поселились бы постояльцы. Помимо пчел, чьи амбразуры сочились сладостью, не многим из обитателей этого мертводревесного поселения удавалось хоть как-то цепляться за поверхность ствола. Однако имелись ветви других деревьев, качающиеся на расстоянье прыжка, посильного для дикой кошки, белки-летяги, опоссума и того существа, что, оставаясь почти неприметным в устланной мхом темноте своего логова, отделенного всего только плевой пропитанной медом древесины от многоголосого ропота пчел, спало, пока вечерний свет не прокрадывался в малый вход, так высоко расположенный над землей. Когда свет поярчел, существо зашевелилось во сне. Глаза его открылись. Ясные и зеленые, как морские камушки, они светились на лице, цветом и Бесноватостью смахивающим на яйцо зарянки.
Существо выскользнуло из укрытия, на миг задержалось, присев, на краю своей головокружительной пещеры, и рванулось вперед, в пространство, перелетая взмахами с ветки на ветку, как нечто, лишенное вещественности и веса, и вечереющий лес сомкнулся вокруг него, и еле слышный колокол ударил в далеком замке.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Как ребенок теряется в безбрежном лабиринте темнеющего леса – так затерялся и Титус в неисследованной дичи давно позабытых мест. Как ребенок может в изумлении и страхе вглядываться в наполненный сумраком и молчанием путь, а после, вертя головой, в другой и в третий – так и Титус, в страхе, с бьющимся сердцем вглядывался в пути и дорожки, ведущие через камень.
Однако Титуса, в отличие от ребенка в лесу, окружала лишенная жизни твердь. Ни зарослей, ни движения не было здесь. Не было ощущения, что где-то рядом, средь каменных просторов, дремлют, ожидая алмазного апреля, медлительные соки. Некому было разделить с ним этот миг, невыносимо страшный и долгий, пронизанный ужасом миг мрачных предчувствий. Неужели ничто здесь не шевельнется? Неужели в издевательских этих теснинах нет ни единой вибрации? Никакого дыхания? Ничего, сумевшего выжить в затемненных далях и перспективах камня? Пустые, безмолвные, неприветливые, как лунный ландшафт, теснины Горменгаста лежали вокруг.
Ни звука – ни оклик птицы, ни верезг насекомого не нарушали молчания камня. Ни ручейка, что, пришепетывая, скользил бы по каменным плитам Великих Залов.
Титус заблудился окончательно. Все звуки замковой жизни – бряцанье колоколов, шаги по гулким камням, голоса и эхо голосов – сгинуло все.
Но не это ли и означает – быть первооткрывателем? Искателем приключений? Глотать дремотную тишину. Следить, как она вздымается, подобно прибою, с полов, опускается из заплесневелых пустот высоких сводов, затопляя, словно нечто осязаемое, коридоры?
Ощущать, как пересыхают губы, становится кожистым язык, слабеют колени.
Чувствовать, как сердце бьется, словно порываясь к свободе, колотится о стены маленьких ребер, рвется на волю.
Зачем он полез в это ночное зияние, где руки его шарили и не находили ничего, и опять ничего, и опять ничего, пока он медленно продвигался в темноте? Зачем спустился по ржавой железной лестнице в заброшенный коридор и увидел, как чуждо удлиняется тот в постороннем и траурном мраке? Почему не повернул назад, пока еще мог? Не повернул, не поднялся снова по лестнице, не подождал за гигантским торсом, когда в коридоре изваяний стихнет последнее эхо? Школоначальник встал на его сторону – солгал ради него. А он улизнул – ведь это неблагодарность, разве не так? И вот, заблудился, потерялся навек, для всех, на все времена.
Стиснув кулаки, он громко закричал в гулкой глуши:
– Помогите! – И сразу же дюжины голосов ответили ему со всех четырех сторон.
– Помогите, помогите! – кричали они снова и снова; голоса, все – его собственные, гомонили, пока последнее обморочное эхо этого крика, крохотное, изнуренное, напуганное и бесконечно далекое, не изнемогло и не умерло, и густая тишина снова не обступила его отовсюду, и он снова в ней не потонул.
Идти было некуда и идти можно было куда угодно. Куда он направлялся и откуда пришел – все растаяло за столетия, как ему показалось, нерешительных колебаний.
Безмолвие набивалось в уши, пока те не заныли. Титус перебирал в памяти все читанное о путешественниках, но не мог припомнить ни одного рассказа о героях, затерявшихся на подобных здешним путях.
Он поднес стиснутые кулаки ко рту и укусил костяшки. На миг боль, казалось, помогла ему. Вернула ощущение собственной реальности, и, когда она стихла, Титус укусил еще раз и, в пустой надежде достичь хотя бы чего-то, еще раз осмотрев все вокруг, ибо он стоял на скрещении многих путей, постарался взять себя в руки. Мышцы его напряглись, он вытянул шею вперед, вглядываясь в сужающиеся перспективы. Но ничто ему не помогло. Ничто из увиденного не подсказывало способа действий, не предлагало пути к свободе. Ни единый луч света не указывал на существование какого ни на есть внешнего мира. То, что брезжило здесь, однородное, было своего рода сумерками, ничего общего не имеющими со светом дня. Нечто самодовлеющее, взращенное в каменных коридорах, просачивалось сквозь стены, полы и потолки.
Проведя сухим языком по губам, Титус присел на плиты пола, но ужас тут же заставил его вскочить. Казалось, камень уже принялся впитывать его. Необходимо оставаться на ногах. Необходимо двигаться. На цыпочках он подбежал к похожей на плотину стене. На миг прижался к уложенному без раствора камню маленькой потной щекой. «Надо думать… думать… думать…» Он слепливал эти слова сухим языком. «Сбился с пути. С пути? А что это значит?» Он стал вышептывать слова, чтобы их было слышно ему, но не Замку. Шелушистые эти звуки не порождали эха. «Это значит, что я знал, куда идти. Что же я знаю теперь? Что существуют север, юг, восток и запад. Но не знаю где что. Нет ли здесь каких-нибудь других направлений?»
Сердце его скакнуло.
– Да! – крикнул он и сотни утвердительных восклицаний вырвались из каменных глоток. Попрыгучие крики заставили Титуса замереть, глаза мальчика заметались по сторонам на неподвижном лице. Столь громкий гам наверняка выкурит из укрытий жутких призраков этих мест. Маленькая грудь мальчика ныла, ушибленная ударами сердца.
Но никто не объявился, молчанье сгустилось сызнова. Но что же за открытие взяло его врасплох? Открытие нового направления? Не северного, не южного, не западного, не восточного? Какого же? Направления в небо. К кровлям. К открытому простору.
То была всего-навсего искра, но она воспламенила надежду. Титус снова заговорил вслух.
– Должны же быть лестницы, – сказал он. – Этажи, один над другим. На них можно будет понять, где я.
Облегчение, испытанное Титусом при мысли об этом, заставило его содрогнуться, слезы хлынули по лицу его. И он пошел – так твердо, как мог, – по самому широкому из серых каменных путей. Долгое время путь этот вел прямо, потом начал медленно изгибаться. Стены по обеим сторонам оставались безликими, потолок – тоже. Голые их поверхности не привлекли ни единого паука. И вдруг, свернув круче обычного, коридор разделился на пять пальцев поуже, и все страхи тут же вернулись к Титусу. Не возвратиться ли в гулкое безмолвие, из которого он пришел? Но Титус не мог повернуть назад. Не мог.
В отчаянии он прислонился к стене, закрыл глаза и тут-то услышал первый звук – порожденный не им. Первый звук с тех пор, как он скользнул в темноту за далекой статуей. Он не подпрыгнул от страха, но закостенел до того, что ворон, возникший в темноте одного из узких проходов, не заметил его. Ворон вышагивал степенно и сосредоточенно и, не дойдя до Титуса нескольких футов, опустил большую башку и сронил из клюва серебряный браслет. Но только на миг, ибо сразу за тем порылся клювом в грудных перьях, подобрал браслет и прошел еще несколько шагов, после чего запрыгнул, довольно неловко, на выступ в стене, а с него – на полку пошире. Медленно-медленно повернул Титус голову, чтобы не упустить его – это живое существо – из виду. Однако при первом же движении головы, сколь ни было оно нерешительным, птица громко, гортанно вскрикнула, мгновенно взвилась, треща крыльями, в воздух, и через долю секунды исчезла в темном, узком проходе, из которого так недавно явилась.
Титус немедля решил последовать за вороном: не потому, что хотел еще поглядеть на птицу, но потому что она была для него знамением внешнего мира. Более чем вероятно, что птица, хоть и не сразу, выберется из негостеприимного коридора на вольный воздух, к лесам и просторному небу.
Титус шел и с каждым его шагом сумрак все уплотнялся, и вскоре мальчик понял, что движется под землей, поскольку сквозь потолок и суглинок стен начали пробиваться корни деревьев, и запах тлена сгущался в воздухе.
Если бы страх и ужас перед безмолвными залами, из которых он так недавно бежал, были не такими реальными, Титус уже поворотил бы вспять от этого давящего пространства и побежал к пустотелому кошмару, из которого пришел. Ибо казалось, что черному, удушающему тоннелю не будет конца.
Поначалу Титус еще мог идти в полный рост, но то было давным-давно. Теперь ему приходилось ползти, и подолгу, и смрад нечистой земли липнул к его лицу. Впрочем, тоннель и расширялся на столь же долгое время, так что Титус мог влачиться вперед, почти распрямившись, а там потолок опять понижался, и боязнь задохнуться одолевала мальчика.
Никакого света, нигде. Титус почти расстался с надеждой выбраться из этого ужасного приключения живым. Идти было все же не так страшно, как сидеть, скорчившись, в темноте, иначе он давно уступил бы соблазну не понукать больше свое усталое тело час за часом тащиться вперед, поскольку сил и решимости у него почти не осталось.
И наконец, когда усталость и страх измотали его до того, что у него не осталось сил ни на тревогу, ни на радость, Титус, будто во сне, различил впереди тусклый, с рваными краями просвет, темно опушенный сухими травами, и понял – вяло, бесцветно, – что не погибнет в темном тоннеле, что кошмар полых залов остался в прошлом, и что самое большее, чего ему стоит страшиться, – это наказание, ждущее его по возвращении в замок.
Когда Титус выволок себя из травянистого устья тоннеля и забрался на вал, в стене которого оно зияло, то увидал вдали, на севере и на западе, башенные очертания древней своей обители.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Если успех хозяйки дома во всех отношениях зависит от расточительности ее приготовлений к задуманному soirée, от ее внешности, от почти нездоровой заботы о деталях и от продуманности всего и вся, тогда, – по крайней мере, теоретически – Ирма Прюнскваллор вполне имела право предвкушать нечто, соответствующее тем мимолетным видениям, что являлись ей в темноте, когда она, в полудреме, лежала и видела себя окруженной мятущейся толпой мужчин, которые рвутся к руке ее, каковою она, средоточие их внимания, кокетливо помавает над своими спеленутыми в шелка ягодицами.
Если детальнейшая ревизия, коей она подвергала свою особу, кожу, волосы, наряды и украшения, давала основания для веры в то, что столь страстное прилежание с необходимостью пробудит и высвободит красоту, отбывшую в ней столь долгий срок заточения, – пробудит своего рода внезапным наскоком, бомбардировкой ее рословатой и угловатой плоти, – тогда у Ирмы не имелось причин для опасений по части размаха ее привлекательности. Она будет ослепительна. Она установит новый стандарт магнетизма. В конце концов, на что же положила она столько трудов?
Перепробовав семнадцать ожерелий и решив вообще обойтись без них, дабы вся ее длинная белая шея могла клониться, взлетать и качаться по-лебединому, она подошла к двери своей гардеробной и, заслышав шаги внизу, в прихожей, не удержалась, чтобы не крикнуть:
– Альфред! Альфред! Осталось только три дня, дорогой. Только три дня! Альфред! Ты здесь?
Ответа на последовало.
Шаги, ею услышанные, были шагами Стирпайка; тот знал, что Доктор занят в южной кухне больным – жарщиком, который поскользнувшись на куске свиного сала, раздробил себе лопатку, – и воспользовался долгожданной возможностью залезть в окно Докторовой аптеки, наполнить бутылку ядом и, уложив ее в глубокий карман, выйти из дома через парадную дверь: благо в запасе у него имелось – на случай, если его застукают в прихожей, – множество объяснений на выбор. Почему никто не отозвался на стук в дверь? – спросил бы он. Почему переднюю дверь оставили открытой? Да где же, в конце концов, Доктор Прюнскваллор? – ну, и так далее.
Впрочем, он ни с кем не столкнулся, а на зовы Ирмы не ответил.
Вернувшись к себе, Стирпайк перелил яд в дивной красоты хрустальный фиал и поставил его светиться на фоне окна. Затем отступил, склонил голову набок, снова шагнул вперед, чтобы, симметрии ради, передвинуть фиал несколько влево и, возвратившись в центр комнаты, провел языком по тонким губам, вглядываясь из-под бровей в малый сосуд смерти. Он опустил вдруг руки по швам, вывернув пальцы морской звездой, словно будя в них сверхчувствительность к колющему трепету жизни.
И следом, словно то была естественнейшая в мире вещь, Стирпайк уперся ладонями в пол, выбросил вверх тонкие ноги и прошелся по комнате на руках – странно чопорной, качкой, хищной походкой скворца.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
На следующий день умерла госпожа Шлакк. Ее нашли под вечер лежащей на кровати подобием замызганной куколки. Черное платье ее смялось, словно она с кем-то боролась. Руки прижимались к иссохшей груди. Трудно было представить, что эта сломанная безделушка была когда-то новехонькой; что морщинистые, восковые щечки сияли некогда свежей краской. Что в этих глазах давным-давно поблескивал смех. Ибо когда-то, в давнем прошлом, она была бойкой, веселой. Полным жизни и дерзости маленьким существом. Ярким, как птица.
Теперь она просто лежала. Как выброшенная кукла – слишком старая и обветшалая, чтобы найти ей еще какое ни на есть применение.
Фуксия, которой сказали о случившемся сразу, полетела в нянину комнатку, так хорошо ей знакомую.
Но куколка на кровати уже не была ее няней. Этот неподвижный ком тряпья не был нянюшкой Шлакк. Чем-то другим. Фуксия закрыла глаза и мучительно знакомый облик старенькой няньки, самого близкого воплощения матери, какое она когда-либо знала, поплыл по ее сознанию в нахлыве воспоминаний.
Следовало приблизиться к кровати и любовно взять милые останки на руки, но Фуксия не могла. Не могла. При всей живости воспоминаний, что-то в ней отмерло. Она еще раз взглянула на пустую скорлупку того, что нянчило ее, обожало, шлепало и доводило до бешенства.
В ушах Фуксии плаксивый голосок восклицал: «Ах, слабое мое сердце, как они могли? Как они могли? Можно подумать, что я не знаю своего места!»
Резко отворотясь от кровати, Фуксия увидела вдруг, что в комнате она не одна. Доктор Прюнскваллор стоял у двери. Невольно потянувшись к нему, она вгляделась в его эксцентричные и все-таки странно сострадательные черты.
Доктор шагнул к ней.
– Фуксия, драгоценнейшее дитя мое, – сказал он. – Уйдемте отсюда вместе.
– Ах, доктор, – ответила она. – Я ничего не чувствую. Я плохая, доктор Прюн? Я не понимаю.
Внезапно проем двери заполнила фигура Графини, которая – хоть и глядела на дочь с Доктором, – похоже, не понимала, кто это, ибо никакого выражения не обозначилось на ее пространном, бледном лице. Графиня несла, перекинув через руку, шаль из редкостных кружев. Тяжко продвигалась она по голым доскам пола. Приблизясь к кровати, она на миг, словно окаменев, вгляделась в безнадежное зрелище и, расстелив по телу старушки черную шаль, повернулась и вышла из комнаты вон.
Прюнскваллор, взяв Фуксию за руку, вывел ее из комнаты и закрыл дверь.
– Фуксия, милая, – спросил он, когда они двинулись по коридору, – вы что-нибудь слышали о Титусе?
Фуксия застыла на месте, выронив руку Доктора.
– Нет, – сказала она, – но если его не найдут, я покончу с собой.
– Ну, ну, ну, не пугайте меня, моя маленькая, – сказал Прюнскваллор. – Что за некрасивые речи! В устах столь редкостной девушки. Как будто Титус не объявится вот-вот, точно черт из табакерки, а он это сделает, клянусь всем, что есть на свете типического!
– Он должен! Должен! – крикнула Фуксия и разрыдалась так безудержно, что Доктору пришлось обнять ее, промокая пылающие щеки девушки своим безупречно чистым носовым платком.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Похороны нянюшке Шлакк устроили такие простые, что они казались почти небрежными, однако столь бесцеремонное с виду избавление от останков старушки вовсе не было связано с присущим этому событию внутренним пафосом. Число людей, пришедших на кладбище, ничуть не отвечало числу приобретенных нянюшкой Шлакк за долгую жизнь друзей, коих она и счесть-то не осмелилась бы. Ибо к старости Нянюшка обратилась в своего рода предание. Никто не давал себе труда навещать ее. В последние ее годы все покинули старуху. И однако ж молчаливо предполагалось, что жить она будет вечно. Ее невозможно было изъять из жизни замка, точно так же, как невозможно было отнять у Еорменгаста Кремнистую Башню, не оставив в его очертаниях зияющей бреши, которую никогда уж не удастся заполнить.
И потому большинство пришедших оплакать ее несло дань уважения не столько госпоже Шлакк, сколько легенде, которой крошечное это создание позволило, пусть и невольно, образоваться вкруг себя.
Двое гробоносцев просто-напросто не могли нести ее гробик на плечах, поскольку для этого им пришлось бы принять построение, которое не позволяло бы двигаться, не пиная друг друга ногами. В итоге, один тащил маленький ящик с нянюшкой Шлакк, а второй, шагая чуть сзади, по другую сторону гроба, пальцем придерживал крышку, чтобы та не сползла.
То, что нес, приближаясь к Погосту Слуг, первый из них, вполне могло быть птичьей клеткой. Время от времени гробоносец с детским, недоуменным выражением скашивался на свою ношу, словно стараясь увериться, что делает именно то, чего от него ожидают. Все казалось ему: чего-то тут не хватает.
Гроб провожали скорбящие во главе с Баркентином, за которым в некотором отдалении следовала Графиня. Она не пыталась приноровить свой шаг к торопливой, дерганной поступи калеки. Тяжеловесно передвигалась она, уставя взор в землю. За нею шли Фуксия с Титусом, отпущенным из Форта на похороны.
Память Титуса еще наполняло недавнее, отдающее ночным кошмаром приключение, и мальчик шел, как в трансе, по временам выныривая из него, чтобы подивиться новому проявлению непредсказуемой странности жизни – маленькому ящику перед ним, сиянию солнца на вершине Горы Горменгаст, с немыслимой грузностью возносящейся впереди.
Гора венчала собою места, ставшие частью его наделенной недюжинным воображением натуры, места, по которым бродил в гуще деревьев похожий на колющее насекомое изгнанник, по которым некто – человек или призрак, Титус точно не знал – в этот самый миг снова несся, как прежде, по воздуху, подобный древесному листу, принявшему обличие девочки. Девочки. Внезапно очнувшись от транса, Титус увидел рядом с собою Фуксию.
Слово и образ слились, как бы воспламенившись. Изящная, летучая тайна лощины обрела пол, поименование, породив в Титусе новое волнение. Мгновенно пробудившись, он в то же время глубже окунулся в сказочный мир символов, ключа к которым не имел. А она была здесь – здесь, перед ним. Титус видел вдали верхушки крон того самого леса, шелест которого окружал ее.
Фигуры, двигавшиеся впереди: Баркентин, мать, двое мужчин с гробиком, – были менее реальны, чем ошеломившее его смятение сердца.
Он остановился в заполненной могильными холмиками долинке. Фуксия держала брата за руку. Люди окружали его. Некто в клобуке сыпал красную пыль в неглубокую канавку. Зазвучал нараспев чей-то голос. Слова ничего для Титуса не значили. Его раздирало смятение.
В этот же вечер он лежал без сна в темноте и смотрел незрячими глазами на огромные тени двух мальчиков, сцепившихся в великанских размеров потешном сражении, происходившем в прямоугольнике падающего на стену дортуара света. И пока он рассеянно взирал на выпады и удары, коими осыпали одна другую огромные тени, сестра его Фуксия подходила к дому Доктора.
– Можно мне поговорить с вами, Доктор? – спросила она, когда тот открыл ей дверь. – Я знаю, вам совсем недавно уже пришлось возиться со мной, и…
Но Прюнскваллор, приложив палец к губам, ибо Ирма открыла дверь гостиной, заставил Фуксию примолкнуть и втащил ее в темную прихожую.
– Альфред, – послышался вскрик, – что такое, Альфред? Я говорю, что такое?
– Наипростейшее ничто, любовь моя, – заверещал Доктор. – Надо мне будет прямо с утра выдрать этот моток плюща с корнем.
– Какого плюща – я говорю, какого плюща? – отозвалась Ирма. – Право, мне иногда хочется, чтобы ты называл лопату лопатой, действительно хочется.
– А она у нас есть, о сладчайший мой никотин?
– Кто она?
– Лопата, ибо плющ, любовь моя, плющ так и будет стучать в нашу дверь. Во имя всего символичного, он так и будет производить это действие!
– Так вот что это было такое? – Ирма успокоилась. – Не помню никакого плюща, – сообщила она. – Но для чего ты съежился там, в углу? Это не похоже на тебя, Альфред, вот так прятаться по углам. Право, если бы я не знала, что это ты, я, право же, совершенно…
– Но ты же знаешь, о нежнейшее из нервных окончаний? Конечно же, знаешь. Так поднимайся наверх. Клянусь всем, что стремительно мчит по кругу, последние несколько дней со мною живет не сестра, а землетрясение, верно?
– Ах, Альфред. Но ведь оно того стоит, правда? Еще о стольком следует позаботиться, а я так взволнована. И уже скоро. Наш прием, Альфред! Наш прием!
– Как раз потому тебе следует лечь в постель и заполнить себя доверху сном. Ведь именно в нем нуждается моя сестра, не так ли? Разумеется, в нем. В сне… Ах, сколько приторной сладости он вмещает в себя, Ирма! Иди же! Иди! И… д… и! – И ладонь его затрепетала по воздуху подобием шелкового носового платка.
– Спокойной ночи, Альфред.
– Спокойной ночи. О единокровная!
Ирма скрылась во тьме наверху.
– А теперь, – сказал Доктор, уложив чистейшие ладони на острейшие, изящнейшие колени свои и одновременно привстав на цыпочки, отчего Фуксию охватил страх, что он того и гляди грянет об пол улыбающимся, полным мысли лицом, – а теперь, моя Фуксия, я полагаю, что прихожей с нас довольно, вы согласны? – И он провел девушку в свой в кабинет. – Ну-с, если вы задернете шторы, а я пододвину это зеленое кресло, мы, почитай, в одно мгновение ока устроимся с вами уютно, учтиво, с невероятным, почти невыносимым удобством, ведь так? – осведомился он. – Клянусь всем, на что невозможно ответить, именно так!
Фуксия дернула штору, что-то вверху подалось – и бархат обвис, словно парус, поперек окна.
– Ах, доктор Прюн, простите, простите! – чуть не плача, воскликнула она.
– Простите! Простите? – отозвался Доктор. – Как смеете вы жалеть меня! Как смеете меня унижать! Вы отличнейшим образом знаете, что я в состоянии делать подобные вещи получше вас. Да, признаю, я стар. Почти пятьдесят лет просочились сквозь меня. Однако во мне еще осталось немного жизни. Но вы так не думаете. Нет! Клянусь всяческой жестокостью, не думаете. Ну так я вам покажу. Смотрите.
И Доктор журавлиной поступью приблизился к окну, содрал с карниза длинную портьеру и, вмиг завернувшись в нее, замер пред Фуксией, спеленутый, точно длинная зеленая хризалида, над которой острые, бледные черты умного лица его воспаряли, как нечто, явившееся из иной жизни.
– Вот так! – объявил он.
Год назад Фуксия хохотала бы до колик. Даже сейчас зрелище это показалось ей на редкость потешным. Но смеяться она не могла. Девушка знала, что Доктор любит проделывать подобные фокусы. Что ему нравится, когда она чувствует себя с ним непринужденно – да он и добился этого, она не испытывала больше смущения, – но знала и то, что не засмеется, что не способна почувствовать юмор, а способна лишь распознать его. Ибо весь последний год она взрослела – не естественно, но как бы зигзагами. Чувства, вершки пришедшего к девушке полузнания, боролись и теснились в ней, опрокидывая друг друга, и то, что было для нее естественным, выглядело со стороны неестественным: она жила от минуты к минуте, как заблудившийся путешественник, которому снится, будто он то в Арктике, то на экваторе, то на речных порогах, то одиноко бродит среди бескрайних песков.
– Ах, Доктор, – сказала она, – спасибо вам. Вы очень, очень добры и забавны.
Фуксия произнесла это, отвернув лицо в сторону, но теперь, поворотясь, увидела, что Доктор уже выпутался из портьеры и пододвигает ей кресло.
– Что вас тревожит, Фуксия? – спросил Доктор. Они уже сидели, оба. Темная ночь смотрела на них сквозь незавешенное окно.
Фуксия наклонилась вперед и словно бы стала старше. Казалось, ей удалось собраться с мыслями, вдруг дорасти, так сказать, до своих девятнадцати лет.
– Несколько очень важных вещей, доктор Прюн, – сказала она. – Я хочу расспросить вас о них… если можно.
Прюнскваллор внимательно вгляделся в нее. То была новая Фуксия. И говорила она совершенно ровным тоном. Совершенно взрослым.
– Конечно можно, Фуксия. И что же это?
– Прежде всего: что случилось с моим отцом, доктор Прюн?
Доктор откинулся на спинку кресла, провел ладонью по лбу. Фуксия не отрывала от него глаз.
– Фуксия, – сказал Доктор. – Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Я не стану вилять. Вы же должны мне верить. Я не знаю, что случилось с вашим отцом. Я знаю лишь, что он был очень болен – да вы помните это не хуже меня, как помните и исчезновение его. Если и есть хоть один живой человек, ведающий что с ним случилось, я не знаю, кем он может быть – разве что Флэем или Свелтером, исчезнувшими в то же самое время.
– Господин Флэй жив, доктор Прюн.
– Нет! – сказал Доктор. – Зачем вы так говорите?
– Титус виделся с ним, Доктор. И не один раз.
– Титус!
– Да, Доктор, в лесу. Но это тайна. Вы не…
– Как он? Не болен ли? Что говорит о нем Титус?
– Он живет в пещере, добывает пропитание охотой. Он спрашивал обо мне. Он очень преданный.
– Бедный старина Флэй! – произнес Доктор. – Бедный старый верный Флэй. Только вам не следует встречаться с ним, Фуксия. Ничего, кроме вреда, из этого не выйдет. Я не хочу, чтобы вы попали в беду.
– Но мой отец! – воскликнула Фуксия. – Вы сказали, он может знать об отце! Быть может, он жив, доктор Прюн! Быть может, он жив!
– Нет. Нет. Я не верю в то, что он жив, – сказал Доктор. – В это, Фуксия, я не верю.
– Но Доктор, Доктор! Я должна повидаться с Флэем. Он любил меня. Я хочу кое-что отнести ему.
– Нет, Фуксия. Вам туда нельзя. Возможно, вы и увидитесь с ним, но только сильнее расстроитесь – куда сильнее, чем сейчас, если начнете убегать из замка. То же и Титус. Все это очень неправильно. Для такой бурной жизни, для всех этих тайн он недостаточно взросл. Господи благослови – что он еще рассказал?
– Все это тайна, Доктор.
– Да, Фуксия, да. Конечно, тайна.
– Он кое-что видел.
– Видел? И что же?
– Летающее существо.
Доктор замер, обратясь в ледяную статую.
– Летающее существо, – повторила Фуксия. – Не знаю, что хотел он этим сказать. – Откинувшись в кресле, Фуксия сжала ладони. – Перед тем как умереть, – продолжала она, понизив голос до шепота, – нянюшка Шлакк говорила со мной. Это было за несколько дней до ее кончины, она нервничала меньше обычного и говорила так, как бывало, когда ее ничто не тревожило. Она рассказывала о времени, когда родился Титус, о том, как Кида пришла его нянчить – я эту женщину помню, – и как та вернулась в Наружные Жилища, и один из резчиков полюбил ее, и у нее родился ребенок, девочка, совсем не такая, как все, – я к тому, что Кида не была замужем, но не только поэтому, – и как о ней поползли всякие слухи. Внешний Люд не принял ее, сказала няня, потому что ребенок был незаконный, а после самоубийства Киды девочку растили не так, как других, будто это она была виновата, и когда она подросла, то стала жить так, что все ее возненавидели, она никогда не разговаривала с другими детьми, но временами пугала их, и бегала по крышам, спускалась по печным трубам, а потом и вовсе ушла жить в лес. А Внешние ненавидели ее и боялись, потому что она была такая проворная, появлялась и исчезала, и скалила на них зубы. Нянюшка Шлакк рассказывала, что после она совсем ушла от них и долгое время никто не знал, где она, – иногда только слышали по ночам, как она смеется над ними, и Внешние называли ее «Та», и, рассказав мне все это, нянюшка Шлакк добавила, что она еще жива, что она молочная сестра Титуса, а когда Титус рассказал о летающем по воздуху существе, я подумала, доктор Прюн, может быть…
Подняв глаза, Фуксия обнаружила, что Доктор выбрался из кресла и смотрит в окно, в темноту, где чертит небо падучая звезда.
– Если Титус узнает, что я вам все рассказала, – громко сказала она, вставая, – мне не будет прощения. Но я боюсь за него. Я не хочу, чтобы с ним что-нибудь случилось. Он все время смотрит в пустоту и не слышит половины того, что я ему говорю. А я люблю его, доктор Прюн. Вот что я вам хотела рассказать.
– Фуксия, – ответил Доктор. – Уже очень поздно. Я обдумаю ваш рассказ. Но давайте не будем спешить. Если мы начнем обсуждать все сразу, я просто запутаюсь, верно? Я знаю, у вас есть еще что мне поведать, и про одно, и про другое, все это важно, однако подождите день-другой, и я попробую вам помочь. И не бойтесь. Я сделаю все, что смогу. А относительно Флэя, Титуса и «Той» – тут я должен подумать, так что отправляйтесь пока спать, а после приходите ко мне, как толь ко сможете. Господи, благослови мое разумение, да вам уже не сколько часов как пора бы улечься. Ступайте же!
– Спокойной ночи, Доктор.
– Спокойной ночи, дорогое дитя.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
Несколько дней спустя Стирпайк, заметив, что Фуксия вышла из двери западного крыла и идет стерней по тому, что было когда-то огромным лугом, выполз из тени под аркой, в которой он проторчал больше часа и, сложившись вдвое, понесся кружным путем к цели вечерней прогулки Фуксии.
Он бежал, и венок из роз, срезанных в саду Пятидесятника, болтался у него на спине. Прилетев, никем не замеченный, на кладбище слуг за минуту-другую до Фуксии, он успел еще принять горестную позу – опустился на одно колено и правой рукой уложил венок на уже поросший травой бугорок.
Таким его и увидела Фуксия.
– А ты что тут делаешь? – Голос ее был едва слышен. – Ты же никогда ее не любил.
Фуксия перевела взгляд на большой венок из алых и желтых роз, а с него – на несколько полевых цветов, зажатых в ее кулаке.
Стирпайк встал и поклонился. Вечер зеленел вокруг.
– Я знал ее не так хорошо, как вы, ваша светлость, – сказал он. – Но уж больно жалкая это могила для такой замечательной старой женщины. Вот я и раздобыл эти розы… и… ну… – И Стирпайк очень правдоподобно изобразил смущение.
– Впрочем, ваши цветочки, – прибавил он, сняв венок с изголовья холмика и уложив его в изножии, – больше всего порадуют ее душу – где бы та ни находилась!
– Не знаю я об этом ничего, – сказала Фуксия. Она отвернулась от Стирпайка и отбросила цветы в сторону. – Да и глупости все это. – И Фуксия вновь повернулась к нему. – А вот ты, – выпалила она, – не думала, что ты такой сентиментальный.
Стирпайк ожидал совсем иного. Он воображал, что здесь, на кладбище, Фуксия обнаружит в нем родственную душу. Но тут у него возникла новая мысль. Быть может, это он нашел родственную душу в ней. Насколько слова «глупости все это» отвечают ее природе?
– У меня разные случаются настроения, – сказал он и в одно движение подхватил венок и отшвырнул его прочь. На миг роскошные розы вспыхнули, летя сквозь зеленый сумрак вечера, и исчезли в темноте окрестных могил.
Мгновение побледневшая Фуксия простояла неподвижно, а затем подскочила к молодому человеку и вонзила ногти ему в щеки.
Стирпайк даже не шелохнулся. Уронив руки и отступая от него медленно и устало, Фуксия видела, что Стирпайк стоит неподвижно, с лицом совершенно белым, если не считать яркой крови на красных, как у клоуна, щеках.
Зрелище это заставило ее сердце забиться. Зеленый пористый вечер висел за ним, как декорация, выстроенная для показа его тонкого тела, его белизны и чахоточных ран на щеках.
На миг девушка забыла о внезапной, лишенной логики ненависти, которую всколыхнул в ней поступок Стирпайка, забыла о его высоких плечах, забыла о своем положении дочери Рода – забыла обо всем и видела перед собой лишь человека, которого поранила, и прилив сострадания наполнил ее и, полуослепнув от замешательства, она, оступаясь и протягивая руки, бросилась к нему. Стремительным движением гадюки Стирпайк ввинтился в ее объятия – и в тот же миг оба, невольно подставив друг другу подножки, повалились на твердую землю. Стирпайк ощутил, как сердце Фуксии стучит у его ребер, как прижимается к его губам щека девушки, но даже не шевельнул ими. Мысли его улетели в будущее. Так оба пролежали несколько мгновений. Стирпайк ждал, когда члены Фуксии и тело ее обмякнут, но она оставалась в его руках напряженной, как тетива лука. Оба лежали неподвижно, но вот Фуксия отвела лицо от Стирпайка и увидела – не кровь на щеках, но темную красноту глаз и высокий выступ поблескивающего лба. Все было словно понарошке. Как во сне. И во всем чувствовалась некая жуткая новизна. Нежный порыв угас – она лежала в объятиях мужчины с высокими плечами. Отвернувшись, Фуксия с внезапным ужасом поняла, что изголовьем им служит узкий, поросший травой могильный холмик ее старенькой няньки.
– О ужас! – возопила она. – Ужас! ужас!
И оттолкнув Стирпайка, Фуксия с трудом поднялась и скачками, как дикий зверь, полетела во тьму.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Сидя у окна спальни, Ирма Прюнскваллор дожидалась зари, как если бы та была часом тайной встречи самого сокровенного, секретного толка, о коей Ирма договорилась с первым утренним лучом. И вот он пришел – восход солнца – внезапным ласточкиным взлетом света над каменной закраиной подоконника. Настал День. День Приема, или того, что она называла теперь своим Суарэ.
Вопреки наставлениям брата, ночь она провела плохо: тревожные мысли снова и снова врывались в ее сны. В конце концов, Ирма запалила на столике у кровати длинные зеленые свечи и принялась заново полировать уже отполированные до совершенства десять продолговатых ногтей, нахмуриваясь на каждый по очереди, – губы ее были поджаты, мышцы напряжены. Затем накинула пеньюар и, подтянув к окну кресло, уселась дожидаться рассвета.
Под окном лежал дворик, еще не тронутый светом с востока, похожий на озеро черной воды. Ни звука, ни движения нигде. Ирма сидела неподвижно, выпрямив спину, сжав на коленях ладони. Глаза ее смотрели на восток. Пламя свечей стояло в комнате за нею, уравновесясь на фитилях, как желтые листья на тонких черных черешках. Ни единый трепет не возмущал совершенных их очертаний – и тут вдруг запел петух: варварский, властный ор, примитивный, бесстыдный, рассек темноту, подняв, как бы восходящим потоком своего призывного клича, Ирму на ноги. Пульс ее убыстрился. Она бросилась в ванную комнату и через несколько мгновений вода, шипя, заполнила ванну, и Ирма, приняв деланно скромную позу, уже пригоршнями ссыпала в роскошную глубину изумрудные и лиловатые кристаллы.
Альфред Прюнскваллор, откинув голову на подушку, спал лишь наполовину. Брови Доктора были сведены, и эта странная хмурость придавала лицу его непривычное выражение. Если бы кто-то из знакомых увидел его сейчас, он, верно, задумался бы: имеется ли у него хотя бы малейшее, отдаленнейшее представление о подлинной натуре Доктора? Тот ли это веселый, неугомонный, легкомысленный врачеватель?
Ночь получилась непокойная, грустная. Путанные сны заставляли Доктора вертеться в постели, сны, время от времени съединявшиеся в видения, исполненные страшноватой отчетливости.
Лишаясь дыхания и сил, он плыл по черной воде рва к тонущей Фуксии, уменьшившейся до детской куклы. Но всякий раз, что он достигал ее и протягивал к ней руку, она уходила под воду, и вместо нее на поверхность выскакивали наполовину налитые красочным ядом бутылки. А после он снова видел, как она взывает о помощи, маленькая, в темном отчаянии, и старался добраться до девушки, и сердце его колотилось, и он просыпался.
В другие минуты он видел Стирпайка, бегущего, наклонившись вперед, по воздуху – ступни его, снующие в нескольких дюймах от земли, никогда ее не касались. И прямо под молодым человеком мчала с ним вровень, как тень его, стая оскаливших зубы крыс, плотная, будто единое существо, поворачивая, когда поворачивал он, замирая, когда он замирал, страшная и сосредоточенная, заполняющая ландшафт ночного разума Доктора.
Он видел далеко в море Графиню на большом железном подносе. Светила, как голубая лампа, луна, а Графиня удила рыбу, используя вместо удилища Флэя, худого и жесткого до невероятия. Зубами окаменелого рта Флэй сжимал локон красных волос Графини, сиявший в синей ночи, подобно нити огня.
Гертруда легко держала его на весу, обхватив большими ладонями сразу оба колена. Одежда обтягивала Флэя так туго, что он походил на мумию, – тонкое, негнущееся тело его чопорно возносилось к звездам. С отвратительной регулярностью Графиня поддергивала лесу и вытаскивала еще одного из утонувших белых котов, нежно складывая их на подносе все подраставшей белой кучей.
Потом он увидел Кличбора: тот галопировал на четвереньках с Титусом на спине. По ущельям ужасной тьмы и вверх по сосновым склонам гор скакал он, белая грива взлетала над его головой, а Титус, вынимая из бездонного колчана стрелу за стрелой, бил по всему, что попадалось ему на глаза, пока образ этот не съежился в сознании Доктора, и он не потерял их обоих в зловещей ночной мгле.
И мертвых – их тоже он видел. Нянюшка Шлакк, хватаясь за сердце, топотала по натянутому канату, и слезы текли по ее щекам и падали на далекую землю, ударяясь о нее с громом как бы пушечной канонады.
На миг и Свелтер заполнил собою тьму, и даже во сне Доктора чуть не стошнило, когда он увидел, как эта гнусная глыба плоти дюйм за дюймом бескостно протискивается сквозь замочную скважину.
И Сепулькревий с Саурдустом плясали вдвоем на его постели, держась за руки, попрыгивая, поворачиваясь в воздухе, в больших аляповатых картонных масках, так что по иссохлым плечам Саурдуста хлопала грубо намалеванная кошачья морда, показывающая язык картонному подсолнечнику, за черной серединкой которого посверкивали битыми стеклами глаза семьдесят шестого графа Горменгаст.
И так всю долгую ночь – одна живая картина за другой, пока, уже перед самым рассветом, Доктор не впал в лишенный сновидений, хоть и не глубокий сон, сквозь который услышал летящее из сказочной страны пение петуха и рев воды в Ирминой ванне.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
Весь день шалопаи и сорванцы, рассаженные по двум десяткам классов, гадали, что же такое приключилось с учителями, отчего их еще даже меньше обычного интересует само существование учеников? Как ни привыкли они к долгим срокам пренебрежения, к безразличию, изливаемому на тех, кто десятилетиями норовил втереть Профессорам очки, все же равнодушие, прямо-таки бившее нынче фонтаном из-за каждого учительского стола, принадлежало совсем иной разновидности.
Не было в классных комнатах циферблатов, на которые не поглядывали бы по шестидесяти раз за час – и не сбитые с толку мальчишки, но их учителя.
Тайну удалось сохранить образцово. Ни единый из учеников не знал о вечернем приеме, и когда с уроками на тот день было наконец-то покончено, и Профессора вернулись в свой дворик, в движениях их явственно проступали скрытность и самодовольство.
Собственно, никакой особой причины хранить приглашение к Прюнскваллорам в тайне у них не было, имелась лишь привычка неуклонно чтить существующее между учителями молчаливое взаимосогласие. К тому же, в сознании каждого присутствовало – пусть по большей части и неоформившееся – ощущение некоторой нелепости того, что их пригласили всех сразу. Ощущение, что уж больно просто все складывается. Некоторой неразборчивости. В себе самом ни один из них ничего нелепого не усматривал, да и с чего бы? Но некоторые, Перч-Призм, в частности, не могли без содрогания вообразить коллег, переминающимися en masse[8] в ожидании у дверей Прюнскваллоров. Что-то в такой стадности подрывало самоуважение отдельных составляющих стада.
По обыкновению своему, они и этот вечер провели, облокотись о балюстраду веранды, огибавшей Двор Наставников. Маленькая, далекая фигурка дворника из конца в конец мела под ними плитки, оставляя за собою в тонкой пыли следы от проходов метлы.
Все они были здесь, облитые вечерним светом, – все, кроме Кличбора, который, откинувшись в своей комнате над далекими классами на спинку начальственного кресла, размышлял о странных намеках, делавшихся ему весь этот день. Исходили они от Перч-Призма, Опуса Трематода, Стрига, Вертлюга и прочих, а сводились к тому, что каждый из названных так или иначе, в том или этом случае узнал от знакомых своих знакомых или расслышал сквозь тонкие стены, либо сидя в темноте под лестницами, – а Ирма как раз вслух разговаривала сама с собой (от каковой привычки, уверяли они Кличбора, ей не по силам избавиться), – что она (Ирма) воспылала самой что ни на есть безумной страстью к нему, их достопочтенному начальнику; они же, хоть это и не их дело, полагают, что Кличбор не обидится, если ему откроют глаза на создавшееся положение, поскольку более чем очевидно, что для Ирмы прием это просто-напросто повод побыть с ним рядом. Очевидно же – не так ли? – что она не могла пригласить его одного. Это было бы слишком откровенно, слишком нескромно, ну и – такие вот дела… такие дела. И коллеги, сочувственно насупясь, удалялись.
Так вот, Кличбор давно уж привык к попыткам поводить его за нос. Сколько обладал он носом, столько его за таковой и водили. И стало быть, он, при всей его слабости и рассеянности, был далеко не профаном в том, что касается подтрунивания и родственных оному искусств. Он выслушал своих подчиненных и теперь в одиночестве обдумывал все в двадцатый раз. Выводы и умозаключения, к коим пришел он, выглядели примерно так:
1. Все это чистой воды брехня.
2. Назначение этой выдумки состоит в том, чтобы он, Кличбор, сам того не сознавая, сообщил приему дополнительную пикантность. Остряки из числа его подчиненных несомненно предвкушают, что он будет весь вечер увиливать от Ирмы, а она – гоняться за ним.
3. Поскольку вслух он в их россказнях не усомнился, они и понятия не имеют, что он видит их насквозь.
4. Ну что ж, пока все замечательно.
5. Но как обратить все это против них же самих?..
6. И собственно говоря, что уж такого дурного в Ирме Прюнскваллор?
Представительная, достойная женщина, правда, с длинным острым носом. Ну и что с того? Должен же нос иметь какую-то форму. Зато в нем чувствуется характер. По крайности, бесцветным его не назовешь. Как и ее. Бюст у нее подкачал, это правда. Так ведь и он, Кличбор, как ни крути, староват для бюстов. И нет ничего полезнее прохлады белых подушек в летнюю пору, ничего полезнее для… («Господи, благослови, – громко произнес Кличбор, – куда это меня занесло?»).
Став Школоначальником, он очутился в одиночестве гораздо пущем прежнего. Человек необщительный, он все же предпочитал сторониться людей, скорей находясь в их обществе, чем вовсе обходясь без него.
Ощущение собственной отдельности, накатывавшее на него по вечерам, когда подчиненные удалялись, нисколько ему не нравилось. Прежде он полагал себя несостоявшимся отшельником – человеком, которому хорошо и покойно, когда он сидит один, с толстым томом на коленях, в голой аскетической комнате: жесткое кресло, пустой камин. Он ошибался. Комнату свою он ненавидел, а при виде убогой ее обстановки и беспорядка, в котором валялись по ней вещи, невольно оскаливал зубы. Разве так должен выглядеть кабинет Школоначальника? Он представил себе диванные подушки и шлепанцы у кровати. Представил носки, каких давно уж не видел, – с пятками, достойными такого названия. Он представил себе даже вазу с цветами.
Затем мысли его вновь обратились к Ирме. Да, что уж тут отрицать, представительная молодая особа. Хорошо сложена. Энергична. Несколько глуповата, быть может, но старику сразу на все рассчитывать не приходится.
Он встал и, дотащившись до зеркала, локтем отер с него пыль. Вгляделся в себя. Медленная, ребячливая улыбка расплылась по его лицу, как будто увиденное порадовало Кличбора. Затем, склонив голову набок, он оскалил зубы и нахмурился, потому что зубы были ужасны. «Надо бы мне пореже раскрывать рот», – подумал он и попытался сказать что-нибудь, не размыкая губ, однако и сам не понял того, что у него получилось. Новизна всей ситуации и фантастические планы, бурлившие теперь в голове Кличбора, заставили забиться его старое сердце, едва он уяснил всю огромность их значения. Не менее усладительной, чем мысль о своем триумфе и предвкушение бесчисленных практических удобств, кои наверняка повлечет за собою подобный союз, была несколько, впрочем, преждевременная мысль о том, что подчиненные попадут в ту самую яму, которую вырыли для него. Он увидел себя проплывающим, с Ирмой под руку, мимо жалких холостяков – неоспоримым патриархом, символом преуспеяния и супружеской стабильности, в котором, однако ж, присутствует и нечто от бонвивана – темная лошадка, притворный скромняга с козырным тузом в рукаве. Так они полагали, что смогут его одурачить? Внушив, что Ирма без ума от него? Он расхохотался, утрировано и мрачно, но тут же примолк. А может, все так и есть? Нет. Выдумка, от начала и до конца. И все-таки, может, так и есть? По случайному, как говорится, стечению обстоятельств. Нет! нет! нет! Невозможно. С какой стати?
– Господи, благослови, – пробормотал он. – С ума я схожу, что ли?
Но приключение было налицо. И тайный план у него имелся. Все зависит от него. Чувство, которое он принял за ощущение молодости, охватило его. Он принялся грузно подпрыгивать, словно бы через невидимую скакалку. Попытался вскочить на стол, но не набрал нужной высоты и только ободрал старую ногу ниже колена.
– Дьявольщина! – пробормотал он и вновь тяжело опустился в кресло.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Пока Профессора переодевались в вечерние мантии, терзали поломанными гребнями изумленные колтуны на своих головах, поносили один другого, рыскали по комнатам друг друга в поисках давным-давно загадочно исчезнувших полотенец, запонок и даже отдельных предметов одежды, – пока под аккомпанемент сквернословия и воркотни совершалось все это; и пока грубые шуточки раскатывались по веранде, и Фланнелькот, которого мутило от волнения, сидел на полу своей комнаты, засунув голову между колен; и пока в дверь его просовывалась, чтобы стянуть с вешалки полотенце, толстая, волосистая лапа Опуса Трематода, – пока по всему Двору Наставников происходило и это, и сотни иных вещей, Ирма Прюнскваллор прохаживалась взад-вперед по длинной белой зале, долго стоявшей под запором, но открытой ради сегодняшнего события.
Некогда в ней находился самый настоящий салон, однако Прюнскваллоры ею не пользовались, поскольку для их потребностей она была чересчур велика. Зала оставалась запертой долгие годы, но ныне, после многодневной уборки, перекраски, истребления пыли и наведения глянца она засияла необычайной новизной. Целая команда искусных мастеров трудилась в ней под неусыпным надзором Ирмы. Вкусом она обладала тонким – Ирма, стало быть. Она не переносила кричащих цветов, грубой мебели. Правда, ей недоставало умения сочетать одни вещи с другими, создавать гармоничное целое из частей, из коих каждая хоть и отличается изысканностью, но не вяжется с прочими либо по стилю, либо по времени изготовления (а также по материалу, цвету и выделке).
Обо всем приходилось заботиться наособицу. Стенам следовало отливать нежнейшими тонами выцветшего коралла. Ковер нужен был зеленый, но такой зеленый, что почти уж и серый. Цветы для каждой из ваз подбирались отдельно, и хоть все детали были, сами по себе, очаровательны, красоты как таковой зала не обрела.
Возникшая в итоге и не замечаемая Ирмой «разномастность» сообщала салону выражение некоторой непринужденности, что вовсе не входило в намерения Ирмы. В общем-то, впоследствии выяснилось, что оно и к лучшему, поскольку, если бы Ирма смогла добиться мревшего в глубинах ее сознания холодного совершенства, Профессора, верно, обратились бы в оторопевших фантомов с разинутыми в изумлении ртами. Осмотрев все по очереди, Ирма прохаживалась теперь по зале, похожая на существо, которое, потратив всю жизнь на обдумывание средств, способных свести на нет впечатление, производимое остротой его носа, явилось ныне в таком великолепии шелков и драгоценностей, пудры и благовоний, что от него, как от цветной сахарной глазури, мурашки пробегают по коже.
Пройдя вдоль южной стены салона и миновав примерно три четверти ее, можно было обнаружить очень красивое двустворчатое окно до полу, выходившее в обнесенный стеною сад, украшенный каменными горками, дорожками из плоских камней, солнечными часами, фонтанчиком (который два дня сопротивлялся садовнику, но все же забил), решетками для вьющихся растений, зелеными беседками, статуйками и прудом с рыбками – все это оказывало на чувствительное зрение Доктора воздействие столь сокрушительное, что он никогда не пересекал сада с открытыми глазами. Доктору пришлось немало поупражняться, прежде чем он обрел уверенность в том, что способен с изрядной быстротой перейти сад вслепую. То были владения Ирмы – место, полное папоротников, мхов и мелких цветочков, раскрывавшихся в странные часы ночи и мерцавших в специально для них устроенных гротиках.
Только на дальнем краю сада и уцелело нечто, напоминавшее о существовании природы, да и оно-то сводилось не более чем к дюжине тощих деревьев, чьи ветви тянулись в направлении, сочтенном ими наиболее естественным. Впрочем, трава вокруг деревьев была выкошена, а под сучьями их безыскусно торчали один-два простых деревенских стула.
На этот вечер пришлось полнолуние. Впрочем, ничего удивительного тут не было. Об этом Ирма позаботилась тоже.
Дойдя до двустворчатого окна, она с наслаждением обозрела открывшуюся ей сцену – сад гоблинов, серебристый и таинственный, мерцание лунного света в струе фонтана, солнечные часы, решетки и сама отраженная прудом луна. Все это несколько мутилось в ее глазах – жаль, конечно, но пришлось выбрать что-то одно: либо остаться в темных очках и выглядеть не так авантажно, либо смириться с тем, что все вокруг будет не в фокусе. Не так уж и существенно, насколько не в фокусе будет сад – собственно говоря, он создавал, перебирая тем самым по части таинственности, своего рода чувственное марево, которого Ирме, старой деве, всегда особенно не хватало. Но как же ей теперь отличить одного Профессора от другого? Сможет ли она по достоинству оценить все тонкости их ухажерства, если, конечно, оное воспоследует: все эти подергивания и изгибания губ, сужения и выкатывания глаз, морщинки на задумчивых висках, игру бровей? Неужели столько всего останется потерянным для нее?
Когда она сообщила брату о своем намерении обойтись без очков, тот посоветовал Ирме, коли так, снять их за час до появления гостей. И оказался прав. Для нее это несомненно – оказался прав. И лоб уже перестал болеть, и спеленутые ноги свои она переставляла теперь быстрее, чем осмеливалась поначалу. Однако все это приводило ее в некоторое замешательство, и хоть сердце Ирмы забилось при виде лунных пятен сада, она, тем не менее, сжала руки в веселом раздражении на то, что появилась на свет с плохим зрением.
Она позвонила в колокольчик. В дверь просунулась голова.
– Это Моллох?
– Да, госпожа.
– В мягких туфлях?
– Да, госпожа.
– Можете войти.
Моллох вошел.
– Оглядитесь вокруг, Моллох, – я говорю, оглядитесь вокруг. Нет, нет! Принесите метелку для пыли. Нет, нет. Подождите минуту, – я сказала, подождите минуту. – (Моллох вообще не сдвинулся с места.) – Я позвоню. – (Она позвонила.) Всунулась еще одна голова. – Это Холлст?
– Да, госпожа, это Холлст.
– Достаточно и «да, госпожа», Холлст. Вполне достаточно. Имя ваше великого значения не имеет. Так? Так? Идите в кладовку и принесите Моллоху пыльную метелку. Ступайте. Вы где, Моллох?
– Рядом с вами, госпожа.
– Ах, да. Ах, да. Вы побрились?
– Разумеется, госпожа.
– Разумеется, Моллох. Должно быть, все дело в моих глазах. У вас такое темное лицо. Так вот, приложите все усилия – все – вы меня поняли? Обойдите залу, вперед, назад, не останавливаясь, вместе с Холлстом, и ищите, ищите пылинки, которые я проглядела – вы сказали, на вас мягкие туфли?
– Да, госпожа.
– Хорошо. Очень хорошо. Это не Холлст сейчас вошел? Он? Хорошо. Превосходно. Он будет вас сопровождать. Четыре глаза лучше двух. Но только метите – где бы вы ни нашли пылинку. И не испортите ничего, не сшибите, Холлст такой неуклюжий, ведь верно, Холлст?
Старик Холлст, которого с самой зари гоняли с поручениями по дому, и он считал, что его, старого слугу, ценят недостаточно, ответил, что «ничего про это не знает». То был единственный его рубеж обороны, перейти который он не решался, – принимаемая раз за разом упрямая поза.
– Еще как знаете, – повторила Ирма. – Совершенно неуклюжий. Ну, поторапливайтесь. Вы такой копуша, Холлст, такой копуша.
И снова старик сказал, что «ничего про это не знает», а сказав, в тщедушной ярости отворотился от хозяйки и, отворачиваясь, зацепился ногой за ногу и ухватился за маленький столик. Высокая белоснежная ваза закачалась, подобно маятнику, на узком своем основании, а Моллох с Холлстом – рты открыты, конечности парализованы, – уставились на нее.
Но Ирма, уже отхлынув от них, практиковалась в некоем медлительном, истомленном способе передвижения, который, представлялось ей, способен произвести изрядное впечатление. Покачиваясь, проплывала она взад-вперед по куску мягкого серого ковра, время от времени останавливаясь, чтобы поднять перед собою вялую руку – предположительно, к губам того или иного из Профессоров.
В эти мгновения формальной интимности голова ее чуть клонилась к плечу, глаза уплывали в сторону и взгляд, царапнув скулу, вознаграждал кавалера, касающегося губами ее кисти.
Зная, что зрение у Ирмы никудышное и увидеть их через весь салон она не способна, Холлст и Моллох следили за нею из-под насупленных бровей и топотали, – ни дать ни взять, солдатики, – на месте, имитируя кипучую деятельность.
Впрочем, долго наблюдать за хозяйкой им не пришлось, поскольку дверь растворилась и вошел Доктор. Он был при полном вечернем параде и выглядел элегантней обычного. Безупречную грудь Доктора украшали высшие из тех орденов, коими наградил его Горменгаст. Багровый Орден Побежденной Чумы и Тридцать Пятый Орден Ложного Ребра, свисая с широких лент, лежали рядышком на его узкой, белоснежной сорочке. В бутоньерке присутствовала орхидея.
– О Альфред, – воскликнула Ирма. – Как я тебе? Как я тебе?
Доктор глянул через плечо и взмахом руки отослал слуг.
После полудня он спрятался и поспал без сновидений, что в значительной мере восстановило его силы после ночных кошмаров. Стоя перед сестрой, Доктор выглядел свежим, как маргаритка, хоть и не столь пасторальным.
– Ну, я тебе вот что скажу, – воскликнул он, и склонивши голову набок, обошел сестру кругом. – Вот что я скажу тебе, Ирма. Ты обратила себя в нечто значительное, и если в итоге получилось не произведение искусства, оно настолько близко к нему, что разница почти и не заметна. Клянусь всем, что испускает свечение, ты успешно справилась с задачей. Это же надо! Я едва узнал тебя. Поворотись-ка, дорогая моя, на одном каблуке! Ба! Ба! Многозначительная фигура, вот во что она обратилась! Подумать только, ведь в наших жилах колотится одна кровь! Чрезвычайно смутительно!
– Что ты хочешь сказать, Альфред? Мне показалось, ты похвалил меня. – Голос Ирмы прервался.
– А как же, а как же! – но скажи мне, сестра, что же, помимо твоих сверкающих, ничем не прикрытых глаз, – и общего ничегонеделанья – что так изменило тебя – что, так сказать… ага… ага… Гм-м… Я понял… О господи… Ну да, клянусь всяческой пневматикой, как глупо с моей стороны… у тебя же грудь появилась, любовь моя, или нет?
– Альфред! Я не собираюсь тебе ее демонстрировать.
– Боже оборони, любовь моя.
– Но если тебе необходимо знать…
– Нет-нет, Ирма, нет-нет! С удовольствием оставляю все на собственное твое усмотрение.
– Ты совсем не хочешь слушать меня… – Ирма чуть не расплакалась.
– О нет, конечно, хочу. Расскажи же мне все.
– Альфред, дорогой, – тебе ведь нравится, как я выгляжу. Ты сказал, что нравится.
– Нравится и посейчас. Безумно. Все дело лишь в том, ну… я ведь знал тебя долгое время и…
– Я говорю, – бездыханно оборвала его Ирма, – что бюст… ну, в общем…
– …что бюст представляет собою то, что ты из него делаешь? – привставая на цыпочки, спросил ее брат.
– Верно! Верно! – вскричала сестра. – Вот я и сделала себе один, Альфред, и с удовольствием ношу его. Это грелка, Альфред, к тому же очень дорогая.
Наступило мертвенное молчание – и наступило надолго. Когда Прюнскваллору удалось, наконец, восстановить из уцелевших фрагментов подобие разнесенного вдребезги самообладания, он открыл глаза.
– К какому времени ты ожидаешь гостей, любовь моя?
– Ты знаешь не хуже меня. К девяти, Альфред. Не позвать ли нам повара?
– Зачем?
– Чтобы дать ему последние указания, разумеется.
– А это зачем?
– Затем, мой дорогой, что ничто не бывает слишком последним.
– Ирма, – сказал Доктор, – похоже, ты ненароком наткнулась на чистой воды истину. И кстати, о воде – фонтан работает?
– Милый! – пальцы Ирмы коснулись его рукава. – Работает как нанятой. – И она ущипнула брата.
Доктор почувствовал, как по всему его телу разливается краска стыда – маленькими приливчиками, вот как индейцы выскакивают из засад, нападая то здесь, то там.
– А теперь, Альфред, поскольку уже почти девять, я хочу преподнести тебе сюрприз. Ты видел еще не все. Это роскошное платье. Эти драгоценности в моих ушах, эти сверкающие камни на моей белой шее… – Доктор содрогнулся. – …и прихотливый шнуровой орнамент на моей серебряной шапочке – все это лишь оправа, Альфред, просто оправа. По силам тебе ожидание, Альфред, или правильнее сразу сказать? Нет, еще того лучше – Да! Да, намного лучше, дорогой, я просто тебе покажу – СЕЙЧАС…
Ирма вышла. Доктор и понятия не имел, что сестра его способна передвигаться так быстро. Всвист «кошмарной синевы» – и она исчезла, оставив по себе легкий аромат миндальной глазури.
«Уж не старею ли я?» – подумал Доктор, прикладывая руку ко лбу и закрывая глаза. Когда он открыл их, сестра стояла уже перед ним, но – о, ползучая преисподняя! – что она с собой сотворила?
Перед Доктором застыл не просто фантастический, обтянутый материей, размалеванный истукан его сестры, к нраву и позам которой он давно уже стал невосприимчив, – но нечто иное, обратившее ее из тщеславной, дерганной, разочарованной в себе, диковатой, легко возбудимой и вспыльчивой старой девы, в общем-то, вполне сносной – в экспонат. Прюнскваллора словно бы ткнули носом в кривую внутреннюю работу ее ума – и сделала это длинная, вышитая цветами вуаль, теперь прикрывавшая физиономию Ирмы. Над плотной черной сетью виднелись только глаза, подслепые и отнюдь не большие. Она поводила ими вправо-влево, чтобы брат уяснил назначение ее наряда. Нос был укрыт, что само по себе превосходно, но это никоим образом не искупало вульгарности, до жути обнажающей душу Ирмы, – вульгарности скрытого замысла.
Второй за этот вечер раз Прюнскваллор покраснел. За всю свою жизнь он не встречал ничего столь откровенно и смехотворно хищнического. Видит бог, Ирма всегда умела ляпнуть что-нибудь неуместное, да еще и в самое неподходящее время, но невозможно позволить ей столь очевидным образом выставлять свои намерения напоказ.
Однако Доктор произнес лишь:
– Ага! Гм-м. Сколько в тебе подлинного вкуса, Ирма! Виртуозного вкуса. Ну кто бы еще до такого додумался?
– О, Альфред, я знала, тебе понравится… – Она опять завращала глазами и это покушение на шаловливость едва не разбило сердце Доктора.
– Постой-ка, о чем это я все думал, пока любовался тобой? – заливисто затараторил братец, постукивая себя пальцем по лбу. – Фу ты ну ты… о чем же это… вроде бы, я что-то такое читал в одном из твоих журналов – а, да, вот, вот, вот, почти что… ну!., нет, опять ускользнуло… вот же незадача… погоди… погоди… ближе, ближе – подплывает, будто рыбка к приманке моей старческой памяти… сейчас, сейчас… есть! да, точно!., но только, о господи, нет… ни к чему… не стоит говорить тебе о таком…
– О чем, Альфред?… почему ты нахмурился? Какой ты все же несносный, особенно когда вот так разглядываешь меня, – я говорю, какой ты несносный!
– Дорогая, если я расскажу тебе, о чем, ты ужасно расстроишься. Это может сильно задеть тебя.
– Задеть! Что ты хочешь сказать?
– Тут дело в одном таком простеньком отрывочке, который случилось мне прочитать. Я вспомнил о нем потому, что там говорилось о вуалях и современных женщинах. Ну-с, я, будучи мужчиной, всегда остро реагировал на все таинственное и волнующее, где бы оно мне ни встретилось. И если таковые качества в чем-нибудь и присутствуют, так именно в женских вуалях. Но, ах, дорогая моя, ты знаешь, что было написано в той дамской колонке?
– Что? – спросила Ирма.
– А вот что: «Хотя, возможно, и существуют дамы, которые еще продолжают носить вуали, точно так же, как существуют и те, кто бродит по джунглям на четвереньках, потому как никто еще не сказал им, что в наши дни принято ходить на ногах, тем не менее, она (авторесса) отлично знает, к какому слою общества принадлежат женщины, выходящие на люди в вуалях после двадцать второго числа каждого месяца. В конце концов, – продолжает авторесса, – с чем-то давно уж “покончено”, с чем-то еще нет, но, если говорить об аристократичности наряда, тогда вуалей, с равным результатом, можно было и вовсе не изобретать»….Впрочем, все это такая ерунда! – воскликнул Доктор. – Как будто женщины до того уж слабы, что им приходится во всем подражать друг дружке.
И он залился высоким смехом, как бы давая понять, что мужчины на подобную ерунду внимания не обращают.
– Ты сказал, двадцать второго? – после нескольких мгновений напряженного молчания спросила Ирма.
– Именно так, – ответил ей брат.
– А сегодня…
– Тридцатое, – сообщил брат, – но право, право, ты вовсе не обязана…
– Альфред, – сказала Ирма, – помолчи, пожалуйста. Существуют вещи, в которых ты не разбираешься, и одна из них – женский ум.
Она поспешно освободила лицо от вуали, явив брату не утративший остроты нос.
– А теперь я хотела бы знать, не сделаешь ли ты для меня кое-что, дорогой.
– Что именно, Ирма, любовь моя?
– Я хотела бы знать, не сделаешь ли ты для меня кое-что, дорогой.
– Что именно, Ирма, любовь моя?
– Я подумала, не возьмешь ли ты… ах нет, придется самой… тебя это может шокировать… Но, возможно, если ты закроешь глаза, Альфред, я могла бы…
– К чему, во имя всяческих темнот, ты клонишь?
– Я подумала, дорогой, во-первых, что ты мог бы снести мой бюст в спальню и наполнить его горячей водой. Становится холодно, Альфред, а мне не хотелось бы простудиться, – или, если тебе этого делать не хочется, ты мог бы притащить вниз, в мою малую гостиную, кастрюлю, а уж дальше я сама, – ну что, дорогой, – ну что?
– Ирма, – ответил ей брат, – вот этого я делать не стану. Я делал для тебя и продолжаю делать многое, приятное и неприятное, но начинать беготню туда-сюда в поисках горячей воды для бюста моей сестры мне уже поздновато. И кастрюлю я тоже не понесу. Неужто в тебе нет ни грана благопристойности, любовь моя? Я знаю, ты очень взволнована и не вполне отдаешь себе отчет в своих словах и поступках, но хотел бы с самого начала совершенно определенно заявить – во всем, что касается твоего резинового бюста, я тебе не помощник. Если ты простудишься, я дам тебе лекарство, до тех же пор я был бы тебе благодарен, если бы ты оставила эту тему в покое. И довольно об этом! Волшебный час уже близок. Вперед, вперед! о моя тигровая лилия!
– Иногда я просто презираю тебя, Альфред, – сказала Ирма. – Кто бы мог подумать, что ты такой ханжа!
– Ах, нет! Дорогая, ты слишком ко мне жестока. Будь милосердна. Ты думаешь, легко сносить твое презрение, когда ты выглядишь столь ослепительно?
– Правда, Альфред? Нет, правда? Правда?
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Было условлено, что в девять с минутами Профессора соберутся во дворе перед домом Доктора и там подождут Кличбора, каковой, в качестве Школоначальника, проигнорировал предложение явиться на место первым и дожидаться их. Довод Перч-Призма насчет того, что-де он, Кличбор, конечно, Школоначальник, однако орава мужчин, без дела шастающих по двору на манер каких-нибудь заговорщиков, будет выглядеть более нелепо, чем один-единственный человек, не возымел на старого льва никакого действия.
Кличбор, в теперешнем его настроении, поугрюмел пуще обычного. Злобно, как загнанный в угол зверь, он через плечо оглядел подчиненных.
– Да не скажет впредь никто… – пророкотал он наконец, – что Школоначальнику Горменгаста пришлось дожидаться – ночью, в Южном Дворе – когда ему выпадет счастье узреть появление его подчиненных. Да не скажет никто, что лицо, облеченное подобной ответственностью, докатилось до такого унижения.
И потому через несколько минут после девяти в сумраке двора образовалось большое пятно, как будто здесь сгустилась некая часть ночной темноты. Кличбор, притаившийся за колонной аркады, решил продержать подчиненных в ожидании не меньше пяти минут. Увы, ему не удалось совладать с нетерпением. Не прошло и трех минут после прихода Профессоров, как возбуждение вынесло Кличбора в открытую тьму. Когда он прошел уже половину двора и ясно стал различать рокот их голосов, из-за облака выскользнула луна. В холодном свете ее, залившем место встречи, тускло, словно вино, засветились красные мантии Профессоров. Но не Кличбора. На нем была церемониальная мантия тончайшего белого шелка с вышитой на спине большой буквой «Г». Великолепный, пышный наряд, производивший, впрочем, при лунном свете впечатление отчасти пугающее – не один из дожидавшихся начала праздника Профессоров испуганно вздрогнул, увидев, как к ним приближается некто, обладающий разительным сходством с привидением.
Профессора совсем забыли, что у руководителя их есть церемониальное одеяние. Смерзевот никогда в него не облачался. Самым недалеким из них такое расхождение, давшее старику столь редкостное преимущество в смысле как декоративном, так и социальном, показалось несколько даже обидным. Все они втайне радовались возможности показаться на людях в своих красных мантиях, пусть даже людей всего-то и было что Доктор с сестрой (себя они в счет не брали), – и вот вам: Кличбор, ладно бы кто другой, так нет, Кличбор, их дряхлый начальник, одним, так сказать, громовым раскатом, лишил их красную грозу всякой внушительности.
Сколь ни краткой была их досада, Кличбор ее ощутил, и ощущение это лишь подстегнуло старика. Тряхнув в лунном свете белой гривой, он поддернул арктический свой наряд так, что тот улегся вкруг него скульптурными складками.
– Господа, – сказал он. – Будьте так любезны, умолкните. Благодарю вас.
И Кличбор склонил голову, погрузив лицо в глубокую тень, позволявшую распустить черты его в улыбке довольства, вызванного послушанием подчиненных. Когда он вновь поднял к ним лицо, выражение оного было по-прежнему торжественным и благородным.
– Присутствуют ли здесь все собравшиеся?
– А это какого дьявола значит? – поинтересовался из красного сумрака мантий хриплый голос и сразу же голос этот – Мулжаров – покрыло коротким бряцанием стаккато Цветрезова смеха:
– О! ага! ага! сколько в этом законченности! ага! ага! «Присутствуют ли здесь все собравшиеся?» Ага!.. Вот так задал старик загадку, да поможет бог моим легким!
– Именно! Именно! – встрял голос более хрусткий. – Предположительно, то, о чем он намеревался спросить, – (это уже говорил Сморчикк), – так это вот о чем: все ли, кто здесь, действительно здесь, или лишь те, что думают, будто они здесь, тогда как на деле их вовсе и нет здесь среди тех, кто здесь есть. Как видите, все очень просто – нужно лишь с синтаксисом освоиться.
Школоначальнику показалось, что где-то совсем рядом, за спиной его, некто давится смехом, – сначала жуткая беззвучность, затем вдох, словно ведром кто-то черпанул из колодца, а следом утробный голос Опуса Трематода.
– Бедный старикашка Кличбор! – произнес этот голос. – Бедный никудышный старикашка Кличбор!
И вновь рокотание с рефреном из безрадостного, дурацкого смеха.
Кличбор пребывал не в том расположении духа, чтобы стерпеть подобное. Старое лицо его вспыхнуло, ноги задрожали. Голос Опуса звучал совсем близко. Прямо за левым плечом. Кличбор отступил на шаг, повернулся – так резко, что белая мантия его взвилась, – ударил с размаху длинной рукой и тут же испугался того, что поначалу показалось ему совершенным триумфом. Узловатый кулак его врезался в чью-то челюсть. Мгновенное, буйное и горькое чувство власти охватило его, пьянящая мысль, что он недооценивал себя в свои семьдесят, что нежданно-негаданно открыл в себе качества «человека действия». Но приятное волнение Кличбора быстро угасло, поскольку тот, кто лежал, стеная, у его ног, был вовсе не Опусом Трематодом, но хлипким, диспепсическим Фланнелькотом – единственным из подчиненных, питавшим к Кличбору хоть какое-то уважение.
Впрочем, быстрота учиненной им расправы оказала на всех воздействие отрезвляющее.
– Фланнелькот! – промолвил Кличбор. – Пусть это послужит уроком для всех. Вставайте, достойный человек. Вы проявили отвагу. Отвагу!
В этот миг нечто, просвистев в воздухе, ударило одного из самых безликих Профессоров по запястью. Профессор вскрикнул, ибо ему действительно было больно, и о Фланнелькоте немедля забыли. У ног неприметного Профессора обнаружился круглый камушек, все головы сразу повернулись к сумеречному двору, но видно там никого не было.
Высоко на северной стене, окна которой казались не большими замочных скважин, Стирпайк, сидевший, свесив ноги вниз, на одном из подоконников, услышав далеко внизу крик, поднял брови и, благоговейно прикрыв глаза, поцеловал свою рогатку.
– Какой бы чертовщиной это ни было и откуда бы ни прилетело, оно, по крайней мере, напомнило нам, что мы запаздываем, друг мой, – произнес Сморчикк.
– Истинная правда, – прошептал Стриг, почти неизменно норовивший наступить, так сказать, на хвост каждому замечанию своего друга. – Истинная правда.
– Кличбор, – сказал Перч-Призм, – проснитесь, старый дружище, и проложите нам путь. В доме Прюнов уже горит каждая лампа. Господи, ну и компания из нас получилась, – и он пробежался поросячьими глазками по лицам коллег, – экая жуткая орава, однако – такие вот дела… такие дела.
– Вы-то тоже не бог весть какой красавчик, – сообщил чей-то голос.
– Внутрь, ага! внутрь! – воскликнул Цветрез. – Теперь надо весело! Уж-жасно весело! Мы все должны веселиться!
Перч-Призм подскользнул поближе к Кличбору.
– Мой старый друг, – сказал он, – вы не забыли того, что я говорил вам об Ирме, не так ли? Вам может прийтись туго. У меня самые свежие новости. Она окончательно помешалась на вас, старина. Просто помешалась. Будьте поосторожнее, шеф. Поосторожнее.
– Я – буду – поосторожнее, Перч-Призм, не бойтесь, – пообещал Кличбор и на лице его появилось плотоядное выражение, истолковать которое коллеги не смогли.
Пикзлак, Вроет и Шплинт стояли, держась за руки. Духовный наставник их умер. Чем они были несказанно довольны. Подмигнув один другому и обменявшись тычками под ребра, они опять соединили руки во тьме.
Началось массовое шествие к калитке Прюнскваллоров. Ничего заслуживающего названия палисадника за нею не обреталось – просто участок темно-красного гравия, который садовник разровнял граблями. Оставленные ими параллельные линии ясно различались в лунном свете. Садовник мог бы и не усердствовать, ибо через несколько минут опрятные бороздки отбыли в прошлое. Ни единого красного дюйма не миновало шарканье и топотанье Профессорских ног. Сотни отпечатков всех форм и размеров, отпечатков каблуков и носков, налагались, перекрещиваясь и пересекаясь, один на другой – столь причудливо, что возникала мысль, будто меж Профессоров немало тех, кто способен похвастаться ступнями длиною в руку, а есть и такие, кто вообще непонятно как держится на ногах, поскольку обувь их и мартышке показалась бы тесной.
После того как удалось одолеть горловину калитки, и винно-красная орда с Кличбором, точно с орифламмой, во главе приблизилась к парадным дверям, и Школоначальник, уже протянувший руку к шнуру звонка, уже поднявший львиную голову, обернулся, дабы напомнить подчиненным о своей надежде: он найдет в их манерах и в общем поведении в гостях у Ирмы Прюнскваллор то чувство приличия, относительно коего он до сей поры не имел причин предполагать, будто они вообще таковым обладают или хотя бы способны его симулировать, – но разукрашенный на манер новогодней хлопушки дворецкий напыщенным движением, определенно свидетельствовавшим о многолетнем опыте, распахнул дверь. Стремительность, с которой она повернулась на петлях своих, была исключительной, но не менее эффектным оказалось и беззвучие ее – беззвучие столь совершенное, что повернувшийся к подчиненным Кличбор, еще копавший рукою воздух вблизи сонетки, никак не мог взять в толк причину странного поведения своих коллег. Когда человек намеревается произнести речь, сколь бы ни была она незатейливой, внимание аудитории может его лишь порадовать. Увидеть же на каждом обращенном к тебе лице выражение напряженного интереса, однако интереса, который к тебе явно не относится – более чем неприятно. Что с ними? Почему глаза их столь расфокусировались – или, если они сфокусированы, почему смотрят мимо него, как будто в резной высокой зеленой двери за ним присутствует нечто, способное настолько приковать их внимание? И почему Вроет, привстав на цыпочки, глядит сквозь него?
Кличбор совсем уж собрался обернуться – не потому, что полагал, будто сзади есть на что посмотреть, но из-за охватившего его ощущения, которое заставляет порою человека, идущего по пустынной дороге, оглядываться, дабы увериться, что он здесь один. Но, еще не успев сделать это по собственной воле, он ощутил, как его резко, хоть и почтительно пристукнули два раза костяшками пальцев по левой лопатке, – и дернувшись, точно от прикосновения призрака, Кличбор оказался нос к носу с новогодней шутихой, с дворецким.
– Уверен, сударь, вы простите мне мою вольность, сударь, – произнесла, не выходя из прихожей, эта разряженная особа, – но вас с нетерпением ожидают, сударь, да и не удивительно, коли дозволите мне так сказать.
– Ну что ж, если вы настаиваете, – ответил Кличбор, – пусть будет так.
Слова эти ничего, собственно, не значили, но были единственными, какие он смог придумать.
– А теперь, сударь, – продолжал дворецкий, переведя голос в более высокий регистр, отчего на лице его обозначилось совершенно новое выражение, – когда вы будете столь любезны, я провожу вас к госпоже.
Он отступил в сторону и крикнул в темноту:
– Вперед, господа! Коли позволите, – и, грациозно развернувшись на каблуках, повел Кличбора и прочих через прихожую, а из нее по множеству куцых коридоров к покою более просторному, у которого все и остановились – рядом с лестничным маршем.
– Не питаю ни малейших сомнений, сударь, – сообщил, уважительно наклоняясь, дворецкий (на взгляд Кличбора, человек этот говорил слишком много), – не питаю ни малейших сомнений, сударь, что общепринятая процедура вам известна.
– Разумеется, любезный. Разумеется, – ответил Кличбор. – И в чем же она состоит?
– О, сударь! – сказал дворецкий. – А вы шутник.
И он захихикал – звук, когда он исходит от хлопушки, довольно неприятный.
– «Процедур» существует великое множество, любезнейший. О какой говорите вы?
– О той, сударь, что относится до порядка, в коем представляют гостей – по именам, разумеется, – когда они дефилируют через двери салона. Процедура вполне стандартная.
– По какому ж еще порядку их представлять, друг мой, как не порядку старшинства?
– Вполне справедливо, сударь, и во всех отношениях, не считая, однако, того, что обычай требует, дабы Школоначальник, коим вы, сударь, являетесь, замыкал шествие.
– Замыкал?
– Именно так, сударь. Подобием как бы пастыря, я так это понимаю, сударь, что гонит перед собою свое, так сказать, стадо.
Наступила короткая пауза, позволившая Кличбору сообразить, что, будучи представленным хозяйке последним, он окажется первым, кто сможет завести с ней беседу.
– Превосходно, – сказал он. – Традиция должна, разумеется, остаться нерушимой. Сколь ни смешным представляется это на поверхностный взгляд, я замкну, как вы изволили выразиться, шествие. Между тем, время уже позднее. Разбивать моих подчиненных по возрастным группам и тому подобное, некогда. Собственно, все они далеко не молокососы. Поторапливайтесь, господа, поторапливайтесь; и если вы, Цветрез, прекратите расчесывать ваши власы еще до открытия дверей, я, как лицо, отвечающее за мой штат, буду вам чрезвычайно признателен. Благодарю вас.
И тут же двери на лестницу распахнулись, и длинный прямоугольник золотистого света пал на часть выстроившихся в боевой порядок Профессоров. Мантии их полыхнули. Лица засветились, как у привидений. Несколько минут слепящего блеска, и они, почти одновременно повернувшись, отступили в окрестные тени. Из открытых дверей, сквозь которые изливался свет, на них уставилось чье-то большое лицо.
– Имя? – сдавлено прошептал его обладатель. Из двери протянулась рука и, заграбастав полную жменю винно-красной ткани, подтащила к себе ближайшего из Профессоров. – Имя? – повторился шепот.
– Имя мое Цветрез, ага! – прошипел изловленный Профессор, – и убери прочь свою глупую лапу, тупой ублюдок.
Цветрез выходил из себя редко и ненадолго, однако теперь он действительно рассердился на то, что его потянули за мантию да еще и помяли ее так грубо, покрыв паутинкою складок.
– Отпусти! – запальчиво повторил он. – Адом клянусь, я добьюсь, чтобы тебя высекли, ага!
Грубиян-лакей наклонился, приблизив губы к уху Цветреза.
– Убью… тебя… – прошептал он – и уж до того равнодушно, что Цветрез перепугался по-настоящему. Все выглядело так, точно этот малый сообщает ему обрывки секретных сведений – будто бы мимоходом (как это принято у шпионов), но конфиденциально. Прежде чем Цветрез пришел в себя, его подтолкнули, и он оказался совсем один в длинной зале. Один, если не считать слуг, выстроившихся вдоль правой стены, и – далеко впереди – хозяина и хозяйки салона, неподвижно и прямо стоявших в сиянии многих свечей.
Возьмись Кличбор загодя обдумывать порядок представления своих подчиненных, он вряд ли набрел бы на счастливую мысль выбрать из всей колоды Цветреза и пойти, так сказать, с карты, настолько лишенной какого-либо достоинства.
Однако случай позаботился о том, чтобы самой близкой к шарившей руке оказалась мантия Цветреза. И чтобы Цветрез, глуповатый попрыгунчик Цветрез, легко, как трясогузка, ступая по серо-зеленым акрам ковра, наполнил, несмотря на свой начальный испуг, воздух – прохладный, ожидающий воздух – тем, чего ни у одного из прочих Профессоров в подобных количествах не имелось, – теплом, или своего рода живостью, но живостью не человека, а скорее, стекла, – искристой, сверкающей.
Казалось, Цветрез до того радуется жизни, что на саму жизнь у него и времени-то не остается. Каждый миг был для него чем-то ярким, расцвеченным трелью или трещоткой разлетающихся по воздуху слов. Кто мог бы вообразить, находясь с ним рядом, что прямо тут, за ближайшим углом, затаились такие вульгарные чудища, как смерть, рождение, любовь, страдание и искусство? Если Цветрез и знал о них что-нибудь, он держал это знание при себе. Он плыл в своей лодочке над их зияющими, могильными глубинами, меняя курс взмахом весла, когда черный кит смерти или красный кальмар страсти на миг воздымали туши свои над поверхностью вод.
Цветрез прошел треть расстояния, отделявшего его от хозяев, эхо громового голоса, метнувшего его имя через залу еще не умерло, а уж он (с его трясогузочьей походочкой, щеголеватостью, задорным, подвижным личиком, таким готовым развлекать и быть развлекаемым, пусть только никто не принимает жизнь всерьез) расположил к себе Прюнскваллоров. В его глуповатости и задоре определенно присутствовал шарм. Носки его туфель сияли, как зеркала. Ножки переступали словно сами собой.
Профессора, которые, вытянув шеи, следили за его продвижением, перевели дух. Они понимали, что им нипочем не удастся пройтись по длинному ковру с выражением хотя бы близким к выражению Цветреза, и все же каждым шагом своим, каждым наклонением головы он напоминал им, что суть жизни в том, чтобы испытывать счастье.
И ах, сколько было в нем обаяния! Безыскусного обаяния! Когда Цветрезу оставалось до хозяев всего лишь несколько футов, он перешел на танцевальную пробежку и, протянув вперед обе руки, сомкнул ладони поверх вялых белых перстов Ирмы.
– О, ага! ага! – воскликнул он, и голос его покатил назад по салону. – Это просто, дорогая моя госпожа Прюнскваллор, ну просто… – и обратясь к Доктору, добавил, хватая протянутую тем руку, расправляя плечи и радостно кивая: – Что, разве не так?
– Да, друг мой, надеюсь, именно так все и будет, – вскричал Прюнскваллор. – Как мы рады вас видеть! И между нами, Цветрез, вы так подбодрили меня, право… клянусь всем, что животворит, я благодарен вам всей душой! Не исчезайте на весь вечер, ладно?
Ирма прислонилась к брату и раздвинула губы в мертвой, широкой, точно рассчитанной улыбке.
Улыбке этой полагалось передать сразу многое и среди прочего – безусловное согласие с чувствами, выраженными братом. В ней содержался также намек на то, что при всех присущих Ирме качествах femme fatale[9], в глуби душевной она остается девушкой более чем наивной и ужасно ранимой. Но вечер только еще начинался и Ирма сознавала, что ей предстоит совершить немало ошибок, прежде чем улыбка получится такой, как задумано.
Цветрезу, еще не отведшему взгляда от Доктора, повезло – он не заметил Ирминой попытки что-то ему внушить. Он как раз собрался что-то сказать, когда гулкий и грубый голос взревел в другом конце залы: «Профессор Мулжар», и Цветрез, живо отворотясь от хозяев, щитком приставил ко лбу ладонь, изображая впередсмотрящего, озирающего далекий горизонт. С бойкой, восторженной улыбкой он поворотил свое юркое тело и устремился к столам с закусками, где, сплетя пальцы в узел и высоко подняв локти, пробежался взглядом по винам и деликатесам. Углубившись в созерцание, он покачивался из стороны в сторону на бортиках туфель.
Сколь отличен от него был Мулжар, передвигавшийся длинными, неуклюжими, сердитыми шагами! Да собственно, каждый, в свой черед входивший этим вечером в залу, отличался от всех остальных, только и было в них общего, то цвет мантий.
Фланнелькот, похожий на человека заблудившегося и знающего, что ему еще топать и топать – по крайности милю; грузный, мешковатый, неопрятный Трематод, выглядевший так, словно при всей его силе, при том, как торчит вперед его с батоном схожая челюсть, колени его могут во всякий миг подогнуться, после чего он уляжется спать прямо на ковре. Перч-Призм, жутковато проворный, семенящей, задиристой поступью переходил залу, сверкая под блеском свечей белым дикобразьим лицом, рыская по сторонам черными пуговичными глазками.
Один за другим, поступью такой, поступью этакой, они выходили из холла под оглашавшее их имена набатное уханье, и наконец, только Кличбор и остался в полутьме.
Пока гости один за другим вышагивали, направляясь к ней, по ковру, Ирме хватало времени, чтобы поразмыслить о степени уязвимости каждого из прельщений, кои ей предстояло так скоро пустить в ход. Некоторые были, конечно, решительно невозможны, – но и отвергая их, она с удовольствием перебирала в уме выражения вроде «неограненный алмаз», «золотое сердце», «тихий омут»…
Салон наполнился теми, кто уже представился ей, и по мере того, как гостей прибывало, говор их становился все громче, а Ирма все стояла, замерев, рядом с братом, обдумывая pro и contra новых знакомых, покамест голос брата, жизнерадостный пуще обычного, не оторвал ее от этих раздумий.
– Ну-с, как там Ирма, сестра моя, мое сладкое трепетание? Все воркует? Плотская жизнь не наскучила ей – или наскучила? Ирма, великая зачинательница! Какой решительной, какой воинственной выглядишь ты! Расслабься немного, умягчись в себе. Думай о молоке и меде. Думай о медузе.
– Тише, – прошипела она уголком сложенного в улыбку рта – в улыбку, самую грандиозную из всех, какие до сей поры осмеливалась соорудить. Каждый мускул лица ее честно вершил свое дело. Не каждый, правда, знал, в каком направлении надлежит растянуться, но общий энтузиазм их производил внушительное впечатление. Казалось, все предыдущие искажения Ирминых черт были лишь репетициями. Близился некто в белом.
Этот некто выступал неспешно, но с решимостью, какой он не знал последние сорок лет. Сидя в мирном ожидании на нижней ступеньке лестницы Прюнскваллоров, Кличбор повторял про себя выводы, к которым пришел прежде, и губы его медленно двигались в такт мыслям.
Он порешил, рассудком, что Ирма Прюнскваллор, задержанная в развитии невозможностью дать выход своим женским инстинктам, сможет вкусить наслаждение, ведя жизнь, посвященную его удобствам. Что в последующие года не только он, но и она станет благословлять день, когда он, Кличбор, смог показать себя в достаточной мере мужчиной, проявил мудрость, коей хватило, чтобы вырвать ее, Ирму, из застойного существования и наставить на путь, приведший ее – через супружество – к душевному равновесию, знать которое дано только женам. Существовали сотни разумных причин, по которым ей следовало уцепиться за эту возможность, несмотря даже на его преклонные годы. Но много ли веса имели бы доводы разума для видной собою, гордой женщины, чувствительной, точно чистокровная кобыла, и разодетой по-царски, если б во всем этом не присутствовала любовь? И Кличбор вспомнил, как угнетала его час назад, при пересеченьи двора, эта мысль. Однако сейчас вовсе не справедливость его рассуждений вселяла дрожь в старые колени Кличбора, но нечто другое. Ибо весь его мудрый, практичный план вдруг предстал перед ним в ином свете. Ибо звезды вдруг просияли над всеми его представлениями и помыслами. Все, что было в них точного, стало теперь неуклюжим, непрочным, сквозистым, потому что он увидел ее. И этим вечером не просто сестра Доктора ожидала его, но дочь Евы, живое средоточие – космос, пульс великой абстракции – Женщины. Звалась ли она Ирмой? Она звалась Ирмой. Но что есть имя «Ирма», как не четыре нелепых буковки, расставленных в определенном порядке? К дьяволу символы, безмолвно вскричал Кличбор. Клянусь Богом, она здесь и бесподобна с головы до пят!
Правда, видел он ее только издали и не исключено, что именно расстояние ссужало Ирме долю своего волшебства. Что говорить, зрение его утратило прежнюю остроту, да и то обстоятельство, что уже многие годы он, сколько помнится, не видал ни единой женщины, тоже играло на руку Ирме.
И все-таки, общее впечатление от нее Кличбор, вглядываясь в узкую расщелину света между Вростом и Пикзлаком, получил. Подтянутая, точно солдат, и при этом – какая царственная! Да! Вот качество, которым он желал бы обладать в этот вечер. Царственность. Он мог представить Ирму, сидящей близ него с прямой спиной, губы ее – по причине благородного воспитания – чуть-чуть подергиваются, белоснежные руки штопают его носки, а он, между тем, размышляет о том о сем, время от времени обращая к ней взгляд, чтобы убедиться – все так, она действительно рядом, его жена, его жена, восседающая на шоколадного цвета кушетке.
Тут он вдруг обнаружил, что остался один. Широченное рыло таращилось на него из дверей.
– Имя? – хрипло прошептало оно, почти уже потерявшее голос.
– Я Школоначальник, идиот! – рявкнул Кличбор. Не в том он пребывал настроении, чтобы возиться с болванами. Что-то бурлило в его крови. Любовь это или нет, он скоро узнает. Его снедало нетерпение – время для приятной беседы с этим мужланом было самое неподходящее.
Широкорылый, обнаружив, что Кличбор – последний, кого ему предстоит объявить, набрал воздуху в грудь и, стараясь пригасить досаду (он уже на целый час опаздывал на свидание с женой кузнеца), собрал все силы, какие сохранились еще в его глотке, и взревел – однако голос его сорвался, и один лишь Кличбор смог расслышать канавное бульканье, заменившее собою «лоначальник».
Но что-то приятное, даже внушительное присутствовало в получившемся усечении. Да, в этом первом простом слоге чуялось нечто не вполне официальное, и однако ж, полное силы и остроты.
– Шко!..
Краткий удар односложного молота прокатился по зале, как вызов.
Барабанной палочкой грянул он в уши Ирмы, и у Кличбора, который, вступая в залу, пристально вглядывался вдаль, создалось впечатление, что верхняя половина тела хозяйки салона несколько отдернулась назад; после чего она, хозяйка, тряхнув головой, вновь обратилась в неподвижное изваяние.
Зрелище это заставило скакнуть его сердце, и без того уж бившееся буйно. Внимание Ирмы приковано к нему. В этом сомневаться не приходится. И не только Ирмы – внимание всех. Он сознавал, что в зале наступила мертвая тишина. При всей мягкости ковра, слышно было, как ступни Кличбора шаг за шагом попирают серо-зеленый ворс.
Продвигаясь с экстравагантной торжественностью, которую так любили передразнивать сорванцы Горменгаста, он оглядел своих подчиненных. Вот они, стоят по трое в ряд, тесная винно-красная фаланга, совсем заслонившая столы с закусками. Да, он мог видеть Перч-Призма с его задранными бровями и Опуса Трематода с лошадиной челюстью, полуоткрытой в ухмылке настолько бессмысленной, что на миг Кличбору стало трудно сохранять самообладание, необходимое для продвижения к его непосредственной цели. Так им не терпится увидеть, как он станет бегать от «хищнически настроенной» Ирмы Прюнскваллор, не правда ли? Так они ожидают, что он удерет от нее сразу после формального представления, да? Так они, псы беспородные, предвкушают вечер игры в прятки между хозяйкой салона и их Школоначальником! Что ж, он им, собакам, покажет, во славу воинственных небес! Он им покажет. И, во имя божественных сил, он их к тому же и удивит!
Кличбор уже прошел почти половину ковра, уже вступил на легко различаемый торный путь – туда, где ворс, притоптанный сотней ног, отливал зеленью сильнее, чем в прочих местах.
Щурившая слабые глаза Ирма с трудом различала его. Но он близился, размытые очертания по-лебединому белой мантии и контуры львиной главы обретали отчетливость, и Ирма уже любовалась его величавостью. Она познакомилась нынче с таким множеством мужчин, бывших мужчинами только наполовину, что устала – не от числа их, но от ожидания того, перед кем могла бы возблагоговеть. Среди них были бойкие и вялые, умницы и болваны – все, полагала она, мужчины, – но хоть она мысленно и пометила нескольких, как заслуживающих дальнейшего изучения, ее все же томило грустное разочарование. Во всех присутствовало этакое неприятное холостячество, своего рода безжизненная самодостаточность, качество ужасное в мужчине, каковой – о чем ведомо всякой женщине – остается просто-напросто лоскутом, покамест обаятельная представительница рода человеческого не приторочит его к единому целому.
А тут перед ней объявился некто совсем иной. Старый, это верно, но и благородный. Она пожевала ртом. К этому времени рот набрался немалого опыта и улыбка, которую Ирма изготовила для Кличбора, в весьма значительной степени отражала то, для чего предназначалась. Прежде всего, она была обворожительной – немыслимо обворожительной. Для хорошенького личика быть обворожительным и даже очень – дело обычное, но и его обворожительность предстала бы холодноватой, а то и противоположной себе самой в сравнении с тем, во что удалось сложить свои черты Ирме. Ее улыбка поражала, как поражает всякий размещенный на переднем плане картины символ, неизвестно зачем вытащенный из несообразного с ним заднего плана. Слабые, рыскающие глаза Ирмы, шпиц ее носа, длинное, напудренное лицо – они и были несообразным фоном, на котором улыбка являла свою артистичность. Миг-другой Ирма поиграла с ней, как удильщик играет с рыбкой, а затем улыбка застыла, точно отлитая из бетона.
Тело ее мгновенно закоснело в позе и статуарной, и змеевидной – увеличенная грелкой грудь замерла в воздухе, так далеко сдвинувшись влево, что казалось, будто ей не на чем держаться. Белоснежные руки прижались к горлу, на котором искрились драгоценные камни.
Кличбору оставалось пройти несколько шагов. «Это, – сказал он себе, глубоко вздохнув, – одно из тех мгновений в жизни мужчины, в которые испытывается его отвага».
Каждое его движение лепило лежащие впереди годы. Подчиненные пожимали ей руку, как будто женщина есть лишь еще одна разновидность человека. Глупцы! Потомство Евы укрыто в этом лучезарном создании. Колыбельные полумиллиона лет волнуются в ее горле. Неужели эти люди не способны внять чуду, почувствовать благоговение и гордость? Он, старик (не такой уж, впрочем, и непривлекательный), наставит этих псов на путь истинный – и вот она перед ним, и умопомрачительный женственный букет апельсиновых духов ее плывет над его головой. Кличбор вдохнул это благоухание. Кличбор задрожал, а затем львиным движением сметя с глаз достопочтенную гриву волос и приподняв плечи, взял ладони Ирмы в свои, склонился над их млечной вялостью и запечатлел на их влаге первые два за пятьдесят с хвостиком лет поцелуя.
Сказать, что замороженная тишина ужалась до еще более плотного ледяного шара, значило бы принизить необычайную напряженность этой минуты, укутать ее в слова. Сам воздух стал ощутимым физически. И так же, как при виде шедевра сжимается язвительное горло и слова обращаются в бремя, – так же, когда совершается некое сверхъестественное диво и шедевр создается обычным человеческим жестом, пересыхает источник людских желаний и останавливается сердце действия.
Таким было то мгновение. Ирма, сталагмит багрового камня, сознавала, при всем буйстве в ее венах, что страница перевернута. Глава сороковая? О нет! Первая, ибо до этой главы она не жила, а если и жила, то лишь в бездейственном предисловии.
Сколь долго оставались они такими? Сколь много раз обернулась земля вокруг солнца? Сколь много раз гигантские голубые киты северных вод выбросили в небо фонтаны свои? Сколько тростниковых козлов погибло в когтях сколь многих леопардов, пока оставался недвижным этот грандиозный в единстве своем двухфигурный монумент? Бессмысленный вопрос. Мировые часы встали – или должны были встать.
Но наконец арктическая неподвижность нарушилась. У стола с закусками пронзительно взвизгнул один из Профессоров – от смеха или от нервов, установить так потом и не удалось.
Доктор, подняв брови, посверкивая зубами, оглядел винно-красные мантии. Несколько капель пота висело на его лбу. Ему пришлось пройти через многое.
Ирма и резкого крика осознанно не услышала, и что ее вывело из оцепенения не поняла, но обнаружила лишь, что грациозно склоняет голову над белыми локонами уважительной макушки Школоначальника.
Это было оно. Что-то в ней буйно хохотало, звякало, как коровьи колокольца.
Жаль, что Школоначальник не смог, когда она склонилась над ним, увидеть всю ее грациозность, но тут уж ничего не поделаешь – не все сразу – хотя постойте-ка – что это?
О, сладчайшая из удач! И ее досадливый трепет! Что сделал он, огромный, нежный, царственный, блестящий лев? Еще прижимая губы к пальцам Ирмы, он поднял свои глаза к ее глазам. Он словно проник в самые потаенные ее мысли.
Она опустила веки и увидела, что каменно-неподвижные глаза Кличбора смотрят в ее глаза. Взгляд их, устремленный вверх сквозь белую чащу бровей, казался взглядом из клетки.
Она сознавала, что миг этот грандиозен – грандиозен своими последствиями – грядущим, – но сознавала также, что, будучи женщиной, должна, наконец, отнять у Кличбора руку. Однако, едва лишь первый намек на движение прокрался в ее ослабевшие пальцы, как Кличбор поднял львиную голову, снял крупные ладони свои с ее ладоней… и тут у Ирмы поползла грудь. Время отыскало слабину в сложном сооружении из шнурков, тесемок и безопасных булавок.
Впрочем, Ирма, у которой от волнения звенело в ушах, пребывала в расположении духа и тела, до того уж возвышенном, что не могла до него, так сказать, дотянуться, отчего мозг ее сам собою заблаговременно спланировал все, что ей следует сделать и сказать как в случае крайнем, так и в любом другом. И это мгновение было из тех, когда клетки мозга сомкнутым строем устремились Ирме на помощь.
Грудь сползала. Ирма прижала ладони к горлу, локтями удерживая грелку на месте, и чувствуя, что все взгляды наставлены на нее, мерным шагом направилась к дверям в дальнем конце салона. Она даже не взглянула на брата, но с надменной уверенностью двинулась к выходу, и сборчатый хвост ее вечернего платья поволокся за нею.
Остывшая грелка холодила ей грудь. Однако Ирма упивалась этим безжалостным холодом. Какое ей дело до таких мелочей? Нечто куда более значительное влекло ее в своем потоке.
Стрела ударила в цель. Ирма стала нагой. Счастливой. Если б стрела любви не была стрелой фигуральной, Ирма подняла бы ее повыше, всем на обозрение. Она показывала это каждым своим движением, вулканическим румянцем, обратившим ее мраморное чело в нечто такое, что можно сыскать лишь среди кроваво-красных руин какой-нибудь далекой цивилизации.
Даже цвет драгоценных камней ее изменился. Румянец рдел сквозь них.
Но выражение Ирминого лица к румянцу никакого отношения не имело. Оно оставалось странно отчетливым, ясным и потому простым.
Нужда в словах отсутствовала. Само лицо ее говорило: «Я в его власти, он пробудил меня; я, всего только женщина, вдруг обрела духовную жизнь. Чего бы ни сулило мне будущее, не я заставлю любовь голодать. Я знаю не только то, что сейчас творится История, я знаю – даже в этот верховный миг, – в чем состоит мой долг, и потому покидаю залу, чтобы привести себя в должный вид: успокоиться и вернуться в салон женщиной, которой Школоначальник сможет восторгаться, – не дрожащей, пораженной любовью дамочкой, но дамой во всей высокой чувственности ее пола, дамой, владеющей собой и прекрасной!»
Едва достигнув дверей, Ирма, одетая в шелк девственница, взлетела по лестнице вверх, в свою комнату. Захлопнув дверь, она выпустила на волю первобытные джунгли, бушевавшие в ее венах, и завопила, как ара, и, подлетев скачками к постели, споткнулась о маленькую расшитую скамеечку для ног, и рухнула, раскинув руки, на ковер.
Какое это имело значение? Какое значение имело все нелепое и стыдное, если он ничего этого не видит?
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
Случаются минуты, когда чувства настолько требовательны, а разум выполняет рациональную работу свою до того уж спустя рукава, что невозможно сказать, где обрывается реальность и приступает к работе фантазия.
У себя в комнате Ирма могла представить себе Кличбора так, точно он находился рядом, но могла также и видеть сквозь него, отчего тело Кличбора украшалось рисунком обоев за ним. Огромное полчище Профессоров виделось ей, тысячное, и каждый был со шляпную булавку. Профессора стояли на ее постели многолюдным, важным собранием, и все как один кланялись ей; впрочем, видела Ирма и то, что пора ей сменить наволочку. Она уставила в окно широко раскрытые, ни на что не направленные глаза. Дымка лунного света лежала на верхних листьях ильма, и ильм, опять-таки, обратился в господина Кличбора с его изысканной, пышной гривой. Она увидела, как некто – несомненная фикция – соскользнул через стену в ее сад с гротами и подбежал, словно тень, к окну аптеки. В самой глуби сознания Ирмы что-то сказало ей: «Ты уже видела это движение прежде; крадущееся, быстрое движение», – но в оцепенении своем она не располагала средствами, позволявшими определить, что есть действительность, а что вымысел.
И потому, когда этот некто крался под ее окном по саду, Ирме и в голову не пришло, что он реален, что это живое существо, и уж менее того, что это – Стирпайк. Молодому человеку, взломавшему окно комнаты, лежавшей под той, в которой стояла облитая лунным сиянием Ирма, не много потребовалось времени, чтобы, запалив свечу, найти нужный ему яд. Маленькое пламя колебалось, и бутылочки на переполненных полках вспыхивали синевой, багрецом, смертоносной зеленью. Спустя несколько секунд он уже перелил немного медлительной влаги в принесенную им с собою склянку и вернул бутылочку Доктора на полку. Миг – и запечатав пробкой сосуд, Стирпайк уже проделал половину пути от окна к стене.
Над стенами сада сияли в скорбном свете луны вершинные массивы замка Горменгаст. На долю секунды замерев после прыжка с подоконника на землю, Стирпайк содрогнулся. Ночь стояла теплая, и содрогаться ему было не от чего, кроме разве укола радости, темной радости, что сотрясает тело человека, когда он один, под луной, спешит, с голодом в сердце и льдом в голове, по тайному делу.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Возвращаясь к гостям, Ирма, прежде чем открыть двери салона, из которого несся громкий и слитный гомон, приостановилась. Подобного шума она никогда прежде не слышала: в нем, в этом звуке заигравшихся голосов было столько счастья, столько многоголосья, столько безудержности. Конечно, и ей случалось, при всей скудости опыта ее, слышать на разного рода сборищах игру множества голосов. Но услышанное ею теперь было не игрой голосов, но разыгравшимися голосами – звук для ее ушей новый, необычный, схожий, в некотором отношении, со зрелищем разыгравшихся теней (в противоположность игре теней). Ирме случалось – очень редко – получать удовольствие от игры братнина ума, но сейчас в салоне совершалось нечто совсем иное, и из нескольких замечаний, которые ей удалось расслышать через дверные филенки, с очевидностью следовало, что там совершается не словесная игра, а игра мысли, хоть и словесная шла тоже, поскольку получившие вольную языки, эти прогульщики разума, мололи кто во что горазд.
Подобрав кольцами длинный подол, она присела – на мгновенье, – и глазом приникла к замочной скважине, но разглядела лишь дымную полночь мантий.
Что тут произошло, гадала Ирма, пока она была наверху? Когда она, подобно королеве, удалялась в недвижной тиши, залу пронизывал трепет, порожденный одной лишь ее особой; безмолвие, лестное и многозначительное, служило ей оправой, как огромное небо служит оправой белому лету чайки. Теперь же тугая барабанная кожа возникшей в тот миг атмосферы лопнула, и каждый из возликовавших по этому случаю Профессоров воздвигал в себе романтический образ того, кем он себя любовно воображал. Ибо давно миновавшие триумфы Профессоров, кои, по правде сказать, и происходили-то лишь в уповающих их умах, вспоминались ныне как подлинные, столь же живые, как сама истина, – если не живее. Поддельные воспоминания потоками изливались из них. Дни их блеска, когда сверкали их копья, когда они с быстротою мысли взлетали в золотые седла и скакали в белесых лучах рассвета; когда они бегали, как олени, плавали, как рыбы, и хохотали, подобно громам, – дни эти пробудили связанных по рукам и ногам бурлаков. О Боже, юные дни, дерзкие дни, дни мощи и бесшабашные вечера, темнота вокруг, друзья-соучастники, покрывающие их пламенные безрассудства.
То, что лишь немногие из Профессоров вообще когда-либо пробовали на вкус пьянящий мед юности, ни в коей мере не размывало контуров живописуемых каждым автопортретов. И все случилось так быстро – воскрешение, возвращение в прошлое. Словно ударил некий колокол, горний колокол, на который они отозвались всем своим существом. Столь долгое уже время проходили они вечерами путь в ненавистный, затхлый, душный двор, что целый вечер в совершенно иной обстановке воспринимался ими как восход солнца. Правда, из женщин тут имелась всего только Ирма, но она была символом всей женственности, она была Евой, Медузой, ужасной и бесподобной; она была уродиной и лилией прерий; чуждым существом из другого мира – существом, именуемым женщиной.
Едва она вышла из залы, на Профессоров накатили тысячи воображаемых воспоминаний о женщинах, которых ученые мужи и знать-то никогда не знали. Языки Профессоров разболтались, руки и ноги тоже, и Доктор понял, что править вечером ему не суждено. Ибо возгорелось пламя и выжгло Профессорскую апатию, и все они разом вернулись во времена, когда были блестящи, всеведущи, потрясающи и ослепительно привлекательны – как сам Дьявол.
Подложные, лестные воспоминания возгорелись в разуме каждого, и Профессора не чуяли под собою ног, и вздергивали повыше распаленные, безобразные лица, и скалили зубы; беззубые же ухмылялись загадочно, и рты их мотались по лицам подобиями гамаков.
Повернув дверную ручку и глубоко вздохнув, что едва не погубило ее бюст, Ирма распрямилась и с мгновение простояла – неподвижная, но трепещущая. Она приотворила дверь, и разгульный гомон голосов удвоился в силе; Ирма подняла бровь. Почему, гадала она, столь мощный разлив счастья совпал с ее отсутствием? Походило едва ли не на то, что о ней забыли, а то и хуже, – что ее уходу обрадовались.
Растворив дверь пошире, Ирма выглянула из-за нее; при этом напудренное лицо ее создало, о чем она не догадывалась, столь выразительный образ чего-то решительно чуждого, что некий Профессор, имевший несчастье глядеть в сторону двери, уронил на пол тарелку с закусками и отвесил, чуть даже не с лязгом, нижнюю челюсть.
– О нет, нет! – прошептал он, и все краски отхлынули от лица его. – Не сейчас, о страшная Смерть, не сейчас… я еще не готов… я…
– К чему не готов, рыбонька моя? – поинтересовался кто-то рядом с ним. – Чертовски вкусны эти павлиньи сердца. Немного перчику, пожалуйста!
Ирма вошла. Человек с отвисшей челюстью трудно сглотнул, лицо его залила болезненная зелень. Непонятно, каким чудом, но смерти он избежал.
При первых же нескольких шагах по зале страх Ирмы, что недолгое отсутствие подорвало благодетельную ее власть, развеялся: десятка два Профессоров, умолкнув, сорвали с голов ученые шапочки и прижали их к сердцу.
Слегка раскачиваясь, она приближалась к центру залы и, в свой черед, с величавым, ледяным благородством отвешивала направо-налево поклоны, и в украшенных фестонами завесах Профессорских джунглей перед нею с каждым шагом раскрывались мглистые проходы.
Подобно кораблю, еще не решившему, в какой порт ему плыть, Ирма уклонялась то к востоку, то к западу, и на всем пути ее воцарялось молчание более чем лестное. Однако за спиною Ирмы проходы смыкались, разговоры же с воодушевлением возобновлялись.
И тут совсем внезапно не более, чем в дюжине футов от нее, показался Кличбор. Он стоял в профиль – и в какой профиль!
– Величественный, – в волнении прошипела она. – Да, это оно и есть – величие. – Тогда-то, при третьем ее порывистом шаге к Школоначальнику, случилось нечто не просто неподобающее, но душераздирающее в своей простоте: хриплый крик, покрывший общую какофонию, замкнул все уста и заставил Ирму застыть на месте.
Не тот это был крик, какой ожидаешь услышать на приеме. Страсть звучала в нем – и неотступная мольба. Самые тональность и тембр его были пощечиной пристойности, мгновенным попранием всех неписаных законов поведения в обществе, сложившихся в ходе – прелестный итог – многих столетий.
Каждая голова поворотилась в направлении крика, и тут обнаружилось, что в зале происходит некоторое движение: кто-то, отделясь от группы Профессоров, похоже, пробивался к закоченевшей хозяйке. Лицо этого человека было до того багрово, а жесты настолько судорожны, что так вот сразу признать в нем профессора Вроста было совсем нелегко.
Завидев Ирму, он бросил своих собеседников, Пикзлака и Шплинта, а разглядев хозяйку салона получше, воспламенился чувством, слишком во всех отношениях бурным, слишком фундаментальным и электризующим для малого тела его и столь же малых мозгов. Удар в миллион вольт пробил бедолагу – в миллион вольт неистовой безудержной страсти.
Он не видел женщины тридцать семь лет. Он пожирал Ирму глазами, как измученный жаждой номад пожирает глазами колодезь в зеленом оазисе. Неспособный припомнить ни единого женского лица, он принял странноватые пропорции Ирмы и весь склад ее черт за образец женственности. И поскольку огромность волнения помутила рассудок бедняги, он совершил непростительное преступление. Он обнаружил чувства свои на людях. Утратил власть над собой. Кровь ударила ему в голову, он хрипло заорал и, мало что соображая, натыкаясь на коллег и отпихивая их локтями, понесся вперед, пал пред своей госпожой на колени, и наконец, как бы в ступоре, повалился ничком, раскинув, наподобие морской звезды, все четыре конечности.
Температура в комнате упала до нуля, а после, столь же внезапно, выросла до экваториального, жгучего жара. Прошли пять долгих секунд. При такой температуре никто бы не удивился, обнаружив, что с потолка свисает питон, как не удивился бы, – когда на исходе третьей секунды вновь вернулось ледяное заклятие, – увидев, что ковер побелел от арктических лис.
Неужто не сыщется никого, кто разбил бы стекло – колоссальный прозрачный лист, из угла в угол разгородивший залу?
Но вот послышались шаги – шаги, на четыре фута приблизившие к Ирме долговязое тело Кличбора. Новый шаг ополовинил разделявшее их расстояние – и вдруг, как-то сразу, Кличбор навис над нею, глядя сверху вниз в ее молящие очи. Ему словно вспрыснули в жилы львиную кровь. Сила вливалась в него, как из сифона.
– Драгоценнейшая госпожа моя, – промолвил он, – не страшитесь, прошу вас. То, что один из моих подчиненных посмел разлечься у ног ваших, – это позор, госпожа, да, позор, но при том! – не символ ли это того, что чувствуем все мы? Позор состоит в слабости его, госпожа, но не в страстности. Кое-кто, мадам, пожалуй, вымарал бы его имя из всех официальных реестров – но нет. Но нет. Ибо он – человек, обладающий душевным жаром, госпожа, жаром прежде всего! Черт подери, – Кличбор решил прибегнуть к просторечию, – в его случае жар этот породил нечто безвкусное, а потому, дорогая наша хозяйка, позвольте мне, как Школоначальнику, удалить его отсюда. И все-таки, простите его, молю вас, ибо он оказался способен с первого взгляда распознать возвышенные достоинства ваши, и единственное прегрешение его в том, что озарение это обрушилось на него слишком внезапно, и он не смог удержать свою страсть в оковах.
Каким основательным, звучным органом наделен человек, подумал Кличбор, притворясь на миг, что слышит не свой собственный голос – присутствовала в его натуре некая скромность, время от времени прорывавшаяся наружу.
Но подобного рода мысли тут же и отлетали. Сейчас в нем главенствовало сознание, что он снова стоит в нескольких дюймах от женщины, которой намерен добиваться со всем коварством старости, со всей необузданностью вновь обретенной молодости, заставляющей человека влезать на церковные шпили, перепрыгивать реки – в общем, играть на публику.
«Господом клянусь! – безгласно воскликнул он, обращаясь к себе, впрочем в мозгу его восклицание это прозвучало громово, – Господом-богом клянусь, если я не покажу им, как это делается! Две руки, две ноги, два глаза, один рот, уши, туловище и ягодицы, живот и костяк, легкие, требуха и хребет, ступни и ладони, мозги, глаза и тестикулы. Все вы есть у меня – так помогите же мне ради правого дела!»
Глаза его оставались закрытыми, но теперь он поднял тяжелые веки и сквозь белесые ресницы свои увидел в глазах хозяйки пылких и влажных суккубов любви, грозивших подрыть ее мраморный храм и обрушить.
Кличбор огляделся. Штат его, коего тактичность граничила с бесцеремонностью, разбился на погруженные в беседу группки, – вот как те господа на сцене театра, что, в стараниях выглядеть поестественнее, но ничего не имея сказать, с поддельной томностью либо живостью повторяют: «Один… два… три… четыре», – и опять сначала. Впрочем, Профессора лепетали свои благоглупости, слишком уж подчеркивая неотрепетированность оных. Мантиеносцы же, столпившиеся в дальнем углу залы, начинали уже выказывать нетерпение.
– Говорить, что ли, больше не о чем, как об этой восковой жирафе, чтоб меня бог ломтями нарезал! – пробормотал сквозь зубы Мулжар.
– Станет он связываться с этакой грудой неблагого мяса, – откликнулся Перч-Призм. – Мне стыдно за вас!
– Нет, в самом деле, ага! что я им, бурак? Как будто не видывал я лучших дней и занятий, ага, да отпустят мне Небеса все грехи, – я разве бурак? – так восклицал развеселый Цветрез, и по тону его чувствовалось, что он задет за живое.
– Как говорит Теоретикус в своей диатрибе, направленной против использования низкого просторечия, – пролепетал Фланнелькот, давно ожидавший мгновения, когда у него, по счастливому совпадению, и храбрости достанет сказать что-нибудь, и что сказать найдется.
– И что же он говорит, ваш старый прохиндей? – осведомился Опус Трематод.
Кроме него, однако, интереса никто не выказал, и Фланнелькот понял, что возможность упущена: сразу несколько голосов перебили его, не дав завершить пугливое замечание.
– А что, Шко так на нее и пялится? и дайте мне кто-нибудь вина, во имя праха, из которого нас слепили, – жажда такая, точно я с утра среди кактусов околачивался, – сказал Перч-Призм, задравший плоский свой нос в потолок. – Не будь я так хорошо воспитан, я бы обернулся и сам посмотрел.
– И не дернулись ведь ни разу, – сообщил Цветрез. – Статуи, ага! Жуть какая!
– Некогда, – встрял скорбный голос Фланнелькота, – я пристрастился ловить бабочек. Давно это было, в земле ласточек, полной русел иссохших рек. И вот, одним мглистым днем…
– В другой раз, Фланнелькот, – сказал Цветрез. – Идите сядьте.
Фланнелькот, опечалясь, побрел прочь от коллег – искать себе стул.
Кличбор же тем временем смаковал редкостный аперитив любви, вечный язык взглядов.
Собравшись с мыслями и приняв выражение человека, всегда остающегося хозяином положения, он перебросил подол мантии, как если бы та была тогой, через плечо, и отступил на шаг, озирая распростершегося у их ног человека.
Однако, отступая, он чуть не отдавил ногу доктору Прюнскваллору – и отдавил бы, если б тому не хватило проворства отпрыгнуть в сторону.
Доктор на несколько минут выходил из залы и ему только теперь сообщили о том, что на полу ее лежит неподвижное тело. Когда Кличбор отшагнул назад, Доктор как раз собирался приступить к осмотру страдальца, а теперь возникла новая помеха – Кличбор заговорил.
– Драгоценнейшая моя госпожа, – произнес львиноголовый старик, начавший уже повторяться, – жар это все. Хотя нет… не все… но многое. То, что один из моих подчиненных, или лучше сказать коллег, да, причинил вам неудобства, навсегда останется для меня огнем, пожирающим уголь. А почему? А потому, драгоценнейшая госпожа, что это я обязан был подготовить его, вышколить по части достойных манер или, еще того лучше, черт бы меня побрал, оставить его дома. Вот этим я сейчас и должен заняться – распорядиться, чтобы его убрали прочь. – И Кличбор возвысил голос: – Господа, – воскликнул он, – буду рад, если двое из вас унесут отсюда коллегу вашего и доставят его домой. Возможно, Профессора… Фланнелькот…
– О нет! нет! Я против!
То было восклицание Ирмы. Выступив вперед, она поднесла ладони к длинному своему подбородку и переплела на нем пальцы.
– Господин Школоначальник, – прошептала она, – я выслушала то, что вы сочли необходимым сказать. Это было великолепно. Я говорю, великолепно. Когда вы говорили о «жаре», я все поняла. Я, простая женщина, я говорю, простая женщина!
Она огляделась вокруг – помраченно, нервически, как бы поняв, что зашла чересчур далеко.
– Но когда я услышала, господин Школоначальник, что вы, вопреки своим убеждениям, решили убрать отсюда этого господина, – Ирма опустила глаза на тело у ее ног, – я поняла, что мой долг, долг хозяйки, попросить вас, моего гостя, обдумать все еще раз. Я не хочу, сударь, чтобы кто-нибудь говорил потом, будто один из ваших подчиненных покрыл мой салон позором, что его пришлось выволакивать отсюда. Пусть его усадят в кресло в каком-нибудь углу потемнее. Пусть ему дадут вина и пирогов, всего, что он захочет, а когда он вполне оправится, пусть присоединится к своим друзьям. Он оказал мне честь, я говорю, он оказал мне честь… – Тут Ирма, наконец, заметила брата. Миг – и она оказалась с ним рядом. – О Альфред, ведь я права, верно? Жар это все, разве не так?
Прюнскваллор вгляделся в подергивающееся лицо сестры. Обнаженная тревога читалась на нем и обнаженное волнение, делавшее выражение его нежным почти до невероятия: первая заря любви заливала лицо сестры ясным светом. Дай Бог, чтобы любви неложной, подумал Прюнскваллор. Иначе она погибнет. На миг мысль о том, насколько проще была бы жизнь без нее, мелькнула в его голове, но Доктор отогнал эту скверную фантазию и, привстав на цыпочки, с такой силой сцепил за спиною ладони, что узкая, белейшая грудь его выпятилась, точно у голубя.
– Все или не все, дорогая моя сестра, он, тем не менее, есть такая вещь, которую удобно и приятно иметь под рукой – хотя, заметь, жар может сопровождаться изрядной духотой, клянусь всем, что оксидируется, еще как может, но, Ирма, сладкая моя, предоставим оный самому себе, ибо меня, как врача, гложет мысль, что нам самое время что-то сделать с воином, павшим у твоих ног; мы обязаны о нем позаботиться, не так ли? обязаны позаботиться, а, господин Кличбор? Во имя всего, что свято для людей моей причудливой профессии, обязаны…
– Только он не должен покинуть залу, Альфред, не должен покинуть залу. Он наш гость, Альфред, помни об этом.
Кличбор не дал Доктору ответить.
– Вы повергли меня во прах, госпожа, – сказал он совсем просто и склонил львиную голову.
– А вы, – прошептала Ирма, и густой румянец покрыл ее шею, – меня возвысили.
– Нет, сударыня… о нет! – пролепетал Кличбор. – Вы чрезмерно добры! – И, насмелясь, сделал решающий шаг: – Кто может питать надежду возвысить сердце, сударыня, уже танцующее средь млечного пути?
– Почему млечного? – спросила Ирма – не оттого, что ей хотелось снизить уровень разговора, но из привычки задавать прямые вопросы. Сколь бы ни поглощали ее тайны куда более важные, мозг Ирмы, стоявший, так сказать, особняком от дел, коими занималась душа, совершал, наподобие комара, собственные небольшие полеты – задавал пустые вопросы, разыгрывал глупые шутки – лишь для того, чтобы, когда его одернут, возвратиться на место и подчиниться на время голосу глубинной ее сути.
К счастью, Кличбору отвечать на этот вопрос не пришлось, поскольку Доктор поманил рукой двух господ в мантиях, и те подняли распростертого просителя с ковра и отнесли, точно деревянное изваяние, в освещенный свечами угол, где его поджидало уютное кресло с пышными зелеными подушками.
– Будьте так добры, господа, усадите больного в кресло, а я его осмотрю.
Мантиеносцы опустили негнущееся тело. Оно лежало – плоско, как доска, – всего только и опираясь, что головою о спинку кресла и каблуками о пол. Между этими оконечностями подсунули толстые зеленые подушки, чтобы они, как бы подпирая доску, приняли на себя вес маленького человечка; впрочем, никакого веса подушкам принять на себя не пришлось, так что пышности своей они не утратили.
Было во всем этом нечто страшненькое, и это нечто нимало не умерялось сияющей улыбкой, застывшей на лице пациента.
Роскошным движением Доктор сорвал с себя бархатный сюртук и отбросил его, как бы не имея в нем более надобности.
Затем он начал, точно фокусник, закатывать шелковые рукава.
Ирма с Кличбором застыли прямо за ним, вплотную. К этому времени кладези такта, из которых черпали профессора, почти обмелели, и вся орава стояла, наблюдая, в полном молчании.
Доктор отлично это сознавал, но проявлял свое знание, не говоря уж об удовольствии, вызываемом тем, что за ним наблюдают, разве что легким подрагиваньем.
Происшедшее изменило характер приема. Стихийная веселость и ощущение полной свободы получили едва ли не смертельный удар. На некоторое время – хоть кое-какие шутки еще звучали, а бокалы и наполнялись, и опустошались, – в зале воцарилось уныние, так что и шутки отпускались, и вино глоталось совершенно машинально.
Однако теперь, когда первая краска стыда сошла с Профессорских щек; теперь, когда смущение стало лишь головным, когда у них нашлось занятие (ибо невозможно было устоять перед зрелищем, которое являл собой Прюнскваллор – стройный, в шелковой рубашке с закатанными рукавами, тонкий, как аист, с розовой, как у девушки, кожей, в очках, мерцавших пламенем свечей), – теперь, когда у них появилось все это, душевное равновесие стало возвращаться к Профессорам, а с ним и надежда – надежда, что вечер не погублен безвозвратно, что он еще держит для них в запасе – раз Доктор занялся их парализованным, по всяческой видимости, коллегой, – хоть капельку столь редкого в их жизни безрассудства, от которого у Профессоров уже чесались языки: ибо впервые за двадцать лет, повторяли они себе, им выпал случай нарушить бесконечный ритм Горменгаста, ритм, который, что ни вечер, направлял стопы их на запад – на запад, в их двор.
Они стояли в совершенном молчании, следя за каждым движением Доктора.
Прюнскваллор заговорил. Разговаривал он, казалось, с собой, хоть голос его, слышный и тем из людей в мантиях, что стояли в самых задних рядах, был определенно несколько громче, чем можно было бы счесть необходимым. Он шагнул вперед, одновременно подняв руки вровень с плечами и с быстротой профессионального пианиста поиграв в воздухе пальцами – вверх-вниз.
Затем соединил ладони и принялся поперечно потирать одной о другую. Глаза его были закрыты.
– Встречается реже, чем болезнь Благгса, – задумчиво говорил он, – или спиральный позвоночник! Тут сомневаться не приходится… клянусь всяческой конвульсивностью… решительно не приходится. Известен один случай, совершенно очаровательный – где же это было-то и когда?., весьма схожий – человек, ежели я правильно помню, увидел призрака… да, да… и потрясение едва его не прикончило… – Ирма переступила с ноги на ногу. – Да, потрясение, вот ключевое слово, – продолжал, так и не открывая глаз, легонько покачивавшийся на каблуках Доктор, – а на потрясение следует отвечать потрясением. Да, но как и где… как и где… Минутку… минутку…
Ирма не могла больше ждать.
– Альфред, – вскрикнула она, – сделай же что-нибудь! Сделай что-нибудь!
Доктор, похоже, ее не расслышал – так глубоко ушел он в себя.
– Ну-с, можно, конечно, если удастся установить природу потрясения, его масштаб, воспринявшую его область мозга, характер его омерзительности…
– Омерзительности? – снова послышался голос Ирмы. – Омерзительности! Как ты смеешь, Альфред! Ты же знаешь, что это я вскружила ему голову, бедняжке, из-за меня он упал и ударился лбом, из-за меня он такой окоченелый и страшный.
– Ага! – вскричал Доктор. Совершенно ясно было, что он не услышал ни слова сказанного сестрой. – Ага! – Если прежде он выглядел энергичным и живым, то теперь эти качества утроились в нем. Каждый жест Доктора был быстр и текуч, как ртуть. Он приблизился к пациенту еще на один гарцующий шаг.
– Клянусь всем прагматическим, либо так, либо никак! – Ладонь его соскользнула в один из карманов жилета и вновь появилась на свет, сжимая серебряный молоточек. Воздев брови, Доктор несколько секунд покручивал его большим и указательным пальцами.
Между тем, Кличбора начинало томить нетерпение. Ситуация принимала странный оборот. Не в таких обстоятельствах надеялся он явиться пред Ирмой, не та здесь была атмосфера, в какой могла бы процвесть нежность. И главное – сам он перестал быть центром внимания. Ему не терпелось остаться с нею наедине. Самые эти слова «остаться с нею наедине» вгоняли Кличбора в краску. Волосы его засияли на побагровелом челе пущей, против обычного, белизной. Он взглянул на Ирму и сразу понял, что следует сделать. Яснее ясного, оставаться здесь ей неловко. Лежавший в кресле человек всякому показался бы зрелищем неприятным, а уж тем паче – женщине благородной, женщине с изысканным вкусом.
Кличбор встряхнул косматым великолепием гривы.
– Сударыня, – молвил он, – вам тут не место. – Кличбор выпрямился во весь рост, развернул плечи и уткнул длинный подбородок в шею. – Совершенно не место, – и со страхом сообразив вдруг, что Ирма может неверно истолковать его слова, счесть это замечание неуважением к ее приему, он, приопустив ресницы, метнул в нее взгляд. Но нет, она не нашла в его словах ничего неуместного. Напротив, в маленьких, близоруких глазках Ирмы засветилась благодарность; благодарность обозначилась в сверкающем уклоне груди, в нервно сжатых ладонях.
Она уже не слышала голоса брата. Не ощущала присутствия мужчин в мантиях. Нашелся все-таки участливый человек. Человек, сознающий, что она – женщина, что неприлично ей стоять со всеми остальными, как будто и разницы никакой нет между нею и гостями. И этим человеком, благородным, заботливым человеком оказался не кто иной, как Школоначальник – о, как прекрасно что в мире существует еще хоть один воспитанный человек: молодость покинула его, увы, но не романтичность.
– Господин Школоначальник, – произнесла она, поджав губы и подняв, с игривостью почти несосветимой, глаза к его грубо вылепленному лицу, – слово за вами. Мое же дело – внимать. Говорите. Я слушаю… я говорю, я слушаю.
Кличбор отвернулся. Широкая, слабая улыбка, что расползлась по лицу его, была не из тех, которую следовало показывать Ирме. Как-то раз, около года назад, он неожиданно увидел в зеркале свою улыбку (то была предшественница неуправляемой гримасы, в эту минуту лишившей лицо Кличбора поддельной величавости) и пришел в ужас. К чести его следует сказать, что он понял, насколько опасно делать подобное зрелище всеобщим достоянием – ибо Кличбор гордился, и не безосновательно, своими чертами. Вот он и отвернулся. Как мог он сдержаться и не дать своим чувствам хоть какого-то выхода? Ибо когда Ирма сказала «слово за вами», широкая, богатая панорама супружеской жизни внезапно явилась Кличбору, растянувшись, с бледно-золотистыми перспективами ее и мягкими лугами, чуть ли не до горизонта. Он увидел себя древним дубом, богом, широко раскинувшим ветви, а Ирму – молоденьким тополем, чьи листья в сердечном трепете мерцают в его тени. Он увидел себя гордым орлом, опускающимся в шелесте крыл на одинокий утес. И увидел Ирму, ожидающую его в гнезде: странно однако ж – она сидела там в ночной рубашке. И сразу за тем он увидел себя измученным зубной болью глубоким старцем, и в памяти его мелькнуло дряхлое лицо, отраженное тысячами бритвенных зеркал.
Кличбор раздавил этот непрошеный промельк пятою сиюминутного ощущения.
И повернулся к Ирме.
– Я предлагаю вам, дорогая госпожа, опереться на мою руку – какая она ни есть.
– Я просто с вами пройдусь, господин Школоначальник.
Ирма опустила коротковатые веки, но тут же стрельнула косвенным взглядом в господина Кличбора, который, изогнув приподнятую руку, не без изящества помедлил, прежде чем уронить ее с совершенно пьянительным чувством поражения.
– Черт возьми! – со страстью пробормотал он сам себе, – а я еще не настолько стар, чтобы не замечать подобные тонкости… Простите мне эту скоропалительность, дорогая госпожа, – сказал он, склоняя голову. – Но возможно… возможно, вы понимаете…
Ирма, сцепив на груди ладони, отворотилась от толпы Профессоров и, странно покачиваясь, повлеклась в пустую часть залы. Освещенный сотнями свечей ковер отчасти лишился былого блеска. Он был по-прежнему ярок, но уже не так тепл, поскольку в раскрытое окно вливались холодноватые лучи лунного света.
Кличбор поворотился, чтобы последовать за ней, но тут же и оглянулся. Уход их, похоже, ничьего внимания не привлек. Все взоры были прикованы к Доктору. На миг Кличбор огорчился тем, что не сможет остаться, ибо в воздухе явно витал запах драмы. Доктор, по всему судя, проводил всесторонний осмотр закоченелого тела, с которого снимали, одну за другой, одежки: дело отнюдь не легкое, поскольку сочленения страдальца никак не желали гнуться. Впрочем, у слуг Доктора, Моллоха и Холлста, имелись ножницы, кои они при необходимости использовали, следуя его указаниям, для дальнейшего разоблачения пациента.
Доктор по-прежнему держал в руке серебряный молоточек. Длинными музыкальными пальцами другой руки он пробегал, как по клавиатуре, по негнущемуся Профессору: брови возведены, голова склонена, точно у настройщика, набок.
Кличбор с первого взгляда понял, что, последовав за Ирмой, он, похоже, упустит кульминацию важной драмы, и все же, повернувшись на каблуках и снова увидев ее, понял, что ему предстоит сыграть в драме еще более важной.
Он шел по пятам за нею, прекрасная белая мантия, волнуясь, катила за ним, и на одиннадцатом шаге Кличбор вошел в орбиту Ирминых духов.
Не замедляя качкой поступи, она повернула к нему голову на белой лебяжьей шее. Вспыхнули изумрудные серьги. Длинный, острый, безупречно напудренный нос ее мог бы отпугнуть немало поклонников, однако, на взгляд Кличбора, он обладал пропорциями клюва надменной птицы – редкостно острого и опасного. То было нечто, способное внушить скорее восхищение, чем любовь. Почти оружие, но оружие, уверенно чувствовал Кличбор, которое никогда против него не обратится. Как бы там ни было, нос принадлежал ей – и этот простой факт уже оправдывал его существование.
Когда они приблизились к открытому в ночь окну, Кличбор наклонился к Ирме.
– Это, – сказал он, – наша первая совместная прогулка.
Ирма остановилась у окна. Слова Кличбора явно тронули ее.
– Господин Кличбор, – сказала она, – вам не следует так говорить. Мы едва знаем друг друга.
– Совершенно верно, дорогая госпожа, совершенно верно, – отозвался Кличбор. Он вытащил большой сероватый платок и высморкался. Возня предстоит долгая, подумал он, если только нам не удастся как-нибудь срезать путь, отыскать в зачарованных полянах любви потаенную тропку.
Перед ними злобно сверкал под луной обнесенный стеною сад. Верхушки деревьев светились белым, точно пена. Нижняя же листва чернела, как колодезная вода. Весь сад выглядел литографией глубочайших черных и кричащих белых тонов. Пруд с рыбками обступали изваяния, казалось, исходившие своего рода лунной вульгарностью. Фонтан выбрасывал в ночь белые струи. Под зелеными беседками, каменными арками, садовыми трубами, цветочными кадками, под огромной решеткой, под плодовыми деревьями, под всем, что белело в свете луны, лежали тени – черные, словно вымокшие в море тюлени. Серый цвет отсутствовал полностью. Как и переходные тона. То была картина, пугающая своей простотой.
Вместе они созерцали ее.
– Вы сказали только что, госпожа Прюнскваллор, что мы едва знаем друг друга. И как это верно – если мерить наше взаимное знание по стрелкам часов. Но можем ли мы, сударыня, можем ли мы так измерять наше знание? Нет ли в обоих нас чего-то, что противится мерке столь низменной? Или я льщу себе? Или я слишком рано отдаюсь на волю презрения вашего? Слишком рано открываю вам сердце?
– Сердце, сударь?
– Да, сердце.
Ирма боролась с собой.
– О чем вы, господин Школоначальник?
Кличбор, собственно, и сам этого толком не знал, а потому сцепил большие ладони на уровне упомянутого органа и миг-другой прождал – не осенит ли его вдохновение. Не чересчур ли он предприимчив? Но тут ему стукнуло в голову, что молчание не столько ослабляет его позицию, сколько напитывает ее волшебной силой. Сообщает загадочность и ему, и его предприимчивости. Что ж, пусть подождет. О, волшебство ожидания! О, мощь его и сила! Кличбор почувствовал, как горло его сжимается, словно он впился зубами в лимон.
На этот раз, предлагая ей согнутую в локте руку, он знал, что Ирма ее примет. И она приняла. Пальцы, легшие на его предплечье, заставили старое сердце Кличбора забиться. Не произнеся больше ни слова, оба вступили в затопленный луною сад.
Не легко было понять Кличбору, в какую сторону вести ему свою спутницу. И уж совсем не понимал он, что ведут-то его. Да оно и естественно: Ирма знала в этом отвратительном месте каждый дюйм.
Некоторое время они простояли у пруда с рыбками, в котором с глупой отрешенностью сияло отраженье луны. Они оглядели это отраженье. Затем подняли глаза к оригиналу. Оригинал был не многим интереснее своего водного призрака, однако и гость, и хозяйка сознавали, что не обращать в такие вечера внимания на луну – значит, проявлять бесчувственность, почти жестокость.
В том, что Ирма знала о существовании в саду зеленой беседки, вины ее не было. Не было оной и в том, что Кличбор о беседке не знал. И все же Ирма, так сказать, внутренне краснела, пока, сворачивая вместе с дорожкой то налево, то направо, проходя под отягощенными цветами решетками, окольным путем вела к этой беседке Школоначальника.
Кличбор, перед умственным взором которого стояло как раз такое место, к какому он, не ведая того, приближался, чувствовал, что лучше совершать прогулку в молчании, дабы, когда ему представится возможность сесть и дать отдых ногам, низкий голос, что снова польется из глубины его груди, прозвучал бы во всей своей красе.
Обогнув обширные, припечатанные луной заросли сирени и вдруг оказавшись перед беседкой, Ирма испугалась и подалась назад. Кличбор остановился с ней рядом. Лицо Ирмы было отвернуто в сторону, так что отсутствующий взгляд Кличбора уткнулся в жесткий, точно валун, сверкающий под луной пучок ее мышастых волос, в котором каждый волосок занимал отведенное ему место. Однако в пучке не было ничего, способного задержать взгляд мужчины, и Кличбор, отворотясь от него к столь взволновавшей Ирму беседке, выпрямился и правую ступню развернул под углом воинственным несколько более обычного – бессознательно приняв, стало быть, позу, вполне отвечавшую тому, что происходило в его голове.
Самому себе он рисовался мужчиной из тех, кто никогда не злоупотребит беззащитностью дамы, человеком великодушным и понимающим. Человеком, которому дама может довериться даже в безлюдном лесу. Но также и большим удальцом. Молодость его миновала так давно, что он ничего из нее не помнил, а потому полагал – ошибочно, разумеется, – что вдосталь вкусил в те годы от пурпурного плода, что разбивал сердца и браки, бросал цветы дамам на балконах, пил из их туфелек шампанское и вообще был неотразим.
Кличбор позволил пальцам Ирмы соскользнуть с его руки. В такие мгновения следовало давать ей почувствовать себя свободной, но лишь для того, чтобы еще дальше выманить ее из укрытия.
Он уложил ладони на плечные нашивки своей белой мантии.
– Слышите ли вы запах сирени, сударыня, – спросил он, – залитой луною сирени?
Ирма повернула к нему лицо.
– Мне следует быть с вами честной, господин Кличбор, не так ли? – ответила она. – Если бы я сказала, что слышу его, когда я не слышу, я солгала бы и вам, и себе. Не стоит нам начинать с этого. Нет, господин Кличбор, не слышу. Я немного простужена.
Кличбору казалось уже, будто вся его жизнь начинается сызнова.
– Вы, женщины, создания хрупкие, – после долгой паузы сказал он. – Вам следует быть осторожными.
– Но почему вы прибегли ко множественному числу, господин Кличбор?
– Моя дорогая госпожа… – неторопливо произнес он и, помолчав, еще раз: – Моя… дорогая… госпожа…
Пока он слушал свой голос, повторявший эти три слова, его осенила мысль: самое лучшее такими их и оставить – ни продолжения, ни предисловий, ни скобок, – пусть себе плывут без руля и ветрил. Он погрузился в молчание, в молчание волнующее – нарушить его ответом на вопрос Ирмы значило бы превратить волшебство в банальность.
Он не ответит ей. Маститый ум его поведет с нею свою игру. Пусть с самого начала поймет, что ей не следует ожидать ответа на каждый вопрос, – что его мысли могут странствовать где-то еще, в таких областях, куда последовать за ним она не способна, – или что вопросы эти (при всей его любви к ней, а ее к нему) и не заслуживают ответов.
Ночь изливалась на них со всех сторон – миллионы, миллионы кубических миль ночи. О, сколь упоительно стоять близ любимого существа, нагим, так сказать, – на кружащем стеклянном шарике – и следить как летят, прорезая вселенную, огненные светила!
Как бы против воли они вступили в беседку и, отыскав в темноте скамейку, сели. Тьма здесь скопилась густая, бархатистая. Точно в пещере, не считая лишь того, что густота эта подчеркивалась множеством маленьких, ярких лужиц лунного света. Сбившиеся преимущественно в тыльной части беседки, мертвенные лужицы эти поначалу внушали вошедшим некоторую озабоченность, нарочито выставляя напоказ отдельные части их тел. Но с произвольностью освещения приходилось мириться; Кличбор, глянув туда, где прорехи кровли впускали вовнутрь лунный свет, не смог придумать, чем их заткнуть.
Ирму крапчатость пещерного нутра беседки и умиротворила, и раздражила одновременно.
Умиротворила, поскольку войти в сгущенную ночь пещеры, лишенную и проблеска света, который позволил бы оценить расстояние между ней и ее спутником, было бы ужасно даже при несомненной уверенности в том, что сопровождает ее человек, заслуживающий доверия и учтивый. Испещренная же светом беседка была не так уж и страшна. Пятнышки света, скорее мертвенного, это верно, чем веселого, как-никак разгоняли то ощущение жути, что знакомо лишь беглецам да тем, кого ночь застигает во владеньях вампиров.
Но как ни радовала Ирму неполнота беседочной тьмы, раздражение, не уступающее по силе удовлетворению, претендовало в ее плоской груди на главенство. Раздражение это, которое навряд ли понял бы человек, не обладающий ни фигурою Ирмы, ни живой картиной беседки в голове, вызывалось бесившей Ирму методой, с которой ложились на ее тело ромбы света.
Более от нервности, чем от чего-то еще, она извлекла зеркальце и подняла его перед собой, поначалу не увидев во тьме ничего, кроме длинного, заостренного сегмента света. Само зеркальце оставалось невидимым, как и держащая его рука, – лишь обособленное, светозарное отражение ее носа парило перед Ирмой во мраке. В первый миг она и не сообразила, что это. Она слегка повела головой и увидела перед собою маленький, близорукий глаз, мерцающий, как капелька ртути: зрелище, способное нагнать страху при любых обстоятельствах, и уж тем более – когда упомянутый орган принадлежит тебе самой.
Вся остальная Ирма терялась в ночи, – не считая пары крупных, призрачных ступней. Ирма пошаркала ими, однако пятно света, в которое они попали, было самым большим в беседке, и уклонение от него требовало совершенно непереносимого натяжения мышц.
У Кличбора светилась вся голова. Более чем когда-либо походил он на великого пророка. Белые волосы его положительно расцвели.
Ирма, сознавая, что этот чудесный, резкий, преобразивший его голову свет есть нечто такое, чего не следует оставлять без внимания, чем следует, собственно говоря, упиваться, – прилагала титанические усилия, чтобы забыть о себе, как то и положено истинной влюбленной; но что-то в ней восставало против попытки сосредоточиться исключительно на своем кавалере, поскольку она понимала – это к ней должны обращаться взоры, это ею надлежит упиваться.
Неужели она провела, прихорашиваясь, почти весь день лишь для того, чтобы сидеть в темноте, выставив напоказ один только нос да ноги?
Нестерпимо. Совершенно, совершенно неправильное зрительное соотношение.
Кличбор, в быстрой последовательности увидевший перед собой сначала освещенный луною нос, а потом таковой же глаз, испытал потрясение. И то, и другое определенно принадлежали Ирме. Второго такого кинжалообразного носа не было во всем Горменгасте – как и второй пары таких близоруких, встревоженных глаз, – разве что у одного из коллег Кличбора. Лицевые признаки эти, мревшие прямо перед ним, хоть дама, коей они принадлежали, сидела, пусть и незримая, но вполне осязаемая, справа от него, сильно напугали старика, и только увидев отблеск зеркальца, возвращавшегося в Ирмин ридикюль, он понял в чем дело.
Тьма оставалась глубокой и черной, как вода.
– Господин Кличбор, – промолвила Ирма, – вы меня слышите, господин Кличбор?
– Превосходно слышу, дорогая моя госпожа. Голос ваш чист и высок.
– Я предпочла бы, чтобы вы сидели справа от меня, господин Школоначальник, – предпочла бы поменяться местами.
– Чего бы вы ни предпочли, я здесь для того, чтобы получить вам это все, – отозвался Кличбор. И поморщился, поскольку грамматический хаос сказанного уязвил то, что еще уцелело в нем от ученого.
– Мы можем встать одновременно, господин Школоначальник?
– Госпожа, – ответил он, – мы так и поступим.
– Я вас почти не вижу, господин Школоначальник.
– И тем не менее, я рядом с вами, дорогая госпожа. Моя рука – не способна ль она помочь вам при перемене мест? Это рука, которая в былые времена…
– Я вполне способна встать на ноги самостоятельно, господин Кличбор, – вполне способна, благодарю вас.
Кличбор поднялся, но мантия его зацепилась за какой-то извив деревенской скамьи, не дав ему довершить движение и оставив полусогнутым.
– Дьявол! – разгневанно пробормотал он и, дернув за мантию, основательно ее разодрал. Тут уж он вышел из себя – и пренеприятнейшим образом. Старика окатило жаром, в лицо его словно впились иголки.
– Что вы сказали? – переспросила Ирма. – Я говорю, что вы сказали?
В замешательстве гнева Кличбор на мгновение бессознательно перенесся в Профессорскую, или, быть может, в класс, или в жизнь, которую вел десятки уж лет…
Старый рот его искривился, обнажив запущенные зубы.
– Молчать! – рявкнул он. – Я вам не кто-нибудь, а Школоначальник!
Едва выговорив это, едва поняв, что он сказал, Кличбор почувствовал, как у него вспыхнули лоб и шея.
Ирма, в ошеломлении замершая на месте, не способна была шевельнуться. Если бы Кличбор обладал хоть какого-то рода телепатическим инстинктом, то понял бы, что рядом с ним плод, который – только тронь – упадет ему прямо в руки, до того он созрел. Знать-то он этого не знал, однако, на его счастье, смятение лишило Кличбора способности выдавить хоть слово. Молчание же работало на него.
Первой заговорила Ирма.
– Вы подчинили меня вашей воле, – сказала она. В словах этих, простых и искренних, звучало больше гордости, чем смирения. Гордости капитулянта.
Вообще-то, мозги у Кличбора шевелились медленно, однако и полумертвыми назвать их было нельзя. Теперь душа старика трепетала, залетев на противоположный полюс его темперамента.
Что далеко не способствовало ясности мысли. Впрочем, он понимал: действовать должно с крайней осмотрительностью. Положение, в которое он попал, деликатно, однако имеет и ряд преимуществ. Осознание того, что грубость, с которой он потребовал молчания, не столько уронила, сколько возвысила его в глазах Ирмы, взывало к чему-то совершенно бесстыдному в нем – к подобию ликования. Впрочем, ликование это, пусть и бесстыдное, оставалось невинным. То было ликование ребенка, не пойманного на лжи.
И он, и Ирма стояли. На сей раз Кличбор не предложил ей руки. Но сам, пошарив в темноте, отыскал ее руку. А именно, локоть. Локти неромантичны, однако пальцы Кличбора, сжимавшие это сочленение, дрожали, да и само сочленение дрожало в его ладони. Мгновение оба простояли, не шевелясь. Ананасовый аромат Ирмы был густ и крепок.
– Сядьте, – сказал Кличбор. Теперь он говорил несколько громче. Говорил, как человек, облеченный властью. Ему не было нужды выглядеть суровым, притягательным, мужественным. Благословенная тьма делала любые усилия этого рода ненужными. Кличбор корчил рожи в безопасной ночи. Высовывал язык, надувал щеки – такой восторг переполнял его.
Он сделал глубокий вдох. Вдох успокоил его.
– Вы сидите, госпожа Прюнскваллор?
– О да… Да, сижу, – пролепетала в ответ Ирма.
– Вам удобно, сударыня?
– Удобно, господин Школоначальник, и покойно.
– Покойно? Какой разновидности покой вы вкушаете?
– Покой человека, которому нечего опасаться, господин Школоначальник. Человека, питающего веру в сильную руку своего возлюбленного. Покой сердца, разума и души, знакомый тем, кто узнал, что значит безоглядно отдаться человеку, полному достоинств и нежному. – Голос Ирмы пресекся, но затем, словно в доказательство сказанного, она крикнула в ночь: – Нежному! вот что я сказала! Нежному и Неженатому!
Кличбор подступил ближе; теперь тела их почти соприкасались.
– Скажите мне, драгоценнейшая моя госпожа, не обо мне ли вы говорите? Если нет, тогда посрамите меня – явите милосердие и разбейте сердце старика одним кратким слогом. Если вы скажете «нет», я без единого слова оставлю и вас, и эту исполненную высокого смысла беседку, уйду в ночь, уйду из вашей жизни, а там, кто знает, может статься, и из своей тоже…
Обманывал Кличбор сам себя или нет, – с определенностью можно утверждать, что сказанное он переживал искренне. Быть может, один лишь подбор слов возбуждал старика не меньше, чем присутствие Ирмы и собственные его замыслы; и все же нельзя сказать, что общий эффект не производил впечатления подлинности. Сияние любви ослепляло Кличбора. Он брел по грудь в обезумевших от шипов розах. Вдыхал ароматы волшебного острова. Мозг его тонул в море пряностей. Но и задней мысли своей он не забывал.
– Я говорила о вас, – сказала Ирма. – О вас, господин Кличбор. Не прикасайтесь ко мне. Не искушайте меня. Вообще ничего со мной не делайте. Просто побудьте рядом. Я не хотела бы, чтобы мы осквернили этот миг.
– Ни в коем случае. Ни в коем случае. – Голос Кличбора был столь глубок, что как бы уже и подземен. Кличбор слушал его с удовольствием. Впрочем, ему хватило душевной тонкости, чтобы понять: при всей замогильной красоте его голоса, фраза, произнесенная им, остается жалостно неосмысленной, и потому он – как бы начиная новое предложение – прибавил: – Никогда, ни в каком случае… Никогда, ни в каком случае, э-э, решительно нет, ибо кто может сказать, когда, застав нас врасплох, кинжалы любви… – Тут он умолк. Так он ничего не добьется. Нужно начать заново.
Нужно сказать что-то, способное вытеснить из памяти Ирмы прежние его слова. Нужно увлечь ее.
– Дорогая, – произнес он, наобум вторгаясь в буйную, нездоровую чащобу любви. – Дорогая!
– Господин Кличбор – о, господин Кличбор, – прозвучал еле слышный ответ.
– Дорогая моя, сейчас к вам обращается Школоначальник Горменгаста, ищущий вашей руки. Мужчина зрелый и нежный – но при том приверженец дисциплины, гроза шалунов, – сидящий рядом с вами во тьме. Если я говорю, что стану звать вас Ирмой, я не прошу у светоча любови моей разрешения – но объявляю о том, что сделаю.
– Скажите же это, о мой мужчина! – забывшись, вскричала Ирма. Скрипучий голос ее, столь не вяжущийся с приглушенным, таинственным воркованием ухаживания, разодрал темноту.
Кличбор содрогнулся. Голос Ирмы поверг его в ужас. Надо будет найти подходящий момент и внушить ей, что так поступать не следует.
Снова усевшись на деревенскую скамью, он обнаружил, что теперь плечи их соприкасаются.
– Скажу. Непременно скажу, моя дорогая. И это будет не грубое предложение без конца и начала. Не просто повторение самого прелестного, самого волнующего имени в Горменгасте, нет – я стану вплетать его в мои фразы как неотъемлемую часть наших бесед, Ирма, – вот видите, оно уже слетело с моего языка.
– Я не в силах, господин Кличбор, отодвинуть мое плечо от вашего.
– А у меня и желания подобного нет, голубка моя. – И подняв большую ладонь, он похлопал Ирму по упомянутому плечу.
За долгое время, проведенное ими во тьме, Кличбор совсем забыл о том, что на Ирме вечернее платье, и ощущение, вызванное прикосновением к ее голому плечу, заставило сердце его помчать галопом. На какой-то миг он до беспамятства испугался. Кто это создание, сидящее рядом? – и Кличбор воззвал к некоему невнятному Богу, моля избавить его от Неведомого, от Лукавого, от всяческого бесстыдства, от плоти и дьявола.
Разверзлась страшная бездна, разделяющая два пола – пропасть, ужасная и волнующая, отвесная, черная, как беседка, в которой сидели они; мрак – огромный, страшный, умонепостижимый, усеянный обломками обвалившихся мостов.
Однако ладонь Кличбора осталась там, где легла. Мышцы Ирминого плеча натянулись, как тетива лука, но кожа ее походила на атлас. И страх покинул Кличбора. Какая-то не лишенная лихости властность начала вызревать в нем.
– Ирма, – хрипло зашептал он. – Это ли осквернение? Пятнаем ли мы белейшую из тетрадей любви? Решать вам. Что до меня, то я брожу среди радуг, – что до меня…
Ему пришлось прерваться, потому что более всего он хотел бы сейчас опрокинуться на спину и заболтать старыми ногами в воздухе, и закукарекать, точно петух в сарае. Поскольку сделать этого он не мог, ему оставалось показывать мраку язык, щурить глаза и строить нелепые гримасы. Мучительные содрогания продирали его становой хребет.
Ирма же и ответить ничего не могла. Ирма плакала от счастья. Она лишь накрыла своей ладонью ладонь Школоначальника – вот и весь ответ. Оба приникли друг к дружке; невольно. На время повисло молчание, знакомое всем влюбленным. Молчание, которое грех прерывать, пока не придет сам собою миг, когда руки расслабятся, и можно будет снова вытянуть затекшие члены, и уже не покажется грубостью спросить, который теперь час, или поговорить о вещах, коим не место в Раю.
И вот Ирма нарушила безмолвие.
– Как я счастлива, – тихо-тихо вымолвила она. – Как же я счастлива, господин Кличбор.
– Ах… дорогая моя… ах, – очень медленно, успокоительно отозвался Школоначальник, – все так, как тому и следует быть… все как следует быть.
– Самые буйные, самые-самые буйные грезы мои стали реальностью, чем-то, чего я могу коснуться. – Она стиснула ладонь Кличбора. – Скромные мечты мои, скромные видения – они уж не те, что были, мой господин, они обрели вещественность, они – это вы… они – это Вы.
Кличбор не питал уверенности, что ему понравилось бы существование в качестве «скромной мечты, скромного видения» Ирмы, однако представления об уместном и неуместном тонули в обуявшем его волнении.
– Ирма! – Он притянул ее к себе. Податливости в ее теле было не больше, чем в прилавке кондитерской, однако Кличбор слышал, как взволнованно участилось ее дыхание.
– Вы не единственная, чьи грезы воплотились в реальность, дорогая моя. Оба мы держим свои грезы в объятиях.
– Вы правда так думаете, господин Кличбор?
– Безусловно, о, безусловно, – ответил тот.
Как ни темно было в беседке, Ирма легко представляла его, сидящего с нею рядом, видела во всех подробностях. Память у нее была превосходная. И она упивалась увиденным. Глаза разума вдруг обратились в самый могущественный ее орган. Собственно говоря, они оказались сильнее, яснее и здоровее глаз настоящих, доставлявших ей столько хлопот.
И потому, обращаясь к Кличбору, Ирма не чувствовала, что говорит с невидимым собеседником. Она забыла о темноте.
– Господин Кличбор?
– Дорогая моя госпожа?
– Почему-то я знала…
– И я… и я…
– Во всем этом много такого, чего я не смею касаться, – как странно, как прекрасно, что слова могут оказаться ненужными, что, начав фразу, можно ее не заканчивать, – и как все стремительно. Я говорю, как стремительно.
– То, что кажется стремительным юности, нам представляется неспешным. То, что выглядит в ней безрассудством, есть, в сущности, детская игра – для вас, дорогая, и для меня. Мы взрослые люди, радость моя. Зрелые люди. Золотой покров, эта патина времени, возлег на нас. И потому мы уверены в себе и не питаем сомнений, приличных неопытности. Мы отрастили зубы – давайте признаем это, сударыня. Все верно, время уплощило наши ступни, о да, но с какою целью? Чтобы укрепить нас, придать нам устойчивость, чтобы надежно провести нас по горним путям. Да благословит меня Бог… э-э… Да благословит меня Бог. Вы думаете, я мог бы ухаживать за вами и завоевывать вас, как юноша? Никогда, за сотню лет никогда! А почему… э-э… почему? Неопытность. Вот ответ. Полчаса уже или меньше я осаждаю вас; пытаюсь взять вас приступом. Но сбился ли я с дыхания? Нет. Я наставил свои орудия на вас и все же, моя дорогая, у меня остались в запасе десятки ядер… и… Да, да, Ирма, зрелая моя женщина… и… вы же все понимаете?., вы все понимаете?., проклятье, наши силы равны, вот в чем дело.
Умственное зрение Ирмы оставалось пугающе ясным. Голос Кличбора сделал очертания его образа еще более четкими.
– Но я не так уж и немолода, господин Кличбор, вовсе нет, – помолчав, сообщила она. Еще бы: она ощущала себя молоденькой, как неоперившийся птенчик.
– Что есть возраст? Что есть время? – вопросил Кличбор – и тоном более мрачным ответил себе сам: – Это ад! – сказал он. – Я ненавижу их.
– Нет, нет. Я не согласна, – сказала Ирма. – Я не согласна, господин Кличбор. Время и возраст – это лишь то, что вы из них сделали. Не будем больше о них говорить.
Кличбор, сидевший на старых своих ягодицах, вдруг распрямился.
– Сударыня! – объявил он. – Мне пришла в голову мысль, которая, думаю, вы согласитесь со мною, более чем комична.
– Вот как, господин Кличбор?
– Касательно сказанного вами о Возрасте и Времени. Вы слушаете, дорогая?
– Да, господин Кличбор… я вся… вся внимание!
– Мысль моя может показаться довольно забавной, если высказать ее в большом собрании людей, когда для того представится подходящий момент, – быть может, при каком-нибудь разговоре о часах, – можно было бы так подвести – и сказать, этак грациозно: «Время есть то, что вы из него сделали».
И Кличбор обратил к ней лицо в темноте. Он ждал.
Ответа от Ирмы не последовало. Мысли ее метались. Она впала в панику. Страх колол лицо сотней иголок. Она не могла издать ни звука. Ничего не лезло в голову. И Ирма еще теснее прижалась к Кличбору.
– Какая прелесть! – сказала она наконец, но, правда, основательно сдавленным голосом.
Последовавшее за этим молчание продлилось не более нескольких секунд, но для Ирмы оно было таким же протяжным, как жуткая тишь, знакомая всякому грешнику, сидевшему в ожидании Приговора на судной скамье. Тело ее трепетало, ибо слишком многое поставлено было на карту. Не сказала ль она чего-то до того уже глупого, что ни один достойный своей должности Школоначальник и не подумает связываться после этого с нею? Не приоткрыла ль она, не подумавши, в своем мозгу некий люк, через который этот блестящий мужчина увидит, насколько холодно, черно, безъюморно и бесплодно то, что навалено внизу?
Нет. О нет. Голос его, прикативший из мрака, вмещал, если это возможно, больше нежности, чем смела она надеяться отыскать в ком бы то ни было.
– Вам холодно, любовь моя. Вы озябли. Эта ночь не для нежной кожи. Адом клянусь, не для нее. А я? Что же я? Ваш наставник? Не озяб ли и я? Старый ваш кавалер? Озяб. Еще как озяб. И что существеннее, тьма наскучила мне. Эта подобная савану тьма. Укрывшая живые черты красоты. Тьма, что окутала вас, Ирма. Клянусь адом, это настолько бессмысленно, что приводит меня в исступление… – Кличбор поднимался со скамьи. – Окаянство! говорю я вам, единственная моя, эта беседка гнусна.
Он почувствовал пальцы, сжавшие его ладонь.
– Ах нет… нет… Не надо хулы. Я не хочу скверных слов в нашей беседке… в нашей священной беседке.
На миг Кличбор испытал искушение изобразить повесу. Первейшая услада волокитства пришла ему на ум. Как сладко слушать попреки женщины! Не поразить ли ее? – поразить крайностями любви: такая игра, пожалуй, стоила б свеч. Снова вкусить сладость укоров, никогда еще не испытанный порыв притворного раскаяния – стоит ли все это снижения его духовного престижа? Нет! Должно держаться уже завоеванной вершины.
– Эта беседка, – сказал он, – навек останется нашей. Это тьму, плененную ею, кромешную тьму, что прячет от меня ваше лицо – это тьму назвал я гнусной, какова она и есть. Ваше лицо, Ирма, ваше возвышенное лицо – вот по чему я истосковался. Неужели же вы не поняли? В великолепном свете луны! Любовь моя, в чудном ее свете! Не естественно ли, что мужчина жаждет упиться челом любимой?
Слово «любимая» подействовало на Ирму, как удар пули. Она сжала у груди руки, вдавив их вовнутрь с такой силой, что тепловатая водичка ее подложного бюста забулькала в темноте.
Кличбор, решив, что Ирма смеется над сказанным им, на мгновение замер. Но голос ее загасил жуткий багрец унижения, почти уж обливший всю его шею. Должно быть, бульканье это знаменовало любовь, некую странную водянистую страсть, для него непостижную, ибо:
– О господин мой, – сказала Ирма, – веди меня туда, где луна позволит нам увидеть тебя и меня.
«Нам увидеть тебя и меня»? – некоторое время Кличбор оставался не способным истолковать эту прозвучавшую для него тарабарщиной фразу. Однако он не замер на месте, как поступил бы, задумавшись, человек калибром помельче, но, исполняя первую часть Ирминого приказа, вывел ее из беседки. И мгновенно лунный свет затопил их – и в то же мгновение разум Школоначальника совладал с синтаксическим изыском Ирмы.
Согласно, как два привидения, как две отбрасывающие на дорожки черные тени самоходные статуи, плыли они по склонам каменных горок, вдоль увитых цветами решеток.
И наконец ненадолго остановились там, где каменный херувим сидел на корточках на краю гранитной птичьей купальни. Слева от них светились окна длинной приемной залы. Но им не дано было видеть, как окруженный зачарованной публикой Доктор воздевает серебряный молоточек, словно намерясь подвергнуть все и вся испытанию. Им не дано было знать, что посредством сверхъестественного усилия воли, мобилизации всех своих дедуктивных способностей и раскрепощения иррационального чутья, Доктор пришел к решению, обычному скорее для композитора, нежели ученого, – и замер теперь на пороге успеха или провала.
Дабы помочь врачу провести исчерпывающий осмотр, с «тела» сняли все, кроме академической шапочки.
Сколь бы ни рознились впоследствии рассказы Профессоров о том, что случилось следом, – ибо казалось, будто каждый из них приметил некую тонкость, от всех остальных ускользнувшую, – они оставались, однако же, самосогласными в главном. Быстрота, с которой все совершилось, казалась феноменальной, и потому следует предположить, что микроскопические уточнения происшествия, которому предстояло на долгое время остаться главной темой разговоров, были не более и не менее чем выдумками, имевшими своим назначением так или иначе возвысить рассказчика над другими – быть может, осенив его отблеском триумфа, чувством коего все они прониклись уже по тому одному, что просто-напросто присутствовали при случившемся. Как бы там ни было, все сходились на том, что высоко закатавший рукава Доктор внезапно привстал на цыпочки и, подняв над головою серебряный молоточек, так что тот заблистал, озаренный свечами, точным и словно бы не потребовавшим усилия движением уронил его на нижнюю часть позвоночного столба пациента. Ударив молоточком, Доктор отпрыгнул назад, разведя в стороны руки, растопырив пальцы, – и застыл, вглядываясь в мгновенную конвульсию несчастного. Тот же, корчась, точно издыхающий угорь, внезапно взвился в воздух, а приземлившись на ноги, молнией пронесся по комнате к эркерному окну, выскочил в него и полетел по освещенной луною лужайке со скоростью, бросавшей вызов легковерию наблюдателей.
Профессора, стоявшие, окружив Доктора и наблюдая за трансформацией пациента и столь быстро последовавшим за нею торжеством атлетизма, не были единственными, кого ошарашила эта сцена.
Голос звучал в саду, среди мертвенных пятен и холодных колодцев теней…
– Не подобает нам, Ирма, драгоценнейшая моя, в эту ночь, в эту первую ночь, изнурять наши сердца… нет, нет, не подобает, о блистательная невеста.
– Невеста? – вскрикнула Ирма, сверкнув зубами и тряхнув головой. – О, Господин, не так скоро… что вы!
Кличбор нахмурился, – как Бог, озирающий мир в третий день Творения. Понимающая улыбка искривила его старые губы и заблудилась среди морщин.
– Пусть так, упоительная водительница. Вы вновь наставили меня на истинный путь, и за это я почитаю вас, Ирма… не невеста, верно, но…
Тут старик дернулся, как расправляющийся пожарный рукав, и Ирма дернулась с ним, поскольку покоилась в его обвитых мантией руках. Отведя от лица Кличбора очумелые очи, она проследила за направлением его взгляда и на миг припала к нему в безрассудном объятьи, ибо пред ними внезапно предстал в ослепительном свете луны голый, летящий невесть куда человек, который при всей его коротконогости пожирал пространство со скоростью зайца. Кисточка черной академической шапочки – единственное, что притязало в нем на благопристойность, – витала за ним, как ослиный хвост.
Едва явившись Ирме и Школоначальнику, призрак достиг высокой стены сада. Как ему удалось вскарабкаться на нее, никто впоследствии объяснить не сумел. Он просто взлетел вверх с парящей пообок тенью и последним видением, оставленным господином Вростом, состоявшим прежде в штате господина Кличбора, был блеск луны на ягодицах – там, где высокая стена подпирала небо.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Оставалось убить на что-то по крайности три часа. Положение для Стирпайка непривычное. Какое-нибудь занятие у него находилось всегда. В обширной, зловещей арабеске его расписанного по пунктам будущего всегда присутствовали неправильной формы кусочки, кои надлежало сыскать и вставить в огромную разрезную картинку его хищнической жизни, – и Горменгаста, телом которого он питался.
Но в этот день, когда все часы пробили два, и клинок, с которым возился Стирпайк, был заточен, как бритва, и заострен, как игла, молодой человек погрузил шпагу в трость и озадаченно наморщил высокий, поблескивающий лоб. Под конец лежащих впереди трех часов ему предстояло исполнить чрезвычайной важности дело.
Предприятие его ожидало простое, но захватывающее и, главное, важное, – настолько важное, что впервые в жизни он на несколько мгновений впал в замешательство, не зная, чем заполнить оставшиеся до него часы, ибо Стирпайк понимал, что сосредоточиться на чем-либо серьезном не удастся. Задумавшись, он подошел к окну своей комнаты и окинул взглядом простор кровель и крошащихся башен.
День стоял безветренный, слабый туман умерял жару. Несколько видневшихся на башенках флагов вяло свисали с флагштоков.
Вид этот неизменно доставлял бледному молодому человеку удовольствие. Взгляд его не без коварства прошелся по этой картине.
Но вот он отвернулся от окна – новая мысль явилась ему. Вытянув руки и прихлопнув ладонями о пол, он перевернулся вниз головой и, приподняв одну бровь, прошелся по полу на руках. Мысль состояла в том, чтобы нанести краткий визит Двойняшкам. Он давно уже не был у них. Далеко за кровлями на глаза ему попалась окраина тех пустынных мест, где арочный проход вел из некоего забытого коридора в серый мир голых комнат, в одной из которых сидели в заточении их светлости Кора и Кларисса. Их присутствие там, как и присутствие их скудных пожитков, никак не сказывалось на общем ощущении запустелости. Напротив, сестры, казалось, лишь делали пустоту этих уединенных мест более полной.
Поход туда отнял бы у Стирпайка без малого час, но беспокойство томило его, и мысль навестить сестер показалась ему привлекательной. Присогнув руки в локтях, – он все еще разгуливал по комнате вверх ногами, – Стирпайк резко оттолкнулся от пола и, точно акробат, в один мах встал на ноги.
Через несколько мгновений Стирпайк, скрупулезно заперев комнату, отправился в путь. Шел он быстро, чуть приподняв и выдвинув вперед плечи в присущей только ему постановке тела, придававшей каждому его движению вид и целеустремленный, и злоумышляющий.
Кратчайшие пути, которые он выбирал в лабиринтовой паутине проходов замка, приводили его в странные места. В одних над ним громоздились отвесные, безоконные стены. В других голые, мощеные кирпичом или камнем просторы расстилались вокруг – огромные, пыльные пустоши, где сквозь щели брусчатки пробивались разнообразные сорные травы.
Споро перемещаясь из одного места в другое, из мира бессолнечных коридоров в панораму развалин, которыми непререкаемо правили крысы, из развалин – в странные области, где пути были почти вглухую забиты подростом, а резные фасады холодил аквамариновый плющ, – Стирпайк ликовал. Все пробуждало в нем ликование. То обстоятельство, что только ему одному и хватило предприимчивости, чтобы обследовать эту глушь. Его неугомонность, и сметливость, и страстная тяга взять в свои руки бразды, деспотические или иные, верховной власти.
На востоке высоко над ним в продолговатом овальном окне голубого стекла горело солнце. Окно сверкало, как лазурит, как самоцвет, свободно свисающий с серой стены. Не сбавляя хода, Стирпайк вытащил из кармана маленькую, отполированную, прекрасной работы рогатку, вложил в мошну ее пулю – и следом, как бы в одно движение, натянулась и освободилась резинка, и Стирпайк вернул рогатку в карман.
Он продолжал идти, но лицо его было повернуто туда, где в высокой серой стене сияло окно.
Он увидел, как в стекле появилась пробоинка, и сразу за тем словно осыпался голубой порошок, а только потом послышался далекий, схожий с выстрелом звук.
Высоко на востоке в разбитом окне появилось лицо.
Лицо очень бледное. Тело под ним обтягивала мешковина, кроваво-красный попугай сидел на плече, – но Стирпайк ничего этого не увидел, он уже вступил в иные места и какое-то время оставался в тени, передвигаясь под слитным ландшафтом лишаистых черепиц.
Достигнув, в конце концов, арочного прохода, ведшего к жилищу Двойняшек, Стирпайк помедлил и обернулся, чтобы окинуть взглядом серую перспективу. Воздух здесь был промозгл, нездоров; запах гниющего дерева и волглого камня наполнил легкие Стирпайка. Он окунулся в атмосферу распада – распада, полного собственной озлобленной силы – более мощного и неумолимого, чем какая ни на есть свежесть, – удушающего и иссушающего любую вибрацию жизни, любую надежду.
Другой, пожалуй, и содрогнулся бы, но молодой человек всего лишь провел языком по губам. «Вот уж точно местечко, – сказал он себе. – Ничего не скажешь, самое то, что нужно».
Однако стрелки часов ползли, времени на размышления не оставалось, и потому он повернулся спиной к холодным пространствам, где вздувались и прогибались длинные стены, где штукатурка обвисала и покрывалась испариной от холода и безжизненной жары, от немощей умбры и недомоганий оливковой краски.
Дойдя до двери, за которой взаперти сидели Двойняшки, он вытащил из кармана связку ключей и, выбрав один, изготовленный им самим, отпер замок.
Дверь подалась его нажиму с натужным, скрежещущим звуком.
Сколь ни туги были петли двери, Стирпайку потребовалось не больше секунды, чтобы распахнуть ее настежь. Если б ему пришлось побороться, чтобы войти, с разбухшей древесиной, повозиться с замком, надавить плечом на сырые филенки, – даже если бы звук шагов Стирпайка предвестил скорое его появление, – и тогда увиденное им, сколь оно ни было странно, не окатило бы молодого человека столь необычайным, фантастическим ужасом.
Ни звука не произвел он. Никак не предупредил о своем приходе – и однако ж Двойняшки с белыми, как свиное сало, лицами стояли перед ним рука в руке. Они разместились прямо за дверью, на которую, надо думать, неотрывно смотрели. Они походили на восковые либо алебастровые фигуры, или же на зверьков, застывших стойком над своими норами; взоры сестер были, казалось, прикованы к лицу хозяина, рты полуоткрыты как бы в ожидании лакомства – некоего привычного сигнала.
Никакого выражения не обозначилось в глазах Двойняшек, да там для него и места-то не было, ибо каждый из глаз по отдельности заполняло чужеродное тело, в каждой из четырех остекленелых зениц великолепнейшим образом отражался молодой человек. Пусть те, кто хоть раз пробовал передавать любовные письма сквозь игольное ушко или писал стихи на булавочных головках, – пусть они воспрянут духом. При всей грубости и суровости обращения с ними, сестрам так и не дано было уяснить степень собственной их топорности, ибо не дано было увидеть, как голова и плечи Стирпайка наклоняются, уместившись в бусины, самое равноотстояние которых (Двойняшки застыли щека к щеке) словно служило оправданием жуткой повторяемости всего кошмара в целом. Крохотные и совершенные в микрокосме зрачков, эти четыре мирка, тождественные и ужасные, поблескивали между их век. Казалось, они – изображенья Стирпайка – написаны одним-единственным волоском либо хоботком пчелы – ибо даже белки его глаз светились в них, точно хрустальные. Когда же стоящий в двери Стирпайк откинул назад голову – откинул, повинуясь внезапному побуждению, – четыре его головы, величиной не превосходившие зернышек, откинулись в то же мгновение, и восемь глаз сузились, выглядывая из четырех микроскопических зеркал – созерцая оригинал, высящегося в двери молодого человека, от которого зависели теперь уж недолгие, бездеятельные жизни сестер, – на человека с сузившимися глазами, малейшее движение коего было и их движеньями.
Неведенье глаз Двойняшек о том, что они отражают, было вполне естественным, неестественно было бы, если б глаза сестер, доносившие изображенье Стирпайка до их идентичных мозгов, хоть в малой мере отвечали за волнение в груди каждой из них. Ибо казалось, что сестры не чувствуют ничего, ничего не видят, что они мертвы, а на ногах держатся только каким-то чудом.
Стирпайк мгновенно понял, что в его отношениях с Корой и Кларисса завершилась еще одна глава. Ставшие глиной в его руках, они теперь уже не были глиной, если только глине не свойственно нечто не просто непредсказуемое, но и зловещее. И не только зловещее – твердокаменное. Отныне он знал: сестры вышли из повиновения, самый состав их изменился, – они остались, как прежде, сестрами, но ужесточились, обратились в кремень.
Все это можно было понять с первого взгляда. Но вот, внезапно, возникло нечто, ускользнувшее от зоркости Стирпайка. Сейчас скажу – что. Из глаз сестер исчезло его отражение. Их светлости, сами того не ведая, изгнали его. Нечто иное пришло ему на смену – и так же, как молодой человек не ведал прежде, что отражается в их глазах, точно так же не ведал он сейчас и того, что больше уж не отражается: что обменялся в хрусталиках сестер местами с обухом топора.
Однако Стирпайк мог видеть, что сестры на него больше не смотрят, – что взгляды их устремлены на что-то, находящееся над ним. Они не подняли кверху лиц, хоть сделать это было б только естественно, ибо то, на что они уставились, находилось выше линии их взглядов. Обе завели вверх глаза – так, что белизна засветилась меж век. Но если не брать в расчет это движенье глазных яблок, сестры даже не шелохнулись.
Справившись с боязнью, что, оторвав хоть на секунду взгляд от сестер, он попадет в какую-то неведомую западню, Стирпайк глянул вверх и сразу увидел в дюжине футов над собою здоровенный топор, свисающий из сложного переплетения шнуров и веревок, которое, подобно сплетенной в потолочной мгле паутине, удерживало в нужном положении холодную, сероватую тяжесть стального обуха.
Спиной вперед вылетел молодой человек из дверного проема. Мгновенно захлопнул он дверь и еще не успел повернуть ключ в замке, как услыхал глухой удар, с которым топор врезался в пол там, где он только что стоял.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Возвращение Стирпайка в самое сердце замка было решительным и быстрым. Бледное солнце висело, как шарик цветочной пыльцы, в пустом, блеклом небе, и пока молодой человек поспешал под ним, тень его поспешала следом, зыблясь на брусчатке огромных дворов, или стойком плывя пообок там, где у самого локтя его освещенные, изнуренные стены отражали бледный свет. Внутри ее границ не было ничего, кроме ровной черноты тона, и все же тень выглядела такой же хищной и осмысленной, как создавшее ее тело: тело, подвижный очерк которого отличался таким обилием выразительных средств – от общей бледности молодого человека и его темно-красных глаз, до неуследимого выражения взгляда и губ, – тело, которое с каждым шагом приближалось к месту назначенной его хозяином встречи.
Солнце скрылось. На несколько минут тень исчезла, как исчезает дурной сон человека, когда он, проснувшись, видит самую суть своего ночного кошмара, замершую близ его постели, – сам же Стирпайк никуда не делся: он сворачивал за углы, пронизывал лабиринты, спускался по каменным скатам или гнилому дереву лестниц. Странно однако ж, что при всем обилии жизни, бьющейся в оболочке его тела, тень, когда она объявилась вновь, вновь подтвердила свою обособленность, свое существование как неких ножен злоумышления. Почему это было так – почему определенная скромность пропорций и определенные особенности движения оказались способны породить ощущение мрака? Тени куда более страшные и гротескные, чем Стирпайкова, такого чувства не вызывали. Раздутые или тощие, они скользили по стенам, оставаясь сравнительно безобидными. Казалось, у его тени есть сердце – сердце, в которое кровь поступает из пределов мира, менее вещественного, чем воздух. Мира тьмы, самое существование коего зависит от его врага, от света.
Она оставалась с ним, эта тень, скользила со стены на стену, с полов на полы – плечи приподняты, но не чрезмерно, голова склонена, но не вправо и не влево, а вперед. На открытых местах тень, плывя по сухой земле, блекла, поскольку тускнело солнце, а там и вовсе истаяла, когда на него надвинулся край захватившей полнеба тучи.
Почти сразу пролился дождь, и воздух потемнел еще пуще. Но то была еще не последняя тьма, ибо ниже полога тучи, неуклонно сползавшей к северу, волоча за собою мили и мили того, что походило на грязную простыню, под этим пологом еще один, такой же необъятный, но более быстрый стал обгонять ее снизу, и когда этот нижний облачный континент вошел в ту область неба, где в последний раз вспыхнуло солнце, в воздухе ощутилось нечто воистину непривычное.
Тьма, доселе невиданная, сомкнулась над Горменгастом. Стирпайк, поглядывая по сторонам, видел, как в десятках окон зажигается свет. Темнота не позволяла разглядеть, что творится вверху, но судя по все густеющей мгле, новые тучи, плотные, беременные дождем, плыли по небу, образуя нижний из трех незримых, бескрайних слоев.
Теперь дождь уже гулко колошматил по крышам, заливая желоба, бурля в трещинах и до краев наполняя тысячи неправильной формы впадин, выдавленных веками в крошащемся камне. Продвижение этих хаотических туч было настолько стремительным, что Стирпайк не успел укрыться от ливня, однако струи дождя хлестали его по голове и плечам лишь несколько мгновений, поскольку, припустившись сквозь неестественную тьму бегом к ближайшему из освещенных окон, он очутился в знакомой ему части замка. Отсюда он мог проделать остаток пути под крышей.
В преждевременной тьме мерещилось нечто гнетущее. Проходя освещенными коридорами, Стирпайк видел людей, теснившихся у окон пообширнее, видел лица, озадаченно и встревоженно вглядывавшиеся в подложную ночь. То была причуда природы, не более, вследствие которой мир опутался как бы повязкой, слой за слоем отрезавшей его от закатного солнца, пока не задохнулся сам воздух. И все же казалось, что у насылаемой тьмой подавленности имеется не одно лишь материальное истолкование.
Словно сражаясь с обступающей мглой, служители ее зажгли все подручные фонари, горелки, свечи и лампы, соорудив на скорую руку – из олова и стекла, даже из золотых подносов и блюд полированной меди – удивительное множество отражателей. Задолго до того, как удалось бы перенести через всю махину Горменгаста какое угодно распоряжение, в замке не осталось ни единой конечности, ни единого перста, не отозвавшегося на всеобщее ощущенье удушья, ни фаланги каменного пальца, которая осталась бы неосвещенной.
Бесчисленные свечи сочились воском, и язычки пламени их, подобные маленьким флагам, волновались, колеблемые неуследимыми токами воздуха. Тысячи ламп, непокрытых или забранных в цветное стекло, горели, изливая пурпурный, янтарный, травянисто-зеленый, синий, кроваво-красный и даже серый цвет. Стены Горменгаста уподобились стенам рая – или ада. Цвета их были дьявольскими или ангельскими – в зависимости от окраски мыслей смотрящего на них человека. Они купались, эти стены, в тонах геенны, в отливах Сиона. Перси крылатых серафимов, чешуя Сатаны.
И Стирпайк, споро пронизывая разнообразные всполохи, слышал, как нарастает шум дождя. Он добрался до места, очень похожего на перешеек: до коридора с выходящими во внешнюю тьму круглыми окнами по сторонам. Эту аркаду, или крытый проход, – перешеек, соединявший два колоссальных, раскидистых каменных массива, освещали расположенные через более или менее равные промежутки светильники, и первой шла огромная, позеленевшая от времени масляная лампа с фитилем, широким, как бараний язык. Стеклянный шар ее выглядел пугающе уродливо – желобчатый, с отколовшимся на нижней кромке обода куском. Однако цвет лампы был совершенно особенным – вернее, цвет ее стекла, когда оно освещалось, как сейчас, изнутри. Сказать, что он был индиговым, – значит, не дать никакого представления ни о его густоте и сочности, ни о подводном либо пещерном свечении, наполнявшем своим аэром эту часть аркады.
Иными были другие две лампы с шарами мрачно багровым и айсбергово зеленым, создававшие там, куда достигал их свет, арены не менее театральные. Темные, как гагат, застекленные круглые окна также были не лишены своеобразия. По слепой черноте этих фланговых глазниц тянулись нити дождя, которые, казалось, не движутся, но, точно струны арфы, натянуты поперек чернильных иллюминаторов – эти нити, эти струны воды горели за стеклом синевой, горели багрецом, горели зеленью, ибо лампы обращали стекла иллюминаторов в витражи. И в красках их присутствовало нечто змеиное – ядовитое, чужеродное, нездоровое и безжалостное; цвета окон претворились в цвета морского змея, а из-за окон, расположенных по другую сторону прохода, слышалось протяжное шипение рептильного дождя.
И пока Стирпайк торопливо шел этим проходом, тень его меняла окрас. По временам она обгоняла его, как бы норовя поспеть на какое-то рандеву раньше отбрасывающего ее тела; по временам волоклась за ним, скользя у его каблуков, преследуя, меняя темный свой цвет.
Оставив позади перешеек и снова проникнув в континент камня, континент, в просторы которого он углублялся с каждым шагом, с каждым вдохом, Стирпайк выбросил из головы все мысли о Двойняшках и странном их поведении. До этой минуты ум его был по большей части занят догадками о причинах бунта сестер и предварительными планами их устранения.
Но у него имелись дела более безотлагательные и одно, первейшее, – в особенности. С завидной легкостью избавил молодой человек свой разум от их светлостей и впустил в него Баркентина.
Тень Стирпайка теперь тянулась справа от него. Она взошла по лестнице. Пересекла площадку. Спустилась по трем ступенькам. Некоторое время она тащилась по пятам за своим создателем, потом обогнала его. Она двигалась с ним вровень, а там вдруг сгустилась и полезла на стену, и голова ее, следуя высоким своим путем, поднялась над полом на двенадцать футов – туда, где профиль тени обретал временами волнистость, проплывая по густой паутине, набившейся в стыки стены с потолком.
А затем великанская тень задрожала, съехала вниз и потекла чуть впереди Стирпайка, пока, наконец, не расползлась и не исчахла – уродец, смутный и страшный, указующий путь к покоям, в которых завершится, на некоторое время, этот поход.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Баркентин сидел в своей комнате, подтянув колено иссохшей ноги к подбородку. Волосы, нечистые, как засоренная мухами паутина, свисали ему на лицо, сухое, безжизненное. Кожа, такая же грязная, с как бы илом забитыми складками, растрескавшаяся, точно сыр, вся в обесцвеченных пятнах, тоже была суха – засушливая местность, безводная, как Луна, – и все же посредине ее располагались зловредные озера, лютые, налитые влагой глаза старика.
За разбитым окном в дальнем конце комнаты стыли застойные воды замкового рва.
Старик сидел, подтянув единственную ногу к лицу, прислонив костыль к спинке кресла, обхватив руками колено и зажав в зубах клок бороды, – и сидел так уже больше часа. На столе перед ним в беспорядке валялась дюжина книг с описаниями ритуалов и прецедентов, с перекрестными ссылками, тайнописями и секретными документами. Но глаза старика были устремлены не на них. Не ставшие менее безжалостными оттого, что они никуда не смотрели, но лишь влажно мерцали в сухих глазницах, глаза не заметили проникшей в комнату тени – неуловимой, как воздух, но чрезвычайно выразительной, всползшей по высоким ярусам книг; книг всяких обличий, пребывавших в самых разных стадиях обветшания, мерцавших в тусклом свете там, где тень, черная, точно призрак ада, не перерезала их.
И, сидя здесь, о чем думал он, этот сморщенный, грязный карлик?
Он думал о перемене, совершившейся в делах Горменгаста – в трудах его сердца и в складе разума. Переменах столь тонких, что старику никак не удавалось их уловить. То было нечто, не поддававшееся уловлению посредством привычных для него размышлений, и тем не менее наполнявшее ноздри его своим смрадом. Он знал, что это – зло, а злом было для Баркентина все, отдающее бунтом, все, бросавшее вызов древним обрядам, а то и норовившее их уничтожить.
Горменгаст ныне стал не тем, каким был. Старик сознавал это. Где-то среди холодных камней замка затаилось коварство. Но ткнуть в него пальцем Баркентин не мог. Не мог сказать, что, собственно, стало ныне другим. И дело не в том, что сам он стар. Относительно дней своей юности он никакими сантиментами не тешился. Те дни были безрадостны и не отмечены любовью. Но он себя не жалел. Он знал только одну – слепую, страстную, суровую – любовь к мертвой букве замкового закона. Любовь, неистовую, как ненависть. Живые люди, из коих состоял род Гроанов заботили его меньше, чем самый убогий, самый унылый из ритуалов, кои судьба повелела им исполнять. Лишь перед символами, скрытыми в них, склонял Баркентин нечесаную главу. Не питал он любви и к Титусу – только к значению его, как последнего звена великой цепи. Что-то такое чуялось в том, как двигался мальчишка… неукротимость, независимость, что-то злившее Баркентина. Похоже, наследник мира башен знал нечто об иных краях, о землях теплых и тайных, и лихорадочные, беспорядочные движения рук и ног мальчишки выдавали то, что жило и цвело в его воображении. Как будто мозг отрока, укрываясь в местах чарующих и дальних, посылал будоражащие известия малым его костям, тканям его тела, отчего и в движеньях Титуса проступало что-то отдаленно зловещее.
Но Баркентин, знавший, что семьдесят седьмой граф никогда не удалялся от места своего рождения на расстояние, большее дневного пути, выхаркал, фигурально выражаясь, эти мысли из своего запутавшегося ума. Однако привкус их сохранился. Привкус чего-то едкого, мятежного. Слишком во многом оставался юный граф самим собою. Мальчишка словно воображал, будто у него имеется собственная жизнь, отдельная от жизни Горменгаста.
И не он один. Был еще этот юнец, Стирпайк. Расторопный, полезный ученик, что говорить, но опасный – и как раз по этой же причине. С ним-то что делать? Он узнал слишком много. Он заглядывал в книги, в кои ему заглядывать не полагалось, и слишком быстро усваивал сказанное в них. И присутствовало в юнце нечто обособлявшее его от жизни замка – неуловимо чуждое – тайное.
Баркентин поерзал в кресле, раздраженно урча и от боли, пронзившей при изменении позы сохлую ногу, и от недовольства тем, что не способен сделать большее – ему только и остается, что глодать, точно кость, свои подозрения, да и глодать-то с самого краешка. Как распорядитель закона Гроанов он жаждал действия – жаждал уничтожить, если потребуется, десятка два нечестивцев, однако ему не хватало ясности, не хватало осязаемой мишени, чего-то определимого, такого, по чему можно будет дать залп из всех орудий. Старик знал лишь одно: если выяснится, что Стирпайк хоть в малейшей мере злоупотребил его сварливым доверием, тогда, пустив в ход всю свою власть, он, Баркентин, добьется, чтобы это бледное ничтожество спустили с Кремнистой Башни, – сокрушит его со всей безжалостной злобой фанатика, для которого мир не содержит градаций, только слепые крайности черного и белого. Согрешить – значит, согрешить против Горменгаста. Зло и сомнение – суть грехи. Усомниться в священных камнях – значит, осквернить божество. И где-то такое зло затаилось – близкое, но невидимое. Старик ощущал его дуновение – но стоило его мозгу, так сказать, обернуться, стоило оглянуться через плечо разума, как оно исчезало: не оставалось ничего осязаемого, никого, кроме служителей священного принципа, спешащих кто куда по тому или этому делу и, судя по виду их, таковым поглощенных.
Неужели нет у него никакого способа заманить эту блуждающую нечисть в западню, развернуть ее лицом к свету – или рассеять свои подозрения? Ибо они вредили старику, держа его без сна долгие ночные часы, изводя так, словно недуг замка был и его недугом.
– Адская кровь, – прошептал он шуршащим, как гравий, голосом, – я отыщу его, пусть оно даже прячется, как нетопырь в склепах или крыса на южных чердаках.
И он начал чесаться, омерзительно – в заду и в паху – и опять заерзал в высоком кресле.
Тогда-то лежавшая на книжных полках тень немного переместилась. Казалось, плечи ее приподнялись, силуэт отодвинулся от двери, неосязаемое тело заструилось по сотням кожаных корешков.
На миг-другой блуждающий взгляд Баркентина задержали лежавшие на столе бумаги, и его посетило совершенно в эту минуту ненужное воспоминание о том, что он был когда-то женат. Куда подевалась жена, он не помнил. Наверное, умерла.
Баркентин не мог припомнить ее лица, но вспомнил – возможно, вид разбросанных по столу бумаг и наслал на него это непрошеное воспоминание, – как она, когда плакала, складывала, едва ли сознавая что делает, бумажные кораблики и пускала их, мокрые от ее слез, испачканные ее растрескавшимися пальцами, в плаванье по гавани своего лона или оставляла сидеть, как на мели, на полу либо на служившей ей постелью веревочной циновке, – кучками, точно опавшие листья, – влажные, замаранные, изящные: рассеянная эскадра, военный флот безумия и горя.
Тут он вздрогнул, вспомнив, что жена родила ему сына. Или дочь? Больше сорока лет прошло с тех пор, как он разговаривал со своим ребенком. Отыскать его будет непросто, но отыскать необходимо. Баркентин только и помнил, что родимое пятно во все лицо да косые глаза.
Ум старика обратился к былым дням, множество картин робко поплыло перед его глазами, и в каждой он видел себя существом с головой, вечно задранной вверх, как будто он смог дорасти лишь до колен взрослого мужчины – вечной мишенью презрения и издевок. Взором разума он видел, как ненависть разрастается в нем, чувствовал, как из-под него выбивают костыль, как за спиной его улюлюкают мальчишки. «Гнилая нога! гнилая спина! Эй, эй, Баркентин!»
Все это в прошлом. Теперь боятся его. Боятся и ненавидят.
Сидя спиной к двери и книжным полкам, он не мог видеть, что снова переместилась тень. Баркентин поднял голову повыше и сплюнул.
– Все это зашло слишком далеко, – сказал он себе, – слишком далеко, клянусь ведьмячей кровью. Долой его. Ему конец. Он подох. Исчез. С ним покончено. Я должен остаться один или, клянусь самцом-приматом, я подведу под удар Сокровенные Тайны. При дьявольской его расторопности он сможет вытянуть из меня все ключи.
И пока ворчание рокотало в его горле, тень того самого молодого человека, о котором шла речь, неумолимо скользнув по корешкам книг, замерла в дюжине футов от Баркентина, – само же тело Стирпайка расположилось за самой спинкой кресла калеки.
Непросто было молодому человеку решить, каким способом надлежит ему убить своего хозяина. Слишком много средств имелось в его распоряжении. Ночные посещения аптеки Доктора снабдили Стирпайка пугающей коллекцией ядов. Пригодность упрятанного в трость клинка казалась едва ли не слишком очевидной. Да и рогатка его была далеко не игрушкой, но оружием – смертоносным, как пушка, и беззвучным, как меч. Он умел сломать ребром ладони шею, умел с редкостной точностью метнуть складной нож. Не зря он каждое утро тратил строго определенное число минут, поражая им манекен, который установил в своей спальне.
Однако просто уничтожить старика было бы неинтересно.
Его надлежало убить, не оставив следов: избавиться от тела и в то же самое время смешать приятное с полезным в такой пропорции, чтобы ни то, ни другое не захирело в этом союзе. Да и свести давние счеты тоже было невредно. Старый уродец оплевывал его, осыпал бранью. Просто лишить старика жизни наибыстрейшим способом – значило создать кульминацию, лишенную содержания, то есть нечто, чего придется потом стыдиться.
Случившееся же на деле, та смерть, которую Баркентин принял от руки Стирпайка, никак не соотносилось с первоначальным замыслом молодого человека.
Ибо, пока он стоял прямо за креслом своей жертвы, старик, склонившись над книгами и документами, подтянул к себе заржавелый тройной подсвечник и после долгого рытья и копанья в лохмотьях, запалил, наконец, фитили свечей. Это возымело двойной эффект – тень Стирпайка бочком подобралась к загроможденной книгами стене и одновременно лишилась черноты.
Со своего места Стирпайк видел через плечо Баркентина медовые язычки трех свечей. Походившие очертаниями на листья бамбука, тонкие, стройные, они дрожали, окруженные тьмой. Сам Баркентин выглядел в их сиянии простеньким силуэтом, и, когда его тело вдруг сдвинулось в сторону, Стирпайк увидел пламя еще яснее – тут-то ему и явилась мысль, придавшая тщательно продуманным планам убийства старика и избавления от его дряхлого тела вид попросту дилетантский: именно дилетантский, поскольку в них отсутствовала обманчивая простота, отмечающая всякое великое произведение искусства – дилетантский, при всем их хитроумии и именно вследствие оного.
Вот здесь – прямо здесь, перед ним, стоят три свечи, и золотистое пламя их лижет угрюмый воздух. И здесь же, протяни только руку – и коснешься старика, которого нужно убить, но убить не слишком быстро; старика, чьи лохмотья, кожа и борода настолько сухи и горючи, насколько того мог бы желать самый привередливый поджигатель. Стало быть так: дряхлый старец склоняется над работой и поджигает себе свечой бороду – что может быть проще? Что может быть забавнее – смотреть, как вздорного, грязного тирана охватывает пламя, как вспыхивают его лохмотья, как дымится кожа, как борода его дергается и бьется, точно алая рыба? Стирпайку же только и останется что обнаружить – несколько позже – обугленный труп и оповестить о том замок.
Молодой человек огляделся вокруг. Дверь, через которую он проник в комнату, закрыта. Ожидать в этот час, что кто-то полезет сюда, почти не приходится. Безмолвие, повисшее в комнате, лишь подчеркивается негромким, скрежещущим дыханием Баркентина.
Едва успев осознать выгоды, сопряженные с поджогом нечесаного существа, раскорячившегося перед ним наподобие карлика, Стирпайк извлек из ножен клинок и занес его так, что стальное острие замерло в дюйме от Баркентиновой шеи, прямо под ухом.
Теперь, когда молодой человек оказался так близок к выполнению омерзительного, кровавого деяния, что-то вроде холодного, ядовитого бешенства пронзило его. Быть может, в душе Стирпайка на миг шевельнулись иссохшие корни давно заглохшей совести. Быть может, в жгучую эту секунду он против воли своей вспомнил, что убийство неотделимо от чувства вины; а может быть, само это недолгое, мимолетное смятение воли стало причиной того, что лицо его исказилось ненавистью, подобно тому, как замерзшее море внезапно оживляется буйством неукротимой воды. Миг спустя лицо Стирпайка вновь стало белым, смертельно спокойным. Лезвие клинка дрогнуло под изгрызенным временем ухом. И застыло.
И тут – нате вам – кто-то стукнул в дверь. Старая голова повернулась на звук – но в сторону от острия, так что Стирпайк и его оружие остались незамеченными.
– В черную геенну тебя, кто бы ты ни был! Не желаю я видеть сегодня никакого сукина сына!
– Прекрасно, сударь, – произнес приглушенный дверью голос, затем послышались негромкие шаги и все опять стихло.
Баркентин повернул голову назад, поскреб живот.
– Наглый бычий рожон, – громко забормотал он. – Я его отучу ухмыляться! Отучу ухмыляться эту белую образину! Я ей блеску-то поубавлю! Клянусь желчью мула, слишком уж она сияет. «Прекрасно, сударь» – так он сказал, а? Чего прекрасно-то? Чего прекрасно? Червяк обоссанный, выскочка! – И Баркентин снова заскребся – в чреслах, ягодицах, брюхе, ребрах. – У, сосущий огонь, – воскликнул он, – так и теснит мне сердце! И граф еще этот, щенок щенком. И графиня, свихнувшаяся на котах. А у меня ни одного ученика, кроме этого выскочки, этого ублюдка Стирпайка.
Молодой человек – клинок с холодным, острым, как игла, острием прекрасно нацелен – поджал губы и щелкнул языком. На этот раз Баркентин оглянулся через левое плечо, отчего и получил полдюйма стали в шею, прямо под ухом. Тело его жутко закоченело, горло раздулось от подобия вопля, но вопль не изошел из него. Однако, когда Стирпайк вытянул лезвие, и струйка темной крови проложила себе путь по морщинистому рельефу черепашьей шеи, старческое тело вдруг обрело судорожную подвижность, каждая часть его задергалась, безотносительно, казалось, к тому, что происходило с прочими. Чудо еще, что старик сумел усидеть в высоком кресле. Впрочем, судороги его неожиданно прервались, и Стирпайк, отступивший, обхватив подбородок ладонью, назад, заледенел, – даром что на лице его застряло подобие улыбки, – увидев выражение смертельной ненависти, жутчайшее из тех, какие когда-либо обращали лицо старика в змеиное гнездо. Глаза Баркентина расширились, переполненные; мерзкие воды их, казалось, озарил румянец злобной зари. Ярость увлажнила нечистые лоб и шею.
Но за всем этим стоял ум. Ум, который успел на шаг опередить улыбавшегося Стирпайка, отняв у него начальное преимущество. Ибо старик мог еще завладеть хотя бы одной вещью, без коей он и вправду остался бы совершенно беспомощным. С самого начала Стирпайк совершил ошибку. И Баркентин, который, оттолкнувшись от кресла, кучей свалился на пол, взял молодого человека врасплох. Старик рухнул на вещь, составлявшую единственную его надежду. Вещь эта упала, когда Баркентин замер от укуса клинка, и теперь старик молниеносным движением схватил свой костыль, поднялся и отпрыгнул за спинку кресла, и уставил сквозь ее прутья багровый взгляд на вооруженного, проворного врага.
Сила духа старого тирана была так велика, что Стирпайк, на стороне которого были молодость, оружие и две здоровых ноги, поразился, уразумев, сколько страсти способно вместить столь иссохшее, чахлое существо. Поразился он и тому, что его обхитрили. Верно, поединок даже теперь оставался до смешного неравным – дряхлый калека с костылем против силача с клинком – и все же, если б Стирпайк первым делом позаботился убрать костыль, старик был бы сейчас беспомощен, как перевернутая кверху брюхом черепаха.
Несколько мгновений враги вглядывались один в другого: лицо Баркентина отражало все раздирающие старика чувства, лицо Стирпайка – никаких. Затем молодой человек, не спуская со своей жертвы глаз, стал медленно отступать к двери. Он не хотел рисковать. Баркентин уже показал, как много в нем прыти.
Достигнув двери и открыв ее, Стирпайк быстро оглядел безмолвный коридор. Одного взгляда хватило ему, чтобы понять – никого поблизости нет. Закрыв спиною дверь, Стирпайк стал подступать к креслу, сквозь прутья которого на него уставился карлик.
Молодой человек с полоской стали в руке приближался, неотрывно глядя на свою жертву, но при этом помышления его были сосредоточены на подсвечнике.
Враг и понятия не имел, насколько близок он от того, что способно спалить его дотла. Три язычка пламени трепетали над оплывающим воском. Он вдохнул в них, в три мертвых куска воска, жизнь. И им предстояло обратиться против него. Но не сию секунду.
Смертоносное приближение Стирпайка продолжалось. Что мог ему сделать калека? На мгновение спинка кресла частью заслонила Баркентина. И тут, голосом, странно не вяжущимся с бесноватым выражением его лица, ибо голос этот был холоден, как лед, старик произнес всего одно слово:
– Изменник.
Он сражался не за одну только собственную жизнь. Единственное это слово, оледенившее воздух, обозначило то, о чем Стирпайк позабыл: восставая на своего врага, он восстает на Горменгаст. Живой пульс бессмертного замка был перед ним.
Ну и? Это означало лишь, что Стирпайку надлежит сохранять осмотрительность. Следует выдерживать расстояние до минуты, в которую он сможет броситься в атаку. И Стирпайк продолжал подступать – и в миг, когда следующий шаг сделал бы его уязвимым для костыля Баркентина, отпрянул вправо, пробежал к дальнему концу стола, бросил рапиру на сваленные там книги и в одно движение вынув из кармана и раскрыв нож, метнул его сквозь пламя свечей в поворотившегося к врагу Баркентина. Нож, как того и хотел Стирпайк, пригвоздил правую ладонь старика к древку костыля. И в миг, когда изумление и боль обуяли Баркентина, Стирпайк вспрыгнул на стол и вихрем пронесся по нему. Прямо под ним ослепший от ярости карлик пытался выдернуть нож. Стирпайк же единым махом схватил подсвечник и, резко наклонясь, мазнул язычками пламени по задранному кверху лицу. Палящий огонь сразу окатил безжизненную бороду, а следом вспыхнуло и прогнившее тряпье на плечах старика.
И опять-таки, уже зажатый в тисках смертной агонии, мозг Баркентина мгновенно откликнулся на обращенный к нему призыв. Нож еще торчал в руке старика, хоть костыль и упал, – а Баркентин, уже позабывший о нем, со сверхчеловеческим усилием согнул единственное свое колено и, распрямив его, как пружину, прыгнул и вцепился в одежду Стирпайка. Едва успев ухватиться за нее, Баркентин, до предела напрягая руки, вскарабкался, словно огненная обезьяна, по телу молодого человека. И вот он уже впился в поясницу Стирпайка, и огонь тут же охватил одежду молодого врага его. Жгучая боль, растекавшаяся по лицу и груди старика, лишь умножала его силы. Он знал, что умрет. Но и предатель умрет вместе с ним – и к муке Баркентина примешивалось подобие ликования – ликования, порожденного «праведностью» его мести.
Стирпайк же в стараниях освободиться отрывал от себя пылающую пиявку, старался выпрямиться, и на лице его читалась безумная смесь гнева, изумления и отчаяния.
Платье его перенимало огонь не так быстро, как истертая до ветоши мешковина старика, но и оно уже занялось, и пламя, лизавшее щеку и шею Стирпайка, обливало их багрецом. И чем пущие усилия прилагал он, чтобы освободиться, тем с пущей лютостью стискивали его поясницу руки старика.
Если бы кто-то открыл сейчас дверь, он увидел бы светящегося в темноте, бьющего ногами, топчущего разбросанные по столу священные книги молодого человека с натужно корежащимся, как у припадочного, телом, увидел бы, как его дрожащие руки сдавливают черепашью шею горящего карлика – увидел бы судорогу, свергнувшую обоих с края стола, так что они дымящейся грудой рухнули на пол.
Даже теперь, когда боль и ужас продирали Стирпайка, в душе его хватало места для горестного стыда, порожденного неудачей. Он, человек сверхизобретательный, холодный, безупречный организатор, изгадил все дело. Какой-то вшивый семидесятилетний старик перехитрил его. Но стыд этот преображался в ярость отчаяния, в бешенство.
В подобии судороги, в свирепом порыве воли он ухитрился встать на колени, а после, рывком – и на ноги. Ему пришлось выпустить горло врага, и с миг Стирпайк простоял, качаясь, свесив по сторонам тела руки, ощущая такую боль от ожогов, что он, сам того не сознавая, стенал, точно проклятая душа. Стенания эти никак не были связаны с его не знающей жалости натурой. То было нечто телесное. Стенало тело. Мозг об этом не знал.
Распорядитель Ритуала вцепился, будто вампир, в его грудь. Старческие руки обвивали Стирпайка. На искореженном мукой лице Баркентина мешалось с болью сатанинское счастье. Старик сжигал изменника в собственном пламени. Сжигал нечестивца.
Но с каким бы неистовством ни стискивал его хозяин, нечестивец вовсе не собирался приносить себя в жертву, пусть даже смерть его была заслуженной и справедливой. Он дал себе передышку лишь для того, чтобы набраться сил. Опустил руки лишь потому, что умел в непостижимой мере владеть собой. Он знал, что не сможет вырваться из объятий фанатика. И оттого он с миг простоял, выпрямившись, в наполовину сгоревшей одежде, откинув назад голову, чтобы по возможности дальше отвести лицо от языков пламени, поднимавшихся, словно буйная поросль, с прилипшего к нему, обугливающегося существа. Способность простоять хоть мгновение в положении столь ужасном – постоять, глубоко вздохнуть, расслабить мышцы рук, – все это требовало почти нечеловеческого владения волей и чувствами.
Обстоятельства стали неуправляемыми настолько, что выбора у него не имелось. Дело шло уже не об убийстве Баркентина. Нужно было спасать себя. Планы его расстроились, возврата к ним не было. Он горел.
Оставалось только одно. Как ни обременяло его тело старика, руки и ноги Стирпайка были еще свободны. Он понимал, что у него есть лишь несколько секунд, за которые он сможет что-либо предпринять. Голова кружилась, тьма наполняла ее, и все-таки он побежал, на манер морской звезды раскинув в стороны горящие руки, побежал по головокружительной кривой дурноты в дальний конец комнаты – к прямоугольнику ночного мрака. Миг – и враги оказались рядом с окном, на фоне беззвездного неба, освещенные, точно демоны, собственным жаром; и вот, они уже сгинули. Стирпайк перескочил подоконник и рухнул со своим одержимым яростью бременем в черную воду рва. В небе не было звезд – только схожая с обрезанным ногтем луна бестелесно и низко плыла над северным горизонтом.
В глубине страшных вод рва наши герои, теряя сознание, все еще двигались, как единое существо, как некий отвратительный, аллегорический подводный зверь. Над ними шипела пробитая их телами вода, поднимался невидимый в темноте пар.
Когда Стирпайк, после того, что вспоминалось ему потом как собственная смерть, вынырнул, наконец, на поверхность, то обнаружил, что он все еще не один: нечто цеплялось за него под водой, – и тут его вырвало, и он вдруг завыл. Однако ночной кошмар продолжался, и на вой его никто не ответил. Он все еще не проснулся. Но тут его продрала дикая боль от ожогов, и молодой человек понял, что не спит.
Только тогда он и сообразил, что следует делать. Нужно держать обуглившуюся, безволосую голову, бившуюся о его грудь, держать под водой. Впрочем, ухватиться за морщинистое горло было не так-то просто. Жидкая грязь пенилась вокруг, и груз, несомый Стирпайком, покрывала, как и руки его, илистая слизь. Мерзкие пальцы держали его с цепкостью щупальцев. Чудо, что он не пошел, точно камень, ко дну; быть может, густота воды, быть может, отчаянные удары ног Стирпайка в ее застойных глубинах помогли ему остаться на плаву достаточно долго.
Постепенно, неумолимо, он оттянул старую голову назад, яростные пальцы его стиснули жилистое горло: он вдавливал эту голову вниз, в черную воду, пока не стали всплывать пузыри, и басовитое хлюпанье взбаламученной воды не наполнило пустоту вслушивающейся ночи.
Неизвестно, сколько времени оставалась под водой голова старика, прежде чем Стирпайк ощутил, как слабеют сжимающие его поясницу руки. Для убийцы убиение длится вечно. Но постепенно легкие Баркентина наполнились водой, сердце остановилось, и Наследственный Хранитель мудрости Гроанов, Распорядитель Ритуала соскользнул в тинистые глубины древнего рва.
Луна стояла уже высоко в небе, окруженная россыпью звезд. Нельзя сказать, что они освещали подступавшие ко рву стены и башни, но подобие сумеречного света разукрасило кромешную тьму инкрустацией, принявшей очертания башен и стен.
Обессилевшему, изнывающему от жгучей боли Стирпайку предстояло еще плыть сквозь пену и ряску – плыть, пока слизистые стены рва не разойдутся на северной стороне, уступив место слякотному берегу. Ему казалось, что стены тянутся по обеим сторонам бесконечно. Смрадная вода лезла в горло. Мерзкие водоросли липли к лицу. В нескольких ярдах впереди ничего уже не было видно, но внезапно он понял, что стену справа сменил крутой, илистый берег.
Вода стянула со Стирпайка ту немногую одежду, которую не пожрал огонь. Он был гол, обожжен, наполовину уже захлебнулся, и тело его колотил ледяной озноб, а лоб горел в лихорадочном жару.
Выползая на берег, не сознавая, что делает, зная только, что нужно найти место, где нет ни огня, ни воды, Стирпайк достиг, наконец, полоски грязи, из которой росло несколько пышных папоротников и питающихся илом растений, и там (теперь, когда со всеми делами покончено) позволил себе лишиться чувств, обвалившись во тьму.
Так он лежал без движения, маленький, голый, грязный, похожий на неодушевленное, выброшенное за ненадобностью существо, на извергнутую морем рыбу, над крохотным, скорченным тельцем которой встают гигантские скалы – ибо стены Горменгаста поднимались над рвом, воспаряя, подобно утесам, в высоты мглы.
ГЛАВА СОРОКОВАЯ
Пока устилавшая костлявый хребет замка пыль согревалась на солнце и птицы задремывали в тени башен, пока не было слышно почти ничего, кроме гудения повисших над простором плюща пчел, – во все это время дух леса Горменгаст задерживал в зеленой тиши полудня дыхание, как ныряльщик перед прыжком. Ни звука. Час проходил за часом, но все вокруг спало или пребывало в гипнотическом трансе. Стволы огромных дубов испещрялись медовыми тенями, гигантские сучья их тянулись, подобно рукам древних царей, тяжкие от золотых наручей, от браслетов солнца. Казалось, золотистому дню не будет конца, но вот что-то упало с высокой ветки, и легкий шелест пробитой листвы пробудил окрестности. Звук мгновенно рассек тишину, но рана зарубцевалась почти сразу.
Но что же упало в безмолвие? Даже древесная кошка, и та подумала бы, прежде чем рухнуть с такой высоты в зеленую мглу. Впрочем, то была вовсе не кошка – некто в человеческом облике стоял, окрапленный лиственной тенью: девочка с накоротко обрезанными густыми волосами и лицом, весноватым, как птичье яйцо. Тело, тонкое, – в сущности, тощее, – показалось, когда девочка стронулась с места, лишенным веса.
Совершенно неописуемое лицо – правду сказать, пустое. Словно бы некая маска укрыла его, ни приятная, ни отталкивающая – скорее таящая, чем выдающая ход мыслей. И все-таки, хоть в лице девочки и отсутствовало что-либо способное запасть в память, голова ее так сидела на шее, а шея была с таким совершенством прилажена к тонким плечам, и все движения ее были до того выразительны в своем взаимосогласии, что лицо совсем не казалось лишенным живости, – напротив, обладай оно собственной жизнью, это уничтожило бы присущую девочке нездешнюю отрешенность.
С миг девочка простояла, совсем одна в задремавшей дубраве, а после странно быстрыми движеньями пальцев начала ощипывать дрозда, которого прихватила с ветки при долгом падении сквозь листву и удушила в маленькой жестокой ладони.
ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ
Глиняный город Внешнего Люда, окружавший наружные стены замка Горменгаст, лежал, раскинувшись под солнцем, и тысячи лачуг его вырастали из земли, как кротовые кочки. У этих Внешних, или Блистательных Резчиков, как их еще иногда называли, имелись свои ритуалы, чтимые так же свято, как ритуалы замка.
Ожесточенные бедностью, мучимые всеми немочами, что порождаются грязью, они, тем не менее, были людьми гордыми, даже нетерпимыми. Если бы кто-то из их числа покинул город и обрел богатство и славу, они ощутили бы стыд, унижение. Но и возможность такая была немыслимой. Сама их безвестность, сама безымянность питала в сердцах Внешних гордыню. Все прочие стояли ниже их – не считая только рода Гроанов, которому они принесли клятву верности и благодаря покровительству которого получили возможность лепиться к Внешним Стенам. Когда с верхушек этих стен спускали на веревках огромные мешки с хлебными корками, порой по тысяче за раз, их (то был освященный временем жест со стороны замка) принимали со своего рода издевкой. Это они, Блистательные Резчики, оказывали замку честь; это они снисходили до того, чтобы каждое утро снимать с крюков наполненные мешки и отправлять наверх пустые. И глотая каждый кусок сухих этих корок (составлявших вместе с ярловыми корнями из ближнего леса альфу и омегу их стола), они преисполнялись сознанием, что жалуют своим вниманием замковых пекарей.
Возможно, то была гордыня приниженных – компенсация в своем роде, – однако для них она оставалась более чем реальной. Да и произрастала она не на пустом месте, поскольку одни только изваяния Блистательных Резчиков в полной мере доказывали их гениальность по части цвета и орнамента, коей внутренней жизни Замка противопоставить было нечего.
Сколь ни ожесточены и неразговорчивы были Внешние в древних своих распрях, самая жгучая злоба их изливалась не на живущих внутри стен, но на тех из собственного их числа, кто так или иначе пренебрег их обычаями. Ядро нескладной, ни на что не похожей жизни этого народа составляла твердая, как железо, ортодоксия. Условности их были словно скованы льдом. Провести среди них хотя бы день, не осведомясь прежде о бесчисленных этих условностях, – значило навлечь на себя беды наихудшего толка. Бок о бок с омерзительным несоблюдением простых физических приличий жило в них ханжество, злое и неколебимо жестокое.
Быть незаконнорожденным означало для ребенка быть ненавидимым – источником некой заразы. Но и не только это. Рожденного вне брака ребенка побаивались. Бытовала крепкая вера в то, что дитя любви в некоем смысле порочно. Мать его неизменно изгоняли, но страшились именно ребенка – в сущности говоря, в нем видели зародыш колдуна или ведьмы.
Однако убивать его не убивали – никогда. Потому что убить можно лишь тело. А после призрак будет вечно терзать убийцу.
В облюбованный мухами проулок под изгибом Внешней Стены оседали, подобно цветочной пыльце, сумерки. Мгла сгущалась мало-помалу, пока не затопила и сам проулок, и кривые тростниковые крыши.
Вдоль стены этого проулка, или прохода, рядком сидели на корточках нищие. Казалось, они вырастают из пыли, в которой сидят. Пыль покрывала их зады и лодыжки. Она походила на серое, мертвое море. И по морю этому словно катился прилив – прилив мягкой пыли. Сладостно тонкой и перистой.
Вот в этой общей сизой пыли они и сидели, подпирая спинами нагретые солнцем стены лачуг. То были предметы их роскоши – мягкая пыль и загустелый от мух воздух.
Сидя безмолвно, пока опускалась ночь, они не отрывали глаз от людей по другую сторону проулка – от тех, кто, завершив дневные труды, собирал теперь свои долота, рашпили, киянки и растаскивал их по домам.
Год назад у Блистательных Резчиков не имелось нужды укрывать на ночь в домах свои изваяния. Ночь за ночью те так и стояли на улицах. Никто и никогда их не трогал. Нет, даже самый подлый вандал не посмел бы прикоснуться к чужой работе или переделать в ней хоть какую-то малость.
Теперь же все изменилось. Теперь изваяниям грозила опасность. Случилось нечто ужасное. И потому нищие у стены наблюдали, как уносят деревянные статуи. Это творилось уже двенадцать месяцев, вечер за вечером, а они все не могли привыкнуть. Не могли освоиться с происходящим. Всю жизнь они видели свет луны в пустынных проулках и выстроившиеся вдоль них деревянные изваяния, стывшие, как часовые, у каждой двери. А ныне после наступления темноты улицы лишались души – биение жизни, красота покидали их.
Вот нищие, охваченные горестным изумлением, и наблюдали в сумерках за людьми помоложе, кои, натужась, растаскивали по домам своих, нередко весьма увесистых, коней с гривами, подобными сгусткам замерзшей пены, или конопатых богов леса Горменгаст со странно отвернутыми в сторону лицами. Наблюдали и знали: напасть поразила единственное дело, ради которого жили Блистательные Резчики.
Они ничего не говорили, нищие, но, пока они сидели в мягкой пыли, в глубине сознания каждого мрел образ девчонки. Незаконного чада, отверженной, не прожившей еще и двенадцати лет, но уже ставшей воронихой, змеей, ведьмой – всем сразу – и грозящей бедой им всем и их изваяниям.
Впервые это случилось год назад – первое ночное нападение, тайное, тихое и страшное своей мстительностью.
Одну из больших скульптур нашли на рассвете валявшейся со множеством рваных ножевых ран, лицом в пыли; к тому же, исчезло немало скульптур помельче. С того первого злого, беззвучного покушения было обезображено два десятка работ, а сотни изваяний, не превышавших размером ладони, но редкостных по исполнению, ритму и краскам, оказались украденными. Сомнений в том, чьих это рук дело, не питал никто. Это она, Та. Девочка, от которой со дня самоубийства ее матери всякий старался держаться подальше, ставшая для Внешнего Люда бельмом на глазу. Та, что способна перепархивать с проворством дикого зверя, вороватая от природы – еще до того, как сбежала, она обратилась в легенду, в олицетворение зла.
Она всегда оставалась одна. Казалось немыслимым, что кому-то придет в голову водить с ней знакомство. В самостоятельности ее не было ни единого уязвимого места. Она воровала еду, шныряла, как тень, по ночам – лицо, полностью лишенное выражения, конечности быстрые и легкие, как ореховый прут. Иногда она по месяцам пропадала где-то, потом вдруг возвращалась и скакала с крыши на крышу, оскверняя вечерний воздух резкими издевательскими воплями.
Внешние кляли день, в который родилась Та, не умеющая говорить, но умеющая взбежать, как поговаривали, по голому стволу дерева, умеющая пролетать десятки ярдов на крыльях высокого ветра.
Кляли они и мать, ее породившую, – Киду, смуглую женщину, которую призвали в замок, чтобы она вскормила грудью младенца Титуса. Они проклинали мать, проклинали дитя – и боялись – боялись сверхъестественного и трепетали в благоговейном страхе, поскольку неукротимая Та приходилась молочной сестрой Графу, лорду Гроану из Горменгаста, Титусу Семьдесят Седьмому.
ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ
Когда к Стирпайку вернулось сознание, а вместе с ним и кошмар того, что пришлось пережить, – вернулось мгновенной вспышкой боли, ибо оставленные огнем язвы жгли его тело, – он поднялся и, будто увечный калека, приковылял в ночи к дому Доктора. Два-три раза ударив в дверь головой – руки были обожжены, – он снова лишился чувств и только через три дня, открыв глаза, увидел над собой потолок маленькой комнатки с зелеными стенами.
Долгое время он ничего припомнить не мог, но мало-помалу обрывки воспоминаний о неистовом вечере сложились в целостную картину.
С великим трудом повернул он голову и увидел слева от себя дверь. Справа находился камин, а впереди, под самым потолком, – изрядных размеров окно с наполовину опущенными шторами. Увидев сумрачное небо, он понял, что сейчас либо вечер, либо рассвет. В проеме занавесей виднелась часть башни, но Стирпайк ее не признал. Он и понятия не имел, в какой части замка находится.
Опустив глаза, Стирпайк увидел, что забинтован с головы до ног, и боль, словно пробужденная этим напоминанием, вернулась, став еще острее. Он закрыл глаза и постарался выровнять дыхание.
Баркентин мертв. Он убил старика. Однако теперь, когда он, Стирпайк, стал необходимым и незаменимым, оставшись единственным наперсником старого хранителя закона, – теперь он лежит здесь, обездвиженный, беспомощный, бесполезный. Таково возмездие – это крушение его планов, итог слишком поспешных, самоуверенных действий. Что ж, тело его мало на что способно, но разум жив и изобретателен.
И все-таки Стирпайк изменился. Да, ум молодого человека сохранил былую остроту, однако, хоть он того и не знал, нечто новое добавилось к его натуре или, быть может, она лишилась чего-то.
Самомнение его было потрясено в самых своих основаниях настолько, что это повлекло за собой перемены – перемены, о которых Стирпайк пока не догадывался, поскольку логический ум его твердил: какой бы безумный промах ни совершил он в комнате Баркентина, о позоре этом известно только ему, а унижение, им испытанное, – частное его дело; да, ему стыдно, но только перед собой, потому что никто больше не знает, насколько проворен оказался старик.
Ожоги, которые получил Стирпайк, были слишком высокой ценой за его достижения. И все-таки достижения-то остались при нем. Чем тяжелее его состояние, тем, значит, редкостнее отвага, явившая себя в попытках спасти старика от огня. Престиж его не пострадал – рот Баркентина забит илом рва и ничего засвидетельствовать не может.
И все-таки что-то переменилось: когда час спустя его пробудили некие звуки в комнате, и Стирпайк, приоткрыв глаза, увидел пламя в камине, он забился и закричал, и пот окатил его лицо, и вытянутые вдоль тела забинтованные руки задергались.
Долгое время Стирпайк пролежал, содрогаясь. Ощущение, коего он не испытывал прежде, подобие ужаса приникло к нему, если не проникло в него. Стирпайк отбивался, пуская в ход все запасы своей бесспорной храбрости. И в конце концов, вновь провалился в глубокий сон, а проснувшись и еще раз открыв глаза, понял, что он не один.
В изножье его кровати стоял доктор Прюнскваллор. Стоял спиной к Стирпайку, склонив голову набок и словно разглядывая в окно башню, теперь испещренную солнцем и тенями летучих облаков. Наступило утро.
Стирпайк открыл глаза, увидел Доктора и сразу закрыл их. Ему хватило мгновения-другого, чтобы понять, как себя вести, и он замотал туда-сюда головой по подушке, как бы в тревожном сне…
– Я пытался спасти тебя, – шептал он. – Ах, Учитель, я пытался спасти тебя… – Тут он застонал.
Прюнскваллор развернулся на каблуках. На причудливом, точеном лице его отсутствовало столь обычное для Доктора шутовское выражение. Губы его были сжаты.
– Пытались спасти кого? – спросил Прюнскваллор – резко, словно желая силком выбить из спящего невольный ответ.
Однако Стирпайк, сдавленно похрипев, произнес голосом уже более ясным:
– Я пытался… пытался…
Он еще помотал головой по подушке и, будто бы пробудившись, снова открыл глаза.
С миг взгляд его оставался пустым, а затем:
– Доктор, – сказал он, – я не смог его удержать.
Прюнскваллор не ответил сразу – он нащупал пульс забинтованного больного, послушал сердце и, помолчав, сказал:
– Завтра расскажете мне обо всем.
– Доктор, – выдавил Стирпайк, – лучше сейчас. Я слаб, могу только шептать, но я знаю, где Баркентин. Он лежит, мертвый, во рву под окном своей комнаты.
– И как он туда попал, господин Стирпайк?
– Я расскажу вам. – Стирпайк, томимый ненавистью к вкрадчивому врачу, ненавидя его с неразумной силой, закатил глаза. Казалось, смерть Баркентина напитала его способность ненавидеть новым топливом. Однако голос больного оставался, как то и следует, тихим.
– Я расскажу вам, Доктор, – прошептал он. – Расскажу все, что знаю.
Голова его откинулась на подушку, он сомкнул веки.
– Вчера, или на прошлой неделе, или месяц назад – не знаю, сколько времени я пролежал тут без движения, – я вошел к Баркентину часов около восьми, как обыкновенно делал по вечерам. В это время он отдавал мне распоряжения на следующий день. Он сидел в высоком кресле, и когда я вошел, как раз зажигал свечу. Не понимаю, почему, но мой приход испугал его – я как будто застал старика врасплох, и когда он обернулся ко мне, первым делом меня обругав, – в этом не было злобы, одна раздражительность, – то не рассчитал расстояния, отделявшего его от пламени, промахнул по нему бородой, и та мгновенно вспыхнула. Я бросился к нему, но волосы и одежда старика уже занялись. В комнате не было ни тряпок, ни занавесей, чтобы притушить огонь. Не было и воды. Я сбивал пламя руками. Однако оно расходилось все пуще, и старик от боли и ужаса вцепился в меня, так что и я загорелся.
Зрачки молодого человека расширились от воспоминаний, лишь отчасти подложных, – вцепившийся в него Баркентин был отнюдь не фантазией, и лоб Стирпайка вновь покрыла испарина, а жуткая достоверность пережитого сообщила весомость его словам.
– Мне не было спасения, Доктор: горящее тело впилось в меня и держало. С каждым мигом огонь становился все более жгучим – ожоги все более страшными. Чтобы спастись, мне оставалось только одно. Я понял, что должен добраться до воды, стоявшей у него под окном. И я побежал. Я бежал, а он цеплялся за меня. Я добежал до окна и выпрыгнул в ров – и там, в черной, холодной воде, руки его, наконец, меня отпустили. Я не смог его удержать. Я смог лишь добраться до края рва и, похоже, лишился сознания, – а когда пришел в себя, то увидел, что гол, и после как-то дополз до ваших дверей… но только нужно спустить из рва воду и найти старика… приличия требуют, чтобы его отыскали и похоронили, как полагается. Я, я сам должен теперь принять на себя его труды. Я… я… не могу сказать… вы еще… я… не… могу…
Стирпайк отвернул голову и, хоть боль разрывала его, заснул. Он разыграл свою карту и мог позволить себе отдохнуть.
ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ
– Дорогая моя, – сказал Кличбор, – пойми, твой суженый не должен ждать тебя так долго, пусть даже он всего лишь Школоначальник Горменгаста. Боже мой, почему ты всегда так опаздываешь? Черт побери, Ирма, я же не юнец, который, прокисая под моросью, спадающей с вонючего неба, находит оную романтичной. Ради всего святого, где тебя носило?
– Я вовсе не собираюсь отвечать на твой вопрос! – воскликнула Ирма. – Как это унизительно! Разве тебе безразлично, что я хочу гордиться своей внешностью, что должна приходить к тебе прекрасной? Ты же мужчина. Ты разбиваешь мне сердце!
– У меня нет обыкновения жаловаться по пустякам, любовь моя, – ворчливо ответил Кличбор. – Как я уже сказал, я не в состоянии выносить, подобно юнцу, дурную погоду. Ты сама выбрала место нашего свидания. Вряд ли кто-нибудь смог бы выбрать худшее: тут и присесть-то не на что, кроме колючих кустов. Грядет ревматизм. Ноги мои промокли. И почему? Потому что моя нареченная, Ирма Прюнскваллор, дама, обладающая совершенно исключительными дарованиями, вот только направлены они куда-то не туда – вечно куда-то не туда, – та, у которой имелся в запасе весь день для выщипывания бровей, целого урожая длинных седых волос, кои она увязывает в снопы и так далее, – не способна сорганизоваться настолько, чтобы уложиться во время, – или она обзавелась по отношению к своему поклоннику тем, что мы могли бы назвать пренебрежением? Не назвать ли нам сие пренебрежением, моя дорогая?
– Никогда! – воскликнула Ирма. – О нет, мой милый, никогда! Только одно задержало меня за туалетом – я хотела, чтобы ты счел меня достойной себя. Ах, дорогой, ты должен простить меня. Ты должен меня простить.
Кличбор великолепными складками собрал вкруг себя мантию. Произнося свою тираду, он взирал в угрюмое небо, но теперь обратил, наконец, благородное лицо к Ирме. Окрестный пейзаж заволакивался дождем. Ближайшее дерево, отделенное от них двумя полями, выглядело размытым серым пятном.
– Ты просишь простить тебя, – сказал Кличбор. Он закрыл глаза. – И я прощаю, прощаю. Но помни, Ирма, пунктуальность – вот что порадует меня в жене. Возможно, тебе стоит поупражняться, чтобы, когда настанет время, мне не на что было жаловаться. Теперь же забудем об этом, ладно?
Он отвернулся, поскольку не успел еще научиться делать ей реприманды и не улыбаться при этом жалкой улыбкой радости. И потому, отвернувшись, он оскалился, показывая гнилые зубы далекой живой изгороди.
Ирма, приступая к прогулке, взяла его под руку.
– Дорогой мой, – сказала она.
– Любовь моя? – отозвался Кличбор.
– Теперь моя очередь жаловаться, верно?
– Теперь твоя, любовь моя! – Задрав львиную голову, он упоенно стряхнул с гривы капли дождя.
– Ведь ты не против, дорогой?
Кличбор возвел брови и прикрыл глаза.
– Не против, Ирма. Что ты хотела сказать?
– Я о твоей шее, бесценный мой.
– О шее? А что с ней такое?
– Она такая грязная, дорогой. Похоже, уже не одну неделю… тебе не кажется, дорогой?..
Кличбор замер. И оскалил в бессильном рычании зубы.
– О, смрадный ад, – пробормотал он. – О вонючий, о гнусный ад!
ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ
Уже больше часа сидел господин Флэй у входа в свою пещеру. Воздух был бездыханен, три облачка целый день провисели в нежно-сером небе.
У него отросла длинная борода, волосы, некогда остригавшиеся короче короткого, теперь свисали до плеч. Кожа посмуглела под солнцем, невзгоды последних нескольких лет прибавили морщин на его лице.
Он обратился в часть леса, зрение его обострилось по-птичьи, слух соответственно утончился. Поступь стала бесшумной. Исчез даже треск коленных суставов. Быть может, летний зной выжег эту напасть – лохмотья Флэя обрели окончательное сходство с листвой, так что колени его были теперь почти целиком подставлены солнцу.
Возможно, Флэй и создан был для жизни в лесу – столь гармонично растворился он в мире ветвей, папоротников, ручьев. И однако ж, при том, что он окончательно сжился с лесом, при том, как приязненно впитали в себя Флэя бескрайние чащобы, словно обратившие его в еще одну свою ветвь, – при всем том, помыслы старика никогда не удалялись от мрачного нагромождения камней, остававшегося, сколь ни погибельны и запретны были они для Флэя, единственным домом, какой он когда-либо знал.
Впрочем, как Флэй ни жаждал возвратиться в места своего рождения, он вовсе не был сентименталистом в изгнании. Когда мысли его обращались к замку, они ни в коей мере не походили на мечтания и грезы. То были тяжкие, тревожные думы, ничуть не тяготевшие к воспоминаниям о ранних днях, но обращенные к природе вещей, какой бы та ни была. Флэй так и остался традиционалистом до мозга костей – не меньшим, чем Баркентин. Он всем нутром своим чувствовал, что жизнь замка приняла дурной оборот.
Но имелись ли у него шансы прикоснуться к пульсу башен и зал? На чем, кроме болотных огоньков интуиции и врожденной угрюмости, основывались его подозрения? Не на одном ли врожденном пессимизме да страхе, естественным образом усилившемся за годы изгнания, – страхе, что без него замок ослабнет?
Все так или почти что так. И однако ж, будь его страхи лишь головными, он нипочем не предпринял бы – за последние двадцать дней – целых трех противозаконных походов в замок. Ибо Флэй побродил по ночным коридорам Горменгаста и хоть ничего осязаемого не обнаружил, почти мгновенно ощутил перемену. Что-то произошло, и происходило прямо сейчас – что-то злое, губительное.
Он хорошо сознавал, что очень и очень рискует тем, что его, изгнанника, застанут в замке, что шансы отыскать в темноте спящих зал и проходов причину его тревог необычайно малы. И все же решился нарушить – в одиночку – букву закона Гроанов, дабы понять, не поразила ль его самого, чего он давно уже опасался, душевная болезнь.
И вот теперь он сидел, наполовину укрытый папоротником, разросшимся у входа в пещеру, и раз за разом прокручивал в голове события, которые в последние несколько лет так или этак вскормили в нем подозрения по части совершающихся в замке преступлений, – и вдруг ощутил, что за ним наблюдают.
Он не услышал ни звука – просто некое шестое чувство, обострившееся за годы жизни в лесу, предупредило его. Как будто кто-то легко пристукнул Флэя по спине между лопатками.
Взгляд его мгновенно пронесся по окрестному ландшафту, и Флэй сразу увидел их, застывших справа от него на краешке поляны. И немедля признал, хоть девочка выросла так, что стала почти незнакомой. Возможно ли, что они его не узнали? Сомнений нет, они разглядывают его. Флэй позабыл, что выглядит теперь совсем иначе, особенно для Фуксии, – с его седыми космами, бородой и обратившейся в лохмотья одеждой.
Но вот они побежали к нему, и Флэй встал и пошел по камням навстречу детям.
Фуксия первой признала костлявого изгнанника. Девушка, едва перевалившая за двадцать, она остановилась перед ним, странно печальная, полная любви, боязни, отваги, гнева и нежности. Чувства эти так жгли ее сердце, что совокупление столь пылких страстей в одном человеке казалось просто нечестным.
Для Флэя она стала откровением. Всякий раз, вспоминая Фуксию, он видел ее ребенком – и вдруг эта девочка явилась ему в облике женщины, разрумянившейся, взволнованной, неотрывно глядевшей на него, упершей, пытаясь совладать с дыханием, руки в бедра.
Господин Флэй почтительно склонил перед гостьей голову.
– Светлость, – сказал он, но прежде чем Фуксия успела ответить, подлетел с упавшими на глаза волосами Титус.
– Говорил я тебе! – запыхтел он. – Говорил, что нашел его! Что у него борода, что он построил запруду, а там вон пещера, в которой я спал, пока он стряпал, и… – Титус умолк, переводя дыхание, и следом: – …Здравствуй, господин Флэй. Ты здорово выглядишь, совершенный дикарь!
– А! – ответил Флэй. – Вполне возможно, светлость. Жизнь тут суровая, что говорить. Больше дней, чем обедов, светлость.
– Ах, господин Флэй, – сказала Фуксия, – как я рада снова свидеться с вами – вы всегда были ко мне так добры. Вы не болеете здесь, совсем один?
– Ничего он не болеет! – сказал Титус. – Он же вроде как лесной человек. Верно, господин Флэй?
– Похоже на то, светлость, – согласился Флэй.
– Ой, ты был совсем маленький, Титус, ты ничего не помнишь, – сказала Фуксия. – А я помню все. Господин Флэй был первым слугой отца – самым главным из всех, правда, господин Флэй? – пока отец не пропал…
– Да знаю я, – сказал Титус, – слышал на уроках от Кличбора – мне все про это рассказали.
– Что они могут знать! – откликнулся Флэй. – Совсем ничего, светлость.
Он повернулся к Фуксии и снова склонил голову.
– Прошу покорно в мою пещеру, – сказал он. – Отдых, тень, чистая вода.
Флэй повел их к пещере, и когда они вошли, и Фуксии показали двойной очаг, и все вдосталь напились родниковой воды, ибо им было жарко, и обоих мучила жажда, Титус прилег у папоротниковой стены, а оборванный хозяин пещеры присел пообок. Руки его легли на голени, бородатый подбородок уперся в колени, глаза неотрывно смотрели на Фуксию.
Фуксия же, хоть и заметила, что Флэй по-детски изучает ее, не хотела его смущать и улыбалась всякий раз, как глаза их встречались, однако больше оглядывала стены и потолок или, обращаясь к Титусу, спрашивала, обратил ли он, когда был здесь в прошлый раз, внимание на то или это.
И все же наступила минута, когда в пещере повисло молчание. Молчание из тех, какие очень трудно бывает нарушить. В конце концов, его нарушил, как это ни странно, господин Флэй, самый неразговорчивый из них.
– Светлость… Светлость, – произнес он, обращаясь поочередно к Фуксии и Титусу.
– Да, господин Флэй? – отозвалась Фуксия.
– Отсутствовал, светлость, в изгнании, много лет. – Флэй приоткрыл жесткие губы, словно собираясь продолжить, но, не найдя что сказать, вынужден был снова сомкнуть их. И помолчав, начал заново: – Утратил связь, леди Фуксия, вы уж простите – придется задавать вопросы.
– Конечно, господин Флэй, какие?
– Да знаю я какие, – сказал Титус. – Что приключилось после того, как я побывал здесь, что с тех пор вышло наружу, так, господин Флэй? И насчет смерти Баркентина и…
– Баркентин мертв? – неожиданно резко спросил Флэй.
– Да, – ответил Титус. – Обгорел, знаете ли, до смерти, верно, Фуксия?
– Да, господин Флэй. Стирпайк пытался спасти его.
– Стирпайк? – пробормотал долговязый, ободранный, неподвижный человек.
– Да, – сказала Фуксия. – Он очень болен. Я навещала его.
– Не может быть! – сказал Титус.
– Во-первых, я должна была, и пойду к нему снова. У него жуткие ожоги.
– Я не хочу, чтобы ты виделась с ним, – сказал Титус.
– Это почему? – Кровь начала приливать к ее щекам.
– Потому что он…
Но Фуксия не дала ему договорить.
– Что… ты… вообще… о нем… знаешь? – Медленно и тихо, но с дрожью в голосе спросила она. – Разве преступление, что он умнее всех нас? Разве его вина, что он обезображен? – И затем, торопливо: – Или что он так храбр?
Она взглянула на брата и увидела в нем, в лице его, нечто бесконечно близкое ей – отражение собственной души, так что ей показалось, будто она смотрит в свои же глаза…
– Прости, – сказала она, – но давай не будем о нем говорить.
Однако именно этого и желал Флэй.
– Светлость, – сказал он, – сын Баркентина – понимает ли он – обучен ли – Страж Грамот – Хранитель Закона Гроанов – все ли устроено?
– Никто не может найти его сына – и даже выяснить, был ли у него сын, – сказала Фуксия. – Но все устроено. Баркентин уже несколько лет как обучал Стирпайка.
Флэй вдруг вскочил на ноги, точно вздернутый вверх невидимым шнуром и, поднимаясь, в гневе отворотил лицо.
«Нет! Нет!» – беззвучно прокричал он, обращаясь к себе. А потом спросил через плечо:
– Но ведь Стирпайк болен, светлость?
Фуксия удивленно смотрела на него. Ни она, ни Титус не понимали, почему он вдруг встал.
– Да, – ответила Фуксия. – Он обгорел, когда пытался спасти охваченного огнем Баркентина, и уже несколько месяцев не покидает постели.
– И сколько еще, светлость?
– Доктор говорит, что через неделю он встанет.
– Но Ритуал! Наставления – кто их дает? Кто правит Процедурой – день за днем – кто толкует Грамоты – о, господи! – сказал Флэй, внезапно утратив способность и дальше справляться с собой. – Кто вдыхает в символы жизнь? Кто вращает колеса Горменгаста?
– Да все в порядке, господин Флэй. Все в порядке. Стирпайк не жалеет себя. Его не зря учили. Он весь забинтован и все-таки правит всем. Из постели. Каждое утро. Тридцать-сорок человек одновременно приходят к нему. Он всех опрашивает. При нем сотни книг, а стены покрыты картами и схемами. Больше никто не способен их начертить. И, лежа в постели, он неустанно работает. Работает головой.
Однако Флэй, словно давая выход гневу, ударил рукой в стену пещеры.
– Нет! Нет! – сказал он. – Он не Распорядитель Ритуала, светлость, не навсегда. Нет любви, светлость, нет любви к Горменгасту.
– А по мне, так и вовсе никакого Распорядителя Ритуала не нужно, – сказал Титус.
– Светлость, – помолчав, отозвался Флэй, – вы всего только мальчик. Нет знаний. Но Горменгаст обучит вас. Саурдуст и Баркентин, оба сгорели, – продолжал он, похоже, не сознавая, что говорит вслух, – отец и сын… отец и сын…
– Может, я всего только мальчик, – горячо произнес Титус, – но если б ты знал, как мы сюда попали, потаенным подземным ходом (который я сам нашел, правда, Фуксия?) ты бы… – Тут ему пришлось остановиться – фраза оказалась для него слишком сложной. – И знаешь, – заново начал он, – мы шли в темноте, со свечами, иногда ползли, но больше шли всю дорогу от замка, кроме последней мили, где тоннель выходит наружу, совсем незаметно, под берегом, вроде барсучьего лаза, – недалеко отсюда, – по другую сторону леса, в котором ты впервые встретил меня, так что найти твою пещеру, господин Флэй, тоже было непросто, потому что в прошлый раз я все больше на лошади ехал, а потом пешком через дубраву… и, ох, господин Флэй, неужели я все-таки видел летающее существо во сне, помнишь, я тебе рассказывал? Я иногда думаю, что во сне.
– Так и было, – сказал Флэй. – Ночной кошмар, и говорить нечего.
Похоже, ему совсем не хотелось беседовать с Титусом о «летающем существе».
– Потаенный ход в замок, светлость?
– Да, – сказал Титус, – потаенный, темный, землей пахнет, иногда деревянные брусья подпирают крышу, и муравьи повсюду.
Флэй, словно требуя подтверждения, перевел взгляд на Фуксию.
– Все так, – сказала Фуксия.
– И недалеко, светлость?
– Недалеко, – ответила Фуксия. – В лесу за ближней долиной. Там выход.
Флэй по очереди оглядел их обоих. Новость о существовании подземного хода, казалось, сильно взволновала его, хоть дети и не могли понять, почему: для них подземный ход был настоящим, опасным приключением, однако они по горькому опыту знали – то, что кажется удивительным им, взрослых, как правило, не интересует.
Между тем, господину Флэю как раз позарез нужны были подробности.
А где он начинается в замке? И никто их в коридоре статуй не видел? Смогут ли они отыскать обратный путь в этот коридор, когда тоннель выйдет в безмолвный, безжизненный мир проходов и залов? А его отвести в лес, к выходу из тоннеля, смогут?
Кончено, смогут. И не теряя времени, восторгаясь тем, что их открытие так взволновало взрослого, ибо себя Фуксия таковой все еще не считала, – они вместе с Флэем направились к лесу.
Флэй почти мгновенно увидел в открытии, сделанном ими, куда больше возможностей, чем могли вообразить себе Титус и Фуксия. Если все правда, значит в нескольких минутах ходьбы от пещеры его, Флэя, ждет, так сказать, открытая дверь, ведущая в самое сердце древнего дома, путь, которым он сможет, если захочет, пройти, когда в пяти футах над его головой яркий свет дня будет заливать леса и поля, – а стало быть, и надежда искоренить затаившееся в Горменгасте зло, выследить таковое до самых его истоков, возрастет для него многократно. Ибо до сей поры ему было отнюдь не легко добираться до замка, проделывая, иногда под луной, долгий путь от пещеры к Внешним Стенам, а от них – по дворам и открытым местам – к внутренним строениям, к тем или иным памятным ему покоям и проходам.
Если же сказанное – правда, он сможет в любое время дня и ночи выходить из-за той статуи в коридор изваяний, и суровая анатомия замка будет лежать перед ним, как на ладони.
ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ
Дни текли, и стены Горменгаста отзывались на прикосновение все большим холодом, пока лето сменялось осенью, а осень зимой – ледяной и темной. Долгими сроками дули ночью и днем ветра, выдавливая окна, расшатывая камни кладки, посвистывая и взревывая меж башен и труб, над хребтом замка.
А затем, что внушало не меньший страх, ветер внезапно стихал, и все вокруг погружалось в безмолвие. Безмолвие нерушимое, поскольку лай собаки, неожиданный лязг ведра или далекий вскрик мальчика казались реальными лишь потому, что оттеняли всемирную тишь, из которой они на миг выступали, как выставляются рыбьи головы из замерзающей воды – лишь для того, чтобы снова кануть вниз, не оставив следа.
В январе повалил такой снег, что людям, смотревшим на него из бесчисленных окон, уже не удавалось уверить себя, будто под гладким его покровом кроются очертания более острые либо краски более яркие, ибо все затопила мглистая белизна. Самый воздух задыхался от хлопьев величиною с детский кулак, а земля окрест взбухала затонувшими неровностями полузабытого ландшафта.
В окружавших замок просторных белых полях лежали или стояли, кренясь набок, закоченевшие до смерти птицы. Между ними бродили, прихрамывая, птицы еще не умершие, или вздрагивали в последнем отчаянном усилии маленькие, слипшиеся ото льда крылья.
Из окон замка ослепительный снег представлялся усеянным угольками, а поля – покрытыми, будто оспинами, телами солдат разгромленного зимою войска. Невозможно было сыскать чистой полоски снега, не искрапленой широко размахнувшейся смертью, – ни единый сугроб не обошелся без собственного кладбища.
Слепящий этот блеск делал птиц, каково бы ни было их оперение, черными, как смоль: теперь они отличались лишь очертаниями, тщательно вырезанными контурами, словно награвированными иглой, – столь тонким выглядел рисунок их шиповидных клювов, бородок перьев, изысканных когтей и голов.
Казалось, будто на бескрайнем похоронном покрове снега каждая птица этого войска отмечена тонкой, трагической артистичностью, являющей доказательство ее и только ее смерти; обозначена на языке, и не поддающемся расшифровке, и выразительном сразу – иероглифами фантастической красоты.
Снег, убивавший птиц, сам же их покрывал – касанием еще более страшным из-за его нежности. Но сколько бы слоев слепящей пороши ни ложилось один на другой, птиц, еще не перешедших порога смерти, хватало всегда – то было разрозненное, угольно-черное сонмище. И куда ни глянь, всюду виднелись они – ковыляющие, стоящие, дрожа либо утопая по грудь, проталкивающиеся в смертельной агонии сквозь роскошный смертоносный покров, оставляя за собою в снегу траншейки, указующие их путь.
И все же, сколько бы птиц ни гибло, замок был полон ими. Графиня, чье сердце сжималось при мысли о таком разливе страданий и голода, пускалась на любые хитрости, лишь бы приманить пернатых в замок. Едва только сотни расставленных вокруг него ванн и тазов затягивало ледком, как таковой разбивали. Куски мяса, хлебные крошки, зерно разбрасывались, чтобы завлечь птиц внутрь замка, где было потеплее. Но и при всех этих соблазнах, манивших в стены замка тысячи забывших от голода страх птиц – сов, цапель и даже хищников, – мертвые и умирающие все равно окружали его. Стужа обратила замок в средоточие своей лютости. В Горменгаст стягивалось пернатое население не только ближайших окрестностей – опустели и дальние леса, и болота. Общего числа пораженных снежной слепотой, изголодавшихся, смертельно уставших птиц, слетавшихся к замку – что ни час, опадавших из снежной мути небес, – более чем хватало для объяснения столь обширного списка потерь, даром что Горменгаст оставался неизменно открытым для пернатых приютом.
Графиня объявила (к большому неудовольствию всех, кого это затронуло), что трапезная преобразуется в птичий госпиталь. Здесь она, Гертруда, огромная, красноволосая, одинокая, бродила меж птиц, кормя их, вливая в них силы. Ветви деревьев принесли сюда и расставили, прислонив, вдоль стен. Столы перевернули, чтобы на их торчащих кверху ножках могли сидеть птицы, которым такое пристанище приходилось по вкусу. Спустя недолгое время, трапезную огласило птичье пение, пронзительные вскрики ворон и галок, гомон сотен писклявых и густых голосов.
Птиц, которых удалось уберечь от снега, уберегли, однако снежный покров был слишком глубок и густ для каких бы то ни было спасательных экспедиций, способных удалиться от замка на расстояние большее, чем длина выставленной из самого нижнего окна руки.
Месяц, если не больше, замок простоял в осаде снегов. Множество открывавшихся вовне дверей треснуло под напором снега. А из устоявших ни единой воспользоваться было нельзя. По всему Горменгасту горел свет, поскольку все его окна были либо заколочены, либо покрыты толстой наледью.
Трудно сказать, как управился бы господин Флэй, если б подземный ход так и не удалось обнаружить или если бы Титус не рассказал о нем Флэю. Сугробы вокруг пещеры его навалило такие высокие и опасные, что рано или поздно Флэй, провалившись в какой-то из них, вряд ли сумел бы выбраться наружу. Да и шансов пережить страшную стужу и не умереть голодной смертью у него, сколько он понимал, было всего ничего.
Но подземный ход разрешил все проблемы. К наступлению холодов для Флэя стало обычным делом проходить тоннель из конца в конец со свечою в руке, вдыхая запахи почвы, – меряя милю за милей проросшей корнями, усыпанной черепами и косточками мелких зверьков земли. Ибо многие участки тоннеля стали прибежищем лис, грызунов и разнообразных мелких хищников – укрытием и от зимы, ныне ими переживаемой, и от врагов. Свеча, которую Флэй держал перед собою в вытянутой руке, высвечивала уже знакомые ему сплетения корней – свидетелей того, что над ним стоит роща, – или обнаруживала тайные города муравьев.
Не заваленный снегом, тоннель давал бесценную возможность добраться до замка, – и все же воздух здесь полнился смрадом распада и смерти, так что у Флэя во время долгих его одиноких подземных походов медлить причин не имелось.
Когда он в первый раз выбрался из тоннеля в замок, прошел коридором и попал на окраину безжизненных залов и переходов, и углубился, как Титус до него, в тишину, то испытал подобие столь мучившего мальчика благоговейного страха и поднял костлявые плечи к ушам, и выставил челюсть вперед, между тем как глаза его рыскали по сторонам, как если б ему угрожал невидимый враг.
Однако после дюжины дневных походов он достаточно узнал пустынные эти места, и от первоначальных его опасений не осталось даже следа.
Напротив, он начал на странный манер обживаться в Глухих Залах – так же, как когда-то неосознанно впитал в себя дух леса Горменгаст.
Не в его характере было очертя голову бросаться на поиски поразившего замок зла. Такие дела спешки не терпят. Сначала следовало освоиться здесь.
И потому (после того, как он отыскал ступеньки, ведшие к статуе в коридоре изваяний) Флэй в первые несколько недель ограничивал свои полуночные вылазки попытками уяснить, какие перемены произошли после его ухода из Горменгаста в обыкновениях замковых обитателей. Жизнь в лесу научила его терпению и только усилила поразительный дар, которым он всегда обладал: умение сливаться с общим фоном. В дневное время Флэй прятаться нужды не имел – довольно было замереть на месте, и он становился неотличимым от стен, теней, трухлявой деревянной резьбы. Как только он опускал голову пониже, волосы и борода его обращались во мраке в еще один клок паутины, а лохмотья – в тусклый листовник, которого много росло по серым и сырым коридорам.
Странное чувство испытывал он, вглядываясь с того или иного удобного места в лица, когда-то столь хорошо ему знакомые. Порою они проплывали всего в нескольких футах от него – одни слегка постарели, другие немного помолодели, третьи отчасти изменились, четвертые же, принадлежавшие в пору его изгнания юношам или мальчикам, теперь узнавались с трудом.
Но при всем его умении затаиваться, рисковать Флэй не хотел, и потому прошло немало времени, прежде чем он прекратил долгие ночные разведки и занялся выясненьем того, где скорее всего можно увидеть, в разные часы дня или ночи, почти каждого, кто представлял для него интерес.
Со дня смерти покойного хозяина Флэя комнату его ни разу не открывали. Флэй отметил это с хмурым одобрением. Он вгляделся в пол у двери Сепулькревия, перед которой укладывался спать целых двадцать лет. И когда он окинул взглядом коридор, страшная ночь всплыла в его памяти – ночь, когда граф разгуливал во сне, а после отдал себя на растерзание совам, ночь, когда он, Флэй, бился с главным поваром Горменгаста и сразил его.
Волей-неволей Флэй обратился сразу и в вора, и в скупердяя. Удовольствия ему это доставляло не много, но что поделаешь – иначе не выжить. В краткий срок он выяснил, как можно проникнуть через чердачный люк в Котовую Комнату, как пробраться из Каменных Проулков в Великую Кухню.
В конце концов, ежеутреннее возвращение по тоннелю в пещеру, чтобы провести в ней день, обратилось в нелепость. Заняться в обложенной высокими сугробами пещере было нечем. Ни добыть себе пропитание охотой, ни набрать достаточных для согрева дров он бы не смог. А в Безжизненных Залах имелось все, в чем он нуждался.
Он наткнулся на небольшую, всю в пышной пыли, квадратную комнату с резной каминной доской и открытым очагом. Здесь стояло несколько кресел, книжный шкаф и орехового дерева стол, сервированный на двоих, – покрытые слоем пыли серебро, бокалы, фаянс.
В ней-то Флэй и обосновался. В продуктовом шкафу его редко заводилось что-либо кроме хлеба и мяса, свежие запасы которых всегда отыскивались в Великой Кухне.
Он не пользовался множеством имевшихся у него возможностей разнообразить свой стол. Что до питья, Флэю только и нужно было дойти в любой послеполуночный час до ближайшей цистерны с дождевой водой и черпануть из нее большой жестянкой.
Судя по расстояниям, которые ему приходилось покрывать, минуя пустые залы, и судя, в частности, по отдаленности комнатки с камином от коридора изваяний (служившим единственным, какой он сумел отыскать, входом в некогда привычный мир), огонь, который Флэй разжигал в своей комнате, не навлекал на него никакого риска. Если бы кто-то, говоря теоретически, увидел встающий над заброшенной частью замка дым и проникся хоть каким-то любопытством, отыскать трубу, из которой дым исходит, а после – еще и дорогу к лежащей во многих саженях под трубой комнате этому гипотетическому наблюдателю было б не легче, чем лягушке сыграть на скрипке.
В комнатке своей господин Флэй наслаждался студеными зимними вечерами комфортом, какого не знал никогда. Не приучи его к одиночеству время лесного изгнания, проводимые здесь долгие дни наверняка показались бы ему невыносимыми. Однако ныне отшельничество стало частью натуры Флэя.
Безмолвие Безжизненных Залов, подобно безмолвию наружных снегов, казалось беспредельным. То была своего рода смерть. Сама необъятность пустых пространств, сам неисследованный лабиринт, делавший это безмолвие словно бы зримым, способны были дыбом поднять волосы на загривке любого, кто не привык давным-давно к одиночеству. Господин Флэй, несмотря на множество предпринятых им вылазок в этот мертвенный мир, в эти заброшенные области Горменгаста, так никогда и не смог установить их границ. Правда, после долгих поисков, при которых он так или иначе руководствовался указаниями Титуса, ему удалось найти ступеньки, ведшие в коридор изваяний, но, кроме них да еще нескольких запертых дверей, из-за которых слышались голоса, иных пограничных пунктов, соединяющих его мир с миром других людей, он так и не отыскал.
И все же, в один ранний утренний час, когда Флэй возвращался к себе после набега на кухню, произошло событие, сделавшее остаток зимы менее одиноким, хоть и более страшным. Когда коридор изваяний остался в миле, если не больше, за Флэем, уже далеко углубившимся в свои владения, он надумал вдруг оставить обычный свой путь по узкому, длинному проходу на восток, и исследовать другой коридор, который, как ему представлялось, мог бы в должное время привести его в обжитую им часть замка.
Следуя этим коридором, Флэй, по своему обыкновению, оставлял на стенах грубые меловые пометки, которые не раз уже помогали ему возвращаться в знакомые места.
После часа, примерно, извивов и поворотов, перекрестков и произвольных предпочтений одного прохода другому, одного извилистого спуска другому, ведущему к коридору пошире холодному скату, Флэя прошиб пот от испуга, вызванного одной только мыслью, что без принятых им мер предосторожности он мог бы и не найти дорогу назад. Он понимал, что, если бы не меловые отметины, отыскать ее было бы невозможно. Внезапно голод напал на него. И в ту же минуту, заметив, что свеча его почти догорела, он вытащил из-за пояса, за который неизменно затыкал с полдюжины их, новую, присел на пол, приладил ее, уже зажженную, рядом с собой и, раскрыв длинный, с узким лезвием нож, отрезал краюху хлеба.
Справа и слева от него сгущалась чернильная тьма. Флэй сидел в таинственном ореоле свечного мерцания, лицо его, лохмотья, руки и волосы заливал трагический свет. Тень тяжело нависала за ним на стене. Он вытянул ноги и как раз собрался опять откусить от краюхи, когда услышал раскат хохота.
Если бы не жуткая мощь этого смеха и не тот факт, что донесся он сзади – из-за стены, к которой прислонился Флэй, ему не оставалось бы ничего, кроме как счесть услышанное воплем безумия, раздавшимся в собственной его голове – чем-то, различенным слухом сознания.
Но об этом не могло быть и речи. К нему, к его воображению, этот смех никакого отношения не имел – безумцем Флэй не был. Однако он понимал, что безумие где-то рядом. Ибо демонический вопль этот – или вой – включал в себя нечто, от чего Флэя вскочил на ноги, словно его дернул кверху рыболовный крючок, нечто, бросившее его, даже не осознавшего своего движения, к противоположной стене, вжавшись в которую он, точно загнанный в угол, уставился, пригнувшись, на холодные кирпичи, к коим только что прислонялся: как будто сама стена заразилась отгороженным ею безумием и следит за ним каждым своим помешавшимся кирпичом.
Господин Флэй слышал, как капли пота разбиваются о пол у его ног. Во рту у него пересохло. Сердце бухало на манер барабана. И все же он ничего не видел. Только ровное пламя свечи, стоявшей у основания противоположной стены.
И тут хохот раздался снова, двойной нотой – почти такой, как если бы горло, из которого исходил этот призрачный смех, обладало странным устройством, как если б оно способно было звучать на два голоса сразу.
Об эхо нечего было и думать, поскольку повторы и наложения звука отсутствовали – только сдвоенный ужас.
На этот раз высокий звук выродился в визгливый скулеж, но даже в этом мертвенном завершении присутствовала двукратность – страшное, цепенящее ощущение двойного безумия.
Некоторое время после того, как все стихло, господин Флэй оставался неспособным пошевелиться. Он был потрясен. Чувство уединенности разбилось в нем вдребезги; невозможность найти случившемуся разумное объяснение, хоть как-то понять, что произошло здесь в этот предрассветный час, казалась подобием оскорбления – оскорбления, брошенного его узкому, но гордому уму. Да и страх – страх перед тем, чего он не может увидеть, но что находится от него в нескольких ярдах, сковал Флэю руки и ноги.
Однако тишина длилась, повторения не последовало, и, в конце концов, Флэй подобрал с пола свечу и, не раз и не два оглянувшись, выступил, переходя от одной меловой отметки к другой, в обратный путь, который в конечном итоге привел его к изначальному роковому распутью. За ним Флэй уже чувствовал себя как дома и шел без колебаний, пока не добрался до своей комнаты.
Разумеется, махнуть на случившееся рукой было невозможно. Нагнанный смехом непостижимый ужас не покидал его и на следующий день, и, едва поднялось солнце, жуткое место вновь поманило его к себе. Не то чтобы Флэю хотелось еще раз ощутить тошнотворный трепет, а просто – тайну следовало вывести под трезвый свет дня, и кем бы ни было то существо, животным или человеком, его надлежало прояснить, ибо коренными побуждениями Флэя оставались побуждения прежнего первого слуги Горменгаста – верноподданного, которому несносна даже мысль, что где-то в древнем замке завелись некие силы или стихии, нечто, противное церемониальной жизни – тайны или деяния, которые, как знать, могут оказаться смертоносным ядом для здорового тела замка.
Он намеревался исследовать дальнейшее протяжение страшного прохода и, если представится случай, проделать обратный путь каким-нибудь параллельным коридором, отыскав, коли удастся, ключ к тому, что таится по другою сторону стены.
Все это Флэй исполнил, но без успеха. День за днем бродил он по холодным кирпичным проулкам, петляя, пересекая собственные следы, по дюжине раз на дню теряя направление – снова и снова выходя в изначальный коридор, – но так и не смог разобраться в запутанной архитектуре. Раз за разом, возвращаясь к месту, в котором его поразил буйный хохот, Флэй вслушивался, но всегда слышал лишь стук собственного сердца.
Похоже, оставалось только одно – опять прийти в это жуткое место не днем, а в то же самое время, в предрассветный час, высасывающий силы из души и тела. Если ему удастся вновь услышать этот безумный смех, если он будет повторяться и повторяться, возможно, звук этот станет путеводной нитью, позволит загнать в темноте дичь, которая в дневные часы сбивает его со следа.
И потому, подавив страх, Флэй отправился в путь сквозь ледяную предрассветную тьму. В конце концов он добрался до кирпичного коридора и уже с некоторого отдаления услышал вопли и плач. Когда же он подошел ближе, громкие призывы раздавались словно бы с разных сторон, как будто кто-то окликал себя самого, ибо призывающий голос, казалось, ничем не отличался от отзывающегося.
Но в голосе этом, или в голосах, сквозил ужас, и господина Флэя, вслушивавшегося, прижав ухо к стене, поразило то, что вопли теперь звучали слабее. Кто бы там ни кричал, он явно лишался сил. Флэй постарался добраться до источника звуков, но все было напрасно. Поиски в каменных лабиринтах, которые он уже обследовал днем, остались безрезультатными. Стоило ему выйти из коридора, как тишина наваливалась на него неосязаемой тяжестью, и никакая острота слуха тут не помогала.
Снова и снова он собирал все силы, чтобы найти страдающее существо, ибо Флэй уже понимал, что существо это ослабевает. Теперь он испытывал не столько ужас, сколько слепую жалость. Жалость, которая ночь за ночью влекла его. Словно неведомая трагедия обременила его совесть, словно он, приходя сюда, чтобы слушать тающий голос, каким-то образом помогал его хозяину. Флэй понимал, что это не так, но в стороне остаться не мог.
И настала ночь, когда он, сколько ни вслушивался, не различил ни звука – и с того времени ничто не тревожило тишины.
Флэй сознавал: так или иначе, а скорбному разумом существу пришел конец. Кем был тот, кто хохотал на двойной ноте, кто вскрикивал и отвечал себе самому одним и тем же невыразительным, страшным голосом, он так и не узнал. Не узнал, что стал последним из слышавших голоса их светлостей Коры и Клариссы, – как не знал и того, что находился в нескольких футах от покоев, в которые их некогда заманили. Не узнал, что за запертыми дверьми этого узилища томились, лишаясь и той малой способности соображать, какой они когда-либо обладали, Двойняшки, что безумие их росло и росло, пока наконец у них не кончились съестные припасы, а между тем, Стирпайк все не приходил, и сестры поняли, что смерть их близка.
Когда слабость сломила их, они легли бок о бок и, глядя в потолок, умерли в один и тот же миг, по ту сторону стены.
ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ
Пока Флэй в глуши пустых своих зал размышлял о пережитом потрясении и томился мыслями о необъяснимой его природе, уже оправившийся после болезни Стирпайк, не теряя времени даром, осваивался на посту Распорядителя Ритуала. Он не питал никаких иллюзий насчет того, что скажут обитатели замка, когда поймут, наконец, что он отнюдь не намерен остаться лишь временным исполнителем этих обязанностей. То, что он не стар, не приходится Баркентину сыном, не принадлежит ни к одной из признанных школ толкователей принципа, вообще не имеет права притязать на этот титул, если не считать того, что он – единственный ученик утопшего калеки и достаточно умен для исполнения тягостного его долга, ни в коей мере не обращало Стирпайка в приемлемого соискателя должности старика.
Да и физически он больше никакой привлекательностью похвастаться не мог. Его приподнятые плечи, вечная бледность, красные глаза и раньше-то мало кого могли расположить к дружеским с ним отношениям – в предположении, что Стирпайк стал бы искать таковых. А уж теперь оснований сторониться его стало куда больше – даже у общества, ни в грош красоту не ставящего.
Ожоги обезобразили лицо, шею и руки Стирпайка уже навсегда. Только могильные черви и могли бы устранить их следы. Лицо выглядело пегим – набрякшая багровая ткань покрыла воспаленными узорами восковую бледность кожи. Кисти рук были алы и шелковисты, складки и морщинки их походили на обезьяньи.
И все же Стирпайк знал, что хоть он и внушает окружающим естественное отвращение, причину его безобразия ставят ему в заслугу. Разве не рисковал он (насколько то было известно замку) жизнью, пытаясь спасти потомственного Распорядителя? Разве не пережил беспамятство и безумную боль оттого, что ему хватило отваги попытаться вырвать из объятий смерти человека, бывшего краеугольным камнем традиции Горменгаста? Кто же, в таком случае, вправе поставить ему в вину сатанинское его обличие?
А сверх того, он понимал, что, каких бы предубеждений ни питали против него недруги, в конечном счете выбор у них только один – смириться с ним, несмотря на его ожоги, происхождение и бездоказательные слухи, каковые, Стирпайк это знал, циркулируют по замку, – смириться, по той простой причине, что нет больше никого, владеющего всеми необходимыми знаниями. Баркентин никому, кроме него, тайн своих не поверял. Даже тома с перекрестными ссылками оставались непостижимыми и для самых умных людей, если их предварительно не натаскивали, знакомя с используемыми в этих томах символами. У Стирпайка ушел целый год на то, чтобы разобраться в одном лишь принципе организации библиотеки – и это под раздраженным руководством Баркентина.
Впрочем, ему хватило хитрости, чтобы мало-помалу, выполняя свою работу, добиться ворчливого одобрения и даже подобия горького восхищения. Ни на волос не отклонялся он от тысяч и тысяч тех букв закона Гроанов, что напоминали о себе день за днем в виде того или иного ритуала. И каждый вечер понимал, что еще глубже врос в жизнь замка.
Просчет его при убийстве Баркентина был непростителен, и Стирпайк себя не простил. Его угнетало не столько случившееся с ним, сколько то, что он промахнулся. Мозг его, и так-то никогда не ведавший сострадания, обратился теперь в сосульку – заостренную, прозрачную, холодную. Отныне у него останется только одна цель – все теснее сжимать замок в обожженной своей деснице. Он сознавал, что каждый шаг потребует от него предельной осторожности. Что основанная на жесткой традиции жизнь Горменгаста, хоть и кажется с первого взгляда неровной и темной, но под внешним ее обличием всегда таилось самосознание, в ней всегда существовали люди надзирающие и люди прислушивающиеся. Он сознавал, что для осуществления его желаний придется – это еще если получится – потратить ближайшие десять лет на упрочение своего положения, никогда не рискуя и постоянно учась, создавая репутацию не просто авторитета во всем, что относится до традиции замка, но человека, хоть и неутомимо ревностного, однако при всем том доступного далеко не для каждого. Это и снабдит его свободным временем для достижения собственных целей, и поможет создать о себе легенду, как о святом, человеке не от мира сего, не вызывающем сомнений, человеке, который в свои юные годы, когда сам дух Горменгаста подвергся опасности, не дрогнув, пошел на страшное испытание огнем и водой.
Впереди у него годы. Для поколения молодого он станет подобием бога. Пока же ему надлежит усердием и точностью в исполненье обязанностей изваять для себя трон, на который он когда-нибудь взойдет.
Каковы бы ни были злодеяния, совершенные им в юности, Стирпайк понимал, что, хоть время от времени его и подозревали в бунтарстве, если не в чем похуже, теперь, твердо встав на ведущий к успеху позлащенный путь, он навсегда избавился (пусть со времени самого темного его дела и прошла от силы неделя-другая) от угрозы разоблачения.
Подходил к концу двадцать пятый год его жизни. Огонь, испятнавший лицо Стирпайка, не надолго лишил его силы. Он снова был крепок и неустанен, как до катастрофы. Бестонно посвистывая сквозь зубы, он стоял у окна своей комнаты и смотрел на снег.
Полдень. Гора Горменгаст, при всей неровности ее очертаний, вставала на фоне темного неба, как бы увитая в белую шерсть. Стирпайк смотрел сквозь нее. Через четверть часа ему предстоит пойти в конюшни, где лошадей выстроят в ряд, дабы он их осмотрел. Нынче – годовщина смерти племянника пятьдесят третьей Графини Гроанской, лихого когда-то наездника, и Стирпайку надлежит позаботиться, чтобы конюхи облачились в траурные одежды и чтобы конские маски их были надеты под должным, знаменующим уныние углом.
Вытянув руки вперед, он прижал ладони к стеклу. Потом морской звездой растопырил пальцы и оглядел ногти. Между алыми пальцами и вкруг них светилась белизна дальних снегов. Ладони словно лежали на белой бумаге. Стирпайк повернулся, перешел комнату, направляясь к плащу с капюшоном, складчато свисавшему со спинки стула. Когда он вышел из комнаты, повернул в замке ее ключ и направился к лестнице, мысли его на миг обратились к Двойняшкам. Дельце вышло во многих отношениях неряшливое, но, возможно, оно и к лучшему – то, что обстоятельства, коими он управлять не мог, вынудили его принять окончательное решение. Даже ко дню, в который он обгорел, пополнение их припасов было изрядно просрочено. Теперь они уж навряд ли живы.
Стирпайк просмотрел бумаги, припомнил, сколько провизии должно было остаться у них к тому дню, и, проведя далеко не простые расчеты, пришел к заключению, что сестры, скорее всего, издохли от голода примерно в тот день, когда он, похожий в своих бинтах на заиндевевшую трубу, впервые поднялся с одра болезни. На самом деле Двойняшки умерли двумя днями позже.
ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ
I
Время шло, и справляться с Титусом становилось все труднее. После наступления темноты его одногодки жгли в длинных дортуарах прикровенные щитками свечи и стайками садились на четвереньки и исполняли странные ритуалы или уплетали украденные лепешки, и Титус был не просто наблюдателем этих сцен. Не только поглядывал из безопасной постели, как совершаются в смертельном молчании жестокие, тайные схватки, сведение старых счетов, – покамест присмотрщик спит, как крокодил, на спине. Неровное дыхание присмотрщика, его метания и перевороты с боку на бок, само его сопение и бормотня были для Титуса с сообщниками открытой книгой. Все они указывали на определенную глубину сна, который и в самой глуби своей оставался поверхностным. Боялись же мальчишки молчания, ибо оно означало, что сторож лежит в темноте, открыв глаза.
Такой же священной, как мысль, что Граф Горменгаст был всегда и всегда будет, что, когда придет время, он станет практически недоступным, недосягаемым, и по положению своему, и по внутреннему отличию – такой же священной была традиция, согласно которой в отрочестве Граф Горменгаст ни в чем не должен отличаться от прочих мальчиков. Гроаны гордились тем, что в детстве их не укутывают в вату.
Что до самих мальчишек, они мирились с этим принципом без особого труда. Мальчишки сознавали, что покамест между ними и Титусом никакой разницы нет. Думать иначе они начинали лишь впоследствии. Да и как бы там ни было, друзей и врагов ребенка будущее его занимает мало. Здесь и теперь – вот что для них важнее всего. И потому Титус дрался в тиши дортуара наравне с остальными – и время от времени сторож вытаскивал его из постели и порол.
Он шел на риск и принимал наказание. Но все это было ему ненавистно. Он ненавидел двусмысленность происходящего. Кто он – властитель или обычный мальчишка? Его приводил в негодование мир, в котором он был ни тем, ни другим. То, что испытания детских лет должны приготовить его к ответственности, которой он облечется в позднейшие годы, Титуса нисколько не волновало. Так или этак, с ним поступали нечестно.
И он говорил себе: «Отлично! Значит, я такой же, как все, верно? Тогда почему я каждый вечер обязан докладываться Стирпайку, чтобы тот знал, что я никуда не делся? Почему я должен после занятий в классе делать то, что никому другому делать не приходится? Поворачивать ключи в старых ржавых замках. Поливать вином стрельницы – топать туда и сюда, пока не отвалятся ноги! Почему, если я ничем от других не отличаюсь? Что за свинское жульничество?»
Профессора находили его упрямым, своевольным, а временами дерзким. Все, кроме Кличбора, к которому Титус питал любовь и необъяснимое уважение.
II
– Намереваетесь ли вы, милый отрок, заняться сегодня делом или же предполагаете провести остаток дня, дожевывая кончик вашей ручки? – спросил Кличбор, склонившись над партой и обращаясь к Титусу.
– Да, сударь! – вздрогнув, ответил Титус. Только что он пребывал далеко отсюда, в мечтах.
– Имеете ль вы в виду, милый отрок: «Да, сударь, я собираюсь заняться делом», – или: «Да, сударь, я намереваюсь жевать ручку»?
– О, делом, сударь.
Кличбор концом указки забросил через плечо длинный клок своей гривы.
– Я так раду – сказал он. – Знаете, мой юный друг, однажды, когда я был в вашем возрасте, мне вдруг пришла в голову мысль углубиться в письменное задание, которое дал мне мой старенький школьный учитель. До того мне никогда ничего подобного в голову не приходило. Я слышал, конечно, о людях, которые пытались проделать нечто подобное, однако никогда и не думал заняться этим сам. Но – и теперь вам следует слушать внимательно, мой дорогой мальчик, – что же случилось в итоге? Я вам расскажу. Я обнаружил, что получил от моего дорогого учителя задание совсем, ну, совсем простенькое. Почти оскорбительное в его простоте. Я углубился в него, как ни в какое другое. Покончив с ним, я попросил дать мне еще одно. А после еще. И все полученные мною ответы были верны. И что же? Быть таким умным понравилось мне до того, что я перерешал слишком много задач и заболел. А потому предупреждаю вас – и вас, и весь класс. Берегите здоровье. Не перетруждайтесь. Не спешите, иначе надорветесь, как я когда-то, давным-давно, когда я был юным, дорогие мои, и неказистым, как вы, и таким же чумазым, и если вы, милое дитя, молодой господин Гроан, не закончите к четырем часам, мне придется задержать вас до пяти.
– Да, сударь, – сказал Титус и тут же получил тычок в спину. Обернувшись, он увидел, что сидящий сзади мальчишка протягивает ему записку. Худшей минуты мальчишка выбрать не мог, но, впрочем, Кличбор как раз закрыл, с подчеркнутым смирением и великодушием, глаза. Развернув листок, Титус увидел грубую карикатуру, на которой Кличбор с длинным арканом в руке гнался за Ирмой Прюнскваллор. Рисунок был неумел и не очень смешон, и Титус, которому было не до него, вдруг рассердился, скомкал бумагу и бросил ее через плечо. Однако на этот раз бумажный комочек привлек внимание Кличбора.
– Что это вы бросили, милый отрок?
– Просто мятую бумажку, сударь.
– Принесите его вашему старому учителю. Вот и будет ему развлечение, – сказал Кличбор. – Старые пальцы его, знаете ли, вполне способны развернуть этот комок. В конце концов, заняться ему до окончания урока все равно нечем, – и, как бы размышляя вслух: – Ах, сосунки и младенцы… сосунки и младенцы… как устает от вас ваш старый Школоначальник.
Бумажный комок подняли и передали вставшему за партой Титусу. Но когда Школоначальнику оставалось пройти до Титуса лишь несколько шагов, тот сунул смятый рисунок в рот и, поднатужась, проглотил.
– Я проглотил его, сударь.
Кличбор нахмурился, страдание исказило его лицо.
– Встаньте на парту, – сказал он. – Мне стыдно за вас, Титус Гроан. Вас следует наказать.
Несколько минут простояв на парте, Титус ощутил новый тычок в спину. Глупость сидящего сзади мальчишки уже дорого ему обошлась, и потому Титус гневно воскликнул: «Пошел ты!» – и в тот же миг, обернувшись, оказался нос к носу со Стирпайком.
В класс молодой Распорядитель Ритуала вошел беззвучно. Периодический обход классов входил в число его обязанностей, а будучи лицом официальным, он, понятное дело, в двери не стучал, – лишь несколько мальчиков заметили его появление, зато на выкрик Титуса обернулись все.
Понемногу до школяров дошло, отчего Титус замер, словно заледенев, с повернутым вбок лицом, отчего перекрутил тело на узком шарнире бедер, стиснул ладони и сердито набычился, – дошло, что напрягся он, потому что его «пошел ты» оказалось обращенным не к кому иному, как к человеку с пегим лицом, к самому Стирпайку.
Стоявший на крышке парты Титус находился в позиции непривычной, редко ему выпадавшей, – он мог смотреть на носителя власти, вдруг появившегося, как привидение, словно бы из-под пола, сверху вниз. Стирпайк же смотрел снизу вверх, криво улыбаясь, чуть приподняв брови, с выражением отчасти выжидающим, словно понимал: хоть мальчик никак не мог догадаться, кто ткнул его в спину, и оттого в особой дерзости не повинен, извиниться все же обязан. Немыслимо, чтобы кто-то, не говоря уж о мальчишке, каково бы ни было его происхождение, позволил себе обращаться к Распорядителю Ритуала в таких тонах.
Однако извинений не последовало. Ибо Титус, мгновенно поняв, что произошло, поняв, что он крикнул «пошел ты» архисимволу власти, угнетения, столь ему ненавистного, инстинктивно осознал, что это одно из тех мгновений, в которые должно бросать вызов и самому кромешному мраку.
Извиниться значило подчиниться.
В темнейших глубинах его сердца таилось знание, что он не должен сходить на пол. Необходимо цепляться за свой головокружительно высокий утес, оставаться пусть и трепещущим, но торжествующим в понимании величия своей победы, дающей ему твердую опору, безопасность сознания, что он, человек отличной от всех породы, не продал страха ради свое первородство.
Да, собственно, Титус и двинуться-то не мог. Лицо его побелело, уподобясь бумаге на парте. Лоб покрылся липкой испариной, тяжесть смертельной усталости сковала его. Оставалось цепляться за утес. Мальчику не хватало отваги смотреть в темно-красные за сузившимися веками глаза, которые не отрывались от его лица. Он смотрел Стирпайку за спину, потом зажмурился. Отваги ему хватило лишь на отказ от извинений.
Затем он вдруг почувствовал, что стоит под каким-то странным углом, и, открыв глаза, увидел, что парты, не утрачивая своего порядка, кружатся в воздухе, услышал словно из дальней дали донесшийся голос и замертво рухнул на пол.
ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ
– Я пережила чрезвычайно волнительное время, Альфред. Я говорю, я пережила чрезвычайно волнительное время – ты слышишь меня или нет? О, как это выводит из себя, когда женщина, за которой ее поклонник ухаживает столь возвышенно, столь благородно, вдруг обнаруживает, что брата ее это интересует, примерно как муха на стене. Альфред, я говорю, как муха на стене!
– Плоть моей плоти, – сказал, помолчав, Доктор (который перед появлением Ирмы был погружен в размышления), – что ты хочешь узнать?
– Узнать, – с великолепным презрением ответила Ирма. – Почему я должна хотеть что-то узнать?
Пальцы ее разгладили отливающие сталью седые волосы на затылке, и вдруг, вцепившись в их пук, со сверхъестественным проворством по нему пробежались. Можно было подумать, что на каждом из этих длинных, нервных перстов имелось по глазу, – с такой легкостью порхали они взад-вперед по контурам волосяного узла.
– Я не задавала тебе вопроса, Альфред. У меня иногда возникают и собственные мысли. Я знаю, ты держишься о моем уме очень невысокого мнения. Однако не все такие, как ты, – смею тебя в этом заверить. Ты и представления не имеешь, что со мной произошло, Альфред. Я возродилась к жизни. Я открыла в себе сокровища. Я – словно неиссякаемый кладезь, Альфред. Я знаю это, я знаю. И у меня есть мозги, которыми я даже еще и не начала пользоваться.
– С тобой на редкость трудно разговаривать, Ирма, – сказал ей брат. – Ты, дорогая, не оставляешь в конце своих фраз никаких петелек и зацепок, ничего, что помогло бы твоему любящему брату, ничего для его вечно готового, вечно жаждущего, вечно сверкающего крючка. Мне всякий раз приходится все начинать сначала, о сладкая моя форель. Тянуть леску заново. Но я попробую еще раз. Итак, ты говорила?…
– Ах, Альфред. Хотя бы на миг сделай то, что способно меня порадовать. Говори нормально. Я так устала от твоих фразочек со всеми их риторическими фиоритурами.
– Риторическими фигурами! фигурами! фигурами! – воскликнул, вскакивая и заламывая руки, Доктор. – Почему ты всегда говоришь «риторическими фиоритурами»? Ох, благослови мою душу небо, что творится с моими нервами? Да, разумеется, я сделаю все что угодно, чтобы порадовать тебя. Но что именно?
Однако Ирма, зарывшись лицом в мягкий серый валик, уже залилась слезами. Оторвавшись, наконец, от подушки, она стянула с лица темные очки.
– Это уж слишком! – всхлипывала Ирма. – Когда даже твой собственный брат рычит на тебя. Я так доверяла тебе! – вскричала она. – А ты тоже меня оттолкнул. Я лишь хотела услышать твое мнение.
– Кто еще тебя оттолкнул? – резко спросил Доктор. – Неужто Школоначальник?..
Ирма промокнула глаза вышитым носовым платочком величиной с игральную карту.
– Это из-за того, что я сказала моему дорогому, любимому повелителю, что у него грязная шея…
– О господи! – вскричал Доктор. – Да неужто же ты говоришь ему такое?
– Конечно, нет, Альфред… разве что про себя… в конце концов, он мой господин, ведь правда?
– Если тебе так нравится, – ответил брат, потирая ладонью лоб. – По мне, так пусть будет кем угодно.
– О да, он мой господин. Господин. Он не кто угодно, Альфред, он – все.
– А ты пристыдила его, и он оскорбился, – гордый и оскорбленный, так, Ирма, дорогая моя?
– Да. О да. Именно так. Но что же мне теперь делать? Что мне делать?
Доктор свел воедино кончики пальцев.
– Ты уже переживаешь, моя дорогая Ирма, – сказал он, – самую сущность супружества. И он тоже. Будь терпелива, мой пахучий цветочек. Научись всему, чему сможешь. Используй всю тактичность, какой наделил тебя Бог, запоминай свои ошибки и то, что к ним привело. И не говори ему ничего о шее. Ты только усугубишь положение. А обида его истает. Время залечит рану. Если ты любишь его, так просто люби и не суетись из-за того, что уже миновало. В конце концов, ты любишь его вопреки всем присущим тебе, а не ему недостаткам. Чужие недостатки могут быть обаятельными. А собственные наши всегда невыносимо скучны. Успокойся, хотя бы отчасти. Не говори слишком много, и вот еще что – не могла бы ты, когда ходишь, чуть меньше напоминать буек в волнах прибоя?
Ирма поднялась из кресла и направилась к двери.
– Спасибо, Альфред, – сказала она и вышла.
Доктор Прюнскваллор откинулся на спинку приоконной кушетки и с легкостью совершенно изумительной выбросил из головы все затруднения сестры, снова впав в задумчивое оцепенение, которое она прервала.
Он размышлял о восхождении Стирпайка к важнейшему посту, который тот занимал ныне. Размышлял и о том, как молодой человек вел себя во время болезни. Стирпайк выказал несравненную стойкость духа и волю к жизни, почти что варварскую. Однако по большей части в голове Доктора вертелось нечто совсем иное. Фраза, которая в самый разгар Стирпайкова бреда прорвалась сквозь хаос его бессвязных речей: «А с Двойняшками будет пятеро, – выкрикнул молодой человек, – с Двойняшками будет пятеро».
ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ
I
Темным зимним утром Титус с сестрой сидели на широком подоконнике одной из трех комнат Фуксии, выходивших на Южные Рощи. Вскоре после смерти нянюшки Шлакк Фуксия, после долгих уговоров, чувствуя себя человеком, вырывающим собственные корни, перебралась в более приятную часть замка – в комнаты, которые, в сравнении с ее населенной воспоминаниями неряшливой спальней, были полны света и воздуха.
За окном лежали на земле последние пятна снега. Фуксия, подпирая подбородок ладонями, облокотясь о подоконник, наблюдала за тонкой колеблющейся струйкой серо-стальной воды, спадающей из желоба ближней постройки в расположенный сотнею футов ниже дворик – легкий, неугомонный ветерок налетал порывами, и по временам лившийся из высокого желоба поток оставался прямым и неподвижным, спадая прямиком в установленную во дворике цистерну, порой же сильный порыв ветра отгибал его к северу, а иногда этот водопадик рассыпался веером несчетных серых капель и сеялся, подобно дождю. Потом ветер снова стихал, и отвесная полая струя талой воды спадала, походя на натянутый провод, и вода билась и глухо плескалась в цистерне.
Титус, отложив книгу, которую перелистывал, поднялся на ноги.
– Хорошо, что сегодня нет уроков, Фикса, – сказал он: так Титус стал в последнее время звать сестру, – не то пришлось бы до вечера возиться с Перч-Призмом и его дурацкой химией да еще и с Цветрезом.
– А какой нынче праздник? – спросила Фуксия, не сводя глаз с воды, хлеставшей теперь по всей цистерне.
– Толком не знаю, – ответил Титус. – Что-то связанное с мамой. День рождения или еще что.
– А, – сказала Фуксия и, помолчав, добавила: – Занятно – обо всем приходится узнавать стороной. Не помню, чтобы она прежде праздновала дни рождения. Вообще, все это как-то не по-людски.
– Не понимаю, о чем ты, – сказал Титус.
– Нет, – сказала Фуксия. – Не понимаешь, наверное. Ты в этом не виноват, и в каком-то смысле тебе даже повезло. А я много читаю и знаю: почти все дети проводят с родителями много времени – во всяком случае, больше нашего.
– Ну, – сказал Титус, – отца-то я и вовсе не помню.
– Я помню, – сказала Фуксия. – Впрочем, с ним тоже было непросто. Мы ведь почти не разговаривали. Наверное, он жалел, что я родилась не мальчиком.
– Правда?
– Да.
– Хм… Интересно, почему?
– Хотел, чтобы я стала следующим Графом.
– А… но ведь я… хотя нет, наверное. Все так.
– Когда я была маленькой, он же не знал, что появишься ты, верно? Не мог знать. Когда ты родился, мне было почти четырнадцать.
– И ты действительно…
– Да, конечно. А ему всегда хотелось, чтобы я была тобой, – так я думаю.
– Смешно, правда? – сказал Титус.
– Тогда это было совсем не смешно – да и сейчас тоже – так? Конечно, твоей вины здесь нет…
Тут в дверь постучали, вошел посыльный.
– Чего тебе? – спросила Фуксия.
– Я с поручением, госпожа моя.
– С каким?
– Ее светлость, Графиня, ваша матушка, желает, чтобы лорд Титус последовал со мною в ее покой. Желает погулять с ним.
Титус и Фуксия уставились на посыльного, потом друг на дружку. Несколько раз открывали они рты, собираясь что-то сказать, но закрывали снова. Затем Фуксия вновь обратила взгляд к тающему снегу, а Титус в сопровождении порученца вышел в полуоткрытую дверь.
II
Графиня поджидала их на площадке лестницы. Посыльного она отпустила одним ленивым движением головы.
На Титуса мать смотрела с удивительным отсутствием выражения. Стоявший перед нею мальчик вроде интересовал ее, но так, как камень интересует геолога или растение – ботаника. Выражение лица ее не было приязненным или недружелюбным. Оно просто отсутствовало. Казалось, Графиня не сознавала, что у нее вообще есть лицо. Черты его не предпринимали никаких усилий что-либо передать.
– Я вывожу их на прогулку, – тяжким, отстраненным, бесстрастным голосом сказала она.
– Да, матушка, – откликнулся Титус. Он решил, что мать говорит о котах.
На миг лицо Графини помрачнело. Слово «матушка» озадачило ее. Впрочем, мальчик был, разумеется, прав.
Грузность ее всегда поражала Титуса. Спадающие ткани, фестончатые тени, весь этот покров отдающей плесенью тьмы вызывал в нем благоговейный страх.
Мать завораживала его, но у них не было точек соприкосновения. Если она открывала рот, то лишь затем, чтобы объявить нечто. Бесед Графиня не вела.
Она повернула голову и, наморщив губы, издала странный, подвывающий свист. Титус вглядывался в возносящиеся над ним груды ткани. Для чего она позвала его с собой? – гадал мальчик. Хочет, чтобы он что-то ей рассказал? Или хочет рассказать что-то ему7. Или это просто каприз?
Но Графиня уже спускалась по лестнице, и Титус последовал за ней.
Из сотен мглистых ниш, с излюбленных выступов, из безопасных в рассуждении сквозняков закоулков, с драного плюша кресел, из клочковатых недр старых диванов, гнезд, сооруженных из надранной когтями бумаги, и издревле прогреваемых солнцем углов, – из давно потерянных шляп, со стропил, из заржавленных шлемов и полуоткрытых комодов потекли коты, сливаясь, вспениваясь, – и спорый топоток молочно-белых лап наполнил коридоры, а несколько мгновений спустя волна котов достигла лестничной площадки и хлынула дальше, по пятам за гигантской их госпожой, вниз по скрывшейся под ними лестнице.
Когда Титус с матерью вышли под открытое небо, миновали арочный проход во внешней стене и ясно увидели перед собою Гору Горменгаст с темно-серым снегом на безжалостных высотах, Графиня махнула, словно сеятельница, тяжкой рукой, и коты мгновенно рассыпались веером во всех направлениях, подпрыгивая, извиваясь в воздухе, скача от радости: впервые со времени снегопадов вышли они из замка. И хоть множество их резвилось вместе, перекатываясь друг через друга, молотя, словно бойцы на тренировке, лапами один другого и тут же теряя взаимный интерес – глаза их мутнели, мысли принимали новый оборот, – все же, по большей части, белые эти создания вели себя так, словно были совершенно одни и совершенно этим довольны, сознавая только себя, только свои прыжки и проворство – хладнокровные, одинокие, внушающие зависть, легендарные в своей красоте, и геральдической, и переменчивой, как вода.
Титус шел рядом с Графиней. Сколько ни интересен был ему открывшийся вид, он поневоле то и дело взглядывал в лицо матери. Невыразительность этого лица, сходство едва ли не с маской, были чем-то, как начинал догадываться мальчик, ничуть не родственным тому, что происходило у нее в голове. Не единожды уже Графиня широкой ладонью ухватывала его за плечо, сводила с тропы и молча указывала на почти целиком завернутый в саван плюща древесный ствол, на подушку черного звездчатого мха. Вот она снова сошла с неровной тропы и указала на маленькую, забитую снегом лощинку, в которой отдыхала лиса. Время от времени Графиня останавливалась и вглядывалась в землю, в ветки дерева, но Титус, как ни смотрел, ничего замечательного увидеть не мог.
Хоть птицы и гибли тысячами, Титус с матерью, приблизясь к полоске леса, где талая вода капала с ветвей и ручейками бежала по камням, по примятой снегом траве, увидели, что деревья отнюдь не пусты.
Графиня остановилась и придержала Титуса за локоть; теперь они стояли неподвижно. Свистнула птица, следом вторая и вдруг маленький, похожий на синюю сказку зимородок стремглав пронесся над ручьем.
Коты остались далеко позади. Морозный воздух вливался в их легкие. Коты разбрелись кто куда, запорошив собою горизонт.
Графиня свистнула, пронзительно и сладко, и первая из птиц, а за ней и вторая слетели к ней. Она осмотрела их, держа в сложенных чашей ладонях. Птицы были тощи и слабы. Графиня свистала на разные лады, и птицы отвечали, вспрыгивая на нее, устраиваясь на плечах, – но тут новый, донесшийся из леса голос вынудил птиц примолкнуть. На каждый посвист Графини прилетал скорый, как эхо, ответ.
На Графиню это подействовало самым непостижимым образом.
Она повернулась к лесу. Она засвистала снова и получила ответ, скорый, как эхо. Она издала зовы дюжины разных птиц, и дюжины голосов с высокомерной точностью эхом ответили ей. Птицы, сидевшие у ног ее и на плечах, оцепенели.
Рука Графини сжимала плечо Титуса, точно железные клещи. Все свои силы он тратил на то, чтобы не закричать. С трудом повернув голову, Титус увидел лицо матери – невозмутимое, точно сам снег. Потемневшее лицо.
Ей отвечала не птица – уж это Графиня способна была понять. Подражание, даже такое искусное, не могло ее обмануть. Да тот, кто испускал зовы различных птиц, обмануть ее, похоже, и не стремился. В быстроте, с которой каждый посвист Графини летел, возвращаясь, из леса, ощущалась насмешка.
Что все это значило? Почему мать так стиснула его руку? Титус, очарованный властью, которой она обладала над птицами, не понимал, отчего зовы, летевшие из лесу, так прогневили ее. Ибо Графиня, сжимая его руку, дрожала. Она словно удерживала его от чего-то, таившегося в лесу и способного ему навредить – или увести от нее.
Но тут Графиня, сверкнув глазами, подняла лицо к верхушкам деревьев.
– Берегись! – крикнула она, и неведомый голос ответил ей:
– Берегись! – отозвался он, и следом все стихло.
Примостясь на головокружительно высокой ветке сосны, вглядываясь сквозь холодные иглы, Та смотрела, как огромная женщина с мальчиком возвращаются в далекий замок.
ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ
I
О том, что к десятилетию его приготовляется нечто особенное, Титус узнал лишь перед самым наступлением Дня. К этому времени он уже настолько привык к церемониям всякого рода, что мысль провести день рождения, либо выполняя какой-нибудь задубелый от времени ритуал, либо наблюдая, как его выполняют другие, воображение его не увлекала. Однако сестра сказала, что, когда представителю рода исполняется десять, происходит нечто совсем иное. Фуксия знала это, потому что так было и с нею, только в ее случае празднества немного подпортил дождь.
– Я ничего не стану тебе рассказывать, Титус, – сказала она, – потому что не хочу все испортить. Ах, это так восхитительно!
– Что именно? – с подозрением осведомился Титус.
– А вот подожди, увидишь, – ответила Фуксия. – Когда придет время, сам будешь рад, что я ничего тебе не сказала. Если бы все и всегда было так!
Когда День настал, Титус, к своему удивлению, обнаружил, что его на целых двенадцать часов заперли в комнате для игр, совершенно ему не известной.
Хранитель Внешних Ключей, хмурый старик с косиной в левом глазу, открыл комнату, едва над башнями занялась заря. Дверь ее не отпирали с детской поры Сепулькревия, отца Титуса и Фуксии, и этим нынешний день отличался от дня, в который десять лет исполнилось Фуксии. Теперь же ключ снова, со скрежетом ржи и железа, повернулся в замке, скрипнули петли: игровая предстала во всей своей пыльной роскоши.
Странный, однако же, способ отпраздновать десятилетие мальчика – засадить его на весь день в незнакомую комнату, какие бы дива ее ни наполняли. Да, конечно, тут были игрушки с занятными, хитроумными машинками внутри; веревки, на которых Титус мог раскачиваться, перелетая от стены к стене; лестницы, ведшие на высоченные балконы – но какой от всего этого прок, если дверь заперта, а единственное окно сидит чуть не под потолком?
И все же, сколь ни долгим казался день, Титуса бодрило сознание, что его посадили сюда не только в силу какой-то замшелой традиции, но и по той вполне резонной причине, что ему не положено видеть происходящее в замке. Если бы он остался снаружи, у него волей-неволей возникли бы пусть и отдаленные, но представления о том, что припасено для него на этот вечер – Титус получил бы их по одному лишь размаху приготовлений к оному.
А суета в замке поднялась фантастическая. Проведай Титус хоть о десятой ее части, это наверняка подпортило бы – не изумление его и предвкушения, но радостное потрясение, которое предстояло ему пережить при наступлении вечера. Ибо Титус и понятия не имел о том, что творится в замке. Фуксия же помочь ему не пожелала. Она слишком ясно помнила собственный давний восторг, чтобы рискнуть даже сотой долей того, что предстояло испытать брату.
Итак, если не считать того, что ему несколько раз приносили на праздничных золотых подносах еду, Титус провел день в одиночестве, и лишь за час до заката в комнату вошли четверо служителей Замка. Первый нес коробку, в коей, когда ее открыли, обнаружились одежды, в которые надлежало облачиться Титусу. Второй тащил легкий, похожий на сиденье горного подъемника плетеный паланкин с двумя приделанными к нему длинными жердями. Что же до двух остальных, один принес длинный зеленый шарф, а второй – золотой поднос с несколькими лепешками и стаканом воды.
Все четверо тут же и удалились, дабы Титус мог облачиться в церемониальный наряд. Наряд был совсем простой. Красного бархата шапочка и цельнокроеная туника из какой-то серой ткани. Тонкая золотая цепочка стягивала тунику на поясе. Да еще сандалии – вот и все, что ему принесли, и, застегивая их, он крикнул четверым, что те могут вернуться.
Они немедля вошли, и один из них приблизился к Титусу с шарфом в руках.
– Ваша светлость, – произнес он.
– А это зачем? – глянув на шарф, спросил Титус.
– Часть церемонии, ваша светлость. Полагается завязать вам глаза.
– Ну уж дудки! – воскликнул Титус. – С какой стати?
– Я тут ни при чем, – ответил человек с шарфом. – Таков закон.
– Закон! закон! закон! – как я ненавижу закон! – выкрикнул мальчик. – Зачем он требует, чтобы мне завязали глаза, – после того, как целый день продержали в тюрьме? Куда вы меня поведете? Что вообще происходит? Вы можете мне сказать? Можете?
– Я ни при чем, – повторил слуга, похоже, то была любимая его отговорка. – Понимаете, – прибавил он, – если я не завяжу вам глаза, сюрприз, когда мы доставим вас на место и снимем шарф, выйдет совсем не тот. И потом, – продолжал он, словно бы проникшись вдруг интересом к теме разговора, – понимаете, с завязанными глазами вы не узнаете, куда направляетесь – а там, знаете ли, вас ждет такая толпа, – но все, конечно, будут немы, как рыбы, и…
– Замолчи! – произнес другой голос – человека с креслом. – Ты зарапортовался! Довольно сказать, сударь, – продолжал он, обратясь к мальчику, – что все делается ради вашего удовольствия и блага.
– Хорошо бы, – сказал Титус, – после всего этого!
Желание поскорее выбраться из игровой умерило отвращение к глазной повязке и Титус, отпив воды и сжевав маленькую лепешку, шагнул вперед.
– Ладно, – сказал он и, встав перед человеком с шарфом, позволил обвязать себе голову. После второго оборота шарфа он погрузился в полную тьму. После четвертого, почувствовал, как шарф завязывают узлом на его затылке.
– Мы собираемся посадить вас в кресло, ваша светлость.
– Валяйте, – согласился Титус.
Едва усевшись, он ощутил, что отрывается от земли, потом один из четверых произнес что-то, и Титус почувствовал, как под легкое раскачивание мужчин внизу движется сквозь черное пространство. Без единого слова, без промедления, носильщики, уложив на плечи по концу длинной бамбучины, со все возраставшей скоростью зашагали вперед.
Титус не заметил, как они покинули комнату, хоть и понимал, что теперь та должна бы остаться далеко позади. Ясно было, что стен замка они еще не покинули, поскольку Титус ощущал частые перемены направления, которые навязывали им извилистые коридоры, и слышал гулкое эхо шагов носильщиков – эхо, показавшееся ему, ослепленному, таким громким, что он вдруг понял, насколько пуст замок. Ни звука, ни шепота, способного поспорить с гулкой поступью четверых, с шумом их дыхания и размеренным поскрипыванием бамбуковых жердин, не долетало из замковых лабиринтов.
Казалось, они не кончатся никогда – эта тьма, эти звуки, но вот свежий ветерок на лице сказал Титусу, что его вынесли на простор. И тут же он понял, что его несут вниз по ступенькам, а достигнув неровной земли, в первый раз ощутил, как его подбрасывает вверх – четверо носильщиков припустились трусцой по пустому ландшафту.
А ландшафт был пуст совершенно, как и замок. Все лихорадочные дневные труды завершились. Все лица благородного звания, все сановники, служилый люд, мастеровые, артисты, чернь, каждый мужчина, женщина и ребенок – все удалились в назначенное для праздника место.
И носильщики бежали по меркнущей земле. Над головами их тянулся на запад колоссальный язык желтоватого света.
Но с каждым проходящим мгновением сиянье его тускнело, луна выскользнула из тьмы на востоке, и свет на обращенном кверху лице Титуса стал прохладнее и резче.
И носильщики бежали по темной земле.
Эхо пропало. Остались лишь разрозненные звуки ночи – шебуршение каких-то зверьков в подросте да далекое тявканье лисы. Время от времени Титус ощущал, как по лбу его проносятся, ероша пряди волос, прохладные, ласковые порывы ночного ветерка.
– Далеко еще? – крикнул он. Казалось, он уже целую вечность плывет в плетеном кресле.
– Далеко еще? Далеко ли? – крикнул он снова, но не услышал ответа.
Невозможно было нести груз столь драгоценный, как семьдесят седьмой граф, – нести на плечах по лесным тропам, предательским бродам и каменным скатам гор, – и в то же время на бегу находить в голове место для мыслей о чем-то ином. Все внимание носильщиков сосредоточилось на безопасности Титуса, на размеренной плавности мерного бега. Кричи он и в десять раз громче, они бы его не услышали.
Впрочем, слепое странствие Титуса подходило к концу. Он того не знал, а носильщики знали, поскольку, пропетляв последнюю милю или больше по сосняку, они вдруг выскочили на открытый косогор. Земля пошла вниз, и далеко впереди в пеленах залитых лунным светом папоротников, легло у подножия косогора подобие естественного амфитеатра, со всех сторон окруженного отлогими склонами. На первый взгляд, дно этой гигантской чаши сплошь покрывал лес, однако глаза носильщиков уже различили бесчисленные микроскопические, не большие булавочного острия точки света, вспыхивавшие там и сям под ветвями далеких деревьев. И не только это углядели они. Они увидели, что воздух над донным лесом меняет оттенок. В нависшей над ветвями темноте чуялось нежное тепло, подобие дымчатых сумерек, почти розоватых в сравнении с холодной луной или взблесками света среди деревьев.
Однако Титус ничего об этом смуглом свете не знал. Не знал ничего и о том, что его по крутой тропинке несут между папоротников туда, где огромные каштаны вовсе не образуют сплошного леса, как то ложно казалось с окружающих склонов, но продвигаются на целый фарлонг почти к самому краю широкого простора воды. Только искорки света, приковавшие внимание носильщиков, когда те на миг остановились на вершине открытого склона, и указывали на присутствие внизу лунного озера.
Но откуда взялось зарево? Пройдет совсем немного времени и Титус это узнает. Он уже плыл сквозь испещренную лунным светом каштановую рощу. Измотанные носильщики, обливаясь потом, который застил им глаза, поворотили в ведущую к середине южного берега аллею древних деревьев.
Если бы не глазная повязка, Титус увидел бы слева от себя сотню и более лошадей, привязанных к нижним веткам ближайших деревьев. Сбруя, уздечки, повода и седла свисали с веток повыше. То здесь, то там лунный свет, пробивавшийся сквозь листву, ослепительно рассекал полосками мрак или растекался по коже длинных постромок. А подальше от тропы, между редеющих древес, рядами выстроились, как на смотру, самого разного облика экипажи, коляски, двуколки. Там, где листва вверху расходилась, луна сияла, почти не встречая помех: она стояла теперь высоко и свет изливала столь сильный, что удалось бы увидеть и различия в окраске повозок. Колеса каждой украшала листва молодых деревьев, ветки которых были просунуты между спиц, и еще – цветы подсолнечника; в длинной кавалькаде, несколько часов назад проделавшей путь к каштановой роще, не было среди сотен колес ни одного, которое, кружась, не вращало бы листву, ни одного, чьи подсолнухи не кружили бы в сумерках.
Всего этого мальчик видеть не мог – этого и многих иных причуд фантазии, которая целый день, час за часом пробуждалась и разыгрывалась, отвечая духу старинных обычаев, происхождение коих и значение было давно позабыто.
Однако носильщики, наконец, замедлили шаг. И снова Титус склонился вперед, сжимая плетеные поручни кресла.
– Где мы? – крикнул он. – Далеко еще? Вы что, ответить не можете?
Окружающее безмолвие, казалось, гулом отдавалось в ушах. То было безмолвие особого рода. Не то, в котором ничего не случается – безмолвие пустоты, отрицания, – но нечто положительное, осознающее себя, – насыщенное, полное мысли, и никак уж не сонное.
И вот носильщики остановились совсем, и почти сразу Титус услышал в тишине звук приближающихся шагов, а потом…
– Господин мой Титус, – произнес чей-то голос. – Я здесь, чтобы приветствовать вас от имени и матери вашей, и сестры, и всех, кто собрался, дабы отпраздновать ваше десятилетие. …Желание наше в том, чтобы все, приготовленное нами для увеселения вашего, доставило вам удовольствие и чтобы скука долгого, одинокого дня, уже вами прожитого, представилась вам испытанием, каковое стоило вынести; коротко говоря, господин мой Титус, ваша матушка, графиня Гертруда Горменгаст, леди Фуксия и все ваши подданные надеются, что остаток дня рождения вашего вы проведете счастливо.
– Благодарю вас, – сказал Титус. – Я хотел бы сойти на землю.
– Сию минуту, ваша светлость, – откликнулся тот же голос.
– И чтобы с глаз моих сняли шарф.
– Сию минуту. Ваша сестра уже приближается. Она снимет шарф и отведет вас на южную платформу.
– Фуксия! – голос зазвучал напряженно и резко. – Фуксия! Где вы?
– Иду, – крикнула она. – Не отпускайте его руки, вы там! Каково ему, по-вашему, так вот стоять в темноте? – дайте его мне, дайте мне. Ах, Титус, – выдохнула она, легонько прижав к себе брата, – теперь уж недолго – и знаешь, это так чудесно, так чудесно! Так же, как все, что много лет назад устроили для меня, а сегодня и ночь лучше той – совершенная тишь и огромная луна в придачу.
Говоря это, она вела Титуса – и вот, деревья опушки остались позади, и Фуксия знала, что за каждым их шагом, за каждым движением наблюдает множество людей.
Титус же, шагая с ней рядом, пытался вообразить место, в которое попал. Бессвязные замечания Фуксии не позволяли составить картину сколько-нибудь цельную. Ему предстоит подняться на какой-то помост, в небе луна и, похоже, весь замок решил вознаградить его за предваривший торжества долгий и скучный день, – вот все, что он смог уяснить.
– Двенадцать ступенек вверх, – сказала Фуксия, и Титус почувствовал, как сестра, приподняв его ногу, опустила ее на первый из неровных уступов. Они поднялись вместе, рука в руке, а когда оба оказались на платформе, сестра повела его туда, где стояло большое, еще увеличенное луной, набитое конским волосом кресло – уродливое, если в мире вообще существует уродство, сооружение, тяжеленное, обтянутое лиловой кожей, уже к середине пути сюда вымотавшее двух ломовых лошадей.
– Садись, – сказала Фуксия, и он осторожно уселся в темноте на краешек неказистого сиденья.
Фуксия отступила назад. Затем подняла над головой обе руки. В ответ на этот сигнал из мрака донесся голос:
– Время! Пусть с глаз его снимут шарф!
И следом другой – быстрый, как эхо…
– Время! Да начнется праздник!
И еще один…
– Ибо его светлости сегодня исполнилось десять.
Титус ощутил, как пальцы сестры развязывают узел, как с глаз его сматывают ткань. С миг он просидел, зажмурясь, потом медленно развел веки и невольно вскочил, задохнувшись от восторга.
Перед ним, стоявшим, округлив, точно монеты, глаза, прижав руку ко рту, развернулось – повсюду, куда достигал взгляд, – живописное полотно, таинственное, безмолвное. Полотно, далеко уходившее вглубь, раскинувшееся в ширину с востока до запада и вознесшееся много выше луны. Огонь и луна расписали его темную, едва различимую плоскость. Лунные ритмы зарождались и двигались во мраке. Контрапункты костров сияли, как якоря, – якоря, не дававшие лесу соскользнуть в темноту.
И какая глазурь! Неземная глазурь полночного озера! И толпа за водой, неподвижная в тени лепных каштанов. И пламя костров!
Но вот из этой красоты прилетел голос: «Огонь!» – и пушка грянула и скакнула, и дым заклубился над берегом. «Огонь!» – опять крикнул голос, и опять, и опять, пока пушка не проревела подряд десять раз.
То был знак, и внезапно все ожило, словно по мановению волшебной палочки. Полотно содрогнулось. Одни его фрагменты распались, другие слились, и вот что увидел Титус вверху и внизу.
Сначала луну – теперь она висела прямо над его головой, большая, как столовое блюдо, и белая – вся, кроме мест, на которые пали тени ее гор. Луну, чей блеск покрывал все вокруг как бы снеговой пеленой.
А над луной и вокруг – ночное небо. Оно опадало, это небо, подобное занавесу, огромному, как возмездие, на вершины холмов, подернутых дымкой папоротников, чьи ветви налегали одна на другую, стекая, складка за складкой, по склонам к каштановым рощам в их буйной листве, верхние своды которой сияли, изгибаясь на уровне глаз Титуса по колоссальной кривой. А под деревьями, вдоль края воды, бурлило, сгустившись, как крапива на пустыре, все население далекого замка. Сотни людей сразу могли укрываться в литой тени одного только дерева, другие сотни – светиться в ромбовидном пятне лунного света. И подобное пчелиному рою мельтешенье лиц, озаренных красным светом приозерных костров. Теперь, когда отсалютовала пушка, великое полотно забурлило. Другой берег озера был слишком далек, и Титус не мог различить ни одной фигуры, но оживление бежало по тамошним толпам, как зыбь от ветра по полю плевел. Однако и это не все. Ибо и зыбь, и трепет теней и лунного света, и волнение на берегу немедленно повторялись озером. При малейшем движении чьей-либо головы на берегу, призрак ее смещался в воде. Ни единый проблеск огня не терялся в зеркалистых водах.
Именно на этом ночном стекле, в глубинах которого сияла облитая луною листва каштанов, взгляд Титуса задержался дольше всего. Ибо в нем была пустота, смертный покров, в нем было все. Ничто из вмещаемого озером ему не принадлежало, пусть даже малейший листок отражался в нем с микроскопической точностью, – и, словно стремясь высветить эти зыбкие очерки собственным их светилом, призрак луны лежал на воде, большой, как блюдо, и белый – весь, кроме тех мест, на которые пали тени его гор.
II
И все же это пиршество для глаз не столько насыщало, сколько внушало новые ожидания. Если и есть на свете что-либо, заслуживающее название фона, то вот оно, – однако фон для чего? Сцена готова, публика собралась – что дальше? Титус, наконец, обратил взгляд туда, где стояла сестра, но ее уже не было. Только он и остался на платформе – он и набитое конским волосом кресло.
Тут он и увидел ее – сидящей на бревне рядом с матерью. От ног их земля полого спадала к озеру, и на этом склоне собралось все, что почитало себя высшим светом Горменгаста. Направо и налево от них толпился всевозможного толка должностной люд – и над Титусом, и над всеми ними теснились террасы деревьев.
Обнаружив, что остался один, Титус уселся в лиловое кресло и, устраиваясь поудобнее, подобрал под себя ноги и положил ладони на округлые подлокотники. Он смотрел на воду с ее перевернутой картиной всего, что раскинулось над нею.
Фуксия, сидя близ матери, дрожала. Она помнила, как годы назад каштановые рощи скрывали свою тайну до самого этого мига, и как они выплеснули наружу устрашающие фигуры. Она повернула голову – посмотреть, не удастся ли ей поймать взгляд Титуса, – но тот смотрел перед собой, и, пока она глядела на брата, рука его опять поднялась ко рту, и он, распрямившись, застыл, словно окаменелый.
Ибо прямо перед ним, за непорочным простором воды, выступили из тени существа, высокие, как сами каштаны, выступили и, приблизясь к кромке воды, замерли, невероятные! Перед ними расстилалась их влажная сцена. Отражения их фантастически вытянутых тел уже погрузились в глубины озера.
Их было четверо и каждый вышел из своей части леса. Похоже, они не замечали один другого, хоть и поворачивали головы вправо и влево. Движенья их тел казались натужными, преувеличенными, но необычайно красноречивыми.
Высокие маски, венчавшие тела, отстояли от травы, по которой они ступали, не менее чем на тридцать футов.
То были существа из иного мира, и люди, во множестве глазевшие на них снизу вверх, не только уменьшились до лилипутских размеров, но и вид обрели прозаичный и серый. Ибо четверка великанов представлялась во всех отношениях удивительнейшей и прекрасной. Даже лес за их спинами словно бы еще потемнел, поскольку величавые призраки переливались под светом луны красками такими же варварскими и резкими, как у оперения тропической птицы.
С одного на другого переводил взгляд Титус, неспособный ни на чем его остановить, хоть мальчику и хотелось разглядеть каждое из существ в отдельности.
На величавых плечах несли они свои головы – как короли, отрешенные, загадочные. Величие – вот что наполняло малейшее их движение. Казалось, что косные, размеренно воздеваемые руки их вытягивают самый гумус из почвы под ними. Запрокидывая лица вверх, они обращали небо в пустыню, луну – в преступницу.
Четверо появились из леса, смотревшего на Титуса из-за озера. Головы их сильно рознились одна от другой. Того, кто утвердился северней прочих, венчала высокая коническая шляпа, подобье дурацкого колпака, под которым огромная белая голова, вроде львиной, медленно поворачивалась туда-сюда на подпиравших ее плечах. Глаза, совершенно круглые, были намалеваны чистейшего изумруда зеленью и, когда голова поднималась, сияли под луной.
Но великолепней всего была грива. Начинаясь с обеих сторон головы несколько выше глаз, она роскошно вздымалась, чтобы волнами имперского пурпура спуститься к пояснице, завершившись в двадцати футах от окончаний ходуль, к которым, подобно водопаду, спадала под собственным весом необъятная юбка – совершенно черная, такая же, как на остальных. Общая чернота двух нижних третей их тел сообщала иллюзорность третям верхним. Разглядеть юбки, как и их отражения, вообще говоря, удавалось, но далеко не с такой ясностью, как то, что помещалось над ними. По временам начинало казаться, что яркие их верхушки плывут по воздуху. Руки Льва вырастали из самой середки гривы. В каждой он держал по кинжалу.
Ближе всех к фигуре с пурпурной гривой стоял некто, далекий от натуральности не менее Льва, но более зловещий, поскольку волчьи очертания его головы не искупались благородством черт и не смягчались фарсовостью высокой и белой дурацкой шляпы.
В этом пронырливом монстре явственно проступало свирепство – но сколь живописным выглядело оно! Голова была темно-красной, а торчащие вверх заостренные уши – густо-синими. Синеву эту повторяли разбросанные по серой шкуре круги. В руках чудище держало по здоровенной картонной бутыли с ядом. И как у Льва, стеною тьмы опадала юбка.
Даже сейчас, пока они стояли как бы за кулисами водной сцены, поскольку никто из них еще не вступил на нее, каждое их движение внушало страх. Стоило Волку воздеть бутыль с отравой, и дрожь пробегала по толпящимся зрителям; стоило Льву тряхнуть гривой, и все озеро одевалось гусиной кожей.
Следом за Волком, в полуакре от задранных кверху голов, высилась Лошадь – не похожая ни на одно из когда-либо состряпанных издевательств над этим благородным животным, и все же – скорее лошадь, чем что-то иное. Чудовищная на свой манер, она несла выражение меланхолии до того слабоумной, что Титус не знал, плакать ему или смеяться – ни то, ни другое не отвечало тому, что он, глядя на нее, ощущал.
На голове великанши сидела огромная плетеная шляпа, поля которой отбрасывали далеко внизу круглую тень на освещенную луною воду. Длинные кобальтовые ленты нелепо свисали с тульи, свиваясь двадцатью футами ниже на волосатых плечах. Нижнюю же часть тульи украшала трава и сизоватые лилии.
А из-под всего этого великолепия с печальным идиотизмом выставлялось вислогубое лошадиное рыло. Длинная сентиментальная морда Лошади была, как и у Льва, белой, но на обеих ее сторонах, между глазами и изогнутой линией рта виднелись намалеванные красные круги. Долгую, нелепо гибкую шею покрывала на загривке оранжевая щетина.
Ее облекала яблочно-зеленая блуза, из-под которой уходила вниз юбка, скрывавшая хвост и шаткие ходули, не более чем на шесть дюймов выступавшие из-под черного подруба. В одной руке Лошадь держала парасоль, в другой – томик стихов. Время от времени она поворачивала голову и склоняла ее, с подобьем печальной, самодовольной почтительности, к стоявшей слева Овечке.
Овечку эту, при всей чрезмерности ее статей чуть уступавшую в росте своим компаньонам, сплошь покрывали золотистые кудри. Физиономия ее выражала неописуемую безгрешность. Куда бы и под каким бы углом ни поворачивала она голову – озирала ли небеса в поисках некоего видения райского блаженства или склонялась, словно в раздумьях о своей непорочной душе, – спасения от собственной чистоты ей не было. Между ушей Овечки покоилась на золотых локонах серебряная корона. Серая шаль, с нарочитой скромностью свисавшая с одного ее плеча, овивала золотистую грудь и низко спадала скульптурными складками, скрывая часть неизменной юбки. Руки Овечки были пусты, ибо она прижимала их к сердцу.
Эти четверо, с головами величиною в добрую дверь и, однако ж, представлявшимися маловатыми в сравнении с внушающей трепет статью их тел, – эти четверо простояли, отражаясь в озере, больше минуты, прежде чем с пугающим единодушием ступили на его воды.
Титус, вскрикнув от волнения, обеими руками вцепился по сторонам от себя в трухлявую обшивку кресла, так что пальцы его глубоко ушли в древний конский волос.
Казалось, что Четверо вышагивают прямо по глади озера. Странная, паучья поступь чудовищ уже увела их далеко от берега, но подолы их юбок оставались сухими! Титус никак не мог уяснить, в чем тут дело, пока не сообразил, наконец, что при всей ясности отражений, будто бы уходивших в бездонные воды, огромное озеро имело, в сущности, глубину всего в несколько дюймов. Тонкая пленка воды, не более.
Разочарование на миг кольнуло его. Глубокие воды опасны, а для мальчика опасность реальнее красоты. Однако разочарование тут же забылось, ибо не будь озеро просто-напросто лужей, ничего подобного увидеть ему бы не привелось.
Озерный маскарад Четверых придумали много столетий назад для этой именно сцены, обставленной ночными каштанами. Жестикуляция Льва, напыщенная, нелепая, но внушительная, потрясание пурпурной гривой, при коем остальные трое неизменно отпрядывали в сторону, – страшное, бочком-бочком, продвижение Волка, подбиравшегося с бутылями яда все ближе к золотистой Овечке, и диковинный шаг Лошади в ее изукрашенной шляпе, шаг, переносивший ее с одного берега озера на другой, между тем, как сама она читала стихи, отбивая их ритм поднятым вверх парасолем, – все это составляло формулу, такую же древнюю, как стены замка.
И пока длилась маскарадная драма, разыгрываемая на высоких, как деревья, ходулях, над озером, отражавшим не только шествие исполнителей, но и луну вверху, о чье жидкое отражение кошмарная Лошадь всякий раз спотыкалась, словно получая подножку, – пока драма длилась, ничто не нарушало безмолвия. Ибо, хоть все происходящее и несло на себе отпечаток нелепости, главенствующее впечатление порождалось не ею. Когда Лошадь спотыкалась или взмахивала парасолем; когда Волк переступал вбок и нижняя челюсть его отвисала, будто подъемный мост; когда Овечка возводила очи к луне лишь затем, чтобы взмах львиной гривы снова отвлек ее от очередной судороги непорочности, – когда происходило все это, рождался не смех, но чувство облегчения, поскольку грандиозность спектакля и божественный ритм каждого его эпизода были таковы, что мало кого из зрителей не посещало тогда какое-нибудь мучительное воспоминание детства.
И наконец, освященный веками ритуал завершился, величавые существа выступили из мелкого озера и, прежде чем скрыться в гуще леса, поклонились над отмелью Титусу, как могли поклониться друг другу боги Поэзии и Битвы – поклонились, как равные, над зачарованной водой.
Удалившись, Четверо увели с собой тишину. Остаток ночи был своего рода освобождением от совершенства, временем всяческой суеты.
Между кострами, окружавшими озеро, согревая над каштанами воздух, загорались новые, под береговыми ветвями распаковывались корзинищи и корзинки с провизией.
Графиня Гроанская, остававшаяся во весь маскарад неподвижной, как бревно, на котором она сидела, оглянулась через плечо.
Но Титуса уже не было на помосте, как не было рядом с нею и Фуксии.
Графиня поднялась с бревна – традиционного почетного места – и рассеянно спустилась к кромке воды, пройдя меж рядами служилого люда, понявшего, когда она встала, что до конца ночи он волен развлекаться как ему заблагорассудится.
Массивная фигура Графини нависла над мерцающей водой, черная, если не считать света луны на плечах и темно-красных волос.
Она поглядывала по сторонам, но, казалось, не замечала толпившихся по берегам людей.
Гигантский пикник складывался из отдельных фрагментов в единое целое, рыбы, плоды, хлеба, пироги раскладывались под деревьями и скоро уже вокруг озера развернулось всеобщее пиршество.
И пока шли приготовления, стайки визжащих сорвиголов мельтешили между каштанов, облепляли их ветви или, вылетев из-под деревьев, скакали и ходили колесом посреди озера, и отражения мелькали под ними, и пленка воды взрывалась под их ногами. Когда же одна такая стая встречала соперников, сотни водных сражений взбалтывали мелкую воду, и дети, рассеясь по водной арене, боролись, сцепившись, и лунный свет стекал по их скользким телам.
Титус, наблюдая за ними, всем своим существом жаждал безвестности – возможности затеряться в их племени, жить, и бегать, и драться, и плакать, если придется, на свой страх и риск. Ибо быть одним из этих буйных детей – значило оставаться одному среди людей. А будучи Графом Горменгаст, остаться один он не сможет никогда. Он останется лишь одиноким. Даже побыть наедине с собой означало – побыть наедине с тем, другим мальчиком, с символом, с фантомом, с семьдесят седьмым Графом, неизменно маячащим у него за спиной.
Фуксия махнула Титусу рукой, приглашая спрыгнуть с помоста, и вместе они побежали в каштановый лес, что поднимался сразу за платформой, и на мгновение обнялись в темноте, в глубоких тенях деревьев, слушая, как бьются сердца.
– Нехорошо с моей стороны, – сказала наконец Фуксия, – да и опасно. Нам полагается вкушать вместе с мамой полуночный ужин за длинным столом. Нужно вернуться, и поскорее.
– Возвращайся, если хочешь, – сказал Титус, которого трясло от ненависти к своему положению. – А я ухожу.
– Уходишь?
– Ухожу навсегда, – сказал Титус. – На веки вечные. В чащобу, как… как Флэй… как то…
Но он не смог описать хрупкое существо, что проплыло перед ним в золотистой дубраве.
– Нельзя, что ты, – сказала Фуксия. – Ты там умрешь, я тебе просто не позволю.
– Ты не остановишь меня, – выкрикнул Титус. – Никто не остановит…
И он начал сдирать длинную серую тунику, словно та преграждала ему путь к свободе.
Но Фуксия, у которой вдруг задрожали губы, прижала руки Титуса к его бокам.
– Нет! Нет! – с силой зашептала она. – Не сейчас, Титус. Нельзя…
Однако он вырвался и тут же, споткнувшись в темноте, повалился лицом вперед. Приподнявшись и увидев над собою сестру, он притянул ее к себе, и та опустилась рядом с ним на колени. От озера летели крики детей, потом вдруг громко ударил колокол.
– Это приглашение к ужину, – в конце концов прошептала – ибо она ждала, что Титус заговорит первым, – Фуксия. – А после ужина нам придется пройти вдоль берега, чтобы осмотреть пушку.
Титус плакал. Долгий, проведенный в одиночестве день, поздний час, возбуждение, чувство сущностного своего одиночества – все это, соединившись, лишило его сил. Но он кивнул. Увидела ли Фуксия этот безмолвный ответ на свои слова или нет – она не сказала больше ни слова, но лишь подняла брата с земли и отерла слезы его широким рукавом платья.
Вместе выбрались они на опушку и снова увидели костры, и толпу, и озеро с каштановой рощей за ним, и платформу, где Титус сидел один, и мать, восседавшую за длинным столом, опершись локтями о лунную скатерть и подперев подбородок ладонями, между тем как пред нею разворачивался во всем его великолепии, – похоже, незамечаемый, ибо глаза Графини не отрывались от далеких холмов, – традиционный банкет, красочный многофигурный шедевр, и золотое блюдо Гроанов горело неторопливым, мягким огнем, и багровые кубки тлели под луной.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ
I
А между тем времена года, как гигантские приливные волны, воздымались и заливали все непрочными красками, согревая или холодя дыханием своим пространства Горменгаста. И пока Фуксия бродила по своей комнате в поисках затерявшейся книги, южные рощи – внизу, под ее окном – купались во мгле зеленого ожидания, и через несколько дней острая еловая зелень вырвалась наружу из железных ветвей.
II
Опус Трематод с Фланнелькотом стояли, облокотясь о перила веранды, над Профессорским двориком. В тридцати футах под ними разметал пыль старый дворник. Пыль побелела от жары, уплотнилась, ибо весна давно миновала.
– Потная работенка, старина! – прокричал Трематод дворнику. Дряхлец поднял голову и отер чело.
– Ага! – отозвался он голосом, которого и сам не слышал несколько уж недель. – Ага, сударь, да и горло сушит.
Трематод скрылся из виду, но через несколько секунд воротился с бутылкой, которую стибрил из жилища Мулжара. И спустил ее на длинной веревке старику, далеко внизу купавшемуся в пыли.
III
Прюнскваллор, запершись от всего мира в своем кабинете, скорее лежал, чем сидел, в изящном кресле и читал, перекрестив ноги под самой каминной доской.
Несколько поленьев, слабо горевших в камине, озаряли узкое, нелепо утонченное, но при всей фантастичности его черт, изысканное лицо Доктора. Увеличительные стекла очков, придававшие глазам его вид столь гротескный, посверкивали, отражая огонь.
Не руководство по врачеванию поглотило его. На коленях Доктора лежала исписанная стихами потрепанная тетрадь. Почерк выглядел неустоявшимся, но разборчивым. Некоторые стихи были написаны медленной, неловкой детской рукой, некоторые – торопливой, взволнованной яснописью, полной вычерков и ошибок.
То, что Фуксия вообще попросила его прочесть эти стихи, вызвало в Докторе волнение, до сей поры им еще не испытанное. Он любил эту девочку, как собственную дочь. Но никогда ничего не пытался выведать у нее. Мало-помалу, с течением времени, она сама доверялась ему.
И все же, пока он читал, пока осенний ветер посвистывал в ветвях садовых деревьев, на лбу Доктора все скапливались и скапливались хмурые складки, а взгляд все возвращался к четырем престранным строкам, которые Фуксия вычеркнула жирным карандашом:
Как лицо его ало и бело! Может, где-то в дальней дали Обитают герои, отчаянно смелые, Чьи лица алы и белы.IV
Холодно, скучно – зима. Снова Флэй, совсем уж освоившийся в Безмолвных Залах, как освоился когда-то в лесах, сидит за столом в своей потаенной комнатке. Руки его глубоко засунуты в продранные карманы. Большой разостланный перед ним лист бумаги не только покрывает столешницу, но и свисает трудными складками по сторонам стола, сминаясь на полу. Срединная часть листа покрыта пометками, коряво написанными словами, короткими стрелками, пунктирными линиями и невразумительными схемами. Это карта, карта, над которой господин Флэй трудится уже больше года. Карта мест, его окружающих, – пустого мира, чья анатомия мало-помалу слагается в единое целое, расширяясь, впитывая исправления, образуя систему. Он словно бы поселился в заброшенном городе, который понемногу осваивал, давая названия улицам и переулкам, гранитным проспектам, извилистым лестницам и почерневшим террасам – все удаляясь в своих изысканиях от центра под бесконечными потолками, ненарушимой кровлей, вездесущей, будто низкие небеса, обложные, сплошные.
Рисовать и писать он не мастер. Перо сидит в руке его как-то криво. Однако долгая жизнь в непроходимых лесах сослужила ему хорошую службу, он чувствует это и отправляясь в свои экспедиции, и с неловкой медлительностью заполняя карту.
Звезды ему в этих местах не помощницы, и оттого способность ориентироваться стала у Флэя почти сверхъестественной.
Сегодня ему предстоит нести вахту у двери Стирпайка – занятие, ставшее обычным для предрассветной поры: когда выпадает случай, Флэй провожает юнца, куда бы тот ни направлялся. Пока же у него остается еще семь часов на рекогносцировку, обратившуюся ныне в главную страсть Флэя.
Он вынимает из кармана руку и проходит исцарапанным, костлявым пальцем путь, которым собирается нынче проследовать. Путь ведет на север, прорезая многие акры, прежде чем, зигзагообразно нырнув в штриховку узких проходов, вновь возродиться в виде двенадцатифутовой ширины коридора с исшарканной кладкой по обеим его сторонам. Коридор этот идет, никуда не уклоняясь, на север, истаивая в той части бумаги Флэя, которая почти спадает со стола, в череде неуверенных точечек. Точки доходят до границы, за которой кончается его знание севера.
Флэй подтягивает карту к себе, и бумага, свободно свисающая с дальнего края стола, скользит, поднимаясь над полом, ползет, приближаясь к его вытянутой шее, арктическим зевком раскрывая просторы нетронутой белизны.
V
Дни движутся, меняются названия месяцев, и времена года погребают друг друга, вот уж и снова весна, и снова ручьи, стекающие по неровным бокам Горы Горменгаст, взбухают от дождей, а дни между тем удлиняются, и лето расползается окрест покровами зелени с ее золотистыми, клейкими головками, с оцепенением, воркованием голубей, бабочками, ящерками, подсолнухами, снова и снова – голуби, бабочки, ящерки, подсолнухи, – каждый и каждая, словно детское эхо, пока не созреют плоды, и низкое солнце не испятнает гротескные стволы древних яблонь, и воздух не пропитается гнилостной сладостью, от которой голод взмывает к груди, обращая сердце в морское дно, и слеза, порожденье воды и соли, вызревает, вскармливаемая летней печалью, вызревает и падает… неторопливо ползет по щеке, вяло блуждая по пустоши, – лучшая из эмблем состояния, в какое впадают сердца.
Дни движутся, меняются названия месяцев, и времена года погребают одно другого, и полевая мышь ползет к своим закромам. Воздух пасмурен и солнце похоже на рваную рану на грязном теле нищего, и скорузнет вретище туч. Небо заколото и брошено умирать над миром, грязное, огромное, окровавленное. А там налетают большие ветра, и продувают его догола, и дикая птица вскрикивает над посверкивающей землей. И Графиня стоит с белыми котами у ног при окне своей комнаты и озирает замерзший внизу ландшафт, и год спустя стоит точно так же, вот только коты бродят где-то по коридорам, а на плече ее грузно сидит ворон.
И что ни день, совершаются мириады событий. Расшатавшийся камень падает с верхушки башни. Муха замертво валится с треснувшего оконного стекла. Укрывшись в плюще, чирикает воробей.
Дни изнуряют месяцы, месяцы изнуряют годы, и приливы мгновений грызут, как неугомонный прибой, черное побережье будущего.
И Титус Гроан с трудом бредет, переходя вброд свое отрочество.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ
Какая-то спячка окутала замок. В нем не то чтобы не происходит ничего, но даже в самых важных событиях присутствует что-то нереальное. Как будто некое странное колесо судьбы завязло в давно поджидавшей его яме.
Кличбор был теперь супругом. Ирма, не потратив и минуты, приступила к возведению земляного вала, который отгородит супружеский их союз от всего остального мира.
Она неизменно знала, что лучше для Кличбора. Неизменно знала, в чем он нуждается пуще всего. Знала, как должен вести себя Школоначальник Горменгаста и как должны вести себя в его присутствии подчиненные. Подчиненные боялись ее до колик. В том, что касалось Ирмы, между ними и их учениками никакого расхождения не было. Им только и оставалось, что перешептываться, прикрываясь ладонями, прокрадываться на цыпочках мимо двери Кличборовых покоев, следить за чистотою своих ногтей и, что хуже всего, вовремя приходить на занятия.
Ирма изменилась почти до неузнаваемости. Брак сообщил ее тщеславию и напор, и направление. Ей не потребовалось много времени, чтобы обнаружить врожденную слабость мужа. После этого любовь ее не уменьшилась, но стала воинственнее. Муж обратился в ее ребенка. Благородного, но, увы, далеко не мудрого. Это она была мудра и в любовной умудренности своей стала его руководительницей.
На взгляд Кличбора, история получилась прегрустная. Обладать такой властью над Ирмой – и вот, пожалуйста, претерпеть разочарование, увидеть, как все переворачивается с ног на голову. Он не сумел сохранить главенствующее положение. Мало-помалу вылезли наружу и отсутствие в нем воли, и прирожденная вялость. Однажды она застала его примеряющим перед зеркалом достойные выражения лица. Увидела, как он встряхивает прекрасными белыми волосами, услышала, как он корит ее за некий воображаемый проступок. «Нет, Ирма, – говорил он, – так не пойдет. Я был бы благодарен тебе, если б ты помнила свое место», – тут он глупо ухмыльнулся, словно бы устыдясь чего-то, а снова взглянув в зеркало, увидел за своею спиною жену.
И все же он знал, что намного выше ее. Знал, что в нем кроется своего рода золотой запас, резерв силы, хоть в то же самое время знал и то, что проку от этой силы никакого, поскольку он отродясь ею не пользовался. Он даже и не знал толком что это за сила такая. Однако сила в нем присутствовала – примерно столь же реальная для него, сколь реальна для грешника его изначальная невинность, ждущая, точно подкладень, своего мига в его груди.
И опять-таки, при всем его покорстве, в возможности снова предаться слабости присутствовало облегчение. Он понемногу сдавался, ни на миг не забывая, однако, о своем тайном превосходстве – превосходстве и мужчины, и трости надломленной. Лучше, твердил он себе, нести в груди своей тайну, музыку и надломиться, чем состоять из некоего вполне прозаического, пусть и сверхпрочного материала, в котором тайны и музыки примерно столько же, сколько нежной любви во взгляде кондора.
Все эти мысли Кличбор, натурально, держал при себе. По Ирминому разумению, он оставался ее повелителем, но только посаженным на короткий поводок. По разумению подчиненных, он просто сидел на поводке и все. А по его – поводок там или не поводок, но в нем вызревала новейшая философия. Философия незримого бунта.
Сквозь белесые ресницы он не без любви всматривался в жену. Приятно было видеть ее рядом с собой – штопающей его церемониальную мантию. Все лучше, чем терпеть, как в прежние дни, подтрунивание Профессоров. В конце концов, ей же неведомо, что он себе думает. Он смотрел на ее заостренный нос. И как ему удавалось прежде находить в этом носище какую-то прелесть?
И все же, какая это радость – тайные помыслы. Мечтания о несбыточном спасении, о возвращении статус-кво, при котором она опять окажется в его власти, как тем волшебным вечером в испещренной лунным светом беседке. А с другой стороны, это так утомляет, так утомляет. Сила воли никому еще счастья не принесла.
Кличбор откидывался в кресле и упивался своей слабостью, уголок старого рта его чуть подергивался, глаза наполовину закрывались, покой осенял львиные черты величавого старческого лица.
Ощущение нереальности, распространившееся по замку подобно некой чудной заразе, приглушило шум, вызванный женитьбой Кличбора: хоть недостатка в событиях не было, как не возникало и вопросов насчет их существенности, острота восприятия, способность осознавать их притупились, и никто, в сущности говоря, не верил, будто происходит хоть что-то. Замок словно оправлялся от болезни – или приготовлялся вот-вот заболеть. Он тонул не то в тумане расплывчатых воспоминаний, не то в нереальности тревожных предчувствий. Непосредственность жизни его утратилась. Исчезла резкость очертаний. И свежесть звуков. На все опустилась завеса – завеса, которой никто не мог разодрать.
Невозможно сказать, как долго все это продолжалось, даром что во всем чувствовалась общая угнетенность, затруднявшая всякое действие, едва ли не уничтожавшая реальность его значения, обратившая, к примеру, брачную церемонию Кличбора в подобие грезы; и все-таки нереальность эту каждый ощущал по-своему – ее напряженность, качество, длительность – все зависело от темперамента человека, в нее погружавшегося.
Были такие, кто никакой разницы почти и не замечал. Плотного сложения твердолобые мужички с лошадиными ртами – эти вовсе ничего не почувствовали. То есть им мерещилось, будто все как-то лишилось прежней значимости, но и не более того.
Другие, потонув в нереальности, слонялись по замку, как призраки. Даже самые голоса их, когда они произносили что-либо, казалось, долетают издалека.
То было воздействие Горменгаста, потому что – чего же еще? Лабиринтообразный замок как будто пробудился от каменного и железного сна и вдохнул в себя воздух, оставив взамен пустоту – в ней-то, в пустоте, и перемещались теперь марионетки.
А после настал день – вечер, под самый конец весны, – когда замок выдохнул отнятый воздух, и далекие дали примчали назад, и удаленные голоса зазвучали отчетливо и близко, и руки вдруг осознали, что в них зажато, и Горменгаст вновь обратился в камень и снова заснул.
Но прежде чем спала тягота пустоты, случилось многое, – случилось, хоть и представлялось оно задним числом каким-то смутным, туманным. И сколько бы расплывчатым оно ни казалось, но последствия имело вполне осязаемые.
Титус не был уже ребенком, школьные дни его близились к концу. С ходом годов он все больше обращался в одиночку. Всем, кроме Фуксии, Доктора, Флэя и Кличбора, он представлялся угрюмцем. Но под угрюмой, далеко не приятной оболочкой его медленно и мятежно горела страстная потребность освободиться от наследственных обязанностей. Ненависть – не к Горменгасту, ибо даже пыль Замка входила в состав Титусовой крови, да никакого иного места он и не знал, – но к злой судьбе, которая назначила его тем, на чьи беспокойные плечи возляжет в будущем тяжкое бремя древней ответственности.
Он ненавидел отсутствие выбора: уверенность тех, кто его окружал, что думать можно только так и никак иначе, что его желание самому выстроить свое будущее никакого значения не имеет, а то и представляет собой злонамеренную измену первородству.
Но более всего ненавидел он царившее в его сердце смятение. Ибо Титус был горд. Горд нелепо. Он утратил бессознательность детства, в котором был мальчишкой среди мальчишек, обратился в лорда Титуса и сознавал это. И томясь потребностью в безвестности свободы, он ходил меж людей в одинокой гордыне, проступавшей в его осанке, властности и угрюмстве.
Внутреннее противоречие это было главной причиной неуступчивой и резкой его повадки. Среди своих одногодков он становился все более непопулярным, однокашники Титуса не понимали причин его яростной вспыльчивости. По самому мелкому поводу, а то и вовсе без повода, он мог оторвать крышку парты. Он стал опасен, и потому с течением времени одинокость его все возрастала. Мальчишка, готовый на всякую шалость, на всякое полуночное приключение, какое выпадет ему в длинных дортуарах, обратился в совершенно другого человека.
Сумбур его мыслей и чувств – неуверенные поиски выхода для заблудшей души, незрелая жажда бунта не оставляли в Титусе места для того, что когда-то учащало удары его сердца. Теперь одиночество пьянило его гораздо сильнее. Он переменился.
И все же, хотя с того дня, когда он, доктор Прюнскваллор и Кличбор играли в маленьком форте в шарики, прошли долгие годы, он все еще способен был предаваться удовольствиям самым ребяческим. Нередко его видели часами просиживавшим у рва и пускавшим собственной выделки деревянные кораблики. Но не так, как в былые дни, – более отрешенно, как будто при всей сосредоточенности, с какой он вырезал карманным ножом заостренный бушприт или тупую корму некоего повелителя волн, мысли его блуждали где-то далеко-далеко.
Однако он резал маленькие эти суда, и давал им имена, и отпускал в опасные плавания к островам кровопролития или пряностей. Он приходил к Доктору и наблюдал, как тот трудится над удивительными рисунками, до которых Ирме никогда не было дела: над изображениями паукообразных человечков, которых целая сотня умещалась на листе, участвуя то в сражениях, то в тайных советах, то в охотничьих сценах, то в поклонении некоему пауковидному божеству. И целый час он испытывал истинное счастье. Приходил Титус и к Фуксии, и они говорили и говорили до рези в горле… говорили обо всем, что есть в Горменгасте, потому что ничего другого не знали, – но ни с сестрой, ни с Кличбором, по временам, когда Ирмы поблизости не было, пришаркивавшим ко рву, чтобы пустить кораблик-другой, – ни с ним, ни с Доктором не делился Титус тайным своим страхом: что жизнь его обратится в не более чем кругооборот предписанных ритуалов. Потому что никто – даже Фуксия, сколько бы она ему ни сочувствовала, – помочь Титусу не мог. Никто не осмелился бы ободрить в нем стремление отринуть путы и узнать, что лежит за пределами его царства.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ
Странная спячка, затопившая Горменгаст, не могла не подействовать и на Фуксию с ее живым воображением и чрезмерной возбудимостью. На Стирпайке, как ни сильно была развита в нем способность приспосабливаться к любому окружению, спячка эта сказалась меньше, лукавая голова его словно бы возвышалась над поверхностью таинственных вод. Он различал Фуксию, бредущую далеко внизу, по прозрачному миру. Остро ощущая все и вся охвативший транс, Стирпайк, в соответствии с природой его, немедля озаботился тем, как наилучшим образом использовать этот дурман для достижения собственных целей, и на то, чтобы принять решение, времени у него ушло немного.
Он должен добиться благосклонности дочери Дома. Добиться, пустив в ход все свое коварство, всю артистичность. Необходимо сломить ее сдержанность обращением и простым, и чистосердечным, напускной мягкостью, вниманием к тому, что якобы есть у них общего: чарующей, но одновременно и мужественной почтительностью к ее сану. И в то же время необходимо, чтобы она поняла, какой в нем горит огонь, – а огонь в нем несомненно горел, пусть и иного рода, – необходимо устроить посредством всевозможных уловок все так, чтобы при свиданиях их и случайных встречах она почаще видела его в ситуациях, сопряженных с риском, ибо Стирпайк уже знал, насколько ей по душе его храбрость.
И при всем при том, ему надлежит по возможности прятать свое лицо. Насчет способности оного нагонять на людей страх Стирпайк никаких иллюзий не питал. Из того, что Фуксия с головою погружена в тяжкую и одновременно как бы нездешнюю атмосферу замка, вовсе не следовало, что она невосприимчива к пугающим особенностям его погубленной внешности. Он станет встречаться с нею после наступления сумерек, когда зрение не будет отвлекать ее, и она понемногу поймет, что только в нем одном суждено ей найти настоящего друга, – ту гармонию ума и души, ту надежность, по которым она так истосковалась. Впрочем, не только по ним. Стирпайк понимал, что жизнь Фуксии лишена любви – и знал, сколько в душе ее пылкости и тепла. Покамест он только ждал. Теперь время настало.
Планы его обрели окончательный вид. И одним сумрачным вечером он сделал первый ход. Как Распорядителю Церемонии ему не составляло труда узнавать, в каких частях замка можно в тот или иной вечерний час не опасаться непрошеных гостей.
Фуксию, на которую сильно подействовала непостижимая атмосфера, обратившая древний дом ее в нечто, ей еще не знакомое, удалось шаг за шагом, на что ушло несколько недель, привести в состояние духа, в котором ей представлялось только естественным, что Стирпайк ищет ее совета по тому или иному поводу или рассказывает, что с ним случилось в течение дня. Голос его был ровен и тих. Словарь богат и гибок. Фуксию очаровывала его способность глубоко вникать в любой предмет, который они обсуждали, – сама она этой способностью не обладала. Восхищение, которое вызывала в ней живость его ума, возрастало, преобразуясь в восторженный интерес к нему в целом – к Стирпайку, находчивому, неустрашимому наперснику, с которым она ночи напролет вела доверительные беседы. Он не походил ни на кого. Все видящий, все знающий, подлинный с головы до пят. Прежнее отвращение, какое вызывало в ней воспоминание о его обожженном лице и красных руках, было погребено под все подрастающим зданием их близости.
То, что она, дочь Рода, так часто видится со служащим замка, и видится по причинам неофициальным, было, Фуксия сознавала это, преступлением против занимаемого ею положения. Но она так долго жила в одиночестве. Чувство, что другой человек питает к ней интерес, заставляющий его желать ночь за ночью встречаться с нею, было столь ново для нее, что до пределов опасных земель, дорогами коих ей предстояло уже так скоро пройти, оставалось рукой подать.
Впрочем, в будущее она не заглядывала. В отличие от ее нового друга, сумеречного человека, каждая фраза которого, каждая мысль, каждый поступок содержали двойное дно, она жила волнующими минутами, упиваясь новыми ощущениями, которых ей более чем хватало. Инстинкт самосохранения отсутствовал в ней. Опасения – тоже. И Стирпайк мало-помалу сближался с нею, передвигаясь хитроумными кружными путями, пока не настала ночь, когда руки их ненамеренно встретились в темноте и ни одна отнята не была – и в этот миг Стирпайк решил, что дорога к власти ему открыта.
Долгое время все развивалось так, как им и было задумано, и доверительность их потаенных встреч побуждала обоих все больше и больше, – так думала Фуксия, – раскрывать души друг другу.
И все-таки, тешась злорадным сознанием того, какою властью он ныне над ней обладает, Стирпайк, распаляемый предвкушением последней победы, не спешил совратить Фуксию. Он знал – когда Фуксия расстанется с девственностью, он сможет держать ее в руках, хотя бы с помощью простейшего шантажа. Но к этому он готов пока не был. О многом предстояло еще позаботиться.
Фуксии же все представлялось настолько чудесным и новым, что она довольствовалась одними собственными чувствами. Она была счастлива, как никогда в жизни.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ
Исчезновение отца Титуса, графа Сепулькревия, и его сестер, Двойняшек, их ужасные, окутанные тайной кончины; смерть Саурдуста от огня и его сына Баркентина от огня и воды – чем были в глазах замка все эти тайны, все это насилие? Они распределились во времени, эти ужасы, по двенадцати или более годам, и хоть устроенные каждый на свой особый манер умы Графини, Доктора и Флэя раз за разом пытались, подходя к совершившимся трагедиям с различных сторон, отыскать общую их основу, им так и не удалось найти доказательства преступных деяний, способные подкрепить их подозрения.
Только Флэй знал страшную правду о смерти и хозяина своего, лорда Сепулькревия, и врага – тучного Свелтера, им же, Флэем, и убитого. Но знанием своим он ни с кем не делился.
Да, причиной его изгнания стал изменнический жест Стирпайка – пегий мерзавец был в ту пору юнцом лет семнадцати-восемнадцати, и его нелояльность крепко засела в голове Флэя. Однако о заточении и смерти Двойняшек Флэй ничего не знал, хоть и слышал, не ведая ни о происхождении его, ни о значении, жуткий смех, с которым они умирали в пустых покоях.
Подобно Доктору и Графине, он напрягал и ум, и память, пытаясь сделать некий осмысленный вывод из принятой от огня смерти отца и сына – Саурдуста и Баркентина, – равно как и из того, что в обоих случаях Стирпайк показал себя героем. Но сколько все они ни старались, им не удалось разумно обосновать свои подозрения.
И тем не менее, причины для опасений, причины основательные, пусть даже скудные и разрозненные, просуществовали все эти годы. Хоть они и не складывались в цельную картину, о них не забывали.
Доктору всегда очень хотелось узнать, почему Стирпайк оставил его службу, дабы обратиться в конфидента и слугу пустоголовых Двойняшек. Юноша был не настолько глуп, чтобы находить удовольствие в общении с ними. Единственным его резоном могло стать желание продвинуться по иерархической лестнице вверх; не исключено, однако, что у него имелись и мотивы куда более сомнительные. Затем неразличимые Двойняшки исчезли. В записке, найденной Стирпайком на их столе, говорилось о намерении покончить с собой. Прюнскваллор раздобыл эту записку и сравнил с письмом, некогда полученным от сестер Ирмой. Он вертел оба документа и так, и этак, потратил целый вечер на их изучение. Складывалось впечатление, что написаны они одной рукой – буквы были большие, округлые, неровные, как если б писал ребенок.
Однако Доктор знал этих слабоумных много лет и не верил, что они, при всей странности их перечливых натур, способны лишить себя жизни.
Да и Графиня не верила, что Двойняшки могли пойти на самоубийство. Их пустые амбиции и тщеславие, их слишком очевидное стремление занять когда-нибудь положение, которого они вечно жаждали, – положение дам, величавых и великолепных, увешанных драгоценностями, – исключало всякую мысль о таком исходе. И все же, доказательств чего-либо иного не существовало.
Доктор рассказал Графине, как Стирпайк восклицал в бреду: «А с Двойняшками будет пятеро!» Графиня выслушала его, глядя в окно своей комнаты.
– Пятеро кого? – спросила она.
– Вот именно, – сказал Доктор. – Пятеро кого?
– Пять загадок, – тяжко отозвалась, не изменив выражения лица, Графиня.
– И каковы же они, ваша светлость? Вы разумеете пятерых…
Графиня перебила его.
– Граф, мой муж, – сказала она. – Исчез. Раз. Его сестры, исчезли: два. Свелтер, исчез: три. Саурдуст и Баркентин, сгорели: пять…
– Но смерти Саурдуста и Баркентина вряд ли можно назвать загадочными…
– Одну было б нельзя. Две можно, – сказала Графиня. – И в каждой из них – юнец.
– Юнец? – переспросил Доктор.
– Стирпайк, – сказала Графиня.
– Ага, – отозвался Доктор, – у нас с вами общие страхи.
– Общие, – согласилась Графиня. – Я жду.
Доктору вдруг вспомнилось стихотворение Фуксии:
Как лицо его ало и бело! Может, где-то в дальней дали Обитают герои, отчаянно смелые, Чьи лица алы и белы.– Но, ваша светлость, – сказал он; Графиня по-прежнему смотрела в окно. – Слова «а с Двойняшками будет пятеро» внушают мне мысль, что их светлости Кора и Кларисса – два человека из компании, которая вертелась в его горячечном мозгу. Готов поставить самую блестящую монетку, какая у меня есть, что, бредя, он составлял список из отдельных людей.
– И в таком случае…
– И в таком случае, ваша светлость, их смерть и исчезновение дают нам шесть, а не пять.
– Как знать, – сказала Графиня. – Пока слишком рано. Пусть побегает. У нас нет доказательств. Но клянусь черными корнями всех крепостей на свете, если мои опасения основательны, от смерти его затошнит даже старые башни замка – и самые камни их будут блевать.
Тяжкое лицо ее вспыхнуло. Она сунула руку в широкий карман и, вытащив несколько зернышек, протянула перед собою ладонь. Невесть откуда появилась крапчатая птичка и, пробежав по руке Графини, вцепилась коготками в ее указательный палец и принялась боковыми клевками подбирать зерна с ладони.
– Но он же обязан каждый день обсуждать с тобой ритуал, разве не так? – сказала Фуксия. – Наставлять тебя. Он тут ни при чем, таков закон. Отцу приходилось заниматься этим, пока он был жив, – и его отцу тоже – всем приходилось. Ничего тут изменить он не может. Он должен рассказывать тебе, что написано в книгах, как бы это ни было скучно.
– Я его ненавижу, – сказал Титус.
– За что? За что? – вскричала Фуксия. – Как можно ненавидеть его лишь потому, что он исполняет свой долг? Ты же не ждешь, что он, после тысячи-то лет, сделает для тебя исключение? Или ты бы предпочел Баркентина? Неужели ты не замечаешь, каким стал нетерпимым? По-моему, он превосходно справляется со своей работой.
– Я его ненавижу! – повторил Титус.
– Скучно с тобой, – разгорячась, откликнулась Фуксия. – Ты кроме «я его ненавижу» другие слова знаешь? Чем он тебе нехорош? Ты ставишь ему в вину его внешность? Так? Если так, это низко и отвратительно!
Она тряхнула головой, отбрасывая с глаз черные волосы. Подбородок ее дрожал.
– О Господи! Господи! Титус, милый, ты думаешь, мне хочется ссориться с тобой? Ты же знаешь, я люблю тебя. Но ты несправедлив. Несправедлив. Ты ничего о нем не знаешь.
– Я ненавижу его, – сказал Титус. – Ненавижу его подлое, вонючее нутро.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ
Шли месяцы, напряжение возрастало. Титус со Стирпайком так и оставались на ножах, хотя Стирпайк, истинное воплощение вкрадчивого благоразумия, чувств своих не выказывал и никак не обнаруживал перед Титусом и окружающими ненависти, питаемой им к этому не по годам развитому юнцу – юнцу, который, сам того не ведая, стоял между ним и вершиной его честолюбивых устремлений.
Титус с того дня, когда он, почти еще ребенком, в безмолвии классной комнаты бросил Стирпайку вызов и упал со своей парты в обморок, упорно цеплялся за опасное превосходство, добытое им при той удивительной, детской победе.
Каждый день, в Библиотеке, зачитывая Титусу детальные описания обязанностей, кои тому предстояло выполнить после школьных занятий, Стирпайк перелистывал тома перекрестных ссылок, точно и ясно истолковывая самые темные их места. До сей поры Распорядитель Церемоний строго придерживался буквы Закона. Однако ныне, занимая делавшее его почти неуязвимым положение единственного человека, имеющего доступ к томам ссылок и описаний процедур, он составлял распорядки обязанностей, которые намеревался замешать среди древних бумаг. Стирпайку удалось откопать кое-какие изначальные пергаменты и теперь ничто не мешало ему подделывать каллиграфический почерк и архаические написания слов, изобретая для Титуса обязанности и унизительные, и, по временам, довольно опасные, ибо они неизменно содержали хотя бы малую возможность того, что, исполняя их, юный Граф попадет в беду. Существовали, к примеру, лестницы давно уж не безопасные – существовали трухлявые балки и осыпающаяся каменная кладка. А кроме того, всегда можно было расшатать и ослабить узкие помости, тянувшиеся вдоль верхних стен замка, или еще каким-то образом устроить все так, чтобы Титус, выполняя подложную процедуру, рано или поздно сорвался с высоты – случайно – и расшибся насмерть.
А уж после гибели Титуса, после того, как Фуксия окажется в его руках, между Стирпайком и абсолютной, по сути своей, властью будет стоять в виде помехи одна только Графиня.
Конечно, враги у него еще останутся. Тот же Доктор, обладатель ума несколько более острого, чем то было желательно Стирпайку; да и сама Графиня, единственная, к кому он питал недоуменное, завистливое уважение, – не из-за ума ее, но по той причине, что она никакому анализу неподвластна. Что она собой представляет? О чем и как думает? Ум Стирпайка не имел точек соприкосновения с умом Графини. В ее присутствии он становился осторожным вдвойне. Они принадлежали к разным животным видам. И приглядывались друг к дружке с взаимной подозрительностью существ, лишенных общего языка.
Что касается Фуксии, та составляла лишь ступеньку на пути к власти. И тут Стирпайк превзошел самого себя. Сердце Фуксии наполняла теперь та же нежность, какой отличались его первые пробные шаги с их тонкими градациями, изысканными каденциями и возвышенной сдержанностью.
Они больше не встречались в сумерках – то там, то здесь, в самых разных местах. Уже в течение некоторого времени Стирпайк обставлял для собственного удовольствия очередную потайную комнату. Ныне их у него насчитывалось девять, разбросанных по всему замку, и только одна из них, просторная спальня-кабинет, была замку известна. Из прочих пять располагались в мало кому знакомых уголках Горменгаста, а три других, хоть и находились в местах наиболее населенных, оставались странно невидимыми, как гнездо вьюрка в сорняках и травах. Двери этих комнат выходили на самые оживленные пути замка, и однако ж, ни одну из них никогда не видели открытой. Видеть мог всякий, но не видел никто.
В одну из таких комнат – ту, которой он завладел совсем недавно и которую навещал лишь по ночам, когда коридор погружался в густое безмолвие, Стирпайк перенес несколько картин, кое-какие книги и комодик с мелкими ящиками, в которых он держал коллекцию накраденных драгоценностей и старых монет, набор ядов и разного рода секретные документы. Толстый багровый ковер устилал пол. Изящной работы столик и два кресла Стирпайк искусно отремонтировал, залечив раны, полученные ими за долгие годы. Как отличался этот интерьер от грубого каменного коридора снаружи с его колоннами по сторонам каждой двери и тяжко нависающими наподобие полок каменными блоками вверху.
Сюда-то и совершала Фуксия ночные походы – сердце ее колотилось, зрачки расширялись в темноте. Прикрытая абажуром лампа лила мягкий золотистый свет. Одна-две книги, тщательно подобранные, лежали, как бы случайно, там и тут. Необходимость в последний миг производить изменения в расположении предметов, коим надлежало придать комнате характер непринужденный, всегда досаждала Стирпайку. Он ненавидел неряшливость, как ненавидел любовь. Но сознавал при этом, что в той формальной, совершенной обстановке, какая доставляла наслаждение ему, Фуксия почувствует себя стесненно.
И все-таки Фуксия ощущала себя странно неуместной в этой исполненной вкуса и порядка западне. Ибо полностью устранить отражение своей холодности Стирпайк не мог. Фуксия казалась слишком живой – живой в смысле отличном от блестящей, ледяной живости ее друга, – живой на тот же пошиб, на какой любовь, подобно землетрясению или некой естественной, безгреховной стихии, несовместима с опрятным, упорядоченным миром. Как бы тихо ни сидела она в кресле, раскинув по плечам черные волосы, в ней сохранялась некая потаенная взрывная сила.
Но ей нравилось то, что она видела здесь. Нравилось все, чего не было в ней самой. Эта комната так не походила на Горменгаст. Когда Фуксия вспоминала свой старый захламленный чердак и комнаты, где жила теперь, с их полами, по которым валялись исписанные стихами листки, со стенами в рисунках, девушке начинало казаться, будто с нею что-то неладно.
А вспоминая о матери, ощущала – впервые в жизни – неловкость.
В одну из ночей, Фуксия, стукнув кончиками пальцев в дверь, не получила ответа. Она постучала снова, опасливо глянув вправо и влево по коридору. Стояла полная тишь. Ни разу еще ей не приходилось ждать дольше доли секунды. И тут прозвучал голос:
– Будьте осторожны, госпожа моя.
Услышав его, Фуксия дернулась, как от прикосновения раскаленного железа. Голос пришел ниоткуда. Шагов она не слышала. Трясясь от страха, Фуксия затеплила свечу, которую держала в руке, – шаг опрометчивый и рискованный. Никого рядом на было. Но вот кто-то стремглав побежал к ней издалека. Еще до того как она разглядела Стирпайка, Фуксия поняла – это он. Прошло лишь несколько мгновений и его быстрое, узкое, высокоплечее тело приблизилось, рука выхватила свечу, другая прибила пламя. Через миг ключ повернулся в замке, и Фуксия, получив пинок, влетела в комнату. В темноте Стирпайк запер дверь изнутри, но он успел уже яростно прошептать:
– Дура! – И это слово перевернуло мир. Все стало иным.
Хрупкое равновесие их отношений сменилось бурным смятением; тяжесть легла на сердце Фуксии.
Если б хрустальное, ослепительное здание, которое постепенно возводил Стирпайк, добавляя украшение к украшению, пока постройка, уравновесясь перед Фуксией во всей своей красе, не ослепила ее, как зримое свидетельство его расположения к ней, – если б изысканное это здание не было столь изысканным, столь хрустальным, столь совершенным, тогда обвал его на холодные камни не был бы и столь непоправим. Теперь же само вещество его разбилось, хрупкое, как стекло, на тысячи осколков.
Короткое, грубое слово, полученный Фуксией пинок, мгновенно изменили ее, превратив из смуглой, полной страстных стремлений девушки в женщину, куда более трезвую. Она была потрясена и возмущена, – но первые несколько мгновений не столько возмущена, сколько обижена. К тому же, сама того не заметив, она обратилась в леди Фуксию. Кровь вскипела в ней – кровь Рода. В любовной нежности Фуксия забыла о ней, но ныне охваченная горечью девушка вновь обратилась в графскую дочь.
Она понимала, конечно, что зажечь свечу прямо у этой двери означало нарушить все их строжайшие правила осмотрительности и секретности. Сколько б безумия ни было в том, чтобы сделать их свидания явными, все-таки греха в этих свиданиях не было, – кроме разве греха тайной любовной связи да того, что она позволила себе сблизиться с человеком низкого звания.
Но до чего же уродливым оказалось в гневе его лицо! Она и не думала, что Стирпайк способен утратить совершенное, точеное спокойствие осанки и черт. Не знала, что чистый, ясный, увещевающий голос его может звучать так грубо и зло.
А тут еще и пинок! Этот толчок в темноте. Руки Стирпайка, которые, подобно рукам музыканта, так волновали ее когда-то своей ласковой силой, оказались жесткими, точно когти зверя. Полученный пинок вынудил Фуксию – с такой же необратимостью, как перемена в его голосе, как слово «дура», – очнуться в реальности и горькой, и унизительной.
Фуксию трясло, но к разочарованию ее примешивалось жуткое, волнующее воспоминание о голосе ниоткуда. Он прозвучал из мрака, прозвучал не более чем в нескольких футах от нее, но ведь никого рядом не было. О том, кому принадлежал голос, Фуксия имела представление не большее, чем о значении и смысле услышанного предостережения. Она лишь понимала теперь, что не станет просить помощи у Стирпайка; не откроет человеку, который унизил ее, страха, внушенного ей этим необъяснимым голосом. Все властители Горменгаста стояли у нее за плечами.
В темноте она повернулась на каблуках и, прежде чем Стирпайк успел зажечь лампу, сказала:
– Выпустите меня отсюда.
Но почти сразу золотистый свет залил знакомую комнату, и Фуксия увидела обезьянку, сидящую на столе, прикрывая морщинистыми ладошками лицо. На ней был костюмчик, весь в красных и желтых ромбах. На голове обезьянки красовалась бархатная шляпа, вроде пиратской, с огибающим тулью фиолетовым пером.
Стирпайк спрятал лицо в ладони, однако следил сквозь пальцы за Фуксией. Он утратил власть над собой. Вид пламени там, где никакому пламени быть не полагалось, опалил его, точно удар плети. Ожоги не прошли ему даром: огонь – вот единственное, чего боялся Стирпайк. И он вновь совершил роковую ошибку.
Однако насколько серьезную, Стирпайк пока не знал. Вот он и следил сквозь пальцы за Фуксией.
Девушка смотрела на обезьянку с выражением решительно неопределимым. Если она и удивилась, то ничем того не показала. Смятение и потрясение, вызванное грубым обхождением, были слишком сильны в ней, чтобы их вытеснили иные чувства, сколь бы причудливым ни оказались причины, эти чувства породившие. Впрочем, когда красочная зверушка поднялась на ноги и сняла шляпу, когда, почесав голову и зевнув, снова надела ее, нечто почти не схожее с печалью мгновенно пронеслось по лицу Фуксии.
И все-таки, в ее душевном состоянии невозможно было так скоро перескочить из одной крайности в другую. Часть разума Фуксии была зачарована странностью происходящего, но сердца ее не тронуло ничто. Да, обезьянка, да, принаряженная – но не более того. То, что прежде так сильно взволновало б ее, теперь, в этот цепенящий миг, оставило совершенно холодной.
Итак, мгновение-другое Стирпайк выиграл, но что ему с ними делать? Перед тем как обезьянка попалась ей на глаза, Фуксия потребовала, чтобы ее выпустили из комнаты.
Снова перевела она взгляд на Стирпайка. Черные глаза девушки казались мертвыми, потухшими. Губы были плотно сжаты.
Стирпайк стоял, закрыв руками лицо. Затем Фуксия услышала его голос.
– Фуксия, – произнес Стирпайк, – дайте мне минуту, одну лишь минуту, чтобы рассказать об опасности, которой мы только что избежали. Нельзя было терять ни мгновения, и хоть поведению моему нет оправданий, хоть я и не вправе просить вас о прощении, все же дайте мне краткий миг, чтобы я смог объяснить мою грубость….Фуксия! Я поступил так ради вашего блага. Ради вас был я груб. То была грубость любви. У меня не имелось других средств, чтобы спасти вас. Разве вы не слышали шагов? Она была уже близко. Еще мгновение – и свет вашей свечи привел бы ее к этой двери. А кара вам известна. Конечно, она известна вам, кара, которая в силу древнего закона установлена для дочери Рода, вступившей в связь с человеком не своего, низшего круга. Кара эта слишком ужасна, чтобы даже думать о ней. Потому-то наши планы надлежало держать в тайне, а наши правила – соблюдать неукоснительно. Вы и сами знаете это. Вы и вели себя со всею осмотрительностью. Однако сегодня вы рассчитали время неверно, не так ли? Вы пришли на четыре минуты раньше. О, и это-то было достаточно рискованно. Но добавить сюда еще и опасность, созданную горящей свечой… И, как оно неизменно бывает, все случилось как раз тогда, когда ваша мать преследовала меня.
– Моя мать? – голос Фуксии упал до шепота.
– Ваша мать. Мне пришлось увести ее, ибо я понимал, что она подошла слишком близко к этому месту. Я спетлил. Я пересек собственные следы. Спетлил снова, но она была еще здесь, хоть и шла, не могу понять почему, медленно, – я надеялся достигнуть двери, оторвавшись от вашей матери на длину коридора – на длину коридора и еще футов на двадцать, дававших мне шанс проскользнуть в нашу комнату вовремя, – но нет, все получилось не так, как я рассчитывал. Не так. Выходило, что вам почти наверняка пришлось бы столкнуться с нею – и тогда…
Стирпайк наконец отнял ладони от лица. Голос его звучал чарующе, он мастерски привносил в свою речь подобие запинок, создавая впечатление не столько нервности, сколько пыла и искренности.
– Так что же случилось, Фуксия? Вы знаете это не хуже меня. Я повернул за северный угол, ваша мать отставала от меня на длину коридора – и вот, вы здесь, яркая, как костер, в целом коридоре от меня. Поставьте себя на мое место. Невозможно в одно и то же время питать все благородные чувства сразу. Невозможно соединить отчаяние с поведением, исполненным совершенного благородства. По крайности, невозможно для меня. Вероятно, мне следовало бы взять несколько уроков по этой части. Мне оставалось лишь спасать положение. Укрыть вас. Уберечь. Вы пришли слишком рано, Фуксия, это рассердило меня. Я и представить не мог, что способен рассердиться на вас. И быть может, даже тогда я рассердился, в сущности, не на вас, но на рок, на судьбу, на то, что расстроило наши планы, назовите его как хотите. И как раз потому, что наши планы всегда подготавливались так тщательно, – чтобы не было никакого риска, чтобы вы ни в коем случае не пострадали, – как раз потому гнев обуял меня. В ту минуту вы уже не были для меня Фуксией. Вы были существом, которое мне надлежало спасти. Нужно было оказаться по эту сторону двери – вот тогда вы снова стали бы Фуксией. Замешкайся я хоть на миг, прежде чем погасить вашу свечу или втолкнуть вас в комнату, – и жизни наши были б погублены. Ибо я люблю вас, Фуксия. Вы – все, чего я когда-либо страстно желал. Неужто вы не понимаете, что по этой-то причине у меня и не оставалось времени на проявления учтивости? Я был вне себя. Словно бы некий вихрь нес меня. Я назвал вас «дурой», да, «дурой», но из любви к вам – а потом… потом… когда я очутился здесь, в нашей комнате, все это стало казаться мне настолько невероятным, да и сейчас кажется, что я наполовину устыдился подарка, который приготовил для вас, и того, что я для вас написал… ах, Фуксия… не знаю теперь, смогу ли я даже показать это вам… – Стирпайк резко отвернулся, сжав ладонью лоб, и, словно подчеркивая, что не хочет обнаружить перед нею свое отчаяние, прошептал: – Иди же сюда, Сатана. Ко мне, мой гадкий мальчишка! – и обезьянка запрыгнула ему на плечо.
– Написали? – переспросила Фуксия.
– Я написал для вас стихи. – Он произносил слова медленно: это нередко давало хорошие результаты, и все же на сей раз Стирпайк, пожалуй, несколько поторопился в продвижении к цели. – Но, возможно, сейчас, – сказал он, – вам не захочется видеть их, Фуксия.
– Нет, – помолчав, ответила она. – Сейчас – нет.
Прозвучало это несколько странно: трудно было понять, подразумевает ли она, что такие проявленья интимности, как чтение любовных стихов, для нее более невозможны, или – сейчас нету но в другое время, быть может.
Стирпайку оставалось лишь воскликнуть:
– Я понимаю! – и спустить обезьянку на стол, по которому та шустро забегала взад-вперед на всех четырех, под конец заскочив на один из шкафчиков комнаты. – Я пойму, если вы и Сатану не захотите принять.
– Сатану? – голос Фуксии был напрочь лишен выражения.
– Вашу обезьянку, – пояснил Стирпайк. – Возможно, вам не захочется с нею возиться. Я просто надеялся, что она вам понравится. Я сам сшил ей костюмчик.
– Я не знаю! Не знаю! – внезапно воскликнула Фуксия. – Говорю же вам, я не знаю! Я не знаю!
– Проводить вас до вашей комнаты?
– Я и сама доберусь.
– Как пожелаете, – сказал Стирпайк. – Но умоляю вас, не забывайте того, что я сказал. Попытайтесь понять меня, ибо я люблю вас, как тень любит Замок.
Она обратила к нему глаза. На миг в них вспыхнул огонь, но в следующий они снова стали пустыми – пустыми и непроницаемыми.
– Я никогда не пойму, – сказала она. – Что бы вы ни говорили о случившемся, оно было ужасным. Быть может, даже непростительным. Не знаю. Как бы там ни было, все изменилось. Чувства мои стали иными. А теперь я хочу уйти.
– Да, конечно. Но не смогли бы вы оказать мне две услуги, совсем незначительные?
– Возможно, – сказала Фуксия. – В чем они состоят? Я устала.
– Во-первых, я хочу от всего сердца попросить вас, чтобы вы попытались понять, в каком напряжении я пребывал, – и попросить также, чтобы вы, пусть даже в последний раз, встретились со мной, как встречались столь долгое время, и поговорили еще немного – не о нас, не о наших бедах, не о моей вине, не об этом нашем ужасном разладе, но о вещах более радостных. Согласитесь ли вы встретиться со мной завтра, на таких условиях?
– Я не знаю! – сказала Фуксия. – Не знаю! Но, наверное, да. О господи, наверное, да.
– Благодарю вас, – сказал Стирпайк. – Благодарю вас, Фуксия… А вторая моя просьба вот в чем. Если вы вдруг решите, что Сатана вам не нужен, верните его мне, потому что он ваш… и… – Стирпайк отвернулся и отошел на несколько шагов. – Ты ведь хотел бы знать, кто твой хозяин, не правда ли, Сатана?.. – воскликнул он голосом, в котором звучала претензия на галантность.
Внезапно Фуксия озлилась на него. Она словно бы только сейчас уяснила, насколько остр данный ей от природы ум. Она оглядела пегого молодого человека с обезьянкой на плече, и слова ее вонзились в это бледное существо, как кинжалы.
– Стирпайк, – сказала она. – По-моему, у вас не все дома.
И с этого мига Стирпайк знал, что на следующую ночь, когда она придет сюда, он овладеет ею. А после того как с дочерью Графини соединится тайна столь страшная, ей останется полагаться лишь на его милосердие. Он ждал слишком долго. Однако теперь, сразу за совершенной им ошибкой, настало время нанести удар. Он чувствовал первые слабые признаки того, что почва начала выскальзывать из-под его ног. Раз уж хитрость и осмотрительность подвели его, остается только одно. Время милосердия миновало, и хоть Фуксия показала, в какую она способна обращаться тигрицу, он овладеет ею – а там, с неспешной плавностью грозовой тучи, воспоследует и шантаж.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ
I
Когда Флэй услышал, как прямо под ним тихо отворилась дверь, он затаил дыхание. Несколько мгновений никого видно не было, затем некая фигура, еще более темная, чем сама темнота, выступила из двери в коридор и быстро двинулась к югу. Дверь затворилась, и Флэй спустился с шедшего над входом в покой Стирпайка длинного каменного полка, повисел на длинных костлявых руках, растянув их до последней возможности, и спрыгнул на пол, лишь несколькими дюймами отделенный от его ступней.
Отчаяние, порожденное в нем невозможностью уловить хоть что-то из происходящего в комнате, было сравнимо лишь с ужасом, охватившим его, когда он понял, что тайной гостьей Стирпайка была сама Фуксия.
Он чувствовал, что Фуксия в опасности. Ощущал это всем нутром. Но и не мог так вот вдруг, среди ночи, объявить девушке, что ей что-то грозит. Собственно, не мог и сказать что именно: он и сам того не знал. Приходилось действовать наобум, и Флэй прошептал в темноте несколько слов, надеясь, что слова эти послужат предостережением, хотя бы вследствие ужаса перед сверхъестественным, который они ей внушат.
За Фуксией Флэй проследовал лишь до места, с которого смог убедиться, что она добралась до своей комнаты без помех. Только это и мог он сделать, не окликая ее и не обгоняя, ибо пребывал в совершенной растерянности, смущении и испуге. В невзрачной жизни Флэя любовь к этой девушке была чем-то стоявшим от всего прочего особняком. Как ни был он привязан к Титусу, именно память о Фуксии – не о мальчике и не о каком-то еще живом существе – сообщала кремневой тьме его души толику теплоты, казавшейся столь чуждой его натуре, которая знала одно лишь служение Горменгасту, этой абстракции широко раскинувшегося камня.
И он сознавал, что обязан заговорить с нею этой ночью. Смятение, читавшееся в ее движениях: Фуксия то и дело переходила с шага на бег, – служило достаточным доказательством того, что она безумно устала и – чего Флэй страшился пуще всего – попала в беду.
Флэй не ведал, что сказал или сделал Стирпайк, но знал: юнец причинил ей боль, – и если бы не открывшаяся, наконец, возможность отыскать хоть что-то, обличающее негодяя, Флэй вернулся бы к комнате, из которой вышла Фуксия, и, дождавшись, когда Стирпайк переступит ее порог, голыми руками отодрал бы пегую образину его от головы.
II
Тяжкая боль сжимала лоб возвращавшегося в роковой коридор Флэя, мысли его вихрились, гоняясь одна за другой в сумятице гнева и домыслов. Флэй не мог знать ни того, что каждый шаг не приближает его к привычной комнате, но отдаляет от нее – отдаляет во времени и в пространстве, – ни того, что сегодняшние приключения не только не подходят к концу, но напротив, по-настоящему лишь начинаются.
Стоял уже самый глухой час ночи. Флэй возвращался медленно, с трудом волоча ноги, временами приостанавливаясь, чтобы прижаться лбом к холодным камням, а боль била, как молотом, за глазами его и угловатым лбом. Один раз ему пришлось присесть, и он целый час провел на нижней из выдолбленных временем ступеней каменной лестницы; длинная борода его опадала на колени, обтекала их острые изгибы и падала дальше, так что торчавшие в разные стороны, со струнами схожие волосы, всего на несколько дюймов не доходили до пола.
Фуксия и Стирпайк? Что это может значить? Какое кощунство! Какой ужас! И Флэй скрежетал во мраке зубами.
Замок безмолвствовал, как некое зарубленное секирой чудовище. Недвижное, бездыханное, распластанное. Казалось, ночь, подкрепляя мрак свой своим же безмолвием, тщится доказать бессмысленность любых помышлений о приходе зари. Нет никакой зари на свете. Заря – лишь выдумка тьмы, бабушкина ночная сказка, незапамятно древняя, повторяемая век за веком в извечной тьме; пересказываемая и пересказываемая гномовым деткам в подземных проходах и пещерах Горменгаста – сказка из иного мира, где камни, и кирпичи, и побеги плюща, и железо можно не только ощупывать и обнюхивать, но и видеть, где они освещаются и обретают краски, где в предопределенное время медовый свет разливается на востоке и тьма осыпается, точно окалина, и то, что там называют зарей, встает над лесами, подобное воплотившемуся мифу, ожившей легенде.
То была ночь с мордой быка. Но морду эту стягивало вервие, и кляп торчал изо рта ее. Ночь с глазами гиганта, закрытыми клобуком.
Единственным, что слышал Флэй, был стук его сердца.
III
Уже много позже, в неустановимый час той же ночи или черного, ровно смоль, утра, господин Флэй, давно миновавший дверь в коридоре, невольно остановился, едва начав пересекать маленький, окруженный аркадами дворик.
Вряд ли его могла испугать единственная обозначившаяся в небе полоска багровой желтизны. Ведь знал же он, что заря неотложна. И уж верно не красота этой полоски остановила его. Ни о какой красоте Флэй и не помышлял.
В середине двора росло терновое дерево, и внимание Флэя приковал угольный силуэт той части его, что перерезала желтизну рассвета. Очертания старого дерева Флэй знал слишком хорошо и потому теперь пригляделся к корявому, ветвистому стволу повнимательнее. Ствол показался ему толще обычного. Более-менее ясно Флэй различал лишь ту его часть, что рассекала полоску рассвета. Часть эта вроде бы изменила привычные очертания. Похоже, кто-то стоял, прислонясь к стволу и чуть увеличивая его толщину. Верх незнакомой фигуры перечеркивался ветвями, и Флэй пригнулся, чтобы увидеть ее на большем протяжении. Теперь, глядя под другим углом, он смог яснее разглядеть то, что располагалось под нависающей кроной, и мышцы Флэя напряглись, поскольку ему представилось, что на фоне просвета в небе – одевавшего все остальное, и на земле, и вверху, еще большей чернотой – непонятный очерк сужался слева от ствола в нечто, схожее с шеей. Беззвучно опустился Флэй на колени и тогда-то, опустив голову и возведя глаза, он увидел не заслоненный ничем профиль Стирпайка. Тело юнца и затылок сливались с деревом, словно все они вырастали из земли, как единое существо.
Стало быть, так. Общая тьма наверху и внизу. Горизонтальная струя шафрановой желтизны и, подобный кривому мосту, соединяющему верхнюю тьму с нижней, силуэт грубого ствола тернового дерева и профиль среди ветвей.
Что он делает здесь, в темноте, одинокий, недвижный?
Флэй распрямился и приник к ближайшей колонне аркады. Ясно очерченное лицо врага его тут же заслонилось ветвями. Но то, что задержало внимание Флэя, – непривычный очерк ствола – распознавалось теперь, как согнутый локоть молодого человека и линия его таза и бедра.
Ни на миг не задумавшись над своей инстинктивной уверенностью в том, что затевается новое злое дело, господин Флэй изготовился к длительному, если понадобится, бдению. Ничего не было дурного в том, чтобы стоять, прислонясь к терновому дереву, и наблюдать, как первое сияние утра пробивается сквозь желтоватый просвет, – даже если к дереву прислонялся не кто иной, как Стирпайк. Не существовало ни единой причины, по которой он не мог бы в любое мгновение вернуться к себе и лечь спать либо предаться иному, равно невинному занятию.
Флэй сознавал, что попал в один из тех промежутков времени, где любое рядовое событие обращается в нечто необычайное. Слишком тревожным, слишком чреватым опасностями было это утро, чтобы в нем смогло сохраниться что-либо заурядное.
Стирпайк же, который замер, прислонясь к стволу дерева, будто застывшая от холода гибкая сталь собственных его тайных злоумышлений, всматривался в желтоватый свет. Он уже понял, что, если ему и предстоит сделать какой бы то ни было шаг к достижению своих целей, сделать его надлежит сейчас. Сколько бы ни хотелось ему отсрочить осуществление своих замыслов, он не мог отмахнуться от ощущения настоятельной необходимости действия – ощущения, что при всей логичности его разума время работает против него.
Да, никаких доказательств его вины по-прежнему нет. Но существует нечто, почти столь же неприятное. Смутное чувство, что власть его того и гляди пойдет прахом; что земля поплыла под ногами; что при всей основательности его положения сам Горменгаст таит в себе нечто, способное одним махом смести его во мрак. Сколько бы ни говорил он себе, что никаких серьезных ошибок не совершил, – что немногие его просчеты, при всей их прискорбности, неизменно касались дел незначительных, чувство это не покидало его. Оно обуяло Стирпайка, когда хлопнула дверь: когда Фуксия ушла, и он остался один в своей комнате. Чувство это было для Стирпайка внове. Он не верил ни во что, чего не способны были так или иначе обосновать клетки его проворного мозга. Помимо неудобств, которые оплошность его могла – на краткий срок – доставить ему, чем еще могло грозить ему то, что случилось несколько часов назад? Какие претензии – или даже обвинения – могла предъявить ему Фуксия, кроме того, что он, Распорядитель Церемонии, был с нею груб?
Нет, с этой стороны опасаться ему было нечего. Но если негодование Фуксии разверзло, пусть и не по воле ее, черную бездну, в которую он вглядывался ныне, то что же есть эта бездна, почему она так глубока и почему так черна?
Впервые на памяти Стирпайка сон, сколько он ни был желанен, не шел к нему. Однако привычка обращать к своей пользе любое мгновение укоренилась в нем глубоко – а в распоряжении Стирпайка имелось лишь время, в которое весь замок лежал по постелям.
И Флэй тоже знал все это. Знал, что стоять, прислонясь к дереву, и созерцать восход солнца – вовсе не в природе Стирпайка. Равно как и долгие размышления. Юнец был человеком отнюдь не романтическим. В слишком большой мере жил он от мгновенья к мгновению, чтобы копаться в своей душе. Нет. По какой-то другой причине стоит он здесь, ожидая – чего?
Господин Флэй снова опустился на колени и, почти коснувшись подбородком земли, еще раз возвел маленькие глазки вверх, чтобы опять вглядеться в резкий, острый, как бритва, профиль на фоне желтоватой полоски. И пока он стоял на коленях, в голову ему практически одновременно пришли две мысли. Первая: Стирпайк дожидается света, который позволит ему пройти непривычным путем. Пройти этот путь он хочет тайком, но при этом не заблудиться, а даже сейчас тьма еще оставалась плотной, полоска света, багровой линейкой лежавшая на черном востоке, нисколько не освещала ни землю, ни небо вокруг. Всю свою светозарность сохраняла она для себя – шафрановой инкрустации по черному дереву. Догадка Флэя была такова: силуэт ожидает, когда забрезжит свет – тогда и локоть его, и бедро изменят свои очертания, тогда этот профиль отделится от тернового дерева, а тело, гибкое, как у рыси, углубится во мглу. Но не только оно. За ним последует Флэй, и тут старика, еще стоящего на костлявых коленях, с головою, поникшей к земле, по которой разостлалась его борода, осенило, что ему понадобится союзник – не для поддержки, не для безопасности, но как свидетель. Что бы он ни узнал, что бы ни ждало его впереди, сколь бы невинным или кровавым ни оказалось оно, в итоге все сведется к его слову против слова бледного молодого человека. К слову изгнанника против слова Распорядителя Ритуала. Даже просто вступив в пределы замка, он уже совершил тяжкий грех. Сама Графиня отправила его в изгнание, и стало быть, не пристало ему выдвигать против должностного лица обвинения, не имея для них никакого подспорья.
И едва эта мысль явилась ему, Флэй вскочил на ноги. По его разумению, он располагал от силы четвертью часа, чтобы успеть разбудить… но кого? Выбора у него не было. Одни только Титус и Фуксия знали, что он возвратился в замок и тайно живет в Глухих Залах.
Разумеется, нелепо было и думать и о том, чтобы нарушить покой Фуксии, – как и о том, чтобы позволить ей приблизиться к Стирпайку. Что же до Титуса, он почти уж набрал полный свой рост. Вот только характер его больно уж переменчив – то мальчик мрачен, то возбужден. Достаточно крепкий для своих лет, Титус предпочитал расходовать силы, напрягая скорее воображение, чем тело. Флэй его не понимал, но доверял ему и знал, что ненависть Титуса к Стирпайку породила разлад между юным графом и Фуксией. Нет сомнения: юноша присоединится к нему, и все же Флэй на миг усомнился, что ему достанет храбрости втянуть наследника Горменгаста в дело, предположительно опасное. Тем не менее, Флэй сознавал, что долг его, требующий разоблачения возможного врага, – превыше всего, ибо от этого зависит безопасность и юного Графа, и того, что он олицетворяет. И самое главное: Флэй сталью длинных своих мышц и крепостью зубов костлявых своих челюстей поклялся, что какая бы опасность ни грозила ему самому, юноша не пострадает.
Итак, ни мгновения не теряя, он повернулся, снова прошел открывающейся в аркады дверью и устремился на выполнение того, что в минуту более здравомысленную счел бы решительно невозможным. Ибо что может быть чудовищнее, чем поставить под угрозу жизнь его светлости? Однако сейчас Флэй думал только о том, что, разбудив Титуса и отправив его охотиться за добычей смутной, как тень подозрения, он, возможно, приблизит день, когда сердце Горменгаста, очищенное и верное, вновь забьется, никакой опасности не подвергаясь.
С каждым мгновением желтая полоса в небе ярчала. Флэй несся с нескладной скоростью хищного паука, длинные ноги его пожирали коридоры по четыре фута за шаг, переносили его через лестницы так, словно он шагал на ходулях. Но приблизившись к дортуарам, он стал передвигаться с осторожностью татя.
Дверь дортуара Флэй отворял постепенно. Справа от нее располагалась спаленка присмотрщика. Услышав за деревянной перегородкой тихий наждачный шорох, Флэй узнал дыхание старика, с давних дней занимавшего эту сторожевую должность, и понял, что с этой стороны ему опасаться нечего.
Но как найти Графа? Фонаря у Флэя не было. Если не считать дыхания сторожа, в дортуаре стояла полная тишь. Время поджимало, приходилось действовать наугад. Два ряда кроватей тянулись к юго-западу. Почему он поворотил к правой стене, Флэй не знал, но поворотил он без колебаний. Нащупав железную спинку первой кровати, он склонился над нею.
– Светлость! – прошептал он. – Светлость! – Ответа не последовало. Флэй перешел ко второй и пошептал снова. Он вроде бы услышал, как голова повернулась на подушке, но и не более того. Флэй повторял это слово, торопливо и хрипло, у изножья каждой кровати. – Светлость… светлость!.. – но ничего не происходило, а время шло. Наконец, у четырнадцатой кровати он пошептал три раза, ибо скорее почуял, чем услышал, некое шевеление в темноте под собою. – Светлость! – еще раз шепнул он. – Лорд Титус!
Кто-то сел в темноте и Флэй услышал, как у мальчика перехватило дыхание.
– Не бойтесь, – горячо прошептал Флэй и рука его задрожала на спинке кровати. – Не бойтесь. Вы Титус, Граф?
Ответ последовал сразу.
– Господин Флэй? Что вы здесь делаете?
– Есть у вас куртка и чулки?
– Да.
– Оденьтесь. И за мной. Потом объясню, светлость.
Титус молча выскользнул из постели, нащупал башмаки и одежду и, собрав их в узел, прижал обеими руками к груди. Вдвоем они добрались на цыпочках до двери дортуара, а очутившись снаружи, торопливо зашагали во мраке – бородатый мужчина придерживал мальчика за локоть.
В верху лестницы Титус оделся; сердце его колотилось. Флэй стоял рядом, и когда мальчик был готов, оба стали молча спускаться по лестнице.
Пока они приближались к дворику, Флэй короткими ломанными фразами внушил Титусу не очень связное представление о причине, по которой его разбудили и потащили в ночь. Сколько ни разделял Титус подозрения Флэя и его ненависть к Стирпайку, он начинал побаиваться, что Флэй свихнулся. Разумеется, коротать ночь, прислонясь к терновому дереву, – занятие для Стирпайка весьма необычное, но ничего преступного оно в себе не содержит. И к тому же, с какой, гадал он, стати сам-то Флэй оказался там – и почему этот оборванный лесовик так возжаждал, чтобы он, Титус, был с ним рядом? Да, несомненно, приключение получается увлекательное, а то, что Флэй отправился разыскивать его, крайне лестно, однако Титус плохо понимал, что подразумевает Флэй под необходимостью иметь свидетеля. Свидетеля чего? Что, собственно, предстоит ему засвидетельствовать? Как ни глубоко засела в Титусе мысль, что Стирпайк – человек по природе своей гнусный, юноша все же никогда не подозревал его в каких бы то ни было поступках, не связанных с выполнением долга перед замком. Ненависть Титуса к Стирпайку не имела сколько-нибудь вразумительных оснований. Титус просто ненавидел его за то, что он вообще существует.
Впрочем, когда они добрались до аркад, и Титус, лежа рядом с Флэем на земле, вгляделся вдоль указующей руки старика и вдруг, внезапно, после долгого и бесплодного осмотра дерева, увидел резкий профиль, заостренный, если не считать выпуклого лба, как осколок стекла, – он понял, что лежащий рядом с ним костлявый человек безумен не более, чем он сам, и впервые в жизни ощутил на языке едкий привкус пьянящего страха, воодушевление испуга.
Он осознал также, что оставить Стирпайка здесь и вернуться в постель было бы равносильно умышленному бегству от этого пронизавшего его до костей дуновения опасности.
Он прижался губами к уху своего спутника.
– Это двор Доктора, – прошептал он.
Несколько мгновений Флэй молчал, поскольку сказанное не имело для него почти никакого значения.
– Ну и что? – ответил он почти неслышным шепотом.
– Дом совсем близко отсюда, – прошептал Титус, – прямо за двором.
На этот раз молчание продолжилось подольше. Выгоды, которые давало ему наличие еще одного свидетеля и второго телохранителя для мальчика, Флэй увидел сразу. Но что подумает Доктор о его появлении после стольких лет? Смирится ли с незаконным возвращением Флэя – даже зная, что предпринято оно для блага замка? И захочет ли – в дальнейшем – наотрез отрицать, что знал об этом возвращении?
Титус зашептал снова:
– Доктор за нас.
По представлениям Флэя, он уже так глубоко увяз в этой истории, что спорить по поводу каждой новой проблемы, обдумывать каждый шаг было бессмысленно. Если б он вел себя благоразумно, то и поныне сидел бы в лесу, а не лежал на земле, уставясь на человека, невиннейшим образом подпирающего дерево. А то, что профиль, прорисованный на шафране зари, выглядит резким и жестоким, еще ничего не доказывает.
Нет. Надо доверяться минутным порывам, набраться храбрости и рискнуть всем своим будущим. Ни на что, кроме решительных действий, времени не осталось.
Заря, хоть она уже и разгулялась вовсю на востоке, здесь покамест задерживалась. Света в воздухе не было – только полоска насыщенных красок. Но рассвет мог просиять уже в любую минуту, а солнце – подняться над неровными башнями.
Времени терять не приходится. Через минуту-другую нельзя будет перейти двор, не привлекши внимания Стирпайка, а с другой стороны, и сам он может решить, что света для задуманного им похода достаточно, и, внезапно скользнув во мрак, безнадежно затеряться среди тысячи путей.
Дом Доктора стоит по ту сторону двора. Чтобы достичь его, необходимо обогнуть двор, в середине которого растет терновое дерево.
Подчиняясь указаниям Флэя, Титус снял башмаки и, подобно Флэю, поступившему так со своими сапогами, связал их шнурки вместе и повесил связку на шею. Поначалу Флэй решил идти вместе с Титусом, но, едва он сделал несколько беззвучных шагов, Стирпайк исчез, и это напомнило Флэю, что следить за движениями юнца возможно лишь с места, на котором они лежали. С Докторовой стороны двора понять, остается ли он еще под деревом или ушел, не удастся.
Прошла целая минута, прежде чем Флэй сообразил, что ему следует делать – да и то, решение явилось лишь потому, что одна его рука нашарила в драном кармане штанов кусочек мела. Ибо для Флэя мел означал лишь одно. А именно – след. Но кто же станет делать пометки? Ответ был только один, а причин у него имелось две.
Во-первых, коли одному из них предстоит остаться здесь, чтобы приглядывать за Стирпайком, и в случае, если тот уйдет от тернового дерева, последовать за ним, оставляя меловые метки на земле или стенах, эту далеко не простую работу лучше всего выполнит Флэй – и не только потому, что он давно уже наловчился скрытно продвигаться по лесу, а если Стирпайк заметит преследователя, опасность будет все же грозить ему, Флэю, а не Титусу, но и потому, – это во-вторых, – что Доктор, узнав о происходящем, с большей готовностью и быстротой последует за юным Графом, нежели за давним изгнанником, господином Флэем, от которого он может потребовать предварительных объяснений, а те займут немалое время.
И потому Флэй объяснил Титусу, как тому надлежит действовать. Он должен разбудить Доктора, причем без шума. Каким образом – Флэй не знает. Это уж мальчик пусть придумает сам. Он должен внушить Доктору, что времени терять нельзя. Осведомлять его о том, что все предприятие зиждется на догадках, что, по здравому рассуждению, нет решительно никаких причин вытаскивать Доктора из постели – не нужно. То, что здесь, под открытым небом, нет ни листа, который не шептал бы об измене, ни камня, который не бормотал бы предостережений, – вовсе не тот довод, который следует предъявлять человеку, внезапно вырванному из сна. И все же Титус должен внушить Доктору, что дело отсрочек не терпит. Титусу с Доктором придется вернуться вокруг двора туда, где Титус сейчас затаился с Флэем, потому что только отсюда и можно сказать, стоит ли еще Стирпайк под терном, – если, конечно (что вполне может случиться), вдруг не покажется солнце. Если оно не покажется, и если Стирпайк так и останется под деревом, они найдут господина Флэя там, где Титус оставит его; если же Стирпайк уйдет, уйдет и господин Флэй, и тогда им придется сразу подойти к терну и, коли достанет света, последовать по меткам, которые станет оставлять Флэй. Если же будет слишком темно, чтобы различить метки, пусть последуют за ним, как только достаточно рассветет. Двигаться придется быстро, чтобы успеть нагнать господина Флэя, но – и это самое главное – совершенно беззвучно, потому что в темноте расстояние между Флэем и Стирпайком может, по необходимости, опасно сократиться.
Ощупью продвигаясь от колонны к колонне, Титус начал огибать двор. Ноги в чулках никакого шума не производили. Один раз пуговица на рукаве куртки чиркнула по каменному выступу, звук получился такой, словно треснул сучок, и Титус замер на месте и мгновенье-другое тревожно вслушивался в тишину, однако за звуком ничего не последовало – и немного погодя мальчик уже стоял у стены Докторова дома.
Между тем Флэй, вытянувшись, лежал под колонной по другую сторону двора, подперев бородатый подбородок костлявыми ладонями.
Ни на миг не отрывал он взгляда от видневшегося на фоне зари очерка головы. Желтая полоса расширялась, становилась все ярче, не походя уже на свечение, которое живописец мог бы передать с помощью красок.
И вглядываясь так, он заметил первое движение. Голова задралась, лицо обратилась к ветвям над нею, рот открылся в зевке. Словно зевнула ящерица – с острыми, беззвучными, безжалостными челюстями. Словно все уже было обдумано, и из какого-то рептильного прошлого вырос и растворился, подобно рефлексу, зевок. Да так оно и было – стоя под деревом, Стирпайк, вместо того, чтобы купаться в жалости к себе и горестно размышлять о своих ошибках, сводил воедино и перегруппировывал в упорядоченном уме каждую частность своего положения, замыслов, отношений не только с Фуксией, но со всеми, с кем приходилось иметь дело, преобразуя путаницу этих отношений и замыслов в рабочую схему – в шедевр хладнокровной систематизации. И все же составленный им план, при всей сжатости и определенности его, получился почему-то менее, чем обычно, микроскопически тщательным во всякой детали. Впервые Стирпайку пришлось изготовиться к тому, что придется рискнуть. Настало время свести воедино сто и одну нить, которые так долго тянулись из одного конца замка в другой. А это требует действий. На миг можно расслабиться. Пусть этот рассвет станет его собственностью. Нынче ночью он ошеломит Фуксию, ослепит ее, пробудит; если же эта затея провалится – растлит, да так, что она будет скомпрометирована в наивысшей степени и попадет ему в руки вся, без остатка. В теперешнем ее настроении девушка слишком опасна.
А днем? Он зевнул еще раз. Обдумывать больше нечего. Планы составлены. И все-таки одна неувязка осталась. Не в логике его разума, но вопреки ей – провисший конец, который должно упрятать. То, что разум его счел доказанным, глаза покамест не видели. Глаза – вот что требовало подтверждения.
Он провел языком по тонким, сухим губам. Повернулся к востоку. Лицо его окатил желтоватый свет. Оно просияло, точно карбункул, когда первый прямой луч восходящего солнца внезапно пробил тьму, осветив выпирающий лоб Стирпайка. Темно-красные глаза молодого человека глядели в самую середку этого косого луча. Стирпайк выбранил солнце и скользнул прочь из света.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ
Титусу повезло – разбуженный им Доктор сразу признал за оконным стеклом очертания мальчика.
Титус взобрался по толстому побегу плюща, росшего под окном Доктора, и не без труда сдвинул вверх нижнюю часть подъемного окна. Другого способа проникнуть в дом не было. Стучать или звонить – означало бы навсегда потерять Стирпайка.
Доктор Прюнскваллор потянулся к стоящей у кровати свече, но Титус резко подался вперед в темноте.
– Нет, доктор Прюн, не надо света… это Титус… нам нужна ваша помощь… простите, что так рано… вы сможете выйти?., со мной Флэй…
– Флэй?
– Да, он вернулся, но лишь потому, что тревожится за Фуксию, и за меня, и за закон… только скорее, Доктор, вы пойдете с нами? Мы следим за Стирпайком – он тут, рядом.
Миг – и Доктор накинул элегантный халат, отыскал и надел очки, пару чулок и мягкие шлепанцы.
– Польщен, – быстро произнес он обычным своим высокопарным, и все же очень приятным тоном. – Более чем польщен – показывайте дорогу, мой мальчик, показывайте дорогу.
Они спустились по темной лестнице: в прихожей Доктор куда-то исчез, но почти сразу вернулся с двумя кочергами, одной – медной, длинной, со смертоносным шишаком на конце, другой – железной, короткой и тяжелой, с очень удобной ручкой.
Доктор спрятал их за спину.
– В какой руке? – спросил он. Титус выбрал левую и получил кочергу железную. При всей грубости этого оружия, мальчик немедля почувствовал себя намного увереннее. Нельзя сказать, что сердце его стало биться не так быстро или ощущение опасности притупилось, но все же он теперь чувствовал себя не таким беззащитным.
Вопросов Доктор не задавал. Он понимал, что смысл этой странной затеи и так откроется ему с минуты на минуту. Да и Титус был не в том состоянии, чтобы давать объяснения. Он начал было почти беззвучно рассказывать Доктору о меловых отметках, которые оставит для них Флэй, но примолк, поскольку времени на то, чтобы сразу и действовать, и объясняться, не было. Прежде чем открыть входную дверь, доктор Прюнскваллор поднял на окне прихожей шторы. Двор, еще погруженный в густую тьму, уже не казался лишенной каких-либо черт массой чернильного мрака. На противной его стороне замаячили строения, и пятно черного проращения мглы, казалось, плывущее в стальном воздухе, обозначилось там, где рос терн.
Стоя бок о бок с Доктором, Титус вглядывался в окно.
– Видите его, Доктор?
– Где он должен быть, мой мальчик?
– Под терном.
– Трудно сказать… трудно…
– Зато с другой стороны легко, Доктор. Давайте пройдем аркадами… Если он ушел, не стоит терять времени, правда?
– Верю вам на слово, Титус, хотя чем мы тут, во имя всяческой виновности, занимаемся, известно разве что ушастым совам. Как бы то ни было, вперед!
Он стоял посреди прихожей, приподнявшись на носки, вытянув перед собою руки, и медная кочерга, свисавшая меж его растопыренных пальцев, выглядела подобием булавы или мистического жезла. Шнур туго стягивал халат на узкой талии Доктора. Тонкие черты лица его несли странное выражение задумчивой решимости – и внушительное, и причудливое.
Доктор отпер дверь, они вступили на садовую дорожку. Доктор в шлепанцах, Титус в чулках, с болтающимися на шее башмаками быстро и бесшумно обходили двор под аркадами, пока Титус, схватив своего спутника за руку, не остановил его. Терн остался на месте, черной гравировкой на фоне рассветного неба, но очертания Стирпайка исчезли. Неудивительно, что и Флэй исчез тоже. Не теряя времени, оба побежали через двор и в раннем свете сразу увидели на земле у своих ног смутный меловой знак. Титус мгновенно пал на колени. То, что перед ним грубая, указующая на север стрела, было достаточно ясно, однако под ней виднелись еще и нацарапанные слова. Разобрать их было нелегко, и все же Титус в конце концов прочел неровную фразу: «Каждые двадцать шагов».
– «Каждые двадцать шагов», вроде бы так, – прошептал он.
Вместе считали они шаги, осторожно продвигаясь на север, каждый с кочергою в руке, глаза каждого вглядывались во тьму, отыскивая признаки опасности – или Флэя.
Действительно, на двадцатом примерно шаге новая стрела указала им путь, подтвердив, что Титус верно истолковал корявую надпись Флэя. Теперь они шли на север с большей уверенностью. Казалось несомненным, что господин Флэй встретится им первым и что, пока они не производят ни звука, можно безо всякого вреда быстро перемещаться от одной стрелы к другой. Иногда расстояние, разделявшее стрелы, по необходимости сокращалось – там, где путь разделялся, или приходилось выбирать поворот. Когда же по обе стороны пути вставали высокие стены или целая миля лишенного дверей коридора пролегала впереди и никакой выбор направления не мог сбить преследователей с толку, Флэй не оставлял меловых пометок подолгу. Не раз и не два каменные артерии оказывались столь протяженными, что Доктор и Титус, сами того не ведая, сворачивали в новый проход еще до того, как Стирпайк его покидал. Один только Флэй и мог знать, что перед ним и за ним его враг и его друзья все вместе движутся под одним и тем же длинным потолком.
Сколь ни быстро заручился Титус помощью Доктора, а все же их и господина Флэя разделало немалое расстояние, поскольку Стирпайк, зевнув, устремился в ночь почти сразу за тем, как Титус покинул Флэя.
Светлело, и Доктору с Титусом становилось все проще и ускорять шаг, и строить догадки о том, какой частью замка они проходят. Меловые стрелы на полах обращались в торопливые метки. Внезапно, поворотя за угол, они наткнулись на второе послание бородача. Оно было нацарапано у подножия каменной лестницы. «Скорее. Он спешит. Догоняйте меня, но тихо».
К этому времени света стало достаточно, чтобы Доктор и Титус поняли, что места эти им незнакомы. Ни тот, ни другой не узнавали встающей над ними каменной кладки, извилистых проходов, пологих лестничных маршей и гладких спусков; они торопливо шли по новому миру. Миру, незнакомому в подробностях – новому для них, хоть и несомненно состоящему из самого вещества их памяти, узнаваемого в его общей, почти абстрактной целостности. Они никогда не бывали здесь прежде, и все же мир этот не был чужим – он весь принадлежал Горменгасту.
Что не лишало его опасности. Ясно было, что они углубились в области необитаемые. Сколь ни ранний стоял час, причина безмолвия крылась не в нем. Заброшенная, пустая, безгласая тишь, обступавшая их, ничего не имела общего ни с рассветом, ни с тем, что население замка еще спало по своим кроватям.
Если и были здесь кровати, то разломанные и пустые, если и имелось население, то состояло оно из долгоносиков и муравьев.
Теперь им приходилось пересекать под краснеющим вверху небом открытые мглистые дворы. Доктор, нелепо не вяжущийся со столь мрачным окружением, передвигался с удивительной быстротой, обеими руками держа перед собою медную кочергу, высоко подняв голову, и полы халата плескались за его спиной.
Титус в сравнении с ним выглядел нищим побирушкой. Чулки его изодрались, и хоть они еще облекали лодыжки, от подошв ничего не осталось, царапины и порезы покрывали его ступни. Впрочем, он их почти не замечал. Волосы падали ему на лицо. Куртка скрутилась поверх ночной рубашки. Штаны наполовину расстегнуты. Башмаки подпрыгивают на плечах.
Они прибавляли ходу, почти бежали, когда это представлялось безопасным, однако, на каждом углу неизменно останавливались и осторожно выглядывали за него перед тем, как продолжить путь. Меловые метки не подвели их ни разу, хотя обращение этих меток из толстых стрел в простые белые мазки на камнях либо досках указывало не только на то, что скорость продвижения Флэя возросла, но и что мелок его становится все короче.
Теперь им не составляло труда разглядеть что бы то ни было. Все вокруг купалось в ясном свете. Разумеется, господин Флэй не мог больше следовать за Стирпайком вплотную. И однако ж, при всей их спешке, Доктор с Титусом Флэя пока не настигли. Лоб Доктора блестел от пота. И его, и Титуса одолевала усталость. Появлялись и пропадали позади незнакомые здания. Один за другим – двор за двором, одна зала за другой, коридор за коридором – извивы и повороты освещенного рассветом каменного лабиринта.
И вот, наполовину не веря себе, как если бы все происходило во сне, Доктор, машинально остановившийся у края высокой стены, высунул голову за угол, оглядывая следующий отрезок пути. Но вместо того чтобы свернуть за этот угол, Доктор отпрянул и завел за спину руку.
Нащупав и сжав локоть Титуса, он подтянул мальчика к себе. И оба увидели Флэя – костлявого, бородатого. Он замер в дальнем конце узкого коридора, устланного футовым слоем пыли и штукатурки. Поза его почти повторяла их собственные – Флэй тоже стоял возле угла, за который заглядывал, и глаза его тоже были прикованы к некоему объекту живого, напряженного внимания, ибо даже на таком расстоянии Доктор увидел, как закоченело приличествующее скорее пугалу тело Флэя.
Запоздай Доктор с Титусом на несколько мгновений, они упустили бы его – прямо на их глазах Флэй скользнул за высокий острый угол стены и скрылся из виду. Титус и Доктор припустились за ним по пятам и достигли каменного выступа, только что им оставленного. Осторожно высунув головы за угол, они увидели новую протяженную перспективу, хрусткую, пепельную от усеявшей ее опавшей штукатурки. И здесь тоже присутствовала в самом конце коридора точная копия картины, ими увиденной минутой раньше: Флэй, застывший у каменного угла. Они словно бы повторно переживали уже случившееся – наблюдаемое теперь ни в малой частности не отличалось от наблюденного ранее. Однако на сей раз они не стали дожидаться исчезновения господина Флэя и по знаку Доктора побежали к нему. По-видимому, Стирпайк еще не скрылся из виду – господин Флэй, неподвижный, точно палочное насекомое, даже не пошевелился, пока Титус и Доктор не оказались с ним рядом. Только тут он, услышав как под ногою Титуса почти беззвучно хрустнула штукатурка, живо повернул к ним над плечом резко очерченное лицо и увидел обоих.
Он коснулся ладонью лба и бросил на Доктора вопросительный взгляд. Потом, приложив палец к губам, оскалил неровные зубы. Доктор слегка склонил к нему свое, с таким совершенством обвитое тканью тело. Тем временем Титус подполз к углу и, заглянув за него, увидел футах в шестидесяти от себя то, от чего у мальчика заколотилось сердце. Распорядителя Ритуала, Стирпайка, человека с багрово-белым лицом. Своего врага – того, кому он давным-давно бросил в летнем классе вызов – бледного и проворного служителя Замка – человека, который погубил его счастье, разлучив с сестрой.
Вот он сидит на краю чего-то вроде низкой каменной чаши, подобия поилки, торчащего из стены заваленного штукатуркой прохода. За спиной его арка, со свода которой свисает, скрывая все, что лежит за нею, драная мешковина.
Вглядываясь в сидящего врага, Титус увидел, как тот подтянул колени к груди и уперся ступнями в обод поилки. Голова и плечи его были отвернуты в сторону, так что Титус не взялся бы сказать, что именно вытащил он из кармана. Стирпайк как будто поднял ладони ко рту, и те замерли в воздухе у его губ, и первый, высокий и визгливый звук бамбуковой дудочки пронесся по гулкому коридору – и все стало понятно. Какое-то время – трудно сказать, сколь долгое, – трое преследователей слушали игру одинокого исполнителя, проворные переборы пальцев по отверстиям, пронзительные, печальные импровизации. Один только Доктор и понимал, насколько мастерски играет Стирпайк. Один только Доктор сознавал, как холодна и стремительна эта музыка. Как она пуста и блестяща.
– Да существует ли что-то, чего он не умеет? – пробормотал, обращаясь к себе самому, Прюнскваллор. – Клянусь всяческой разносторонностью, он пугает меня.
Музыка смолкла, Стирпайк вытянул перед собою руки и ноги, а следом, сунув флейту в карман, встал. Титус ахнул, и двое, стоявшие сзади мальчика, отдернули его от угла. Несколько мгновений все трое едва решались дышать. Впрочем, никакие шаги не приблизились к ним по смежному коридору. Но что же увидел Титус? Ни Доктор, ни Флэй спросить не посмели, однако чуть погодя последний, осторожно глянув за угол, понял, что испугало мальчика. И самого его обезьянка Стирпайка долгое время ставила в тупик. Он давно уж не мог понять, кто там сидит, ссутулясь, на плече преследуемого им человека или проскакивает, цепляясь, по его боку. Иногда зверушка и вовсе исчезала. Она, например, ничего не добавляла к силуэту под терновым деревом, – Флэю оставалось лишь думать, что она, на долгое время укрывшись в складках накидки, висела, цепляясь за бок Стирпайка.
Теперь обезьянка подпрыгивала с ним рядом или замирала, привстав на ноги и побалтывая длинными тонкими ручками, так что морщинистые ладошки ее ворошили обломки штукатурки.
Отныне стало вдвойне важно не издавать ни звука. То, что пропустит мимо ушей Стирпайк, способна с легкостью услышать его обезьянка.
Однако открытие, испугавшее Титуса, имело значение малое в сравнении с тем, что Флэй выглянул из-за угла как раз вовремя, чтобы увидеть, как Стирпайк с обезьянкой вступили под арку и скрылись за мешковиной. Миг-другой, и никто бы уже не смог понять, поворотили они налево или направо. Да и сейчас трудно было сказать – куда, разве что колыхание драных тряпок могло как-то указать им направление.
Что там, за этим тряпьем? У них не было причин предполагать, что впереди ждут новые перебежки от одного угла к другому. Утомительность погони и неизменная необходимость хранить тишину – вот и все трудности, с какими они до сих пор сталкивались. Теперь же, глядя на еще покачивающееся в спокойном воздухе тряпье, все трое осознали, что начинается новый этап преследования.
Титус стиснул рукоять короткой железной кочерги, словно желая ее придушить. Доктор тряхнул головой, изогнул ноздри и на цыпочках приблизился точно к тому месту, на котором исчез Стирпайк. Флэй, настоявший на том, чтобы идти первым, уже отвел – не более, чем на полдюйма, – складку завесы и глянул влево. От увиденного кровь бросилась ему в голову и ходуном заходила рука.
Короткий проход открылся Флэю, а за ним – смутно идущий вниз участок другого коридора, наклонного, более широкого. Стены и пол его были облицованы холодным кирпичом – только-то и всего, – однако и лоб, и ладони Флэя мгновенно покрылись потом. Но почему? – ведь то же самое десятки раз попадалось ему на глаза этим утром. Разница же была вот в чем: эти кирпичи он уже видел прежде. Он попал на окраину собственных владений. Пройдя неизведанными местами, Флэй, не ведая того, приблизился к предместьям Гулких Залов – мира, который он давно уж освоил. Теперь он знал, где находится. Стирпайк знакомым только ему путем привел их в края, которые господин Флэй почитал недоступными.
Но что же делает здесь Стирпайк? Здесь, где когда-то стоял со стынущей в жилах кровью господин Флэй, стоял, вслушиваясь в жуткий смех. Здесь, где он ночь за ночью и день за днем безуспешно искал пристанище, из которого этот смех доносился. Здесь, где с той поры мертвым грузом легла тишина, – так что он не осмеливался возвращаться сюда, поскольку безмолвие этих мест стало еще более страшным, чем демонический хохот.
Только он знал все это. И Флэй провел по глазам тыльной стороною ладони.
Не сделав своим спутникам даже знака, он нелепо, на цыпочках, подкрался к пересечению коридоров и увидел, опять-таки слева от себя, Стирпайка. Если бы тот повернул направо, господин Флэй последовал бы за молодым человеком в места, хорошо ему, Флэю, знакомые. Поворот же налево уводил в лабиринт, в котором Флэй так часто сбивался с пути, отыскивая обиталище призраков.
Господин Флэй более чем сознавал, что не потерять Стирпайка из виду будет делом далеко не простым. И уж тем более трудно будет следовать за ним на расстоянии, достаточно малом, чтобы не спускать с него глаз, оставаясь при этом невидимыми и беззвучными.
Самое худшее для них было – обнаружить себя раньше времени, ведь Стирпайк, стремительно передвигаясь по пустынным местам, никакого преступления не совершал. Если здесь и творилось какое-то беззаконие, то творилось оно ими, выслеживающими Распорядителя Ритуала.
Впрочем, Флэю не было нужды объяснять Доктору с мальчиком, что необходимость абсолютного беззвучия стала еще более настоятельной. Крадучись по кирпичному коридору, они чувствовали, как мир смыкается вокруг них.
Так началось преследование в лабиринте, настолько замысловатом, что казалось, будто строители эти бессолнечных стен исполняли приказ возвести их ни для какой иной цели, как только умучать рассудок и оледенить память. Не диво, что в прежние дни Флэю всего-то и удавалось, что вслепую блуждать по местам столь запутанным. И все же, несмотря на замешательство Флэя и необходимость сосредоточиться исключительно на Стирпайке, инстинкт, работавший сам собой, говорил ему, что они окольными, лишенными логики путями возвращаются к холодному кирпичному проходу, с которого начали. Стирпайк сбавлял шаг. Голова его свесилась на грудь, сообщив молодому человеку вид не то чтобы меланхолический, но как будто задумчивый. Поступь его все замедлялась, и скоро он уже брел едва волоча ноги. Достигнув пологой лестницы, Стирпайк поднялся по ней разболтанной, неверной походкой, наводившей на мысль, что тело его забыло о собственном существовании. Он заворачивал из прохода в проход, двигаясь, словно во сне, клонясь под углом настолько расслабленным, что почти уже и опасным.
Когда он добрался, наконец, до некой двери, то резко выпрямился и растопырил пальцы, мгновенно обратясь в воплощение всеведенья. Он легонько присвистнул, и обезьянка, выбравшись из складок накидки, вскочила ему на плечо, раскачав на своей шляпчонке перо. На миг – когда обезьянка обернулась, и черные, сидящие на морщинистом личике глазки ее оглядели коридор, по которому она попала сюда, – Доктор решил, что его обнаружили. Впрочем, он не отпрянул, не сделал ни одного движения, и зверек с его голым личиком и костюмчиком в цветных ромбах почесался и в конце концов отвернулся. Только тогда Доктор и его спутники отступили поглубже в тени.
Между тем Стирпайк извлек из кармана связку ключей, выбрал один и, помедлив миг-другой, с усилием повернул его в замке. Однако к ручке двери он не притронулся. Напротив – прислонился к двери спиной и, постукивая себя по зубам ногтем большого пальца, оглядел коридор, которым пришел.
Ясно было, что по какой-то причине, только ему и известной, войти он не решается. Сидевшая на его плече обезьянка поерзала, меняя позу, и длинный хвост ее слегка мазнул Стирпайка по лицу. Видимо, этого оказалось достаточно, чтобы разозлить хозяина, поскольку тот швырнул зверушку на пол, и она замерла, прижавшись к камням и поскуливая.
Внимание Стирпайка, когда он отвел взгляд от своей ушибленной спутницы, привлекла груда мусора – камней и изломанных досок, сваленных несколько в стороне от двери, в боковом проходе. Пока Стирпайк глядел на эту груду, гнев его мало-помалу стихал – лицо молодого человека снова разгладилось, уголки рта приподнялись, губы вытянулись в неживую линию.
Несколько мгновений преследователи томились страхом, что потеряли его, ибо Стирпайк вдруг исчез из виду. На их удачу, обезьянка не стронулась с места, а осталась сидеть у двери, баюкая ушибленную ручонку. Если б они последовали за Стирпайком, то непременно столкнулись бы с ним лицом к лицу, поскольку через минуту он воротился, неся длинную сломанную жердину.
Затем Стирпайк приступил к манипуляциям, озадачившим затаившихся наблюдателей. С чрезвычайной опаской он повернул ручку двери, освободив язычок запора. Дверь не составляла теперь преграды, однако Стирпайк приоткрыл ее от силы на четверть дюйма. Он отступил немного и перехватив сломанную жердь, как таран, мягко нажал на деревянную филенку загадочной двери. Особых усилий ему прилагать не пришлось – дверь поворотилась на петлях, открыв взорам Стирпайка часть лежащей за нею комнаты. Некоторое время он держал жердь на весу, вглядываясь по-над нею в узкую щель. Совершенно ясно было, что увиденное сильно его озаботило. Он приподнялся на цыпочки. Склонил голову набок. Затем отдернул жердь, положил ее на пол у своих ног. И только тут, в миг, когда Стирпайк вытянул из кармана шарф и по самые глаза обмотал им лицо, Доктор, Флэй и Титус учуяли тошнотворное, кислое зловоние. Происходящее перед ними странное действо захватило их до того, что поначалу они этого смрада почти не заметили. Стирпайк снова поднял жердину и, с крайней осторожностью нажимая ею на дверь, получал все лучший и лучший обзор комнаты, которую ему, очевидно, не терпелось осмотреть. Когда дверь открылась достаточно, чтобы в нее можно было пройти, Стирпайк замер.
Тут к двери начала подступать, оставив шляпчонку с перьями валяться в пыли, любознательная обезьянка. Видно было, что ее все еще мучает боль в руке. Раз или два, хоть ей явно не терпелось обследовать комнату за дверью, она все же с опаской оглядывалась через плечо на Стирпайка, оскаливая в нервной гримаске зубы. Но жизнерадостная натура ее возобладала и, вскочив на ноги, обезьянка вцепилась нервными лапками в ручку двери. Стирпайк еще раз навалился на жердину, теперь уже с большей силой, дверь распахнулась, и обезьянка, проехавшись на ней, рухнула на устилающий пол комнаты большой, заплесневелый ковер. Но рухнула не одна, – едва четыре лапки ее коснулись плесени ковра, как здоровенный топор пал с верха двери и смертоносное лезвие его с отвратительно глухим стуком вонзилось в пол, отхватив длинный хвост бедняжки. Истошный, до жути человеческий вопль маленькой твари пронесся по пустым коридорам, мучительное это мгновение эхом отразилось и переотразилось в них, а обезьянка, вне себя от боли, изумления и ярости, дикими кругами понеслась по огромной комнате, перескакивая с кресла на кресло, с подоконника на каминную доску, с буфета на буфет, круша вазы, лампы, сметая разного рода безделушки.
Стирпайк, не помедлив, вступил в комнату, уже забрызганную обезьяньей кровью. Он больше не осторожничал. И мечущееся существо удостоил не более чем мимолетным взглядом. А между тем, удели он зверьку больше внимания, Стирпайк заметил бы, что, увидев его, обезьянка прервала свой полет и, дрожа, припала к спинке кресла. Она не отрывала от хозяина глаз, и влажная, смертельная ненависть, подобная всей злобе и желчи отвратительных тропиков, плескалась под ее крохотными серыми веками. Муке и унижению обезьянки положил еще у двери начало человек, сбросивший ее с плеча. И провожая хозяина взглядом, она скалила зубы и заламывала ручонки. Кровь густо капала с обрубка хвоста. Случившееся с нею, причина ее мучительного визга, Титусу, Доктору и господину Флэю были, разумеется, неизвестны. Но настоятельность мольбы, прозвучавшей в этом человеческом крике, выгнала их из укрытия и бросила к двери. Достигнув ее, они обнаружили, что Стирпайк уже покинул комнату, по-видимому, спустившись по трем-четырем ступеням ко второму покою. Обезьянка же сразу приметила их и рванулась навстречу. Приблизившись к Титусу, она привстала на задние лапки и разразилась чередою гримас, которые в иных обстоятельствах могли показаться забавными, но сейчас представлялись без малого душераздирающими. Впрочем, времени возиться с ней не было. Слишком велики были ставки этой игры. Нервы всех троих натянулись до последней крайности. Они страшно устали, а сверх того – по-прежнему оставались в незавидном положении людей, преследующих кого-то, не имея ни дозволения, ни разумных объяснений. И все-таки последние полчаса более чем укрепили их подозрения. В сердцах своих они знали, что, следя за Стирпайком, поступают правильно. И были теперь готовы ко всему, что может им открыться.
Все возрастающие опасения их стали уже до того темны, а домыслы столь фантастичны, что, когда они подкрались ко второй двери и заглянули в расположенный несколько ниже покой, когда увидели в центре устилавшего весь пол большого ковра два скелета, лежащих бок о бок в догнивающих платьях из имперского пурпура, удары сердец их не участились. Чувства всех троих и так уж были перенапряжены – почти до состоянья апатии. Зато мысли в их головах понеслись наперегонки.
Доктор, прижимавший к лицу шелковый носовой платок, давно уж сообразил, что здешний воздух пропитан смертью. Он же и понял первым, что перед ними все, что осталось от Клариссы и Коры Гроан. Титус и понятия не имел, что смотрит на своих теток. Он просто уставился на скелеты. Скелетов ему пока еще видеть не доводилось.
Прошел миг-другой, прежде чем и Флэй вспомнил о неизменном пурпуре Двойняшек. Но то, что здесь совершено преступление, все трое поняли сразу.
Удаленность покоев от замка; две смерти; лишенные окон стены; знание Стирпайком ведущих сюда коридоров, ключ у него в кармане, – а сверх всего, его теперешнее поведение. Ибо, пока они наблюдали за ним, молодой человек, ничуть не сомневавшийся в своей безопасности и одиночестве, повел себя до того странно, что это походило уже на безумие, а если и не безумие, то на эксцентричность, достигшую своей весьма произвольной границы.
Войдя в страшную комнату, Стирпайк и сам осознал, что ведет себя странновато. Он мог остановиться в любую минуту. Но остановиться означало бы задействовать подобие запорного клапана – загнать в бутылку нечто, буйно требующее свободы. Стирпайк же был человеком каким угодно, только не робким. Умение держать себя в узде, которую ему так редко случалось ослабить, его никогда не подводило. Но теперь нечто новое рвалось из него наружу, и Стирпайк послушался голоса своей крови. Он следил за собой – но лишь для того, чтобы ничего не упустить. Он обратился в орудие богов. Темных первобытных богов силы и крови.
Здесь, у его ног лежали разлагающиеся останки, пурпур платьев свисал с ребер спекшимися складками, жутко торчали, уставя глазницы в потолок, черепа. Подобно сгинувшим лицам сестер, и черепа их были совсем одинаковы: всей-то и разницы, что глазницу одной затянул тонкой паутиной поднаторевший в своем ремесле паук. В середине ее билась муха, сообщая подобие живости не то Клариссе, не то Коре.
В определенном смысле, хоть и не понимая всего до конца, Доктор имел отдаленное представление о том, что происходило в уме Стирпайка, когда этот пегий убийца принялся важно, как петушок, расхаживать вкруг тел двух женщин, которых он заточил, унизил и уморил голодом. Доктор видел, что Стирпайка никак нельзя назвать безумным в сколько-нибудь приемлемом смысле этого слова, ибо молодой человек раз за разом повторял, высоко поднимая ноги, череду шажков, словно стараясь довести их до совершенства. Похоже, он отождествлял себя с неким исконным воином или злодеем. Злодеем, хоть и лишенным чувства юмора, но наделенным жутковатой веселостью – своего рода смертоносной игривостью, что поражала человечность в самое сердце ее, ударяла в это сердце, набрасывалась и забавлялась с ним, покалывая его там и тут как бы листком пырея.
Флэй и Доктор, увидев происходившее в комнате, сразу же осознали – каждый на свой манер, – что Титусу здесь не место. Конечно, он не ребенок, однако и отроку этой картины лучше не видеть. Но ничего уже не поделаешь. Разделиться – значило совершить преступную глупость. К тому же, в одиночку Титус ни за что не отыщет дороги назад. То, что они до сих пор ничем преступника не встревожили, было им на руку, однако и мертвое безмолвие, в котором звучали одни лишь шаги Стирпайка, вечно продлиться не могло.
Доктор был потрясен, но в то же время его, человека большого ума и любознательности, увиденное пленяло. Иное дело Флэй. Будучи сам эксцентриком, он ненавидел и презирал любое проявление эксцентричности в других, и представшее перед ним зрелище почти ослепило его, возбудив своего рода бюргерскую ярость. Только одно утешало Флэя: выскочка сам себя выдал, и отныне с ним можно будет сражаться всерьез.
Маленькие глазки Флэя не отрывались от врага. Шея его по-черепашьи вытянулась вперед. Длинная борода дрожала, спадая на грудь. Лесной нож плясал в его руке.
Но дрожало не только это оружие. Кулак Титуса сжимал короткую увесистую кочергу не так уж и твердо. Увиденное привело юного графа в ужас. Целый пласт твердой земли подался под его ногами, и юноша обрушился в подземный мир, о котором не имел никакого понятия. Обрушился туда, где человек может разгуливать петухом вокруг ребер и черепов своих жертв. Туда, где воздух пропитан зловонием их распада.
Доктор, чтобы успокоить мальчика, сжимал его руку; внезапно пожатие это усилилось. Стирпайк остановился на миг, чтобы завязать ослабший шнурок. Покончив с этим, он поднялся с колена, привстал на носки, да так и остался стоять, откинув назад голову. Затем ударил в пол каблуками, согнул колени, одновременно разведя носки в стороны, поднял раскинутые руки и, согнув под прямым углом локти, начал притоптывать, удерживая сжатые кулаки на уровне плеч. Звуки, производимые ногами его, казались громовыми, слитными.
То была поза некоего простолюдина-танцора; впрочем, вскоре странное это представление, этот возврат к варварскому ритуалу времен младенчества мира, Стирпайку прискучил. Молодой человек отдался ему лишь на несколько мгновений, уподобясь артисту, способному обращаться в бездумного посредника чего-то гораздо более величавого и глубокого, чем все, что доступно его сознательному разуму. И все же, переступая, сгибая колени, выворачивая ступни, вытягивая вверх тело и шею и стискивая кулаки, он наслаждался новизною того, что делает. Эта странная потребность тела забавляла Стирпайка – потребность топать, выступать, подниматься на цыпочки, бить каблуками в пол – лишь оттого, что он убийца: все это завораживало его, приятно возбуждало мозг, и когда он перестал притоптывать и осел в пыльное кресло, по мышцам горла его прокатились конвульсивные сжатия, обычно сопровождающие смех, – впрочем, беззвучные.
Он закрыл глаза, но опасность примерещилась ему в темноте, и Стирпайк снова открыл их, и наклонясь в кресле, оглядел комнату. На сей раз, когда взгляд его уперся в скелеты, Стирпайка передернуло от омерзения. Не к совершенному им, доведшим Двойняшек до их нынешнего состояния, но к тому, что они оскверняют комнату, тычут ему в нос свои уродливые черепа и полые кости.
В гневе вылез Стирпайк из кресла. Однако в глубине души он сознавал, что злится не на них – на себя. Ибо то, что мгновения тому представлялось забавным, теперь почти напугало его. Оглянувшись назад, вспомнив, как он петушиным шагом обходил их тела, Стирпайк понял, что был близок к безумию. Подобного рода мысль мелькнула в его голове впервые и, чтобы отогнать ее, он закукарекал. Петушиный проход нисколько его не встревожил, он прекрасно отдавал себе отчет в том, что делает, и, чтобы доказать это, будет кукарекать снова и снова. И не потому, что ему так хочется, но в доказательство того, что он может остановиться, когда пожелает, и снова начать, когда захочет, неизменно сохраняя полную власть над собой, ибо нет в нем ни грана безумия.
Не понимал Стирпайк одного: смерть Баркентина, ночной ужас огня и тухлой воды замкового рва и последовавший за ними долгий бред изменили его. Все, что он думал теперь о себе, имело основой предположение, будто он – все тот же Стирпайк, что и несколькими годами раньше. Но он уже не был тем юношей. Часть его сгорела в огне. Другая безвозвратно потонула во рву. Бесстрашие Стирпайка больше не было безграничным – оно сжалось, обратившись в окаменевший кулак.
Он стал подлее, раздражительнее, нетерпеливее в своей жажде окончательной власти, достигнуть которой можно, лишь устранив всех соперников; и если у него и были когда-нибудь хоть какие-то принципы, какая-то любовь к чему бы то ни было – хотя бы к его обезьянке, книге, рукояти шпаги – даже она выгорела и утонула.
Входя в эту, вторую комнату, Стирпайк прислонил жердину к стене слева от двери. Теперь он ощутил, как жердина притягивает его. Он снова стал собою или, быть может, перестал им быть. Так или иначе, трое наблюдателей вновь увидели знакомую кошачью поступь, приподнятые плечи. Подойдя к жердине, Стирпайк погладил ее ладонью. Шарф по-прежнему закрывал его лицо. Темно-красные глаза казались маленькими круглыми безднами.
Пока ладонь Стирпайка блуждала по жердине, походя на ласкающую клавиши ладонь пианиста, пальцы нащупали в древесине трещинку и, поиграв с нею, обнаружили, что не составит большого труда отодрать от жердины длинную, узкую щепку. Рассеянно, едва ли сознавая, что делает, Стирпайк, чью уверенность в себе уже потеснили десятки тревожных мыслей, отломал от жерди щепу, на сей раз пустив в ход всю силу, какой обладала его натужно согнувшаяся рука. На саму щепу Стирпайк даже не взглянул и собирался уже отбросить ее, поскольку ему всего-то и хотелось, что ее отломать, но тут взгляд его снова уперся в скелеты и, подойдя к ним и проведя длинной, упругой лучиной по их ребрам, как ребенок проводит порой на бегу палкой по балясинам перил, Стирпайк заслушался костяной музыки своего инструмента.
Этому занятию он предавался несколько следующих минут, чередуя щелчки и рулады в подобии музыки ударных, отвечавшей тональности его настроения.
Впрочем, комната уже прискучила ему. Он пришел сюда, дабы глаза его уверились, что Двойняшки мертвы, и остался здесь дольше, чем намеревался. И Стирпайк, отшвырнув щепу, опустился на колени, чтобы расстегнуть застежку жемчужного ожерелья, свисавшего с позвоночного столба. Поднявшись, он уронил ожерелье в карман и, не помедлив, направился к трем ступеням, ведшим в верхнюю комнату – и в тот же миг господин Флэй выступил из своего укрытия.
На Стирпайка его появление подействовало, как электрический удар. Он отпрыгнул назад скачком, подобным скачку танцора, накидка взвихрилась вкруг него, тонкие губы разделились в смертоносном, изумленном рычании.
Тут уж ничего символического не присутствовало. Петушиная поступь и притопыванье – все это было ничем в сравнении с лютой реальностью прыжка, взметнувшего его в воздух, как подкидная доска.
Быстрый, точно рефлекс, Стирпайк успел прямо в высшей точке полета нащупать нож. Еще не приземлившись он понял, что разоблачен. Что с этой минуты, если он сейчас же не уничтожит бородача, ему придется податься в бега. Миг – и жизнь беглого преступника явилась ему.
Только приземлившись, Стирпайк сообразил, кто перед ним. Много лет он не видел Флэя, полагал его мертвым. Однако теперь он узнал старика – что, впрочем, руки его не остановило. Из всех обитателей замка, Флэй последним проникся бы симпатией к бунтарю.
Стиснув нож, Стирпайк уравновесил его на ладони и уже отвел назад правую руку, когда увидел Доктора с Титусом.
Мальчик был бледен. Кочерга ходуном ходила в его руке, но зубы были стиснуты. Его жутко мутило. Происходящее представлялось ему ночным кошмаром. Последние шестьдесят минут добавили к его возрасту далеко не один час.
Бледен был и Доктор. Лицо его утратило даже следы привычного шутовства. Оно казалось высеченным из мрамора – лицом странных пропорций, но полным изящества и решимости.
При виде этих троих, отрезавших его от лестницы, Стирпайк, почти уж метнувший нож, задержал правую руку.
И тогда, четко и точно произнося слова, странно негромким голосом, ничего не говорящим о гулком биении сердца…
– Бросьте нож на пол. Поднимите вверх руки и подойдите к нам. Вы арестованы, – сказал Доктор.
Однако Стирпайк слов этих почти не услышал. Будущее его рухнуло. Годы, потраченные на то, чтобы забраться наверх, на составление сложных планов, – все они пошли прахом. Багровое облако заклубилось в его голове. Тело затрепетало в подобии похоти. В чувственной жажде неудержимого зла. В головокружительной гордости человека, открыто и одиноко противостоящего неисчислимому войску. Одинокого, никем не любимого, губительного, смертоносного – человека, более не нуждающегося в компромиссах, человека, которому незачем больше хитрить. Теперь он уж не сможет в один прекрасный день законно водрузить на свою голову корону Горменгаста, но есть еще темные, страшные области – подземный лабиринт, приюты и проходы, в которых он, монарх мглы, уподобившийся самому Сатане, будет носить никем не оспариваемую корону, корону не менее царственную. Стирпайк замер в позе акробата, живо ощущая малейшее движение каждого из трех стоявших перед ним людей, но как ни насторожены были все чувства, голос Доктора казался Стирпайку доносящимся откуда-то издалека.
– Даю вам последнюю возможность, – сказал бывший его покровитель. – Если вы за пять секунд не бросите нож, мы нападем на вас!
Но упал не нож. Упал Флэй. С хриплым криком верный сенешаль, почти уж подхваченный руками Доктора и Титуса, завалился навзничь и в то же мгновение – клинок Стирпайкова ножа еще трепетал в его сердце, руки друзей Флэя еще боролись с тяжестью его длинного, облаченного в лохмотья тела, – молодой человек, рванувшись, точно на привязи, вслед за летящим ножом, пронесся между Доктором и Титусом и, прежде чем те успели опомниться, очутился в верхней комнате.
Страх перед карающей смертью владел им, удваивая его проворство, и Стирпайк, человек отныне отмеченный и обреченный, не помедлив ни секунды, вылетел из комнаты вон. Но покинул он ее не один – едва захлопнув дверь и повернув в замке ключ, Стирпайк почувствовал, как кто-то яростно вгрызся сзади в его шею. Завизжав, он крутнулся на каблуках и цапнул пальцами пустоту.
Ужас овладел им, и он побежал, как никогда прежде не бегал, одичало сворачивая вправо и влево, все более углубляясь в низинную империю.
А за дверью того, что было некогда покоями Двойняшек, стрекотала и ломала ручонки взлетевшая на стропило обезьянка.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ
Через несколько дней после того, как погиб господин Флэй, а Доктор с Титусом выломали дверь страшных покоев и выбрались из них, останки Двойняшек сложили, по приказу Графини, в общий гроб и похоронили с соблюдением всех обрядов, приличествующих погребению графских сестер.
В тот же самый день на кладбище Избранных Челядинцев, маленьком, заросшем крапивой клочке земли, похоронили и господина Флэя. По вечерам тень Кремнистой Башни ложилась на этот простой погост с коническими кучками камней, указующими места, где под высокими стеблями крапивы мирно покоилось не более дюжины памятных своей исключительной преданностью слуг.
Если бы господин Флэй предвидел подобные похороны, он высоко оценил бы честь, оказанную ему причислением к столь малому сообществу верноподданных мертвецов. А если бы он узнал, что сама Графиня – в одеянии, столь же черном, как оперение ее воронов, – будет стоять у его могилы, душевные раны его исцелились бы полностью.
Пост Распорядителя Ритуала занял Поэт. Задача ему выпала нелегкая. Ночь за ночью клиновидная голова его склонялась над манускриптами.
Когда Прюнскваллор рассказал Графине, как были найдены Двойняшки, как принял смерть Флэй и бежал Стирпайк, она поднялась из кресла с высокой спинкой, в котором сидела, и без какого-либо выражения на крупном лице, оторвала кресло от пола, методично, одну за одной, отломала его гнутые ножки, а затем, с самым задумчивым видом, перекидала их, одну за другой, прямо сквозь стекло ближайшего окна.
Покончив с этим, она подошла к разбитому окну и остановилась, глядя в образовавшуюся зубчатую дыру. Белесый туман висел в воздухе, и верхушки башен, казалось, плавали в нем.
Оттуда, где стоял Доктор, он впервые в жизни увидел настоящую картину. Он не искал ее. Картинки, которые рисовал он сам, были очаровательны и изящны. Эта полностью отличалась от них. Он увидел нечто, дышащее энергией, пленяющее контрастом острых, угловатых зубцов разбитого стекла и плавной, куполовидной линии плеч ее сиятельства, грузно изгибавшейся на переднем плане, пересекая изломы окна. И одновременно с этим Доктор увидел глубокий, темно-пунцовый цвет ее волос на фоне жемчужно-серых башенных вершин, мрамор Графининой шеи и блеск стекла, пыльцевую мягкость неба и резкий очерк зазубренных башен.
Но жалеть о том, что он не учился живописи, доктору Прюнскваллору пришлось лишь несколько секунд, поскольку монумент поворотился к нему.
– Садитесь, – сказал монумент.
Прюнскваллор огляделся. Царивший в комнате беспорядок изрядно затруднял поиски того, на что можно было бы присесть, и в конце концов Доктор остановил выбор на уголке усыпанного птичьим семенем подоконника.
Графиня, приблизясь, нависла над ним. Говоря, она смотрела не вниз, но в створку окна над его головой. Обнаружив, что Графиня не обращает к нему взгляда, а в том, чтобы задирать, говоря или слушая, голову ему и необходимости нет, да и замечены его старанья не будут – более того, он только зря перетрудит шею, – Доктор во весь их разговор разглядывал фестоны ткани, свисавшие в нескольких вершках от его носа, или просто закрывал глаза.
Вскоре для него стало очевидным, что все помыслы его собеседницы сосредоточены с грозной силой и безжалостной простотой на поимке Стирпайка, а прочее ей не интересно.
Тяжкий голос Графини произносил слова медленнее обыкновенного:
– Все обычные работы следует приостановить. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок получит приказ о розыске. У всех известных источников и ручьев, у каждой цистерны, водоема, канавы должен стоять часовой. Несомненно, этому животному рано или поздно захочется пить.
Доктор предложил собрать служащих замка на совещание, выработать план кампании, составить распорядок дежурств, определить их очередность и состав поисковых команд, сформировать из отличной своею свирепостью молодой замковой челяди грозные отряды и назначить за голову Стирпайка награду, способную возбудить в поимщиках бесстрашие и беззаветность.
Они сошлись на том, что времени терять не приходится, поскольку с каждым часом беглец от правосудия будет все более углубляться в какие-нибудь заброшенные места, а то и отыщет себе укрытие либо засаду в самой толще замковой жизни. Нет на земле места столь жуткого, столь пригодного для игры в прятки, как этот сумрачный лабиринт.
Необходимо назначить начальников, раздать оружие. Замок должно перевести на военное положение. Установить комендантский час. И где бы ни таился убийца, его, от подземелья до орлиного гнезда, должны постоянно преследовать звуки шагов и отсветы факелов. Рано или поздно он совершит первую свою ошибку. Рано или поздно краешек чьего-то глаза приметит промельк его тени. Рано или поздно, если поиски будут вестись неустанно, его застигнут пьющим, точно животное, из какого-нибудь ручья, или удирающим с добычей из некоего склада.
Мощный мозг Графини словно впервые заработал в полную силу. Такой Доктор ее еще не видел ни разу. Если бы в эти минуты в комнату Графини вошли ее коты или птицы опустились, плеща крылами, ей на плечи, она бы навряд ли заметила их. Мысли Графини были настолько сосредоточены на поимке Стирпайка, что с самого начала разговора с Доктором в лице Гертруды не дрогнул ни один мускул. Говорила Графиня медленно и негромко, словно у нее заплетался язык.
– Я перехитрю его, – сказала она. – Церемонии пойдут своим чередом.
– День Блистающей Резьбы? – осведомился Доктор. – Он пройдет обычным порядком?
– Обычным.
– И Внешний Люд допустят в замок?
– Разумеется, – сказала Графиня. – Что же способно его остановить?
Что же способно его остановить? То говорил Горменгаст. Злодей может бродить по замку с еще мокрыми от крови руками, но основу замковой жизни по-прежнему будут составлять традиционные церемонии, великие, древние, священные. Через две недели наступит их день, день обитателей Нечистых Жилищ, и на белой каменной полке, тянущейся вдоль стены длинного замкового двора выставят раскрашенные скульптуры; а ночью, когда взревет костер, и пламя его обратит все изваяния, кроме отобранных трех, в пепел, Титус будет стоять на балконе, поочередно поднимая шедевры на показ замершему в темноте и в сполохах огня Внешнему Люду. И всякий раз, что он поднимет над головою новое изваяние, ударит гонг. А после того как замрет эхо третьего удара, Титус прикажет снести все три в Зал Блистающей Резьбы, туда, где спит Ротткодд, и копится пыль, и по высоким планчатым жалюзи ползают мухи.
Прюнскваллор встал.
– Вы правы, – сказал он. – Никаких новизн, ваше сиятельство, кроме неизменного бдения и неустанного поиска.
– А никаких новизн и не бывает, – отозвалась Графиня. – Никаких и никогда.
И в первый раз повернула она голову, чтобы взглянуть на Доктора.
– Мы поймаем его, – сказала она.
Голос Графини, мягкий и низкий, плотный, как бархат, составлял столь зловещий, столь непостижимый контраст беспощадным иглам света, мерцавшим в ее сузившихся глазах, что Доктора невольно потянуло к двери. Ему требовалась обстановка менее напряженная. Поворачивая дверную ручку, он в последний раз скользнул взглядом по разбитому окну и увидел плывущие в звездообразной пробоине башни. Белый туман казался прелестным, как никогда, и башни глядели феями.
ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ
Кличбор с супругой сидели друг против дружки у себя в гостиной. Ирма по обыкновению вытянулась в струнку, распрямив худющую спину. Что-то неприятное сквозило в этом ненужном оцепенении. Оно, быть может, и подобало истинной леди, но женственным определенно не было. Кличбора оно раздражало, внушая ему чувство, что и сам он использует кресло как-то не так. По его разумению, кресло предназначалось для того, чтобы в нем уютно сворачиваться или, напротив, разваливаться. Чтобы человек получал от него удовольствие. А не томился на самом краешке.
И потому он изогнул старую спину, вытянул старые ноги и откинул назад старую голову, между тем как жена его молча сидела, глядя на мужа.
– …И почему, ради всего святого, ты решила, будто ему взбредет в голову рискнуть жизнью ради нападения на тебя7. – говорил старик. – Ты морочишь себя, Ирма. Как бы ни был он эксцентричен, не существует причин, по которым он ставил бы тебя так высоко, чтобы даже убить. Лезть на подоконник твоей спальни для него слишком рискованно. Замок начеку, все ищут его. Неужели ты действительно думаешь, что для него так уж важно, жива ты или мертва – важнее, чем то, жив ли или мертв я, либо вон та муха на потолке? Черт побери, Ирма, будь же разумнее, если, конечно, сможешь, хотя бы ради любви, которую я некогда питал к тебе.
– Ты совершенно не о том говоришь, – ответила Ирма голосом отчетливым, точно щелчки кастаньет. – К предмету разговора наша любовь никакого отношения не имеет. И смешного тут ничего нет. Чувства наши переменились, только и всего. В них уже нет той новизны и свежести.
– Как и во мне, – пробормотал Кличбор.
– Зачем говорить о том, что и так очевидно, – с деланной живостью откликнулась Ирма. – И как это банально, – я говорю, как это банально!
– Я слышу, дорогая.
– Сейчас не время для пустых пересудов. Я обратилась к тебе, как жене и надлежит обращаться к мужу. За наставлением. Да, за наставлением. Ты стар, я знаю, и все же…
– Причем тут, к дьяволу, мой возраст? – огрызнулся, оторвав голову от спинки кресла, Кличбор. Молочно-белые локоны ниспали ему на плечи. – Да ты никогда и не просила моих советов. Ты просто хочешь сказать, что тебе страшно.
– Именно так, – ответила Ирма. Ответила столь тихо и просто, что голос ее показался Кличбору незнакомым. Слова эти вырвались у нее против воли. Кличбор резко повернулся к супруге. Он едва верил своим ушам. Поднявшись из кресла и перейдя безобразный ковер, он подошел к сидевшей навытяжку Ирме. И присел перед нею на корточки. Жалость шевельнулась в Кличборе. Он взял длинные ладони жены в свои.
Ирма попыталась отнять руки, но Кличбор держал их крепко. Она хотела сказать «не будь смешным», но слова ей не дались.
– Ирма, – произнес, наконец, Кличбор. – Давай попробуем начать все сначала. Мы с тобой изменились, но, возможно, так тому и следовало быть. Ты показала мне такие стороны твоей натуры, о существовании коих я и не подозревал никогда. Никогда. Да и откуда мне было знать, моя дорогая, что ты, к примеру, считаешь, будто половина моего штата влюблена в тебя, – или что тебя будет так раздражать моя привычка задремывать? Мы люди разные – по духу, по нуждам, по пережитому. Мы соединились, Ирма, это верно, мы стали единым целым, – но не до конца. Дай же ты отдых своей спине, дорогая моя. Дай отдых своей спине. Так мне будет легче разговаривать с тобой. Я часто просил тебя об этом – со всяческой почтительностью, сознавая, разумеется, что ты вправе поступать со своей спиной, как тебе заблагорассудится.
– Драгоценнейший мой супруг, – ответила Ирма. – Ты слишком много говоришь. Если б тебе удавалось, начавши фразу, ею и ограничиваться, она производила бы впечатление куда более сильное. – Ирма склонилась к нему. – И я тебе вот что скажу, – продолжала она. – Я счастлива видеть тебя здесь, припавшим к моим ногам. Я снова кажусь себе молодой – или могла бы показаться, могла бы, если бы только его схватили, и нашим тревогам пришел бы конец. Это непосильно – непосильно… ночь за ночью… ночь за ночью… О, неужели ты не можешь понять, какая это пытка для женщины? Не можешь? Неужели не можешь?
– Отважная ты моя, – отозвался Кличбор. – Возлюбленная моя, возьми себя в руки. Сколь ни злополучно случившееся, тебе не следует принимать все на свой счет. Я уже говорил тебе, Ирма, ты ничего для него не значишь. Ты не враг ему, дорогая, ведь так? И не соучастница. Или все-таки соучастница?
– Не будь смешон.
– Разумеется. Я смешон. Твой муж, Школоначальник Горменгаста, смешон. А почему? Потому что он подцепил заразу. Подцепил от собственной жены.
– Но в темноте… в темноте… мне кажется, я вот-вот увижу его.
– Вот именно, – сказал Кличбор. – Однако, если бы ты и впрямь его увидела, тебе было б сейчас куда как хуже. Не считая, конечно, того, что мы, как тебе известно, могли бы тогда претендовать на награду.
Кличбор, почувствовав ломотье в затекших ногах, встал.
– Я советую тебе, Ирма, чуть больше доверять твоему мужу. Возможно, он не совершенен. Возможно, есть мужья и получше. Скажем, с более благородными профилями, а? Или с волосами, подобными цветущему миндалю. Не мне судить. И возможно, существуют мужья, которым удалось даже стать Школоначальниками, или обладающие более обширным умом, или такие, чья молодость была ослепительнее в своей галантности. Не мне судить. Но я, такой как я есть, стал твоим. И ты, какая ты есть, стала моею. И оба мы, такие как есть, принадлежим друг дружке. К чему же приводит нас эта мысль? А к следующему. Если все это так, а ты тем не менее трясешься от каждого ночного шороха, я вывожу отсюда, что веры в меня, с тех ранних дней, когда ты готова была лежать у моих ног, в тебе поубавилось. О, ты все продумала заранее… продумала!..
– Как ты смеешь! – вскричала Ирма. – Как ты смеешь!
Кличбор немного увлекся. И забыл, к доказательству чего, собственно говоря, клонились его доводы. Приступ раздражения, проистекшего из некоторой толком не оформившейся мысли, взял его врасплох. Он постарался овладеть собой.
– Ты спланировала, – продолжал он, – мое счастье. И преуспела весьма во многом. Мне нравится сидеть здесь с тобой, если только ты не держишь спину слишком прямо. Умягчись, дорогая моя… ну, хоть немного. Порою так устаешь от прямых линий. Что же касается Стирпайка, прими мой совет – когда тебе страшно, обращайся ко мне. Беги ко мне. Лети ко мне. Прижмись к моей груди, заройся пальцами в мои волосы. Успокойся. Ты прекрасно знаешь, как бы я с ним обошелся, подвернись он мне под руку.
Ирма оглядела своего достопочтенного супруга.
– То есть совсем не знаю, – сказала она. – И как же?
Кличбор, имевший на этот счет еще меньшее, нежели Ирма, представление, провел рукой по длинному подбородку и искривил в хилой улыбке губы.
– О том, что я сделал бы с ним, – сказал он, – человек воспитанный распространяться, пожалуй, не вправе. Вера: вот что тебе нужно. Вера в меня, дорогая.
– Да ничего бы ты с ним не сделал, – сказала Ирма, пропустив мимо ушей совет мужа уверовать в него. – Решительно ничего. Ты слишком стар.
Кличбор, совсем уж собравшийся снова усесться в кресло, так и остался стоять. Спиною к жене. Глухая боль растекалась под его ребрами. Чувство беспросветной несправедливости телесного одряхления овеяло старика, но мятежный голос восклицал в его сердце: «Я молод, я молод!», между тем как у плотского доказательства его возраста – трижды по два десятка плюс еще десять лет, – вдруг подогнулись колени.
Ирма во мгновение ока очутилась с ним рядом.
– О, дорогой мой! Что с тобой? Что с тобой?
Приподняв голову мужа, Ирма подсунула под нее подушку.
Кличбор оставался в ясном сознании. Потрясение, испытанное им, когда он обнаружил, что лежит на полу, на миг-другой выбило его из колеи, затруднив дыхание, но и только.
– Ноги подогнулись, – сказал он, глядя в склонившееся над ним озабоченное лицо с поразительно острым носом. – Но теперь все в порядке.
И сразу же пожалел о сказанном, поскольку, не открой он рта, Ирма, глядишь, еще целый час пронянчилась бы с ним.
– В таком случае, дорогой, тебе, наверное, лучше встать, – сказала она. – Пол не самое подходящее для Школоначальника место.
– Да, но я чувствую себя очень…
– Вставай, вставай! – прервала его Ирма. – Довольно глупостей. Я пойду взгляну, заперты ли двери. Надеюсь по возвращении найти тебя в кресле.
И она удалилась.
В раздражении постукав каблуками по ковру, Школоначальник кое-как поднялся, а усевшись в кресло, показал язык двери, в которую вышла Ирма, но сразу покраснел от стыда и послал в ту же сторону воздушный поцелуй, сдув его со своей изношенной ладони.
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ
Была одна часть внешней стены, так глубоко упрятанная под пологом ползучих побегов, что за сто с лишним лет ничьи глаза, не считая глаз насекомых, мышей и птиц, не видали ее камней. Эти волнистые акры обвисшей листвы глядели на некий проулок, прилегавший к внешней стене Горменгаста столь близко, что, если бы мышь либо прячущаяся птица выбросила из лиственной тьмы сучок, он упал бы прямо в него.
Проход этот был узок и большую часть дня купался в глубокой тени. Только совсем уже к вечеру, когда солнце повисало над Лесом Горменгаст, сноп медовых лучей косо скользил вдоль проулка и янтарные лужицы света наливались там, где по целым дням роились зябкие, негостеприимные тени.
И с появлением этих янтарных лужиц, сюда, откуда ни возьмись, сбредались окрестные дворняги и рассаживались, вылизывая болячки, в золотистых лучах.
Но совсем не ради того, чтобы понаблюдать за этими наполовину одичавшими псами или полюбоваться лучами солнца, протискивалась Та сквозь плотную поросль застлавших стену ползучих растений, пронзая с беззвучной легкостью змеи отвесный покров листвы, пока, поднявшись над землей футов на двадцать, не отникала она от стены и не занимала позицию, с которой могла видеть некую часть проулка. На все это у нее имелась причина, пожалуй что алчная. И состояла она в том, что некоторый одинокий ваятель неизменно приходил на закате в это привычное ему место – разделить вечерний час с собаками и солнечными лучами. В эти часы он трудился над колодой ярлового дерева. В эти часы из-под его резца вырастала фигура. В эти часы Та, широко, по-детски открыв глаза, следила, как медленно рождается на свет деревянный ворон. Ради этой фигурки она и томилась здесь, взвинченная, нетерпеливая. Потому-то, что ей ничего не стоило вырвать фигурку из рук ее создателя и унестись единым духом в холмы, и таилась она здесь вечер за вечером, жадно следя сквозь свисающий плющ за сотворением чудесной игрушки.
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ
Когда Фуксия услышала об измене Стирпайка, когда поняла, что первым и единственным увлечением ее сердца стал убийца, лицо девушки подернулось омерзеньем и ужасом, въедливый след которых запятнал его бесповоротно.
Долгое время она не говорила ни с кем, не покидала своей комнаты, где, неспособная плакать, изнемогала от чувств, бушевавших в ней в поисках хоть какого-нибудь естественного выхода. Поначалу Фуксия ощущала лишь последствия удара, боль от полученной раны. Руки ее подергивались, дрожали. Беспросветная, гнетущая тьма затопляла рассудок. Жить ей не хотелось совсем. Боль в груди терзала ее. Огромный страх словно заполнил грудную клетку – шар боли, все росший и росший. В первую неделю после получения страшного известия она не могла заснуть. А затем в нее проникло подобие ожесточения. Нечто такое, чего она никогда в себе не знала. Оно пришло защитить ее. Необходимое. Оно помогло ей исполниться горечи. И Фуксия стала душить в зародыше всякую, столь для нее естественную, мысль о любви. Слоняясь по своей комнате из угла в угол, она менялась и старилась. Она не видела больше причин, по которым и прочие люди не могли бы оказаться, подобно Стирпайку, безжалостными и двуличными. Она возненавидела жизнь.
Когда Титус пришел проведать сестру, его поразило, как изменился ее голос, как запали глаза. Впервые понял он, что перед ним не просто сестра, но женщина.
И Фуксия заметила в нем перемены. Его нетерпение было таким же реальным, как ее разочарование. Его жажда свободы – такой же неотвязной, как ее жажда любви.
Но что мог он поделать, и что могла сделать она? Замок громоздился вокруг и над ними, бескрайний и непроглядный, как сумрачный день.
– Спасибо, что зашел, – сказала она, – но говорить нам с тобой не о чем.
Титус, смолчав, прислонился к стене. Сестра выглядела теперь намного старше. Каблук Титуса принялся отковыривать ослабевший кусок штукатурки над плинтусом, и отковырял.
– Никак не могу поверить, что он мертв, – сказал наконец юноша.
– Кто?
– Флэй, конечно. И ведь сколько всего он сделал. Как там его пещера? Наверное, опустела навек. Ты не хотела бы…
– Нет, – сказала, предвосхищая его вопрос, Фуксия. – Не сейчас. Больше нет. Собственно, мне вообще никуда идти не хочется. Ты видел доктора Прюна?
– Раз или два. Он просил передать, что был бы рад навестить тебя, когда ты захочешь. Он не очень хорошо себя чувствует.
– Как и все мы, – сказала Фуксия. – А что собираешься делать ты? Ты очень переменился. Нет, не говори. Не хочу думать об этом!
– Теперь повсюду стража, – сказал Титус.
– Я знаю.
– И комендантский час. Я должен возвращаться к себе в восемь вечера. Кто там стоит у твоей двери?
– Имени я не знаю. Он торчит тут почти весь день и всю ночь. И во дворе, под окном, еще один.
Титус подошел к окну, выглянул.
– Какой от них прок? – и затем, оборотясь: – Его они никогда не поймают. Он слишком хитер, скотина. Почему они не спалят здесь все – вместе с ним, и с нами, со всем миром, – не покончат с этой грязью, с прогнившим ритуалом, со всем, и не дадут волю зеленой траве?
– Титус, – сказала Фуксия, – иди сюда.
Он подошел к сестре, руки его дрожали.
– Я люблю тебя, Титус, но я ничего не чувствую, совсем ничего. Я мертва. Даже ты умер во мне. Я знаю, что люблю тебя. Только тебя одного, но я ничего не чувствую и чувствовать не хочу. Хватит, меня уже тошнит от чувств… я боюсь их.
Титус приблизился к сестре еще на шаг. Фуксия неотрывно смотрела на него. Год назад они бы поцеловались. Они нуждались в любви друг друга. Теперь даже сильнее, чем прежде, но что-то разладилось. Между ними легло, разделив их, пространство, а моста у них не было.
И все же Титус, прежде чем торопливо пройти к двери и исчезнуть, на мгновение сжал ее руки.
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ
День Блистающей Резьбы приближался. Резчики добавляли последние штрихи к своим творениям. Замок изнывал от жгучего нетерпения, умеряемого лишь засевшей в каждом уме страшной мыслью о том, что Стирпайк может в любое мгновение нанести новый удар. Ибо за последние восемь дней пегий негодяй нанес их, точных, уже четыре – и всякий раз возле пробитой головы его жертвы, а то и прямо в ней, над глазами, находили небольшой камушек. Убийства эти, столь низкие в своей бессмысленности, совершались в местах, до того удаленных одно от другого, что никаких заключений о том, где находится логово негодяя, вывести не удавалось. Смертоносная рогатка его наводила на Горменгаст прилипчивый ужас.
И все-таки, несмотря на этот над всем преобладавший страх, неминуемость традиционного дня изваяний вселяла в сердца обитателей замка волнение куда менее страшное. С облегчением правили они свои помыслы к этой извечной церемонии, как к чему-то, на что можно опереться, – к чему-то, совершавшемуся ежегодно с самой давней из памятных каждому поры. Они тянулись к традиции, как ребенок тянется к матери.
Продолговатый двор, в котором предстояло провести церемонию, отскоблили и затем отскоблили повторно. Всю неделю, восход за восходом, тихий этот двор полнился эхом ведерного лязга, плеском и шелестом воды, криками мойщиков. Особенно безукоризненный вид приобрела высокая южная стена. Помостья, по которым чистильщики сновали, как обезьяны, ковыряясь средь грубых камней, отскребая расселины, вымывая из впадин и трещин остатки скопившейся пыли, убрали. Она уплывала, эта стена, сужающейся перспективой мерцающего камня, – и в пяти футах над землей по всей длине ее выступала во двор полка Резчиков. Ширина этой полки, или контрфорса, была такова, что на ней с удобством размещалось даже самое крупное из раскрашенных изваяний. Приготовляясь к великому дню, ее уже выбелили, как выбелили на дюжину футов в высоту и стену над нею. Растения и ползучие побеги, сумевшие за последний год пробиться между камней, обрезали, как обычно, заподлицо со стеной.
Сюда, в этот до столь ненатуральной опрятности отчищенный двор Резчикам из Наружных Жилищ предстояло влиться, подобно темной, неровной волне, неся деревянные статуи в руках или на плечах – либо, если изваяние оказывалось неподъемным для одного человека, прибегая к подмоге домашних; и дети будут бежать пообок, босые, с упавшими на глаза черными волосами, и высокие их голоса пронзят, точно стилетами, тяжкий воздух.
Ибо воздух наполняла гнетущая тяжесть. Немногие жаркие дуновения, что веяли в нем, казалось, раздувались заплесневелыми крыльями огромных и хворых птиц.
Страх перед Стирпайком еще усиливался этой духотой – и с тем пущим нетерпением предвкушалась церемония Блистающей Резьбы, ибо возможность обратиться к тому, чего единственным назначением была красота, сулила отдохновение душе и уму.
Но при всей виртуозности своего мастерства, при всем ритмическом очаровании изваяний, ревнивые создатели их не переносили друг друга на дух. Соперничества семейств, давние обиды, сотни жестоких ссор – все вспоминалось в ходе этой ежегодной церемонии. Заново бередились и растравлялись старые раны. Красота и горечь выступали бок о бок. Старые клешневидные руки с растрескавшейся за долгие годы неблагодарного труда кожей, держали наотлет изысканную деревянную птицу с расправленными для полета тонкими, как бумага, крыльями, с горящим на груди малиновым пятном.
К предпоследнему вечеру все уже было готово. Поэт, окончательно утвердившийся на посту Распорядителя Ритуала, произвел вместе с Графиней последний смотр. На следующее утро ворота Внешней Стены распахнулись, и Блистательные Резчики выступили в трехмильный путь ко Двору Изваяний.
И с этой минуты день распустился, как розовый куст с сотней соцветий и тысячью шипов. Серый Горменгаст напитался кровью, насытился золотом, продрог от синевы, многоразличной, как синь цветов; воды его испятнались оттенками вечной зелени, простиравшимися от мягчайшего оливкового до смарагдового, наполнились охрой, воспламенились и затлели, содрогаясь от красок воздуха и земли.
И раздражительные, чумазые скудоимцы стояли, держа в руках тяжелые статуи. К вечеру длинную каменную полку заполнили красочные фигуры – птицы, звери, воплощенья фантазии, гигантские кузнечики, рептилии, ритмы листвы и цветов, сотни голов, повернутых на шеях, свешенных или поднятых с гордостью, какой и не видано было никогда в живых головах из плоти и крови.
Так стояли они долгой, жаркой чередой, отбрасывая тени на южную стену. Из всех изваяний предстояло выбрать троицу самых оригинальных и совершенных и присоединить их к тем, что хранились в редко кем посещаемом Зале Блистающей Резьбы. Прочие надлежало в тот же вечер спалить.
Судейство было делом длительным и кропотливым. Резчики, посемейно сидевшие на корточках посреди двора или подпиравшие противоположную стену, наблюдали за судьями издали. Час за часом тянулись роковые труды, сопровождавшиеся лишь выкриками и плачем десятков мальчишек. Часов около шести слуги вынесли во двор длинные столы и расположили их встык, в три ряда. Затем столы уставили хлебами и мисками с густым супом.
Когда опустились сумерки, судейство уже почти подошло к концу. Небо затянулось тучами, непривычная тьма окутала двор. Воздух уплотнился до нестерпимости. Беготня детей прекратилась, хотя в другие годы они неутомимо носились по двору почти до полуночи. Теперь же дети, непривычно тихие, сидели близ матерей. Даже руку поднять невозможно было без того, чтобы не устать смертельно и не облиться потом. Многие лица были задраны к небу, где тучи, ярус за ярусом, словно крона какого-то баснословного кедра, сбивались в угрюмые континенты.
Титус по молодым годам его непосредственно в выборе «Троицы» не участвовал, но окончательное решение судей требовало формального его одобрения. Он беспокойно слонялся вдоль череды статуй, пронизывая скопления людей, почтительно расступавшихся при его приближении. Тяжесть железной цепи на шее и камня, ремешком удерживаемого на лбу, все возрастала, становясь почти нестерпимой. Юный граф углядел Фуксию, и тут же опять потерял ее в толпе.
– Надвигается страшная гроза, мой мальчик, – произнес за его спиной голос. – Клянусь всем, что есть проливного, надвигается, и с наивеличайшей определенностью!
То был Прюнскваллор.
– Смахивает на то, доктор Прюн, – отозвался Титус.
– И смахивает, и более чем походит, мой юный охотник на злодеев!
Титус взглянул на небо. Казалось, оно обезумело. Оно вспухало и видоизменялось, словно движимое не каким-то там ветром или воздушным потоком, но собственными нечистыми влечениями.
То было грязное небо, и оно все разрасталось. Небо, впитавшее слякоть жарких трущоб преисподней. Титус отвел глаза от его неизъяснимой угрозы и снова взглянул в лицо Доктора. Оно поблескивало от пота.
– Вы Фуксию не видели? – спросил Доктор.
– Видел, – ответил Титус, – да только опять потерял. Она где-то здесь.
Доктор, вытянув шею, огляделся поверх головы Титуса – острое адамово яблоко, зубы, полыхнувшие в улыбке, показавшейся Титусу пустой.
– Вы бы повидались с ней, доктор Прюн… она ужасно изменилась, и так вдруг.
– Конечно повидаюсь, Титус, как только удастся.
К ним приближался посыльный. Судьям понадобился Титус.
– Ступайте, – вскричал Доктор новым, лишившимся прежней звонкости голосом. – Ступайте, мой юный друг!
– До свидания, доктор.
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ
В эту ночь на балконе мать сидела, как незнакомая великанша, по правую руку от него, а Поэт, человек и вовсе чужой, по левую. Великое поле поднятых лиц простиралось внизу. Впереди и вдали, там, куда не достигал свет огромного костра, едва различалась в темном небе Гора.
Близилось мгновение, когда ему придется выкликнуть имена трех победивших резчиков, чтобы те выступили вперед, и выставить толпе на обзор изваяния, веревками затянутые на балкон.
Пламя костра, вокруг которого теснилась масса людей, рвалось в небо. Ненасытимый пыл его уже обратил в пепел сотни мечтаний.
Титус смотрел, как летит по воздуху брошенный одним из двенадцати потомственных «вандалов» восхитительный тигр, откинувший на спину голову с оскаленной мордой и подобравший все четыре лапы под живот. Пламя, казалось, всплеснуло руками, принимая его, затем завилось вкруг тигра и постепенно пожрало зверя.
Страстное желание бежать отсюда обуяло Титуса с внезапной, стихийной силой. Творившееся внизу вопиющее расточительство было ему ненавистно. Жар вечера насылал тошноту. Близость матери и погруженного в свои мысли Поэта невнятно тревожили. Титус скользнул глазами по Горе Горменгаст. Что там, за нею? Лежит ли другая земля?.. Другой мир? Иначе устроенная жизнь?
Если бы только покинуть замок! Одна лишь мысль об этом окатила его дрожью боязни и возбуждения. Мысль, настолько революционная, что Титус покосился на спину матери, пытаясь понять, не слышно ли ей то, что творится в его голове.
Покинуть Горменгаст? Он не осмеливался даже строить догадки о том, к чему способна привести эта мысль. Других мест он не знал. Титус и прежде помышлял о нем – о Побеге. Побеге как отвлеченной идее. Но никогда не задумывался всерьез о том, куда бы он бежал и как бы жил там, где никто его не знает.
И отдающий ересью страх перед тем, что на самом-то деле никому он не нужен, навалился на Титуса. Страх, что и Горменгаст никому не нужен, а то, что он, Титус – граф и сын Сепулькревия, прямой потомок Рода, – все это интересно лишь тем, кто живет с ним рядом. Пугающая мысль.
Подняв голову, Титус оглядел тысячи обращенных к нему снизу лиц. С важным одобрением кивнул, когда в колоссальный костер полетело еще одно изваяние. Пересчитал десятки уходящих влево башен.
– Все мое… – сказал он, но слова эти отдались в голове пустым звуком, и тут случилось вдруг нечто, разбившее вдребезги и страхи его, и упования, наполнившее Титуса восторгом слишком огромным, чтобы его вместить, схватившее юношу, стрясшее прочь всю его нерешительность и метнувшее воображение его в земли, полные горячечного, жестокого блеска, черных прогалин, непереносимого волшебства.
Ибо пока он смотрел на лица, события начали развиваться с великой быстротой. Угольно-черного ворона – склоненная голова, тончайшей работы перья, когти, вцепившиеся в морщинистый сук – почти уж швырнули в огонь, когда Титус, полусонно глядевший во двор, приметил в безмолвной, оцепеневшей от жара толпе некое струение – там, где с необычайной скоростью пролагала себе дорогу одинокая фигура. Потомственный «вандал» уже завел за спину державшую ворона руку. Пламя скакнуло, потрескивая, и озарило его лицо. Рука метнулась вперед; пальцы разжались, и ворон понесся по воздуху, переворачиваясь, переворачиваясь, и начал падать в огонь, но тут кто-то, нежданный и стремительный, как развитие сна, неописуемый в присущей ему смеси изящества с дикостью, вылетел из сплошной, освещенной огнем толпы, на высшей точке прыжка выхватил ворона из воздуха и, держа его над головой, без малейшего промедления или сбоя в великолепном ритме полета всплыл на глазах у всех по заросшей плющом стене и растворился в ночи. Более чем на минуту все и вся замерло. Страшное смятение словно стиснуло свидетелей происшедшего. Потрясение, испытанное каждым, еще и усиливалось ошеломлением, поразившим толпу. Свершилось нечто немыслимое, до того вопиющее, что ярость, которой предстояло вот-вот выплеснуться наружу, на миг замешкалась, словно наткнувшись на стену смятения.
Такого осквернения священной церемонии никто и представить себе не мог.
Первой шевельнулась Графиня. Впервые со времени бегства Стирпайка ее обуял грозный гнев, никак с пегим мятежником не связанный. Она встала и, ухватившись большими ладонями за балюстраду, вперилась в ночь. Набрякшие тучи висели в страшной близи, наполняясь все большей тяжестью. Сам воздух потел. В толпе послышался ропот, люди в ней засновали, как пчелы в улье. Разрозненные гневные вскрики, летевшие из-под балкона, казались близкими, саднящими, страшными.
Что была смерть, принятая несколькими служителями от руки Стирпайка, в сравнении с ударом, нанесенным в самое сердце Замка! Сердцем же Горменгаста был не гарнизон его, не краткодневные обитатели, но то незримое, что минуту назад уязвили у всех на глазах. И пока поднимался крик, пока напирала теснящаяся толпа, Титус, последним вышедший из оцепенения, скользнул косвенным взглядом по матери. Чувствуя, что его мутит от волнения, он медленно поднялся на ноги.
Он, единственный из всех, кого глубоко задело нанесенное традиции нечестивое оскорбление, был задет по причинам совсем особым. Общий смерч потрясения не затянул его в себя. Едва увидев стремительное существо, Титус в единый миг перенесся в давний день – день, в который он больше уже и не верил, отнеся его к миру грез; день, когда в призрачной дубраве он увидел или решил, что увидел, летевшее по воздуху существо с отвернутым в сторону лицом. Как давно это было! И как быстро обратилось всего только в дымку мысли – в туман.
Но то была она. Нет сомнений, все оказалось правдой. Он видел ее прежде, когда она, пропадая за дубами, плыла мимо него, точно опавший лист. И вот опять! Конечно, она подросла, как подрос и он. Но не стала менее стремительной и менее сверхъестественной.
Он вспомнил, как мгновенный промельк ее пробудил в нем сознание собственной свободы. Но сегодня! Насколько мощнее оказалось оно. Воздух дышал пеклом, однако спина Титуса заледенела от волнения.
Он еще раз огляделся вокруг с совершенно ему не свойственным выражением лукавства. Все оставалось прежним. Мать так и стояла с ним рядом, уложив большие ладони на балюстраду. Костер ревел, выплевывая красные угли в темноту, в удушающий воздух. В толпе кто-то орал:
– Это Та! Та! – другой же голос с отвратительной регулярностью повторял:
– Камнями ее! Камнями! – Но Титус ничего этого не слышал. Отступая – медленно, постепенно, – он наконец развернулся и в несколько торопливых скачков достиг комнаты за балконом.
И побежал, и каждый шаг его был преступлением. Он несся по ночным коридорам, в одном из которых вполне мог таиться пегий Стирпайк. Страх и волнение больно сводили челюсти. Одежда липла к спине и ногам. Поворачивая и поворачивая, порой теряя направление, иногда налетая на неровные стены, он, в конце концов, достиг марша широких, низких ступеней и выскочил под открытое небо. Справа, примерно в миле от него, огонь костра отражался в напученных тучах, нависших над ним, будто призрачные подушки ведьминой постели.
Ночь укрыла от глаз взметавшуюся впереди Гору Горменгаст с ее широкими лесистыми склонами, но Титус несся к ней, как перелетная птица, слепо летящая сквозь мрак в нужную ей страну.
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ
Мысль о дошедшем до последней черты ослушании не столько задерживала, сколько подталкивала его в ночи. Оступаясь, он ощущал на затылке гневное дыхание возмездия. Он еще мог вернуться, но, как ни билось его сердце, даже не подумал об этом ни разу. Воображение, до самых глубин взбудораженное ею, гнало Титуса вперед. Лица ее он не видел. Голоса не слышал, и все же то, что с течением лет обратилось в фантазию – о деревьях и мхах, золотых желудях и летящей девочке – фантазией больше не казалось. Все это было здесь. Сейчас. И Титус бежал к ней сквозь духоту и тьму; бежал к реальности.
Вот только тело его устало до невероятия. Ему приходилось бороться с тошнотворной жарой, и, наконец, когда до предгорий оставалась еще целая миля, Титус упал на колени, потом завалился на бок и остался лежать, купаясь в поту, уткнувшись распаленным лицом в ладони.
Однако разум его покоя не знал. Разум так и бежал, спотыкаясь. И пока Титус лежал с закрытыми глазами, он тысячу раз видел, как Та одолевает увитую плющом стену в безумной красоты полете – без малейших усилий, ошеломительно дерзкая, с вызывающе отвернутой от него маленькой головой, так изящно сидящей на шее, – вся она с какой-то бесплотной легкостью плыла в его сознании.
Лежа так, он сотни раз видел ее и сотни раз переворачивался с бока на бок, а воздушная фея все летела, летела, и ноги ее, казалось, скорее плескались, словно водоросли, за телом, чем творили его неземную скорость.
А затем он услышал хриплый рев пушки и, прежде чем умолкло тяжелое, спотыкающееся эхо, снова вскочил и пустился в опасный бег во мраке, туда, где массивная глыба Горы Горменгаст вставала в незрячей ночи. Единственный пушечный выстрел традиционно служил предупреждением об опасности. Титус знал, что он означает: не только то, что исчезновение его обнаружено, но что мать заподозрила его в пренебрежительном непочтении к Горменгасту.
Его хватились, когда пришло время подтянуть на балкон три отобранных изваяния и предъявить их толпе. Как будто мало было тошнотворной жары и страшно набухшего неба; мало ужаса, насылаемого извергом, бродящим со своей рогаткой по Горменгасту; мало неслыханного похищения статуэтки прямо из пламени, мало вида летящей сквозь него «Той» – теперь еще и чести замка было нанесено неслыханное оскорбление, коснувшееся не только служителей его, но и резчиков.
Сначала решили, что юного графа сморила жара. Мысль эта осенила Поэта и он, с дозволения Графини, удалился в комнату за балконом. Однако мальчика там не нашел. Проходили минуты, всеобщее раздражение нарастало, и только тягостность удушающей ночи и навеянная ею вялость толпы удерживали людей от вспышки огульного буйства.
Страшная эта ночь оставила долгий след. Она затронула и пошатнула некие непреложные основы жизни Горменгаста.
Во времена, когда сам дьявол сорвался с цепи, когда все силы сосредоточены на поимке его – как не оцепенеть от того, что замок поражен в самое сердце свое вероломством его светлейшего олицетворения, наследника священных камней, семьдесят седьмого графа?
Между тем это порождение рока уже поднималось во тьме по склону, спотыкаясь о древесные корни, одолевая подлесок, фанатично продвигаясь вперед.
Как сможет он отыскать ее, когда солнце встанет над чащами и заиграет на нехоженых отрогах Горы Горменгаст, Титус и представления не имел. Он просто верил, что сила, которая увлекает его, не преминет себя проявить.
И все же настал час, когда мрак сгустился до того, что дальнейшее продвижение стало невозможным. Титус удалился от замка настолько, что достаточно затерялся во тьме и мог избегнуть скорой поимки. Он знал, что уже составляются поисковые отряды, что первый из них, возможно, успел выступить в поход. Знал и то, что посылка на поиски даже одного человека развяжет руки Стирпайку. И этого ему не простят.
Соотнесут ли его исчезновение с внезапным появлением «Той», сказать он не мог. Возможно, это совпадение само бросится в глаза. Но одно он знал совершенно точно: для всякого обитателя замка, не говоря о законном его властителе, даже отдаленная связь с кем-то из Внешних есть грех, венчающий все грехи, – и тем больший грех совершил граф Горменгаст, отправясь на поиски отпрыска жалкого сброда, к тому же еще – отпрыска внебрачного. Знал, что для всех, начиная с матери и кончая последним лакеем, равно отвратна даже мысль о таком предприятии. Оно похуже самой бесстыдной измены. Мало того, оно сквернит весь его род.
Все это Титус знал. Но поделать с собой ничего не мог. Разве что притвориться – если его все же поймают, – что близящаяся гроза помутила его рассудок. Изменить что-либо он был бессилен. Нечто куда более исконное, чем традиция, владело им. Поймают – значит, поймают. Если его заточат в темницу или выставят на всеобщее поругание – стало быть, он того заслужил. Лишат наследства – винить останется только себя. Он дал пощечину богу, ударил его по старческому лицу. Все так… все так… но пока ночная жара окутывала Титуса полудремотой, мысли его вращались не вокруг огорчения матери, оскорбления, нанесенного замку, его измены или тревог сестры, но влеклись к существу, полному неистовой, бесстыдной дерзости – такой же, как он, бунтарки, упивающейся своим бунтом: мятежницы, подобной поэзии в ее юном полете.
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ
Первый раскат грома его пробудил. Смутный свет, который мог исходить лишь от далекой, задавленной тучами зари, пропитывал темный воздух. И по слову грома ударили первые струи великого ливня.
Насколько он опасен, стало ясно сразу. То был не просто проливной дождь. Даже первые павшие с неба потоки его хлестали землю, выбивая из нее пыль, с неторопливой жестокостью.
Воздух дышал печным жаром. Титус вскочил, точно его ударили палкой. Небо кипело и громыхало. Тучи зевали, как гиппопотамы, глубокие дыры или воронки распахивались и запахивались там и здесь, точно звериные пасти.
Он снова бежал, одолевая склон, в подобии полусвета. Очертания деревьев и скал внезапно вырастали пред ним, вынуждая рывками сворачивать влево и вправо, ибо видимыми они становились, лишь когда Титус почти налетал на них. Непосредственная его цель состояла в том, чтобы достигнуть опушки леса Горменгаст с ее тесно стоящими деревьями, так как только под их кронами и можно было спрятаться от дождя. Дождь шипел над его головой в редкой листве, не дававшей никакого укрытия даже от этого, самого первого порыва грозы.
При всем начальном неистовстве ливня, спешки в нем не ощущалось. Будто бесконечные запасы мощи разливались по всей шири небес.
И пока Титус ковылял под потоками, лившими с навеса листвы над его головой, посверк молнии предвестником ночи озарил землю так, что на миг весь окружающий мир представился сотворенным из одной только мокрой стали.
И в тот же миг взгляд Титуса пронесся по мерцающему ландшафту, обнаружив, прежде чем вновь воцарился огромный мрак, две одиноких сосны на скалистом холме, и Титус мгновенно узнал их, поскольку одну из сосен, сломанную ветром, успели подхватить в падении руки ее сестры.
Он никогда не влезал на эти сосны, не стоял в их тени, не прислушивался к шелесту их игл, и все же они были ему более чем знакомы, ибо несколько лет тому Титус видел их всякий раз, как выбирался из длинного тоннеля – тоннеля, ведшего от Глухих Зал к месту, примерно на милю отстоящему от пещеры господина Флэя.
Когда он при свете молнии увидел сосны, сердце его скакнуло. Однако тьма тут же пала вновь, и Титус мгновенно понял, как трудно будет ему не только добраться до сосен, но и уверенно отыскать выход тоннеля. Достигнуть сосен – еще не значит попасть туда, где он уже побывал. В миг, когда он признал эти деревья, он понял также, что остальная ослепительная панорама ему не знакома. Странный какой-то путь избрал он в темноте.
Но хотя, вероятно, и трудно будет, даже если усилится свет, точно определить направление, когда он, наконец, приблизится к соснам (разглядеть от них пещерное устье тоннеля он и не надеялся), предаваться размышлениям о препятствиях, его ожидающих, тоже было бессмысленно, и Титус, поворотив, припустился по пустоши, заросшей уже ушедшими под воду жесткими травами. Пенистые озера разливались вокруг, доходя ему до лодыжек. То, что ощущалось поначалу как хлесткие жилки дождя, жилками уже не было. Ни даже жилами. Каждая походила на струю, бьющую из насоса или до упора открытого крана. И тем не менее, воздух еще сохранял пугающую духоту, хоть жару и умеряла тепловатая вода, ударявшая в Титуса и стекавшая по его телу.
Миновав пропитанные влагой луга, миновав ольховые рощицы, каменистые, голые подножья холмов, у которых уже разрастались разводья; миновав древние серебряные копи и гравийные выработки – миновав все это, разбросанное по труднопроходимым местам, подобных которым он прежде не видел, Титус выбрался, наконец, к нагроможденью гигантских валунов.
К этому времени слабый свет уже просачивался сквозь налитые черной водой тучи, и Титус, взобравшись на самый большой валун, смог различить две сосны – не справа, где, как он полагал, им следует быть, но прямо перед собой.
Однако подбираться к ним нужды не было. Лучшего наблюдательного поста, чем камень, на котором он стоял, Титус отыскать не смог бы. Не было нужды и в том, чтобы, напрягая глаза, выискивать в ландшафте приметы, по которым можно определить, где находится вход в тоннель. Ибо на востоке, не более чем в миле от него, возвышалась вереница деревьев, которые нависали над уступами муравчатого гравия, поросшего самыми разными травами и спускавшегося, подобно ступеням, туда, где среди скал долины журчал ручей – тот самый, запруженный Флэем ручей, от которого было рукой подать до пещеры изгнанника.
Сумеречный свет разгорался, и дождь, ливший так густо, что очертания чего бы то ни было едва различались, начал слабеть. О том, что он может прекратиться или что небо исчерпало запасы воды, нечего было и думать. Нет, тучи всего лишь втянули когти свои в черные подушечки бури, подобно дикому зверю, что поджимает лапы из единственного желания насладиться сокращением мышц.
Дождь продолжался. Главным силам воды ход дан еще не был, и все же она изливалась безостановочно. Впрочем, Титус дождя больше не чувствовал. Он как будто всю жизнь так и прожил в воде.
Титус присел на камень, обратясь в пленника утра, как муха обращается в пленницу янтаря. Вокруг него струи дождя, ударяясь о плоскую вершину валуна, выбивали из нее невысокие злые фонтанчики, вода бурлила на жестких каменных боках. Что делает он, до костей промокший мальчишка, здесь, так далеко от дома? Почему ничего не боится? Почему не испытывает ни раскаяния, ни стыда?
Он сидел в одиночестве, подтянув к подбородку колени, обхватив ноги руками – маленькое существо под континентами стремительных туч.
Он знал: все это не сон, – но не имел сил отогнать насылаемое тем, что с ним происходило, ощущение сна. Реальность крылась в нем самом – в пылкой потребности испытать весь ужас того, что он уже счел любовью.
Титус слышал о любви: строил на ее счет догадки; самой любви он не знал, но о ней знал все. Что же, если не любовь, стало причиной случившегося?
Ее отвернутое в сторону лицо. Летящие руки и ноги. Нет, дело не в красоте. Дело в вызове, брошенном миру его пращуров. В надменности! В нечестивом бахвальстве! В том, что для этой гибкой, как хлыст, девчонки Горменгаст – просто пустое место!
Но и не только в том, что она была наиполнейшим воплощением всего, что означало для Титуса слово «свобода», что телесная «она» слилась воедино со всем, ею олицетворяемым, – не только это пьянило его, – далеко не одно абстрактное волнение вызывало дрожь в руках и ногах, стоило ему лишь подумать о ней. Он жаждал прикоснуться к этому невесомому телу. Она была его романтической грезой. Она была свободой. Но и чем-то большим. Существом, дышавшим одним с ним воздухом, ступавшим по одной земле, хоть она могла оказаться фавном, или тигрицей, или мотыльком – рыбой, соколом, ласточкой. Будь Та кем-то из них, она все равно не походила бы на него меньше, чем сейчас. Не близость их, не подобие, не какое-либо сходство или надежда на него насылали на Титуса трепет. Различие, различие – вот что было важнее всего, кричащее во все горло различие.
А ливень длился, быстрый, прогретый горячим воздухом, сквозь который пролетал. Глаза Титуса не отрывались от деревьев, теснившихся на длинном холме, в тени которого лежала пещера. В нескольких милях к западу огромное размытое пятно намекало, что там возвышается Гора Горменгаст. Отвесные струи дождя полосовали ее, точно зверя, сидящего в клетке.
Титус встал, спустился с валуна, и тут же страх обуял его. Слишком многое произошло с ним за слишком краткое время. Мысль о пещере повлекла за собою мысль о Флэе, а из мысли о Флэе, каким Титус впервые увидел его в пещере, вырос образ этого верного слуги с ножом в сердце и отвратительной комнаты, в которой бок о бок лежали Тетки. А там и лицо Стирпайка поплыло в струях дождя: жуткий красно-белый узор, растягивающийся и сжимающийся, как на маске пляшущего дикаря, очень худые, очень высокие плечи – и на протяжении целой сотни шагов бегущего Титуса только что не тошнило, и не раз, и не два оборачивался он, вглядываясь в дождь по сторонам от себя.
Путь к пещере получился долгим. Даже не будь потопа, Титус все равно устремился бы к ней. Пещера представлялась ему центром, из которого он сможет углубляться в дичь и глушь, и к которому сможет затем возвращаться.
И все-таки, достигнув ее, Титус заколебался, не решаясь войти. Старый каменный вход зиял пустотой. Он был теперь не тем, каким запомнился Титусу. Пещера стала необитаемой.
Над нею, каскад за текучим каскадом, вставала гора скалистых уступов, крошащихся, поросших папоротником и кустами, даже деревьями, фантастически изгибающимися в воздухе.
Титус взглянул туда, где вершина горы утопала в тучах, но взгляд его почти мгновенно вернулся ко входу в пещеру.
Голова Титуса чуть наклонилась, выставилась из плеч – характерная поза, знаменовавшая готовность боднуть любого врага, какой только посмеет пред ним объявиться. Ни на что не похожие, почерневшие от дождя, волосы его крысиными хвостиками липли к лицу.
Печальный облик пещерного устья на миг притупил волнение от того, что юноша вновь оказался здесь. Титус стоял примерно в дюжине футов от входа в пещеру и смотрел сквозь потоки дождя на темный, сухой тоннель, ведший в ее просторное нутро.
Тот, кто увидел бы его сейчас, нерешительного, вытянувшего шею, в отяжеленной дождем одежде, липнущей к телу, как морская трава, верно, заметил бы, как сильно переменили юношу последние месяцы. Глаза его еще оставались чистыми, как вода родника, своеволие еще поблескивало в них, но угрюмость уже проложила над ними навечную борозду. Сеточка чуть приметных, неглубоких морщин легла под глазами. Юношеские пропорции лица ясно показывали, что ему не больше семнадцати, однако мрачного выражения, ставшего для него столь привычным, скорее можно было бы ожидать на лице человека вдвое старшего.
Эта хмурость ни в коей мере не проистекала из печальных либо трагических переживаний. Он знал времена одиночества, страха, крушения надежд, а в недавнее время – ужаса, однако, знал, как и всякий ребенок, минуты воодушевления и веселья. Он вовсе не походил на запуганное, скорбное порождение напастей. Если что-то и можно было сказать о Титусе с определенностью, то лишь одно: он был слишком живым человеком. Слишком чувствительным. В конце-то концов, именно это и заставляло его носить маску. Хмуро коситься на однокашников в те мгновения, когда сердце его буйно билось, а воображение уносилось невесть куда. Хмуриться, поскольку тогда его оставляли одного. А оставаясь один, он мог часами размышлять о своей участи, сжиматься, точно кулак в болезненных, немыслимых без самопотворства приступах гнева на свою наследственную судьбу, на столь стеснявший его ритуал – и наоборот, пребывая в одиночестве, мог часами безмятежно просиживать за партой, между тем как мысли его блуждали, трепеща, по просторам Горменгаста, дивясь всему, что те вмещали; всему, что было его колоссальным наследием.
Телесная живость Титуса находила выход в этих одиноких исследованиях замка и окружающих замок пространств, но именно странствия воображения, грезы наяву, и уводили его все дальше и дальше от сверстников.
В сущности говоря, он был сиротой. То, что мать Титуса в глубине души ее, в глубине слишком большой, чтобы и сама Графиня смогла ее осознать, питала странную нужду в нем, как в наследнике Рода, не имело для юноши ни малейшего значения, ибо он ничего об этой нужде не знал.
В одиночестве не было для Титуса никакой новизны. Однако открытый вызов, который он бросил сегодня матери и своим подданным – вот этот вызов оказался нов для него, а мысль об изменничестве сделала Титуса, впервые с той минуты, как он убежал с балкона, одиноким до последних пределов. Не потому, что он лишился дома, но потому, что знал – теперь ему помощи ждать не от кого.
Титус шагнул к пещере. Волосы его так слиплись от воды, что голова мальчика выглядела бугристой, будто валун. Тяжеловатые скулы Титуса, немного кургузый нос, широкий рот сами по себе красивыми не были, однако, заключаясь в овал лица, создавали простую гармонию, своеобразную и приятную взгляду.
И все же обыкновение супить брови и хмуриться, скрывая чувства, сообщали Титусу вид, старший его семнадцати лет, отчего казалось, будто к пещере приближается не отрок, но юный муж. Он решил ничего больше не ждать и, миновав естественную грубую арку входа, поразился тому, что голова и тело его освободились от грубых ударов дождя. Он настолько привык к этим ударам, что, стоя в сухой пыли, под круглым сводом прохода, ощутил внезапную легкость, как будто с плеч его вдруг сняли давнее бремя.
Но тут новая волна усталости окатила его, и теперь он не желал ничего, кроме покоя и сна в сухом месте. Воздух пещеры был тепл, поскольку дождь, при всей его густоте, ничем жары не умерил. Титусу, снова обретшему легкость тела, захотелось лечь и заснуть – теперь, когда ничего не льется сверху, – заснуть навсегда.
Когда он вступил в пещеру, ему показалось, что царившая в ней атмосфера унылой заброшенности как будто развеивается. Возможно, он просто слишком устал, и чувства его притупились, утратив способность воспринимать какие бы то ни было тонкости.
Титусу, добравшемуся, наконец, до главного внутреннего покоя с его просторностью, естественными полками, пышной папоротниковой лежанкой, уже с трудом удавалось держать глаза открытыми. Он почти не заметил, что множество малых лесных зверьков укрылось в пещере, разлегшись по каменным полкам, рассевшись по папоротниковым полам, следя за ним яркими глазками.
Машинально стянул он с себя липнущую к телу рубашку и, проковыляв в темный угол, опустился, подложив под голову перекрещенные руки, на крупные листья папоротника и сразу же, ничего не сознавая, заснул.
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ
Пока Титус спал, к мелкому зверью присоединились вымокшая лиса и несколько птиц, рассевшихся по камням, что выступали из стен под сводчатым потолком. Лежащий юноша был почти и не виден под свисавшими папоротниками. Сон Титуса был до того глубок, что расходившиеся молнии, освещая вход в пещеру, ничуть его не тревожили. Следовавшие за ними раскаты, хоть они и усилились в сравнении с прежними, также были бессильны его пробудить. Впрочем, гром придвигался все ближе, и последний из бычьих взревов его заставил юношу повернуться во сне. Время перевалило уже за полдень, однако воздух еще потемнел и света стало не больше, чем в те часы, которые Титус просидел на «наблюдательном» валуне.
Гул и шипение дождя становились все громче, рокот воды на камнях и земле у входа в пещеру заглушали все, кроме самых мощных раскатов. Заяц сидел неподвижно, прижавши уши и не сводя взгляда с лисы. Пещеру наполнил шум стихий, и все же в ней стояло подобие тишины – тишины внутри шума; тишины покоя, ибо ничто здесь не двигалось.
Когда же новый посверк молнии освежевал ландшафт, содрав с него черную шкуру, так что ни единая из частей его анатомии не смогла укрыться от все залившего света, отражения этой слепящей иллюминации разлетелись по стенам пещеры, отчего птицы и звери просияли, точно светящиеся изваяния, окруженные светящимися же папоротниками, и тени их воспарили по стенам и вновь сократились, будто резиновые: тогда только Титус зашевелился под стрелами гигантских сердцевидных языков, заслонявших его от мгновенного блеска, не давая ему проснуться и увидеть, что на пороге пещеры стоит «Та».
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ
I
Голод – вот что, в конце концов, разбудило его. Недолгое время Титус пролежал с закрытыми глазами, воображая, будто он в замке, у себя в комнате. Даже открыв глаза и обнаружив справа неровную каменную стену, а слева – плотную папоротниковую завесу, Титус не смог припомнить, где он. Затем услышал рев воды и сразу же вспомнил бегство из замка и поход сквозь бесконечность дождя, приведший его в пещеру… в пещеру Флэя… в эту пещеру, где он лежит ныне.
Вот тогда-то он и услышал шорохи чьих-то движений. Негромкие, слышимые сквозь бубненье дождя лишь по причине их близости.
Поначалу Титус решил, что это какая-то зверушка, быть может, заяц, и голод заставил его осторожно приподняться на локте и раздвинуть длинные папоротниковые языки.
Однако увидел он нечто совсем иное, заставившее его напрочь забыть о голоде, отпрянуть и вжаться в стену, ощущая, как кровь ударяет в голову. Ибо это была она! Правда, совсем не такая, какой он ее запомнил! Она! Но до чего же она изменилась!
Что сотворила с ней его память, отчего он видел теперь существо, ни в чем не схожее с образом, полнившим его душу?
Она сидела на корточках – Та, невероятно маленькая, – свет только что разожженного костра играл на ее лице, она поворачивала над пламенем вертел с ощипанной птицей. Пол вокруг усыпан сорочьими перьями. И это его поэтичная ласточка? Летучая поскакунья?
Это ли крохотное существо, присевшее, точно лягушка, в пыли, почесывая ляжку грязной ладошкой величиной с буковый лист, в надменных ритмах плыло, покрывая пространство, в его воображении?
Да, это она. Видение съежилось до малых, реальных пропорций несомненной оторвы – расплывчатый образ сгустился в плоть.
Она повернула голову, и Титус увидел лицо, потрясшее его и пробравшее дрожью. Все, что было в юноше от Горменгаста, содрогнулось и взорвалось в подобии возмущения. Но все, что в нем было мятежного, завопило от радости: от радости при виде истинной души неповиновения. Все смешалось в груди Титуса. Воспоминания о ней – гордом и грациозном создании – рассыпались в прах. Они больше не были правдой. Обратились в мелкую, приторную банальность. Гордая, да, и бесспорно полная жизни. И грациозная – в полете, возможно, но не сейчас. Не было ничего грациозного в том, как тело ее, раскованное, точно тело животного, склонялось над пламенем. Но было в ней и нечто новое и земное.
Перед Титусом, настолько влюбленным в ее надменность, в ласточкину красоту членов, что он жаждал, с неистовством и опаской, сжать их в ладонях, открылись теперь новые измерения, темная реальность убитых птиц, разбросанных перьев, животных поз и, сверх всего, не ведающего о себе своеобразия, которое сквозило в каждом ее движении.
Она повернула голову. Титус увидел лицо. Перед ним был оригинал. Лицо это не то чтобы отличалось какой-то невиданной странностью черт и пропорций, нет: оно с вопиющей очевидностью обнаруживало все, чем она была.
И однако независимость ее жизни обозначалась не какой-то характерной подвижностью черт. Складка ее рта менялась редко – только когда она с излишней свирепостью впивалась зубами в поджаренную птицу. Нет: лицо Той не отличалось выразительностью, но скорее походило на маску. Оно отражало всю ее жизнь, а не сиюминутные мысли. Схожее цветом с яйцом зарянки и такое же весноватое. Волосы, черные и густые, она подрезала чуть выше плеч. Округлая, отвесно вырастающая из плеч шея обладала проворной, струистой гибкостью, приводя на память змею.
Движения, подобные этому, подвижность маленьких плеч и быстрота пальцев живее какого угодно выражения лица, внушили Титусу представление о сути ее фанатической независимости.
Пока он наблюдал за девочкой, та бросила сорочьи кости через плечо и, обмакнув руку в тень пообок от себя, извлекла из мглы статуэтку ворона. Она повертела игрушку так и этак, разглядывая, – но ни малейшего выражения на лице ее не обозначилось. Девочка поставила ворона на пол рядом с собой, однако земля была неровна, и ворон упал, клюнув землю. Ни мгновения не помедлив, она ударила ворона кулачком, как ребенок бьет, рассердись, игрушку, а затем, одним плавным движением встав, смахнула его с дороги пинком ноги, и ворон, отлетев к стене, так и остался лежать на боку.
Поднявшись, девочка обратилась совсем в другое существо. Трудно было бы совместить его с тем, что сидело на корточках у огня. Сходство со щенком проступило в ней. Она обратила лицо ко входу в пещеру, к воде, льющейся, застилая его. Несколько мгновений она без всякого выражения смотрела на заслоненный стеною дождя вход, затем двинулась к нему, но на третьем шаге остановилась, тело ее напряглось, голова повернулась. Плечи остались неподвижными, лишь голова крутнулась да глаза заскользили по стенам. Что-то ее насторожило.
Худое тело девочки мгновенно пришло в движение. Глаза опять заскользили по стенам, пронизывая каждую тень – затем они остановились на миг, и Титус из темного своего укрытия увидел, что она заметила на полу пещеры его рубашку, изодранную, мокрую.
Поворотясь, Та поступью и легкой, и опасливой приблизилась к рубашке, которая лежала в натекшей с нее луже. Девочка присела на корточки, вновь обратясь в лягушку, почти отвратительную. Глаза ее все еще с подозрением шарили по пещере. И ненадолго задержались на папоротниках, которые, свисая вкруг Титуса, укрывали его.
Девочка снова взглянула на выход, но лишь на секунду, а затем подхватила рубашку и подержала ее перед собою в вытянутых руках. Дождевая вода потекла со складок на пол, и Та, смяв рубашку, принялась с неожиданной силой выжимать ее, потом расстелила по полу и осмотрела еще раз, наклоняя, как птица, лишенное выражения лицо то в одну, то в другую сторону.
Титусу, все тело которого уже затекло в напряженной позе, пришлось прилечь, чтобы дать отдых рукам и расправить ноги. Когда он опять приподнялся, опираясь на локоть, Та уже отошла от рубашки и стояла у выхода. Титус понимал, что не сможет вечно оставаться в укрытии. Рано или поздно придется объявиться – он почти уж поднялся, решив махнуть рукой на последствия, когда сверкнувшая молния показала ему силуэт Той, черный на фоне блистания, – спина выгнута, голова закинута назад, – она ловила губами ослепительно яркий поток дождя, падавшего, золотясь, как сама молния, прямо в ее разинутый рот. На долю секунды она обратилась в фигурку из черной бумаги с тщательно вырезанным контуром головы, со ртом, раскрытым так, словно он готов выпить все небо.
И следом снова рухнула тьма, и Титус увидел, как Та появилась из мрака, приближаясь к углям костра и становясь все яснее различимой. Видимо, рубашка зачаровала девочку, потому что, дойдя до нее, Та остановилась и принялась разглядывать эту одежку то под одним, то под другим углом. В конце концов, она подняла рубашку с пола, натянула через голову и, просунув руки в рукава, замерла, похожая на девчушку в ночной сорочке.
Представление Титуса о Той металось из одной крайности в другую, и теперь он, едва ли понимая, кто же она – лягушка, змея или газель, – оказался бессилен впитать в себя причудливое преображение, результат которого замер в нескольких шагах от него.
Он знал лишь одно: девочка, которую он так пылко искал, стоит сейчас рядом с ним, в пещере, укрывшись, как и он, от грозы, стоит, точно ребенок, оглядывая рубашку, мокрые складки которой достают ей почти до лодыжек.
И Титус забыл о ее дикости. Забыл, что она ничего не знает. Забыл о ее быстроте, о примитивности натуры. Сейчас он видел в ней только покой. Только обманчивое изящество склоненной головы. И видя лишь это, он отвел в сторону папоротники и встал.
II
Внезапное появление Титуса отозвалось в Той всплеском такого неистовства, что Титус невольно отступил на шаг. Как ни стесняла ее новая одежда, она метнулась в тот угол пещеры, где пол покрывали осыпавшиеся камни, единым духом подхватила один и с яростной быстротой метнула в Титуса. Он отдернул голову, и все же зазубристый камень больно резанул по скуле, разодрав кожу так, что кровь потекла по шее.
Боль и изумление, осветившие его лицо, составили резкий контраст ее непроницаемым чертам. Но при этом тело Титуса сохраняло покой, а ее пребывало в непрестанном движении.
Она взлетела по неровной стене и запорхала с полки на полку, пытаясь описать по стене, прямо под сводом, неровный круг. Титус стоял между нею и выходом, так что она перепорхнула туда, откуда смогла бы броситься поверх его головы и упасть на пол поближе к грозе – а стало быть, и к свободе.
Но Титус, вовремя сообразив, что задумала Та, отступил ко входу в тоннель, отрезав ей путь к бегству. При этом он еще мог ясно видеть ее. Поняв, что план ее сорвался, Та взлетела на одну из самых верхних полок, где успела уже побывать, и с нее, расположенной в двенадцати футах над Титусом, просунув голову сквозь свисавшие с потолка папоротники, уставилась на него: крапчатое лицо ее не выражало ничего, однако голова все время покачивалась из стороны в сторону, как у гадюки.
Камень, попавший в Титуса, выбил из него всякое преклонение перед Той. Он разозлился, а страху перед нею в нем поубавилось – и не потому, что она не была опасной, а из-за того, что прибегла к такому заурядному средству ведения боя, как швырянье камнями. Средство это делало ее отчасти понятной.
Будь у нее возможность выворачивать камни из одетого в папоротники потолочного свода, она так бы и поступила – и метала бы их вниз, в него. Но даже глядя на нее в гневном изумлении, Титус испытывал неразумное влечение к ней, ибо – что она сделала, как не отринула, в его лице, самую сущность Горменгаста? А именно этот единоличный бунт с самого начала и внушал ему благоговение, наполнял восторгом. И хоть боль в скуле разозлила его настолько, что ему захотелось с силой встряхнуть девчонку, ударить, укротить, – в то же время легкость, с которой она перепархивала с одной опасной полки на другую, в полете хлеща по камням длинной сырой одежкой, вызывала в юноше жгучую жажду – коснуться маленьких грудей ее и стройных конечностей. Жажду смять их и ими овладеть. Впрочем, и гнев его не покидал.
Как вообще ей удавалось перебегать в липнувшей к ногам рубашке по каменной стене, да еще и так быстро, он не взялся б сказать. Длинные рукава хлопали ее по рукам, но так или иначе она ухитрялась раз за разом выпрастывать пальцы из складок, чтобы хвататься за выступы камня.
Теперь, когда Та скорчилась в тенях наверху, мокрая рубашка облепила ее, обратив тонкое тело девочки в подобие изваяния, и Титус, следивший за нею снизу, вдруг крикнул голосом, который ему самому показался чужим:
– Я друг тебе! Друг! Можешь ты это понять? Я лорд Титус! Ты слышишь?
Схожее с яйцом зарянки лицо, высунувшись из папоротников, уставилось на него, но ответа он не получил, если не считать таковым звук, напоминающий отдаленное шипение.
– Послушай, – снова крикнул он громче прежнего, хоть сердце его буйно билось, а слова давались с трудом. – Я искал тебя. Это понятно?., искал тебя… Ох, ну как ты не понимаешь! Я убежал… – Он на шаг подступил к стене, и теперь Та оказалась почти над его головой… – И я тебя нашел! Так поговори же со мной, Бога ради, хоть это ты можешь? Можешь?
Титус увидел, как ее рот раскрылся – в этот миг она могла оказаться гигантским фантомом, чем-то слишком нездешним, чтобы вместиться в земные размеры пещеры, чем-то не поддающимся измерению. И этот открытый рот стал ответом на его вопрос.
– Ну, говори же, – крикнул он, – можешь?
Но этого-то она и не могла, – звук, услышанный Титусом, не имел ничего общего с человеческой речью. Да и тональность его не позволяла думать, что он несет ответ, – пусть даже на собственном ее языке. То был одинокий, совершенно обособленный звук. С общением между людьми нимало не связанный. Странно высокий, обращенный к тому, кто его издал.
Непередаваемое восклицание Той до того далеко отстояло от любого привычного звучания человеческого голоса, что у Титуса не осталось сомнений – к человеческой речи Та не способна, мало того, она не поняла ни единого из произнесенных им слов.
Чем мог показать ей Титус, что он не враг, что не собирается мстить за кровь на своей щеке? Воспоминание о ране навело его на новую мысль, и он тут же опустился, не сводя с нее глаз, на колени и нащупал на полу камень; между тем, глаза Той с кошачьей неотрывностью следили за каждым его движением. Он видел, как напряглось ее дрожавшее под рубашкой тело. Когда пальцы его сомкнулись на камне, Титус встал и протянул вперед руку с этим оружием на открытой ладони. Должна же она понять, что теперь в его власти запустить в нее этой штуковиной. Миг-другой он показывал ей камень, а после отбросил его через плечо, и камень клацнул, ударясь о скальную стену за его спиной.
И все же ни единого выражения не пронеслось по ее веснушчатому лицу. Она увидела все, но, насколько мог судить Титус, увиденное ничего ей не объяснило. Однако, глядя вверх, он начал понимать, что она приготовляется сменить место или предпринять новую попытку к бегству. На сотую долю секунды глаза ее порхнули по пещере, словно сызнова запоминая опоры для ног и опасные полки, затем опять переметнулись с лица Титуса – но теперь уже на что-то за ним, по другую сторону пещеры. С быстротой мысли он оглянулся и увидел нечто совсем им забытое – два широких естественных дымохода в скале, ведших, начинаясь в двенадцати футах от выхода из пещеры, на вольный воздух.
Так вот что она задумала – и попытается проделать. Он знал, оттуда, где сейчас находится Та, добраться до круглых отдушин ей не удастся, а вот достигнув противоположной стены, она сможет запрыгнуть в верхний из дымоходов и выбраться по нему наружу, а там, без сомнения, вскарабкаться по мшистым, облитым водой скалам.
Ибо дождь все еще шел, образуя неотвратимый фон для всего, происходившего здесь. Они больше не сознавали ни его непрестанного гула, ни вскриков грозы, ни перемежающих их молний. Все это уже стало привычным.
И вот Та взметнулась в воздух и мгновенно перенеслась футов на шесть вправо, на полку пошире. Казалось, мускульных усилий это не потребовало. То был полет. Однако, приземлившись, она рванула рубашку Титуса, стягивая ее через голову, словно избавляясь от паруса, – но рубашка успела обвить ее во время прыжка и, на миг ослепленная тканью, закрывшей ей лицо, Та в мгновенной панике сдвинула ногу, переоценив ширину опоры, потеряла в темноте равновесие и с глухим вскриком рухнула с высоты.
Когда она прыгнула на полку пошире, Титус, словно притянутый волшебством ее полета, невольно рванулся за нею, оказавшись в итоге в нескольких футах от места, где она, утратившая равновесие, должна была удариться о пол. И прежде чем девочка пролетела расстояние большее ее роста, он уже замер под нею, подогнув колени, вытянув руки, растопырив пальцы и откинув назад голову.
Но то, что он поймал, оказалось до того бестелесным, что Титус свалился на пол от одного только потрясения, вызванного ее невесомостью. От удивления ноги его ослабли, словно обманутые весом, пусть даже малым, который он собирался принять. Он поймал перо, и перо сбило его с ног. Однако руки Титуса сомкнулись вокруг летуньи, бившейся под холодной, мокрой тканью, и он с гневной силой вцепился в Ту, навалившись на нее всем телом, поскольку они перекатились по полу и Титус подмял ее под себя.
Лица Той, слишком плотно опутанного тканью, Титус не видел, но рельеф его ощущал, пока моталась туда-сюда голова девочки, похожая на истертый морем стеклянный шарик, давным-давно потонувший в бесконечных волнах, – сходство нарушалось только рубцом ткани, натянувшимся поперек лба, перенимая очертания висков. Титус, воображение и тело которого сплавились в пульсациях похоти, с еще большей яростью прижал Ту правой рукой, а левой начал сдирать с нее рубашку, пока не высвободил лицо.
Лицо оказалось таким маленьким, что Титус заплакал. Яйцо зарянки: все тело Титуса ослабло, когда первый девственный поцелуй, трепетавший, жаждая высвобождения, на его губах, скончался сам собою. Он прижался щекою к ее щеке. Та не шелохнулась. Слезы текли. Титус чувствовал, как намокают его щеки. Он поднял голову. Он был сейчас далеко отсюда и знал – разрешение любви невозможно. То был своего рода триумф, породивший в нем тошноту.
Прижатая к земле голова Той отвернулась в сторону, взгляд зацепился за что-то. Тело напряглось. Миг назад оно таяло, подобное потоку в его руках, теперь же вновь затвердело, как лед.
Медленно обернулся он и увидел Фуксию: дождевая вода текла с нее, мокрые волосы змеями свисали на спрятанное в ладонях лицо.
III
Внезапно Титус понял, что лежит один. Кулак его сжимал рукав от рубашки, но Та исчезла.
Он забыл о существовании какого бы то ни было другого мира. Мира, в котором у него были мать и сестра, в котором сам он был графом. Забыл о Горменгасте.
И тут услышал пронзительный насмешливый крик, который ему предстояло запомнить навек. Вскочив на ноги, Титус, пошатываясь, подбежал к выходу. И увидел Ту: она стояла под ливнем по колено в воде, голая, как сам этот ливень. Молнии полыхали теперь непрестанно, освещая ее так, что она казалась твореньем огня, язычки которого пробегали по ней в желтоватом полусвете.
Он вгляделся в нее, и некий исступленный восторг обуял его. Утраты он не ощущал – только слепую хвастливую гордость тем, что держал в объятиях это нагое создание, которое снова выкрикнуло нечто издевательское на своем языке.
Все было кончено. Титус всем существом своим сознавал: большего, чем он уже получил, ждать невозможно. Зубы его впились во мраке в темную сердцевину жизни. Он смотрел на Ту почти с безразличием, – ибо все ушло в прошлое, а настоящее было ничем в сравнении с блеском его памяти.
И тогда из сердца грозы вырвался палящий огонь и, прорезав ослепший лес, испепелил Ту, как будто она была всего лишь сухим листом, подвернувшимся ему на пути, и что-то взвилось в Титусе, осознавшем, что мир навсегда лишился ее, – что-то отлетело прочь – или сгорело, как сгорела она. Что-то умерло – да так, словно его никогда и не было.
В семнадцать лет он вступил в другую страну. Юность – вот что умерло в нем. Отрочество обратилось в воспоминание. Он стал мужчиной.
Развернувшись, Титус возвратился туда, где стояла, прижавшись к стене, сестра. Говорить ни он, ни она не могли.
Сколько было в ней человеческого, жалкого! Когда Титус разделил упавшие ей на лицо длинные пряди и увидел, насколько она беззащитна, когда Фуксия оттолкнула его руку и на лице ее проступило усталое разочарование женщины, вдвое старшей, – вот тогда он осознал свою силу.
В час, когда ему полагалось бы надломиться под гнетом того, что он сию минуту увидел, – под гнетом смерти его воображения – он не обнаружил в себе ни единой крупицы горя. Он был самим собой. Человеком, впервые в жизни узнавшим свободу. Узнавшим, что жить можно по-разному, не только так, как живут в огромном его доме. Приключение закончилось. Он опустошил яркий кубок романтической любви – опустошил единым глотком. Сверкающие осколки кубка разбрызгались по полу. Но в красоте и в уродстве, во льду и в пламени, на языке и в крови он мог все начать заново.
Та погибла… погибла… молния убила ее – и все же не будь рядом Фуксии, Титус завопил бы от счастья, ибо он стал теперь взрослым.
IV
Прошло немалое время, прежде чем брат с сестрой обменялись хотя бы словом. Изнуренные, сидели они бок о бок. Титусу удалось уговорить Фуксию снять длинное красное платье, он выжал его и расстелил перед разожженным заново костром. Ему не терпелось покинуть пещеру. Теперь она обратилась для него в простое скопление мертвых камней. С пещерой было покончено. Однако еле живая от усталости Фуксия еще час или более оставалась бессильной пуститься в обратный путь.
Обходя пещеру, Титус заметил на каменной полке несколько мертвых птиц, но голод так и не вернулся к нему.
Наконец, он услышал голос Фуксии, низкий, тяжелый:
– Я так и думала, что ты, скорее всего, здесь. Мне уже лучше. Пора возвращаться. Начинается наводнение.
Титус быстро подошел к выходу из пещеры. Все верно. Им угрожала опасность. Дождь не только не стих, но полил пуще, да и тучи пугающе сгустились.
Он торопливо вернулся к сестре.
– Я уверила всех, что ты обеспамятел, – сказала она. – Что с тобой это случалось и прежде. Говори и ты то же самое. Мы разойдемся около Замка. Пошли.
Она поднялась, натянула через голову красное платье. Разочарование саднило ей сердце. Она решила, что Титусу что-то грозит, рискнула ради него головой в надежде, что брат будет гордиться ею. И вот, проделать такой путь и застать его с… с «Той»!
Цепляясь, неистово и болезненно, за свою гордость, она поклялась себе, что никогда ни о чем не спросит его – никогда не заговорит о «Той». Она считала себя самым близким ему человеком, полагая, что, если у брата появится кто-то еще, он ей об этом скажет. Фуксия понимала, что она всего лишь сестра ему, но слепо верила, что даже после того, как они разошлись во мнениях о Стирпайке, брат все равно нуждается в ней сильнее, чем она когда-либо нуждалась в Стирпайке.
Титус, заправляя в штаны изодранную роковую рубашку, не сводил с сестры глаз.
– Она мертва, Фуксия.
Фуксия подняла голову.
– Кто? – пробормотала она.
– Дикая девочка.
– Дикая… девочка?.. Так скоро?
– Молния.
Повернувшись к устью пещеры, Фуксия пошла навстречу грозе.
– О Господи, – прошептала она словно себе самой. – Неужели на свете только и есть, что смерть да скотство? – И затем, не обернувшись, но повысив голос: – Не рассказывай мне, Титус. Не рассказывай ничего. Я предпочитаю ни о чем не знать. Живи своей жизнью, я буду жить своей.
Титус нагнал ее у выхода. Вид им открылся пугающий. Вода залила все вокруг. Нельзя было терять ни минуты.
– У нас только одна надежда, – сказал Титус.
– Я знаю, – откликнулась Фуксия. – Тоннель.
Вместе пустились они в дорогу, и низвергающееся небо немедля навалилось на них всей своей тяжестью. Дальнейший их путь обратился в пропитанный водою кошмар. Пока они продвигались к началу длинного подземного хода, им то и дело приходилось вытаскивать друг дружку из предательских потоков. Сотни напастей обрушились на них. Подводные плети ползучих растений цепляли их за ноги; они спотыкались о затонувшие кусты; ветки деревьев валились в воду по сторонам, едва не ударяя их и не увлекая за собою на дно. Порою вода оказывалась слишком глубокой либо почва слишком топкой, и им приходилось возвращаться и пускаться в длинные обходы. Когда они выбрались, наконец, на высокий, обратившийся в берег холм, оба уже вдосталь нахлебались воды. Однако тоннель – вот он, на месте, и хоть вода уже начала затекать в его черную глотку, брат и сестра, увидев ее, испытали такое облегчение, что против воли своей обнялись. На пролетающий миг годы откатились назад, и они снова стали братом и сестрой, живущими в не знающем ревности мире.
Они позабыли, как долог тоннель, какая в нем стоит темнота, как полон он пакостных растений, путающихся под ногами корней, гадкой гнили. Пока Титус с Фуксией шли к замку, вода поднималась все выше, поскольку по каждую сторону от Горменгаста почва вставала уступами, и весь этот обширный лабиринт беспорядочно нагроможденного камня помещался в самой середке бескрайней котловины.
Когда брату с сестрой удалось, наконец, распрямиться, выбраться из тоннеля и тронуться в нелегкий путь к Безмолвным Залам, вода уже доходила им до пояса.
Продвижение их было до исступления медленным. Шаг за шагом одолевали они тягостную стихию, черную воду, завивавшуюся вокруг их поясниц. Порою им удавалось, вскарабкавшись по ступенькам, немного отдохнуть на лестничных площадках, однако задерживаться было нельзя, поскольку вода все прибывала. Благо еще Титус хорошо помнил путь, приведший их, наконец, к тому месту за статуей, где он давным-давно спрятался от Баркентина, чтобы затем заблудиться в промозглых проходах, которые они теперь медленно одолевали вброд.
Но вот, наконец, и оно – укрытие за статуей. Титус шел впереди и, обогнув постамент изваяния, осторожно высунулся и глянул вправо и влево вдоль пыльного коридора. Коридор был пуст – и неудивительно. Его, как и все остальное, заливала вода, подобная темному, неторопливо движущемуся ковру. Видимо, наводнение подступало со всех сторон, и нижний этаж Горменгаста уже пришлось эвакуировать. Спальня Титуса находилась этажом выше, да и комната Фуксии тоже располагалась над затоплявшей замок водой. Фуксия уже стояла рядом, оба почти вступили в воду, чтобы направиться, разделившись, к своим покоям, когда вдруг услышали некий плеск, и Титус оттянул сестру назад. Плеск повторился, стал размеренным, усилился, и брат с сестрой увидели, что с запада к ним приближается неяркий красный свет.
Затаив дыхание, они ждали – и через миг показался плоский нос ялика или узкого плота. В середине его восседал на низком стуле немолодой мужчина. В каждой руке он держал по короткому колу, одновременно окуная их в воду по сторонам своего судна. Колья, неглубоко уходя в воду, ударялись в пол и с ровной неспешностью подталкивали ялик вперед. На носу стоял красный фонарь. Поперек кормы лежало ружье со взведенным курком.
И Фуксия, и Титус уже видели этого человека. То был один из множества стражей, или часовых, назначенных патрулировать нижние коридоры. По-видимому, ни гроза, ни исчезновение Титуса не повлекли за собой перебоя в круглосуточных поисках пегого негодяя.
Как только свет фонаря и красные его отблески удалились, брат с сестрой вброд потащились к ближайшей лестнице.
Поднимаясь по ней и даже не достигнув еще первого из расходящихся коридоров, они поняли, что в замке произошли серьезные перемены. Ибо, взглянув вверх, увидели за каменными перилами высокие груды книг и мебели, драпировок и посуды, поставленных одна на другую корзин с вещицами помельче, ковров и мечей, обративших лестничную площадку в подобие не то склада, не то ярмарки.
И множество измотанных людей лежало на столах или устало сутулилось по креслам. Несколько фонарей еще горело, но никто, похоже, не бодрствовал, никто не пошевелился.
Миновав на цыпочках спящих, оставляя за собою завихренья в воде, Титус с Фуксией добрались, наконец, до стыка двух коридоров. Времени на то, чтобы мешкать здесь или разговаривать, у них не осталось, однако они постояли с минуту, глядя друг на дружку.
– Тут мы расстанемся, – сказала Фуксия. – Не забудь, что я тебе говорила. Ты обеспамятел, очнулся только в лесу. Я тебя не видела. Ты меня тоже.
– Не забуду, – пообещал Титус.
Они повернулись друг к другу спинами и пошли расходящимися путями и скоро растворились во мраке.
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ
Не было в Горменгасте ни единой живой души, которая помнила бы грозу, хоть в чем-то сравнимую с этим бесконечным, черным потопом, залившим окрестности, поднимавшимся с каждой минутой и уже плескавшимся на лестничных площадках первого этажа.
Гром гремел непрерывно. Молнии полыхали и гасли, словно какой-то ребенок играл с выключателем. По безбрежным просторам вод носились, вскидываясь, точно чудовища, тяжелые ветви приречных деревьев. Рыбы реки Горменгаст плавали, где хотели: их можно было видеть сквозь нижние окна замка.
На те возвышения почвы, одиночные скалы и смотровые башни, что поднимались над водной поверхностью, сбивалось всякого рода мелкое зверье, стеснявшееся в сплошную массу, решительно не обращая внимания на то, кто чьим оказался соседом. Разумеется, самым обширным из подобных прибежищ стала Гора Горменгаст, обратившаяся в редкостной красоты остров, – густолиственные деревья росли здесь прямо из лижущей их стволы воды, текучая гладь которой злобно посверкивала отражениями вздрагивающих молний.
В большинстве своем еще уцелевшие животные собрались на ее склонах, и небо над ними, при всем его неистовстве и негостеприимстве, неизменно наполняли кружащие с криками птицы.
Другим огромным прибежищем стал сам замок, к стенам которого сплывались – с зайцами пообок и крысами позади – усталые лисы, барсуки, куницы, выдры и прочее сухопутное и речное зверье.
Они стекались к замку со всех сторон, одни только головы их и виднелись над поверхностью вод – дыхание часто, блестящие глаза не отрываются от замковых стен.
Колоссальный приют, каким стала Гора (смотревшая на Замок по-над исхлестанными ливнем озерами, которым вскоре предстояло превратиться во внутреннее море), стал островом. Горменгаст тоже отрезало от остального мира.
Как только обитатели замка поняли, что имеют дело не с обычной грозой, разразившейся над их головами, что внешним отрогам замка уже угрожает опасность оказаться отрезанными от основного массива, что службы его, в частности хлева да и все построенное из дерева, может смыть, – были отданы приказы об эвакуации из отдаленных частей замка, о немедленном переселении в него Блистательных Резчиков и переброске всего домашнего скота из хлевов в пределы замковых стен. Отряды мужчин и юношей стаскивали в замок телеги, плуги и всякого рода крестьянские орудия. Все спасенное временно разместили, вместе с повозками и конской упряжью, в арсенале, расположенном на восточной стороне одного из внутренних дворов. Скот и лошадей загнали в огромную каменную трапезную, где одних животных отделяли от других барьерами, сооруженными по большей части из больших, отломанных бурей древесных ветвей, которые то и дело прибивало к южным окнам.
Внешние, и так уже уязвленные надругательством над Церемонией, не испытывали никакого желания возвращаться в замок, однако стоило дождю подмыть самые основания их становища, они поневоле подчинились полученному приказу и совершили угрюмый исход из древней своей обители.
Великодушие, явленное им в пору испытаний, не только не было оценено, но напротив, еще пуще озлобило их. Как раз в то самое время, когда Резчикам нечем было заняться, как только замкнуться в себе и погрузиться в размышления о тягостном оскорблении, которое они претерпели, доверившись Дому Гроанов, им пришлось воспользоваться гостеприимством главы этого Дома. С детьми и скудными пожитками на плечах вымокшая орда недовольных и ропщущих потянулась в замок, и темная вода забурлила, доходя им до колен.
Резчикам отвели обширный замковый полуостров, выстроенный из камня без соблюдения какого-то особого плана – в милю, если не больше, длиной и в несколько этажей высотой. Здесь они застолбили на плесневелых полах участки, каждая семья обозначила свою стоянку жирными линиями, проведенными кусками меловой штукатурки.
Теснота заново напитала их горечь и, поскольку излить раздражение на великую абстракцию Горменгаста они не могли, то обратились друг против друга. Вспомнились старые счеты, и всякого рода скверна воцарилась на длинном, мрачном мысу. Злопамятство заливало один этаж за другим. Глиняные лачуги Внешних погибли. Сами же Внешние стали теми, кем ни за что не признали бы себя в дни, когда жили в откровенном убожестве вне замковых стен – зависимыми людьми.
В окнах их лил темный дождь. С каждым минующим днем жуткое, обвислое брюхо небес, казалось, становилось все грузнее и грязнее, все обжорливее и чернее. С верхушек стен, возвышавшихся на дальнем, труднодостижимом краю мыса, узники, ибо таковыми они и были во всем, кроме названия, вглядывались в Гору Горменгаст. При первом свете утра, при ночных всполохах молний, они высматривали, далеко ли взобрался по ее отрогам потоп. Отлогая ветвь далекого дерева или какая-нибудь приметная особенность близкой к воде части скалы выбирались в качестве точки отсчета, и Внешние с нездоровым интересом определяли, как высоко и скоро поднялась вода.
Затем они отыскали род отдушины – не в каком-либо постороннем источнике, нет, отдушиной их снабдила мудрость одного старого резчика, и ею стало для Внешних со всеми их горестями строительство лодок. Работа, правда, не творческая, но все же по дереву. Мысль о ней, как только она была высказана, распространилась, подобно кругам по воде, из конца в конец полуострова.
Невозможность занятий резьбой злила Резчиков не меньше, чем оскорбление, которое им пришлось проглотить. Рашпили и стамески, пилы и киянки – вот первое, что они собрали, когда исчезла всякая надежда отсидеться в своих лачугах. Но тащить с собой тяжелое дерево или корни ярла, извечный их материал, они не могли. Да теперь и пользы-то от тех и других не было бы никакой. Для лодок, плотов или челноков требовалось нечто иное, и прошло совсем немного времени, прежде чем начали пропадать потолочные балки и брусья, внутренние стенные панели, двери, а при случае – и половицы заодно со стропилами. Соревнование между семьями, норовившими навалить в своих мелом очерченных становищах сколь можно более высокие груды досок и брусьев, было беспощадным, сравнимым разве что с последующим соперничеством в попытках построить посудину не только легче всего управляемую и водостойкую, но и самую оригинальную и красивую.
Они не испрашивали разрешений; панели и доски полов отдирались и выламывались по наитию; они часами ползали по пыльным стропилам, пиля твердую сосну и бархатистый дуб; они воровали ночами, а днем открещивались от воровства; они выставляли сторожей и производили вылазки; они препирались насчет надежности полов, насчет того, какие балки лучше не трогать, а какие служат лишь украшениями. В полах образовались огромные бреши, сквозь которые дети швыряли грязь и сыпали пыль на головы тех, кто поселился этажом ниже. Жизнь Внешних вновь обрела почти привычный для них уклад. Ожесточение было их хлебом, соперничество – вином.
И строительство началось, и стук молотков наполнил воздух, между тем как под хлестанье дождя по окнам и раскаты грома тысячи разнообразных суденышек обретали в потемках красоту.
В самом же замке мало оставалось времени для каких бы то ни было занятий, кроме перетаскивания наверх, все наверх и наверх, разнообразного скарба Горменгаста.
Второй этаж стал для проживания непригодным. Наводнение, затопившее его ульеобразные помещения, обратилось в нечто большее, нежели простая угроза имуществу. Все больше людей, не отличавшихся особым проворством или сообразительностью, попадали там в западни или тонули; двери, придавленные водой и переставшие открываться, лишали их доступа к внешнему миру или же люди сбивались с пути среди неузнаваемых протоков.
Немного осталось таких, кому не пришлось заниматься каторжным трудом – перетаскивать пожитки по десяткам лестничных маршей.
Скот, столь необходимый для выживания на отрезанном от мира острове, раз за разом менял жилища. Перегонять его даже по самым широким лестницам без того, чтобы он не паниковал, было нелегко. Перила из самого крепкого дерева ломались, как спички, металлические же гнулись под нажимом прущих вверх гуртов; кладка расшатывалась, огромный каменный лев рухнул с площадки в пролет, и четыре коровы с телкой последовали за ним, найдя кончину в плескавшей внизу холодной воде.
Лошадей приходилось вести по одной, копыта их ударяли в ступени, ноздри раздувались, белки глаз посверкивали в темноте.
Дюжины людей целыми днями переволакивали охапки сена в верхние залы. Плуги же и повозки приходилось бросать, как и неповоротливые, невосстановимые механизмы и всевозможные массивные грузы.
На каждом этаже оставлялась на поживу прибывающей воде масса самых разных вещей. Оружейная обратилась в красный от ржавчины пруд. Десятки библиотек – в наполненные бумажной кашей болота. Картины плавали в длинных коридорах или понемногу сползали вверх, самостоятельно снимаясь с крюков. Трещинки в дереве и кирпичах, крохотные полости между камнями бесчисленных стен промывались, освобождаясь от обживших их насекомых. Там, где тайно обитали поколения ящериц, теперь осталась только вода. Вода, поднимавшаяся, как ужас, дюйм за дюймом, холодным и влажным.
Кухни перевели на самый верх замка. Сбор и транспортировка тысячи и одной вещи, необходимых для прокормления замка, были сами по себе предприятием эпическим. Так же, как, хоть и в ином роде, лихорадочная упаковка и выволакивание из Главной Библиотеки манускриптов с описаниями Традиции и вековых законов Ритуала, а в придачу к ним – тысяч древних справочных томов, без коих сложное устройство жизни замка ни за что бы не удалось сохранить. Тяжеленные корзины со священными пожелтевшими бумагами оттащили на чердак первыми и сразу приставили к каждой по паре часовых.
На всякой заваленной спасенным скарбом лестничной площадке измученные люди в прилипших к спинам рубашках, со лбами, поблескивающими, точно свечной воск, от заливающего глаза пота, проклинали грозу, воду и день, в который они родились. Казалось, им так и придется заниматься всем этим до скончания лет – таскать огромные ящики по извилистым лестницам, тянуть за веревки – и все это лишь для того, чтобы услышать, как те лопаются, и груз стремительно рушится по маршам, которые с таким трудом удалось одолеть; натруживать тела и ноги; валиться от жуткой усталости. Конца видно не было – ни возне с обвязкой и такелажем, с сотнями импровизированных изобретений, рычагов и рукоятей, ни вращению наскоро сооруженных воротов, ни медленному подъему припасов и металла, зерна и ценностей, вин и старинной мебели. Из кладовых, закутов, хранилищ, складов, из погребов, сундуков и укладок, из житниц и арсеналов, из великолепных покоев прежних времен, по которым плесневели огромные «творения» художников, из жилищ бесчисленных служащих, из общих зал и дортуаров челяди – отовсюду и все поднималось наверх: мебель, пожитки, никчемные безделушки и произведения искусства; всё, от здоровенных столов из резного дуба до крошечных серебряных браслетиков.
Однако труды эти не лишены были общего плана. За ними стояла работа определенного мозга. Мозга, продремавшего с самого девичества, не находившего себе применения так долго, что потребовался ни больше ни меньше, как бунт Стирпайка, чтобы мозг этот зевнул, наконец, и потянулся. Теперь он бодрствовал. То был мозг Графини.
Это она отдала самые первые приказы; она призвала в замок Блистательных Резчиков; она усаживалась, расстелив перед собою большую карту центрального Горменгаста, на одной из центральных лестничных площадок за стол и направляла разнообразную деятельность по спасению и переселению, не давая своим подданным времени думать о нависшей над ними опасности – только о непосредственных их обязанностях.
Оттуда, где она сидела, ей было видно, как на площадке пониже заканчиваются последние работы. Вода почти достигла уже пятого марша этой верхней лестницы. Графиня смотрела вниз на четверку мужчин, боровшихся с длинным черноватым сундуком. При каждом покачивании из него выливалась вода. Шаг за шагом сундук взволакивали по широким ступеням. Плещущая вода давилась плавающими по ней предметами. Каждый этаж отдавал наводнению собственную долю вещей – потерянных, позабытых или ненужных, – и добыча, взятая им в нижних пределах замка, дюйм за дюймом всплывала к более высоким водных путям, где к ней присоединялись новые, только что спущенные на воду флотилии, отчего однородный слой плавучего мусора становился все толще и толще.
Несколько мгновений Графиня глядела на темную воду в пролете лестницы, затем перевела взгляд на замерших перед нею вестовых.
В этот миг прибыл еще один запыхавшийся гонец. Его посылали проверить дошедшие до центрального замка слухи о том, что Блистательные Резчики начали строить лодки и почти уже ободрали свой мыс подчистую.
– Ну? – глядя на гонца, произнесла Графиня.
– Все правильно, ваша светлость. Строят.
– Угу, – сказала Графиня. – Что еще?
– Им нужны тенты, ваша светлость.
– Тенты. Зачем?
– Нижние этажи затопило, как и у нас. Приходится спускать лодки на воду недостроенными, через окна. А от дождя защититься нечем. В верхние этажи их не пускают. Те уже перенаселены.
– Что за лодки?
– Самые разные, ваша светлость. И превосходной работы.
Графиня большой ладонью подперла подбородок.
– Доложите Заведующему Плотным Полотном. Пусть отправит им всю парусину, какую удалось сохранить. Известите Резчиков, что при чрезвычайных обстоятельствах их лодки могут быть реквизированы. Пусть сработают их столько, сколько смогут. И пришлите ко мне Смотрителя Речных Судов. У нас ведь есть свои суда, не так ли?
– Насколько я знаю, есть, ваша светлость. Но не много.
– Следующий! – сказала Графиня.
Из строя служащих выступил старик.
– Ну? – спросила Графиня.
– Никаких просветов в небе я не увидел, – сказал старик. – Напротив…
– Отлично, – сказала Графиня.
При этом слове все глаза обратились к ней. Никто не поверил своим ушам. Впрочем, обменявшись взглядами, десятка два стоявших вокруг нее служащих и посыльных поняли, что не ослышались. Каждый обрел вид равно недоумевающий. Слово было произнесено почти шепотом, но с силой, и слово именно такое: «Отлично!» Они словно подслушали некую ее тайную мысль.
– Начальник Отряда Крупных Спасательных Работ здесь?
– Да, ваша светлость. – Усталый, бородатый мужчина шагнул вперед.
– Пусть ваши люди отдохнут.
– Да, ваша светлость. Им это не помешает.
– Нам всем это не помешает. И что с того? Вода прибывает. Список очередности работ у вас есть?
– Да.
– Рабочие копии у начальников бригад имеются?
– Имеются.
– Через шесть часов вода доберется до наших ног. Через два – разбудить всех. Шансов провести ночь на этом уровне у нас нет. Шахматная Лестница шире остальных. Мой приказ о порядке работ вы получили: скот, туши, зерно и тому подобное – так?
– Разумеется, ваша светлость.
– Котов устроили?
– Для них отведена анфилада из двенадцати Синих Чердаков.
– Угу… ну, тогда… – голос Графини замер.
– Ваша светлость?
– Тогда, милостивые государи, приступим. Наводнение сплотило нас. Не правда ли?
Все поклонились, выражая озадаченное согласие.
– С каждым часом пригодных для жизни помещений остается все меньше. Наводнение гонит нас вверх, верно? – в ограниченное пространство. Так скажите мне, милостивые государи, способны ли изменники жить в воздухе и питаться им? Могут ли они жевать тучи? Или глотать громы и набивать утробы молниями?
Милостивые государи покачали головами и переглянулись.
– Или им по силам жить под водой, как щуке, которую я видела там, внизу, в темноте? Нет. Он ничем не отличается от нас, милостивые государи. Стража, расставлена, как обычно? Кухню охраняют?
– Так точно, ваша светлость.
– Ну и довольно. Мы попусту тратим время. Распорядитесь о двухчасовом сне. Все свободны.
Когда подчиненные разошлись, чтобы разнести по замку приказы Графини, она встала и, подойдя к массивным перилам лестницы, замерла, облокотясь о них. Со времени, когда ей доложили о лодках Резчиков, вода поднялась еще на половину ступеньки. Гертруда стояла, облокотясь, походя на статую, выполненную в величину, гораздо большую натуральной: тяжелые руки ее покоились на перилах, прядь темно-красных волос свисала на пространный бледный лоб, – стояла и смотрела в пролет, на задумавшуюся черную воду.
ГЛАВА СЕМИДЕСЯТАЯ
Услышав о возвращении Титуса в замок, Графиня сразу призвала сына к себе и выслушала его рассказ о том, как жара одолела его, как он впал в беспамятство и по прошествии неизвестного ему времени очнулся на опушке леса Горменгаст.
Пока Титус излагал эти небылицы, она не спускала с него глаз, но никаких замечаний не делала и только спросила – после долгого молчания, – виделся ли он, вернувшись, с Фуксией.
– Я говорю о твоем возвращении, – добавила она, – поскольку, уходя, ты пребывал в состоянии, не позволявшем узнать кого бы то ни было. Верно?
– Верно, матушка.
– Так виделся ты с ней, когда вернулся, или после того?
– Нет.
– Я распоряжусь, чтобы твой рассказ распространили по замку. В течение часа Резчиков осведомят, что ты потерял память. Ты выбрал для этого неудачное время. Теперь иди.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ
Дождь лил, не ослабевая, почти две недели, и под воду ушла столь большая часть замка, что пришлось разбить временные лагеря на пригодных для этого крышах – тех, на которые можно было попасть через слуховые окна. Теснота в верхних этажах стояла пугающая.
По глубокой воде с мыса резчиков пришла на веслах первая из заказанных флотилий. Резчикам, отправившимся по крышам и верхним этажам в обратный путь, разрешили взять с собой столько строительного леса, сколько они смогли унести.
Графиня получила лодку просторную и красивую. Устройство ее предполагало гребцов, а корма позволяла Графине разместиться привольно и с удобством править рулем.
Резчиков загодя снабдили смолой и большими банками с краской, так что лодку Графини украшали красные, черные и золотые эмблемы.
Нос ее выступал из воды с неторопливой, тяжеловесной грацией, завершаясь резной скульптурой – подобием хищной птицы с рельефными перьями на шее, тускло-багряным лысым лбом, желтыми лепестковыми глазами, похожими на цветки подсолнечника, и черным, зловеще изогнутым клювом. Практически все резчики делали носовые фигуры, заботясь о красоте их ничуть не меньше, чем об устройстве и надежности судна.
Пришел день, когда Титуса известили, что и для него сооружена особая лодка и что она ждет его в южном коридоре. Титус без промедления направился к ней, качавшейся на воде. В любое другое время он вскрикнул бы от восторга, заимев для передвижения по водным путям нечто настолько изящное и серебристое, с таким совершенством сохраняющее на воде равновесие; получив возможность соступить с неподъемного притопленного стола, болтающегося на полуплаву по седьмому этажу замка – соступить в челнок, который, в отличие от всего виденного им в детстве на книжных картинках, похоже, только и ждал первого удара весла, чтобы помчаться вдаль.
Но все равно Титус влюбился в лодку – хоть и не без боли сердечной. Казалось, она напоминала ему обо всем, что пробуждало в нем смутную тоску. О днях, когда Титус почти и не помнил о том, что он граф; когда отсутствие отца и материнской любви воспринималось как нечто естественное; когда он еще не видел насилия, смерти, разложения. О днях, когда Стирпайк не разгуливал на свободе подобием мерзкого призрака, омрачающего все и всех держащего в страхе; а сверх того, легкая лодка под Титусом напомнила ему о времени, когда он ничего не ведал о таящемся внутри страшном противоречии, рвущем надвое его сердце и ум, о приверженности двум разным началам – день за днем нарастающей, горячечной жажде бегства от всего, что олицетворяется Горменгастом, и неискоренимой, нерассуждающей гордости за свою родословную, такой же сильной, как ненависть, – о любви, которую он против воли своей питал и к малейшему из холодных камней своего безлюбого дома.
Что еще заставило слезы навернуться на глаза Титуса, когда он взял весло и окунул синюю лопасть в словно бы нехотя текущую воду? Воспоминание о том, что сгинуло с такой же несомненностью, с какой ушло его детство; о чем-то, столь же легком, быстром и неукротимом, каким, он знал это, будет его челнок. Воспоминание о Той.
Он окунул весло в воду. Шедевр неведомого резчика прянул, так сказать, прелестной, заостренной головой, с легким шелестом описал изогнутую к северу серебристую дугу и, скользнув в тусклую галерею, рванулся, под все учащающиеся удары весла, вперед. Там, впереди, на далеком острие сужающейся перспективы лежала в самой середине водного пути точка света, и она понеслась к Титусу, который, скользя по затопленному черному коридору, с каждым ударом весла приближался к холодному, изрытому дождем морю.
И все это время сердце его рыдало, а радость и красота происходящего оставались всего лишь посредниками страдания. Как ни стремительно плыл он, ему невозможно было опередить свои тело и разум. Весло окуналось в воду, лодка летела вперед, но и она не могла оставить позади его затравленное призраками сердце. Сердце плыло с ним вместе по погребальной воде.
Уже приблизясь к почти ушедшему в воду окну, Титус вдруг сообразил, как опасно близка к поверхности воды верхняя оконная перемычка. За последний час снаружи сильно посветлело, и световой квадрат стал таким ярким, что Титусу показалось, будто все это светящееся пятно, включая и отражение, представляет собой проем, через который ему удастся выплыть наружу. Теперь он увидел, что проскользнуть можно лишь сквозь верхнюю половину светящегося квадрата. Подлетая к ней, Титус резко откинулся на спину и лег, опустив голову ниже края бортов, и закрыв глаза, услышал легкий песчанистый шелест, с которым изящный нос лодки, пронизывая окно, царапнул по его перемычке.
Внезапно широкое небо распахнулось над ним. Внутреннее море раскинулось впереди. Дождь так и лил, не переставая, однако в сравнении с долгим потопом, к которому все уже привыкли, погода смахивала скорее на ясную. Титус пустил челнок плыть наугад, понемногу теряя скорость, и, когда лодка остановилась, покачиваясь, одним ударом весла развернул ее носом к возвышающимся над водой верхним массивам своего царства. Огромные, выщербленные стихиями острова отвесного камня с бессчетными окнами, подобными пещерам и гнездам морских орлов. Архипелаги или башни – исхудалые кулаки с выпирающими костяшками наверший – башни с верхушками настолько искрошенными, что они обрели сходство с кафедрами проповедников, высокими и зловещими; с черными трибунами для наущения злу.
И тут дурнота, пустая, холодная и звенящая охватила его, словно он обратился в гулкий колокол, с внутренностями, раскачивающимися подобно колокольному языку. Чувство полного одиночества начало разрастаться под ребрами, как раздуваемый стеклодувом стеклянный шар.
Дождь прекратился. Взбаламученные воды успокоились, стали недвижными. Темная сквозистость обозначилась в них. Плывя по зияющей стихии, Титус вглядывался вниз – туда, где далеко под ним росли деревья, где вились знакомые дороги, где рыба проплывала над ореховыми рощами и страннее всего выглядело русло реки Горменгаст, переполненное чуждой ему водой.
Что общего имело все это, поражавшее и радовавшее Титуса, наполнявшее его изумлением и восторгом, – что общего имело оно с разорительным потопом, с утратой сокровищ, с множеством смертей, с призраком Стирпайка, который вынужден был постепенно перебираться все выше и поныне прятался где-то? Вот здесь и жила Фуксия? И Доктор, и Графиня, мать Титуса, которая после попытки сблизиться с сыном, похоже, опять от него отдалилась?
Томимый унынием, Титус скользил по спокойным водам, лишь изредка ударяя веслом. Тусклый небесный свет играл на воде, сплошными полотнищами спадавшей с лишенных стоков кровель.
Проплывая мимо островов Горменгаста, он видел на севере флот резчиков, похожий на рассыпанные по аспидно-серой глади разлива драгоценные камни. Перед ним возвышалась стена, в одно из окон которой он столь опасно проскользнул. То, что еще оставалось и от этого окна, и от тех, что его окружали, ушло под воду, и Титус понял, что покинут еще один этаж центрального замка.
У этой стены, образовавшей как бы тупой нос протяженного каменного мыса, имелся двойник, возвышавшийся в миле на восток от нее. Между ними раскинулся обширный, скучный залив с ничем не нарушаемой гладью. Как и в двойнике его, во втором мысу не было ни одного лежавшего на уровне залива окна. Чтобы добраться до следующего ряда окон и влиться в них или их повредить, воде оставалось подняться еще на добрую дюжину футов. Обратив же взгляд к завершению, или изгибу огромного залива – туда, где (будь он и вправду заливом) вполне мог лежать песчаный берег, Титус увидел, что далекие окна тамошних утесов, казавшиеся отсюда не большими рисовых зернышек, расположены, в отличие от окон на обоих мысах, далеко не регулярно.
Стены эти, поросшие плющом, были странны во многих отношениях. Каменные лестницы взбирались и спускались по внешним их сторонам, ведя к открытым дверным проемам. Окна, как Титус уже заметил, казались разбросанными по зеленым фасадам утесов в неразборчивом, капризном изобилии, не позволявшем сделать никаких заключений о внутреннем устройстве зданий.
К этому берегу «залива» и устремился Титус по прозрачной, холодной, как смерть, воде с ее потопленными дождем чудесами.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ
Место показалось Титусу пустынным: лишенной жизни, заросшей плющом твердыней с немыми беззубыми ртами, слепыми глазами без век.
Он подплыл к основанию запустелой стены, туда, где из воды выступали каменные ступени, косо всходящие вдоль плюща футов на сорок, к каменному балкону с железными перильцами изысканной ковки, настолько, впрочем, заросшими ржавчиной, что довольно было лишь легкого удара палкой, чтобы обрушить их в воду.
Сойдя на лежащие вровень с водой ступени, Титус вытащил сыплющую каплями лодку и аккуратно уложил ее вдоль одной из ступенек – фалиня у него не было, – он вдруг явственно ощутил присутствие здесь некой злой воли. Огромные стены словно следили за каждым его движением.
Отбросив со лба каштановые волосы, Титус задрал голову, оглядывая уходящие вверх камни. Брови его сошлись, глаза сузились, подбородок воинственно выпятился. Ни звука, лишь шепоток дождевых капель, осыпающихся с акров плюща.
Сколь неприятно ни было чувство, что за ним наблюдают, Титус придавил всегда готовый разгуляться страх и, желая скорее доказать себе, что он не боится простого плюща и камня, чем подняться по лестнице и выяснить, что кроется за тоскливыми стенами, начал взбираться по ведшим к балкону скользким ступеням. И едва он начал подъем, лицо следившего за ним человека исчезло из маленького оконца в самом верху хмурой стены. Но лишь на мгновение – ибо оно с такой внезапностью вновь появилось в другом проеме, что трудно было поверить, будто все то же лицо глядит теперь туда, где соскальзывают под воду ступени и лежит вытащенный на сушу челнок Титуса. Впрочем, сомневаться в тождественности лица не приходилось. Не могло существовать на свете двух лиц, ни испятнанных столь схоже, ни обладающих столь безжалостным подобием. Темно-красные глаза неотрывно смотрели на лодку. Они следили за ее приближением по «заливу». Они приметили, насколько лодка легка, быстра и маневренна, как отзывается на малейший каприз гребца.
Он перевел взгляд с лодки на Титуса, который уже одолел дюжину ступенек, а поднявшись еще на две, оказался бы точно под тяжелой каменной глыбой, которую Стирпайк расшатал и которую был бы совсем не прочь обрушить на голову юноши.
Впрочем, он понимал, что смерть Графа, сколько бы ни доставила она ему удовольствия, ничего существенного к его шансам спастись не прибавит. Будь Стирпайк уверен, что камень пришибет его светлость до смерти, он, не колеблясь, удовлетворил бы то, что ныне стало в нем вожделением убийства. Однако, если камень минует жертву и разлетится на куски далеко внизу, на ступеньках, это не только заставит Титуса счесть, что на него покушались – а кто, кроме него, стал бы покушаться на Графа? – но расстроит его, Стирпайка, ближайшие планы. Ибо вряд ли можно надеяться, что Титус, оправившись от испуга, решится продолжить подъем и не вернется, не медля, к своей лодчонке. А именно на лодчонку Стирпайк и нацелился. Способность быстро перемещаться по извилистым водным путям замка помогла бы удвоить его подвижность.
Гонимый поднимающейся водой из пристанища в пристанище, из укрытия в укрытие, он был неизменно скован в своих затеях необходимостью оставаться невдалеке от хранилищ и складов, а это сильно сужало для него пространство маневра, так что возможность перемещаться и быстро, и беззвучно стала для него настоятельной необходимостью. Стирпайку уже пришлось проголодать несколько дней, когда передвижные кухни перенесли в изгиб просторного западного крыла, и красть из них, к тому же еще и охраняемых, какую ни на есть еду стало невозможно.
Правда, с тех пор они переезжали еще, самое малое, трижды, и теперь, если исходить из вероятия, что дождь перестал навсегда, надежда на спасение состояла для Стирпайка в том, что кухни надолго застрянут в помещении, расположенном прямо под забаррикадированным, почти лишенным света чердаком, в котором он учредил свою штаб-квартиру. В потолке этого сумрачного пристанища имелась откидная дверца, выходившая на наклонную черепичную крышу, заросшую плющом, пелена которого, окутывая дверцу, надежно укрывала ее от глаз. Куда важнее, однако, был люк в чердачном полу, который, если поднимать его крышку с осторожным и нежным тщанием, более приличествующим обращению с грудным младенцем, давал Стирпайку доступ к предмету насущнейшей из его нужд, поскольку прямо под люком хранились съестные припасы. Когда совсем уже подпирало, он в ранние часы спускался вниз – дюйм за беззвучным дюймом – по длинной веревке и набивал мешок провизией, способной сохраняться без порчи дольше всякой другой. Дюжина или более кухонных прислужников храпела на полу, однако часовых выставляли, естественно, снаружи, так что помехи они не составляли.
То было не единственное из его укрытий. Он понимал, что рано или поздно наводнение прекратится. И кухни снова начнут кочевать. А сказать, куда качнется жизнь замка, медленно спускаясь вниз по мокрым следам уходящей воды, никто бы не взялся.
Пространные крыши снабдили Стирпайка семью секретными оплотами. Чердаки и три сухих верхних этажа давали, по меньшей мере, четыре прибежища, столь же, хоть и на свой манер каждый, надежных, как и чердак над кухней. Теперь, когда вода вот уж три дня держалась на одном, примерно, уровне – несколькими футами выше большинства лестничных площадок девятого этажа, – Стирпайк получил возможность загодя подготовить немало укрытий, подобраться к которым можно было лишь вплавь.
Но насколько же проще и безопасней проводить рекогносцировки, передвигаясь по каналам верхних этажей в лодке, подобной той, которую он видел сейчас под собою!
Нет. Он не может позволить себе обвалить грубый камень на Графа. Слишком велика вероятность, что попытка убийства провалится. Воспротивиться жгучему искушению одним ударом прикончить наследника Горменгаста – оставив свидетелями лишь кирпичи и камни, – воспротивиться пьянящему соблазну рискнуть и проделать это, было трудно.
Однако собственное выживание превыше всего, а если он хотя бы на йоту уклонится от того, что считает главным своим преимуществом, его ждет конец – не сейчас, так очень скоро. Он сознавал, что ходит по лезвию бритвы. И наслаждался этим. Шкура одинокого Сатаны пришлась Стирпайку настолько впору, словно он и не упивался никогда напыщенными словесами, наслаждениями гражданской власти. Теперь шла война. Открытая и кровавая. И простота ситуации радовала его. Мир наступал на него, окружая, обнажая оружие, алча его погибели. Значит, он должен перехитрить мир. То была игра самая простая, исконная.
И все-таки лицо его не было лицом игрока. Ни даже лицом играющего Стирпайка, каким оно выглядело бы несколько лет назад – ни даже лицом заигравшегося зла, ибо в нем обозначилось нечто новое. Жуткий узор, обративший его в карту, – с белизною морей и краснотой континентов и разбросанных островов – стал почти неузнаваем. Поскольку теперь внимание отвлекали от всего остального глаза.
При всем присущем мозгу Стирпайка коварстве и живости, ныне он пребывал не в том мире, в каком жил до убийства Флэя. Кое-что изменилось. Его ум. Мозг остался тем же, зато ум стал иным. Стирпайк больше не был преступником лишь потому, что сам сделал такой выбор. Выбора у него не осталось. Ныне он жил средь абстракций. Мозг занимался тем, где ему прятаться и как поступать, когда возникают те или иные нежданные обстоятельства, а ум парил над всем этим в багровом эфире. И отражение оного горело в глазах Стирпайка, наполняя зрачки его страшным кровавым светом.
И пока он смотрел, будто хищная птица, со своего оконного уступа, мозг его видел далеко внизу челнок. Видел Титуса, стоящего на каменном балконе. Видел, как тот повернулся и, после недолгого колебания, вошел в гнилостные залы и исчез.
Ум же Стирпайка не видел ничего этого. Ум предавался воинственным забавам богов. Ум шел маршем далеко от него, по ничейной земле, по полям смерти, вышагивал, повинуясь ритму красных телец крови. Быть одиноким и злым! Богом, загнанным в угол! Какие еще нужны абсолюты?
Прошло три минуты, как Граф скрылся в утробе здания. Прежде чем начать действовать, Стирпайк подождал, пока он уйдет поглубже. Существовало, конечно, вероятие, что юноша вдруг снова выйдет наружу – залы внизу лежали зловещие, темные. Но он не вышел, и для Стирпайка настало время совершить свой бросок. Спуск оказался томительно долгим. Кровь стучала в голове убийцы. У Стирпайка свело живот, на какое-то время он лишился сознания. Когда собственное летевшее навстречу ему из глубины отражение пробило поверхность воды, выбросив пенный фонтан, тело, ушедшее вглубь, еще продолжало тонуть, но, наконец, ступня коснулась верхушки затонувшего флюгера, и он начал всплывать.
Взбаламученная вода уже успокоилась.
Долгое падение ослепило Стирпайка, его мутило от проглоченной воды и боли в легких, и все же прошел всего только миг-другой, и он рванулся к каменной лестнице.
Достигнув ее и вскарабкавшись на несколько ступенек к мирно лежавшему на боку челноку, Стирпайк, не мешкая, спустил лодку на воду, проворно вскочил в нее и, схватив лежавшее в ней весло, уже после первой полудюжины гребков полетел под укрытыми плющом стенами к окнам, стоявшим вровень с водой.
Разумеется, Стирпайку следовало исчезнуть сколь возможно скорее. Огромный залив был смертельной ловушкой, в нем даже рыбу, выставь она голову из воды, приметили бы сразу.
Юный Граф мог вернуться в любую минуту. Значит, необходимо скользнуть незамеченным в первое же из окон и не оставить никакого следа. Летя по воде, Стирпайк держал, насколько то было возможным, голову повернутой назад, дабы не проглядеть появления графа. Если его увидят, придется сразу плыть к одному из укрытий. Настигнуть его не смогут и однако ж попадаться кому-либо на глаза вовсе не стоило – и не по одной причине. Замку совершенно не нужно знать, что Стирпайк способен передвигаться по воде – как и того, что он бродит в этих мрачных местах: стражу могут усилить, бдительность повысить.
Пока что ему везло. Падение он пережил. Враг был слишком далеко, чтобы услышать, как он плюхнулся в воду; Стирпайк углядел окно, позволявшее с легкостью проникнуть в замок, – окно, за темным зевом которого можно будет прятаться, пока не настанет ночь.
Не раз и не два Стирпайку, скользившему вдоль основания хмурых стен, приходилось на минуту-другую поворачивать голову, чтобы выправить курс челнока, однако глаза его почти никогда не отрывались от пустого балкона, на который в любую минуту мог возвратиться враг.
Но когда челноку оставалось пройти, прежде чем повернуть к замку, расстояние всего в три-четыре его длины, Стирпайк, все внимание коего сосредоточилось на том, чтобы без помех проникнуть в окно, проглядел Титуса, вышедшего на открытый балкон.
Он не увидел, как Титус, едва обнаружив пропажу лодки, глянул вперед, а следом повел по заливу глазами, пока они не уткнулись в единственное, что по нему двигалось, – в далекий челнок, поворотивший к утесу. Не успев ничего понять, Титус отступил в дверной проем и теперь глядел, дрожа от возбуждения, из его глубины. Даже на таком расстоянии невозможно было не узнать приподнятые плечи похитителя. Хорошо, что Титус отступил назад так поспешно, потому что, едва челнок завершил разворот и заскользил прямиком к замку, словно вознамерясь разбить узкий нос о его стену, Стирпайк, уверясь, что пройдет в окно, не зацепившись, снова обернулся к далекому балкону и, увидев, что тот пуст, скрылся в стене замка, точно змея в скале.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ
Доктор устал; глаза его покраснели от недосыпания, лицо похудело, осунулось. Спрос на его услуги возникал непрестанно. Наводнение повлекло за собой сотни второстепенных несчастий.
В длинном чердачном помещении, прозванном «госпиталем», импровизированные лежаки заполнялись не только теми, кто получил переломы и пострадал от самых разных несчастных случаев, но и жертвами переутомления и всевозможных болезней, насылаемых вечной сыростью и нездоровыми условиями существования.
Сейчас Доктор как раз и направлялся по заурядному вызову. Очередной перелом. Судя по всему, кто-то попытался втащить тяжелую корзину по лестнице со скользкими от дождя ступенями и упал. Прибыв на место, Доктор обнаружил, что речь идет о чистом переломе бедренной кости. Пострадавшего устроили на особом медицинском плоту, где было достаточно места, чтобы Доктор мог накладывать шины или делать предварительные операции, пока санитар продвигает плот к «госпиталю».
С редкостной размеренностью окуная длинный шест в воду, санитар заставлял плот плавно скользить по коридорам. В нынешнем случае плоту, который уже прошел половину пути, пришлось осторожно протиснуться в узкую, затруднявшую маневр деревянную арку, ведшую в помещение, похоже, бывшее когда-то бальной залой – в одном из шести углов его поднималась над водой затейливо украшенная платформа, на коей, надо думать, некогда помещался оркестр, наполнявший помещение музыкой, – и пока плот пронизывал, выплывая на простор, узкий проход, доктор Прюнскваллор откинулся на свернутый матрас, который он держал на корме. У ног его лежал человек, которому Доктор оказал первую помощь – одна штанина распорота снизу доверху, бедро в лубке. Белая повязка, намотанная с прекрасным, сноровистым тщанием, отражалась в воде бальной залы.
Доктор закрыл глаза. Он почти не сознавал того, что происходит вокруг. В голове его все плыло, однако, услышав приветствие, обращенное к нему с подобия челна, шедшего на веслах навстречу плоту с другого конца бальной залы, Доктор разлепил веки.
И действительно, к нему приближался челнок – длинный, нелепый, явно сооруженный людьми, которые им ныне правили, поскольку Резчики ни за что бы не позволили подобному изделию покинуть их мастерские. На корме, держа руку на румпеле, сидел Перч-Призм, бывший, надо полагать, за капитана. Пребывавшие в различных градусах уныния, облаченные в черные мантии члены его команды сидели в затылок один другому, отгребаясь вместо весел учеными шапочками. Им явно не нравилось, что видеть, куда направляется челн, они не могут, им явно казалось обидным капитанство Перч-Призма и его проистекающая из капитанства власть над их продвижением по воде. Однако капитаном Перч-Призма назначил Кличбор и он же приказал (Кличбору и не снилось, что кому-то взбредет в голову этот приказ выполнять), чтобы его подчиненные занялись патрулированием водных путей. Занятия в школе стали, разумеется, невозможными: ученики проводили теперь, когда дождь прекратился, большую часть времени, прыгая и ныряя – с зубчатых стен, стрельниц, арочных контрфорсов, верхушек башен, в общем, с любого удобного места – в глубокую чистую воду, вплывая, словно лягушачья орда, в окна и выплывая из них на широкий простор разлива, и визгливые вопли их неслись отовсюду, издалека и сблизи.
Так что от ученых обязанностей Профессора были свободны. Заняться им было в сущности нечем – разве лишь тосковать по прежним дням да поддразнивать друг друга, пока поддразнивание не становилось нудным и желчным, и все они не погружались в молчание, потому что никаких сколько-нибудь оригинальных замечаний о наводнении никому в голову не приходило.
Опус Трематод, кормовой гребец, мрачно размышлял о поглощенном наводнением кресле – кресле, которое он обживал больше сорока лет, опоре его существования, грязной, заплесневелой, уродливой и насущно необходимой, о знаменитой, сгинувшей навек «Трематодовой Люльке» из Профессорской Комнаты.
За ним восседал в челноке Фланнелькот, худший из когда-либо существовавших на свете гребцов. В хмурости и немногословности его ничего нового не было. Если Трематода донимали мысли о гибели кресла, то Фланнелькота – о бренности всего вообще, и предавался он таковым уже давно – столько, сколько его помнили. На собственный взгляд, как и на взгляд всех остальных, он вечно был жалким неудачником, поэтому нынешнее наводнение представлялось ему, так долго вникавшему мыслью во всяческие глубины, лишь ничего не значащим эпизодом.
Мулжар, с которым Перч-Призму было справляться трудней, чем с другими, возвышался толстошеей, вспыльчивой тушей, сразу за жалким Фланнелькотом, коему, казалось, постоянно грозила опасность, что Мулжар либо вопьется ему в затылок смахивающими на надгробные плиты зубищами, либо сорвет его с сиденья и швырнет над водами бальной залы. За Мулжаром сидел Цветрез, последний из Профессоров, готовых согласиться, будто молчание – лучшее, что им может выпасть на долю. Балабонство было источником его жизненных сил, однако теперь за спиною Мулжара сидела, вперясь взглядом в его широченную, мускулистую спину, лишь тень когда-то кипучего, пусть и пресноватого острослова.
Команда челнока дополнялась еще двумя только членами – Стригом и Вертлюгом. Не приходилось сомневаться, что прочие Профессора также разжились, где смогли, некими плавательными средствами или, подобно этим господам, соорудили их сами – или же попросту плюнули на распоряженье Кличбора и сидели себе на одном из верхних этажей.
Макавшие свои шапочки в зеркальные воды Стриг и Вертлюг находились, конечно, ближе всех остальных к плывущему им навстречу плоту. Вертлюг, носовой «гребец», повернул стареющее лицо, чтобы увидеть, кого это там приветствует Перч-Призм, и на несколько мгновений нарушил равновесие челнока, опасно накренившегося на левый борт.
– Эй! Эй! – закричал с кормы Перч-Призм. – Опрокинуть нас пытаетесь, сударь?
– Чушь! – крикнул, покраснев, Вертлюг, которому вовсе не нравилось получать реприманды поверх голов семи своих коллег. Он понимал, что повел себя не лучшим – для носового гребца – образом, но все равно еще раз воскликнул: – Чушь!
– С вашего дозволения, сударь, мы не станем сейчас обсуждать эту тему! – объявил Перч-Призм, прикрыв веками маленькие, черные, выразительные глазки и несколько отвернув лицо, так что свет, отраженный водой, пал снизу на его дикобразий нос. – Я полагал, довольно уж и того, что вы подвергли коллег опасности. Но нет. Вам, как и всякому ученому мужу, необходимы еще оправдания. Завтра поменяетесь местами с Цветрезом.
– О господи! ага! – запальчиво вскрикнул Цветрез. – Мне и здесь хорошо, ага!
Перч-Призм уже собрался было поведать невеже Цветрезу пару истин касательно характерных признаков и последствий бунта на борту, но тут с ними поравнялся Доктор.
– С добрым утром, Доктор, – сказал Перч-Призм.
Доктор, очнувшись от беспокойного сна, – ибо, даже услышав долетевший над водами крик Перч-Призма, он не смог заставить себя открыть глаза, – с усилием выпрямился и обратил усталый взгляд на челнок.
– Тут кто-то что-то сказал? – воскликнул он, предпринимая героические усилия, чтобы выглядеть веселым, даром что руки и ноги его были налиты свинцом, а голову жгло, как огнем.
– Не прозвучал ли над этими водами некий голос? А, ну да, это вы, Перч-Призм, клянусь всеми нерегулярными войсками! Как поживаете, адмирал?
Впрочем, едва успев озарить челнок во всю длину его одной из своих Улыбок, своего рода бортовым дентальным залпом, Доктор снова откинулся на матрас, а санитар, не обращая внимания на Перч-Призма и прочих, с силой оттолкнулся длинным шестом от пола бальной залы, и плот поплыл, удаляясь от Профессоров, в сторону госпиталя, где, надеялся санитар, он сумеет уговорить Доктора прилечь на часок-другой, сколько бы ни дожидалось его покалеченных и изнуренных, умирающих и умерших.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ
Разумеется, Ирма не пожалела сил для убранства своего дома. Сколько трудов, сколько мысли и, как она полагала, вкуса потрачено на него! Как досконально продумано сочетание красок! Ни одного диссонанса во всем жилище! И действительно, вкус там ощущался такой, что Кличбор так и не смог почувствовать себя в этом жилище как дома. Семейное гнездо внушало несчастному ощущение собственной неполноценности, он ненавидел зеленовато-синие шторы и сизовато-серые ковры так, словно это они были повинны в том, что жена выбрала именно их. Впрочем, с чувствами Кличбора Ирма нисколько не считалась. Ирма знала, что он – всего лишь мужчина, в вопросах «художественных» ничего не смыслящий. Она же выражала себя, как то и следует женщине, посредством щегольского залпа пастельных оттенков. Ничто здесь ни с чем не дисгармонировало, поскольку не имело на это сил; все шептало о благополучии жизни среди тонких тонов, все дышало изысканностью.
А затем пришла варварская вода, и все труды, все мысли, весь вкус и изысканность – о, где они ныне? Это уж слишком! Это уж слишком! Чтобы всю любовь, растраченную ею, потопил презренный, гадкий, тупой, никому не нужный дождь, чтобы вот эта, вот эта, бессмысленная, безмозглая стихия, именуемая дождем, обратила каждое проявление ее артистичности в грязь, в бесформенную кашу!
– Ненавижу природу, – вскрикивала Ирма. – Ненавижу ее, отвратительную скотину…
– Вот те и на, – пробормотал, покачиваясь в гамаке и разглядывая потолочную балку, Кличбор. (Им отвели чердачок, на котором они могли с удобством упиваться своими несчастьями.) – Нельзя, невежественное дитя мое, так говорить о природе. Боже правый, нет! Черт побери, да ни в коем случае!
– Природа, – с презрением воскликнула Ирма. – Думаешь, я боюсь ее? Пусть себе делает, что хочет!
– Ты тоже часть природы, – помолчав, сообщил Кличбор.
– Не говори ерунды, ты… ты… – Ирма не нашла слов.
– Да, и что же я такое? – пробормотал Кличбор. – Почему бы тебе не сказать, что таится в твоей пустенькой, маленькой, женской головке? Почему не назвать меня стариком, как ты делаешь, когда злишься на что-то? Если ты не природа, не часть ее, то что же ты, к чертям собачьим, такое?
– Я женщина, – взвизгнула его жена и глаза ее налились слезами. – И мой дом ушел под… под… мерзкую… дождевую воду…
С великим усилием перекинул господин Кличбор свои худые ноги через край гамака и, когда те коснулись пола, встал, покачнувшись, и неуверенно повлекся к жене. Он отлично сознавал благородство своего поведения. В гамаке было так удобно; да и шансов, что его рыцарство будет оценено по достоинству, имелось всего ничего: что тут попишешь, такова жизнь. Порою приходится совершать определенные поступки, дабы подтвердить свой духовный статус, к тому же ужасная вспышка Ирмы лишила его душевного равновесия. Что-то он обязан был предпринять. И зачем производить столько шума, да еще такого неприятного? Голос Ирмы пронзил его голову, точно нож.
Но как же они трогательны – эти жалобы на Природу. До чего она все-таки невежественна, просто оторопь берет. Как будто природа обязана отступать, едва подойдя к порогу ее будуара. Как будто наводнению следовало прошептать: «Чш… чш… чш… зачем так шуметь… зачем… так… шуметь… это же спальня Ирмы… все сплошь лаванда да слоновая кость… лаванда да слоновая кость…» – Это ж надо! – ну и нашел он себе жену, по совести говоря… и все же… все же… одна ли жалость повлекла его к ней? Он не знал.
Кличбор присел рядом с Ирмой у чердачного оконца и обнял ее длинной, вялой рукой. На миг супруга его содрогнулась, но тут же оцепенела снова. Однако убрать руку не попросила.
Они сидели бок о бок на маленьком чердаке, огромный замок лежал под ними, подобный гигантскому телу с заполненными водою артериями, и оба смотрели на противоположную стену – туда, где отвалился кусок штукатурки, оставив после себя серое пятнышко, похожее формой на сердце.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ
Не то чтобы Фуксия не боролась со все нарастающей в ней меланхолией. Однако уныние нападало на нее слишком часто, чтобы ей удавалось справляться с ним.
У эмоциональной, влюбчивой, переменчивой девочки и так-то немного насчитывалось шансов обратиться в счастливую женщину. Даже будь она от природы веселой и радостной – и тогда все, выпавшее ей на долю, вероятно, выгнало бы из души ее многоцветных птиц счастья. Фуксия же, как человек, скроенный, так сказать, из материи более мрачной, способный испытывать острое счастье и все-таки более склонный к мраку, чем к свету, была в куда большей мере открыта для нещадных ветров судьбы, которые, казалось, норовили обойтись с нею особенно сурово.
Присущая ей жажда любви не нашла утоления; о любви же, которую сама она питала к людям, никто не догадывался – да никто в ней и не нуждался. Изобильная и глубокая, как сумеречный сад, она так и осталась никем не открытой. Сад этот широко раскинул зеленые ветви свои, но ни единый путник не пришел, чтобы отдохнуть в их тени и вкусить от их сладких плодов.
Мысли ее постоянно обращались к прошлому, но Фуксия не находила в нем ничего, кроме развития рожденной под злой звездой девочки, которая, несмотря на ее титул и все, что тот подразумевал, мало что значила в глазах замка – бесполезное, ненужное дитя, злополучное и одинокое. Больше всего она любила свою старую нянюшку Шлакк, брата, Доктора и, на странный манер, – Флэя. Но нянюшка Шлакк и Флэй мертвы, а Титус переменился. Брат с сестрой еще любили друг дружку, однако между ними залегла хмурая туча, которую ни он, ни она не способны были рассеять.
Оставался еще доктор Прюн. Но на него с началом наводнения навалилось столько работы, что Фуксия с ним просто не виделась. Да и желание увидеть последнего из своих настоящих друзей ослабевало в ней с каждым приступом черной меланхолии. В любви и совете Доктора, который, чтобы помочь ей, верно, бросил бы целый мир истекать кровью, она особенно нуждалась в те минуты, когда у нее все леденело внутри, и она запиралась, заболевая от мыслей о пустоте своей жизни, о никчемности своей женственности, когда она металась по отделенной двенадцатью футами от воды, на скорую руку обставленной спальне – и в одну из таких минут Фуксия впервые подумала о самоубийстве.
Что стало наитемнейшей причиной для мысли настолько ужасной, сказать трудно. Отсутствие любви, отсутствие отца и настоящей матери? Одиночество. Страшное разочарование, вызванное разоблачением Стирпайка, кошмарные воспоминания о ласках убийцы. Все нарастающее чувство собственной неполноценности – во всем, кроме положения в Замке. Причин было много, и любой хватило бы, чтобы лишить воли и человека покрепче Фуксии.
Когда мысль о вечном забвении впервые мелькнула в ее уме, Фуксия подняла лежавшую на сложенных руках голову. Она ощутила потрясение и страх. Но и возбуждение тоже.
Нерешительно подошла она к окну. Мысль эта открыла перед нею царство возможностей настолько огромных, внушающих трепет, окончательных и беззвучных, что у Фуксии ослабли колени, и она оглянулась, дабы убедиться: в комнате своей она одна, и запертая дверь надежно отделяет ее от мира.
Подойдя к окну, Фуксия оглядела воду, но ничто из увиденного не сказалось на течении ее мыслей, ничто не задержало взгляд.
Она лишь знала, что слаба, что не читает обо всем этом в какой-то скорбной книге – нет, все происходит с нею взаправду. Правда в том, что она стоит у окна и думает о самоубийстве. Она сцепила ладони у сердца, и мгновенное воспоминание о том, как много лет назад молодой человек внезапно появился в другом окне и исчез, оставив на ее столе розу, вспыхнуло в сознании Фуксии и пропало.
Все правда. Это не повесть о ком-то другом. Но ведь можно и притвориться. Притвориться, что она из тех, кто не только помышляет о самоубийстве, позволяющем навеки избыть душевную муку, но и знает, как его совершить и обладает достаточной для этого силой.
Думая так, она миг за мигом соскальзывала в мир игры, словно бы вновь погружаясь в свою тайную жизнь, жизнь наделенной воображением девочки, какой была она годы назад, обращаясь в другого человека. Человека юного, прекрасного и отважного, точно лев. Что сделал бы такой человек? Ну как же, он уже стоял бы на подоконнике, над самой водой. И… она… встанет… – и пока затаившийся в ней ребенок играл в самую старую из игр мира, тело Фуксии, следуя по пятам за воображением, взобралось на подоконник и замерло спиною к комнате.
Как долго простояла она там, пока вдруг, рывком, не очнулась в привычном мире – возвращенная в него кем-то, постучавшим в дверь ее комнаты, – теперь уже не узнать, однако испугавшись стука и обнаружив, что она опасно балансирует на узком, висящем над глубокой водой подоконнике, Фуксия невольно дрогнула и, вознамерившись обернуться, – бездумно, неосторожно – поскользнулась, попыталась схватиться за стену пообок и, не найдя зацепки, упала, на лету ударившись головой о подоконник, и уже не помнила ни о чем, когда вода приняла ее и без особых трудов поглотила.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ
Теперь, когда наводнение достигло высшей своей точки, самым важным стало: не теряя ни мгновения, прочесать все части замка, в которых мог прятаться Стирпайк, – окружить их кордонами из отборных людей, которые, стягиваясь по воде и по суше к центрам отведенных им участков, теоретически могли бы рано или поздно взять негодяя в кольцо. На карте Горменгаста Графиня обвела такие участки жирным синим карандашом. Командиры Досмотрщиков получили приказы. Ни единой щели не следовало оставить непроверенной, ни единой канавы – непрощупанной. И при нынешнем-то подъеме воды было б непросто загнать зверя, столь осторожного, а с каждым проходящим днем шансы изловить Стирпайка будут лишь понижаться – как понижался уровень паводка, – поскольку один этаж за другим начинал раскрывать лабиринты своих проходов, путаница которых позволяла беглецу все глубже зарываться во тьму.
Разумеется, вода будет спадать медленно, постепенно, однако Графиня исступленно сознавала: главное – время; никогда больше Стирпайк не очутится в сети настолько частой. Даже если потоп освободит один-единственный этаж, сотни путей протянутся во все стороны по всем его бесчисленным коридорам из мокрого камня. Времени терять было нельзя.
И сейчас-то театр военных действий – три верхних, сухих этажа и сырой «судоходный» (по которому раскрашенные суденышки резчиков сновали взад-вперед, или лежали, закренгованные, под огромными каминными досками, или покачивались, привязанные к перилам подзабытых лестниц, ярко отражаясь в темной воде) – весь этот театр – три сухих этажа и один полузатопленный, не были единственными местами, которые надлежало принять в расчет при составлении Генерального Плана. По счастью, в большинстве своем широко раскинувшиеся, по существу, бесчисленные разветвления главного здания Горменгаста, были еще затопленными и, следовательно, для изгнанника бесполезными. Оставалось, однако, немало башен, до которых молодой человек вполне мог добраться вплавь. А также оставалась Гора Горменгаст.
Графиня не питала опасений, что Стирпайк мог укрыться там – и не оттого только, что каждый вечер лодки пересчитывались и она знала: ни одна не украдена, – но и потому, что целая цепь судов, подобная низке цветных бусин, неустанно сновала, по распоряжению Графини, вкруг замковых вершин, днем и ночью преграждая беглецу путь к Горе.
Основу ее стратегии составляло соображение, что молодой человек должен чем-то питаться. Что до питья, такового ему хватало по горло.
Доказательством того, что он еще не погиб от голода или несчастного случая, послужило обнаруженное в тот самый день тело, плававшее лицом вниз рядом с перевернутой рыбачьей лодкой. Несчастный погиб не более нескольких часов назад. Во лбу его торчал круглый камушек.
Штаб-квартира Графини располагалась теперь в длинной узкой комнате над «судоходным этажом», ближе к его середине.
Сюда к ней стекались все донесения, здесь она отдавала приказы, обдумывала планы, изучала разного рода карты, распоряжаясь о быстром приготовлении новых, изображающих не картографированные до сей поры части Замка, – дабы Графиня могла получить о малейших его деталях представление не менее же ясное, чем о полном размахе ее генерального плана.
Покончив с приготовлениями, Графиня встала из-за стола и, поджав губы, что сообщило ей сходство с сидящим на плече ее щеглом, собралась уже с присущей ей тяжеловесной, неуклонной неторопливостью направиться к двери, когда в комнату вбежал запыхавшийся вестовой.
– Ну? – произнесла она. – В чем дело?
– Лорд Титус, госпожа моя… он…
– Он что? – Графиня резко повернулась к посыльному.
– Он здесь.
– Где?
– За дверью, ваша светлость. У него для вас важная новость.
Графиня подошла к двери и, распахнув ее, увидела сидящего на полу Титуса – голова свешена между колен, промокшая одежда изодрана в клочья, руки и ноги в ссадинах и царапинах, волосы посерели от грязи.
Титус не поднял головы. У него не осталось сил. Он был близок к обмороку. Юноша, пусть и неотчетливо, но сознавал, где он, поскольку ему пришлось, напрягая все тело, совершать долгие, опасные восхождения, одолевать по плечи в воде затопленные коридоры, головокружительно переползать наклонные кровли, стремясь лишь к одной цели – к этой двери, у которой он осел на пол. К двери в комнату матери.
Через некоторое время он открыл глаза. Мать стояла рядом с ним на коленях. Что она делает здесь? Он снова сомкнул веки. Возможно, ему это снится. Чей-то далекий голос произнес:
– Да где же бренди? – а после, чуть позже, он почувствовал, что его поднимают и к губам его прижимается прохладный край бокала.
Когда он снова открыл глаза, то уже точно знал, где он и почему.
– Матушка! – сказал он.
– Что случилось? – Голос Графини был совершенно бесцветен.
– Я видел его.
– Кого?
– Стирпайка.
Графиня застыла. Существо, созданное скорее из льда, чем из плоти, стояло сейчас на коленях рядом с Титусом.
– Нет, – произнесла наконец она. – Почему я должна тебе верить?
– Это правда, – сказал Титус.
Графиня наклонилась и, взяв его мощными руками за плечи, с обманчивой нежностью покачала взад и вперед, словно пытаясь унять смятение, сдавившее ей сердце. За мягким пожатием пальцев матери Титус почуял смертоносную силу ее рук.
В конце концов она спросила:
– Где? Где ты его видел?
– Я могу отвести вас туда… это к северу отсюда.
– Как давно?
– Несколько часов… часов назад… он заплыл в окно… в моей лодке… он украл ее.
– Он видел тебя?
– Нет.
– Ты уверен?
– Да.
– Говоришь, к северу. За Черными Камнями?
– Много дальше. Неподалеку от Каменных Псов и Контрфорса Ангела.
– Нет! – воскликнула Графиня так громко и хрипло, что приподнявшийся, опираясь на локоть, Титус отпрянул. Мать снова повернулась к нему. – Тогда он наш. – Глаза ее сузились. – Значит, тебе пришлось ползти по Тесаку? Самым верхом, по каменному острию?
– Пришлось, – сказал Титус. – Иначе бы я сюда не попал.
– От Северных Надгробий?
– Это так они называются, матушка?
– Так. Ты был на Северных Надгробьях, за Сукровицей и Серебряными Копями. Я знаю, где это. Ты был невдалеке от Двойных Перстов, там, где начинается Малая Рубаха и сужается Отвес. Между Перстами сейчас все залито. Верно?
– Там что-то вроде залива, – сказал Титус. – Если ты о нем говоришь.
– Мы немедленно окружим весь район. На всех уровнях.
Грузно поднялась она на ноги и обратилась к одному из стоявших вблизи мужчин:
– Созвать Командиров Досмотрщиков, сию же минуту. Заберите мальчика. Уложите его. Накормите. Переоденьте в сухое. Пусть поспит. Долго отдыхать ему не придется. Всем лодкам днем и ночью патрулировать Надгробья. Всем поисковым отрядам собраться и сосредоточиться на южной стороне Тесака. Пошлите гонцов. Мы выступаем ровно через час.
Она обернулась к Титусу, уже привставшему на колене. Окончательно поднявшись на ноги, он взглянул в лицо матери.
Та сказала ему:
– Иди, поспи. Ты молодец. Горменгаст будет отмщен. Сердце у замка крепкое. Ты меня удивил.
– Я сделал это не ради Горменгаста.
– Нет?
– Нет, матушка.
– Ради кого же тогда или ради чего?
– Все вышло случайно, – ответил Титус, сердце его колотилось. – Просто я оказался там.
Он понимал, что ему лучше смолчать. Понимал, что произносит слова запретные. Его трясло от волнения, вызванного столь опасной правдой. Остановиться он не мог.
– Я буду рад, если поймают его благодаря мне, – продолжал он, – но к тебе меня привела не безопасность и не честь Горменгаста. Нет, хоть негодяя и окружат благодаря мне. Я не могу больше думать о моем долге. Во всяком случае, так. Я ненавижу его по другим причинам.
Наступило плотное, страшное молчание – затем прозвучали ее тяжкие, как жернова, слова.
– Каковы же… причины?
В голосе матери проступило нечто столь холодное и беспощадное, что Титус побелел. Он сказал то, чего не осмеливался сказать прежде. Он перешел признанную всеми границу. Вдохнул воздух запретного мира.
И снова холодный, нечеловеческий голос:
– Каковы же… причины?
Титус безумно устал, но из физической слабости его внезапно восстала новая волна душевных сил. У него не было никакого желания изливать душу или обнаруживать перед матерью свое скрытое бунтовство, он знал, что не сумел бы высказать свои мысли, если бы задумал это заранее, однако, поняв, что невольно выставил себя отступником, он вспыхнул и, гордо подняв голову, воскликнул:
– Хорошо, я скажу!
Грязные волосы упали ему на глаза, вспыхнувшие в приступе непокорства, дюжину лет скрываемого и наконец обретшего выход. Он зашел уже так далеко, что возврата для него не было. Сквозь муть в глазах, порожденную гневом и слабостью, он с трудом различал огромные очертания матери.
– Я скажу! Сейчас ты узнаешь причину. Если хочешь, можешь смеяться! Он оскорбил Фуксию. Убил Флэя. Напугал меня. Мне наплевать, восстал он против Камней или нет, главное для меня – воровство, жестокость и убийство. Какое мне дело до символов? Какое мне дело до того, крепко ли сердце Замка или не крепко? Сам я крепким быть не желаю! Любой покажется крепким, если будет всегда делать только то, что велят. А я хочу жить! Понимаешь? Способна ты это понять? Я хочу быть собой, стать тем, кем сам себя сделаю, – личностью, настоящим живым человеком, а не каким-то там символом. Вот тебе и вся причина! Его необходимо поймать и казнить. Он убил Флэя. Он оскорбил сестру. Он украл мою лодку. Этого хватит? И черт с ним, с Горменгастом!
В невыносимом молчании Графиня и все остальные услышали звук чьих-то быстро приближающихся шагов.
Однако прошла целая вечность, прежде чем звук этот стих, и смятенный человек с поникшей головой и дрожащими руками замер перед Графиней, ожидая дозволения сообщить принесенную им весть. С усилием оторвав взгляд от сына, Графиня, наконец, повернулась к гонцу.
– Ну, – прошептала она, – что такое, милейший?
Гонец поднял голову. Прошло несколько секунд, прежде чем он смог выдавить хоть слово. Подбородок его дрожал, губы разделялись, но ни звука с них не слетело. И такой свет лился из его глаз, что Титус рванулся к нему, пораженный внезапным страхом.
– Только не Фуксия! Не Фуксия! – крикнул он, и еще складывая эти слова, с ужасом понял – что-то случилось именно с ней.
Гонец, так и не отведший глаз от лица Графини, произнес:
– Леди Фуксия утонула.
И тогда что-то случилось с Титусом. Что-то непредсказуемое. Он понял, как ему следует поступить. Понял – кто он. В нем не осталось страха. Смерть сестры, как последний гвоздь, вогнанный в стену нового дома, завершила построение личности Титуса, и пока эхо последнего удара молотка еще отдавалось в его ушах, он обратился в орудие, готовое к делу.
Смерть Той покончила его юность.
Когда молния убила ее, Титус обратился в мужчину. Детское умение примеряться к обстоятельствам покинуло его. Разум и тело сжались и напряглись, точно пружина. Смерть же Фуксии эту пружину высвободила. Теперь он был не просто мужчиной. Он обратился в нечто куда более редкое – мужчину, способного к действию. Пружина распрямилась. Титус вступил на предназначенный ему путь.
И движителем его был гнев. Слепящая до белой мути в глазах ярость преобразила Титуса. Самолюбивая вспышка, достаточно театральная и опасная сама по себе, стала ничем в сравнении с последним неистовым вскриком, который выплеснул весь его гнев и горе, изумив и мать, и гонца, и слуг, до сей поры видевших в Титусе лишь замкнутого угрюмца, номинальное олицетворение власти.
Фуксия погибла! Фуксия, его смуглая, его милая сестра!
– Боже милостивый, где? – крикнул он. – Где ее нашли? Где она сейчас? Где? Где? Я должен увидеть ее!
Он повернулся к матери.
– Это все – та пегая скотина, – сказал он. – Он убил ее. Он убил твою дочь. Кто еще мог это сделать? Кто еще тронул бы хоть волос на ее голове – этой девочки, лучшей, чем когда-либо думала ты, никогда ее не любившая! О Господи, мама, созови всех своих командиров, всех, у кого есть оружие. Не думай, я не устал. Я выступаю – сейчас. Окно мне известно. Еще не стемнело. Мы сможем его окружить. Но на лодках, мама. Так будет быстрее. Северные Надгробья нам ни к чему. Пошли лодки. Все до единой. Я видел его, мама, – убийцу моей сестры.
Он обернулся к принесшему страшную новость гонцу.
– Где она?
– Доктор подготовил особое помещение рядом с госпиталем. Он при ней.
И тогда прозвучал голос Графини, глубокий и низкий. Она обратилась к старшему из случившихся здесь служителей.
– Сообщите Резчикам, что они нам понадобятся, – они и каждая уже готовая лодка, достроена она или нет. Всем судам замка собраться у западной стены. Раздать оружие, всё.
Затем к гонцу, принесшему весть о Фуксии:
– Ведите.
Графиня и Титус отправились следом за ним. Они не обменялись ни словом, пока до госпиталя не осталось рукой подать, – и только тогда Графиня, не повернувшись к Титусу, произнесла:
– Если бы ты не был так слаб…
– Я не слаб, – перебил ее Титус.
– Ну что же, – сказала Графиня, – тогда бери все в свои руки.
– Я готов, – сказал Титус.
В нем больше не было страха, и все-таки собственная смелость поражала его. Но какую же малость составляла она перед глухой болью, которой наполнила его смерть Фуксии. Быть смелым среди живых – что это в сравнении с яростью против Стирпайка, которого он винил в смерти сестры? И накативший на Титуса прилив одиночества накрыл его с головой, отправив на дно моря, в котором не было боязни ни перед живыми, ни перед матерью – даже такой, как Гертруда.
Когда растворилась дверь, они увидели высокую фигуру доктора Прюнскваллора, стоявшего, сцепив за спиной руки, у распахнутого окна, неподвижного, непривычно прямого. Комната была маленькая, с низким потолком и голым дощатым полом, но безупречно чистая. Ясно было, что все это – доски, стены, потолок, – вымыли и отчистили совсем недавно.
У левой стены стояли на деревянных ящиках носилки. На них лежала под натянутой до плеч простыней Фуксия, глаза ее были закрыты. Совсем не похожая на себя.
Доктор обернулся. Казалось, он не узнал ни Титуса, ни Графиню. Доктор глядел сквозь них, и лишь уходя, – ибо, едва завидев мать и брата любимой его девочки, он пошел к двери, – легко коснулся руки Титуса.
Щеки Доктора были мокры, очки запотели настолько, что, дойдя до двери, он замялся, неспособный нащупать ручку. Титус открыл ему дверь и напоследок увидел, как друг его стоит посреди коридора, сняв очки и протирая их шелковым носовым платком: голова поникла, незрячие глаза вглядываются в стекла с пристальностью, какую рождает лишь горе.
Оставшиеся в комнатке мать с сыном стояли бок о бок, погруженные в мир, который принадлежал только им. Не будь они так подавлены, они, пожалуй, смутились бы. Но ни его, ни ее не заботило то, что происходит в душе того, кто стоит рядом.
Лицо Графини не выражало ничего – она только чуть подтянула повыше ткань, с бесконечной нежностью прикрыв ею плечо Фуксии, словно опасаясь, что дитя ее может озябнуть, и потому стоит рискнуть разбудить его.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ
Зная, что до наступления темноты, которая позволит ему двинуться дальше, придется прождать несколько часов, Стирпайк улегся в челнок и заснул. Пока он спал, челнок, мягко покачиваясь, на несколько футов отплыл по черной воде оттуда, где паводок переливался через оконный проем. Изнутри закута, в котором оказался Стирпайк, вход этот выглядел светлым квадратом. Однако минуты шли, и нагую грудь огромного залива, казавшуюся из темной внутренности убежища светозарной, одно за другим накрывали полотнища теней.
Когда семь часов назад Стирпайк скользнул сюда из внешнего мира сквозь переливное окно, он, разумеется, тщательно оглядел комнату, в которую попал. Пробивавшийся в окно свет озарял, отражаясь от воды, все внутри.
Первое, что испытал Стирпайк, – это ярое раздражение на то, что из комнаты не выходили в верхние этажи ни коридоры, ни лестницы. Двери ее закрыли, когда сюда начала вливаться вода, и теперь их, придавленных ее весом, сдвинуть с места было уже невозможно. Останься внутренние двери открытыми, Стирпайк мог бы проплыть ими в помещения попросторнее. Но нет. По существу, комната обратилась в пещеру – пещеру, в которой несколько покрытых плесенью картин рискованно свисали в немногих дюймах от поверхности воды.
Собственно, так он и предполагал с самого начала. То была западня. Однако выплывать из нее на открытую воду было куда опаснее, чем отсидеться здесь несколько часов, оставшихся до наступления темноты.
Ветер, летя с горы, легко ворошил простор пресноводного залива, покрывая его поверхность подобьем гусиной кожи. Эта рябь уже проникала в пещеру, чуть покачивая челнок с борта на борт.
По другую сторону «залива» два одинаковых мыса с длинными линиями окон обратились в плоские силуэты на фоне сумеречного неба.
Зыблющиеся воды между ними смотрели в небо, пребывая в непонятном волнении: рыщущая взад-вперед рябь не представляла опасности и для самого маленького суденышка или даже пловца и все же выглядела до странного угрожающей.
Минута – и бездыханная тишь вечера обратилась в нечто совершенно иное. Сумеречное безмолвие, оцепенение каменно-серого света нарушились. Ничто не возмутило тишины, но воздух, вода, замок и темнота вступили в тайный сговор.
Холодное дыхание, вырвавшееся из груди этого комплота, должно быть, проникло, скользнув по гусиной коже воды, в пещерную спальню Стирпайка, поскольку он вдруг сел и сразу повернулся к окну, – и волоски на его спине встали дыбом, а рот обратился в волчью пасть: кровь полыхнула за хрусталиками его глаз, тонкие бесцветные губы разделились в рычании, словно на восковой маске вскрылся надрез.
Мысли Стирпайка заметались, он схватил весло и, подогнав лодку к окну, остановился в нескольких футах от него, чтобы оглядеть, не покидая совершенного мрака, залив.
Увиденное им в первый миг было лишь отражениями того, что теперь он видел полностью – оттуда, где поначалу стоял челнок, верхняя часть окна застилалась свисшим куском обоев. В первый миг Стирпайк углядел только отражения цепочки огней. Теперь он смотрел на фонари, горевшие на носах сотен лодок. Лодки растянулись полукругом, и пока Стирпайк вглядывался, подтягивались к нему, точно густая стая светляков.
Однако страшнее лодок было подобие света, падавшего на воду под окном. Не сильного, но такого, что Стирпайк не мог приписать его происхождение последним остаткам дня. Да и оттенок света не был естественным. Нечто зеленоватое пронизывало легкую дымку, от которой Стирпайк оторвал глаза – с трудом, ибо лодки с каждым мгновением сокращали расстояние, отделявшее их от замковых стен.
Существовали ль иные истолкования того, что открылось ему – отыскивать их Стирпайку в тот решающий миг было некогда. Следовало исходить из худшего и самого кровавого.
Следовало исходить из того, что лодки растянулись по заливу не просто ради охоты на него, Стирпайка; что людям, плывущим в них, известно: он прячется где-то на суше, лежащей меж двумя мысами, – нет, все гораздо хуже: они точно знают, в какое окно он заплыл. Следовало предположить, что его видели вплывающим в эту западню, и не только жаждущие его крови ловцы рассыпались по воде, но и сам этот холодноватый, сверху льющийся свет отбрасывают фонари либо факелы, горящие в окнах прямо над ним.
Состояла ли единственная его надежда в том, чтобы выскользнуть из пещеры и, рискуя попасть под обстрел сверху, как можно быстрее пронестись по воде, прежде чем подплывающие лодки сомкнут, сближаясь, ряды и обагрят соединенным светом своих фонарей вход в пещеру, или не состояла, – надлежало ль ему сделать это и, сделав и набрав в сумерках скорость, ласточкой пролететь по заливу, виляя, на что только его челнок и способен, из стороны в сторону в надежде прорвать кольцо фонарей и, промчавшись вдоль одного из поросших плющом мысов, вскарабкаться на него по грубым побегам, – надлежало ль ему сделать это или нет, сейчас для такой попытки было уже поздновато, – яркий желтый свет сиял за его окном, отражаясь в неспокойной воде.
Два тяжелых замковых судна, подобия барок, с двух сторон подползли по плещущей о стены воде к окну Стирпайка: это они, щетинясь факелами, изливали желтый свет, заплясавший, к ужасу убийцы, на воде, в которой с шипением гасли летящие с барок искры. Из темной безликой пустыни ближайшая окрестность окна обратилась в освещенную сцену, приковавшую взгляды всех зрителей. Каменные колонки по сторонам окна, древние, изгрызенные непогодой, казались теперь отлитыми из чистого золота, и отражения их вонзались в черную воду, словно желая поджечь ее. Столь же яркий свет заливал все камни вокруг них. Только само окно, подобное рту, через который светящаяся вода вплывала в лежащую за ним черную глотку, зевало прорехой на зареве. Ибо в густоте этого грубого квадрата тьмы ощущалось нечто большее, чем обычная чернота.
От барок требовалось только встать, поместив тупые носы вровень с каменными краями окна. Им надлежало залить сцену светом, ярким, как день. Аудиторию же, плотную, вооруженную, непробиваемую, должны были образовать стеснившиеся полукругом лодки с фонарями на носах.
Но люди, набившиеся в барки и державшие факелы на весу, как и те, кто плыл на лодках, уже приблизившихся к пещере на расстояние полета камня, кто орудовал в них веслами, были не единственными зрителями.
Десятки неровно раскиданных над входом в убежище Стирпайка окон уже не зияли пустотой, как было, когда Титус оглядывал их, сидя в челноке и ощущая промозглый холод этих заброшенных мест. Пустоты не осталось и в помине. Из каждого окна выставилось по лицу, и каждое вглядывалось вниз – туда, где расцвеченные огнями волны поднимались и опадали, заставляя тени людей на барках прыгать вверх-вниз по залитым светом стенам, о которые с плеском разбивались валы принесенной дождем воды.
Ветер усиливался, и некоторые лодки уже с трудом удерживались на отведенных им в цепи местах. Непогода была нипочем только наблюдателям наверху. Грозное войско скопилось там. Немногие из состоявших в нем бывали здесь прежде, еще меньшее их число забредало за последние пять лет в такую даль, как окрестности Тесака и Надгробий Малой Рубахи.
Графиня прибыла водным путем, а вот Титусу пришлось двигаться с головной фалангой посуху. Наступление сумерек и необходимость то и дело выбирать направление на перекрещениях коридоров и кровель делали путь сюда непростым. Поскольку же возвратная дорога была еще свежа в памяти Титуса, ему не оставалось ничего иного, как предоставить то, что он успел узнать, в распоряжение сотен людей, коим предстояло обшарить Надгробья. Однако еще раз проделать этот путь без посторонней помощи он бы не смог. Пока начальствующие служители Замка пытались сообразить, как им нести юного графа, он вспомнил о кресле на жердинах, в котором его несли с завязанными глазами в десятый день рождения. За креслом отправили гонца, и некоторое время спустя «сухопутные части» выступили на север во главе с Титусом, откинувшимся на спинку своего «портшеза» со стоящим в деревянном ящичке кувшином воды в ногах, фляжкой бренди в руке, караваем и сумой с изюмом на сиденье под боком. Время от времени, когда следовало переходить с крыши на крышу или подниматься по крутой лестнице, он вылезал из кресла и шел пешком, однако почти весь путь ему удалось просидеть, расслабив мышцы и отдавая, когда в том возникала необходимость, отрывистые приказания командиру Досмотрщиков. Темный гнев набирал силу в душе Титуса.
Что совершалось в его голове, пока он плыл сквозь вечерний воздух? Сотни мыслей мелькали в ней и еще сотней больше теней таковых. Но были средь них главные, огромные, затенявшие все остальные, раз за разом проталкивавшиеся в его сознание и при каждом своем возвращении вновь заставлявшие сердце болезненно биться. За недолгое время – за несколько последних часов – он трижды пережил смятение чувств, к которому вовсе не был готов.
Неожиданное, как гром среди ясного неба, появление неуловимого Стирпайка. Неожиданное, как гром среди ясного неба, известье о смерти Фуксии. Его, неожиданная, как гром среди ясного неба, мятежная вспышка – опасность, которую она на него навлекла, потрясение, которое вызвала в нем, всплеск возбуждения и трепет при мысли, что он больше не лицемер – изменник, ладно, пусть, но и мужчина, который сорвал налипшие на его платье колючие плети, овивший руки и ноги плющ и опутавшие мозг ползучие побеги.
Однако, сорвал ли? Возможно ль в одно движение освободиться от обязательств перед домом своих отцов?
Пока носильщики тащили его по верхним этажам, Титус думал о том, что теперь он свободен. Скоро Стирпайка выволокут, как водяную крысу, из норы и убьют – и что тогда сможет принудить его, Титуса, остаться в единственном мире, какой он знает? Лучше умереть на границе этого мира, где бы та ни проходила, чем сгнить среди его ритуалов. Фуксия мертва. Все мертво. Мертва Та, мертв весь мир. Он перерос свое царство.
И за всем этим, за сбивчивыми мыслями поднимался гнев, какого он никогда еще не ведал. На первый взгляд могло показаться, что ярость, снедающая его, нелепа. И то, что было в нем благоразумного, могло согласиться с этим. Ибо причина его гнева состояла не в том, что Фуксия погибла и, как он полагал, от руки Стирпайка, не в том, что случайная молния отняла у него любовь к Той – вовсе не это, по разумном рассуждении, сотрясало Титуса желанием сойтись с пестролицым мерзавцем лицом к лицу и, если удастся, убить его.
Нет, причина в том, что Стирпайк похитил его челнок, его собственный челнок – такой легкий, такой изящный, такой быстрый на ходу.
О чем он и не догадывался – так это о том, что челнок был ни больше ни меньше, как Той. В хаосе сердца и воображения Титуса, в средоточье его мечтаний, так оно и состоялось – челнок стал, а возможно, уже и был, когда Титус впервые выскользнул в нем на приволье внешнего мира, истинной сутью леса Горменгаст – Той и ничем иным.
Но и это не все. Имелась еще причина. Лишенная какой-либо символики, туманности происхождения; простая и ясная, как кинжал на его поясе.
Он видел в челноке, теперь попавшем в руки убийцы, совершенное орудие внезапного и безмолвного нападения – иными словами, мести за сестру. Его лишили оружия.
Если бы Титус обдумал все обстоятельно, он понял бы, что Стирпайк никак не мог убить Фуксию, поскольку не мог – едва ли не сразу после ее смерти – забраться так далеко на север, к самым Надгробьям. Однако разум Титуса двигался иными путями. Стирпайк убил его сестру. И украл его челнок.
Когда шедшее крышами войско добралось наконец до последних зубчатых стен и перед ним раскинулись воды «залива», сразу же были выставлены дозоры и отдан приказ, дабы каждый, заметив огни, выплывающие из-за южного мыса, немедля доложил о том своему непосредственному командиру. Тем временем люди, усеявшие ближайшие крыши, начали постепенно, через слуховые окна, отдушины и люки в потолках сходить вниз, заполняя, комната за комнатой и зал за залом, заброшенное, печальное пространство, опустевшее за много лет до того, как Стирпайк приступил к своим разведывательным изысканиям.
Зажгли факелы. Возможность немедля выяснить, не укрывается ли Стирпайк в той или этой комнате, перевешивала страх спугнуть беглеца светом. И все-таки дело продвигалось медленно. Наконец, примерно к тому времени, когда установлено было, что четыре доступных этажа пусты, как безъязыкий колокол, поступило донесение об увиденных в заливе огнях.
Каждое окно Западных стен немедля заполнили лица – и точно: ожерелье разноцветных искорок, увиденное Стирпайком из его затопленной комнаты, растянулось во мраке.
То, что в десятках верхних помещений не обнаружилось никаких следов Стирпайка, позволяло более чем уверенно полагать: он все еще в своем логове, на уровне воды. Титус немедленно спустился на нижний из незатопленных этажей и, высунувшись из окна, расположенного примерно в середине фасада, смог, опасно кренясь, держась рукой за ветку плюща, опознать окно, сквозь которое Стирпайк с такой поспешностью проник в замок.
Теперь, когда в заливе показались огни, времени терять не стоило, поскольку Стирпайк, если он по-прежнему внизу и тоже увидел огни, мог немедля ринуться им навстречу. Титус и трое бывших при нем командиров вышли из комнаты и, пробежав шестьдесят-семьдесят футов по коридору, свернули в одну из западных комнат, выглянули наружу и поняли, что находятся почти над тем самым притопленным окном.
На поверхности залива Стирпайка не было. По их оценкам, он находился прямо под видневшейся за дверью комнатой справа – просторной, почти квадратной, с полом, покрытым мягкой, как бархат, пылью.
– Если он там, внизу, мы могли бы, мой господин, напасть на него сверху… – И сказавший это человек направился к названной комнате.
– Нет! Нет! – яростно зашептал Титус. – Он может услышать твои шаги. Вернись.
– Лодки еще недостаточно близко, – сказал другой. – Сомневаюсь, что ему удалось углубиться в замок. Вода стоит всего в четырех футах от верха окна. Раньше или позже она должна была запечатать там все двери. Вы совершенно правы, мой господин. Нам лучше соблюдать тишину.
– Вот и соблюдайте, – сказал Титус и, несмотря на гнев, им испытываемый, ощутил на языке сладкий вкус крепкого вина властолюбия – сладкий и опасный, поскольку юноша только еще начинал понимать, что обладает властью над другими людьми, и не по одному праву рождения, но вследствие природной своей властности, проявленной им впервые, – и все это, сознавал он, опасно, ибо, набирая силу, стремление подчинять себе людей будет становиться все более сладостным и сильным, а беззащитный зов свободы – все менее отчетливым, и в конечном итоге Та, научившая его свободе, обратится в воспоминание, не больше.
Решение остаться пока в укрытии и, если придется, сразиться со всем миром, зная, что сзади на него не нападут, – взамен того, чтобы выскользнуть наружу и попасть в окружение посреди «залива», – Стирпайк принял, наблюдая приближение и стеснение лодок, еще до того, как замковые барки замерли во всем их сверкании по сторонам от окна, еще пока над входом в его логово висела относительная темнота. Выбор дался ему нелегко, возможно даже, что он и не сделал его окончательно до того, как засияли огни барок, – во всяком случае, он не тронулся с места и, развернув челнок, еще раз оплыл свою темную комнату по кругу. Тогда-то внезапный желтый свет и полыхнул во всей его жестокости за окном и остался – словно занавес взвился перед началом драмы. Но и глядя на свет, Стирпайк сознавал: враги не могут знать наверняка, что он все еще в затопленной комнате. Не могут они, к примеру, знать, что внутренние двери ее запечатаны и не дают прохода. Не могут быть совершенно уверенными в том, что он, вплыв сюда через окно, не выплыл обратно. Но как, если это возможно, использовать их незнание, он себе пока что не представлял.
В комнате не было ничего, что он мог бы использовать, только вода и увешанные картинами стены. И тут Стирпайк впервые подумал о потолке. Приглядевшись, он обнаружил, что на подгнившие потолочные балки настлан всего один слой половиц. Он выругал себя за мешкание и сразу же начал, стараясь сохранить равновесие, подниматься в лодке – прямо под искрошившимся участком потолка. Однако, едва потянувшись кверху, чтобы ухватиться за балки, ударить по ним, он услышал над собой страшные звуки шагов и почувствовал, что доски пола дрогнули в нескольких дюймах над его головой.
Стирпайк мгновенно присел в уже опасно раскачавшемся челноке. Ветер свежел, все новые потоки вливались в окно, возмущая сравнительно гладкую поверхность плененной комнатой воды.
Его отрезали, и сверху, и с любой из сторон. Взгляд Стирпайка то и дело возвращался к сиявшему желтизной квадрату окна. Внезапно волна, большая, чем ее предшественницы, обрызгала оконницу до самого верха, злобно пришлепнув по каменным колонкам. Темную комнату наполнил плеск воды. Негромкий, но холодный и безжалостный – и в тот же миг Стирпайк услышал новый звук: возвратившегося дождя. С этим шипением подобие надежды вернулось к нему.
Не то чтобы он уже лишился всяких надежд. У него их и не было. Он мыслил в иных понятиях. Он слишком углублялся в то, что ему следует делать, секунда за секундой, чтобы представить себе миг, в который потеряет все. Больше того: заносчивая гордыня Стирпайка усматривала в нынешнем соединении всех замковых сил дань уважения ему. Ни о каких ритуалах Горменгаста тут и речи не шло. То было нечто совершенно новое.
Пышная, неожиданная процессия освещенных фонарями лодок не имела прецедентов. Она возникла не во исполнение замысла, не по обдуманному велению. Репетиций не проводилось. Процессия была вынужденной. Вынужденной страхом перед ним. Однако с гордостью и тщеславием мешался в Стирпайке и собственный его страх. Не людей, смыкавших вкруг него кольцо, боялся он, но огня. Горящие факелы – вот что заставило его лицо растянуться в волчьей гримасе и обострило злое его хитроумие. Воспоминание о том, как близка была смерть, когда его с Баркентином окутало общее пламя, до того растравило Стирпайка, так ударило в голову, что вместе с огнями к нему все ближе подступало безумие.
Теперь уж в любой миг он мог увидеть в окно, как золото иссеченной дождем воды будет разбито носом лодки – или, быть может, несколькими носами без единого просвета меж ними – либо услышать голос, который окликнет его и прикажет выйти.
Освещенные фонарями лодки подошли уже так близко, что многоцветный свет, горевший над неровными водами, позволял разглядеть их экипажи.
Стирпайк снова услышал шаги наверху и снова поднял к прогнившим доскам красные глаза. Сохранять равновесие становилось все труднее, поскольку скольжение по волнам давалось ему непросто.
Вновь обратив взгляд к потолку, он заметил нечто до этой минуты от него ускользавшее. Подобие полки, счастливо образованной выступающим в комнату навершием окна.
И мгновенно увидел в ней ближайшее свое пристанище. Быть может, буря возобновится и рассеет флотилию, что раскачивалась сейчас на вздыбливающихся волнах.
Если предстоит разразиться буре, значит времени до того, как враги нанесут первый удар, остается всего ничего. Время не приняло ничьей стороны – ни их, ни его. Они могут ворваться сюда в любую минуту.
Однако подъем на лежащую в самых густых тенях полку над окном оказался делом нелегким. Стирпайк взгромоздился на нос челнока, высоко подняв его корму над водой. Одной рукой он вцепился в балку низкого потолка над головой, другой начал ощупывать полку, отыскивая зацепку. А приходилось еще удерживать раскачиваемый волнами вверх-вниз челнок как можно ближе к стене.
Самое главное было – не позволить лодке сдвинуться, приплясывая на волнах, вперед и выставить нос из квадрата окна на обозрение тем, кто находился снаружи. Стирпайк напрягался до последних пределов, перекосив растянутое тело, держась руками за полку и потолок, сомкнутые ноги его опирались о нос капризного суденышка, вода металась туда-сюда, поднимаясь и опадая, осыпая все вокруг мелкими брызгами.
По счастью, ему уже удалось надежно зацепиться правой рукой: пальцы нащупали глубокую трещину в неровном камне выступающей в комнату полки. И вовсе не высота ее заставляла Стирпайка гадать, удастся ли ему вообще затянуть наверх все тело, – стоя на носу челнока, он видел полку всего лишь в футе над своей головой. Самую отчаянную трудность составляла синхронизация всего, что ему придется проделать, перед тем как улечься, съежившись, над окном, прижимая к себе челнок.
И все-таки, цепкий, точно хорек, Стирпайк сумел медленно, бесконечно малыми движениями убрать с челнока правую ногу и упереться коленом во внутреннюю колонку окна. Левая нога, придерживая лодчонку, по-прежнему заставляла ее стоять торчком, практически на носу. Эта ее вертикальность позволила Стирпайку в приступе некоего лихорадочного озарения отнять от балки, шедшей над его головой, левую руку и ею вытянуть челнок из воды. Теперь у него были заняты обе руки – одна удерживала его на весу, другая держала челнок подальше от света. Правое, прижатое к колонке колено продирала боль. Левая нога висела, как мертвая.
Какое-то время Стирпайк сохранял эту позу – пот струился по его пятнастому лицу, мышцы вопили, требуя избавления от жуткой натуги. Он не сомневался, что кончиться все это может только одним – он свалится, как валится со стены дохлая муха, в воду, и там его, бьющегося в золотом свете факелов, схватит ближайший из врагов. И все же, когда боль стала почти нестерпимой, он подтянул кверху все свое тело – подтянул на одной руке, скрюченные пальцы которой дрожали в расщелине полки. Дюйм за дюймом, постанывая, как младенец, как больная собака, он тянул себя вверх, пока не смог, перекрутив тело, пустить в ход левую ногу. Вот только носку ее башмака, искавшему на каменной колонке хоть какую-нибудь неровность, не удавалось найти ничего.
В безумстве отчаяния Стирпайк завращал глазами. Опять мелькнула мысль о падении в воду. Однако глаза, обегая комнату, наполовину бессознательно приметили здоровенный ржавый гвоздь, горизонтально торчавший из едва различимой балки. Он съежился, этот гвоздь, и снова разбух, когда Стирпайк, в чьей голове поплыла размытая мысль, которую он сперва не смог уяснить, опять взглянул на него. Но то, чего еще не уяснило сознание, осуществила рука. Стирпайк следил за тем, как она поднималась – собственная его левая рука; как понемногу поднимала челнок, пока нос лодчонки не оказался выше его головы; а затем он, точно так, как мужчина вешает шляпу на крючок, повесил челнок на ржавый гвоздь. Теперь, освободив левую руку, Стирпайк смог уцепиться и ею за трещину и сравнительно безболезненно подтягиваться, пока, наконец, не утвердился на четвереньках на массивном двенадцатидюймовом выступе.
Там, где прежде наблюдалось отчетливое разделение черных волн комнаты и желтых, плещущих за окном, резкая граница ныне отсутствовала. Языки золотистой воды заползали в комнату, черные языки, хоть и с меньшей легкостью, выскальзывали в наружное сияние.
Стирпайк уже ничком растянулся на полке в нескольких футах над водой и понемногу опускал голову к верхнему, северному углу окна. Несколько мертвых плетей плюща, зацепившихся за внешнюю стену и слегка затенивших этот каменный угол, образовали что-то вроде оконной сетки, вглядываясь сквозь которую, он надеялся хотя бы отчасти понять намерения врагов.
Дюйм за дюймом опуская голову, он внезапно увидел их. Плотная стена лодок, до которой было футов двенадцать, окружала вход. Лодки, качаясь на опасных валах, взлетали и падали. Дождь, мелкий, но злобный, косо хлестал по мокрым, облитым светом факелов лицам.
Люди в лодках были вооружены – не огнестрельным, как воображал Стирпайк, оружием, но длинными ножами: и он тут же вспомнил закон замка, требовавший предавать убийцу смерти, сколь возможно больше похожей на смерть его жертвы. Очевидно выбор оружия определило убийство Флэя.
Свет факелов играл на скользкой стали. Носы лодок все ближе подступали к окну.
Стирпайк разогнулся, присел на корточки. Свет в пещере усиливался. Теперь в ней стояли золотистые сумерки. Он глянул на висящий челнок. И начал обдуманно, но торопливо освобождать карманы от немногих предметов, которые неизменно носил с собой.
Нож и рогатку Стирпайк уложил бок о бок с аккуратностью домашней хозяйки, наводящей порядок на каминной полке. Большую часть боеприпасов он оставил в карманах, однако дюжину круглых камешков выстроил, словно солдат, в три опрятных шеренги.
Следом показались зеркальце и гребешок, и в наполнявшем пещеру тусклом золотистом свете Стирпайк принялся расчесывать волосы.
Добившись результата, его удовлетворившего, он снова высунул голову за краешек полки и увидел, что самые большие лодки уже стоят сплошной стеной, вырастающей из воды, лишая его всякой надежды на бегство. Над их слитной, набитой людьми массой перетаскивали лодки поменьше – пока Стирпайк смотрел, их опускали с ближней к нему стороны на неспокойную воду, так что носы их отделялись от окна всего несколькими футами.
Тут он с испугом заметил, что замковые барки сближаются, перегораживая окно, обращая единственный возможный для него путь к свободе в узкую щель.
Сближение барок позволило направить свет горящих на них факелов прямо в пещеру, и по залившей комнату воде заплясало такое сияние, что, не находись Стирпайк над самым окном, его бы тут же увидели все, кто заглядывал внутрь.
Однако заметил он и то, что поверхностный блеск лишил воду прозрачности. Стены комнаты уже не казались уходящими в воду и длящимися под нею. Вода вполне могла представлять собой сплошной золотой пол, как бы корежимый землетрясением, отбрасывающий отблески на стены и потолок. Стирпайк, взяв рогатку, поднес ее ко рту и, вытянув тонкие, жестокие губы, поцеловал ее, как иссохшая старая дева целует нос спаниеля. Вложив камушек в мягкую кожаную мошну, он ждал, когда под ним появятся лодочные носы или прозвучит выкликающий его голос, но тут большая волна поднялась из окна и, обежав, как безумная, комнату, выкатилась наружу, оставив в центре ее водоворот. И в тот же миг Стирпайк услышал громкие голоса, предупреждающие об откатной волне, перехлестнувшей борта нескольких раскачивающихся лодок. И опять-таки в тот же миг – оружие все еще лежало в руке Стирпайка, и вода угрожающе кружила под ним – произошло кое-что новое. Сквозь плеск воды, сквозь гомон за окном, пробился новый звук – пробился по причине отнюдь не силы его или пронзительности, но постоянства. То был звук, который издает прорезающая древесину пила. В комнате наверху некое острое орудие впилось в гнилые доски пола – впилось тихо, поначалу Стирпайк ничего не услышал, – однако теперь кончик пилы выставился из потолка Стирпайковой комнаты и резво заходил взад-вперед.
Все внимание Стирпайка было направлено вовне, где на воду, в нескольких футах от окна, спускали разведывательные лодчонки, – так что о происходящем над ним и глаза его, и уши забыли.
Но сквозь баюканье волн и крики людей он вдруг услышал ее, осторожную работу пилы, и, глянув вверх, увидел зубастое это орудие, сверкавшее в отраженном водой свете так, словно его отлили из золота, увидел, как оно выныривало и отпрядывало, выныривало и отпрядывало в самом центре потолка.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ
I
Минуты шли, и Титуса охватывало все большее беспокойство. И дело было не в том, что приготовления к штурму затопленной комнаты производились нерасторопно или бестолково, а в том, что гнев его не только не ослабевал, но набирал новую силу.
Два образа то и дело проплывали перед его глазами – создание тонкое и неукротимое, девочка, бросающая вызов ему, Горменгасту, грозе, и все же невинная, как воздух или молния, что убила ее; и маленькая, голая комната, в которой, смежив веки, одиноко лежит на носилках сестра, столь мучительно близкая. И ничто, кроме мести за них обеих, кроме удара, который он должен нанести, его не интересовало.
Поэтому он не остался у окна, глядящего на ярко освещенную, тяжело волнующуюся воду. Он покинул комнату, спустился по внешней лестнице и перешел в одну из лодок – к этому времени пещеру Стирпайка уже взяли в кольцо настолько плотное, что на волнах покачивались десятки ставших ненужными суденышек. Титус приказал гребцам доставить его к внутреннему полукругу лодок, сплошной дугой обложивших окно. Он переходил с одной вздымающейся посудины на другую, пока не оказался перед окном и, глядя по-над водой, не увидел наполненную яркими отблесками комнату так ясно, что без труда различил даже детали картины, висевшей на дальней стене.
Графиня же избрала путь прямо противоположный – и хотя мать с сыном не видели друг друга, пути их пересеклись в янтарном свете, ибо, пока Титус вглядывался в затопленную комнату, Гертруда поднималась по внешней лестнице. Ей тоже пришла в голову мысль пробиться в комнату, разобрав полы над окном, – Графиня понимала, что никто не сможет вплыть в Стирпайкову западню, не подвергая себя огромной опасности. Конечно, с виду комната казалась пустой, но кто может знать, что таится в тени ближайших к окну углов или у стен по его сторонам?
Именно там и должен был прятаться Стирпайк, если он вообще находится в комнате.
Вот Графиня и вспомнила о комнате наверху. Войдя в нее и убедившись, что замысел ее уже исполняется, Графиня подошла к окну и глянула вниз. Ненадолго прекратившийся дождь возобновился, сплошные, косые струи его били в стены, так что Графиня, не проведя у окна и минуты, промокла до нитки. Постояв так немного, она повернула голову влево и оглядела стену. Стена уходила в мокрую даль. Графиня взглянула вверх – целые акры камня вставали, истекая водою, в ночи. Впрочем, огромный фасад был вовсе не пуст: из каждого окна его торчало по голове. И каждая голова казалась в свете факелов неотличимой по цвету от стены, из которой она выступала, как будто владельцы голов были, подобно горгульям, высечены из камня, – и каждое лицо обращалось к сверкающим баркам, вздымавшимся на волнах у входа в пещеру.
Однако, пока Графиня оглядывала «изваяния», выпиравшие слева от нее из стены, словно бы начал работать некий механизм вычитания. Казалось, будто стену охватывает, растекаясь по ней, замешательство. Головы исчезали одна за другой, пока левая часть стены не опустела совсем.
Графиня повернулась в другую сторону – там, наоборот, десятки голов все еще торчали наружу, облитые факельным светом, но скоро и они начали исчезать, и тоже одна за одной.
Графиня вновь обратила взгляд к тому, что происходило прямо под нею, и сразу бесчисленные мокрые лица, словно их высосало наружу, выпростались из замковых стен, как выпрастываются из-под панцирей головы черепах.
Маленький ялик, который перетащили через лодочный кордон, находился уже в футе от окна. В ялике сидел человек с толстым веслом в руках. Черная кожаная шляпа с широкими полями защищала его глаза от дождя. В зубах он сжимал длинный кортик.
Нелегко ему было подобраться к окну между барками. Ялик его опасно раскачивался, черпая бортами золотистую воду. Ветер разгулялся уже до того, что слышно было, как воет он над заливом.
И тут Титус окликнул человека в ялике, приказывая ему вернуться.
– Пусти меня первым, – крикнул он. – Назад, слышишь? Отдай кинжал мне.
Лицо сестры проплыло поперек окна. И Та заплясала, подобно русалке, по яркой воде. Титус оскалил зубы.
– Дай мне убить его! Мне! – опять закричал он, словно помолодев в этот миг на четыре года, ибо вновь обратился в мальчишку, доведенного силой своего воображения до истерики. Человек в ялике заколебался, оглянулся, и тут из стены над ним взревел голос:
– Нет! Клянусь кровью любви! Держите мальчика!
Двое мужчин накрепко вцепились в Титуса, уже собравшегося прыгнуть в воду.
– Тише, господин мой, – сказал один из них. – Его там может и не быть.
– Как это? – орал, вырываясь Титус. – Видел я его или нет? Пусти! Ты знаешь, кто я? Пусти меня!
II
Стирпайк был неподвижен, как полка, на которой он, скрючась, лежал. Только глаза его двигались туда-сюда, туда-сюда – от пилы, прогрызавшей себе круговую дорожку в досках над ним, к сиянью воды внизу, на котором в любое мгновение мог объявиться нос ялика. Он услышал донесшийся сверху рев Графини: «Нет!», и понял, что, когда потолок вскроют, она первой заглянет сюда – и уж, конечно, все сразу увидят его, съежившегося в отраженном свете.
Расколоть каждую голову, какая высунется из потолочной дыры, оставив круглые камушки торчать во лбах врагов подобием красноречивейших надгробий, – да, очень может быть, что так он и поступит, и все же Стирпайк знал: у врагов пока нет решительных доказательств его присутствия здесь. А как только он пустит в ход свое смертоносное оружие, поимка его станет всего лишь вопросом времени.
Ясно, что остановить человека, размеренно орудующего пилой, он не в состоянии. Уже три четверти круга описала она в гниющих досках. Уже падали в кружащую воду куски древесины.
Все зависит от того, когда в пещере появится ялик. Через минуту в дереве наверху образуется здоровенный округлый глазок. И когда ожидание ялика уже стало нестерпимым, нос его возник, взбрыкивая, словно конь, прямо под Стирпайком, резко рванул вперед, а следом показалась и близкая, хоть тронь ее, широкополая шляпа гребца – мужчины с кортиком в зубах.
III
Удостоверившись, что опасность миновала и Титус в воду не спрыгнет, Графиня вернулась туда, где человек с пилой разминал затекшую руку перед последней дюжиной нырков и подскоков нагревшегося, скрежещущего железного полотна.
– Первый, кто сунет голову в дыру, скорее всего получит камушек в лоб. В этом, судари мои, можете не сомневаться.
Слова она произносила медленно. Руки уперты в бока. Голова высоко поднята. Грудь вздымается неторопливо, как волнуемое море. Азарт травли владел и ею, но на лице Графини он не обозначался ничем. Все ее помыслы сосредоточились на смерти изменника.
Но что же творится с Титусом? Всплеск его чувств, горечь тона, явственное отсутствие любви к ней – все это, желала она того или нет, стало частью охоты на Стирпайка. Речь шла уже не о чистом, открытом поединке Дома Гроанов с предавшим его бунтарем, ибо семьдесят седьмой Граф был, по собственному его признанию, и сам опасно близок к измене.
Графиня вернулась к окну, и пока она приближалась к нему, Стирпайк, в голове которого забрезжила новая мысль, полностью переменившая его планы, засунул рогатку в карман, взял нож, медленно и бесшумно поднялся на ноги и замер, слегка ссутулив из-за близости потолка плечи и пригнув голову.
Человеку в лодке, добровольно взявшемуся исполнить рискованное предприятие, было вовсе не до того, чтобы высматривать врага: все его внимание поглощало управление яликом – волны, которые теперь разбивались снаружи о стену и заплескивались в окно, обратили затопленную комнату в игралище мятущейся воды.
И все-таки наступила минута, когда обманчивое затишье бесчинствующей стихии в первый раз позволило ему, повернув голову, оглядеть через плечо часть комнаты, в которой находилось окно. И он тут же увидел подсвеченное снизу лицо Стирпайка.
Едва заметив его, человек в ялике задохнулся от ошеломленного ужаса. Он не был трусом – он самочинно вызвался в одиночку проникнуть в пещеру и теперь готов был биться, как никогда не бился прежде, но в нависшем над ним неподвижном теле юноши читалось нечто настолько жуткое, что у добровольца подвело живот. В тот миг достать смельчака мог разве что брошенный нож – бедняга уже собрался приложить к губам свисток, свисавший на шнурке с его шеи и, дунув в него, уведомить всех, как то было условлено, что Стирпайк обнаружен, но тут ялик подхватила новая, только что проникшая в комнату волна, которая покатила вдоль стен, как будто желая омыть всю пещеру. Доброволец налег на весло, но ничто не могло уже удержать ялик, заскользивший вдоль западной стены в темный угол стены «приморской».
Как только ялик рванулся вперед и, ударяясь носом о камни под Стирпайком, словно бы вознамерился выскочить в окно, Стирпайк прыгнул вперед и влево и с оглушающей, при всей его легкости, силой пал на добровольца. Ни на какую борьбу времени не оставалось, всего за три секунды нож, трижды пройдя между ребрами несчастного, трижды пронзил его сердце.
Нанося третий из молниеносных ударов, Стирпайк, лицо которого заливал пот, похожий в свете факелов на свежую кровь, поднял маленькие глаза к потолку и увидел, что пиле остался до завершения круга всего только дюйм. Еще миг – и он предстанет перед Графиней и прочими как на ладони.
Труп лежал рядом с ним в лодке, которая, приняв удар летящего тела Стирпайка, зачерпнула одно-два ведра воды. Возможно, это притормозило ее стремительный бег вдоль стены. Так или иначе, Стирпайку удалось, вбив ногу в боковую колонку близкого уже окна и ухватив весло, одолеть вместе с яликом слабеющий натиск воды, пока последнее из ее завихрений снова не выкатилось через окно в наружное «море». За несколько секунд передышки он, покачиваясь в относительной тьме внешнего угла комнаты, успел сорвать с покойника широкополую кожаную шляпу и насадить ее себе на голову. Затем стянул с обмякшего, тяжелого тела куртку и мгновенно влез в нее. Все, времени не осталось… Послышавшиеся сверху удары известили его, что там выбивают выпиленный круг половиц. Ухватив труп под мышки и под колени, Стирпайк напрягся до последнего и перевалил его через борт: мертвое тело камнем ушло под взбаламученную воду.
Теперь нужно было справиться с яликом – не только не дать ему перевернуться, но и расположить прямо под дырой в потолке. Пока Стирпайк, вонзая тяжелое весло в воду, подталкивал ялик к середине комнаты, деревянный круг упал с потолка, и новый, полившийся сверху свет образовал в центре Стирпайкова логова подобие сияющего озерца.
Но вверх Стирпайк не глядел. Он боролся, как демон, стараясь удержать лодчонку в круге верхнего света, а затем закричал сиплым голосом, который если и не походил на голос убитого, то уж во всяком случае не имел ничего общего с его, Стирпайка, голосом.
– Госпожа моя! – крикнул он.
– Что там? – невнятно отозвалась сверху Графиня.
Один из ее людей осторожно подбирался к отверстию.
Снова голос снизу:
– Эй, наверху! Графиня с вами?
– Это доброволец! – воскликнул человек у отверстия и настолько осмелел, что даже заглянул вниз. – Это доброволец, госпожа! Он прямо под нами.
– Что он говорит? – крикнула Графиня – глухо, ибо в сердце ее впился кромешный страх. – Что он говорит, любезный? Во имя любви к камню!
И она шагнула вперед, и увидела футах в двенадцати под собой широкополую шляпу и плотную куртку. Она хотела окликнуть добровольца, поскольку тот и не думал поднимать голову, однако первым тишину нарушил его голос. Ибо наступило подобие тишины, хоть дождь шипел, задувал ветер, и волны били о стену. Воцарившееся напряжение придавило все звуки природы. Напряжение и страх, что жуткая птица упорхнула.
Голос прозвучал из-под шляпы:
– Скажите ее светлости, что здесь никого! Комната затоплена. Выхода нет, только окно. Двери приперты водой. Ничего, только вода, так и скажите. Тут и ресницу не спрячешь! Он исчез, если и был здесь, в чем я сомневаюсь.
Графиня опустилась на колени, словно собираясь помолиться. Сердце ее обмерло. Настал миг, единственный миг, позволявший схватить и убить врага Горменгаста. Сейчас, когда весь мир только и думал, что о поимке его и наказании. А этот человек внизу кричит: «Только вода, так и скажите».
Но что-то в ней восставало против того, что столь великие приготовления, столь грозное скопление сил замка могут оказаться бесплодными, да и что-то еще, таящееся в ней намного глубже, отказывалось принимать уверенность, иррациональную уверенность в том, что этот день станет днем отмщения, всего лишь за игру ее жаждущего мести воображения.
Опершись на локти, Графиня свесила голову ниже уровня пола.
На первый взгляд, все было безнадежной правдой. Спрятаться негде. Стены пусты, если не считать нескольких заплесневевших картин. Вместо пола – вода. Она вгляделась в человека внизу.
Верно, бороться с неугомонным взбуханием волн в пещере ему трудновато – странно однако, что доброволец не бросил ни единого взгляда на потолок – туда, где, ведь он же знает об этом, лежат, с ожиданием следя за ним, зрители.
Совсем недавно Графиня видела, как он усаживался в лодку и, гребя, проходил между барками. Смотрела она из окна, в лицо ей бил дождь, Графиня гадала, что именно доброволец найдет в комнате. Несомненно, Стирпайк тоже поджидал бы его. Уверенность в этом, сохранившаяся несмотря на пустоту внизу, заставила ее еще раз вглядеться в человека, уверяющего, что в комнате нет ничего, кроме воды.
То, что сложением он похлипче, нежели ей казалось, сразу бросилось Графине в глаза, но не породило в ней никаких подозрений. Однако тут ее взгляд, вновь оторвавшись от добровольца, прошелся по изгибу стены и уперся в нечто, до того Графиней пропущенное. Справа от единственного окна тени ложились гуще, и Графиня не заметила, что там что-то свисает с потолка. Сначала она не могла ничего различить – вроде, висит на гвозде какой-то предмет футов в шесть длиной, – но постепенно, пока глаза ее привыкали к необычному дрожанию отраженного света, озарявшего косыми лучами то одну часть предмета, то другую, она осознавала, что глядит на челнок Титуса… челнок, украденный Стирпайком… тот, в котором он заплыл в эту самую комнату. Но где же, в таком случае, Стирпайк? Комната пуста – в ней только и есть что вода, челнок и доброволец. На своих двоих из нее не выбраться – да и зачем, если у тебя имеется лодка, столь юркая и надежная? Ладно, Стирпайк куда-то исчез, но почему же челнок его свисает с потолка?
Вновь обратив взгляд к широкополой шляпе, Графиня отметила плечи под нею, отметила нервную силу движений и проворство, с которым доброволец управляется с лодкой, и ощутила первую тень сомнения – уж больно он изменился, странным и удивительным образом утратив сходство с крепышом, которого она прежде видела в лодке. Однако сомнение было настолько смутным, что Графиня не сразу поняла, какие из него могут следовать выводы. И все-таки некоторое беспокойство, подобие подозрения, все нарастало, пусть и неясное, – и его хватило, чтобы Графиня набрала побольше воздуху в грудь и затем, голосом такой мощи и звучности, что человек под нею вздрогнул:
– Доброволец! – взревела она.
Похоже, лодка доставляла мужчине внизу столько хлопот, что не позволять ей черпать воду и одновременно поглядывать на Графиню было для него делом попросту невозможным.
– Госпожа моя? – откликнулся он, лихорадочно орудуя веслом, чтобы оставаться прямо под нею. – Да, госпожа моя?
– Ты ослеп? – послышалось с потолка. – Или в башке твоей сгнили глаза?
Что это может значить? Уж не увидела ли?..
– Почему ты не доложил о нем? – загудел голос. – Разве ты не видел его?
– Очень… трудно… держаться на плаву, госпожа моя, не говоря уж…
– Челнок, милейший! Для тебя ничего не значит, что лодка изменника свисает с потолка? Покажи-ка мне свое…
Но в этот миг новый вал прорвался сквозь окно внизу и завертел лодку Стирпайка, как древесный лист, – и пока та крутилась, волны били ее в борт с такой силой, что лодку отнесло с середины затопленной комнаты, и Графиня мельком увидела под широкими полями шляпы белизну и багровость кожи: и почти в тот же миг глаза ее оторвались от этой добычи, поскольку сразу под лодкой всплыло из воды пустое лицо, покачалось с секунду, похожее на булку, и снова кануло в воду.
Все обмерло в Графине – два лица, появившиеся одно за другим, с быстротою, почти и невероятной, обратили ее хандру, ее унылые мысли, ее голодную злость и разочарование во внезапный, поправший все это всплеск духовной и физической силы. Гнев Гертруды пал, как удар хлыста, на воды внизу. Она увидела, с мгновенным промежутком меж ними, и пегого предателя, и добровольца.
Почему лодка подвешена к потолку – вопрос этот, как и десятки других, не представлял ни малейшего интереса. Все это были вопросы праздные. Кроме смерти мужчины в широкополой шляпе, значение имело только одно.
На миг ей пришло в голову, что стоило бы попытаться его обмануть – вряд ли увидел он голову, появившуюся над волнами, вряд ли понял, что она заметила пятнастость его лица. Но на игры в обман и улещиванье времени не осталось – да и тянуть было нечего. Конечно, она могла бы отправить на внешние лодки тайный приказ ворваться в комнату и пленить Стирпайка, когда внимание его отвлечется от окна каким-нибудь сброшенным сверху в воду предметом, но подобные тонкости представлялись Графине в ее настроении, требовавшем мгновенной, все разрешающей расправы, никчемными.
IV
Титус перестал бороться и ждал только, когда два хама, которые (с верноподданническими, разумеется, намерениями) спасали его от него самого, на миг ослабят хватку, дав ему возможность рвануться, освобождаясь от них.
Они держали его за куртку и ворот, с двух сторон. Руки Титуса, оставшиеся свободными, понемногу подползали, сближаясь, к груди, пока наконец ему не удалось украдкой расстегнуть на куртке пуговицу.
Десятки набившихся в лодки людей, укачиваемых вздымающейся и опадающей водой, промокших, уставших, поскольку им приходилось то и дело снова разжигать гаснущие факелы, не способны были понять, что происходит в затопленной пещере или в комнате над нею. Они слышали голоса, слышали несколько взволнованных вскриков, но об истинном положении дел не имели никакого понятия.
Однако внезапно сама Графиня показалась в окне, и звучный голос ее прорезал ветер и дождь.
– Внимание на всех лодках! Всем молчать! Доброволец убит. Изменник, надевший его куртку и шляпу, находится сейчас под самым окном, в комнате, которую вы окружили. – Она примолкла, ладонью отерла с лица воду, и вновь ее голос, еще окрепший… – Четырем центральным лодкам подойти к окну на кормовых веслах. На носу каждой поставить трех вооруженных людей. Лодки начнут двигаться, когда я махну рукой. Изменника вынести уже мертвым. Оголите ножи!
В минуту, когда Графиня еще бросала в шторм последние слова, общее возбуждение достигло высшей точки: люди и лодки – все качнулось к пещере, так что четырем центральным лодкам оцепления не без труда удалось расцепиться и выстроиться в ряд.
В этот-то миг Титус, обнаружив, что хватка его караульщиков, зачарованно уставившихся на окно роковой комнаты, ослабла, рванулся вперед, внезапно выдрал руки из рукавов и, пронизав группку стоявших в лодке людей, бросился в воду, оставив в руках своих стражей пустую куртку.
Он не спал уже много часов. Почти не ел. Он жил, сжигая ободранные окончания нервов, подобно фанатику, гуляющему по гвоздям. Его начинало лихорадить. Глаза расширились, их жгло. Неописуемые волосы Титуса липли, как водоросли, ко лбу. Зубы стучали. Его бросало то в жар, то в холод. Страха он не испытывал. Не потому, что был храбр. Просто страх остался где-то позади. Потерялся. А страх бывает разумным, даже мудрым. В Титусе же в эти мгновения мудрости не было ни на грош – как и инстинкта самосохранения. Чувств в нем не осталось никаких вообще, кроме разве жажды со всем этим покончить. Измученное сердце его возлагало на Стирпайка, большей частью несправедливо, вину за все – за смерть сестры, за смерть его Страсти, стремительной феи.
И вот он плыл, торжествуя. Вода, озаренная факелами, смыкалась над ним. Он поднимался и падал с ней вместе, руки его разбивали волны. Все, что небо извергло из утробы своей, из своих колоссальных резервуаров, разбивалось теперь о его чело. Он торжествовал.
Титуса трясло все сильнее. И слабость его возрастала вместе с неистовой яростью. Возможно, он просто спал. Возможно, все было бредом – головы в тысячах окон, лодки, мотавшиеся, точно золотые жуки, у подножья полночных высот; затопленное окно, зевая, ждущее трагедии и крови; окно вверху, в котором маячила мать, и красные волосы ее тлели, и лицо походило на мрамор.
Возможно, он плыл навстречу смерти. Неважно. Он знал, что делает, и что должен сделать. Выбора у него не было. Вся его жизнь прошла в ожидании. Вот этого. Этого мига. Всего, чем он был, всего, чем он станет.
Но кто же плыл внутри него, чьи члены были его членами, чье сердце – его сердцем? Кем был он – чем был он, сражающийся с яркой водой? Был ли он графом Горменгаст? Семьдесят седьмым властителем? Сыном Сепулькревия? Сыном Гертруды? Сыном Дамы в окне? Братом Фуксии? О да, он был ими всеми. Был братом девушки с натянутой до подбородка белой простыней и черными волосами, разбросанными по снежно-белой подушке. Он был им. Братом не ее светлости – но лишь утонувшей девушки. Не олицетворением чего бы то ни было. Только собой. Существом, которое могло бы оказаться рыбой в воде, звездою в небе, листком или камнем. Он был Титусом – быть может, если потребно слово, – но и не более, – о нет, не Горменгастом, не семьдесят седьмым, не Домом Гроанов, всего лишь душою в теле, плывшем сквозь пространство и время.
Графиня видела его из окна, но сделать ничего не могла. Он плыл не к зеву пещеры, узкий вход в которую уже заградили лодки, но к одной из внешних лестниц, через неравные промежутки поднимавшихся из воды по фасаду замка.
Впрочем, и времени, чтобы следить за его продвижением, у Графини не осталось. Трое пловцов уже бросились в воду, открывая охоту. Теперь, увидев, как первые лодки входят в пещеру, она повернулась спиной к окну и возвратилась в середину комнаты, к огромному глазку, вкруг которого стеснилась группа ее командиров. Пока она приближалась, рослый мужчина, стоявший у дыры в полу на коленях, отвалился назад с окровавленным подбородком. Четыре передних зуба его были выбиты и постукивали вместе с маленьким камушком во рту, голова раненого сотрясалась от боли. Остальные немедля отпрянули от опасной дыры.
И в этот миг Титус вошел в комнату, на каждом шагу оставляя за собой мокрые следы. Явственно видно было, что он измучен жаром и усталостью, что ревущий в нем огонь сделал его неуправляемым. Бледная от природы кожа Титуса пылала. Все особенности тела его казались подчеркнутыми.
Чувство соразмерности, унаследованное им от матери, – способность выглядеть крупней, чем он есть, превышать свой природный размер, бросалось теперь в глаза. Казалось, что в двери вошел не просто Титус Гроан, но некая абстракция, прототип, что даже вода, пропитавшая одежду его, обрела размер героический.
Черты его лица, скорей резковатые, стали еще резче и проще. Дрожащая от волнения нижняя губа, отвисала, как у ребенка. Но светлый взгляд, почти всегда угрюмо уклончивый, сверкал теперь не только от жара, но и от вожделения мести – встречаться с ним было совсем не приятно, – и в то же самое время леденел от решимости доказать, что владелец его – мужчина.
Он видел распад своего сокровенного мира. Видел его фигуры в деле. Пришла пора и ему выйти под свет софитов. Был ли он Графом Горменгаст? Был ли семьдесят седьмым? Нет, именем молнии, что убила ее! Он был Первым – человеком на утесе, освещенным факелом мира! И весь он был здесь – ничто не оставлено позади, ни мозг, ни сердце, ни дух – личность в своем праве – человек с ногами, с руками, с чреслами, с головой, с глазами и зубами.
Словно слепой, подошел он к окну. Он не кивнул матери. Он предал ее. Что же, пусть теперь смотрит – вот он! Пусть теперь смотрит!
Титус, еще выпрастываясь из куртки и бросаясь в воду, сознавал, что устремляется к единственной блистающей в его разуме цели. Для опасений места в нем не осталось. Он знал, что только ему назначено обрушиться на олицетворение всяческой власти – на Стирпайка, холодного, рассудочного зверя, – и только он, Титус, должен прикончить его. Оружием Титуса был короткий и гладкий нож. Он уже обмотал тряпкой его рукоять. Он стоял у окна, стиснув обеими руками подоконник, и озирал фантастическую, залитую светом факелов сцену. Дождь перестал, и ветер, до сей поры такой шумный, с удивительной внезапностью стих. Высоко на северо-востоке луна выпуталась из удушливых облаков.
Подобие пепельного света накрыло Горменгаст, на залив опустилось безмолвие, нарушаемое только плеском воды о стены: ветер хоть и прекратился, но напор воды не унялся.
Титус не мог бы сказать, почему он стоит здесь. Может быть, потому, что подойти к беглецу ближе ему все равно не удалось бы, – затопленное окно отвергало его, а круглое отверстие в полу охранялось. Здесь, вдали от своей стражи, он, по крайней мере, был близок к человеку, которого собирался убить. Но и не только. Он знал: роль, что выпала ему, – не роль зрителя. Знал: люди-загонщики, как бы ни были они вооружены, – не соперники загнанному ими лукавому зверю. И не верил, что можно одним лишь численным превосходством одолеть изверга, столь увертливого и изобретательного.
Ничто из названного не образовывало в его голове сознательных доводов. К разумным обоснованиям чего бы то ни было он оставался неспособным. И точно так же, как Титус знал, что ему надлежит ускользнуть от стражей и доплыть до ступенек, – точно так же знал он, что должен войти в эту комнату и встать у окна.
V
Внезапно снизу донесся страшный крик и следом другой. Когда первая из четырех лодок протиснула нос в окно, у Стирпайка не осталось иного выбора, как только отвести свой челнок к задней стене комнаты, и он дважды, в быстрой последовательности, натянул и отпустил свою смертоносную резинку. Следующие три камушка полетели в факелы, торчавшие из железных колец по бортам первой лодки: два сорвались, крутясь, в воду и с шипением затонули.
Эти три камушка были последними его боеприпасами – не считая оставленных над окном.
Был еще нож, но Стирпайк понимал, что метнуть его можно только один раз. Враги бесчисленны. Лучше держать его при себе как кинжал, чем бросить, потратив на убийство какого-нибудь ничтожества.
К этому времени враги были уже совсем рядом – на расстоянии протянутого весла. Ближайший замертво свисал с лодки. Те два крика изданы были людьми, стоявшими на носу: одному камушек попал по ребрам, другому угодил в скулу. Тот, что кулем муки обвисал в воду, бороздя ее волосатой рукой, не успел даже крикнуть: переход его из этого мира в следующий оказался столь быстрым, что времени на протесты у него не осталось.
Истративший все камушки Стирпайк отшвырнул рогатку; тело его, последовав за нею, ушло в глубину, и он поплыл под килями лодок. Он нырнул глубоко и был совершенно уверен, что сверху его не увидят, поскольку заметил, что при множестве отражений на воде под поверхностью ее ничего различить невозможно.
Единственный в первой лодке человек, который еще сохранил способность кричать, не теряя времени осведомил мир о случившемся. Голос, в котором облегчения звучало больше, чем чего бы то ни было, хоть обладатель его и старался скрыть свои чувства, прокричал:
– Он нырнул! Под лодки! Вы, в третьей лодке, присматривайте за окном! За окном присматривайте!
Стирпайк быстро скользил сквозь кромешную тьму. Он знал, что должен уплыть как можно дальше, прежде чем вынырнуть, чтобы глотнуть воздуха. Но, как и Титус, он смертельно устал.
Когда он достиг окна, половина запасенного им воздуха уже покинула легкие. Левой рукой он нащупал каменную подпорку. Киль третьей лодки находился над его головой, немного правее. На миг Стирпайк, подняв голову, замер, но затем оттолкнулся, пронизал, задев шершавый подоконник, нижнюю половину окна, резко свернул влево и заскользил вдоль стены. В шести футах над мраком, в котором он плыл, сверкающая вода плескала о стену под окном Графини.
Стирпайк, разумеется, помнил, что прямо над ним стоит одна из двух барок. Он плыл под деревянным чудовищем с мостками, ощетинившимися факелами, с тупорылым, набитым людьми носом.
Чего он не знал, всплывая, чтобы снова наполнить легкие – они почти уже разрывались – воздухом, так это того, имеется ли между бортом длинной барки и возносящейся над нею стеной, имеется ли там зазор, в который могла бы просунуться его голова.
Прежде он замковых барок не видел и не знал, встают ли их борта из воды отвесно или немного вздуваются в стороны. В последнем случае у него был шанс укрыться под изгибом борта, каковой, достигая самой стены, оставил бы длинный закрытый сверху канал, в котором он, пусть ненадолго, мог бы затаиться и отдышаться.
Всплывая, Стирпайк пытался нащупать стену. Пальцы его растопырились, готовые коснуться грубых камней, однако его ждало потрясение, ибо коснулись они не камня, но спутанной, волокнистой, жесткой подводной попоны буйно разросшегося стенного плюща, покрывавшего столь изрядную часть замковых стен. Стирпайк позабыл, что, проскальзывая в краденом челноке в роковую затопленную комнату, видел длинные усики плюща, забыл, что лик замка был не только изъязвленным, покрытым оспинами глазниц, в которых когда-то сверкали стеклянные очи, но и застланным уходящей вверх пеленой черных растений.
Цепляясь за подводные ветви, Стирпайк поднимался, и вот голова его ударила в корпус барки, выпиравший, прижимаясь к стене.
И тогда он понял, что смерть близка к нему как никогда. Ближе, чем в те минуты, когда за него цеплялись горящие руки мертвого Баркентина. Ближе, чем в часы, когда он взбирался по стене на заветный чердак Фуксии. Ибо воздуха в его легких осталось всего на несколько мучительных секунд. Путь загражден. Борт барки выступал, смыкаясь со стеной под поверхностью воды и не позволяя продвинуться дальше. Никакого воздушного кармана тут не было. Только сплошная вода. Но даже при том, что в виски его бил огромный молот отчаяния, Стирпайк цеплялся за плющ. Тянуть самого себя вверх, хватаясь за его внешние плети, означало бы в конечном итоге попасть на длинную, узкую, залитую водой кровлю. Но насколько глубок он, этот погруженный в полночную влагу запутанный лабиринт – лабиринт бесконечных листьев, волосистых пальцев и рук?
Стирпайк сражался, напрягая все, какие у него оставались, силы. Сражался с плющом. Раздирал преграждавшую путь пелену листвы. Втаскивал себя вовнутрь плюща. Рвал связки, ломал мелкие, раскисшие кости, раздвигал ребра и, хоть те норовили восстановить древние свои изгибы, пролезал между ними. И пока он тащился, цепляясь, вверх, некий голос внутри него и далеко-далеко повторял: «Ты еще не достиг стены… ты еще не достиг стены…»
Впрочем, он еще не достиг и воздуха, – и наконец в миг, когда Стирпайк лишился способности удерживать дыхание, он сделал первый, неизбежный глоток воды.
Мир почернел, однако руки и ноги Стирпайка, повинуясь чему-то вроде рефлекса, еще продолжали секунду-другую волочь его дальше, покамест он, откинув назад голову, не лишился чувств, и тело его не замерло, подпираемое переплетающимися ветвями.
Прошло какое-то время, прежде чем он открыл глаза и понял, что лишь подобие маски его выступает из воды. Он находился в чем-то вроде вертикального леса, в подросте, на цыпочках тянувшемся вверх. И никаких усилий, чтобы удержаться на месте, Стирпайку, как он обнаружил, прилагать было не нужно. Он словно лежал в люльке. Стал мухой, завязшей в затопленной паутине. И все же, последняя судорога рвавшегося кверху тела выдвинула его лицо из воды.
Медленно повел он глазами. Он находился всего на несколько дюймов выше трапа барки. Что там на ней, он не видел, но сквозь прорехи листвы сверкали, как самоцветы, факелы, и, лежа на руках гигантского ползучего растения, Стирпайк вслушивался в летевший сверху голос:
– Всем лодкам отойти от входа в пещеру. Немедленно перестроиться, отгородив залив. Зажечь на борту каждый факел, каждый фонарь, каждую лучину! Прокинуть под килями лодок веревки! Этот мерзавец способен спрятаться и под рулем. Клянусь всеми богами, в нем больше жизни, чем в вас во всех… – Ветер вдруг стих, и в наступившем безмолвии голос графини звучал, как орудийная канонада: – Ад кромешный, он же не русалка! Нет у него ни плавников, ни хвоста! Он должен чем-то дышать! Дышать должен!
Лодки, плеща веслами, отплыли, две барки, покачивавшиеся на спокойной воде, оттолкнули от стены. Но пока всякого рода суда и суденышки отходили в простор залива, выстраиваясь в линию, достаточно длинную, чтобы никакой пловец не смог ее обогнуть, Титус, стоявший пообок матери у окна, едва ли сознавая, что она рядом или что лодки отходят – при всей суматохе, при всем неистовстве и громовости материнских приказов, – не отрывал фанатичных глаз от чего-то, находившегося почти прямо под ним. То, во что уперся взгляд, казалось достаточно невинным, да никто, кроме Титуса в его горячечном состоянии, и не стал бы так пристально вглядываться в маленький участок плюща, лежащий на фут выше воды. От прочих участков, которые можно было наугад выбрать на огромном покрове листвы, этот не отличался ничем. И все-таки Титус, который до того, как мать присоединилась к нему у окна, покачивался взад-вперед в подобии дурманящей тошноты, поскольку долго копившееся воздействие все растущего жара и телесной усталости достигло уже последних пределов, приметил в плюще движение, в котором не смог разобраться – движение, не имевшее отношения к его дурноте.
То было отрывистое, явственное волнение листвы. Все качалось – вода, лодки, весь мир. Однако содрогание листьев не относилось к этому огромному наплыву немочи. Оно произошло не в его голове. Оно возникло в мире под ним – в мире, ставшем безмолвным и неподвижным, как лист стекла.
Догадка внезапно явилась ему, и сердце Титуса забилось быстрее.
И из этой догадки, из самой его слабости подобие силы живительно воспрянуло в нем. То была сила, порожденная не Горменгастом, не гордостью за свой род – эти обаятельные плоды уже подгнили. Ее породила гордость воображения. Он, Титус, изменник, вознамерился оправдать свое существование, побуждаемый к этому гневом, романтизмом, требовавшим теперь не бумажных корабликов, не стеклянных шариков, не чудищ на ходулях и не горной пещеры, не Той, плывущей меж золотистых дубов, – ничего, кроме отмщения, и скорой смерти, и знания, что он больше не зритель, но живой человек, окунувшийся в самую гущу драмы.
Мать стояла у его плеча. Командиры переминались за нею, стараясь получше разглядеть, что происходит снаружи. Ошибок делать нельзя. Стоит ему ошибиться, стоит хоть как-то обнаружить свои намерения, и десятки рук вцепятся в него.
Осторожно сунул он нож за пояс – руки дрожали так, словно уже посинели от холода. Титус опять положил ладони на подоконник и скосил глаза через плечо. Мать стояла, скрестив на груди руки. С безжалостной пристальностью вглядывалась она в развернувшуюся перед нею картину. Люди, сгрудившиеся за нею, были опасно близки, но смотрели мимо него – туда, где цепочкой выстраивались лодки.
И тогда, почти еще не решившись, он перевалился – наполовину перескочил – через подоконник и, прежде чем ухватиться, гася стремительность падения, за стебли плюща, пролетел первую полудюжину футов сквозь наружную его бахрому, и повис на переставших, наконец, подламываться ветвях.
Титус помнил, что маленький, подозрительный участок плюща, на который он нацелился, лежал под окном (теперь заполненным испуганными лицами), из которого он выпрыгнул, прямо под ним, на уровне воды. Он слышал, как выкликают его имя, как над заливом летят к лодкам приказы немедленно остановиться, но все эти звуки неслись к нему из другого мира.
И все-таки, хоть ощущение удаленности от всего, что он делает, удерживало Титуса словно бы зависшим в мире грез, в то же самое время его как магнитом тянуло к основанью стены. В помутнении слабости, отъединенности от всех и вся таился живой порыв, непосредственность цели.
Он почти и не сознавал, чем занято его тело. Казалось, руки и ноги сами принимали решения. И Титус следовал за ними вниз по покрову листвы.
Стирпайк же, переменивший позу, когда непереносимая судорога продрала ему левую ногу и плечо, Стирпайк, надеявшийся, что, осторожно расправив конечности, он никак не нарушит неподвижность наружной листвы, услышал теперь треск ломающихся над его головою ветвей и понял, что его движение привело к результату поистине страшному. После стольких отчаянных усилий спастись от преследователей только самая что ни на есть злая судьба могла постараться, чтобы его отыскали так скоро.
Разумеется, он не знал, что не кто иной, как юный граф, спускается к нему. Глаза Стирпайка не отрывались от волокнистого клубка темных ветвей прямо над ним. Ясно, что приближавшийся к нему человек не мог продвигаться близко к стене, сквозь самую гущу плюща. Тогда ему пришлось бы перемещаться с улиточьей скоростью, сражаясь с самыми мощными ветками. Преследователь должен соскальзывать по внешней листве и, вероятно, зарыться поглубже в плющ, оказавшись чуть выше Стирпайка, но так и оставшись недостижимым.
Именно таково и было намеренье Титуса, поскольку футах в пяти над водой он остановился и обождал немного, переводя дыхание.
Луна, высоко забравшаяся в небо, делала факелы почти ненужными. Лоно залива покрылось чешуйками. Листья плюща отражали глянцевый свет. Лица в окне казались лужеными и деревянными сразу.
На миг Титус задумался о том, не переместился ли Стирпайк, не взобрался ли выше того места в футе над водой, в котором зримо ожил и затрепетал предательский плющ, не находится ли сейчас он, Титус, в нескольких дюймах от врага, не грозит ли ему скорая смерть. Странным казалось ему в этот миг, что никакая рука с кинжалом не взвилась из листвы и не поразила его, висящего на ветвях. Но ничего не случилось. Безмолвие скорее подчеркивалось, чем нарушалось плеском далеких весел, поднимавшихся и падавших в заливе.
Затем левая ладонь его охватила некий внутренний стебель, и Титус, разведя перед собой пелену листвы, вгляделся в самую ее гущу, где от внезапного вторжения лунных лучей ветки вдруг засветились, точно белая сеть, точно искривленные кости.
Конечно, никто его там не ждал. Нужно зарыться поглубже и спускаться во мгле, пока он не отыщет врага. Луна светила теперь так ярко, что подобье густых сумерек сменило непроглядную ночь листвы. Полная тьма застоялась лишь у глубоко потонувшей в плюще стены. Если бы Титусу удалось пробиться к ней и после спуститься вниз, он, верно, смог бы увидеть, еще не достигнув воды, некие очертания, не принадлежащие ни ветке плюща, ни листу его – некий мреющий средь листьев изгиб или угол, – локоть, быть может, или колено, или выпуклость лба…
VI
Убийца не сдвинулся с места. Да и зачем бы он стал сдвигаться? Не так уж и богат его выбор – между одной люлькой плюща и другой. И что бы выгадал он, сменив одно временное укрытие на другое? Разве ему есть куда бежать? И весь-то покров плюща имел ширину только в семьдесят футов. Его поимка – вопрос времени. Но когда времени всего ничего, оно становится сладким и драгоценным. Он останется здесь. Доставит себе удовольствие: попробует на вкус непривычное блюдо – близкую смерть, лениво покачается на волнах Леты.
Дело не в том, что он утратил волю к жизни. Дело в том, что разум его оставался холодным и точным, и когда он сказал Стирпайку, что жить ему по такой-то и такой-то причине остается лишь несколько часов, противопоставить его логике Стирпайку оказалось нечего. Под ним плескалась вода, дышать в которой он не мог. К северу простирался водный простор, по которому он приплыл бы прямиком в руки поимщиков. Передвигаясь вправо или влево, он, в конце концов, вылез бы из плюща. Карабкаясь вверх, достиг бы десятков окон с физиономией в каждом.
Кто бы ни подбирался к нему сверху, человек этот, надо полагать, оповестил о своих намерениях целый мир, а то и приказ получил сразиться с ним, со Стирпайком. Человек, углядевший движение в плюще.
Странно другое: насколько он слышал, сюда подходила всего одна лодка. Два весла ее поднимались и опускались пока еще вдалеке, но звук их Стирпайк различал ясно; почему же не вся флотилия устремилась к нему?
Пока он водил взад-вперед лезвием по руке, с кривых стеблей над ним ссыпалась пыль, потом в ярде, вроде бы, от его головы затрещала, ломаясь, ветка.
Однако шум этот раздался не прямо над ним. Шум исходил из самой гущи плюща, откуда-то между ним самим и стеной.
Шелохнуться означало бы для Стирпайка выдать себя. Он съежился, точно худосочный ребенок в сплетенной из прутьев люльке. Но правая рука его прижимала кинжал к левому плечу, и он готов был в любое мгновение ударить клинком снизу вверх.
Маленькие, тесно посаженные глаза его горели во мраке от ненатуральной сосредоточенности, но не природный их цвет, каким бы необычным он ни был, проступал в темноте – нет, что-то более страшное. Хрусталики словно отражали цвет крови, омывавшей мозг и заглазья Стирпайка. Тонкие губы ханжи слиплись в бескровную нить.
Стирпайка вновь охватила – и даже с большей силой – гордыня, испытанная им, когда, глядя на лежавшие у его ног скелеты титулованных сестер, гоголем разгуливал вкруг их останков, словно плененный некоей первобытной стихией.
Ощущение это было до того чужеродно бесстрастной природе его сознательного разума, что у Стирпайка не отыскалось средств понять: что происходит в нем на этом глубоком уровне, – и уж тем более одолеть потребность покрасоваться. Ибо волна высокомерия окатила его, потопив разум в черных, фантастических водах.
Желание оставаться невидимым испарилось. Та сила, что еще сохранялась в его теле, страстно жаждала выставиться напоказ.
Ему уже не хотелось убить своего врага в темноте и безмолвии. Его раздирало желание встать нагим на освещенной луною сцене, с поднятыми руками, распяленными пальцами, и чтобы свежая, теплая кровь стекала с его запястий, омывая предплечья спиральными струйками, дымясь в холодном воздухе ночи, – и вдруг уронить руки, вцепиться пальцами, точно когтями, в грудь и разодрать ее, явив зрителям сердце, подобное черному овощу, – а после, на этой вершине самообнажения, в сладком триумфе греха, произвести некий жест высшего презрения, непристойный и редкостный и, наконец, на виду у всех башен Горменгаста, облапошить замок, не дав ему осуществить ревностно хранимое право, – и умереть под лучами луны самому, от собственной злой порочности.
Ничего, ничего не осталось от разума, способного презрительно осмеять это желание. Блестящий ум Стирпайк застлало багровое облако. Он барахтался в первобытных болотах.
Наплевав на всякую осторожность, он крушил вокруг себя ветки, и треск, с которым те подламывались в тишине, отдавался в каждом окне орудийными залпами. Зрачки Стирпайка обратились в раскаленные докрасна булавочные острия.
Он отдирал толстые стебли плюща, словно вырубая в массе листвы пещеру, бил ногами, сползая все ниже, пока не нашел опору в футе под водой. Левая рука его вцепилась в плотный побег, волосатый, точно собачья лапа.
Нож Стирпайка изготовился к удару. Он закинул голову. В сумраке листьев над ним послышался звук. Кто-то там то ли вскрикнул, то ли задохнулся, и следом огромный пук веток обвалился трескливой кучей, рушась в созданный внезапным неистовством Стирпайка колодец, – рушась с нарастающей скоростью и неся на себе Титуса.
Падая, Титус увидел внизу две горящие красные точки. Увидел сквозь переплетенные ветки плюща.
За несколько мгновений до этого страх напал на него, ибо разум Титуса внезапно очистился – так в сплошноте жарких туч вдруг расчищается пятнышко величиною не более ногтя большого пальца, и за ним проступает небо. И сквозь этот мгновенный просвет в миазмах усталости и жара ворвался страх перед Стирпайком, мраком и смертью.
Но едва только ветви подломились под ним, висящим в переплетенной ночи, едва началось падение, страх снова покинул его. Он говорил себе: «Я падаю. Слишком быстро. Скоро я свалюсь на него. И убью, если сумею».
Пока Титус падал, рука его крепко сжимала нож, и когда он с хрустом проломился сквозь ветви, густо и влажно павшие на забитую сором поверхность потопа, то увидел, как нож сверкнул в его кулаке, подобно осколку стекла, поймавшему пронзительный луч луны. Но лишь на долю летящего мига увидел он сталь тонкого лезвия, поскольку падение отбросило его под лунный свет и внезапно нечто иное, столь же яркое, как лезвие, приковало его взгляд: существо с глазами, как капельки крови, и лбом, похожим на сальный шар, – существо, рот которого, тонкий, как нить, раскрывался и, раскрывшись, искривился по краям, так что никакая иная нота и не могла бы исторгнуться из его полости, кроме той, что прозвенела над заливом, взлетела по древним стенам и обратила в камень примолкших людей – рассветная нота, высокий, самоуверенный клич бойцового петуха.
И едва этот надменный вопль завибрировал в ночи и кукарекающее эхо его запело, заметалось туда-сюда по пустым залам, пока, наконец, не умерло, истончась, – Титус ударил.
Он не видел тела, в которое погрузился его маленький нож. Только голову с раззявленным ртом и страшные, кровью налитые глаза. Но он ударил во тьму под ними и кулак его вдруг окатило теплой волной.
Как получилось, что Стирпайк первым принял удар – и удар столь смертельный? Стирпайк узнал графа, освещенного, как и сам он, луной. То, что в этот великий миг сам лорд Горменгаст попал ему в руки и будет сейчас убит, столь отвечало его чувству порядка и соразмерности, что потребность закукарекать стала неодолимой.
Он совершил полный круг. Он отдался нахлынувшим чувствам. Он, рационалист, человек самодостаточный.
И оттого, в пароксизме самопотворства, – или, быть может, в тисках стихийной силы, власти над которой он не имел, Стирпайк отринул доводы разума и упустил то единственное мгновение, в которое мог еще нанести удар первым.
Но когда нож пропорол ему грудь, все его видения расточились. Он вновь обратился в Стирпайка. Стирпайка раненного, истекающего кровью, но покамест не мертвого. Зарычав от боли, он нанес удар, однако в этот же миг Титус свалился без чувств и клинок Стирпайка лишь рассек ему щеку, оставив царапину – неглубокую, но длинную и кровавую. Резкая боль ненадолго прояснила сознание юноши, и он еще раз вонзил нож в темноту под лицом. Мир закружился, и Титус закружился с ним вместе, и снова услышал, далеко-далеко, крик петуха, а открыв глаза и увидев, поскольку ромбик лунного света накрыл их обоих, кулак свой притиснутым к вражьей груди, понял, что сил вытащить нож, застрявший меж ребрами тела, повисшего, изогнувшись, как лук, в плотной листве, ему недостанет. Титус смотрел в лицо врага, как смотрело бы, зачарованно и озадаченно, на циферблат часов дитя, не умеющее назвать время, – ибо лицо это обратилось в ничто, в предмет, узкий и бледный, с открытым ртом и тусклыми глазками. Закатившимися.
Стирпайк был мертв.
Когда Титус понял, что это действительно так, ноги его подкосились и он лицом вниз выпал из плюща в воду. И тут же из горл сотен зрителей вырвался крик, и мать, стоявшая наверху в обрамленьи окна, склонилась и губы ее, пока она смотрела на сына, чуть шевелились.
И она, и зрители в окнах вокруг нее и над нею не видели ничего, кроме содроганья листвы у подножья стены. Пролетев по воздуху, Титус исчез, нырнул в густой, лоснистый плющ, каждый вырезной лист которого сверкал под светом луны. На долгие секунды волнение листвы унялось. А затем вспыхнуло снова, пока все вдруг не увидели его и не поняли, что там, под плющом, находятся двое.
Когда же Стирпайк перестал таиться, когда Титус упал в колодец листвы, когда враги обменялись ударами, шум их борьбы, треск веток, плеск и бурленье воды, взрываемой их ногами – все эти звуки разносились над заливом со странной ясностью. Меж тем флотилия опять двинулась, хоть двое наших героев того и не слышали, к замку и теперь находилась совсем недалеко от стены. Капитаны ее ожидали, явившись под стены, услышать новые распоряжения, однако Графиня, неподвижная в лунном свете, заполнившая, точно изваяние, окно, стояла, опустив ладони на подоконник и обратив сосредоточенный взгляд вниз. Но вот крик петуха, торжествующий, страшный, нарушил тупое оцепенение, и когда, немного спустя, Титус вывалился из плюща и кровь из щеки замутила воду вокруг его головы, Графиня, решившая, что он мертв, испустила громовый вопль и ударила кулаком в каменный подоконник.
Дюжина лодок рванулась вперед, чтобы вытащить Титуса из воды, но та, что несколько раньше отошла от флотилии первой, та, чьи весла слышали Титус и Стирпайк, опередила все прочие и скоро была уже рядом с телом. Титуса подняли на борт, однако едва его уложили на дно, как он ошеломил примолкших в ужасе зрителей, восстав, как им показалось, из мертвых, – поднялся на ноги, и указав на участок плюща, из которого выпал, велел людям в лодке залезть туда.
С мгновение они колебались, поглядывая на Графиню, однако помощи от нее не дождались. Подобие красоты осенило ее крупные, грубоватые черты. Выражение, которое она, сама того не сознавая, приберегала для птицы со сломанным крылом, для мучимого жаждой животного, осветило теперь сцену, лежащую под нею. Лед растаял в ее глазах.
Она повернулась к тем, кто толпился у нее за спиной.
– Ступайте, – сказала она. – Есть и другие комнаты.
Снова поворотившись к заливу, она увидела сына, который стоял на носу лодки и смотрел вверх, на нее. Кровь заливала одну его щеку. Глаза странно светились. Казалось, ему необходимо увериться, что мать здесь, над ним, и ясно видит все происходящее. Ибо как только тело Стирпайка втащили в лодку, Титус взглянул на него, потом опять на Графиню, и тут черное беспамятство завладело им, лицо матери понеслось по дуге, и Титус свалился в лодку, словно в траншею мрака.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ
Дождь больше не шел. Промытый воздух был сладок необычайно. Подобие естественного покоя, и прежде всего – покоя разума, подобие дремотной мечтательности нисходило на Горменгаст; нисходило, казалось, с каждым лучом солнечного света днем и лунного – ночью.
Вода великого потопа спадала бесконечно малыми градациями – одно золотое мгновение за другим, час за часом, день за днем, месяц за месяцем. Просторные кровли, сланцевые и каменные острова, широкие и скошенные поднебесные поля, покатые высоты подсыхали под солнцем. Что ни день сверкали они, сбрасывая воду, вдруг сразу ставшую отталкивающе серой, в ровный, оцепенелый простор, над синими глубинами которого лениво проплывали белые облака.
Но внутри замка, по мере того как спадало наводнение и вода уходила из верхних покоев, все виднее становились разрушения, вызванные потопом. За окнами вода лежала невинно, нежась под солнцем кроткой синей тихоней, а между тем огромные коридоры только что освобожденных ею этажей устилала мерзкая муть глубиною в фут. Отвратительные ручейки неторопливо сочились из окон. На затопленных последними этажах начали появляться из воды покрытые серой слизью верхушки мебели. Становилось ясно, что разгребать накопившиеся осадки, мыть и отскабливать замок, когда он, наконец, снова окажется на сухой земле – если, конечно, окажется, – придется еще долгое время.
Месяцы лихорадочного перетаскивания по лестницам Горменгаста всего, что забивало ныне верхние этажи, пожалуй, должны были показаться обитателям замка пустяком в сравнении с ожидавшими их восстановительными работами.
То обстоятельство, что в некотором отдаленном будущем замок станет, быть может, чище, чем был он в последнее тысячелетие, мало таило в себе привлекательного для тех, в чьих помышлениях о нем чистота никогда не участвовала, людей, никогда и не думавших, будто замок может быть иным, нежели он есть.
О том же, что наводнение угрожало некогда самим жизням их, они позабыли. Труды, ожидавшие их, вот что пугало людей. И однако ж, покой, снизошедший на Горменгаст, залечивал все раны. Впереди пролегло время – снисходительное и неизмеримое. Труды будут, возможно, бесконечными, но не отчаянными. Наводнение спадает. Оно породило хаос, разрушения, смерти – так, но оно спадает. Оно оставило за собой забитые грязью покои и тысячи самых разных вещей, раскисших и разломанных; но оно спадает.
Стирпайк мертв. Не нужно больше бояться его свистящих камушков. Многое множество людей без страха разгуливало по кровлям. Кухонные мальчишки и прочие замковые сорванцы ныряли из окон и резвились в воде, и цеплялись, выныривая, за выступившие из нее камни, целые сотни отроков одновременно сражались за обладание какой-нибудь островной башней, только что возникшей из синевы.
Титус обратился в легенду – в живой символ отмщения. Длинный шрам на лице его стал предметом зависти замковой молодежи, гордости его матери и его собственного тайного тщеславия.
Доктор продержал его в постели месяц. Жар юноши опасно усилился. Неделю провел он в полном беспамятстве, и Доктор боролся за жизнь Титуса, почти не отходя от него. И мать сидела в углу палаты, недвижная, как гора. Когда, наконец, он начал сознавать, что происходит вокруг, когда лоб его вновь стал прохладным, мать удалилась. Она не знала, что сказать сыну.
Вода же продолжала неспешно спадать. Кровли обратились в естественную среду обитателей замка. Протяженные, плоские вершины западного массива стали, после трех столетий забвения, излюбленным местом прогулок. На закате, когда завершались работы, люди целыми толпами бродили здесь или смотрели, прислоняясь к стрельницам, как тонет в воде солнце. Кровли стали их собственностью. Днем на них продолжалась, насколько то было возможно, традиционная жизнь замка. Великие Фолианты Церемонии удалось спасти от гибели, и Поэт, ныне Распорядитель Церемонии, трудился, не покладая рук. Обширные участки кровель покрылись всякого рода хибарками и хижинами. Люди из разных каст замкового общества понемногу осваивали те части крыши, что наиболее отвечали рангу их и занятиям.
Все выше и выше поднималась из вод Гора Горменгаст. Верхний зазубристый конус ее подрастал с каждым днем. На восходе тонкие косые лучи озаряли его, высвечивая деревья, скалы, папоротники – то был остров, обезумевший от пения птиц. В полдень наступала тишина: солнце ласково скользило по синему небу, отражаясь в воде. Казалось, будто всему, что случилось в последнее десятилетие, всей жестокости, интригам, страстям, любви, ненависти и страху, потребовалась передышка, и что теперь, когда нет больше Стирпайка, замок может, наконец, смежить ненадолго веки и насладиться апатией выздоровления.
ГЛАВА ВОСЬМИДЕСЯТАЯ
День за днем, ночь за ночью это странное умиротворение наплывало на владения Гроанов. Но отдыхал только дух, не тело. Людской суете, физическому труду, всем тем бесконечным занятиям, что требовались для приведения замка в порядок, не видно было конца.
Начали появляться вершины деревьев – все их ветви, кроме самых крепких, были обломаны. Верхушки все новых каменных фигур и построек выступали из воды. Отряды людей отправлялись на Гору Горменгаст, со склонов которой можно было видеть, как замок обретает привычные очертания.
Здесь, на каменном склоне, не более чем в трех сотнях футов от когтистой вершины, на следующий после смерти Стирпайка день, похоронили Фуксию.
Шестеро гребцов доставили ее сюда по неподвижной воде в самой великолепной из построенных Резчиками лодок – массивной, с изваянием на носу.
Традиционная гробница семьи Гроанов с ее высеченными из местного камня статуями лежала глубоко под водой, так что выбора не было – дочь Рода следовало со всей торжественностью упокоить в единственной доступной земле.
Доктор, не решившийся оставить молодого графа на одре болезни, присутствовать на церемонии не смог.
Могилу высекли в каменистой почве на выбранном Графиней пологом участке склона. Долго и трудно бродила она по опасным скатам, отыскивая достойное место для упокоения дочери.
Замок виднелся отсюда возносящимся в небо, подобно отвесному берегу континента, побережию моря, изрытому несчетными бухтами, глубоко врезавшимися в сушу заливами. Континента, у берегов которого лежат густо населенные острова – острова самых разнообразных обличий, какие только могут принимать замковые башни; архипелаги, утесы и перешейки, и нагие мысы далеко уходящего камня – неисчерпаемая панорама, каждая крохотная подробность которой отражается бездыханными водами.
Ко времени, когда Титус оправился, наконец, не только от ужасов той ночи, но и от последствий нервного истощения, которое повлекла она за собою, прошел целый год, и Горменгаст снова уже был виден от макушки до пят.
Но каким же он стал промозглым и грязным! Жить в нем никакой возможности не было. После наступления темноты каждое дуновение его веяло хворью. В коридорах замка некогда тонули животные, в помещениях гнили тысячи вещей. Гибельное место. Только в дневные часы орды рабочих, тяжело и неустанно трудившихся, и делали его обитаемым.
Кровли были теперь покинуты, колоссальный лагерь раскинулся на окружающей замок земле и его укреплениях, что-то вроде лачужного города выросло здесь: с хижинами, хибарами, будками – всякого рода постройками, с великой изобретательностью сооруженными на скорую руку из земли, древесных ветвей, полотнищ парусины, кусков железного и каменного лома, натащенных из замка и подпиравших друг друга в сочетаниях самых фантастических.
Здесь, пока продолжались работы, бок о бок жили, а то и находили свою кончину все те, кто был плотью и кровью Горменгаста.
Погода стояла прекрасная почти до однообразия. Зима выдалась мягкой. Каждые несколько недель сеялся мелкий дождичек; весной на высоких, не сильно раскисших от воды склонах взошла пшеница. Великая каменная кладка зияла пустотой над облепившим ее лагерем.
Но пока продолжалась просушка бесконечных помещений и коридоров, пока все и вся пронизывалось ощущением мира, Титус, вопреки всеобщему настроению, чем более оправлялся, тем становился беспокойнее.
Какие желания обуревали его в этом мягком золотистом свете? В этом разлитом повсюду покое? Зачем пробуждался он, что ни день, в однообразии вечного лагеря – вечного замка и вечного ритуала?
Ибо Поэт принимал труды свои близко к сердцу. Высокий ум его, направлявшийся до сей поры на создание ослепительных, пусть и не всегда вразумительных словесных построек, обрел ныне возможность развернуться во всю свою мощь, погрузившись в занятие, пусть и вразумительное не в большей мере, но однако ж, представлявшее для замка куда большую ценность. Поэзия Ритуала увлекала его, мышцы длинного, клинообразного лика Поэта то и дело подергивались в такт размышлениям – как будто он постоянно прокручивал в голове какой-то новый, увлекательный вариант проблемы Церемонии и ее человеческого содержания.
Да так тому и следовало быть. В конце концов, Распорядитель Ритуала есть краеугольный камень всей замковой жизни. Но с ходом месяцев Титус все ясней понимал, что должен выбрать между существованием в качестве символа, навеки скованного древними правилами, и тем, чтобы обратиться в изменника в глазах и матери, и замка. Дни его заполнялись бессмысленными церемониями, нерушимость и святость коих состояли, похоже, в отношениях обратной пропорциональности к их вразумительности или пользе.
И ведь все это время замок души в нем не чаял. Замок не мог оказаться неправым – и словно мед разливался по нёбу Титуса, когда обитатели замка расступались в каменных коридорах, пропуская его, когда в лачугах дети взволнованно выкрикивали его имя и, зачарованно расширив глаза, взирали на мстителя.
Стирпайк уже обратился в почти легендарного изверга; однако перед всеми, живой и дышащий, был юный граф, бившийся с ним в плюще. Человек, сразивший дракона.
Однако и это приелось. Мед вызывал тошноту. Матери нечего было сказать ему. Она стала еще более замкнутой. Гордость доблестью сына лишала ее слов. Вновь обратилась она в грузную, пугающую фигуру с белыми котами, вечно пребывавшими на расстоянии свистка от нее, и дикими птицами на тяжелых плечах.
Да, когда потребовалось искоренить Стирпайка и спасти затопляемый замок, Графиня оказалась на высоте.
Теперь же она снова замкнулась в себе.
Ум ее опять засыпал. И сам он, и то, что способен он совершить, – все это стало ей неинтересным. Словно машина, ум Графини был выведен из тьмы и запущен – и показал себя осмотрительным и мощным, как войско на марше. Теперь он решил остановиться. Решил снова заснуть. Белые коты и дикие птицы заместили собой отвлеченные ценности. Графиня больше не размышляла. Графиня больше не верила, что Титус действительно думал то, что он ей сказал. Сын просто был в исступлении. Ведь невозможно поверить, что он сознавал всю еретичность своих слов. Что жаждал какой-то свободы, не связанной с жизнью его древнего дома – его наследия, его первородства. Что все это могло означать? И Графиня погрузилась в добровольную слепоту, прорезаемую только зелеными глазами котов и яркими спинками птиц.
Но и Титус не мог больше сносить мысль о жизни, ждущей его впереди, – с вечными мертвыми повторами, с безжизненными церемониями. Дни шли, и беспокойство его все нарастало. Он ощущал себя запертым в клетку. Животным, жаждущим испытать свои силы, убедиться в самом их существовании.
Ибо Титус открыл себя. «Та», погибнув в грозу, прикончила и его отрочество. Смерть Флэя закалила его. Смерть Фуксии оставила в груди пустоту. Победа над Стирпайком стала для Титуса пробным камнем собственной храбрости.
Воображаемый им мир, лежащий за чертой таинственного горизонта – лежащий нигде и повсюду, – по необходимости имел основой своей Горменгаст. Но Титус знал: должны быть отличия, другого места, в точности схожего с его домом, существовать на свете не может. Они-то, отличия, и притягивали его. Должны же существовать и другие реки, другие горы, другие леса и другое небо.
Их он и жаждал. Жаждал проверить себя. Постранствовать – не как граф, но как человек никому не известный, человек, которому нечем прикрыться, кроме голого имени.
И к тому же, он обретет свободу. Свободу от верности. Свободу от дома Свободу от доводящих до исступления формальностей и церемоний. Свободу стать чем-то большим, нежели последний представитель великого Рода. Когда-то жажда побега разжигалась в нем страстью к Той. Без нее он только и насмелился бы что грезить о бунте. Своей независимостью она показала ему, что один только страх вынуждает людей цепляться друг за друга. Страх одиночества, страх несходства. Нездешняя дерзость ее и способность довольствоваться только собой стали словно бы взрывом, грянувшим в самой гуще привычных ему условностей. С первого же мгновения он уверенно знал, что Та – не плод воображения, но живое существо из Леса Горменгаст, обратившееся в его навязчивую мысль. Она и сейчас не отпускала его. Мысль о мире иного порядка, способном прожить без Горменгаста.
Как-то под вечер, в конце весны, Титус взобрался по склону Горы Горменгаст и остановился у могилы сестры. Впрочем, он простоял здесь, глядя на безмолвный холмик, недолго. Мысли его ничем не отличались от мыслей прочих людей: он думал о том, как обидно, что человеку столь яркому, столь полному жизни и любви, приходится гнить во тьме. Но углубляться в эти мысли означало бы накликать на себя кошмары.
Дул легкий ветер, зачесывая на сторону зеленую шевелюру травы на челе гробового холмика. Вечер полнился легким коралловым светом, озарявшим и скалы, и папоротники у ног Титуса, и его лицо.
Влажноватые, светло-карие волосы упали ему на глаза, когда он, оторвав от бугорка взгляд, перевел его на скопление замковых башен, уже начавших поблескивать в странном волнении.
Фуксия ушла. Она покончила с Горменгастом. Она обитает в иных сферах. И Та мертва. Одним чуть приметным изгибом плывшего по воздуху тела она показала Титусу, что замок – еще не все. Разве не дали ему понять, насколько просторна жизнь? Теперь он готов.
Он стоял спокойный и тихий, но стиснутые кулаки его прижимались один к другому, косточка к косточке, словно борясь с волнением, вскипавшим в груди.
Широкое, бледноватое лицо Титуса отнюдь не несло выражения романтической юности. Вообще говоря, лицо вполне заурядное. Какое уж тут совершенство черт. Все в нем выглядело крупноватым, немного неровным. Нижняя губа выдается вперед чуть больше верхней, они разделяются, немного приоткрывая зубы. Одни лишь глаза – светлые, отливающие этакой каменной голубизной с намеком на тусклую, приглушенную лиловатость, – кажутся странными и даже поразительными в теперешней их живости.
Гибкое тело, несколько отяжелевшее, но сильное и подвижное, немного сутулится – кажется, будто он пожимает плечами. Как гроза собирает в кучу подвластные ей облака, так в груди Титуса – он чувствует это – совершается общий сбор, покамест мысли встают по местам и движутся в одном направлении, и пульсы бьются в его запястьях, словно оттеняя волю к восстанию.
А между тем, сладостный воздух овевает его, невинный, нежный, и одинокое облако, подобно тонкой ладони, проплывает над замком, словно благословляя башни. Из папоротниковых теней появляется кролик, мирно усаживается на скале. Какие-то насекомые тонко поют в воздухе, и вдруг, совсем рядом, звучит скудная нота сверчка, дернувшего одну-единственную струну.
Все это выглядит до странного мирным обрамлением для смятения, бушующего в душе и разуме Титуса.
Он понимает, что отложив свое изменническое деяние на потом, не сделает его более легким. Чего он, собственно, ждал? Время, когда сочувствие, так сказать, изольется из стен замка, желая ему счастливого пути, говоря: «Ну вот тебе и пора в дорогу», – не придет никогда. Ни единый из замковых камней не признает его своим, когда он повернется к ним спиной.
Титус спустился по склонам, миновал деревья предгорий, прошел по болотистым тропам и, перейдя эскарп, приблизился к воротам внешней стены.
И увидев нависшие над ним гигантские стены, побежал.
Он бежал, словно выполняя приказ. Да так оно и было, хоть Титус того и не сознавал. Он бежал, подчиняясь закону, древнему, как закон его дома. Закону плоти и крови. Закону желания. Закону перемен. Закону молодости. Закону, разделяющему поколения, уводящему дитя от матери, мальчика – от отца, юношу – от обоих.
То был закон, влекущий человека в поиск. Закон, который, по причине отсутствия храбрости, выполняется очень немногими. Стремление молодости к неизвестному, ко всему, что лежит за смутной чертой горизонта.
Он бежал в незатейливой вере, что неповиновение это и есть конечное доказательство его правоты. Он не был неоперившимся юнцом, взбалмошным дитятей из приторного романа. Молочных зубов он уже лишился. Он уже убил человека, ощутил, как огромный мир с легким шуршанием прорывается сквозь ребра покойника, покидая тело, и ощущение это вздыбило волосы на его голове.
Титус бежал, потому что принял решение. Оно было принято за него на сходке полузабытых стремлений, желаний и причин, разнообразных, но соразмерных порывов. Схождением всех их в средоточие действия.
Вот это и заставляло его бежать – потребность не отстать от машистой поступи мыслей, от волнения.
Он знал, что не может теперь повернуть назад, – разве что вопреки собственной честности. Дыханье его убыстрилось, участилось, и наконец хижины обступили Титуса.
Солнце уже зацепилось за край земли. Розовато-красный свет сгустился. Гигантский лагерь облекся в странную красоту. Население его прогуливалось по проулкам, люди оборачивались, заслышав приближение Титуса, и тут же уступали ему дорогу. Оборванные дети выкликали его имя, бежали к матерям, рассказать, что видели шрам. Титус, вдруг окунувшийся в мир реальности, остановился. Какое-то время он простоял, свесив голову и упершись руками в колени, затем, когда дыхание выровнялось, отер со лба пот и быстро зашагал туда, где частокол окружал длинную хижину, в которой жила Графиня.
Еще не пройдя через корявую железную калитку внутрь частокола, он поманил к себе нескольких молодых людей, проходивших мимо.
– Отыщите Распорядителя Конюшен, – сказал он непререкаемым тоном матери. – Скажите, чтобы ждал с лошадью на западном выгоне. Скажите, чтоб оседлал кобылу. Он знает, какую. Серую с белыми бабками. Пусть приведет ее к Кремнистой Башне. Я скоро там буду.
Молодые люди тронули ладонями лбы и исчезли в густеющих сумерках. Луна уже выплывала из-за разрушенной башни.
Почти собравшись толкнуть калитку, Титус замер, развернулся на каблуках и направился в самую середину построенного из выдранных половиц города. Впрочем, ему не пришлось ни добираться до квартала Профессоров, ни сворачивать в нем на восток, туда, где больничка Доктора возносила сырые деревянные стены к встающей луне. Ибо впереди показались идущие к нему по натоптанным тропкам Школоначальник, его супруга и зять – сам Доктор.
Они не увидели Титуса, пока тот не приблизился к ним. Он знал: с ним захотят завести разговор, – но знал также, что не сможет его поддерживать да, собственно, и слушать тоже. Он выпал из обыденной жизни. И потому, прежде чем они уразумели, что происходит, Титус одновременно схватил Доктора и старика Профессора за руки, тут же выпустил их, неловко поклонился Ирме, развернулся и, к полному их изумлению, быстро пошел прочь и скрылся из глаз в сгущении сумерек.
Дойдя до частокола, он не стал больше медлить, но, миновав калитку, велел стоявшему у дверей длинной хижины человеку доложить о своем приходе.
Он увидел ее, едва лишь вошел. Мать сидела за столом с горящей перед нею свечой и без выражения смотрела в книжку с картинками.
– Мама.
Графиня медленно подняла глаза.
– Да? – спросила она.
– Я ухожу.
Она ничего не сказала.
– Прощай.
Мать тяжело встала и, подняв свечу, поднеся ее поближе к лицу сына, впилась глазами в его глаза, – а затем, подняв другую руку, нежно-нежно провела пальцем по его шраму.
– Уходишь – куда? – наконец спросила она.
– Я ухожу навсегда, – ответил Титус. – Покидаю Горменгаст. Не могу тебе объяснить. Не хочу разговаривать. Я пришел, чтобы сказать тебе, вот и все. Прощай, мама.
Он развернулся и быстро пошел к двери. Всей душою хотелось ему пройти сквозь нее и растаять в ночи, не произнеся больше ни слова. Он понимал, что мать не сможет так сразу осознать это страшное признание в вероломстве. Но из тишины, повисшей у него за плечами, раздался ее голос. Негромкий. И неторопливый.
– Идти-то ведь некуда, – произнес голос. – Ты только опишешь круг, Титус Гроан. Дороги нет – нет даже тропы, кроме тех, что возвратят тебя к дому. Потому что все дороги ведут в Горменгаст.
Он хлопнул дверью. Луна текла над холодным лагерем. Она сверкала на крышах замка, заливая светом верховный коготь Горы.
Когда он пришел к Кремнистой Башне, кобыла ждала его. Он уселся в седло, взял поводья и сразу же тронулся сквозь кромешную тень, лежавшую под стенами замка.
Спустя долгое время он выехал под сверкающий свет полнолуния, а еще немного погодя понял, что если не обернется в седле, то дома своего больше уже не увидит. За спиною его замок взбирался в ночь. Перед ним расстилался земной простор.
Титус отбросил с глаз пряди волос, ударом каблуков пустил кобылу в рысь, затем в полугалоп и, наконец, в полный – по разлегшейся впереди пустынной дичи.
Вот так, ликуя, пока мимо него проносились луной облитые скалы, ликуя, пока слезы текли по его лицу, – с глазами, восторженно прикованными к размазанному горизонту, с ушами, в которых гремели удары копыт, – поскакал Титус прочь от своего мира.
Примечания
1
Здесь и далее стихи в переводе А. Глебовской. – Здесь и далее прим. переводчика.
(обратно)2
Сама по себе (лат.).
(обратно)3
Целиком, гуртом, оптом (фр.).
(обратно)4
Званый вечер, суаре (фр.).
(обратно)5
Трупное окоченение (лат.).
(обратно)6
Кордебалет (фр.).
(обратно)7
Вместо родителей (лат.).
(обратно)8
Скопом (фр.).
(обратно)9
Роковая женщина (фр.).
(обратно)

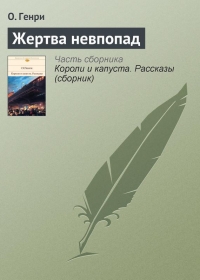


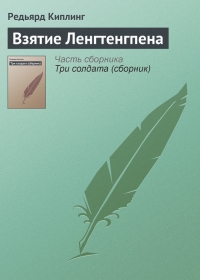

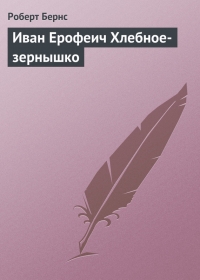
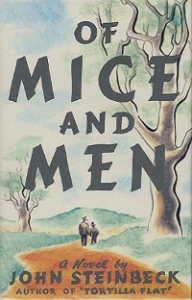

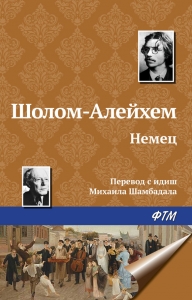
Комментарии к книге «Горменгаст», Мервин Пик
Всего 0 комментариев