Дивный вечер, друг мой… Я жду выноса тела Жозе Матиаса – Жозе Матиаса де Албукерке, племянника виконта де Гармилде… Вы, мой друг, безусловно, его знавали – такой изысканный молодой человек, белокурый, как пшеничный колос, с закрученными вверх усами странствующего рыцаря и слабо очерченным безвольным ртом. Истинный дворянин, с утонченным и строгим вкусом. И пытливым умом, одержимым важнейшими идеями века и таким острым, что постиг мою «Защиту гегельянской философии». Этот образ Жозе Матиаса относится к 1865 году, так как последний раз я столкнулся с ним морозным январским вечером в одном из подъездов па улице Сан-Бенто; он был одет в медового цвета изорванный на локтях сюртук, дрожал от холода, и от него отвратительно пахло водкой.
Да вы, мой друг, однажды, когда Жозе Матиас, возвращаясь из Порто, задержался в Коимбре, даже поужинали с ним на Пасо-де-Конде! И Кравейро, который писал свой труд «Сатанические насмешки и скорбь», чтобы поддержать спор между Школой пуристов и Сатанической школой, прочел тогда свой сонет, полный мрачного идеализма, «Сердце в клетке груди моей…». А еще я вспоминаю Жозе Матиаса в широком черном атласном галстуке, торчащем из-под жилета льняного полотна, не отрывающего глаз от горящих в канделябрах свеч и чуть заметно улыбающегося тому, чье сердце рычало в грудной клетке… Это было апрельским вечером, на неба стояла полная луна. Потом мы все вместе прогуливались по тополевой аллее и мосту. Жануарио с чувством пел печальные романтические песни того времени:
В час вечерний, пред закатом Ты смотрела молчаливо, Как вскипал поток бурливый У твоих девичьих ног…Жозе Матиас стоял, облокотившись на парапет мостя и устремив глаза и душу к луне!
Почему бы вам, мой друг, не проводить столь интересного молодого человека на кладбище «Безмятежность»? У меня, как и подобает преподавателю философии, – наемный экипаж… Что? Светлые брюки! О мой дорогой друг! Из всех материализованных форм сочувствия самая, пожалуй, грубо материальная – это черный кашемир. А ведь тот, кого мы провожаем в последний путь, был большой спиритуалист!
Из церкви выносят гроб. Всего три экипажа и сопровождают его на кладбище. Но, друг мой, по правде говоря, Жозе Матиас умер шесть лет тому назад в полном расцвете сил. Этот же, в обшитых желтыми лентами досках, – мало похожий на него труп пьяницы без имени и прошлого, которого февральский холод, сам того не желая, убил в подъезде.
Кто тот субъект в золотых очках, восседающий в двухместной коляске?… Право, не знаю. Возможно, богатый родственник, из тех, которые появляются на похоронах с траурной лентой, свидетельствующей о родственных связях, тогда, когда покойник уже не может ни докучать, ни компрометировать их. Тучный желтолицый мужчина, сидящий в экипаже, – Алвес-Мерин, издатель журнала «Шпилька», страницы коего, к большому сожалению, скупятся на философские статьи. Что связывало Алвеса-Мерина с Жозе Матиасом?! Не знаю. Может, пили в одних и тех же кабаках, а может, Жозе Матиас последнее время сотрудничал в «Шпильке»? Или под толстым слоем сала издателя и за издаваемой им сальной литературой кроется чувствительная душа? А вот и наш экипаж… Хотите, чтобы я опустил стекло?… Сигарету?… Спички у меня есть… Так вот, на меня и мне подобных, которые в жизни отдают предпочтение логике и требуют, чтобы колос вырастал непременно из зерна, Жозе Матиас производил удручающее впечатление. В Коимбре мы всегда считали его вопиющей заурядностью. Возможно, причиной того была его ужасающая аккуратность. Никогда никакой видимой прорехи на его студенческой, одежде! Никакой случайной пыли на штиблетах! Ни одного непокорного волоска на голове или в усах, всегда столь безупречно расчесанных, что это нас повергало в уныние. Кроме того, из нашего пылкого поколения ой был единственным интеллектуалом, который не оплакивал нищету Польши, прочел, не бледнея и без слез, «Созерцания» и остался безразличен к ранам Гарибальди. И вместе с тем Жозе Матиаса нельзя было упрекнуть в черствости, жестокости, эгоизме или холодности. Наоборот. Приятный товарищ, всегда сердечный и кротко улыбающийся. Его непоколебимое спокойствие, казалось, шло от его сентиментальности и поверхностности. И в то время прозвище Матиас Беличье Сердце, которое мы дали этому юноше, такому приятному, такому белокурому и такому легковесному, было и справедливым, и точным. Когда же Жозе Матиас окончил университет и за смертью его отца последовала смерть матери, хрупкой красивой женщины, оставившей ему наследство в пятьдесят конто, он отбыл в Лиссабон к брату матери – генералу виконту де Гармилде, который боготворил племянника, – чтобы скрасить дядино стариковское одиночество. Вы, друг мой, без сомнения, помните этот безупречный классический образец генерала с сильно нафабренными усами, в панталонах цвета розмарина, туго натянутых при помощи штрипок на сверкающие сапоги, и с хлыстом под мышкой, конец которого, казалось, дрожит и готов исхлестать весь мир. Забавный воин и невероятно добрый человек. Генерал Гармилде жил тогда в Арройосе, в старинном изукрашенном изразцами особняке с садом, где на высоких клумбах любовно взращивал георгины. Сад этот чуть заметно поднимался к увитой плющом стене, которая отделяла его от другого сада – большого и красивого розария советника Матоса Миранды, чей дом с открытой террасой, крышу которой поддерживали две желтые башенки, высился на вершине холма и носил название «Виноградная лоза». Друг мой знает (по крайней мере из легенд, подобных легендам о Елене Прекрасной или Инее де Кастро) о красавице Элизе Миранда, Элизе «Виноградной лозы»… Это была возвышенная, романтическая красавица Лиссабона конца Возрождения. Однако Лиссабон мог ее видеть либо заглядывая в окна ее кареты, либо в один из светлых вечеров среди толпы, гуляющей по Городскому саду, либо на двух балах собрания Кармо, почетным распорядителем которых был Матос Миранда. Богиня редко покидала Арройос и показывалась на глаза смертным. Возможно, причина крылась в провинциальной страсти к домоседству или приверженности к тому высоконравственному слою буржуазии, который в Лиссабоне все еще неукоснительно соблюдал старинный обычай вести затворническую жизнь, а может, просто не смела ослушаться отеческого запрета мужа – уже шестидесятилетнего старика, да еще диабетика? Однако Жозе Матиас каждый день удивительно легко и даже неизбежно видел ее с того самого момента, как обосновался в Лиссабоне, поскольку особняк его дяди, генерала Гармилде, был расположен на выступе холма, рядом с домом и садом «Виноградная лоза», и стоило божественной Элизе выглянуть в окно выйти на террасу или сорвать розу в буксовой аллее как она тотчас же попадала в поле зрения Жозе Матиаса, тем более что ни одно дерево ни в том, ни в другом саду своими густыми ветвями этому не препятствовало. Уверен, что вы, друг мой, как и все мы, посмеивались над следующими избитыми, но бессмертными строками:
То было осенью, когда лик твой, Освещенный луной…И вот, как в этой строфе, осенью, возвратясь в октябре месяце с пляжа Эрисейры, бедный Жозе Матиас увидел вечером на террасе дома «Виноградная лоза» освещенную луной Элизу Миранда. Вряд ли, друг мой, вам довелось встречать такой изысканный и обаятельный образ красавицы в стиле Ламартина. Высокая, статная и в то же время гибкая, достойная библейского сравнения – пальма на ветру. Волосы смоляные, густые, блестящие, расчесанные на прямой пробор и спускающиеся вдоль щек двумя волнистыми бандо. Кожа цвета только что распустившейся камелии. Глаза черные, влажные, кроткие и печальные, опушенные длинными ресницами. Ах, друг мой, даже я, столь усердно конспектировавший Гегеля, три дня восхищался ею после того дождливого вечера, когда увидел ее ожидающей карету у подъезда Сейшасов, и посвятил ей сонет! Не знаю, посвящал ли ей сонеты Жозе Матиас. Однако все мы очень скоро стали свидетелями сильной, глубокой и совершенной любви, вспыхнувшей в ту осеннюю ночь при свете луны в сердце, которое в Коимбре мы считали беличьим!
Вы хорошо понимаете, что такой сдержанный и скромный молодой человек не вздыхал открыто. Однако еще со времен Аристотеля известно, что любовь и дым не скроешь, а потому очень скоро любовь нашего скрытного Жозе Матиаса обнаружила себя: подобно легкому дыму, она начала просачиваться сквозь невидимые щели охваченного пожаром дома. Отлично помню, как, возвратившись из Алентежо, я навестил его в Арройосе. Был июльский воскресный день. Он собирался поужинать у своей двоюродной бабушки доны Мафалды Норонья, проживающей в Бенфике в поместье «Кедры», где по воскресным дням имели обыкновение ужинать Матос Миранда и божественная Элиза. Думаю, что она и Жозе Матиас только здесь, в этом доме, и встречались, особенно среди задумчивых тополевых аллей и укромных затененных уголков, легко предоставлявших им эту возможность. Окна комнаты Жозе Матиаса выходили как в сад Матиасов, так и в сад Миранды, и, когда я вошел, он спокойно заканчивал свой туалет. Никогда, друг мой, я не видел лица, излучающего такое безмятежное, такое неизменное счастье! Он улыбался вдохновенной, идущей из самых глубин души улыбкой, когда обнимал меня; улыбался еще приятнее, когда я ему рассказывал свои алентежские неприятности; и позже, восторженно, радуясь теплу и рассеянно разминая в руке сигару; улыбался все время, пока с особым тщанием выбирал в выдвижном ящике комода галстук белого шелка. И ежеминутно, сам того не замечая, как не замечаем мы, когда моргаем, трогательно-нежно поглядывал, на закрытые окна… Поймав этот счастливый взгляд, я тут же обнаружил предмет, которому он был адресован: на веранде дома «Виноградная лоза» спокойно прохаживалась божественная Элиза, в белом платье и белой шляпке, раздумчиво натягивая белые перчатки и тоже не оставляя без внимания окна моего друга, на которых косой луч солнца оставлял золотые блики. Жозе Матиас все время улыбался и, разговаривая со мной, чуть слышно произносил какие-то любезные и ни к чему не обязывающие слова. Внимание его теперь было сосредоточено на булавке, украшенной кораллом и жемчугом, которой он, стоя перед зеркалом, закалывал галстук, и на белом жилете, который он застегивал и одергивал с благочестием молодого священника, облачающегося впервые в столу и стихарь, перед тем как приблизиться к алтарю. Я никогда не видел, чтобы мужчина с таким наслаждением одевался и душил носовой платок одеколоном. А надев редингот и приколов к нему великолепную розу, он с явным волнением, но более не сдерживая радостного вздоха, подошел к окну и широко распахнул его. Introito ad altarem "Dearn [1] Я продолжал спокойно сидеть на софе. И, дорогой друг мой, – поверьте! – позавидовал этому недвижно стоящему у окна во власти своего возвышенного чувства молодому человеку, глаза, душа и все существо которого были устремлены туда, к ней, к одетой в белое женщине, натягивавшей светлые перчатки и абсолютно безразличной к окружающему ее миру, будто мир этот – всего лишь попираемый ее ногами булыжник мостовой.
И подобное поклонение, друг мой, исключительное целомудренное, бесплотное, длилось почти десять лет! Не смейтесь… Конечно, они встречались в поместье доны Мафалды и, должно быть, писали друг другу, и предостаточно, перебрасывая послания через разделявшую их сады стену, но никогда не искали удовольствия украдкой побеседовать возле этой поросшей плющом стены или удовольствия еще более совершенного – помолчать в укромной тени деревьев. И уж никогда не обменялись поцелуем… Не сомневайтесь! Самое большее, что они могли себе позволить, – это короткое и нежное рукопожатие под сенью зелени в поместье Мафалды. Мой друг не понимает, как столь тяжкому и столь мучительному запрету могли быть верны два слабых существа в течение десяти лет… Будем думать, что от греха их уберегло отсутствие потайной дверцы в стене или одного-единственного, но безопасного часа. Потом божественная Элиза уже привыкла к жизни в монастыре, запоры и решетки которого были созданы затворническим образом жизни диабетика и ипохондрика Матоса Миранды… А целомудренная, любовь Жозе Матиаса была полна нравственного благородства и сверхделикатного чувства. Любовь одухотворяет мужчину и спускает на землю женщину. И эта самая одухотворенность не была в тягость Жозе Матиасу, поскольку (хоть мы и не верили) он был спиритуалист от века. Однако и земная Элиза тоже нашла особое удовольствие в этом самозабвенном поклонении монаха, который даже не осмеливался прикоснуться трепетными и спутанными четками пальцами к одеянию непорочной девы. Он-то упивался своей неземной любовью, своим сверхчеловеческим обожанием. И десять лет, подобно Рюи-Блазу старика Гюго, жил, ослепленный своей лучезарной мечтой, мечтой, в которой его душа стала обиталищем души Элизы, а Элиза – частью самого Жозе Матиаса! И поверите ли, друг мой, что после того, как однажды вечером в поместье доны Мафалды он узнал, что Элизу раздражает сигарный дым, бросил курить и не курил, даже когда один верхом на лошади совершал прогулку по окрестностям Лиссабона.
И это постоянное невидимое присутствие боготворимого образа преобразило Жозе Матиаса и его манеру поведения, возможно, благодаря богатому воображению. Поскольку старый виконт де Гармилде обедая рано, – рано обедали в Португалии в старое доброе время – Жозе Матиас стал ужинать сразу после представления в Сан-Карлосе в отменном, но скучном ресторане «Центральный», где камбала казалась изжаренной на небесной кухне, а коларес на небесной кухне разлит в бутылки, причем всегда при ярко горящих свечах и с непременным букетом цветов. Почему? Да потому, что Элиза, воображаемая Элиза, незримо присутствовала, ужинала с ним за одним столом. Храня молчание, он все время учтиво, почти благоговейно улыбался. Почему? Да потому, что он все время слушал, что говорила Элиза! Еще я вспоминаю, как он сорвал со стен своей комнаты три классические гравюры, на которых были изображены дерзкие фавны и покорные нимфы… Элиза незримо царила и здесь, и он решил очистить стены и приказал обтянуть их светлым шелком. Любовь всегда расточительна, особенно такая идеальная любовь, и Жозе Матиас стал невероятно расточителен – а все ради нее, Элизы. Как мог он допустить, чтобы воображаемая Элиза ездила с ним в наемном экипаже или чтобы ее божественный образ садился в соломенное кресло в Сан-Карлосе! И вот он обзавелся собственным экипажем, скромным и чистым, абонировал ложу в Опере, где поставил для нее епископское кресло белого атласа, расшитое золотыми звездами.
Кроме того, как только Жозе Матиас узнал о щедрости Элизы, он, желая ей уподобиться, стал щедрым сверх всякой меры: ведь в Лиссабоне не было человека, который с подобной легкостью и радостью сорил направо и налево банкнотами в сто мильрейсов. Так из любви к этой женщине, которой ни разу в жизни так и не преподнес ни одного цветка, он промотал, и очень скоро, пятьдесят конто.
А что же Матос Миранда? О, мой друг, добрый Maтос Миранда ничего, абсолютно ничего не замечал: ни совершенства, ни безмятежности этого счастья! Но так ли уж был безразличен Жозе Матиас, интересуясь только душой Элизы, к ее внешней бренной оболочке, к се супружескому долгу, который она исполняла? Не знаю. Только достойный диабетик, грузный, всегда укутанный в шерстяное кашне темного цвета, с проседью в бакенбардах и массивными золотыми очками на носу, не производил впечатления пылкого мужа, чья страсть неизбежно и роковым образом захватывает и испепеляет, И все же я, философ, так и не понял того трогательно-нежного уважения, которое Жозе Матиас питал, тоже бескорыстно, к человеку, который по закону и по привычке мог любоваться Элизой и развязывать ленты ее нижней юбки!.. Возможно, Жозе Матиас подобным образом выражал свою признательность Миранде за то, что тот нашел эту божественную женщину па одной из захолустных улиц Сету бала (где Жозе Матиас никогда бы ее не приметил), дал ей комфорт, прекрасную еду изящную одежду и экипажи на мягких рессорах? А может, Жозе Матиасу было сделано столь банальное признание: «Я не твоя, но и не ого», которое так способствует самопожертвованию, потому что льстит самолюбию?… Не знаю. Но уверен: это великодушное небрежение к физическому присутствию Матоса Миранды в храме, где обитала богиня, придавало счастью Жозе Матиаса совершенство хрусталя, который, без царапин и пятен, одинаково прекрасно играет всеми своими гранями. И подобное счастье, мой друг, длилось десять лет… Недопустимая роскошь для смертного!
Но однажды земля под ногами Жозе Матиаса закачалась, ни с чем не сравнимый ужас потряс его. В январе или феврале 1871 года ослабевший диабетик Матос Миранда скончался от пневмонии. И по этим же самым улицам, тоже в еле двигавшемся наемном экипаже, я провожал его в последний путь. Похороны были пышные и многолюдные, с министрами, так как Миранда служил в общественных учреждениях. После похорон, воспользовавшись экипажем, я заехал к Жозе Матиасу в Арройос, руководствуясь отнюдь не праздным любопытством и, конечно же, не тем, что в столь исключительных обстоятельствах так уж необходима поддержка философии… У него в доме я встретил его близкого старого друга, выдающегося Николау да Барка, которого я тоже уже проводил на это же кладбище, где теперь покоятся под надгробными плитами многие из тех, с кем когда-то я строил воздушные замки… Николау, вызванный телеграммой Матиаса, еще утром приехал из Велозы – своего поместья под Сантареном. Когда я вошел, слуга деловито укладывал два больших чемодана. Жозе Матиас отбывал этим вечером в Порто. Он уже был в дорожном черном платье и желтых ботинках; пожав мне руку, он, пока Николау готовил грог, в смущении, вызванном отнюдь не волнением, не стыдливо скрываемой радостью по поводу неожиданного поворота судьбы, молча продолжал ходить пз угла в угол. Нет! Если только старик Дарвин не вводит нас в заблуждение своей книгой «Проявление эмоций», то Жозе Матиас в тот вечер чувствовал и проявлял смущение! А в доме напротив, в доме «Виноградная лоза», в этот печальный, серый вечер все окна были плотно зашторены. И все же я поймал брошенный Жозе Матиасом взгляд в сторону террасы, взгляд, полный мучительного беспокойства, тревоги, почти ужаса. Что можно сказать по поводу этого взгляда? То был быстрый взгляд, не уверенный в прочности клетки, в которой находилась взволнованная львица! И когда Жозе Матиас вышел в спальню, я шепнул Николау, хлопотавшему над грогом: «Он хорошо делает, что уезжает в Порто…» Николау пожал плечами: «Да, решил, что так будет деликатней… Я одобрил… Но только на время глубокого траура…» В семь часов вечера мы были на вокзале Санта-Аполония. Возвращаясь в двухместной коляске, но крыше которой беспрестанно барабанил дождь, мы философствовали. Я улыбался довольной улыбкой: «Год траура, а потом полное счастье и много детей… И поэма завершена!» Николау тут же серьезно заметил: «И завершена отменной, добротной прозой. В руках божественной Элизы ее божественная красота и состояние Матоса Миранды – десять пли двенадцать конто ренты… Первый раз ты и я можем видеть вознагражденную добродетель!»
Но, друг мой, прошли месяцы глубокого траура, за ними прошли другие, а Жозе Матиас продолжал жить в Порто. И вот в августе я встретил его в отеле «Франкфурт», в котором он, по всему было видно, прочно обосновавшись И все еще пребывая в меланхолии после потрясших его событий, жил, покуривая (он снова закурил), читая романы Жюля Верна и потягивая охлажденное пиво, и так каждый день с утра до вечера, приносящего приятную свежесть; вечером же он облачался во фрак, прыскался одеколоном и отправлялся обедать в Фос.
И несмотря на то что близился благословенный конец траура и досадная отсрочка счастья была па исходе, я не заметил в Жозе Матиасе ни деликатно скрываемого ликования, ни возмущения медленно идущим, словно прихрамывающий старик, временем… Наоборот! излучавшую уверенность улыбку, которая последние годы, точно блаженное сияние, не сходила с его губ, сменило чрезмерно серьезное, озабоченное выражение на вечно сумрачном лице, свидетельствовавшее о постоянно грызущих его мучительных и неразрешимых сомнениях. Хотите знать каких? Все то время, когда я жил в отеле «Франкфурт» и часто видел Жозе Матиаса, мне не переставало казаться что, когда он бодрствовал, сидя за кружкой пива или надевая перчатки, перед тем как сесть в коляску, которая везла его в Фос, он с тоской вопрошал свою совесть? «Что же я должен делать? Что должен делать?» И однажды утром за завтраком буквально напугал меня, когда раскрыв газету, в ужасе воскликнул, сделавшись красным от прихлынувшей крови: «Как? Сегодня уже двадцать девятое августа?! Святый боже… Уже конец августа!..»: Я вернулся в Лиссабон. Зима стояла сухая и холодная. Я трудился над «Истоками утилитаризма». И вот в одно из воскресений, когда на Росио в табачных лавках начинают продавать гвоздики, я вдруг увидел божественную Элизу в двухместной коляске. Голову ее украшала шляпа с фиолетовыми перьями. На той же неделе я прочел в «Иллюстрированном дневнике новостей» маленькую, можно сказать, стыдливую заметку о бракосочетании сеньоры доны Элизы Миранда… С кем бы вы думали, друг мой? С известным землевладельцем сеньором Франсиско Торресом Ногейрой!..
Друг мой, вы сжали кулак и со злостью ударили себя по колену. Я тоже тогда сжал кулаки, но для того, чтобы, воздев их к небу, где судят дела земные, и рыча, протестовать против лживости, вероломного и изощренного непостоянства, предательской подлости всех женщин вообще и особенно Элизы, самой бесчестной среди прочих «Предать так скоро, так поспешно, едва кончился траур по мужу, такого достойного, чистого и духовно богатого человека, как Жозе Матиас! Он-то ведь любил смиренно, возвышенно все десять лет?!
Потом я опустил кулаки и схватился за голову, громко причитая: «Но почему? Почему? Возможно ли, чтобы причиной тому была любовь? Ведь в течение десяти лет она восторженно любила Жозе Матиаса, любила любовью, которая не могла ни разочаровать, ни пресытить, так как была платонической и неудовлетворенной, Иди это честолюбие? Но Торрес Ногейра не был приятнее Жозе Матиаса, к тому же его состояние, вложенное в доходнее дело – в виноградники, составляло те же пятьдесят или шестьдесят конто, которые Жозе Матиас получил, наследуя прекрасные и пустующие земли дяди Гармилде. Тогда почему же? По всей вероятности, черные усы Торреса Ногейры ей пришлись по вкусу больше, чем светлые меланхолические усы Жозе Матиаса». Да! Сколь справедлив был святой Иоанн Златоуст, когда учил, что женщина – это сосуд нечистот, подвешенный к вратам ада.
Итак, друг мой, продолжая подобным образом возмущаться, я как-то вечером на улице Алекрин встречаю нашего общего друга Николау да Барка. Он выскакивает из наемного экипажа, вталкивает меня в подъезд, в возбуждении хватает за руку и, захлебываясь, выпаливает: «Уже знаешь? Ведь это Жозе Матиас отверг ее! Она писала, приезжала в Порто, плакала… Он не согласился даже Повидаться с ней! Не хотел жениться, не хочет жениться!» Я был огорошен. «И 'тогда она…» – «Безутешная бедняжечка, настойчиво осаждаемая Торресом, уставшая от вдовства, пришедшего к ней в расцвете прекрасных тридцати годов (какого черта!), вышла замуж». Я воздел руки к сводчатому потолку вестибюля. «Ну а как же возвышенная любовь Жозе Матиаса?» Близкий друг Николау, посвященный в его тайны, поклялся с неоспоримой убежденностью: «Как и прежде, все так же! Безгранична, совершенна… Но жениться он не хочет!»
Мы посмотрели друг на друга, потом, пожав плечами, расстались, с изумлением и покорностью, свойственной благоразумным умам, приняв это явление за непознаваемое. Но поскольку я философ, а следовательно, не так уж благоразумен, то всю ночь напролет пытался самозатачивающимся острием психологии вскрыть причины поступка Жозе Матиаса и уже под утро, изрядно утомленный, пришел к выводу (философствуя, всегда приходишь к выводам), что я столкнулся с первопричиной, постичь которую невозможно и о которую без всякой пользы для меня, для него и для кого бы то ни было сломается острие моего инструмента.
А божественная Элиза, вступив в брак, по-прежнему жила в доме «Виноградная лоза», но с новым супругом Торресом Ногейрой, жила так же спокойно и с тем же комфортом, с каким прежде со своим старым супругом Матосом Мирандой. В середине лета Жозе Матиас переехал из Порто в Арройос, в дом дяди Гармилде, где занял те же комнаты, что и раньше, с окнами, выходящими в сад, в котором вовсю цвели георгины, по за которыми теперь уже никто не ухаживал. Подошел август, как обычно теплый и тихий в Лиссабоне. По воскресеньям Жозе Матиао и дона Мафалда де Норонья, как и прежде, обедали в Бенфике, но одни, потому что Торресу Ногейре неизвестна была эта уважаемая сеньора из поместья «Кедры». Вечерами божественная Элиза, одетая в белое, как и прежде, гуляла в саду меж клумбами роз. Так что в этом милом сердцу уголке Арройоса вроде бы ничто и не изменилось, разве что Матос Мпранда лежал в великолепном склепе из белого мрамора на кладбище «Безмятежность», а Торрес Ногейра – в постели прелестной Элизы.
Меж тем какая ужасная и прискорбная перемена произошла с Жозе Матиасом! Вы, мой друг, даже не можете себе представить, как мучительно этот несчастный проводил свои дни, мало чем примечательные, но невероятно изнуряющие. Все его существо: глаза, душа, мысли были обращены к террасе и дому «Виноградная лоза». Правда, теперь все было иначе: окна не были распахнуты, откровенный экстаз и блаженная улыбка исчезли. Прячась за плотно зашторенными окнами, бесконечно печальный и осознавший свое поражение, Жозе Матиас, как вор, подглядывал в узкую щелочку за Элизой, полный внимания к каждой морщинке на ее белом платье. Понятно ли, почему так страдало это несчастное сердце? Ну конечно же, вы решили, что причиной была поспешность Элизы, которая тотчас же, без борьбы и колебаний, как только Жозе Матиас отверг ее, бросилась в распростертые объятия Торреса Ногейры… Нет, друг мой, ничего подобного! Обратите внимание, сколь было утонченно страдание Жозе Матиаса. Ведь он пребывал в непоколебимой уверенности, что Элиза в глубине души своей, в этом кладезе добродетели, куда заказан вход рассудочности и расчету, заносчивой гордыне, вожделению плоти, любила его, его одного, и такой любовью, которая не угасает, не перерождается, а цветет в полную силу, даже без полива и ухода, как древняя мистическая роза. А терзало его, друг мой, и за короткий срок избороздило морщинами лицо то, что грубый мужчина, самец завладел этой женщиной, душа которой принадлежит ему одному, и то, что этот самец по закону и с благословения церкви прикасался своими жесткими черными усами, и довольно часто, к божественным устам Элизы, к которым он, Жозе Матиас, никогда бы не осмелился прикоснуться из суеверного благоговения и почти ужаса, испытываемого перед божеством. Как объяснить все это?… Видите ли, чувства этого удивительного Жозе Матиаса были похожи на чувства монаха, в исступленном восторге преклонившего колени перед образом святой девы, а тут какое-то грубое животное кощунственно влезло на алтарь и сладострастно приподняло ее одеяние! Мой друг улыбается… А как же Матос Миранда? Ах, мой друг, так ведь Матос Миранда был диабетик, тяжелый и тучный диабетик, и он задолго до того, как Жозе Матиас узнал Элизу и отдал ей на веки вечные сердце и жизнь, поселился в доме «Виноградная лоза», страдая ожирением и сахарной болезнью. А Торрес Ногейра бесцеремонно вторгся, затмил чистую любовь Жозе Матиаса пышными черными усами и грубыми руками мясника, как пикадор, сразил эту женщину, которая, возможно, и не знала, что такое мужчина.
Но – черт возьми! – он же сам отверг ее, когда она предлагала себя в порыве чистого и благородного чувства, которое никакое презрение не могло ни запятнать, ни унизить. Что же теперь? Вот в этом-то и состоит ужасающая усложненность натуры Жозе Матиаса. Ведь он забыл, решительно забыл, и спустя всего несколько месяцев, еще будучи в Порто, – время и расстояние преображают действительность и разгоняют печаль – свой оскорбительный отказ, словно то было простое несходство материальных или общественных интересов. И вот теперь в Лиссабоне, видя из своих окон окна Элизы, видя розарии обоих сливающихся в вечерней мгле садов, он испытывал боль, подлинную боль, твердо веря в то, что он любил ее, любил возвышенной любовью, почитая за звезду земную среди равных ей небесных звезд, и поклонялся ей, а этот грубый мужлан с черными усами похитил ее с небосвода лишь затем, чтобы бросить в грязь!
Сложный случай, не так ли, друг мой? Ах, сколько же я как философ раздумывал над всем этим! И пришел к заключению, что Жозе Матиас был болен гипертрофированным спиритуализмом, сильнейшим воспалением, вызванным инфекцией спиритуализма, которому абсолютно противопоказана материальность брака: ночные туфли, влажность кожи после утреннего пробуждения, безобразно огромный живот в течение шести месяцев, плачущие в пеленках дети… И теперь Жозе Матиас ревел от ярости и пытки, потому что некий материалистище поспешил взять Элизу прямо в шерстяной ночной сорочке. Не слабоумный ли? Нет, мой друг! Сверхромантик, невероятно далекий от жизни человек, который даже не подозревал, что домашние туфли, мокрые детские пеленки – самые красивые вещи в доме, где светит солнце и греет любовь.
И знаете, мой друг, что сделало эту пытку совсем непереносимой? То, что бедная Элиза выказывала по отношению к нему все ту же любовь! Ну, как вам это нравится?! Ад, так ведь?… И даже если Элиза и не испытывала той безупречной любви, такой же сильной и исключительной, как в былые годы, то необоримое любопытство к Жозе Матиасу она сохранила и не стыдилась его проявлять. А может, то было неизбежно, ведь сады соседствовали?! Не знаю! Но с сентября, как только Торрес Ногейра отбыл в Каркавелос на своп виноградники, чтобы самолично присутствовать при сборе винограда, Элиза вновь со своей террасы через кусты роз и лилий стала посылать Жозе Матиасу те же ласковые взгляды, которые в течение десяти лет заставляли сердце Жозе Матиаса трепетать от восторга.
Не думаю, чтобы они обменивались посланиями, перебрасывая их через стену сада, как бывало во времена отеческого правления Матоса Миранды… Новый повелитель, крепкий, здоровый мужчина с черными усищами, даже издалека, с виноградников Каркавелоса, обязывал божественную Элизу вести себя достойно и благоразумно. Да и умиротворенная сильным и молодым супругом, она теперь испытывала меньшую потребность в тайном свидании под покровом теплой ночи, хотя при нравственной безупречности Элизы и непреклонном спиритуализме Жозе Матиаса могла быть дозволена и приставная лестница… К тому же Элиза, будучи глубоко порядочной, относилась к своему телу, как к святыне, отдавая себе отчет в том, сколь усердно потрудился господь, чтобы сделать его таким прекрасным. Что же касается души… Кто знает?… Возможно, обожаемая Жозе Матиасом Элиза принадлежала к тому же прелестному типу женщин, что и всем известная итальянская маркиза Джулия Мальфиери, к услугам которой были сразу два возлюбленных: один поэт – для романтических услад души, другой кучер – для естественных грубых потребностей.
В конце концов, не будем больше, друг мой, анализировать психологию поведения этой здравствующей и поныне женщины, следуя за гробом того, кто скончался от любви к ней! Важно, что Элиза и ее друг, не отдавая себе в том отчета, вновь вступили в совершенный брак благодаря соседству их садов, цветущих пышным цветом. И в октябре, поскольку Торрес Ногейра все еще пребывал в Каркавелосе на сборе винограда, Жозе Матиас с восторгом снова широко распахнул окна своей комнаты, чтобы лицезреть божественную Элизу на террасе ее дома!
Казалось бы, что, обретя вновь совершенство прежней любви, такой крайний спиритуалист должен был бы обрести вновь и прежнюю полноту счастья – ведь он царил безраздельно в бессмертной душе Элизы и ему должно было быть безразлично, что кто-то другой владел ее смертной оболочкой? Но нет! Исполненный тоски, бедный молодой человек тяжело страдал. И, стараясь избыть это страдание, эту мучительную пытку, он, всегда такой безмятежно-спокойный, с такими изысканными и хорошими манерами, вдруг сделался одержимым. Ах, друг мой, в каком вихре и водовороте он закрутится! За один год он потряс, поразил, возмутил весь Лиссабон! Его фантастические сумасбродства того времени стали легендой… Вам знакома эта история с ужином? Ужином, который он устроил для тридцати или сорока самых что ни на есть непотребных и грязных девок, подобранных им в темных переулках Байро-Алто и в Моурарии? На «десерт» он приказал подать ослов и, посадив на них всех дам до единой, серьезный и бесконечно печальный, сидя на белой лошади п держа хлыст в руке, возглавил кавалькаду, направлявшуюся па холмы Милосердия приветствовать восход солнца!
Однако все творимые им безрассудства не смогли заглушить тоску, п той зимой он стал шгть и играть в рулетку. Целый день он проводил дома в уединении, глазами и душой прикованный к роковой террасе (естественно, что окна его комнаты были закрыты, ведь Торрес Ногейра вернулся с виноградников), а вечером, когда свет в окнах Элизы гас, он брал наемный экипаж, всегда только у Гаго, и отправлялся сначала в игорный дом, к Браво, потом в Дворянский клуб, где до самого позднего часа исступленно играл в рулетку, а совсем за полночь ужинал в отдельном кабинете ресторана всегда при большом количестве зажженных свечей и с льющимся рекой шампанским и коньяком.
И эта жизнь, раздираемая подобными страстями, длилась семь долгих лет! Все земли, что оставил ему в наследство дядя Гармнлде, были пропиты или проиграны, уцелел только особняк в Арройосе да деньги, отданные под проценты. Но вдруг Жозе Матиас исчез из всех игорных и питейных притонов. Мы узнали, что Торрес Ногейра умирает от водянки!
Как раз в это время я собрался навестить Жозе Матиаса, а тут еще мне телеграфировал встревоженный Николау да Барка из своего сантаренского поместья относительно одного касающегося Жозе Матиаса дела (путаного дела, связанного с векселем), и я теплым апрельским вечером, около десяти часов, прибыл в Арройос. Слуга провожая меня по слабо освещенному коридору, из которого теперь исчезла украшавшая его резьба и лари привезенные старым Гармилде из Индии, доверительно сообщил, что его милость еще изволят обедать… Не могу без содрогания вспомнить тяжкое впечатление, которое произвел на меня несчастный. Это происходило в комнате, окна которой выходили и в сад Матиаса, и в сад Элизы. Перед окном, плотно зашторенным штофным шелком, стоял освещенный двумя канделябрами стол, на котором красовалась корзина белых роз и фамильное серебро Гармилде, а поодаль, развалясь в кресле, в расстегнутом белом жилете, с мертвенно-бледным лицом, склоненным на грудь, и пустым бокалом в безжизненной руке полулежал Жозе Матиас, то ли задремавший, то ли умерший.
Когда я тронул его за плечо, он испуганно вскинул голову: «Который час?» Волосы его были растрепаны. И хотя я, приняв веселый вид, кричал, стараясь его пробудить, что уже вечер, десять часов, он, не обращая на меня внимания, поспешно наполнил бокал белым вином из стоящего рядом графина и медленно осушил его, держа дрожащей рукой… Потом, откинув упавшие на потный лоб волосы, спросил: «Что нового?» Глаза его сами закрывались, он мало что понимал из того, что я ему говорил, включая и уведомление, которое просил ему передать Николау. Наконец, улыбнувшись, он придвинул к себе шампанское и, подняв его вместе с ведерком, наполненным льдом, налил полный бокал, тихо говоря: «Жара… жажда». Но не выпил. С трудом оторвав свое отяжелевшее тело от кресла, он неуверенным шагом пошел к окну, с силой отдернул занавеску и распахнул его… И застыл на месте, точно завороженный тишиной и несказанным покоем звездной ночи. Я следил за ним. В доме напротив два ярко освещенных окна были приоткрыты. И лившийся из них яркий свет, проникая в длинные складки светлого домашнего платья, окутывал неподвижно стоявшую, словно в оцепенении, фигуру. То была Элиза, друг мой! Позади нее, в глубине освещенной комнаты, тяжело дышал, мучась водянкой, ее супруг. Она же неподвижно стояла, спокойно посылая ласковый взгляд, а может быть, и улыбку своему нежному другу. Несчастный Жозе Матиас затаив дыхание созерцал осчастливившее его видение. А цветы их садов благоухав ли в мягкой, теплой ночи. Вдруг Элиза поспешно скрылась – должно быть, отозвавшись на стон или нетерпеливый зов бедного Торреса. Окно тотчас же закрылось, свет погас, и дом «Виноградная лоза» погрузился в темноту.
Тут Жозе Матиас, испустив душераздирающий вопль, вызванный переполнившим его душу страданием, пошатнулся и, схватившись за занавеску, разорвал ее, беспомощно упав мне на руки, которые я протянул и на которых дотащил его, то ли мертвого, то ли пьяного, до стула. Однако минутой позже этот столь необычный человек, к моему величайшему изумлению, открыл глаза, чуть заметно улыбнулся и удивительно безмятежно прошептал: «Жарко… как жарко! Не угодно ли чаю?»
Я отказался и поспешно удалился, а он тем временем, безразличный к моему бегству, развалясь в кресле, дрожащими руками взял большую сигару и поднес ко рту.
Святый боже! Мы уже в Санта-Изабел! Как быстро эта дорога привела останки бедного Жозе Матиаса на поживу червям. Итак, друг мой, после той примечательной ночи Торрес Ногейра умер. Божественная Элиза на время нового траура удалилась в поместье своей тоже вдовствующей золовки в Корте-Морейра, совсем рядом о Бежой. А Жозе Матиас исчез, испарился, так что я ne имел о нем никаких, даже самых сомнительных, новостей, к тому же его близкий друг Николау да Барка, от которого я все же мог бы их получить, вынужден был удалиться от общества, отбыв на Мадейру с последним оставшимся у него кусочком легкого без всякой надежды на излечение от туберкулеза.
Весь год я посвятил своему «Очерку об эмоциональных явлениях». И вот как-то в начале лета, спускаясь по улице Сан-Бенто и глядя вверх, в поисках дома за номером 214, в котором находилась книжная лавка старшего сына Аземела, я обнаружил на одном из балконов нового углового дома – кого бы вы думали? – божественную Элизу! Она просовывала листья латука в клетку с канарейкой. До чего же красива, друг мой! Чуть-чуть пополневшая, но еще стройная зрелая женщина в самом соку и все такая же соблазнительная, несмотря на только что отпразднованные сорок два года! Да, эта женщина, без сомнения, была сродни Елене Прекрасной, которая и в свои сорок лет после осады Трои все еще ослепляла своей красотой как простых смертных, так и богов. И – любопытная случайность! – в этот же вечер я узнал от Секо, Жоана Секо, что служил в библиотеке и составлял каталог книг у Азомела, новую историю этой Елены Прекрасной.
Божественная Элиза теперь имела любовника… Но только потому, что ее высокая порядочность не позволяла ей иметь третьего законного мужа. Молодой счастливчик, которому она отдала свое сердце, был женат… Женат на проживавшей в Беже испанке, которая на исходе первого года законной любви после нескольких лет ухаживаний уехала в Севилью провести святую неделю, как того требовала ее набожность, и там совсем случайно задремала на руках богатого скотовода. Ее супруг, скромный табельщик общественных работ, оказавшись свободным, продолжал жить в Беже и преподавать рисунок… И вот одной из его учениц оказалась дочь золовки Элизы – хозяйки поместья Корте-Морейра. Здесь-то, в этом поместье, Элиза и увидела его, когда однажды он обучал свою ученицу растушевке, и влюбилась, да так скоропалительно и страстно, что немедленно сняла его с работы и увезла в Лиссабон, где их недозволенное счастье могло найти надежное укрытие и не быть назойливым для постороннего глаза. Жоан Секо как раз был родом из Бежи, где всегда проводил рождественские дни; он хорошо знал табельщика и владелиц поместья Корте-Морейра, а потому тотчас же догадался о романе, когда из окон дома номер 214, в котором находилась книжная лавка и где он составлял каталог, увидел на угловом балконе Элизу и стоявшего в дверях принаряженного табельщика в светлых перчатках, вид которого говорил о бесконечно больших успехах этого молодого человека на поприще частных работ, чем на поприще общественных.
Я тоже имел счастье увидеть табельщика все из того же окна дома номер 214. Красивый, крепко сложенный молодой темнобородый блондин имел все внешние данные, а может, и внутренние, для того чтобы занять место в овдовевшем сердце, а следовательно, «свободном», как говорится в Библии. Я довольно часто бывал в доме номер 214, так как меня заинтересовал каталог книжной лавки Аземела – тот по иронии судьбы получил в наследство несравненную коллекцию трудов философов XVIII века. И вот несколько недель спустя как-то вечером (Жоан Секо работал вечерами), выходя из книжной лавки и задержавшись у открытой двери подъезда, чтобы закурить сигару, я заметил при слабом свете спички ррячущуюся во тьме фигуру Жозе Матиаса! Но, друг мой, что это была за фигура! Чтобы разглядеть его внимательнее, я еще раз чиркнул спичкой. Бедный Жозе Матиас! Он оброс бородой, жидкой, грязной, смахивавшей на пожелтевший хлопок. Оброс волосами, слипшиеся пряди которых висели из-под попошенной шляпы, усох, стал меньше ростом и тонул в замызганном меланжевом сюртуке и темных брюках с огромными карманами, в которых он прятал свои рукп. От охватившей меня жалости я с трудом выдавпл: «Вот так встреча! Вы! Что случилось?» И он со свойственной ему учтивостью я мягкостью, но довольно сухо, чтобы поскорее от меня избавиться, сказал осипшим от водки голосом: «Я жду одного человека». Я не стал продолжать разговор и пошел прочь. Потом, пройдя несколько шагов, я обернулся, чтобы удостовериться в том, что мгновенно пришло мне в голову, как только я его увидел, – этот темный подъезд находился как раз напротив нового местожительства и балкона Элизы!
И вот так, прячась в подъезде, Жозе Матиас прожил еще три года!
Этот подъезд был одним из тех подъездов старого Лиссабона, где никогда не было привратника, они всегда открыты, всегда грязны – сточная канава, откуда никто не гонит тех, кто скрывается здесь от нищеты и горя. Рядом находился бар. Каждый вечер с наступлением темноты Жозе Матиас спускался по улице Сан-Бенто, прижимаясь к стенам домов, и, как тень, исчезал в сумраке подъезда. В этот час окна Элизы ярко светились; правда, зимой они запотевали, но зато летом, открытые настежь, предоставляли ветру возможность беспрепятственно залетать в комнаты. И вот, засунув руки в карманы, Жозе Матиас часами простаивал здесь, любуясь их светом. Каждые полчаса он отлучался в бар, но так, чтобы никто того не заметил. Бокал вина, стопка водки – опять чернота подъезда скрывала его, давая ему приют и восторженную радость. Когда же в окнах Элизы задолго до глубокой ночи, даже зимой, – зимой дни и без того коротки, – гас свет, он ежился от холода, дрожал и, постукивая дырявыми подметками по каменным плитам подъезда или сидя па ступеньках лестницы и щуря мутные глаза, глядел на чернеющий фасад дома, в котором она спала с другим!
Поначалу, закуривая сигарету, Жозе Матиас поспешно поднимался на первую лестничную площадку, чтобы не видно было огня, который мог бы разоблачить ого и его укрытие. Но потом, друг мой, он курил сигарету за сигаретой, не отходя от дверного косяка, и старался затягиваться так, чтобы огонек освещал его, Жозе Матиаса! И вы понимаете почему?… Да потому, что Элпза уже знала что в подъезде' напротив, самозабвенно поклоняясь ее окнам, простаивает дни и ночи ее бедный Жозе Матиас!..
И поверите ли, друг мой, что и Элиза каждый вечер неподвижно стояла или у закрытого окна, или опершись на решетку балкона (табельщик в ночных туфлях, растянувшись на софе, читал «Вечернюю газету») и пристально всматривалась в черноту подъезда, молча посылая безутешному, поклоннику свой взгляд и улыбку, как посылала прежде поверх роз и георгинов со своей террасы в Арройосе. Потрясенный Жозе Матиас знал это. И теперь, не выпуская изо рта сигареты, чтобы она своим огоньком, как маяк, указывала путь возлюбленным глазам его Элизы, он без слов говорил ей, что он, ее преданный и верный друг, здесь, на своем посту.
При свете дня он никогда не показывался на улице Сан-Бенто. Да и как он, в этом продранном на локтях пиджаке и стоптанных башмаках, мог себе такое позволить? А все это потому, что тот молодой человек с утонченным и строгим вкусом, которого когда-то знала Элиза Миранда, теперь впал в нищету и носил лохмотья. Где же добывал он каждый день три патако на вино и кусок трески в баре? Не знаю… Однако восславим божественную Элизу, мой друг! Как деликатно, как изощренно и какими сложными путями она, богатая, старалась поддержать нищего Жозе Матиаса! Весьма пикантная ситуация, не так ли? Благодарная сеньора оплачивала содержание двух мужчин – возлюбленного плоти и возлюбленного души! Между тем Жозе Матиас все-таки дознался, от кого получал милостыню, и отказался, не бунтуя, не стеная от уязвленной гордости, даже растроганно, даже уронив слезу из-под век, воспалившихся от водки.
Когда же темнело, Жозе Матиас смело спускался по улице Сан-Бенто и входил в свой подъезд. И как же, друг мой, вы думаете, проводил все остальное время дня Жозе Матиас? Он выслеживал, преследовал бывшего табельщика общественных работ, разузнавал о нем все до мельчайших подробностей! Да, друг мой! Невероятное, исступленное, потрясающее любопытство к мужчине, которого избрала сама Элиза!.. Оба предыдущих, Миранда и Ногейра, вошли в ее альков гласно, через церковные двери, имея кроме любви определенные намерения – создать семью, домашний очаг, возможно, надеясь иметь детей, заслуженный покой и твердое положение в жизни. Но этот был возлюбленным, только возлюбленным, и она содержала его, чтобы быть любимой; да, этот союз покоился лишь на одном основании: два тела стремились соединиться. И Жозе Матиас никак не мог утолить свою жажду узнать все, что касается этого человека, которому Элиза отдала предпочтение, избрав именно его в тысячной толпе мужчин; он внимательно изучал его манеру держаться, внешний вид, одежду. Соблюдая правила приличия, табельщик жил на другом конце улицы Сан-Бенто, около рынка. А эта часть города для оборванца Жозе Матиаса, которого здесь не могли настигнуть глаза Элизы, была как раз постоянным местом пребывания: здесь он свободно, не скрываясь, мог наблюдать за тем, кто, храня тепло ее алькова, ранним утром возвращался к себе домой. Потом он не спускал с него глаз весь день и осторожно, как вор, следовал за ним на почтительном расстоянии. И все же есть у меня одно подозрение, что вел себя подобным образом Жозе Матиас не из праздного любопытства, а лишь желая удостовериться, что, несмотря на все соблазны Лиссабона, и весьма серьезные для простого табельщика из Бежи, тот хранил верность Элизе. Жозе Матиас считал, что оберегает ее счастье, следит за возлюбленным женщины, которую любил.
Сколь совершенен спиритуализм и сколь велика преданность спиритуалиста, друг мой! Душа Элизы безраздельно принадлежала Жозе Матиасу, и он ей поклонялся, но ему хотелось, чтобы и телу Элизы тот, кому она его вручила, поклонялся не менее преданно. Но табельщик был верен такой красивой и такой богатой женщине, одетой в шелка и бриллианты, которые его ослепляли. И кто знает, друг мой, может, как раз эта его верность, это его плотское поклонение Элизе и было последним счастьем, которое испытал в своей жизни Жозе Матиас. Я склонен думать именно так, потому что прошлой зимой в одно дождливое утро я встретил табельщика около цветочницы на улице Золота, он покупал камелии. А на противоположном углу стоял исхудалый, весь в лохмотьях Жозе Матиас и, наблюдая за ним, нежно, почти с благодарностью улыбался! И очень может быть, что этой же ночью, дрожа от холода в подъезде и постукивая промокшими ботинками, он, глядя на темные окна, думал: «Бедняжка Элиза. Она должна быть довольна, что он принес ей цветы!»
Так продолжалось три года.
И вот, мой друг, позавчера вечером запыхавшийся Жоан Секо появился в моем доме: «Только что на носилках отнесли в больницу Жозе Матиаса – воспаление легких!»
Кажется, его нашли утром; он лежал на каменном полу, под своим длинным пиджаком, и тяжело дышал; мертвенно-бледное лицо было обращено в сторону балкона Элизы. Я побежал в больницу. Умер… Я вошел вместе с врачом в палату. Приподнял покрывавшую его простыню. У ворота грязной и рваной рубашки на шейном шнурке висел такой же грязный шелковый мешочек. Без сомнения, там лежал цветок, волосы или кусок кружев Элизы – память первого очарования и вечеров, проведенных в Бенфике… Я спросил врача: «Тяжелы ли были его мучения, приходил ли он в сознание, просил ли чего-нибудь?» – «Нет! У него было коматозное состояние, потом он широко раскрыл глаза, в ужасе произнес «ох!» и скончался».
Были ли то испытываемые одновременно страх и ужас перед смертью или крик души? А может быть, ее триумф, признание себя бессмертной и свободной? Вам, мой друг, это неведомо так же, как неведомо было Платону и не будет ведомо последнему философу накануне конца света.
Вот мы и прибыли на кладбище. Думаю, что долг наш взяться за кисти гроба. Действительно, весьма странен этот Алвес Мерин; сопровождая нашего бедного спиритуалиста, он всю дорогу был необычайно печален. Но святый боже! Посмотрите. У входа в церковь стоит человек в светлом пальто. Это же учетчик! Он держит большой букет фиалок. Элиза, Элиза послала возлюбленного своего тела на похороны возлюбленного своей души, чтобы убрать усопшего цветами. Но, друг мой, навряд ли Элиза попросила бы Жозе Матиаса о подобной услуге, если бы богу душу отдал учетчик, А все потому, что Материя, даже не отдавая себе в том отчета и не извлекая выгоды, будет поклоняться Духу, в то время как по отношению к себе самой всегда будет грубо материальной и безразличной. Да, друг мой, великое утешение этот учетчик с букетом цветов для метафизика, который, как и я, толковал Спинозу и Мальбранша, реабилитировал Фихте и доказал более чем убедительно иллюзию ощущений. Только ради этого необходимо было проводить в последний путь столь непонятного Жозе Матиаса, который, весьма возможно, был значительно больше, чем мужчина, или совсем им не был…
– Действительно, прохладно… Но вечер все-таки дивный.
Примечания
1
Подойду я к алтарю богини! (лат.) – Перифраз из псалма 42 Давида.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
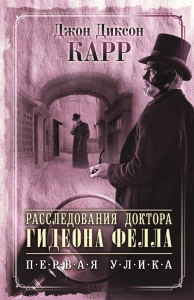
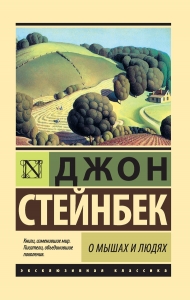



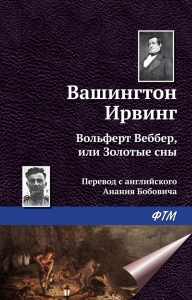

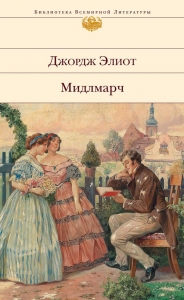

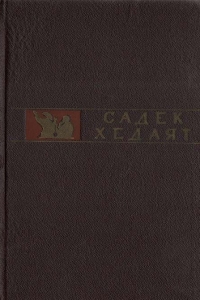

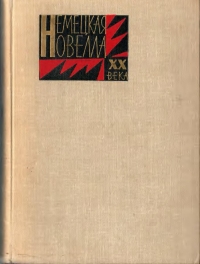
Комментарии к книге «Жозе Матиас», Жозе Мария Эса де Кейрош
Всего 0 комментариев