Повторение и воспоминание – одно и то же движение, только в противоположных направлениях: воспоминание обращает человека вспять, вынуждает его повторять то, что было, в обратном порядке, – подлинное же повторение заставляет человека, вспоминая, предвосхищать то, что будет.
Серен Кьеркегор «Gjentagelsen»[1]А потому не нужно уличать меня в мелких ошибках или несоответствиях. Это отчет об объективной реальности, а не о какой-то там – так называемой исторической правде.
А. Р.-Г.Пролог
Итак, пора продолжить и подвести итоги. Во время той бесконечной поездки по железной дороге, мимо руин Тюрингии и Саксонии, из Айзенаха в Берлин, я впервые за очень многие годы вновь увидел этого человека, которого я для простоты назову своим двойником или близнецом или же, менее театрально, своим спутником.
Поезд шел в неровном, сбивчивом ритме и часто останавливался, иной раз прямо в чистом поле, что, разумеется, было вызвано не только состоянием рельсов, кое-где еще поврежденных или наскоро восстановленных, но и таинственными проверками, которые то и дело устраивала советская военная администрация. На какой-то большой станции, возможно, на Halle-Hauptbahnhof[2] (впрочем, таблички с такой надписью я не видел) поезд стоял так долго, что я решил выйти и размять ноги на перроне. Казалось, здания на вокзале были на три четверти разрушены, как и весь городской квартал, расположенный чуть ниже и простиравшийся по левую руку.
В синеватом зимнем свете с разных этажей в кошмарном безмолвии тянулись в однообразное серое небо высокие обломки стен с хрупкими острыми выступами. Не знаю почему, возможно, из-за инея, который еще не успел растаять после студеного утреннего тумана, стоявшего здесь дольше, чем обычно, края этих тонких, выстроившихся ровными рядами силуэтов сверкали, источая обманчивый блеск поддельных драгоценностей. Можно было принять все это за сюрреалистическую картину (что-то вроде провала в обычном пространстве), от такого зрелища почему-то захватывает дух.
Когда открывается вид на транспортную магистраль и на те кварталы, где здания разрушены почти до основания, выясняется, что проезжая часть полностью убрана и расчищена, что весь щебень, очевидно, вывезли на грузовиках, а не сгребли на обочину, как мне доводилось видеть в моем родном Бресте. Только кое-где, выбиваясь из ряда руин, торчит гигантская глыба уцелевшей кирпичной кладки, словно стержень греческой колонны на месте раскопок. Все улицы пусты – ни автомобилей, ни пешеходов.
Я не знал, что Галле так сильно пострадал от английских и американских бомбардировок, что даже спустя четыре года после заключения мира, на столь обширном пространстве никто и не пытался ничего восстановить. Возможно, это был вовсе не Галле, а какой-то другой большой город? Я не очень хорошо знаком с этой местностью, поскольку прежде (но когда и как часто?) ездил в Берлин обычным поездом Париж-Варшава, а это гораздо дальше на север. К тому же у меня нет с собой карты, но мне сложно вообразить, что из-за превратностей железнодорожного сообщения нас сейчас занесло за Эрфурт и Веймар в Лейпциг, который расположен на Востоке и на другой ветке.
В этот момент, посреди моих дремотных размышлений, поезд, наконец, безо всякого предупреждения тронулся, но, к счастью, так медленно, что я без труда настиг свой вагон и забрался вовнутрь. Тут я с удивлением заметил, что состав был необычайно длинным. Может быть, к нему прицепили вагоны? Но где? Как и в вымершем городе, на перроне не было ни души, словно последние жители сели на поезд, чтобы убраться отсюда подальше.
С этим резко контрастировало то, что толпа в коридоре вагона была теперь намного плотнее, чем в момент прибытия на вокзал, и я изрядно намучился, протискиваясь между людьми, казалось, непомерно толстыми под стать их раздутым чемоданам и всевозможным котомкам, которыми был завален весь пол, – бесформенным, похоже, собранным на скорую руку и кое-как перевязанным в большой спешке. Пока я с трудом продвигался вперед, мужчины и женщины с усталыми хмурыми лицами провожали меня немного неодобрительными, возможно, даже враждебными, во всяком случае, несмотря на мою улыбку, недружелюбными взглядами… Быть может, этих бедных, явно измученных лишениями людей просто шокировало мое неожиданное появление, моя добротная одежда, извинения, которые я на ходу бормотал на школьном немецком, выдающем во мне чужака.
Я снова стал пробираться к своему купе, испытывая смущение от того, что я невольно доставлял им дополнительные неудобства, но не нашел его, и, добравшись до конца коридора, вынужден был развернуться и двинуться обратно в направлении головы поезда. На этот раз доселе безмолвное недовольство нашло выражение в ворчании и отдельных негодующих возгласах на саксонском диалекте, причем сами слова, равно как и их предполагаемое значение, я по большей части так и не понял. Заглянув в проем раскрытой двери купе, я, наконец, заметил свою пухлую черную дорожную сумку и смог точно опознать свое место, свое прежнее место. Теперь оно было занято, впрочем, забиты были обе скамьи, на которых уместилась и целая орава детей, сидящих между родителями или у них на коленях. А кроме того, у окна стоял взрослый мужчина, который повернулся, как только я вошел в купе, и стал меня внимательно разглядывать.
Поскольку я не мог решить, как мне следует себя вести, я просто остановился перед самозванцем, который прикрывал лицо широко развернутой «Берлинер тагес-цайтунг» и читал. Все молчали, все как один – даже дети – с невыносимым упорством уставились на меня. Однако, по всей видимости, никто не собирался засвидетельствовать мое право на это место, которое я выбрал на вокзале в пункте отправления (после раздела территории Германии Айзенах стал чем-то вроде пограничной станции) по своему обыкновению так, чтобы оно было обращено в сторону противоположную направлению движения, ближе к коридору. Я и сам, впрочем, чувствовал, что мне не под силу отличить друг от друга этих не слишком любезных попутчиков, которые так умножились за время моего отсутствия. Я потянулся было к сетке для багажа, словно собирался взять что-то из своих вещей…
В этот момент пассажир медленно опустил свою газету, взглянув на меня с безмятежным простодушием собственника, уверенного в своих привилегиях, и я с совершенной ясностью увидел перед собой свои собственные черты: ассиметричное лицо с крупным, выгнутым носом (знаменитым «сердитым носом», который достался мне от матери), глубоко посаженные темные глаза, увенчанные густыми черными бровями, из которых правая жесткой кисточкой топорщиться над виском. Прическа – довольно короткие спутанные кудри, пронизанные седыми прядями, – была точь-в-точь моя. Увидев меня, этот человек улыбнулся с некоторым удивлением. Его правая рука разжалась, выпустив смятые газетные листы, и он потер ею вертикальную выемку под ноздрями.
Тут я вспомнил о накладных усах, которыми я обзавелся, отправляясь на это задание, весьма искусно выполненных и вполне правдоподобных, ни чем не отличающихся от тех, что я носил прежде. Однако лицо на той стороне зеркала было совершенно гладким. Помимо воли я рефлекторно провел пальцем по верхней губе. Мои накладные усы, конечно, были все еще там, точно на своем месте. Губы пассажира еще шире растянулись в улыбке, возможно, язвительной, по крайней мере, ироничной, и он точно так же слегка коснулся рукой своей голой губы.
Охваченный внезапной иррациональной паникой, я рывком вытащил свою тяжелую переметную сумку из багажной сетки, прямо над этой головой, которая принадлежала не мне, хотя, вне всякого сомнения, была моей (в известном смысле, даже более подлинной), и вышел из купе. У меня за спиной все повскакивали, и раздались возгласы протеста, словно я совершил кражу. Потом, перекрывая весь этот шум, послышался нарастающий смех, раскатистый и звонкий, который наверняка – так мне показалось – издавал пассажир.
Тем не менее, никто меня не преследовал. И никто не попытался преградить мне путь, пока я снова пробирался в обратном направлении, к заднему, ближнему тамбуру вагона, в третий раз расталкивая тех же самых озадаченных толстяков, теперь уже без всяких церемоний. Несмотря на то, что теперь мне мешала сумка, а ноги подо мной, казалось, подгибались, я очень быстро, как во сне, добрался до двери, выходившей на рельсы, которую как раз кто-то открыл, чтобы выйти. Поезд все больше замедлял ход, пройдя километров пятьдесят или, по меньшей мере, довольно долго в хорошем темпе, хотя, честно говоря, я не мог даже приблизительно оценить, сколько времени заняли мои недавние мытарства. Так или иначе, таблички с накладными буквами, черными на белом, ясно указывали на то, что мы приближаемся к Билефельду. Значит, предыдущий вокзал, на котором начались мои неприятности, вполне мог находиться как в Галле, так и в Лейпциге, вполне мог, но не находился.
Как только поезд остановился, я спрыгнул с сумкой в руках на перрон, сразу вслед за пассажиром, который, в отличие от меня, уже прибыл в пункт своего назначения. Я быстро прошел вдоль вагонов, из которых выходило совсем немного народу, к самому первому вагону, за старым паровозом и тендером, наполненным плохим углем. Служащий военной полиции в серо-зеленой форме Feldgmdarmerie,[3] стоявший на посту у отделения связи, проследил за моим торопливым маневром, каковой он в виду длительного пребывания в одном положении решил счесть подозрительным. Так что я без особой спешки вскарабкался в вагон, в котором явно было гораздо меньше пассажиров, чем там, откуда я сбежал, возможно, из-за того, что здесь сильно пахло горящим бурым углем.
В одном купе, раздвижная дверь которого была приоткрыта, я сразу нашел свободное место, хотя мое непредвиденное вторжение явно нарушило обстановку. Я не сказал «спокойствие», поскольку это скорее был взволнованный, пожалуй, даже бурный спор на грани рукоприкладства. Шестеро мужчин в узких городских пальто и подобранных в тон черных шляпах замерли при моем появлении в тех позах, в каких я их застал; один из них приподнялся и в жесте проклятия воздел руку вверх; другой, тот, что сидел, вытянул вперед левый кулак, слегка согнув руку в локте; его сосед целил в него двумя указательными пальцами, держа ладони справа и слева над головой, словно рога черта или быка, изготовившегося к нападению; четвертый отвернулся с выражением бесконечного трагизма на лице, а тот, кто сидел напротив него, согнулся вперед всем телом, подперев щеки руками.
Очень медленно, почти незаметно, они, один за другим, сменили позы. Однако тот, что вспылил, успел лишь наполовину опустить руку и все еще стоял спиной к окну, когда мой полевой жандарм возник в дверном проеме. Этот внушительного вида блюститель спокойствия тут же направился ко мне, а я к тому моменту только уселся, и, требуя, чтобы я предъявил документы, лаконично и властно произнес: «Ausweis vorzeigen».[4] Как по волшебству все желающие помахать кулаками оказались на своих местах, в наглухо застегнутых пальто и туго натянутых шляпах. Тем не менее, все взгляды были снова обращены на меня. Этот бестактный интерес казался еще более демонстративным оттого, что я сидел не в углу, а посередине скамьи.
Со всем спокойствием, на которое я еще был способен, я вынул из внутреннего кармана свой французский паспорт на имя Робена, Анри Поля Жана, по профессии инженера, родом из Бреста и т. д. На фотографии было лицо с густыми усами. Полицейский долго ее разглядывал, переводя испытующий взгляд с нее на мое настоящее лицо. Затем он столь же тщательно проверил официальную визу, выданную мне союзниками, которая давала мне полное право на въезд в Германскую Демократическую Республику, – четыре отметки на французском, английском, немецком и русском, с четырьмя соответствующими печатями.
Под конец недоверчивый унтер-офицер в длинной солдатской шинели и плоской фуражке снова взглянул на мою фотографию и, обращаясь ко мне, что-то произнес, с нотками досады в голосе – предупреждение, вопрос для проформы, просто замечание, – этого я не понял. С самым глупым парижским акцентом, который был у меня в запасе, я лишь сказал: «Никc ферштэн»,[5] предпочитая не пускаться в опасные объяснения на языке Гете. Он не стал дальше упорствовать. Записав в свой блокнот какие-то слова и цифры, он вернул мне паспорт и удалился. Потом я с облегчением увидел сквозь грязное стекло коридорного окна, что он вышел из поезда. К сожалению, это происшествие лишь усилило подозрительность моих попутчиков, которые смотрели на меня с молчаливым упреком. Чтобы как-то отвлечься и продемонстрировать им чистоту своих помыслов, я достал из кармана своей шубы тощую немецкую газету, которую купил этим утром в Готе у разносчика, и принялся ее аккуратно разворачивать. Увы, я слишком поздно догадался, что совершил еще одну оплошность: не я ли только что утверждал, будто не понимаю по-немецки?
Между тем, мой потаенный страх принял иное направление: именно эту газету читал и мой двойник в том купе. Тут же в памяти, как живая, возникла сцена из детства. Мне было тогда, наверное, лет семь или восемь: парусиновые туфли, короткие штаны, застиранная коричневая рубаха с короткими рукавами, сильно растянутый пуловер. В окрестностях Керлуана, на севере департамента Финистер, во время прилива, уже почти затопившего берег, я бесцельно бреду по пустынным песчаным бухтам, разделенным каменными мысами, через которые можно без труда перелезть, не взбираясь на дюны. Близится зима. Быстро надвигается ночь, и в сумерках туман над морем испускает голубоватое свечение, в котором размываются все очертания.
Кромка пены слева от меня через равные промежутки времени занимается ярким блеском, тут же гаснет и с шуршанием замирает у моих ног. Недавно тут кто-то прошел, в ту же сторону. Там, где он слегка отклонился вбок, небольшие набегающие волны еще не успели смыть его следы. Я вижу, что он носит пляжные туфли, такие же, как я, с прорезиненной подошвой, оставляющей такие же отпечатки. Кстати, такого же размера. И действительно, метрах в тридцати или сорока передо мной другой мальчик моего возраста – по крайней мере, одного со мной роста – идет, как и я, у самой кромки воды. Глядя на его силуэт, его можно было принять за меня, если бы при ходьбе он не вскидывал руки и ноги, как мне показалось, слишком размашисто, излишне резко, импульсивно, немного нескладно.
Кто бы это мог быть? Я знаю всех местных мальчишек, а этот ни на кого не похож, разве только на меня самого. Значит, он мог быть чужаком, которых в Бретани называют «duchentil» (скорее всего, это происходит от «tud-gentil» – «пришлецы»). Но в это время года детям случайных туристов или приезжих уже давно положено быть снова в своих городских школах… Всякий раз, когда он исчезает за гранитными глыбами, по краям наползающих на берег ландов, и я следом за ним выбираю ту же узкую и скользкую тропу через плоские камни, покрытые коричневыми водорослями, в другой бухте я снова вижу его: словно пританцовывая, он шагает по песку, всегда на одинаковом удалении от меня, даже если я иду медленнее или прибавляю шагу, только силуэт его немного размывается по мере того, как угасает дневной свет. Уже почти ничего не видно, когда я прохожу мимо так называемой таможенной сторожки, которая давно заброшена и в которой уже никто не охраняет берег от грабителей. Я пытаюсь разглядеть своего лазутчика на том расстоянии от меня, на котором он должен был бы объявиться, но на этот раз тщетно. Размахивающий руками джинн буквально растворился в моросящем дожде.
И вдруг я оказываюсь в трех шагах от него. Он уселся на большой валун, который я сразу узнаю по его располагающей округлости, потому что сам частенько отдыхал на нем. Я инстинктивно топчусь на одном месте, в нерешительности, боясь так близко пройти мимо него. Но тут он поворачивается ко мне, и страх гонит меня вперед, хотя ступаю я робко, опустив голову, чтобы не встретиться с ним взглядом. На правом колене у него красуется почерневшая корка, – наверное, расшибся где-то на скалах. Два дня назад я получил такую же ссадину. В смятении я невольно бросаю взгляд на его лицо. На нем читается несколько тревожное, по крайней мере, настороженное, слегка недоверчивое выражение симпатии. Теперь сомнений быть не может: это я. Уже совсем темно. Опрометью я бросаюсь прочь.
Сегодня я опять поддался малодушию – сбежал. Но тут же снова сел в этот заколдованный поезд, населенный воспоминаниями и призраками, все пассажиры которого, казалось, хотели меня извести. Согласно заданию, которое было мне поручено, мне воспрещалось выходить из поезда на небольших станциях. В этом провонявшем серой вагоне в компании этих шести недоброжелателей, похожих на гробоносцев, мне пришлось просидеть до самого Лихтенбергского вокзала в Берлине, где меня ждал человек, известный мне под именем Пьер Гарин. Тут мне открылось еще одно обстоятельство моего абсурдного положения. Если тот пассажир окажется на вокзале раньше меня, Пьер Гарин, который должен меня встретить, конечно, подойдет к нему, да и какие у него могут возникнуть сомнения, если он еще не знает о том, что новый Анри Робен носит усы…
Тут возможны два варианта: либо самозванец просто похож на меня как близнец, и Пьер Гарин рискует выдать себя, выдать нас до того, как ошибка раскроется; либо тот пассажир – это, действительно, я, то есть моя точная копия, а в этом случае… Ну нет! Это слишком фантастическое предположение. То, что ребенком в Бретани, в стране ведьм, духов и призраков всех мастей, я страдал расстройством личности, которое многие врачи считали опасным, – это одно. Но, спустя тридцать лет, всерьез счесть меня жертвой злого колдуна – это совсем другое. Так или иначе я должен первым попасться на глаза Пьеру Гарину.
Лихтенбергский вокзал разрушен, и я запросто могу там заблудиться, тем более что я привык к Zoo-Bahnhof[6] в западной части бывшей столицы. После того, как я, одурманенный серным перегаром, одним из первых выбрался из моего злополучного поезда, только теперь заметив, что он идет дальше на север (до самого Штральзунда и Засница на балтийском побережье), я сразу спустился в подземный переход, из которого можно было выйти на разные платформы, и в спешке пошел в обратную сторону. К счастью, тут только один выход, так что я разворачиваюсь и, слава богу, тут же вижу на лестнице Пьера Гарина, который кажется невозмутимым, хотя наш поезд прибыл гораздо позже, чем указано в вывешенном здесь расписании.
Пьера не назовешь другом, скорее он давний знакомый, коллега по Департаменту, чуть старше меня, с которым нас неоднократно привлекали к выполнению одних и тех же заданий. Я никогда слепо ему не доверял, но и особого недоверия он мне не внушал. Он не слишком разговорчив, и мне уже довелось оценить по достоинству его умение действовать в любой ситуации. Полагаю, что и он ценит меня не меньше, коль скоро я отправился в Берлин по его настоятельной просьбе, чтобы помочь ему в этом довольно необычном расследовании. По нашему обыкновению, не протянув мне руки, он лишь спросил: «Как добрался? Были серьезные проблемы?»
В этот момент я вспомнил подозрительного полевого жандарма, который стоял на перроне возле узла связи, пока поезд со свойственной ему медлительностью покидал Биттерфельд. Он снял телефонную трубку, а в другой руке держал раскрытый блокнот, из которого что-то зачитывал вслух. «Не было, – ответил я, – все прошло хорошо. Только немного опоздали».
– Благодарю за информацию. Я это и сам уже заметил.
Хотя эта реплика прозвучала как шутка, он произнес ее без тени улыбки, с каменным лицом. Так что, я решил сменить тему разговора.
– А как здесь?
– Здесь все в порядке. За исключением того, что я тебя чуть не упустил. Первый пассажир, который поднимался по лестнице после прибытия поезда, был похож на тебя как двойник. Я чуть было с ним не заговорил. Я решил, что он меня не узнал. Я уже собирался пойти за ним, полагая, что тебе показалось, что нам лучше встретиться якобы случайно за пределами вокзала, но вовремя вспомнил о твоих новых красивых усах. Да, Фабиан меня предупредил.
Возле самой обычной телефонной будки, которую, тем не менее, охраняли русские полицейские, стояли три господина в традиционных широкополых зеленых пальто и мягких шляпах. Никакого багажа у них не было. Казалось, они чего-то ждали и не переговаривались между собой. Время от времени то один, то другой посматривал в нашу сторону. Наверняка, они за нами наблюдают. Я спросил: «Двойник, говоришь… без накладных усов… Как ты думаешь, он может иметь какое-то отношение к нашему делу?»
«Как знать. Все может быть», – ответил Пьер Гарин с какой-то неопределенной интонацией, одновременно беззаботной и очень серьезной. Возможно, он просто не подал виду, что его удивило мое предположение, которое он счел нелепым. Впредь надо придержать язык.
Молча мы ехали в неудобном автомобиле с заляпанной грязью маскировочной раскраской, который он по случаю где-то раздобыл. Время от времени, посреди руин, мой водитель все же объяснял мне в двух словах, что находилось здесь прежде, во времена Третьего Рейха. Это напоминало экскурсию по мертвому античному городу – Герополису, Фивам или Коринфу. Кое-где на магистральных улицах проезжую часть еще не расчистили, где-то было перекрыто движение, а во многих местах велись строительные работы, так что мы долго кружили, прежде чем добрались до бывшего центра города, где почти все здания были более чем наполовину разрушены, но, когда мы проезжали мимо них, благодаря эфемерным описаниям моего чичероне Пьера Гарина, они на какое-то мгновение, казалось, вновь представали перед нами во всем своем великолепии.
Миновав мифическую Александерплац, облик которой изменился до неузнаваемости, мы пересекли, один за другим, два рукава Шпрее и достигли бывшей Унтер-ден-Линден, что между университетом Гумбольдта и Оперой. Восстановление этого монументального ансамбля, в котором слишком многое напоминало о недавней истории, явно не было для новых властей делом первостепенной важности. Прямо перед развалинами, в которых с трудом можно было угадать остатки Фридрихштрассе, мы повернули налево и, выписав еще несколько виражей в этом лабиринте руин, где мой шофер, похоже, чувствовал себя как дома, в конце концов, в зимних сумерках, под прояснившимся к тому времени небом, на котором уже зажглись первые звезды, остановились на Жандарменмаркт (некогда тут располагались конюшни кавалерии Фридриха Второго), самой красивой, по мнению Кьеркегора, площади в Берлине.
Прямо на углу некогда буржуазной Егерштрассе, точнее говоря, под номером пятьдесят семь, еще стоит дом, более или менее пригодный для жилья и, несомненно, отчасти обитаемый. Сюда мы и входим. Пьер Гарин просит меня следовать за ним. Мы поднимаемся на второй этаж. Электричества нет, но на всех лестничных площадках, отбрасывая красные отсветы, горят допотопные керосиновые лампы. За окнами быстро сгущается тьма. Мы отворяем маленькую дверь с двумя латунными инициалами (J.K.), прикрепленными к средней филёнке на уровне глаз, и оказываемся в прихожей. Слева стеклянная дверь, ведущая в кабинет. Мы идем вперед; входим в переднюю, к которой примыкают две совершенно одинаковые комнаты, обставленные скромно, но совершенно одинаково, словно одна из них удвоена отражением в большом зеркале.
Задняя комната освещена тремя горящими свечами на канделябре из поддельной бронзы, стоящем на прямоугольном столе коричневого дерева; перед ним, немного наискось, виднеется кресло в стиле Людовика XV, в плохом состоянии, обтянутое потертым красным бархатом, местами засаленным до лоска, но в основном посеревшим от пыли. Напротив старых изодранных портьер, кое-как прикрывающих окна, стоит еще большой шкаф самой простой формы, без единого намека на какой бы то ни было стиль, нечто вроде сундука, из такой же мореной ели, как и стол. На столе, между канделябром и креслом, под мерцающим пламенем свечи, кажется, незаметно колышется белый лист бумаги. Во второй раз за этот день у меня внезапно возникает яркая картина из какого-то позабытого детского воспоминания. Но едва я успеваю его уловить, как оно, блеснув, снова исчезает.
Передняя не освещена. В канделябре из свинцового сплава даже нет свечи. Вместо окна – зияющий проем без стекла и рам, снаружи в него проникает холод и бледный лунный свет, который сливается с более теплым, но гаснущим на излете сиянием, исходящим из задней комнаты. Дверцы шкафа раскрыты настежь, видны пустые полки. Обивка на сидении кресла износилась, из треугольной дыры торчит клок черного конского волоса. Нас неодолимо тянет к голубоватому прямоугольному проему на месте окна.
Пьер Гарин со своим неизменным невозмутимым видом указывает вытянутой рукой на замечательные здания, которые опоясывают площадь или, по меньшей мере, опоясывали ее со времен короля Фридриха, прозванного великим, до апокалипсиса последней мировой войны: в центре – королевский театр, справа – французская церковь, слева – новая церковь, обе до странности схожие, несмотря на принадлежность к разным конфессиям, одинаково увенчанные статуей на куполе звонницы, одинаково возвышающейся над четырехсторонним портиком с новогреческими колоннами. Теперь все это разрушено, превращено в гигантские груды тесаных каменных глыб, в которых под фантастическим светом холодной как лед полной луны еще можно различить листья на аканте колонны, складки на одеяниях колоссальной статуи, овал воловьего глаза.
В центре площади стоит массивный, почти не пострадавший от бомб пьедестал от какого-то ныне исчезнувшего бронзового памятника – аллегории, которая изображала страшный эпизод одного сказания и таким образом символизировала власть и славу правителей или нечто совершенно иное, ибо нет ничего загадочнее аллегории. Как известно, почти ровно четверть века назад (1) его долго рассматривал Франц Кафка, который провел здесь совсем неподалеку вместе с Дорой Диамант последнюю зиму своей короткой жизни. А еще на Жандарменмаркт жили Вильгельм фон Гумбольд, Генрих Гейне и Вольтер.
Примечание 1: тут наш рассказчик, с которым надо быть настороже, выступающий под вымышленным именем Анри Робен, немного заблуждается. Франц Кафка после того, как он провел лето на балтийском побережье, в последний раз остановился в Берлине с Дорой Диамант осенью 1923 года, а в апреле 1924 года, будучи уже почти при смерти, вернулся в Прагу. Отчет А.Р. датируется началом зимы, «спустя четыре года после заключения мира», а это конец 1949 года. Следовательно, со времени пребывания здесь Кафки до его приезда прошло двадцать шесть, а не двадцать пять лет. Такую путаницу нельзя объяснить ошибкой в подсчете этих «четырех лет»: спустя три года после прекращения войны (что давало бы разницу в четверть века), то есть в 1948 году, это произойти никак не могло, поскольку тогда визит А.Р. пришелся бы на период советской блокады Берлина (с июня 1948 по май 1949 гг.).
– Значит так, – сказал Пьер Гарин. – Наш клиент, назовем его Икс, должен появиться здесь, ровно в полночь. У постамента, на котором раньше стоял памятник, прославляющий победу прусского короля над саксонцами, у него назначена встреча с тем, кто, по нашим сведениям, собирается его убить. Твоя задача сводится к тому, чтобы внимательно, как ты умеешь, за всем проследить и все записать. В выдвижном ящике стола в другой комнате ты найдешь прибор ночного видения. Впрочем, он далеко не новейшей системы. К тому же, благодаря этому непредвиденному лунному свету все и так видно почти как днем.
– Личность предполагаемой жертвы, которую ты называешь Иксом, разумеется, известна?
– Нет. У нас есть кое-какие предположения, причем все взаимоисключающие.
– Какие предположения?
– Слишком долго рассказывать, и тебе это совершенно ни к чему. В известном смысле это могло бы даже помешать тебе объективно оценивать людей и факты, а ты должен быть совершенно беспристрастным. Ну все, я убегаю. Из-за твоего дурацкого поезда я и так опоздал. Вот ключ от маленькой двери с инициалами «J.K.» – в квартиру можно попасть только через нее.
– Кто этот или эта J.K.?
– Понятия не имею. Скорее всего, бывший владелец или съемщик, который так или иначе сгинул во время недавней катастрофы. Можешь вообразить кого угодно: Иоганна Кеплера, Йозефа Кесселя, Джона Китса, Йориса Карла, Якоба Каплана… Дом пуст, тут остались только служащие оккупационных войск и привидения.
Я не стал его дальше расспрашивать. Он неожиданно заторопился. Я проводил его до двери и закрыл ее за ним на ключ. Я вернулся в заднюю комнату и сел в кресло. В выдвижном ящике стола, действительно, лежал советский полевой бинокль с прибором ночного видения, а еще автоматический 7,65-миллиметровый пистолет (2), шариковая ручка и спичечный коробок. Я взял шариковую ручку, задвинул ящик, повернул кресло к столу. Я склонился над чистым листом и, недолго думая, мелким, элегантным почерком без единой помарки, начал записывать свой отчет:
«Во время той бесконечной поездки по железной дороге, мимо руин Тюрингии и Саксонии, из Айзенаха в Берлин, я впервые за очень многие годы вновь увидел этого человека, которого я для простоты назову своим двойником или близнецом или же, менее театрально, своим спутником. Поезд шел в неровном, сбивчивом ритме и т. д.»
Примечание 2: эта дезинформация представляется нам куда более существенной, чем предыдущая. К этому мы еще вернемся.
В 11 часов 50 минут я задул три свечи и устроился на кресле с разодранной обивкой перед оконным проемом в другой комнате. Военный бинокль, как и предсказывал Гарин, мне вообще не понадобился. Луна, стоящая теперь высоко в небе, источала яркий, резкий, безжалостный свет. Я смотрел на пустой постамент в центре площади, и каждый раз передо мной со всей ясностью представала гипотетическая скульптурная группа из бронзы, которая, благодаря филигранной отделке, отбрасывала удивительно резко очерченную черную тень на гладь светлой мостовой. Судя по всему, это античная колесница, влекомая двумя галопирующими разгоряченными лошадьми с бешено трепещущими на ветру гривами, и расположилось на ней несколько персонажей, вероятно, символических, чьи позы кажутся немного неестественными, если предположить, что упряжка летит во весь опор. Впереди стоит пожилой возница с благородной статью, увенчанный диадемой и размахивающий над крупами лошадей длинным кнутовищем со змеевидным хлыстом. Быть может, он изображает самого короля Фридриха, только тут монарх облачен в древнегреческую тогу (правое плечо открыто), чьи полы покатыми волнами струятся вокруг него.
Позади стоят двое молодых людей, слегка расставив мускулистые ноги, и каждый натягивает тетиву внушительных размеров лука, причем обе стрелы, одна нацеленная вперед и вправо, другая – вперед и влево, образуют угол приблизительно в тридцать градусов. Лучники расположились не параллельно, а в полушаге друг от друга, чтобы было удобнее стрелять. Они вытягивают шеи и смотрят в даль, откуда надвигается какая-то угроза. Глядя на их скудное одеяние – тугие и узкие набедренные повязки, и ничего такого в придачу, что прикрывало бы грудь, – можно предположить, что это простолюдины, а не патриции.
Между ними и возницей на подушках восседает босая молодая женщина в позе, которая вызывает в памяти образ Лорелеи или русалочки из Копенгагена. Ее лицо и фигура еще полны девической грации, но выражение на лице горделивое, почти презрительное. Быть может, это оживший храмовый идол, который принесут сегодня вечером в жертву к восторгу коленопреклоненной толпы? Или плененная принцесса, которую похитили, дабы силой принудить к противоестественному союзу? Или избалованное дитя, которое угнетающе душной летней ночью снисходительный отец решил с ветерком прокатить в открытой повозке, чтобы разогнать скуку?
Но тут на пустынной площади, откуда ни возьмись, появляется мужчина, словно он вышел прямо из живописных руин королевского театра. И в тот же миг исчезает ночной зной воображаемого востока, золоченый храм жертвоприношения, восторженная толпа, стремительная колесница мифического Эроса… И без того рослый Икс, а это наверняка он, кажется еще выше благодаря длинному облегающему пальто очень темного цвета, чьи полы из тяжелой материи с глубокими складками (под хлястиком, подчеркивающим талию) разлетаются при ходьбе, открывая до самых отворотов его мелькающие лакированные сапоги для верховой езды. Поначалу он шагает в сторону моего наблюдательного пункта, где засел я, отстранившись от окна так, чтобы оставаться в тени; затем на полпути он оборачивается и хладнокровно осматривается, ни на чем не задерживая взгляда; после этого он поворачивает направо и решительным шагом направляется к постаменту, который снова пуст и, кажется, застыл в ожидании.
Он почти доходит до постамента, когда раздается выстрел. Стрелявшего не видно. Он может скрываться в засаде за обломком стены или в оконном проеме. Икс хватается правой рукой в кожаной перчатке за грудь и, немного запаздывая, словно при замедленной съемке, оседает на колени… Второй выстрел со звонким треском разрывает тишину, ему вторит эхо. Отзвуки разлетаются повсюду, мешая угадать местоположение стрелка и точно определить вид оружия, из которого был произведен выстрел. Раненый еще находит в себе силы, чтобы медленно повернуться и посмотреть в мою сторону, прежде чем окончательно рухнуть под грохот третьего выстрела.
Раскинув руки, Икс распростерся в пыли, навзничь, и больше не шевелится. Тут на краю площади появляются двое мужчин. Эти двое, одетые в комбинезоны из грубой ткани, какие носят дорожные рабочие, и меховые шапки наподобие польских киверов, безо всяких предосторожностей бегут к убитому. Они появились на таком расстоянии от него, что застрелить его сами никак не могли. Может быть, они сообщники? В двух шагах от тела они разом останавливаются, на мгновение застывают и смотрят на окаменевшее лицо, которое кажется совсем бледным в свете луны. Затем тот, что повыше ростом, уважительно стягивает с головы шапку и склоняется в почтительной позе. Другой, не обнажая головы, осеняет себя крестным знаменьем, с силой впечатывая пальцы в грудь и плечи. Через три минуты они пересекают площадь в обратном направлении, торопливо шагая друг за другом. Кажется, за все это время они не проронили ни слова.
Больше ничего не происходит. Немного обождав, хотя точно не помню, как долго это продолжалось (я не догадался посмотреть на часы, циферблат которых, впрочем, уже не светился), я решаю без особой спешки спуститься, для надежности заперев за собой маленькую дверь с инициалами «J.K.». Мне приходится держаться руками за лестничные перила, поскольку керосиновые лампы убрали или погасили (но кто?), и мне трудно продвигаться в кромешной тьме, тем более что я плохо здесь ориентируюсь.
Зато на улице становится все светлее. Я осторожно приближаюсь к телу, не подающему признаков жизни, и склоняюсь над ним. Не дышит. Лицо такое же, как у бронзового старца, но что с того, если я сам его придумал. Я наклоняюсь ниже, расстегиваю верхние пуговицы пальто с воротником, отороченным мехом выдры (эту деталь я издали не разглядел), чтобы добраться до сердца. Во внутреннем кармане пиджака я нащупываю что-то твердое и, действительно, достаю оттуда тонкий бумажник из твердой кожи, в углу которого, как ни странно, зияет пулевое отверстие. Я прикладываю руку к груди под кашемировым свитером, но сердце не бьется, как и артерии на горле под нижней челюстью. Я снова распрямляюсь, чтобы без промедления вернуться в дом под номером пятьдесят семь по Егерштрассе.
Добравшись в темноте без особого труда до маленькой двери на втором этаже, я замечаю, доставая ключ, что безотчетно все еще сжимаю в руке кожаный бумажник. Пока я пытаюсь попасть ключом в замочную скважину, меня настораживает подозрительный скрип за спиной; и обернувшись, я вижу отвесную полосу света, которая постепенно ширится: кто-то с явным недоверием открывает дверь квартиры напротив. Через несколько мгновений появляется старая женщина, держа перед собой свечу, пламя которой освещает сверху донизу образовавшийся проем, и смотрит на меня, кажется, с бесконечным страхом, если не с ужасом. Внезапно она с такой силой захлопывает свою дверь, что при ударе о засов она издает грохот, подобный взрыву. Я же спешу укрыться в своем ненадежном, «реквизированном» Пьером Гариным пристанище, которое едва освещают слабые лунные лучи, пробивающиеся из передней комнаты.
Я прохожу в заднюю комнату и снова зажигаю три свечи, от которых остались лишь огарки длиной в сантиметр или того меньше. При слабом свете свечей я произвожу осмотр своих трофеев. В пробитом насквозь бумажнике обнаруживается только немецкое удостоверение личности с разодранной в клочья фотографией, в которую угодила пуля. В остальном оно сохранилось настолько хорошо, что я даже могу разобрать имя: Дани фон Брюке, родился 7 сентября 1881 года в Заснице (о. Рюген); а еще адрес: Берлин, Кройцберг, Фельдмессерштрассе, 2. В принципе, этот квартал, к которому прилегает Фридрихштрассе, находится неподалеку, но уже по ту сторону границы, во французской оккупационной зоне (За).
Тщательно осматривая бумажник, я начинаю сомневаться в том, что это большое круглое отверстие с обтрепавшимися краями могла проделать пуля, выпущенная с незначительного расстояния из пистолета или даже винтовки. Что касается довольно ярких красных пятен на одной стороне бумажника, то они напоминают скорее следы свежей краски, чем крови. Я кладу все это в выдвижной ящик стола и достаю оттуда пистолет. Я отделяю магазин, в котором недостает четырех патронов, один из них уже загнан в ствол. Значит, кто-то мог трижды выстрелить из этой штуковины, которая славится своей точностью и изготавливается на мануфактуре в Сен-Этьене. Я возвращаюсь в другую комнату к окну без рам.
Тут же я замечаю, что перед призрачным памятником уже нет тела. Может быть, за ним приходили статисты (заговорщики из той банды или запоздалые спасатели)? Или этот хитрец фон Брюке с исключительным совершенством притворился мертвым, а затем, выждав положенный срок, невредимый или задетый одной пулей, но не слишком сильно, вновь встал на ноги? Веки у него, насколько я помню, были не совсем сомкнуты, особенно на левом глазу. Быть может, не только его бессмертная душа, но и он сам глядел на меня через эту хитроумную, обманчивую, предательскую щель?
Меня вдруг пробирает озноб. Впрочем, скорее всего, хоть я и не расстегиваю свою шубу, даже когда пишу, мерзну я уже несколько часов, но до этого был так увлечен своим заданием, что ничего не чувствовал… В чем же состоит теперь мое задание? С самого утра я ничего не ел, а мой комфортабельный Frühstück[7] остался далеко в прошлом. Хотя я почти не испытываю голода, должно быть, именно из-за него меня одолевает это чувство опустошенности. Со времени той долгой остановки в Галле в голове у меня словно стоял туман, как бывает при сильной простуде, ни единого признака которой я у себя, впрочем, пока не заметил. Как одурманенный, я тщетно пытался, вопреки непредвиденным превратностям, действовать расчетливо и последовательно, но думал совсем о другом, одновременно сознавая, что мне нужно срочно принять разумное решение, и сдаваясь под натиском агрессивных призраков, воспоминаний, иррациональных предчувствий.
Вымышленный памятник за это время (за какое время?) снова водворился на своем постаменте. Возница «национальной колесницы», не осадив лошадей, повернулся к юной босой пленнице, которая в иллюзорной попытке дать ему отпор воздевает перед глазами ладонь с растопыренными пальцами. А один из лучников, тот, что стоит на полшага впереди, целит теперь стрелой прямо в грудь тирана, который анфас чем-то похож на фон Брюке, как я уже говорил; но больше всего он напоминает мне кого-то другого, вызывая позабытое, затушеванное временем, более давнее и личное воспоминание – образ какого-то немолодого мужчины (впрочем, не такого пожилого, как тот, кого убили этим вечером), человека мне близкого, которого я не то чтобы очень хорошо знал или много раз видел, но, надо полагать, наделял в своем воображении высокими достоинствами, – такого, как горько оплакиваемый граф Анри, мой крестный, кому я так или иначе обязан своим именем.
Несмотря на усталость, я хотел было опять засесть за свой отчет, но все три свечи погасли, а один фитиль уже утонул в расплавленном воске (ЗЬ). Я тщательно обследовал свое убежище или место заточения и с удивлением обнаружил, что ванная находится, можно сказать, в исправном состоянии. Не знаю, пригодна ли вода в умывальнике для питья. Хотя вкус у нее странноватый, я пью ее большими глотками прямо из крана. Тут же в высоком встроенном шкафу лежит какой-то хлам, оставленный здесь маляром, в том числе широкие, аккуратно сложенные в стопку и сравнительно чистые куски брезента, предназначенные для того, чтобы прикрывать паркет. Я сооружаю из них подобие толстого матраца на полу задней комнаты рядом с вместительным шкафом, который, правда, крепко-накрепко заперт. Что там запрятано? В сумке у меня есть пижама и, конечно, дорожный несессер, но я слишком устал, чтобы этим заниматься. Да и холод, пробирающий меня до костей, гонит прочь всякое желание ими воспользоваться. Не снимая с себя ни одного из своих грузных одеяний, я опускаюсь на свое импровизированное ложе и сразу же проваливаюсь в глубокий сон без сновидений.
Примечания 3a, 3b: по поводу этого подробного отчета необходимо сделать два замечания. В отличие от путаницы с датами последнего пребывания Кафки в Берлине, неточность в указании марки пистолета – упомянутую в примечании 2 – едва ли можно счесть следствием случайной ошибки. Наш рассказчик, каким бы ненадежным во многих отношениях он не был, никак не мог допустить столь грубую ошибку при определении калибра пистолета, который он держит в руках. По всей видимости, он намеренно солгал: на самом деле в выдвижной ящик стола нами была положена, а следующей ночью оттуда же взята модель калибра 9 мм, изготовленная по лицензии «Беретты». Зачем так называемый Анри Робен старается занизить убойную силу и калибр пистолета, догадаться нетрудно, но куда сложнее понять, как он может упускать из вида то обстоятельство, что Пьер Гарин, разумеется, прекрасно знает, что лежит в ящике. Третья ошибка – это указание на то, что Кройцберг находится в Западном Берлине. Почему А.Р. делает вид, будто он уверен в том, что этот квартал располагается во французской оккупационной зоне? Какую выгоду он надеется извлечь из столь абсурдной подтасовки?
Первый лень
Так называемый Анри Робен проснулся очень рано. Далеко не сразу он понял, где он, как давно он сюда попал и что он здесь делает. Спал он неважно, прямо в одежде, на своем горе-матраце, в этой комнате с буржуазными излишествами (но уже без кровати и насквозь промерзшей), которую Кьеркегор называл «задней», когда он дважды здесь останавливался: будучи в бегах зимой 1841 года, после того, как он бросил Регину Ольсен, и еще раз в надежде на берлинское «повторение» весной 1843 года. Словно парализованному из-за необычной ломоты в суставах, Анри Робену приходится делать над собой усилие, чтобы подняться. Поднявшись, он расстегивает свою задубевшую, помятую шубу и, не снимая ее, отряхивается. Он подходит к окну (к тому, что выходит на Егерштрассе, а не на Жандарменмаркт) и умудряется раздвинуть изодранные портьеры, не разорвав их окончательно. Видно, еще только начинает светать, а в это время года в Берлине это указывает на то, что сейчас начало восьмого. Но этим утром серое небо нависает так низко, что ничего нельзя сказать наверняка: с таким же успехом сейчас может быть гораздо позже. Взглянув на часы, которые он не снимал с запястья всю ночь, А.Р. убеждается в том, что они стоят… В этом нет ничего удивительного, ведь накануне вечером он позабыл их завести.
Повернувшись к столу, который сейчас освещен чуть лучше, он тут же замечает, что, пока он спал, в его жилище провели обыск: ящик стола целиком выдвинут и пуст. Ни прибора ночного видения, ни прецизионного пистолета, ни удостоверения личности, ни бумажника из твердой кожи с окровавленным отверстием – ничего этого там нет. Даже лист бумаги, исписанный с обеих сторон крошечными буквами, – и тот пропал со стола. Вместо него лежит точно такой же белый лист обычного актового формата, поперек которого размашистым почерком с наклоном нацарапаны две наскоро составленные фразы: «Что было, то было. Но в этих обстоятельствах тебе лучше исчезнуть, хотя бы на какое-то время». Подпись разобрать нетрудно – «Sterne» (с «е» на конце) – одно из кодовых имен Пьера Гарина.
Как он сюда проник? А.Р. помнит, что после встречи с напуганной (и вместе с тем внушающей страх) старухой, заставившей его порядком понервничать, он открыл дверь и положил ключ в ящик стола. Но коль скоро оттуда все вынули, надо полагать, что и ключа там уже нет. Весь в смятении, опасаясь (вопреки здравому смыслу), что его могли запереть, он подходит к маленькой двери, нареченной «J.K.». Она не просто не заперта, ее даже как следует не прикрыли: лишь слегка притворили, оставив между дверным полотном и косяком зазор в пару миллиметров шириной, так что засовы не заскочили в паз. И ключ уже не вставлен в замок. Остается лишь предположить, что у Пьера Гарина есть дубликат, которым он и воспользовался, чтобы проникнуть в квартиру; а уходя, он забрал оба ключа. Но зачем?
Тут А.Р. замечает, что вероломная боль, которая затаилась у него в голове сразу после пробуждения, мало-помалу усиливается и только мешает ему все хорошенько обдумать и взвесить. И то сказать, он чувствует себя даже более одурманенным, чем вчера вечером, словно к воде, которую он выпил из крана, был подмешан какой-то наркотик. Если это было снотворное, то он запросто мог проспать и больше суток, но здесь ему это никак не проверить. Конечно, отравить воду в ванной, не так-то просто; для этого понадобилась бы отдельная линия водопровода, соединенная с особым резервуаром, изолированным от общей системы водоснабжения (впрочем, этим вполне можно было бы объяснить слабый напор воды, на который он обратил внимание). Но если поразмыслить, еще более невероятным кажется то, что в этом частично разрушенном здании, в квартале, в котором хозяйничают бродяги и крысы (да еще убийцы), решили восстановить муниципальное водоснабжение.
По крайней мере, если он заснул под действием какого-то препарата, то можно объяснить, почему ночной взломщик, каким бы странным и почти неправдоподобным не казалось это обстоятельство, не разбудил спящего. Сам спящий в надежде вернуть в рабочее состояние свой затуманенный, вялый мозг, мягкий как вата в отличие от одеревенелых конечностей, отправляется в ванную, чтобы ополоснуть лицо холодной водой. Увы, сколько не крути ручки крана, этим утром из него не выдавить ни капли. Мало того, трубы выглядят так, словно они уже давно пересохли.
Ашер, как его называют сослуживцы в главном управлении, – они выговаривают это имя с ударением на второй слог наподобие названия небольшой коммуны в департаменте Сены и Уазы, где размещается засекреченный информационный отдел, к которому он прикомандирован, – этот Ашер (на немецком это означало бы «человек цвета золы») поднимает голову и глядит на треснувшее зеркало над умывальником. Он почти не узнает себя: черты его лица поблекли, волосы взъерошены, а накладные усы пришли в негодность; правый край наполовину отклеился и слегка отвисает. Вместо того чтобы приклеить усы как следует, он решает вообще их отлепить. В конце концов, от них больше смеха, чем пользы. Затем он еще раз осматривает себя, дивясь этому лицу без имени и характерных черт, несмотря на асимметрию, которая теперь еще больше бросается в глаза. Сделав несколько робких, беспомощных шагов, он вспоминает, что не проверил содержимое своей дорожной сумки; одну за одной, он выкладывает все вещи на стол в негостеприимной комнате, которая служила для него спальней. Кажется, ничего не пропало, да и вещи разложены так аккуратно, что тут явно чувствуется его рука.
Двойное дно, судя по всему, не вскрывали, едва заметные метки целы, а в самом тайнике по-прежнему лежат два других его паспорта. Он бесцельно листает их. Один – на имя Франка Матье, другой – Бориса Валлона. В обоих лицо на фотографии без накладных или настоящих усов. Так называемый Валлон на фотографии, возможно, больше похож на того, кто после удаления накладных усов отразился в зеркале. Так что Ашер запихивает этот новый документ, в котором тоже стоят все печати, необходимые для въезда, во внутренний карман своего пиджака, вынимает оттуда паспорт на имя Анри Робена и кладет его рядом с паспортом Фрэнка Мэтью под двойное дно сумки. После этого он снова раскладывает все вещи по своим местам и на всякий случай добавляет к ним лежащую на столе записку Пьера Гарина. «Что было, то было… тебе лучше исчезнуть…»
Заодно Ашер достает из своего несессера расческу и, не возвращаясь лишний раз к зеркалу, проводит ею по волосам, стараясь, впрочем, не слишком сильно их приглаживать, чтобы не потерять сходство с фотографией Бориса Валлона. Окинув все взглядом, словно боясь здесь что-то позабыть, он выходит из квартиры, вернув небольшую входную дверь в такое же положение, в каком ее оставил Пьер Гарин, – с зазором шириной около пяти миллиметров между косяком и полотном двери.
В ту же минуту до него доносится шум из соседней квартиры, и он прикидывает, не спросить ли у старухи, как тут обстоит дело с водопроводом. Чего ему бояться? Тем не менее, когда он стучит по деревянной филенке, на него изнутри обрушивается поток проклятий на немецком с гортанным выговором, мало напоминающим берлинский, хотя ему все же удается разобрать слово «Mörder»,[8] которое она выкрикивает постоянно, с каждым разом все громче. Ашер хватает свою сумку за кожаную ручку и начинает, торопливо, но осторожно преодолевая ступень за ступенью, спускаться по неосвещенной лестнице, держась за перила, как прошлой ночью.
Возможно, из-за тяжелой сумки, которую он теперь несет, перекинув ремень через левое плечо, Фридрихштрассе кажется ему длиннее, чем он предполагал. И в немногих сохранившихся, хоть изрешеченных и не раз на скорую руку отремонтированных зданиях, которые вздымаются над руинами, разумеется, нет ни кафе, ни харчевни, где он мог бы немного подкрепиться, пусть даже стаканом воды. К тому же, здесь, как ни высматривай, не сыскать даже самой крохотной лавки, – повсюду одни металлические жалюзи, которые, вполне возможно, не поднимают уже много лет. И на всей улице не увидишь ни одного прохожего, нет их и на прилегающих улицах, таких же разрушенных и вымерших, которые она пересекает под прямым углом. Правда, некоторые из сохранившихся корпусов кое-как залатанных зданий, несомненно, обитаемы, поскольку отсюда можно разглядеть неподвижных людей, которые наблюдают из своих окон сквозь более или менее целые грязные стекла за странным одиноким путником, чья худощавая фигура мелькает между полуобвалившимися стенами и грудами щебня, пока он шагает посередине пустой проезжей части, держа на плече сильно раздувшийся, туго набитую сумку из черной лакированной кожи, ударяющую ему по бедру, и сгибаясь под ее тяжестью.
Наконец, Ашер подходит к контрольно-пропускному пункту, в десяти метрах от раздвинутого заграждения из колючей проволоки, установленного вдоль демаркационной линии. Он предъявляет паспорт на имя Бориса Валлона; немецкий постовой, который вышел ему навстречу, когда он приблизился, внимательно разглядывает фотографию, затем визу Демократической Республики и, наконец, Федеративной Республики. Военный в форме, придающей ему явное сходство с оккупантом времен последней войны, тоном инквизитора замечает, что сами документы в порядке, но недостает одной важной детали: отметки о въезде на территорию ГДР. Путник, в свой черед, разглядывает злосчастную страницу с таким видом, будто надеется отыскать печать, которая, конечно, не может чудом на ней проступить, сообщает, что он пересек границу в положенном месте на железнодорожном перегоне между Бад-Херсфельдом и Айзенахом (отчасти это верно), и под конец объявляет, что наверняка какой-то тюрингский солдат в спешке или по невежеству не поставил нужную печать – то ли позабыл, то ли у него кончились чернила…
«Kän Eintritt, kein Austritt!»[9] – выносит лаконичный вердикт постовой, решительно и категорично. Борис Валлон принимается обшаривать внутренние карманы, словно ищет еще один документ. Солдат подходит к нему поближе, выказывая тем самым некоторое участие, и это придает Валлону смелости. Он достает из-за пазухи бумажник и раскрывает. Тот сразу замечает банкноты западногерманских марок. Алчная, хитрая улыбка озаряет его лицо, выражение которого до этого было не слишком любезным. «Zweihundert»,[10] – скромно изрекает он. Двести немецких марок – дороговато за несколько более или менее разборчивых цифр и букв, которые, к тому же, стоят в паспорте на имя Анри Робена, запрятанном под двойным дном в дорожной сумке. Однако сейчас ничего другого не остается. Так что, уличенный в провинности путник во второй раз протягивает строгому постовому свой паспорт, демонстративно вложив туда пухлую стопку банкнот на требуемую сумму. Солдат тут же скрывается в покосившемся сборном щитовом домике, установленном между развалинами и приспособленном под караульную будку.
Проходит довольно много времени, прежде чем он появляется снова и вручает обеспокоенному путнику его Reisepass,[11] отдает честь как будто на социалистический манер, но жестом, еще немного напоминающим «немецкое приветствие», и говорит: «Alks in Ordnung».[12] Валлон бросает взгляд на страницу с отвергнутой визой и видит, что теперь на ней стоят отметки о въезде и выезде, обе датированы одним числом с разницей всего в две минуты и в обеих указан один пропускной пункт. Он тоже отдает честь, слегка вытягивая руку, и энергично произносит: «Danke», стараясь сохранять серьезность.
По другую сторону заграждения из колючей проволоки все проходит гладко. На посту его встречает молодой, жизнерадостный «джи-ай», остриженный ежиком, в интеллигентских очках, который почти без акцента говорит по-французски; быстро проверив паспорт, он задает путнику лишь один вопрос: не приходится ли тот родственником Анри Валлону, историку, «творцу конституции». «Это мой дед», – спокойно отвечает Ашер с отчетливыми нотками печали в голосе. Выходит, вопреки его предположениям, он находится в американской зоне; несомненно, он перепутал два городских аэропорта – Тегель и Темпельгоф. В действительности, французский сектор Берлина должен располагаться гораздо дальше на север.
Отсюда Фридрихштрассе ведет в том же направлении, к Мерингплац и Ландверканалу, но все вокруг мгновенно преображается, словно он попал в другой мир. Хотя и здесь еще повсюду руины, они уже не тянутся сплошными рядами. С одной стороны, эту часть города бомбили, пожалуй, не так планомерно, как центр, и защищали не так ожесточенно, как твердыню режима, где бились насмерть за каждый камень. С другой стороны, тут убрали почти все обломки, оставшиеся после катастрофы, многие здания уже отремонтированы, а на месте кварталов, которые сравняли с землей, видимо, ведутся восстановительные работы. Да и у самого Лже-Валлона вдруг появляется ощущение легкости и свободы, как на отдыхе. Люди вокруг него заняты мирным трудом или спешат по каким-то нормальным будничным делам. По правой стороне очищенной от щебня улицы медленно проезжают автомобили, хоть в основном и военные.
Добравшись до круглой площади, которая, как бы неожиданно это ни звучало в этой зоне, носит имя Франца Меринга, основавшего на пару с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург «Союз Спартака», Борис Валлон сразу замечает большую, скромную пивную, где он, наконец, может выпить чашку жидкого кофе на американский манер и спросить дорогу. Найти дом по адресу, который он называет, совсем несложно: ему нужно идти вдоль Ландверканала влево, в сторону Кройцберга, через который пролегает этот судоходный канал. Фельдмессерштрассе тоже отклоняется под прямым углом влево и тянется вдоль бокового рукава этого самого так называемого Ландверканала, отделенная от него коротким, некогда откидным металлическим мостом, которым уже давно не пользуются. По существу, эта улица представляет собой две довольно узкие, но пригодные для проезда автомобилей набережные по обеим сторонам глухой заводи, которой придают печальное, меланхолическое очарование остовы брошенных здесь старых деревянных барж. Неровная мостовая набережных, на которых нет тротуаров, только усиливает это апокалиптическое ощущение.
По обеим сторонам выстроились в ряд приземистые, почти загородные дома, по большей части двухэтажные и только изредка с тремя этажами. По всей видимости, они были построены в конце прошлого или в начале нынешнего века и почти не пострадали во время войны. Прямо на углу, который образуют Ландверканал и его неиспользуемый боковой рукав, стоит небольшая частная вилла, в архитектурном отношении ничем не примечательная, но производящая впечатление достатка и даже некоторого старомодного шика. Прочная ограда из кованого железа, обнесенная изнутри плотной живой изгородью из подстриженных бересклетов высотой в человеческий рост, закрывает вид на первый этаж и на палисад, который узкой полосой окружает дом. Отсюда можно разглядеть только второй этаж с лепным орнаментом вокруг окон, венец карниза в коринфском духе, венчающий фасад, и крытую шифером вальмовую крышу, гребень которой украшен зубчатым коньком из листов цинковой жести, соединяющих два ската.
Вопреки ожиданиям, выход за ограду обращен не к Ландверканалу, а на тихую Фельдмессерштрассе, на которой этот нарядный дом значится под номером 2, судя по синей, слегка облупившейся с одного края эмалевой табличке на довольно помпезных, но хорошо сочетающихся с оградой воротах. На новенькой лакированной деревянной вывеске с элегантными нарисованными от руки завитками, копирующими кованые узоры в стиле модерн, готическим шрифтом написано название фирмы «Die Sirenen der Ostsee» («Сирены Балтийского моря»), из которой явствует, что в этом буржуазном доме теперь разместилась непритязательная лавка, а снизу куда более скромным латинским шрифтом добавлено уточнение: «Puppen und Gliedermädchen. Ankauf und Verkauf» («Куклы и манекены на шарнирах. Скупка и продажа»). Валлон никак не возьмет в толк, что может быть общего между этой лавкой, названию которой придает подозрительную многозначительность немецкое слово Mädchen, и чопорным прусским офицером, официально зарегистрированным по этому адресу и, скорее всего, убитым этой ночью в советском секторе… или все же не убитым.
Поскольку путник, утомленный вчерашними мытарствами, коматозным сном и затянувшимся постом, чувствует себя далеко не лучшим образом, он шагает дальше по неудобной ухабистой мостовой, на которой в больших выбоинах среди бесчисленных бугорков и горбов рдеют лужицы рыжеватой воды, оставшейся здесь после недавнего дождя, окрашенной как будто в цвет ржавчины из давно канувшего, позабытого, но неотступного воспоминания. И действительно, метров через сто оно снова настигает его, когда вымерший канал упирается в тупик. Бледный луч солнца внезапно озаряет приземистые дома на противоположном берегу, чьи обветшавшие фасады отражаются в зеленоватой стоячей воде; у набережной стоит на приколе накренившийся старый парусник, сквозь истлевшее днище которого кое-где проглядывает его остов: шпангоут, флоры и футоксы. На этот раз пронзительное ощущение дежа вю долго не пропадает, хотя тусклый зимний свет быстро приобретает прежний серый оттенок.
В отличие от нескольких уже упомянутых совершенно плоских барж, которые, пока они были на плаву, еще удалось бы кое-как протиснуть под металлическим мостом, не откидывая его настил, этот заблудший рыбацкий корабль, чья большая мачта сохранилась (хоть и согнулась под углом почти 45 градусов), мог встать здесь на прикол только в те времена, когда пропускная система в начале бокового канала еще не пришла в негодность. Валлон как будто припоминает, что истлевший корабль, неожиданно всплывший из глубин его памяти, уже был живописной развалиной, когда он впервые увидел его на этом же месте в таких же призрачных декорациях; странно, конечно, ведь сейчас он ясно осознает, что это детское воспоминание: маленькому Анри, как его называли тогда в честь знаменитого крестного, было лет пять или шесть, и он держался за руку своей матери, пока она искала какую-то родственницу, несомненно, близкую, которая куда-то запропастилась после семейной ссоры. Неужели за сорок лет ничего не изменилось? Что касается ухабистой мостовой, воды цвета морской волны, отделки домов, то это еще можно допустить, но мыслимо ли, чтобы сохранилась прогнившая древесина рыбацкой лодки. Как будто время однажды завершило свою разрушительную работу и с тех пор каким-то чудом утратило силу.
Часть набережной, расположенная перпендикулярно каналу, замыкающая его и дающая возможность автомобилям и пешеходам переправляться с одного берега на другой, тянется вдоль обветшалой железной ограды, за которой виднеются лишь деревья, рослые липы без видимых увечий и повреждений, уцелевшие, как и близлежащие постройки, во время бомбардировок, и они все такие же, думает путник, какими были когда-то давно. Здесь и заканчивается Фельдмессерштрассе, упираясь в тупик. Впрочем, об этом его предупреждала весьма любезная официантка в пивной «Спартак» (теперь прославленный фракийский бунтарь уступил свое имя берлинской марке пива). За этими старыми деревьями – добавила она, – под сенью которых буйно разрослись кусты ежевики и сорная трава, начинается русская зона оккупации, чья граница проходит по северной окраине Кройцберга.
От неотступных видений, по фрагментам воссоздающих давно позабытое прошлое, путника отвлекают непривычные для города звуки: трижды кричит петух, звонко и мелодично, хотя на этот раз от слушателя его отделяет расстояние не во времени, а в пространстве. Не заглушаемый никаким шумом, его крик слышен так хорошо, что по нему можно судить о той необыкновенной тишине, в которой он раздается и разносится протяжным эхо. Только сейчас Валлон замечает, что с тех пор, как он свернул на эту захолустную улицу, вдали от городской суеты, он не видел ни одной живой души и не слышал ничего, кроме шарканья собственных ботинок по неровной мостовой. Самое подходящее место для передышки, в которой он так нуждается. Обернувшись, он почти без удивления видит, что в последнем на этой четной стороне доме под номером 10 располагается вполне приличная гостиница с меблированными комнатами. Этот постоялый двор, несомненно, принадлежит той же эпохе, что и вся улица. Тем не менее, на широкой, прямоугольной вывеске из новенького блестящего листа железа, покрытого красноватой охрой, золотистыми буквами выведено явно современное и приличествующее обстоятельствам название: «Die Verbündeten»,[13] В полуподвале устроено даже какое-то бистро, и, увидев, что у него французское название – «Café de Alliés»,[14] Валлон еще решительнее толкает дверь, ведущую в тихую гавань, которую послала ему судьба.
Внутри темно и тихо, даже тише, чем было на безлюдной набережной, если такое вообще возможно. Немного пообвыкнув, путник начинает различать в глубине этой берлоги нечто, напоминающее живого человека: высокий, толстый мужчина с угрюмым лицом, словно застывший в ожидании, как паук в центре своей паутины, стоит за старомодной резной деревянной стойкой, упираясь в нее обеими руками и слегка наклонившись вперед. Сей фактотум, исполняющий обязанности бармена и заодно принимающий постояльцев, встречает его молчанием; однако надпись на дощечке, выставленной на самое видное место, прямо перед ним, ясно дает понять: «Здесь говорят по-французски». Неуверенным тоном, как будто через силу, путник произносит:
– Добрый день, месье, у вас есть свободные номера?
Тот, не шелохнувшись, долго разглядывает непрошеного гостя, а потом по-французски, хотя и с заметным баварским акцентом, почти угрожающим тоном спрашивает:
– Сколько?
– Вы хотите спросить – сколько я готов заплатить?
– Нет. Сколько номеров?
– Ах, вот оно что. Само собой разумеется, один.
– Само собой это не разумеется – вы спросили про свободные номера.
Наверное, от смертельной усталости, которая навалилась на него разом, путнику чудится, что они, словно эхо, повторяют заранее составленный и уже когда-то (но где, когда и кем?) произнесенный диалог, как будто он стоит на сцене театра и разыгрывает пьесу, написанную кем-то другим. К тому же такая язвительность в начале переговоров не предвещает ничего хорошего, поэтому он уже собирается ретироваться, когда второй мужчина, столь же грузный и тучный, как и первый, появляется из подсобного помещения, еще погруженного в непроглядный мрак. Приближаясь к своему напарнику, новоприбывший замечает, что потенциальный постоялец попал в затруднительное положение, и его физиономия, столь же круглая и гладкая, все шире растягивается в приветливой улыбке. На французском, с менее заметным немецким акцентом он восклицает:
– Добрый день, месье Валь! Значит, снова к нам?
Сейчас, когда они стоят бок о бок за стойкой бара, возвышаясь над Валлоном (который, того и гляди, совсем растеряется), словно он находится на ступень ниже, они кажутся близнецами, так похожи их черты, несмотря на столь разные выражения на лицах. Сбитый с толку раздвоением портье и тем необъяснимым обстоятельством, что его здесь знают, о чем свидетельствуют слова более обходительной половины его собеседника, путник поначалу воображает сущую нелепицу: будто бы раньше он бывал в этом кафе с матерью, и тот, другой, помнит об этом… Он начинает что-то невнятно лепетать. Но радушный содержатель гостиницы тотчас продолжает:
– Простите моего брата, месье Валь. Франца тут не было с начала недели, а вы пробыли у нас совсем недолго. Но номер с ванной еще свободен… Вам не нужно заново заполнять бланк для регистрации, ведь по большому счету получается, что вы и не выселялись.
Заметив, что путник озадаченно молчит и забывает взять протянутый ему ключ, содержатель гостиницы перестает улыбаться, обеспокоенный его состоянием; укоризненным тоном семейного врача он говорит:
– Видно, вы совсем выбились из сил, мой бедный месье Валь: сегодня вернулись домой поздно ночью и рано утром снова куда-то ушли, даже не позавтракали… Но мы это быстро исправим: ужин уже готов. Франц отнесет наверх ваш багаж. А Мария сейчас же накроет на стол.
Недолго думая, Борис Валлон, которого называют Валем, просто со всем согласился (4). К счастью, Мария не говорила и не понимала ни слова по-французски. Что же касается его самого, то он и раньше был не в ладах с родным языком, а теперь и вовсе забыл немецкий. Юная девушка задала ему вопрос по поводу меню, на который требовалось как-то ответить, поэтому пришлось позвать на помощь «герра Иозефа». Тот, по-прежнему излучая любезность, все уладил, да так быстро, что Валлон даже не успел понять, о чем идет речь. Так что, когда он с равнодушием сомнамбулы поглощал пищу, он даже не знал, что лежит у него на тарелке. Хозяин гостиницы, чья любезность сменилась полицейской бдительностью (5), задержался у стола своего единственного постояльца и стоял, беззастенчиво и покровительственно поглядывая на него. Прежде чем удалиться, он заговорщицки прошептал, состроив утрированную и совершенно неестественную гримасу дружеского участия: «Вы правильно поступили, месье Валь, что сняли усы… Они вам не шли… К тому же, сразу было видно, что они накладные». В ответ путник промолчал.
Примечание 4: Эта неожиданная, хотя и мимолетная замена изъявительного наклонения настоящего времени совершенным видом, равно как и переход от первого лица к третьему в сцене пробуждения Ашера в квартире J.K., по нашему мнению, нисколько не меняет нашего представления о личности рассказчика или хронологии повествования. Хотя кажется, что временами голос рассказчика отстраняется от самого персонажа, он ни на мгновение не перестает фиксировать текущие внутренние переживания, преломленные одним сознанием, даже если порой они передаются в искаженном виде. По существу, мы видим все происходящее глазами одного разноименного субъекта, которому нравится скрываться под псевдонимом. В чем действительно нелегко разобраться, так это в том, к кому обращен этот рассказ. Никто не поверит в то, что это рапорт, предназначенный для Пьера Гарина: столь топорные подтасовки в описании многих событий и фактов не могут ввести в заблуждение специалиста такого уровня, особенно если тот сам ведет двойную игру, в чем Ашер мог бы его заподозрить. Если бы, напротив, сам Ашер без нашего ведома работал на другую организацию, тем более на одну из вражеских разведок, действующих в Берлине, ему было бы невыгодно выставлять себя таким идиотом. Если только от нас не ускользнули какие-то иные обстоятельства его предполагаемого предательства.
Примечание 5: Франц и Иозеф Малеры – действительно, близнецы и осведомители. Работают они не на нас, а на американскую разведку, возможно, заодно и на советские спецслужбы. Друг от друга их почти не отличить, разве что по акценту, с которым они говорят по-французски, хотя оба могут с легкостью подделать карикатурный баварский выговор. Что же касается любезной улыбки одного и неприветливости другого, то мы не раз убеждались в том, что они вполне непринужденно и совершенно синхронно меняются ролями. К счастью, они почти всегда появляются вместе (как любит говорить Цвинге, который просто обожает всякие шарады, загадки и каламбуры, Малер, все равно что беда, один не приходит), во избежание лишних расспросов. Зато пригожая Мария – один из самых надежных наших агентов. Она в совершенстве владеет французским, но тщательно это скрывает для пользы дела. Братья Малеры, которые, в конце концов, обо всем догадались, подыгрывают ей и держат язык за зубами в надежде на то, что рано или поздно тоже смогут извлечь из этого какую-нибудь выгоду.
Закончив трапезу, путник поднялся в третий номер и быстро принял ванну, но прежде достал из своей тяжелой сумки пижаму. Однако второпях он действовал так неловко, что заодно подцепил и какую-то маленькую вещицу в бумажной обертке телесного цвета, которая, наверное, лежала не на своем месте и упала на паркет с ровным, глухим стуком, указывающим на то, что она была довольно тяжелой. Валь поднял ее с пола, гадая, что бы это могло быть, и развернул обертку, чтобы рассмотреть саму вещицу: это была крошечная фарфоровая куколка на шарнирах, размером не больше десяти сантиметров, совершенно голая, точно такая же, как те, с которыми он играл в детстве. Разумеется, теперь он ничего подобного с собой в дорогу не брал. Впрочем, этим вечером он уже ничему не удивлялся. На внутренней белой стороне обертки стоял штамп с названием и адресом кукольной лавки, которая располагалась неподалеку: «Die Sirenen der Ostsee, Feldmesserstrasse 2, Berlin-Kreuzberg».
Выбравшись из животворной купели, путник в пижаме присел на край кровати. Тело его немного размякло, но голова звенела от пустоты. Он едва помнил, где он находится. В ящике ночного столика, кроме традиционной Библии, лежала большая потрепанная карта Берлина, аккуратно сложенная по первоначальным линиям сгиба. Тут Валь вспомнил, что он так и не нашел свою карту, когда перед уходом из разрушенного дома на Жандармен-маркт, набравшись терпения, перебрал вещи в дорожной сумке, чтобы проверить, все ли на месте. Не утруждая себя дальнейшими размышлениями о счастливом совпадении, благодаря которому он обнаружил эту вещь, он скользнул под теплое одеяло, обернутое снизу простыней, и тут же заснул.
Во сне (там, где время течет иначе) вновь был разыгран один из самых привязчивых его кошмаров, на этот раз по всем законам жанра, без внезапного пробуждения: там малышу Анри было не больше десяти лет. Ему срочно нужно было в туалет по-маленькому, и он спросил у помощника учителя разрешения выйти из класса. Вот он плутает по безлюдным рекреациям, по внутренним дворикам с аркадами и бесконечным пустым коридорам, поднимается по лестницам, попадает в другие коридоры, тщетно открывает бесчисленные двери. Здесь нет никого, кто мог бы подсказать ему дорогу, и во всей огромной школе (возможно, это лицей Бюффон?) ему не найти ни одной уборной. В конце концов, он набредает на свой класс и сразу видит, что отведенное ему учителем место, которое он недавно (как давно?) покинул, занимает теперь мальчик такого же возраста, наверное, новенький, поскольку он его не знает. Но приглядевшись к нему, маленький Анри без особого удивления замечает, что другой мальчик внешне очень похож на него. Его одноклассники, один за другим, поворачиваются к двери и с явным укором смотрят на нарушителя спокойствия, который застыл на пороге, не зная, куда ему идти: в классе нет ни одной свободной парты… Один лишь самозванец так и сидит, склонившись над пюпитром, и старательно пишет дальше свое сочинение на французском, очень мелким, тонким и правильным почерком, без помарок (6).
Примечание 6: Под довольно неубедительным предлогом описания сновидения, переход к которому, впрочем, стилистически был не слишком хорошо подготовлен, Ашер снова обращается к теме своего эфемерного двойника, разумеется, рассчитывая на то, что в дальнейшем это пригодится ему при составлении рапорта. Например, он может надеяться на то, что так ему удастся выйти сухим из воды. Относиться к нему с недоверием весь Секретный агентурный департамент (и тем более, лично меня) вынуждает то обстоятельство, что, описывая свое детское воспоминание о поездке в Берлин, предпринятой его матерью, уж конечно, не с туристической целью, наш рассказчик умудряется утаить как раз то, что могло послужить причиной интересующей нас галлюцинации: я имею в виду личность пропавшего родственника, которого они тогда искали. Нам трудно вообразить, что дотошный Ашер нисколько не кривит душой, когда излагает такой рассказ о своем будто бы обрывочном воспоминании, в котором удивительным образом, словно ластиком, стерто как раз то, что составляет суть истории. А может быть, перед нами необычайно наглядный пример забывчивости в духе фрейдовского эдипова комплекса! Маме, которая пустилась в это рискованное путешествие, взяв с собой маленького сына, не было смысла скрывать от него свои намерения, поскольку все это, очевидным образом, имело прямое отношение к нему самому Словом, превращение реального взрослого мужчины, у которого жил маленький мальчик, в «какую-то родственницу», может объясняться сознательной, но не предумышленной мистификацией.
Позднее, уже в другом мире, Валь просыпается. Ногой он отпихивает белое одеяло, под которым ему слишком жарко. Усевшись на постели, он, разумеется, первым делом пытается понять, который теперь час. Во всяком случае, солнце уже взошло, но стоит на небе довольно низко, наверное оттого, что на дворе зима. Погода ясная, даже солнечная для этого времени года. Занавески на окне с видом на ту часть заброшенного канала, которая заканчивается тупиком, Валлон не задергивал. Судя по всему, спал он долго, не урывками и хорошо выспался. Вставал он только один раз, чтобы сходить в туалет (поскольку за ужином изрядно приложился к пиву). Повторяющийся сон, в котором он никак не может отыскать уборную, уже давно не приводит его в смятение; к тому же, ему кажется, что события в сновидении со временем, так сказать, упорядочились, повествование приобрело почти логическую связность, и поэтому сновидение утратило всю свою устрашающую мощь.
Валь берет карту Берлина, которую он вчера положил на ночной столик, и целиком ее разворачивает. Этот экземпляр, точно такой же, как тот, что он потерял (где и когда?), в таком же хорошем состоянии, с точно таким же случайным загибом на углу, можно отличить лишь под двум жирным красным крестикам, нарисованным шариковой ручкой: одним помечен тупик Фельдмессерштрассе, что не так уж удивительно, коль скоро карта находится в этой гостинице, а вот другой, который его и смущает, стоит на углу Жандарменмаркт и Егерштрассе. Именно в этих местах путник провел две последние ночи. В раздумьях он подходит к незанавешенному окну. Его детское воспоминание все там же, прямо перед ним, прочно пришвартованное к набережной. Изменилось только освещение. Приземистые дома, которые накануне вечером были озарены бледно-желтыми лучами заходящего солнца, сейчас в тени. Корпус корабля-призрака потемнел, приобрел более угрожающий вид, как будто даже увеличился в размерах…
В тот первый раз, когда эта картина запала ему в память, во время той стародавней, поросшей быльем поездки, состоявшейся, вероятно, в начале лета, поскольку эта сцена разыгралась, кажется, в каникулы, по дороге на отдых, тогда этот величественный, черный деревянный остов, наверняка, напугал слишком чувствительного, болезненно впечатлительного и постоянно преследуемого призраками мальчугана, который цеплялся за надежную материнскую руку. Скорее всего, матери приходилось слегка тянуть его за руку, поскольку он устал от долгой ходьбы, к тому же она боялась, как бы он не потерял равновесие на разбитой, слишком ухабистой мостовой, чуть ли не холмистой для слабых ножек ребенка, которому едва исполнилось шесть лет. А долго нести его на руках она не могла – для этого он был уже слишком тяжелый.
Эти ясные, отчетливые, почти осязаемые, хотя и отрывочные воспоминания так тревожат Валлона не потому, что он не может вспомнить, кого искала его мать, – это кажется ему сейчас несущественным – а потому, что местом поисков был Берлин, поисков напрасных: того, кто был им нужен, они так и не нашли. Если память меня не подводит, в том году (около 1910 г.) мать отвезла его к тетке по отцовской линии, немке, у которой на острове Рюген был домик на берегу моря; значит, непредвиденная остановка в пути, бесполезные скитания вдоль глухого канала с целым кладбищем поставленных на прикол гниющих рыбацких лодок, – все это могло произойти в одном из окрестных приморских городков: в Заснице, Штральзунде или Грейфсвальде.
Однако, если вдуматься, прибывающие поездом из Франции никак не могли обойтись без остановки в Берлине, где требовалось пересесть на другой поезд или даже перебраться на другой вокзал, поскольку в столице, как, впрочем, и в Париже, уже тогда был отнюдь не один центральный вокзал. Такая дальняя поездка из Бреста по железной дороге, с двумя остановками, в те времена, несомненно, была настоящим подвигом для одинокой молодой женщины с курортным багажом и маленьким ребенком на руках… Несмотря на расстояние, разделяющее его родину и побережье Померании, обрывистые берега Балтийского моря с нагромождениями огромных валунов, скалистыми выступами, устланными светлым песком бухточками, ямами, заполненными водой и окаймленными скользкими водорослями, где он играл сорок лет назад, в тот неповторимый летний месяц, играл в полном одиночестве еще и потому, что язык воздвиг преграду между ним и другими мальчиками и девочками, которые неутомимо строили замки из песка, обреченные на затопление, – все это совместилось в его сознании с песчаными берегами, гранитными скалами, опасными заводями Северного Финистера, составлявшими мир его детства…
В сумерках, во время отлива он быстро пересекает узкую полоску сухого песка в верхней части берега маленькой бухты, откуда мало-помалу отступает вода, и направляется к гирлянде фукусов, отмечающей границу, до которой добрался недавний прилив. По ковру из клочков еще влажных морских водорослей, сорванных океаном, рассыпана всякая всячина, гадая о происхождении которой можно дать волю воображению: морские звезды, уже мертвые, выброшенные в море рыбаками, куски крабовых панцирей или рыбьих скелетов, мясистый и совсем свежий двухлопастный хвостовой плавник, такой большой, что вполне мог бы принадлежать дельфину или русалке, целлулоидная кукла, все еще улыбающаяся, хотя у нее оторваны руки, закупоренный пробкой флакон, в котором еще осталось немного вязкой жидкости, чей красный цвет можно различить даже в темноте, бальная туфелька на высоком, почти оторвавшемся от подметки каблуке, союзка которой покрыта голубоватыми металлическими чешуйками, испускающими неправдоподобное сияние…
Второй день
Раскладывая по своим местам вещи в толстой дорожной сумке, аккуратный Борис Валлон, иногда именуемый Валем, вдруг вспоминает о том, что сегодня ночью ему приснилось, как он обнаружил среди своих дорожных принадлежностей крошечную фарфоровую куколку на шарнирах, которая была в детстве его любимой игрушкой (и жертвой). Почему она неожиданно вернулась к нему во сне, для него очевидно: все дело в вывеске той лавки по продаже Püppchen,[15] увиденной им вчера над воротами особняка, в котором жил, а может быть, и до сих пор живет Дани фон Брюке. Впрочем, если он, действительно, жив, то, избегнув смерти во время недавнего покушения, он наверняка поостерегся бы возвращаться в дом, в котором он официально зарегистрирован, о чем давно известно убийцам. Элементарное благоразумие заставило бы его раз и навсегда исчезнуть.
Спустившись в пустой холл к завтраку, Валлон пытается собраться с мыслями и выстроить в правильной последовательности все, что ему известно об этом авантюрном предприятии, в котором все идет не так, как было задумано, чтобы наметить, если это возможно, свой план расследования и даже свой план действий. Он замышляет не что иное, как собственное расследование, коль скоро короткий отпуск, о котором его известил Пьер Гарин, означает, что его миссия – по крайней мере, на какое-то время – считается выполненной. Мария, уже успевшая, умело орудуя утюгом, в два счета выгладить его измятый костюм, улыбаясь и не говоря ни слова, с грациозным проворством расставляет перед ним многочисленные закуски, составляющие плотный немецкий завтрак, за который он, впрочем, принимается с большим аппетитом. Братьев Малеров, ни одного, ни другого, сегодня не видно.
На улице светит солнце, тусклое зимнее солнце, которое не может как следует прогреть прохладный воздух, колеблемый легким, изменчивым, своенравным, очень берлинским бризом. У Валя тоже становится легко на душе, даже легче, чем было вчера после того, как ему удалось перебраться через американский контрольно-пропускной пункт. Избавившись от своего громоздкого багажа, более или менее выспавшись, он чувствует себя сейчас свободным и отдохнувшим. Оглядывая окрестности с такой же отрешенностью, с какой он мог бы смотреть старый фильм, в котором недостает нескольких бобин с пленкой, он бодро шагает вперед, почти не обращая внимания на смутное, но неотступное ощущение пустоты в голове или, по меньшей мере, какого-то отупения, стараясь об этом просто не думать… Какое это имеет сейчас значение?
На другом берегу заброшенного канала удильщик с одной лишь неразличимой отсюда бечевкой в правой руке, которую он слегка вытянул вперед, чтобы сразу почувствовать, когда начнется гипотетический клев, сидит налакированном деревянном кухонном стуле, принесенном сюда, видимо, из близлежащего дома и поставленном на самом краю набережной, прямо перед первой ступенью каменной лестницы, вырубленной в мостовой и спускающейся к воде. Впрочем, глядя на эту не первой свежести воду, мутную и усеянную мелкими отбросами, плавающими на поверхности (пробки, апельсиновая кожура, радужная масляная пленка) или слегка притопленными (исписанные листы бумаги, белье с красными пятнами и т. д.), трудно поверить, что в ней могла выжить какая-то рыба. В одной рубахе, в закатанных до колен штанах и холщовых туфлях рыболов выглядит по-летнему, что как-то не вяжется с этим временем года. Вылитый статист, которому костюмерша плохо подобрала наряд. У него густые черные усы, и, похоже, он угрюмо рыскает взглядом по сторонам, низко надвинув на глаза козырек продолговатого картуза из мягкой ткани, напоминающего кепки, которые любят носить рабочие в Греции и Турции.
Так называемый рыболов безо всякого стеснения поворачивает голову и смотрит вслед этому сомнительному буржуа в мехах, который прогуливается вдоль домов на противоположном берегу, то есть по четной стороне, останавливается на полпути к откидному мосту, чей механизм так проржавел, что его уже не поднять, и внимательно разглядывает ту часть неровной и ухабистой мостовой, где между булыжниками остались кроваво-красные следы суриковой краски, словно брызнувшей из-под земли через треугольную скважину между хорошо отшлифованными окатами трех булыжников, а затем растекшейся в разные стороны длинными, переплетающимися струями, которые резко изгибаются под прямым углом, перекрещиваются, разветвляются и попадают в тупики, так что, внимательно проследив за их переменчивым, прерывистым, лабиринтообразным бегом, можно без труда различить зигзаги, ромбы, меандр, свастику, металлическую лестницу, зубцы крепостной стены… после чего низко согнувшийся путник снова распрямляет спину и смотрит на высокую, потемневшую, сложную, но уже бесполезную металлическую конструкцию, с помощью которой когда-то поднимали подвижное полотно моста, открывая баржам проход в Ландверканал, на две ее мощные круглые дуги, вздымающиеся в небо на такую же высоту, как и крыши домов, и увенчанные двумя массивными чугунными противовесами, каждый из которых представляет собой толстый, выпуклый по бокам диск, наподобие непритязательного пресс-папье с потускневшей позолотой, перешедшего ко мне по наследству от моего деда Коню после маминой смерти и лежащего ныне на моем письменном столе. Между пресс-папье и мной в мнимом беспорядке рассыпан целый ворох исписанных мелким, почти неразборчивым почерком и испещренных помарками страниц, на которых, один за другим, запечатлены черновые наброски этого отчета.
Слева и справа от этого большого письменного стола из красного дерева, с помпезными, в наполеоновском стиле, орнаментами, уже описанными мной в другом месте, который, надвигаясь со всех сторон, исподволь захватывают груды, нарастающего слоями экзистенциального бумажного хлама, я теперь не раскрываю днем ставни трех окон, выходящих в парк, на юг, север и запад, чтобы не видеть мрачной разрухи, среди которой я живу с тех пор, как вскоре после Рождества Нормандию опустошила буря, отметив на такой поистине незабываемый манер конец века и мифический переход в двухтысячный год. Красивая композиция листвы, водоемов и газонов сменилась кошмаром, от которого невозможно пробудиться и по сравнению с которым ущерб от катаклизма, казавшегося тогда историческим, – от урагана 1987 года, уже упоминавшегося в моих сочинениях, – кажется смехотворным. На этот раз понадобятся месяцы, если не годы, только для того, чтобы разобрать завалы из сотен исполинских расколовшихся стволов, которые намертво сплелись между собой (придавив молодые деревца, выращенные с такой любовью), и убрать огромные, вырванные с корнем пни, от которых в земле остались разверстые ямы, словно воронки от бомб, сброшенных во время невероятного блицкрига, длившегося не более получаса.
Я часто толковал о радостной созидательной одержимости, которую должен без устали проявлять человек для того, чтобы заново отстроить лежащий в руинах мир. И вот, после целого года работы над одним сценарием, слишком часто прерываемой разъездами, и спустя всего несколько дней после разрушения того, что составляло важную часть моей жизни, я вновь принимаюсь за эту рукопись и опять попадаю в Берлин, переживший другой катаклизм, снова беру себе другое имя, другие имена, примеряю к себе чужую профессию, разжившись поддельными паспортами и получив загадочное задание, которое в любой момент может превратиться в дым, и все же упорно продолжаю барахтаться в самой гуще двойников, неуловимых видений, неотступных образов, снова и снова возникающих на поверхности возвращающихся зеркал.
В этот миг Валлон тоже быстрым шагом идет дальше в сторону пересечения нашей Фельдмессерштрассе с двумя набережными, а затем поворачивает, явно направляясь к дому под номером 2, в котором располагается гипотетическая кукольная лавка для детей и взрослых. Ворота из кованого железа в стиле модерн приоткрыты. Тем не менее, путник не решается еще немного надавить на створ; он предпочитает известить о своем приходе, воспользовавшись цепочкой, которая висит с левой стороны и вроде бы должна приводить в движение колокольчик, однако на деле, когда он несколько раз с силой дергает за нее, никакого звона не слышно, и никто не появляется.
Скользнув взглядом вверх по фасаду нарядного особняка, Валь замечает, что центральное окно на втором этаже широко раскрыто. В оконном проеме видна особа женского пола, которую путник сначала принимает за манекен, такой неподвижной кажется она издали, да и мысль о том, что манекен выставили там, чтобы его было лучше видно с улицы, представляется вполне правдоподобной, ведь вывеска на воротах указывает на то, что здесь располагается торговое заведение. Но когда Валь вдруг улавливает живой блеск в обращенных на него глазах и тонкую улыбку, в которой слегка разжимаются ее пухлые губки, он понимает, что ошибся: хотя она стоит на таком холоде в вызывающе легком платье, перед ним – да простит меня Бог! – совсем юная девушка из плоти и крови, которая глядит на него с показной самоуверенностью. Эта девушка с растрепанными белокурыми локонами, возможно, только что вставшая с постели, надо сказать, очень миленькая, если этот слащавый эпитет подходит для описания ее ослепительной дьявольской красоты, ее нескромной позы, победоносного выражения ее лица, которое, напротив, указывает на твердый, сильный, закаленный в испытаниях и даже отважный характер, без единого намека на непостоянство, какого следовало бы ожидать от столь юной особы (лет тринадцати-четырнадцати).
Валь слегка кивает ей головой, но она не обращает на него внимания, и он, сбитый с толку таким неожиданным приемом, отводит глаза от этого волнующего видения. Впрочем, это только придает ему смелости, и он еще решительнее толкает решетку ворот, широкими шагами пересекает узкий палисад, направляется к крыльцу и уверенной походкой поднимается на три ступени. Справа от двери на выложенном кирпичом откосе дверного проема укреплен выпуклый звонок округлой формы, с сосцевидным выступом, отполированным пальцами посетителей, и традиционной табличкой сверху, на которой выгравировано имя «Жоёль Каст». Валь с силой жмет на кнопку.
По истечении долгой и тихой минуты ожидания к тяжелой деревянной двери, украшенной резными узорами, кто-то приближается, как будто с опаской, и в проеме приоткрытой двери появляется пожилая женщина в черном. Борис Валлон даже не успевает представиться или извиниться, как дуэнья тихим и доверительным голосом сообщает ему, что продажа кукол начнется только после обеда, но зато уж будет продолжаться весь вечер, и эти слова вкупе со зрелищем не по годам чувственной девушки в окне на втором этаже усиливают подозрения, возникшие у нашего спецагента в самом начале. Воспользовавшись заранее составленной фразой на правильном, но, безусловно, немного тяжеловесном немецком, он спрашивает, может ли его принять господин Дани фон Брюке, несмотря на то, что он не условился с ним заранее о встрече.
Старуха, насупившись, тянет дверь на себя, открывая ее пошире, чтобы рассмотреть этого коммивояжера без чемоданчика, и внимательно разглядывает его с головы до ног с каким-то недоверчивым изумлением, которое мало-помалу перерастает в ужас, словно она боится, что перед ней сумасшедший. И тут резким толчком она закрывает дверь, толстая створка которой захлопывается с глухим лязгом. Прямо над ним, за кадром, раздается звонкий, безудержный смех невидимой, но внутренним взором еще различимой девушки, которую внезапно, по каким-то неизвестным мне причинам, охватило веселье. Дерзкие переливы смеха прерывает лишь ее приятный, певучий голосок, когда она насмешливо выкрикивает по-французски: «Не везет сегодня!»
Посетитель, которого не пустили в дом, выгибается и задирает голову. Дерзкая проказница, которая в свой черед перегнулась через подоконник, появляется на фоне неба в прозрачной сорочке, на которой распущены почти все шнурки, словно эта соня принялась торопливо снимать с себя кукольное ночное белье, чтобы одеться поскромнее. Она кричит: «Подождите! Я вам открою!» Но в тот же миг ее тело, с которого постепенно сползает одежда (уже показалось плечо, а там и маленькая грудь), начинает неправдоподобно, страшно, безнадежно выскальзывать в пустоту. Ее глаза раскрываются все шире навстречу бездне сине-зеленой влаги. Ее слишком красные уста разъяты до предела в крике, который никак не может из них вырваться. Ее грациозное тело, ее голые руки, ее головка с белокурыми локонами хаотично вытягиваются и извиваются, трепещут, бьются, совершая сонмы движений, которые становятся все более иступленными. Кажется, будто она зовет на помощь, будто что-то ужасное – жгучее пламя пожара, острые клыки вампира, разящий нож убийцы – неумолимо надвигается на нее из глубины комнаты. Она готова на что угодно, лишь бы спастись, но в действительности она уже опрокинулась вниз в нескончаемом падении и уже лежит, расшибившись насмерть, на мелком садовом гравии… Тут она подается назад так резко, словно сама комната поглощает ее, и мигом исчезает.
Валь возвращается в исходную позицию, перед дверью. Дверь опять приоткрыта; но вместо негостеприимной дуэньи на пороге неподвижно стоит молодая женщина (лет тридцати), глядя на незнакомца, который не может скрыть свое замешательство и сконфуженно улыбается. Он бормочет по-немецки какие-то невнятные объяснения. Но она, все так же молча, продолжает разглядывать его, с серьезным, несомненно, дружелюбным видом, хотя на лице ее лежит печать тихой, давней грусти, которая резко контрастирует с легкомысленностью той взбалмошной девчонки. Сразу заметно, что она похожа на эту девушку, у нее такой же миндалевидный разрез больших зеленых глаз, такие же привлекательные пухлые губы, такой же тонкий прямой, что называется, греческий нос, хотя у той, что помоложе, он очерчен резче, но, глядя на ее черные как смоль волосы, скромно расчесанные на прямой пробор по моде двадцатых годов, понимаешь, что они отличаются друг от друга не только возрастом. Ее зрачки едва заметно двигаются, а губы слегка разжаты.
Эта соблазнительная дама с обворожительным выражением обиды и легкой грусти на лице, наконец, произносит голосом томным и низким, поднимающимся у нее из груди или даже из глубины живота, на французском, звучание которого вызывает в памяти вкус спелой вишни и сочного абрикоса, – в ее случае, это можно было бы назвать чувственным тембром, – так, помнится, звучал и голос девочки: «Не обращайте внимания на Жижи и на все, что она говорит, а, может, и делает… Малышка любит дурачиться, это все по малолетству: ей ровно четырнадцать лет… и от дурной компании». Сделав многозначительную паузу, за время которой Валь так и не успел решить, как ей ответить, она добавляет: «Доктор фон Брюке уже десять лет здесь не живет. Я очень сожалею… Тут стоит мое имя. (Грациозным жестом она показывает голой рукой на медную табличку над звонком.) Но меня можно называть просто Жо, на немецкий лад Ио – за ней по всей Греции и Малой Азии гонялся слепень, а потом ее изнасиловал Юпитер, обернувшись тучей с огненными сполохами».
Улыбка, скользнувшая по губам Жоёль Каст, когда она некстати упомянула об этом мифе, ввергает посетителя в хаос фантастических предположений. Собравшись с духом, он наудачу спрашивает: «И о чем же здесь жалеть, позвольте узнать?»
– Вы о том, что Даниэля здесь больше нет? (Молодая женщина на миг оживляется, разражаясь гортанным смехом, глубоким и похожим на воркование, который, кажется, извергается из самого нутра.) Мне не о чем! Не о чем жалеть! Я имела в виду вас, ваше расследование… месье Валлон.
– Ага!.. Так вы знаете, как меня зовут?
– Пьер Гарин известил меня о том, что вы собираетесь зайти. (Молчание.) Входите же! Я уже немного замерзла.
Следуя за ней по длинному темному коридору в комнату, напоминающую гостиную, тоже довольно темную, которая забита разномастной мебелью, крупными манекенами и всевозможными, более или менее необычными вещами (какие можно увидеть в лавке старьевщика), Валь пытается размышлять о том, что сулит ему эта резкая перемена. Не угодил ли он снова в ловушку? Усевшись в жесткое кресло, обтянутое красным бархатом, с подлокотниками из красного дерева, отделанными для красоты и сохранности тяжелой бронзой, он задает вопрос, изо всех сил стараясь говорить самым обычным светским тоном: «Вы знаете Пьера Гарина?»
– Разумеется! – отвечает она, быстро и немного устало пожимая плечами. – Тут все знают Пьера Гарина. К тому же, я пять лет была замужем за Даниэлем, перед самой войной… Он был отцом Жижи.
– Почему вы говорите «был»? – спрашивает путник, немного поразмыслив.
Дама долго смотрит на него, не отвечая, словно размышляет над его вопросом, а, может быть, думает о чем-то другом, но так или иначе, в конце концов, поясняет, равнодушно и безучастно: «Жижи сирота. Полковник фон Брюке был убит прошлой ночью в советском секторе израильскими агентами, прямо перед окнами квартиры, где я жила с дочерью в начале 1940 года, после того, как муж от меня отрекся».
– Как это «отрекся»?
– Это было право Даниэля и даже его долг. В соответствии с новыми законами Третьего Рейха, я считалась еврейкой, а он был высокопоставленным офицером. По этой же причине он никогда не признавал себя отцом Жижи, которая родилась вскоре после нашей свадьбы.
– Вы говорите по-французски без малейшего немецкого или центральноевропейского акцента…
– Я выросла во Франции, и я француженка… Но дома мы еще говорили на одном из наречий сербо-хорватского. Мои родители приехали из Клагенфурта… Каст – это неправильное сокращение от Костаньевицы – городка в Словении.
– И на протяжении всей войны вы оставались в Берлине?
– Вы шутите! Мое положение становилось все более рискованным, да это было и неудобно при нашей тогдашней скромной жизни. Мы боялись выйти из дома… Даниэль навещал нас раз в неделю… В начале весны 1941 года ему удалось устроить наш отъезд. У меня тогда еще оставался французский паспорт. Мы поселились в Ницце, в итальянской оккупационной зоне. Полковник фон Брюке был переброшен со своей частью на Восток для выполнения стратегических разведывательных операций.
– Он был нацистом?
– Наверное был, как все… Скорее всего, он об этом даже не задумывался. Как и подобает германскому офицеру, он беспрекословно выполнял приказы германского правительства, а в Германии правили национал-социалисты… Вообще-то, я даже не знаю, чем он занимался после нашей последней встречи в Провансе и до своего возвращения в Берлин несколько месяцев назад. Когда фронт под Мекленбургом после капитуляции адмирала Деница был расформирован, Даниэль мог вернуться, например, к своей семье в Штральзунд, если русские его отпустили по каким-то непонятным политическим соображениям. Что касается меня, то, как только выдалась такая возможность, я приехала сюда с французскими оккупационными войсками. По-английски я говорю так же свободно, как и по-немецки, да и по-русски объясниться могу, благо он похож на словенский. Через «Красный крест» мне удалось привезти сюда Жижи, и нам без проволочек разрешили снова поселиться в нашем старом доме на канале, который чудом уцелел во время войны. Я сохранила берлинские документы, которые подтверждают, что я раньше жила в этом доме, а Жижи здесь родилась. Один любезный американский лейтенант выхлопотал для нас вид на жительство, продовольственные карточки и все остальное.
Бывшая мадам Жоёль фон Брюке, урожденная Кастаньевица, она же Каст («зовите меня просто Жо»), рассказывает ему обо всем этом с такими явными потугами на ясность, связность и точность изложения, так дотошно указывает всякий раз, куда и когда она переехала, не забывая упомянуть и о причинах поездки, что Борису Робену, который особо не навязывался к ней с расспросами, ее история, напротив, начинает казаться подозрительной, а то и неправдоподобной. Она как будто повторяет заученный на зубок текст, стараясь ничего не упустить. Да и тон ее, такой степенный, рассудительный, безразличный, в котором не ощущается ни волнения, ни злобы, придает всему рассказу привкус фальши. Эту назидательную одиссею вполне мог сочинить самолично Пьер Гарин. Для верности надо бы допросить эксцентричную девчонку, которую наверняка натаскали не так хорошо, как мать. Зачем ей, женщине, похоже, не слишком расположенной к душевным излияниям и болтовне, так докучать незнакомому человеку излишними подробностями своей семейной саги? Что таится за ее неуместным рвением, за ее скрупулезными воспоминаниями, в которых, несмотря на исчерпывающие с виду показания, все же полно пробелов? Почему она так поспешно вернулась в этот ненадежный, полуразрушенный город, в который нелегко попасть и в котором ее жизни, быть может, еще угрожает опасность? Что именно известно ей о смерти фон Брюке? Может быть, она сама это и устроила? Или только помогла устроить? В центре какого лабиринта находится квартира J.К.? Откуда у нее такие точные сведения о том, где именно было совершено преступление? И как мог Пьер Гарин предугадать, что путник в последний момент выберет паспорт на имя Валлона, чтобы перебраться в западный анклав города? Быть может, ему сразу доложила об этом Мария, горничная из гостиницы «Die Verbündeten»? И наконец, на какие средства эта Жо живет в Берлине, куда она сразу же постаралась перевезти и свою малолетнюю дочь, которой наверняка было бы проще закончить школу в Ницце или в Каннах? (7)
Размышляя над этими загадками, Валь, чьи глаза уже привыкли к мутному полумраку, в которой погружена просторная гостиная, почти целиком затянутая тяжелыми красными портьерами, внимательно разглядывает эти онейрические декорации блошиного рынка, гнетущий кавардак, склад забытых воспоминаний, хотя многочисленные, возвышающиеся среди миниатюрных детских игрушек манекены высотой в человеческий рост, в вызывающих нарядах, контрастирующих с их миловидными, девичьими лицами, наводят на мысль скорее о притоне начала века, чем о лавке для маленьких девочек. И посетитель снова гадает, чем же промышляют обитатели этого некогда буржуазного дома, в котором жил офицер вермахта.
Примечание 7: Задаваясь с напускным простодушием всевозможными вопросами, наш беспокойный рассказчик ненароком допускает, по меньшей мере, одну ошибку, когда составляет из своих пешек такую мудреную композицию: мимоходом он проговорился, что подозревает заботливую Марию – а не братьев Малеров – в сотрудничестве с САД, хотя сегодня утром она даже не понимала нашего языка. Но что с его стороны уж совсем странно, так это то, что он избегает одного вопроса, который кажется нам (особенно мне) вполне уместным и имеет к нему прямое отношение: разве разочарованная молодая вдова не напомнила ему другую женщину, его близкую родственницу, чей образ все время просвечивает сквозь ткань его повествования? Разве, описывая здесь ее лицо с резкими чертами, он не рисует портрет, имеющий явное сходство с фотографией его матери в возрасте тридцати лет, намеки на которую разбросаны там и сям по всему его тексту? Тут он старательно избегает любого упоминания об их неоспоримом сходстве (которое вдобавок усиливает чувственный тембр голоса, уже описанный им в другом месте), хотя обычно по ходу повествования использует малейшую возможность, чтобы отметить иной раз вымышленное, по крайней мере, не столь явное двойничество или подобие между образами, отстоящими друг от друга во времени не меньше, если не больше, чем эти, чье странное тождество представляется нам очевидным. Вместо этого он развязно (похоже, не без тайного умысла) настаивает на том, что от Жоёль Каст и от маленькой златокудрой бесстыдницы исходят одинаковые сексуальные флюиды, тогда как нам эта морфологическая аналогия, которую он усматривает между матерью и дочерью, тоже кажется сугубо субъективной, если не сказать, выдуманной для того, чтобы ввести нас в заблуждение.
В действительности, «внебрачная» дочь Дани фон Брюке унаследовала скорее «арийскую» красоту от своего родителя, который, хоть и не наделил ее старинным дворянским титулом, дал ей, однако, архаичное и ныне почти позабытое прусское имя Гегенеке, которое быстро переделали в Геге на немецкий манер или в Жижи на французский, а затем и в Джиджи для удобства американцев. Между прочим, для тех, кто еще не догадался, замечу, что эта капризная, но во многих отношениях не по годам смышленая юная особа является одной из ключевых фигур в нашей шахматной композиции.
Когда путник, наконец, выходит из задумчивости (как долго он в ней пребывал?), он снова поворачивается к даме… К его удивлению, кресло, в котором она только что сидела, теперь опустело. Не вставая со своего кресла, он смотрит направо и налево, но в этой большой комнате ее нигде не видно. Значит, хозяйка покинула гостиную с эротическими куклами и оставила своего гостя, а он не услышал ни звука ее шагов, ни потрескивания половиц, ни скрипа двери. Почему она выскользнула отсюда тайком? Может быть, она торопилась сообщить Пьеру Гарину о том, что залетная птичка попалась в силки? Возможно, люди из САД уже проникли в виллу, на верхнем этаже которой поднялась какая-то тревожная суматоха? Но в этот момент неуловимая вдова с зелеными глазами, подернутыми поволокой напускной грусти, беззвучно появляется из какого-то невидимого прохода в темных глубинах похожей на чулан гостиной, отчего кажется, будто молодая женщина возникает из мрака, держа в руке переполненную чашку на блюдце, которую она осторожно несет, стараясь не расплескать ее содержимое. Краем глаза присматривая за жидкостью в чашке, она приближается к нему невесомыми шажками танцовщицы и говорит: «Я приготовила вам кофе, месье Валлон, крепкий, на итальянский манер… Он немного горьковатый, но неплохой, в коммунистическом секторе вам такой вряд ли предложат. Американское интендантство снабжает нас тут многими дефицитными продуктами. (Она вручает ему свой драгоценный дар.) Это «робуста» из Колумбии…» И выдержав короткую паузу, в течение которой он начинает маленькими глотками отхлебывать обжигающее черное варево, она как-то совсем по-домашнему материнским тоном добавляет: «Вы так устали, мой бедный Борис, что заснули, пока я говорила!»
Кофе и впрямь такой крепкий, что вызывает тошноту. Как он не похож на то, что называют американским кофе… Пересилив себя, путник допивает его одним глотком, но лучше ему от этого не становится; скорее уж наоборот. Пытаясь как-то унять подступающую тошноту, он встает с кресла якобы для того, чтобы поставить пустую чашку на мраморную крышку комода, которая, впрочем, уже и так загромождена мелкими вещицами: кошелечками из металлических колечек, цветочками из бисера, шляпными булавками, коробочками с перламутровым отливом, экзотическими раковинами… вперемешку с семейными фотографиями разных размеров, в наклонных латунных рамах с ажурными краями. В центре стоит самая большая фотография, сделанная на память во время отдыха на море, на которой слева на заднем плане видны гладкие скалы на фоне поблескивающей водной ряби, а на переднем плане – четыре человека, стоящие рядком на песке и глядящие в объектив камеры. Такой снимок вполне могли сделать и на маленьком бретонском пляже в Леоне.
В центре фотографии двое, оба с нордическими золотистыми волосами: высокий и стройный мужчина лет пятидесяти, с красивым, суровым лицом, в безукоризненно белых штанах и подобранной в тон белой рубахе с туго застегнутыми на пуговицы манжетами и воротником, а справа от него – совсем маленькая девочка двух, от силы, двух с половиной лет, хорошенькая и смеющаяся, совершенно голенькая.
Двое других, справа и слева от них, замыкающие ряд с двух сторон, напротив, жгучие брюнеты: весьма привлекательная молодая женщина (лет двадцати), которая держит за руку девочку, а с другой стороны – мужчина лет тридцати-тридцати пяти. Оба в пляжных костюмах, черных (или достаточно темных, чтобы казаться такими на черно-белой фотографии), она в трико, прикрывающем весь торс, он в трусах, – оба еще мокрые, видимо, после недавнего купания. Судя по их возрасту, эти молодые люди с очень темными волосами должны быть родителями девочки с кудрями цвета спелой пшеницы, которая, выходит, унаследовала по закону Менделя светлую пигментацию от деда.
Сам дед тем временем глядит в небо, за край отливающего глянцем прямоугольника, на стаю морских птиц – крикливых чаек, черноголовых крачек, буревестников, которые возвращаются в открытое море, – или аэропланов, пролетающих за кадром. Молодой мужчина смотрит на девчушку, которая, вытянув свободную руку, потрясает перед фотографом одним из тех маленьких крабов, именуемых «зелеными» или «бешеными», какие часто встречаются на пляжах, держа его двумя пальцами за заднюю лапку и восхищенно глядя на свою добычу. Одна лишь молодая мать, как пенорожденная Анадиомена, смотрит в камеру и позирует с обворожительной улыбкой. Но в глаза бросаются прежде всего разжатые клешни и восемь тоненьких лапок маленького рачка, хорошо различимые в самом центре снимка, вытянутые веером, прямые, расположенные совершенно симметрично, на равном удалении друг от друга.
Чтобы получше разглядеть актеров, разыгрывающих эту сложную сценку, Валь взял раму двумя руками и поднес фотографию к глазам, словно пытаясь влезть внутрь. Кажется, он вот-вот запрыгнет туда, но в последний момент его останавливает волнующий голос хозяйки дома, которая шепчет ему на ухо: «Это Жижи, ей тут два года, в песчаной бухте на северо-западном побережье Рюгена летом тридцать седьмого, тогда было на редкость жарко».
– А кто эта ослепительная девушка, которая держит ее за руку, с плеч и рук которой еще струятся жемчужные капли океана?
– Это не океан, а всего лишь Балтийское море. И, конечно, это я! (На комплимент она отвечает коротким гортанным смешком, который угасает, тихо рассыпаясь по мокрому песку.) Но к тому времени я уже давно была замужем.
– За этим молодым человеком, который тоже только что вышел из воды?
– Нет! Что вы! За Даниэлем, за этим шикарным господином, который намного старше и годится мне в отцы.
– Прошу прощения! (Разумеется, вежливый посетитель сразу же узнал пожилого полковника, изваяние которого он видел, разглядывая античную аллегорию на Жандарменмаркт.) Почему он смотрит в небо?
– Мы услышали адский рев, который издавало звено «штукас», совершающих учебный вылет.
– Это его обеспокоило?
– Не знаю. Но война уже приближалась.
– Выглядит он замечательно.
– Вы находите? Прекрасный экземпляр белокурого долихоцефала, годится для зоопарка.
– Кто сделал снимок?
– Я уже не помню… Наверное, профессиональный фотограф, если судить по необычному качеству снимка, ведь тут видны даже мельчайшие детали. Кажется, можно пересчитать песчинки… Этот черноволосый мужчина справа – сын Дана от первого брака… назовем это так для удобства. Думаю, на самом деле они не были женаты…
– Грехи молодости, надо полагать, если сыну действительно столько лет, на сколько он выглядит?
– Дану тогда было лет двадцать, а его возлюбленной ровно восемнадцать, столько же, сколько было мне, когда я его повстречала… Он всегда пользовался успехом у романтичных барышень. Просто диву даешься, как все повторяется: она тоже была француженка, и, судя по фотографиям, которые я видела, была похожа на меня как близнец, хотя она старше меня на тридцать лет… а то и больше. Можно сказать, что в сексуальном отношении у него были весьма устойчивые вкусы! Только эта первая связь была еще короче нашей. «Это была лишь репетиция, – уверял он меня, – перед генеральной репетицией». Со временем я все больше убеждалась, что в действительности сама была всего лишь дублершей… или, в лучшем случае, исполнительницей главной роли в короткой репризе по мотивам очень старой пьесы… Но что с вами, мой дорогой? У вас теперь совсем усталый вид. Вы почти не держитесь на ногах… Присядьте…
На этот раз Валлону, и впрямь, дурно, словно он принял наркотик, чей горький привкус он с тревогой ощущает во рту, когда хозяйка дома, резко прерывая нарочито многословный поток своих объяснений и рассуждений, неожиданно впивается зелеными глазами в плененного гостя, который пошатываясь поворачивается лицом к гостиной, пытаясь отыскать спасительное кресло… (8) Увы, все кресла были заняты, но расселись в них вовсе не манекены высотой в человеческий рост, как ему показалось вначале, а живые отроковицы в фривольном нижнем белье, которые шаловливо надувают губки в притворной обиде и заговорщицки ему подмигивают… В смятении он выронил из рук золотистую раму, и стекло, прикрывающее фотографию, разбилось об пол с несоразмерно громким кимвальным звоном… Возомнив, что он в опасности, Валь отступил на шаг назад и нашарил за спиной на мраморной крышке комода какой-то маленький тяжелый предмет, круглый и гладкий, как отшлифованный булыжник, который показался ему достаточно увесистым и пригодным для защиты в случае нападения… Прямо перед ним, в первом ряду, сидела не кто иная, как Жижи, улыбаясь ему вызывающе и насмешливо. Ее подружки, которые были здесь повсюду, стали, как заведенные, принимать сладострастные позы, чтобы угодить французу. Сидя, стоя или полулежа, некоторые из них, по всей видимости, изображали живые репродукции более или менее известных произведений искусства: «Разбитого кувшина» Греза (в более открытых нарядах), «Приманки» Эдуарда Маннере, «Пленницы в кандалах» Фернана Кормона; Алису Лиделл в виде маленькой попрошайки, в блузке, превращенной в двусмысленные лохмотья, с фотографии пастора Доджсона, святую Агату в изящном мученическом венце, с обнаженной грудью, которую уже украсила с большим вкусом нанесенная рана… Валь раскрыл рот, намереваясь что-то сказать, – он сам не знал, что именно, – что-то такое, что помогло бы ему вызволить себя из этого смехотворного положения, или просто хотел завопить, как при кошмаре, но не смог выдавить из себя ни звука. Тут он заметил, что сжимает в правой руке огромный стеклянный глаз, окрашенный в белый, голубой и черный цвет, который, должно быть, принадлежал какому-то исполинскому манекену, – поднес его к лицу и стал рассматривать с гадливым ужасом… Девушки все разом разразились смехом, каждая в своем тембре и регистре, – тут было и крещендо, и фальцет, и совсем низкие раскаты, – устроив жуткий концерт… (9) В последний момент он лишь успел почувствовать, что его куда-то тащат, вялого, обессиленного, как тряпичную марионетку, между тем как весь дом наполняется страшным гвалтом беспорядочного переезда или погрома, учиненного, судя по всему, крикливыми мятежниками…
Примечание 8: Пользуясь тем, что нашего взволнованного агента с головой накрывает волна прошедшего времени, совершенного и несовершенного вида, мы можем внести некоторые уточнения и поправки в вышеизложенный продолжительный диалог. Если память меня не подводит, снимок семейства на отдыхе был сделан не на острове Рюген, а в ближайших окрестностях Грааль-Мюрица, на балтийском курорте, неподалеку от Ростока, на котором летом 1923 года (то есть за четырнадцать лет до этого) побывал Франц Кафка, после чего провел последнюю зиму своей жизни в Берлине, впрочем, не в Mitte,[16] как некогда утверждал наш рассказчик, а на окраине квартала Штеглиц, ныне замыкающего, вместе с Темпельгофом, американский сектор с юга.
Помню я и самолеты в небе, поскольку отец, действительно, следил отнюдь не за полетом серых журавлей, зрелищем которого можно наслаждаться в это время года. Но это были и не пикирующие «штукас», а летевшие на большой высоте истребители «Мессершмит 109», рокот которых почти не потревожил отдыхающих. Ошибка Жоёль Кастаньевицы объясняется тем, что она спутала реальное событие с кадрами из впечатляющего военного пропагандистского фильма, который мы видели в тот же день в еженедельной кинохронике в импровизированном синематографе Рибниц-Даргартена. Что же касается театральных словечек, которые она использует для описания своего брака (репетиция, дублерша, генеральная репетиция, реприза и т. п.), то их она выбрала, очевидно, под впечатлением от (последующего) пребывания в Ницце. Там она держала скромный магазин канцелярских товаров, где соседские дети покупали карандаши и ластики, но по-настоящему она была увлечена занятиями в любительской театральной труппе, которую она сколотила вместе с компанией друзей. Говорят, среди прочего она исполнила роль Корделии в постановке по мотивам «Дневника обольстителя», французский перевод которого был издан перед войной в серии «Cabinet cosmopolite».
Примечание 9: Автор этого загадочного рассказа, вне всяких сомнений, надеется с помощью таких преувеличений убедить читателя в том, что его отравили: эти откровенно горячечные сцены выдаются за первые симптомы (тошнота, потом галлюцинации), вызванные приемом наркотика, который якобы был добавлен в кофе по нашему наущению. По всей видимости, он рассчитывает потопить в мутном потоке намеков на хитроумные козни его врагов, сложную двойную игру, колдовские чары и всевозможные гипнотические волшебные зелья, которыми его будто бы опоили, любую мысль о своем соучастии – сознательном или неосознанном, вольном или невольном, преднамеренном или случайном, лишь бы снять со своей жалкой и уязвимой персоны всякую вину и ответственность. Интересно знать, как он сам объяснит, какую выгоду мы можем извлечь из его гибели. Достаточно даже бегло просмотреть его предыдущие отчеты, чтобы заметить, что он с удивительным постоянством возвращается к сдвоенной теме заговора и колдовских чар, не говоря уже об агрессии, которая хлещет через край в финальной сцене буйства эротичных малышек.
Все разом стихло. И в абсолютной, слишком безупречной, жутковатой тишине, спустя какое-то время, Франк Матье (или, если угодно, Мэтью Фрэнк, потому что, по правде говоря, это два имени без фамилии) пробуждается в своей комнате, по крайней мере, ему кажется, что он узнает в ней все, вплоть до мельчайших деталей, хотя сейчас эти декорации невозможно соотнести с определенным временем и пространством. Темно. Тяжелые портьеры задернуты. В самом центре стены, напротив невидимого окна, висит картина.
Стены оклеены старомодными обоями с вертикальными линиями, синеватыми, с белой каймой, довольно темными, шириной пять-шесть сантиметров, чередующимися с более блеклыми полосами такой же ширины, покрытыми сверху до низу одинаковыми мелкими узорами, которые когда-то, несомненно, были золотистыми, но уже выцвели. Мэтью Ф. не нужно подниматься, чтобы рассмотреть их получше, он может и по памяти описать то, что изображено на этом загадочном рисунке: цветок гвоздики или маленький факел, а может, штык или куколка, туловище и ножки которой приходятся как раз на широкий клинок штыка или древко факела, голова совпадает с пламенем или рукояткой штыка, между тем как вытянутые вперед (и потому коротковатые) ручки похожи на гарду штыка или чашку, защищающую пальцы от искр.
У стены справа (если смотреть от окна) стоит большой зеркальный шкаф, достаточно вместительный для того, чтобы туда можно было повесить одежду, его единственную дверцу почти целиком покрывает толстое зеркало с сильно скошенными краями, в котором видна та же картина, только в зеркальном отражении, то есть правая часть картины отражается в левой половине зеркала, и наоборот, а центр холста между прямоугольными рамами (оживленный изображением старика с гордо поднятой головой) приходится точно на середину зеркальной двери, которая закрыта и расположена перпендикулярно настоящей картине, как, впрочем, и ее эфемерная копия.
В эту самую стену между шкафом, стоящем почти в самом углу, и наружной стеной с окном, полностью прикрытым тяжелыми портьерами, упираются изголовьем две одинаковые кровати, на которых могли бы уместиться только дети, настолько малы их размеры: меньше полутора метров в длину и около семидесяти сантиметров в ширину. Их разделяет лакированный деревянный ночной столик, тоже небольшого размера, на котором стоит маленький светильник в форме подсвечника, с тускло горящей электрической лампой. Второй ночной столик, точно такой же, как первый, такого же бледно-голубого цвета, с таким же зажженным светильником, втиснут между второй кроватью и наружной стеной, почти впритык к левому краю портьер из тяжелой темно-красной ткани с широкими складками. Портьеры наверняка намного превосходят размерами невидимый оконный проем, который никак не может быть таким же широким, как в современных домах.
Чтобы удостовериться в наличии одной детали, которую в лежачем положении ему не видно, Мэтью приподнимается, опираясь на локоть. Как он и ожидал, на обеих подушках вручную вышиты инициалы – по одному на каждой, – крупные, довольно выпуклые прописные готические буквы, в которых, несмотря на завитушки, опутывающие три прямые параллельные черты той и другой литеры столь витиеватым узором, что они становятся почти неотличимыми друг от друга, можно узнать «М» и «W». Только сейчас путник замечает, что место он нашел себе какое-то странное: в пижаме, подложив под голову валик из грубой ткани, прислоненный к стене под окном, он растянулся на матраце без простыни, брошенном прямо на пол между изножием двух кроваток и продолговатым туалетным столиком с крышкой из белого мрамора, на котором стоят две фарфоровые чаши для умывания, совершенно одинаковые, только на одной видна трещина, потемневшая от времени и стянутая для надежности металлическими скрепками, уже разъеденными ржавчиной. Между чашами пристроился пузатый кувшин, тоже фарфоровый, украшенный однотонными завитками в форме цветов и большим вензелем, в котором трудно угадать те же самые готические литеры, почти неотличимые друг от друга и переплетенные здесь столь прихотливо, что разобрать их может только тот, у кого уже наметан глаз.
Горлышко кувшина отражается в одном из двух зеркал, висящих на стене с полосатыми обоями, над чашами для умывания, на такой высоте, что глядеться в них удобно разве что маленьким мальчикам. С таким же расчетом установлена и белая мраморная крышка туалетного столика. Во втором зеркале (в том, что справа) виднеется такое же перевернутое отражение той же картины. Но если внимательнее присмотреться к первому зеркалу (к тому, что слева), можно заметить в самой глубине третью копию той же картины, на этот раз возвращенной в исходное положение за счет повторного отражения (и двух инверсий): сначала в зеркале на туалетном столике, а затем в зеркале на двери шкафа.
Наконец, Мэтью с трудом поднимается, он чувствует себя совершенно разбитым, но не знает отчего, и смотрит на свое помятое лицо, наклонившись к маленькому зеркалу над залатанной чашей для умывания, дно которой украшено орнаментом с большим вензелем «М», перечеркнутым наискось старой трещиной. На картине изображена какая-то (возможно, очень известная, но он никогда не мог понять, какая именно) сцена из античной истории или мифологии, которая разыгрывается среди холмов на фоне живописных зданий с коринфскими колоннами, виднеющихся вдали слева. На переднем плане справа всадник на вороном жеребце, приподнявшись в седле, воинственно замахнулся мечом на старика в тоге, который стоит лицом к нему на колеснице с огромными колесами и пытается остановить ее на полном ходу, осадив двух белых лошадей, одна из которых, очень норовистая, заржав, становится на дыбы от того, что ей рвут рот слишком сильно натянутые удила.
За грозным, величавого роста возницей, увенчанным царской диадемой, стоят два лучника в тугих набедренных повязках, натянув тетиву, но, кажется, целят они не в нападающего, который появился так некстати и которого они, похоже, даже не замечают. Грудь злоумышленника закована в кирасу, напоминающую римский панцирь и, скорее всего, принадлежащую другой эпохе, нежели более или менее древнегреческая тога, прикрывающая лишь одно плечо престарелого царя, на котором вообще нет никаких доспехов, а короткие повязки, тесно облегающие бедра двух воинов, и натянутые на уши кожаные колпаки с длинным затыльником, выглядят скорее на египетский манер. Но совсем уж неуместной, с исторический точки зрения, кажется одна деталь: на дороге между камнями лежит оброненная женская туфелька, изящная бальная туфелька на высоком каблуке, с треугольной союзкой, покрытой голубыми чешуйками, поблескивающими на солнце.
Снова перед ним разыгрывается эта стародавняя, странная, но уже привычная сцена. Мэтью подливает немного воды в свою чашу для умывания, на дне которой клеевой шов проступает теперь, разумеется, гораздо явственнее, чем прежде. С каких пор не меняли эту желтоватую водицу? Как бы то ни было, не раздумывая, заученным с детства жестом он окунает в воду банную рукавичку с вензелем «M v В», вышитым красными нитками на узкой тесьме, свернутой в петлю, чтобы можно было нацепить рукавичку на крючковатый кончик хромированной латунной вешалки для полотенец. M осторожно протирает лицо мягкой тканью, с которой капает вода. Увы, этого недостаточно для того, чтобы унять тошноту, которая подступает с новой силой. Голова у него кружится, коленки дрожат… Слева от картины у стены все еще стоит манекен… Из своего стаканчика для полоскания рта он отпивает глоток тепловатой воды с привкусом золы и опять валится на матрац.
Третий день
А.Р. просыпается в незнакомой комнате, видимо, в детской, судя по миниатюрным размерам двух кроватей, ночных столиков и туалетного столика с двумя приборами для умывания из толстого фарфора, украшенного сероватым орнаментом. Сам он лежит на простом матраце обычной длины, прямо на полу. Еще здесь есть традиционный зеркальный шкаф с приоткрытой тяжелой дверью, который кажется исполином на фоне этой кукольной мебели. У него над головой горит электрический свет: потолочная лампа с плафоном из прессованного матированного стекла в форме чаши с изображением женского лица, окруженного, словно солнечными лучами, длинными волнистыми прядями, похожими на змей. На стене с обоями в полоску, напротив его матраца, висит картина, написанная в банальной манере, представляющая собой вялое подражание Делакруа или Жерико, ничем не примечательная, разве что своими размерами и посредственным исполнением.
В большом зеркале с огранкой на створке шкафа отражается дверь, ведущая в комнату. Дверь широко раскрыта, и в проеме на темном фоне сумрачного коридора неподвижно стоит Жижи и смотрит на путника, который, лежа по своему обыкновению на левом боку, видит девочку только в зеркале на двери шкафа, приоткрытой как будто с тонким расчетом. Впрочем, его юная гостья смотрит только на нижний край портьер и на валик, не поглядывая на зеркало, поэтому она не может знать, что спящий приоткрыл глаза и, в свой черед украдкой наблюдая за ней, гадает. Почему эта непоседливая девочка стоит тихо и неподвижно, не спуская глаз с гостя, словно его сон внушает ей тревогу? Быть может, это какой-то нездоровый сон: подозрительно долгий или слишком глубокий? Возможно, к нему вызывали врача «скорой помощи», который уже пытался его разбудить? Не читается ли на ее хорошеньком детском личике страх?
При мысли о том, что у его ложа мог побывать врач, в затуманенном сознании А.Р. быстро сверкает отрывочное и зыбкое воспоминание о недавних событиях. Лысый мужчина с ленинской бородкой, в очках с очень тонкой стальной оправой, держа в руках блокнот и самописку, сидел на стуле у него в ногах, а сам он, глядя в потолок, все говорил и говорил, без умолку, каким-то хриплым, не своим голосом, не отдавая себе отчет в том, что он рассказывает. Что он мог ему выболтать в бреду? Время от времени он бросал испуганный взгляд на своего невозмутимого экзаменатора, за которым, загадочно улыбаясь, стоял другой мужчина. И как ни странно, этот другой выглядел точно так же, как сам А.Р., тем более что он вырядился в его костюм и шубу, в которой спецагент приехал в Берлин.
В какой-то момент этот мнимый А.Р., которого было нетрудно узнать по лицу, несмотря на явно накладные усы, наклонился к врачу, выполняющему обязанности протоколиста, и принялся что-то шептать ему на ухо, указывая на кипу исписанных листов… Эта картина застыла на несколько мгновений сгустком непререкаемой реальности, а затем с ошеломляющей молниеносностью разом сгинула. Не прошло и минуты, как вся эта сцена исчезла, растворившись в эфемерном тумане чистого вымысла. Наверное, это были всего лишь мимолетные обрывки какого-то сновидения.
На Жижи сегодня школьная форма цвета морской волны, довольно забавная, хотя эта короткая плиссированная юбочка, белые гольфы и закругленный отложной воротничок напоминают строгое одеяние воспитанниц католического пансиона. Сейчас она твердой, но грациозной походкой направляется к зеркальному шкафу, как будто только что заметила, что его нужно (или теперь уже можно?) закрыть. Решительным жестом она толкает дверь, чьи плохо смазанные петли издают протяжный скрип. А.Р. вздрагивает, делая вид, что его разбудил этот шум; он торопливо застегивает пуговицы на чужой пижаме, в которую его переодели (кто? когда? зачем?) и приподнимается на своем ложе. Изображая непринужденность, хотя он до сих пор не может понять, где именно он оказался и почему здесь спал, он говорит: «Здравствуй, крошка!»
В ответ девочка лишь слегка кивает. Вид у нее озабоченный, пожалуй, даже недовольный. Сегодня она ведет себя совсем не так, как вчера (но что было вчера?), можно подумать, что перед ним другая девочка с такой же внешностью. Растерявшись, путник задает ей наудачу ни к чему не обязывающий вопрос, стараясь говорить безразличным тоном: «Собираешься в школу?»
– Нет, с чего вы взяли? – удивленно и угрюмо спрашивает она. – Я уже давно освобождена от занятий, домашних заданий и экзаменов… А кроме того, мы с вами не на «ты».
– Как тебе будет угодно… Я сказал так из-за твоего костюма.
– Ну и что с того, что у меня такой костюм? Это моя рабочая одежда!.. Да и кто ходит в школу посреди ночи.
Пока Жижи с серьезным видом рассматривает свое отражение в зеркале на двери шкафа, методично производя полную ревизию собственной персоны, начиная с белокурых локонов, которые она слегка взбивает, чтобы подчеркнуть и без того явно неестественный беспорядок на голове, и заканчивая белыми гольфами на лодыжках, которые она еще немного приспускает, А.Р. встает с постели и, словно пораженный той же заразой, принимается изучать свое помятое лицо, согнувшись в глубоком поклоне перед одним из двух туалетных зеркал, слишком низко висящих над фарфоровыми чашами для умывания. Нагрудный карман позаимствованной им пижамы в полоску небесно-голубого цвета украшен вензелем «W». Без особого интереса он спрашивает: «А что у тебя за работа?»
– Консумация.
– В твоем-то возрасте? В таком костюме?
– Нет такого возраста, с которого начинают заниматься консумацией, вам ли этого не знать, месье француз… И эта форма одежды обязательная в дансинг-баре, где я работаю официанткой (кроме всего прочего)… Это напоминает офицерам оккупационных войск об их семьях, с которыми они разлучены!
А.Р. поворачивается к этой щедрой на посулы молоденькой нимфе, которая тотчас дает ему понять, что шутит, игриво подмигнув из-под растрепанной пряди, закрывающей ей скулу и бровь. Ее неприличные гримасы кажутся еще более вызывающими из-за того, что эта юная барышня подобрала чуть ли не до самой талии свою широкую юбку с хорошо отпаренными глубокими складками, чтобы расправить, пожалуй, немного растянутые панталончики, стараясь, впрочем, не приглаживать ткань в тех местах, где она топорщится особенно живописно. Ее гладкие голые ноги до самых бедер покрыты бронзовым загаром, как в разгар лета на пляже. Он спрашивает: «Кто этот W, y которого позаимствовали для меня пижаму?»
– Вальтер, конечно, кто же еще!
– Кто такой Вальтер?
– Вальтер фон Брюке, мой сводный брат, тот самый, которого вы вчера видели на фотокарточке с морским видом, внизу в гостиной.
– Так значит, он живет здесь?
– Нет-нет! Слава богу! Дом уже давно пустовал и был заколочен, когда Ио въехала сюда в конце сорок шестого. Этот дурак Вальтер, наверняка, пал смертью храбрых во время немецкого отступления на русском фронте. (10) Или гниет сейчас в лагере, где-нибудь в сибирской глуши.
Примечание 10: наша прелестная маленькая шлюшка, которая никогда не упустит случая уязвить коллег, и на этот раз по своему обыкновению бессовестно лжет. Причем лжет просто так, ради забавы, потому что мы, разумеется, не получали ни одной директивы из центра, подтверждающей столь нелепое заявление, опровергнуть которое, к тому же, было бы проще простого.
Тем временем Жижи открыла скрипучую дверь шкафа, в котором лишь в одной половине укреплена штанга с вешалками, и сейчас с остервенением роется в одежде, в белье, в куче безделушек, сваленных как попало на полках, по всей видимости, тщетно пытаясь отыскать какую-то маленькую вещицу. Кушак? Платок? Простенькое украшение? В раздражении она роняет на пол изящную черную туфельку на высоком каблуке, треугольная союзка которой покрыта голубыми металлическими чешуйками. А.Р. спрашивает ее, не потеряла ли она чего-нибудь, однако его не удостаивают ответом. Но вот она, похоже, находит то, что искала – какую-то таинственную вещицу, назначение которой остается для него загадкой, – после чего снова закрывает шкаф, поворачивается к нему, и на лице у нее неожиданно появляется прежняя улыбка. Он говорит: «Если я правильно понимаю, я занял вашу комнату?»
– Нет, не совсем так. Ты же сам видишь, какие тут маленькие кровати! Просто во всем доме тут единственное зеркало, в котором можно увидеть себя во весь рост… И потом, раньше это была моя комната… сразу или почти сразу после рождения и до 1940 года… Мне было тогда пять лет. У меня была такая игра – я воображала, что раздваиваюсь, тут ведь две кровати и два прибора для умывания. Иногда я была W, иногда М. Хотя они были близнецы, я воображала, что они нисколько не похожи друг на друга. Для каждого я придумала свои привычки, свой характер, особые причуды, они думали и вели себя совершенно по-разному… И я тщательно следила за тем, чтобы каждый оставался самим собой, каким я его выдумала.
– Что стало с М.?
– Ничего. Маркус фон Брюке умер еще ребенком… Портьеры раздвинуть?
– Зачем? Вы же сказали, что сейчас глубокая ночь.
– Это неважно. Вот увидишь! Все равно там вообще нет окна…
Без видимой причины девочка приходит в возбуждение и тремя пружинистыми прыжками, прямо по матрацу с освященными традицией синими полосками преодолевает расстояние между зеркальным шкафом и плотно прикрытыми красными портьерами, хватается двумя руками за их края и одним рывком приводит в движение тонкие деревянные кольца на золотистой металлической штанге, которые разъезжаются вправо и влево с громким многообещающим треском, словно между двумя половинками этого занавеса должна предстать взору долгожданная театральная сцена. Но за тяжелыми портьерами скрывается всего лишь стена.
На ней, и впрямь, нет ни широкого стеклянного экрана, ни обычного старомодного окна, ни малейшего отверстия, ничего, кроме оптической иллюзии: на штукатурке нарисовано окно-обманка с видом на вымышленный пейзаж, поразительно правдоподобное, почти осязаемое, еще и благодаря искусно распределенным бликам, которые разом вспыхнули, как только открылись портьеры. За стеклами, обнесенными косяками и деревянными рамами классического двухстворчатого окна, на которых с маниакальными потугами на какой-то гипертрофированный реализм тщательно прорисованы все продольные канавки и желобки, все трещины и мелкие изъяны древесины, и даже местами облупившийся металлический шпингалет, – за этими двенадцатью прямоугольными стеклами (по два ряда с тремя стеклами в каждой створке) разворачивается зловещая батальная сцена. Повсюду среди груд щебня лежат убитые или умирающие. На них хорошо узнаваемая зеленоватая форма вермахта. Многие уже без касок. Справа в глубь картины тянется колонна пленных, разоруженных, в таком же более или менее неполном обмундировании, оборванных и грязных, которых конвоируют русские солдаты, держа их под дулами своих короткоствольных автоматов.
На переднем плане, изображенный в натуральную величину, совсем близко, кажется, в двух шагах от окна, стоит, пошатываясь, раненый офицер, тоже немец, к тому же слепец, ибо его голова, от уха до уха, на скорую руку перебинтована повязкой с пятнами крови на месте глаз. Даже из под бинта струится кровь – по крыльям носа прямо ему на усы. Вытянутой правой рукой с растопыренными пальцами он, похоже, шарит перед собой, боясь наткнуться на препятствие. Впрочем, за левую руку его держит белокурая девочка, лет тринадцати-четырнадцати, одетая как украинская или болгарская крестьянка, и ведет, вернее, тянет его к этому невероятному и чудесному окну, до которого она пытается добраться вот уже целую вечность; свободной (левой) рукой она указывает на оконные стекла, каким-то чудом уцелевшие, торопясь в них постучать в надежде на то, что за ними она найдет помощь, по крайней мере, убежище, не столько для себя, сколько для слепца, которого она опекает с каким-то, Бог знает с каким, тайным умыслом… Если приглядеться, можно заметить, что это сердобольное дитя очень похоже на Жижи. Маленькая санитарка так спешила, что пестрый платок сбился у нее с головы. Распущенные золотистые волосы овевают ее лицо, разгоряченное отважным порывом, предчувствием неведомых опасностей, духом приключений… Прерывая затянувшуюся паузу, она шепчет с сомнением в голосе, словно не хочет верить своим глазам: «Говорят, Вальтер нарисовал эту бредятину, чтобы как-то отвлечься…»
– Так у вас в детской не было окна?
– Конечно, было!., оно выходило на задний двор, в сад, из него были видны большие деревья и… козы. Потом его зачем-то замуровали, наверное, как только началась осада Берлина. Ио говорит, что мой сводный брат написал эту фреску, когда шло решающее сражение, он тогда торчал здесь, его в последний раз отпустили в увольнение… (11)
Слева на заднем плане виднеются руины величественных зданий, навевающих мысли о Древней Греции, ряды обломанных на разных уровнях колонн, открытый портик, осколки рухнувших архитравов и капителей. По грудам развалин карабкается заблудшая черная козочка, словно обозревая эту историческую сцену. Если художник хотел изобразить (по памяти или со слов товарища) какой-то определенный эпизод второй мировой войны, то это может быть советское наступление в Македонии в 1944 году. Над холмами длинными параллельными полосами стелятся темные облака. Огромное, но уже бесполезное орудие подбитого танка наведено на небеса. Сосновая роща, видимо, скрывает от русских двух наших беглецов, которым я в моем нынешнем бедственном положении, конечно, сопереживаю, тем более что лицом и телосложением этот мужчина явно похож на меня.
Примечание 11: непредсказуемая Геге на сей раз ничего не выдумывает и без искажений излагает некоторые достоверные сведения, полученные от матери. И все же, одно маленькое уточнение: на берега Шпрее я прибыл отнюдь не потому, что меня отпустили в увольнение, да и вряд ли это было возможно весной сорок пятого, а, совсем напротив, для выполнения одного крайне рискованного специального задания в качестве «связного», которое с началом русско-польского наступления 22 апреля потеряло всякий смысл. К сожалению или к счастью – кто его знает? Кроме того, отметим, – хотя этим здесь никого не удивишь, – что девочку, похоже, нисколько не смущают некоторые неувязки в ее объяснениях: если к началу решающего штурма я находился в Берлине, то я никак не мог погибнуть за несколько месяцев до этого в одном из арьергардных боев на Украине, в Белоруссии или в Польше, а ведь совсем недавно она, кажется, утверждала именно это.
Что касается древнегреческих руин, замеченных нашим рассказчиком на отдаленных холмах, то они, – если память мне не изменяет, – были зеркальным отражением других руин, изображенных на большой аллегорической картине, которая висела на той же стене в детской, когда я был еще ребенком. Впрочем, это могло быть и аллюзией на творчество Ловиса Коринта или бессознательной данью уважения к этому художнику, чьи работы когда-то повлияли на мою манеру рисования, почти так же сильно, как произведения Каспара Давида Фридриха, который всю свою жизнь, на острове Рюген, силился выразить то, что Давид д'Анже называет «трагедией пейзажа». Однако стиль, в котором выполнена интересующая нас фреска, на мой взгляд, не имеет отношения ни к одному, ни к другому, если не считать драматические небеса в духе Фридриха, поскольку, вернувшись с фронта, я стремился главным образом точно передать свои личные впечатления от войны.
Коль скоро речь зашла о моем любимце Фридрихе, мне бы хотелось заодно исправить и необъяснимую ошибку (если это, конечно, не очередное намеренное искажение, цель которого неясна), закравшуюся в рассуждения так называемого Анри Робена о геологических особенностях немецкого побережья Балтийского моря. Каспар Давид Фридрих, действительно, оставил после себя несметное множество картин с изображением прибрежных скал из искрящегося мрамора или, говоря прозаически, яркого мела, которыми славится Рюген. То, что в воспоминаниях нашего скрупулезного хрониста они превратились в огромные гранитные глыбы, похожие на армориканские скалы его детства, сильно меня озадачивает; тем более что при его основательных познаниях в области агрономии, которые он любит демонстрировать (или выставлять напоказ, как говорят злые языки) он никак не мог нечаянно допустить такую ошибку; древняя герцинская платформа не простирается у нас севернее зачаровывающего горного массива Гарц, где кельтские легенды уживаются с германскими мифами: заколдованный Лес потерь, этот второй Броселианд,[17] и юные ведьмы Walpurgisnacht.[18]
Особа, которая сейчас занимает наши мысли и которую мы обозначаем в наших донесениях аббревиатурой GG (или просто 2G), похоже, принадлежит к наихудшей их породе, к ирреальному сонму совсем юных девственниц, едва достигших половой зрелости, послушных воле артуро-вагнеровского демона Клингзора. Дабы с ней совладать, мне приходится чуть ли не каждый день делать вид, будто я потакаю ее причудам и капризам, иначе я мало-помалу превратился бы в марионетку, сам не сознавая того, что попал под ее чары, безнадежно, неумолимо влекущие меня к погибели, быть может, уже неотвратимой… Или, того хуже, к слабоумию и помешательству.
Я все думаю, так ли уж случайно она появилась на моем пути. В тот день я бродил вокруг отцовского дома, порог которого я ни разу не переступал после капитуляции. Мне было известно, что Дани вернулся в Берлин, но остановился в какой-то другой, более или менее конспиративной квартире, возможно, в русском секторе, а Ио, его вторая жена, с которой в 1940 году ему пришлось развестись, опять поселилась в этом доме с благословения американской разведки. Экипированный накладными усами и широкими темными очками, которые я обычно ношу в солнечную погоду (чтобы защитить глаза, еще слишком уязвимые после ранения, полученного мной в октябре сорок четвертого в Трансильвании), надвинув на лоб широкополую дорожную шляпу, я мог не опасаться того, что меня узнает моя молодая мачеха (она на пятнадцать лет моложе меня), если ей вздумается прямо сейчас выйти из дома. Остановившись перед приоткрытыми воротами, я сделал вид, что меня очень заинтересовала новенькая лакированная деревянная вывеска с элегантными нарисованными от руки завитками, копирующими кованые узоры в стиле модерн на старинной решетке ворот, как будто я подыскивал себе манекены или сам хотел бы их продать, что в известном смысле не так уж далеко от истины…
Взглянув вверх на фасад фамильного особняка, еще сохранившего былой лоск, я с удивлением заметил (как я мог не обратить на это внимание, когда подходил?), что на втором этаже, прямо над входной дверью с прямоугольным окошечком, забранным литыми арабесками, широко раскрыто центральное окно, хотя в такой теплый осенний день в этом не было ничего удивительного. В оконном проеме была видна особа женского пола, которую я сначала принял за манекен, такой неподвижной казалась она издали, да и мысль о том, что манекен выставили там, чтобы его было лучше видно с улицы, представлялась вполне правдоподобной, ведь деревянная вывеска на воротах указывала на то, что здесь располагается торговое заведение. Что касается куклы, высотой в человеческий рост, которая должна была служить приманкой для покупателей (грациозная юная девушка с кокетливо растрепанными золотистыми волосами), то ее облик придавал еще более двусмысленный – если не сказать, непристойный, – характер каллиграфической надписи на вывеске, поскольку сейчас детскими игрушками и восковыми манекенами для модных магазинов в нашей беспутной столице торгуют не так бойко, как малолетними шлюшками.
В общем, еще раз внимательно изучив одно словечко на вывеске, в котором можно было уловить двусмысленный намек, я снова взглянул на верхний этаж… Облик юной особы изменился. Теперь это была уже не восковая кукла из какого-то эротического музея Гревен, чьи незрелые прелести выставили на всеобщее обозрение в окне, а совсем молоденькая и живая девушка, которая сейчас, совершая какие-то необъяснимые и слишком резкие движения, перегнулась через подоконник так, что ее прозрачная блузка с распускающимися завязками сползла у нее с одного плеча. Но даже когда она извивалась и выгибалась с особым неистовством, ее движения оставались на диво грациозными, словно передо мной была впавшая в исступление камбоджийская апсара,[19] которая беспорядочно вертела и крутила шестью струящимися, как волны, руками, изящной тонкой талией и лебединой шеей. Вокруг ее ангельского личика с чувственным абрисом, озаренные яркими солнечными лучами, развевались золотисто-рыжие волосы, словно вырвавшиеся на волю огненные змеи Горгоны.
Сцену, которая последовала за этим первым ее появлением, я до сих пор бережно храню и лелею в памяти. Это произошло через два дня, ночью. В те времена, правда, было это не так уж давно, я не особенно утруждал себя соблюдением законов или хотя бы внешних приличий, и организация так называемых бойцов антинацистского сопротивления, в которой я состоял, была, честно говоря, обычной шайкой уголовников (промышлявших сводничеством, распространением фальсифицированных лекарств, подделкой документов, шантажом бывших сановников павшего режима и т. д.), процветавшей под сенью НКВД, который мы снабжали разного рода ценной информацией, не говоря уже об оказании ощутимой помощи в проведении особо опасных боевых операций в западном секторе, так что мне было проще простого умыкнуть привлекательную нимфу, чтобы допросить ее в более непринужденной обстановке, с тремя подручными югославами, некогда угнанными с родины на принудительные работы, а после разгрома и закрытия военных заводов брошенными на произвол судьбы.
Так что, сейчас ее везут в Трептов на нашу базу, которая располагается неподалеку от парка, в глухом месте между рекой и товарной станцией, среди складов, пустых ангаров и разрушенных контор. Несмотря на блокаду, для нас не составляло никакого труда перебраться через демаркационную линию, даже с такой крупной кладью, как немного угомонившаяся после плановой инъекции девушка, которая вяло сопротивлялась, как во сне… или просто прикидывалась. Ибо сейчас мне кажется странным то, что она воспринимала похищение с такой невозмутимостью или беспечностью.
Доктор Хуан (Хуан Рамирез, впрочем, мы обращаемся к нему только по имени, хоть и произносим его на французский манер, наподобие «залива Жуан»[20]), у которого был вместительный и удобный фургон, замаскированный под санитарный автомобиль «красного креста», как обычно, ехал вместе с нами, чтобы проследить за ходом операции с психологической или медицинской точки зрения. На контрольно-пропускном пункте (на мосту через Шпрее, переходящем в Варшауэрштрассе) он уверенным жестом предъявил направление в психиатрическую клинику в Лихтенберге, которая находилась в ведении Народного Комиссариата. Постовой, пораженный многочисленными официальными печатями на документе, вкупе с ленинской бородкой предъявителя и его очками в тонкой металлической оправе, лишь ради проформы мельком взглянул на нашу юную пленницу, которую железной хваткой держали два серба в костюмах санитаров, стараясь не причинять ей сильной боли. Бумаги с разрешением на въезд в советский сектор у всех были в порядке. Девочка вдруг заулыбалась с каким-то растерянным видом, что прекрасно вписывалось в сценарий. Можно лишь подивиться тому, что во время полицейской проверки она не стала кричать и звать на помощь, тем более что она, как выяснилось позже, очень хорошо говорит по-немецки и более чем сносно объясняется на русском. Кроме того, доктор Хуан считает, что от небольшой инъекции безобидного успокоительного средства она никак не могла до такой степени отрешиться от реальности, чтобы позабыть об угрожающей ей опасности.
Впрочем, стоило нам отъехать от контрольно-пропускного пункта, как наша бесстрашная пленница вышла из временного ступора и, встрепенувшись, вновь стала высматривать что-то за грязными стеклами, наверное, уповая на то, что ей удастся ночью в темноте, на почти неосвещенных улицах разглядеть, где проезжает наш автомобиль. Словом, из-за ее поведения срывалась вся составленная мной программа. Первым делом я собирался до смерти ее напугать. Но ее все это, казалось, лишь забавляло, ведь благодаря нам она почувствовала себя героиней комикса для взрослых. Если она и делала вид, будто хочет сбежать, или неожиданно впадала в панику, то лишь в те моменты, когда нас не могли видеть посторонние, и при этом явно переигрывала, как типичная шаловливая девчушка, которая просто ломает комедию.
Когда мы прибыли в наше логово и шли по цехам, еще заставленным какими-то допотопными станками, предназначенными, вероятно, для выделки сырых кож, для растягивания, сгонки волоса, опаливания раскаленным железом, а также для съемки шкур с ценным мехом или просто для их аккуратного разрезания или, даже не знаю, для чего-то еще в этом роде, юная девушка первым делом заинтересовалась этими загадочными устройствами и посматривала то вверх, то вниз, на козлы, лебедки и блоки, на толстые стальные цепи с ужасными крюками на концах, на конвейерную ленту с шипами, на длинный верстак из полированного металла, с вальцовым прессом, на гигантские циркулярные пилы с большими острыми зубьями… Во время этой экскурсии она беспрестанно задавала нелепые вопросы, ни на один из которых так и не получила ответа, иногда испуганно вскрикивала, словно ее вели по какому-нибудь музею пыток, а потом вдруг, ни с того, ни с сего, зажимала рот рукой и прыскала со смеху, как школьница в выходной день.
В огромном и чуть более просторном помещении, где мы, кроме всего прочего, проводили рабочие совещания, а при случае устраивали и развлечения весьма интимного свойства, она сразу бросилась разглядывать четыре больших портрета, висевших на задней стене, которые я выполнил кистью и тушью разных оттенков (сепией, чернилами и бистром): Сократ, пьющий цикуту; Дон Жуан со шпагой в руке и красивыми густыми усами Ницше; Иов на гноище; доктор Фауст с картины Делакруа. Наша гостья, похоже, совершенно позабыла о том, что вообще-то ее привезли сюда в качестве маленькой испуганной пленницы, оказавшейся во власти похитителей, а отнюдь не туристки. Следовало ее приструнить, чтобы она предстала в подобающем виде перед своими судьями – перед доктором и мной, – ибо мы уже опустились в наши любимые кресла, которые по-прежнему были очень удобными, хоть с каждым днем потихоньку разваливались, а их некогда темно-коричневая кожаная обивка не только выцвела от влажности, старости и небрежного обращения, но и местами полопалась, так что на моем кресле из треугольной прорехи, куда я рассеянно засовываю правую руку, выбивается даже клок светлой пакли и рыжего конского волоса.
Чуть лучше сохранившийся светло-коричневый кожаный диван стоит напротив нас, шагах в десяти, возле широкого незанавешенного окна, стекло которого, неряшливо замазанное испанскими белилами, годится скорее для завода, чем для жилого помещения. В просветах между полосами краски, образующими спиральные туманности, проглядывают толстые вертикальные прутья наружной защитной решетки, придающие окну тюремный вид. Желая присесть, наша невнимательная школьница направилась было к дивану, но я строгим тоном объяснил ей, что это не психоаналитический сеанс, а допрос, во время которого она должна смирно стоять перед нами, если только мы сами не прикажем ей пошевелиться. Она охотно повиновалась и, с застенчивой улыбкой на весьма соблазнительных губах, приготовилась отвечать на наши вопросы, которые ей все никак не задавали, но прямо смотреть на нас стеснялась и лишь украдкой бросала взгляды то на одного, то на другого, нетерпеливо переступая с ноги на ногу и не зная, куда деть руки, ибо на нее все же подействовало наше молчание, ощущение скрытой угрозы, суровое выражение на наших лицах.
Справа от нее (стало быть, слева от нас), напротив четырех символических образов, столь дорогих сердцу одного датского философа, почти во всю стену простирается заводское окно с матовым стеклом. Кое-где на самом верху стекла в длинных ячейках разбиты, вероятно, во время каких-то погрузочных работ или бесчинств; трещины и бреши заклеены просвечивающими лоскутами бумаги. Помещение за этой стеной, которое мы миновали по пути сюда, было ярко освещено, как будто там горели прожекторы (по крайней мере, там было гораздо светлее, чем у нас), и силуэты трех наших охранников югославов, словно китайские тени, четко вырисовывались на светлом стеклянном экране и парадоксальным образом разрастались, когда они удалялись от нас, приближаясь к источнику света, ибо казалось, что они, напротив, широкими шагами устремляются в нашу сторону, за пару мгновений превращаясь в титанов. Эти обманчивые тени постоянно двигались, исчезали, появлялись снова, неожиданно приближались, перекрещивались, словно одно тело проходило сквозь другое, иногда принимая пугающие и сверхъестественные формы. Девушка мало-помалу робела от того, что мы упорно молчали и буравили ее холодными взглядами, беспристрастными и потому внушающими еще большую тревогу, и я решил, что теперь она готова к дальнейшим процедурам, предусмотренным программой.
Сначала я обращался к ней по-немецки, но поскольку она отвечала или переспрашивала меня большей частью по-французски, я тоже перешел на язык Расина. Когда я грубым тоном, не терпящим возражений, приказал ей раздеться догола, она, наконец, вскинула веки, рот у нее слегка приоткрылся, и чем пристальнее, как будто с некоторым недоверием, она смотрела то на меня, то на доктора, тем шире распахивались ее зеленые глаза. Вялая улыбка исчезла. Похоже, она поняла, что мы не шутим, что мы привыкли к беспрекословному подчинению и что у нас – тут было от чего испугаться – имеются все необходимые средства принуждения. Довольно быстро она смирилась со своей участью, видимо, сообразив, что для такой соблазнительной добычи, как она, подобный осмотр – это меньшее из зол. После некоторых колебаний, вполне достаточных для того, чтобы мы могли оценить, какую жертву она приносит, выполняя столь чудовищное требование (ухищрение с расчетом на то, что это распалит наше желание?), она начала раздеваться, с очень кротким видом, с очаровательными ужимками притворной стыдливости, отданной на поругание невинности, словно мученица, уступающая грубой силе палачей.
Дело было в начале осени, и жара стояла почти летняя, так что одежды на юной девушке было совсем немного. Но от каждой детали своего туалета она избавлялась очень медленно, как будто изо всех сил тянула время, хотя, вне всяких сомнений, испытывала немалую гордость за то, что в продуманной последовательности высвобождалось из под покровов перед взыскательным жюри. Когда она, как следует крутясь, извиваясь и выгибаясь, наконец, сняла с себя белые панталончики, уже ничто не защищало ее от наших инквизиторских взглядов, и, пытаясь утаить скорее стыд, чем свои прелести, она закрыла лицо ладонями, растопырив пальцы, сквозь которые я видел ее поблескивающие зрачки. Затем ей было велено немного покружиться перед нами, достаточно медленно, чтобы мы могли, не спеша, рассмотреть ее со всех сторон. И надо признать, со всех сторон она была необыкновенно хороша – настоящая маленькая статуя, восхитительная кукла с едва наметившимися формами.
Доктор выразил свое восхищение и принялся громко – явно желая еще сильнее смутить столь покорный объект – нахваливать выставленные напоказ прелести, особо отметив изящную тонкую талию, покатый изгиб бедер, две глубокие ложбинки в пояснице, очаровательную округлость маленьких ягодиц, довольно хорошо развитые юные грудки с небольшими, но приятно затвердевшими на концах сосками, утонченный пупок и, наконец, лобок, который вырисовывался нежным холмиком под золотистой шерсткой, уже довольно густой, хоть еще и напоминающей пушок. Надо сказать, что Хуан Рамирез, которому уже под шестьдесят, раньше был специалистом по предпубертатным расстройствам. В 1920 году он основал вместе с Карлом Абрахамом психоаналитический институт в Берлине. Как и Мелани Клейн, он проходил курс учебного анализа у Абрахама, когда тот скоропостижно скончался. Возможно, под влиянием своей коллеги, которая к тому времени уже успела прославиться, он тоже занялся изучением детской агрессивности при раннем половом созревании и вскоре по-настоящему увлекся исследованием девочек предпубертатного возраста.
Как раз сейчас одна из них, запинаясь, спросила, уж не собираемся ли мы ее изнасиловать. Я ее тут же успокоил: доктор Хуан оценивал ее фигуру по объективным эстетическим критериям, но на его особый, сугубо педофильский вкус она уже слишком в теле. Что же касается меня, то, хоть она, надо признать, чудесно воплощает собой мои сексуальные бзики и самые заветные мои анатомические фетиши, так что я в ослеплении вижу в ней что-то вроде своего женского идеала, в делах эроса я привык полагаться исключительно на нежность и безобидные увещевания. Даже когда я черпаю удовольствие в поругании и устраиваю откровенно жестокие любовные обряды, мне нужно для этого заручиться согласием своей партнерши, которая очень часто бывает и моей жертвой. Надеюсь, мое признание в альтруизме не слишком сильно ее разочаровало. Разумеется, когда я исполняю свои служебные обязанности, я веду себя совсем по-другому, в чем она очень скоро сможет убедиться, если будет недостаточно старательно отвечать на наши вопросы. Да будет ей известно, что на это мы пойдем только в интересах следствия.
«А теперь, – сказал я, – приступим, пожалуй, к предварительному допросу. Держи руки над головой, нам нужно видеть твои глаза, когда ты будешь отвечать, чтобы понять, что мы от тебя слышим: чистую правду, ложь или же полуправду. Чтобы ты не устала от долгого пребывания в этой позе, мы готовы сделать для тебя послабление». Доктор, который достал блокнот и самописку, чтобы запротоколировать некоторые показания, нажимает на кнопку звонка, дотянувшись до нее левой рукой, и в тот же миг появляются три молодые женщины в строгих форменных костюмах черного цвета, возможно, бывшие валькирии из вспомогательного женского корпуса прежней германской армии. Не говоря ни слова и двигаясь с быстротой специалистов, привыкших работать сообща, они крепко, но без излишней грубости, хватают маленькую пленницу, надевают ей на запястья кожаные браслеты и прикрепляют их к двум тяжелым цепям, которые, как по волшебству, спустились с потолка, а затем точно так же привязывают ее лодыжки к двум толстым железным кольцам, торчащим из пола приблизительно в шаге друг от друга.
Итак, она перед нами, с довольно широко раздвинутыми ногами, пожалуй, в неприличной позе, но стоять ей придется долго, и в таком положении, – в котором нет ничего противоестественного, – ей будет легче сохранять равновесие. К тому же, путы натянуты не очень туго, как и цепи, которые удерживают ее руки на весу по обе стороны белокурой головки, так что она даже может двигать телом и ногами, хотя, ясное дело, не слишком свободно. Три наши ассистентки орудовали так непринужденно, жесты их были настолько выверены, а движения проворны и согласованы, что наша юная пленница даже не успела сообразить, что с ней происходит, и позволила проделать с собой все это без малейшего сопротивления. Лишь на ее нежном личике читается изумление, к которому примешивается безотчетный страх и что-то вроде ощущения психомоторной дезориентации. Не давая ей опомниться, я сразу же начинаю задавать вопросы, на которые она отвечает не задумываясь, почти машинально.
– Имя?
– Женевьева.
– Обычная уменьшительная форма?
– Женетта… или Жижи.
– Фамилия матери?
– Кастаньевица. К, А, С… (она называет слово по буквам), по паспорту Каст.
– Фамилия отца?
– Отец неизвестен.
– Дата рождения?
– Двенадцатое марта тысяча девятьсот тридцать пятого года.
– Место рождения?
– Берлин, Кройцберг.
– Гражданство?
– Французское.
– Род занятий?
– Гимназистка.
Можно подумать, что ей уже не раз приходилось заполнять такую официальную анкету. Для меня, напротив, дело усложняется: выходит, перед нами дочь Ио, а мне-то казалось, что она осталась во Франции. Значит этим вожделенным эротическим объектом оказалась моя сводная сестра, ибо она, как и я, была зачата ненавистным Дани фон Брюке. В действительности, все не так просто. Предполагаемый отец неспроста отказался признать ее своим ребенком и жениться на ее молодой матери, которая к моменту зачатия уже два месяца была его официальной любовницей: он знал, что его недостойный и презренный сын тоже поддерживал любовную связь с хорошенькой француженкой, причем их роман продолжался в течение всего, довольно длительного, переходного периода. Как старорежимный деспот, он сначала на помещичий манер воспользовался гнусным правом первой ночи, а потом решил оставить ее себе одному. Жоёль тогда еще не было и восемнадцати, она не имела средств к существованию, была свободна и ветрена, да и немного скучала в нашем захолустном Бранденбурге. Она поверила этому блестящему офицеру, к тому же красивому мужчине, который был готов ее обеспечить и обещал на ней жениться. То, что она приняла столь выгодное предложение, было вполне естественно, и я ее за это простил… Ее, но не его! Судя по дате рождения этой очаровательной девочки, она с таким же успехом может быть и моей дочерью, и тогда этот нордический арийский цвет кожи достался ей от деда, что случается не так уж редко.
Теперь я смотрел на прелестную Жижи другими глазами. Скорее возбужденный, нежели смущенный тем, что это случайное дело с похищением приняло такой оборот, а еще, пожалуй, поддаваясь безотчетной тяге к мщению, я продолжил допрос: «У тебя уже были регулы?» В ответ юная девушка молча кивнула головой, словно созналась в чем-то постыдном. Я решил развить эту интересную тему: «Ты еще девственница?» Вместо ответа, она опять сконфуженно кивнула. Как бы она не храбрилась, хотя смелости у нее уже поубавилось, бесстыдные вопросы циничных инквизиторов заставили ее покраснеть: сначала по лбу и щекам, а там и по всей нежной обнаженной плоти, от груди до живота, разлился яркий розовый румянец. Она опустила глаза долу… Довольно долго мы молчали, после чего Хуан с моего согласия поднялся, чтобы подвергнуть обвиняемую профессиональному вагинальному обследованию, во время которого она, несмотря на то, что доктор старался действовать осторожно, резко рванулась, если не от боли, то по меньшей мере от возмущения. Она стала слегка биться в своих путах, но, будучи не силах сжать бедра, не могла воспротивиться медицинскому осмотру. Когда все было кончено, Хуан снова уселся и тихо сказал: «Эта девочка наглая лгунья».
Наши полицейские ассистентки стояли поодаль, дожидаясь распоряжений. Я дал знак, и одна из них приблизилась к провинившейся, сжимая в правой руке кожаный хлыст – довольно тонкий, гибкий, но прочный ремень с удобной твердой рукояткой. Я вытянул три пальца, определяя меру заслуженного наказания. В тот же миг экзекуторша с ловкостью дрессировщицы нанесла по ее слегка раздвинутым в этой позе ягодицам три коротких, точных удара, с довольно большим разбросом. Каждый раз, когда ее жалил хлыст, малышка вздыбливалась, судорожно раскрывая рот от боли, но сдерживала крики и стоны.
Это представление настолько меня распалило, что мне захотелось как-то вознаградить ее за стойкость. Стараясь скрыть под маской сочувствия позыв сладострастия, если не извращенной похоти, я подошел к ней сзади, чтобы осмотреть свежие раны на попке: три четкие, перекрещивающиеся красные полосы, и ни одного следа порчи на тонкой коже, мягкой как шелк, в чем я смог убедиться, ласково к ней прикоснувшись. Тут я быстро засунул сначала два, а потом три пальца ей в вульву, которая приятно увлажнилась, что побудило меня деликатно, тихонько, с отцовской нежностью потеребить ей клитор, не слишком усердствуя, хотя эта маленькая живая почка сразу же набухла, и по всему ее тазу пробежала дрожь.
Вернувшись на свое место, я окинул ее влюбленным взглядом, между тем как она слегка колыхалась всем телом, возможно, стараясь смягчить жгучую боль, которую еще ощущала после короткой порки. Я ей улыбнулся, и она несмело улыбнулась мне в ответ, как вдруг беззвучно расплакалась. И это тоже было просто прелестно. Я спросил ее, знает ли она прославленный александрийский стих их великого национального поэта: «J'aimais jusqu'à ses pleurs que je faisais couler».[21] Она пролепетала сквозь слезы:
– Простите меня за то, что я солгала.
– Кроме этого, ты говорила еще неправду?
– Да… Я уже не хожу в школу. Я занимаюсь консумацией в одном кабаре в Шенберге.
– Как оно называется?
– Die Sphinx.
Я так и знал. При виде ее ангельского личика у меня временами вдруг возникало мимолетное воспоминание об одном ночном приключении. «Die Sphinx» (в немецком слово «сфинкс» женского рода) я посещаю нерегулярно, и когда я несколько мгновений назад засунул два пальца, указательный и средний, в эти юные срамные губы, от прикосновения к влажной щелочке ее «мадленки», отороченной пробивающимся шелковистым мехом, память сама собой встрепенулась: однажды в располагающей полутьме этого весьма интимного бара, в котором все официантки – сговорчивые проказницы более или менее отроческого возраста, я уже ласкал ее под школьной юбкой.
Но разве не следовало продолжить допрос, хотя бы для того, чтобы снять с себя моральную ответственность за то, что она попала к нам в лапы? Я закурил сигару и, сделав несколько задумчивых затяжек, сказал: «Расскажи-ка нам, где скрывается твой предполагаемый, хоть и незаконный папаша Oberführer[22] фон Брюке». Пленницу внезапно охватил страх, и она отчаянно замотала головой, потряхивая золотистыми локонами:
– Я этого не знаю, месье, я, правда, ничего не знаю. С тех пор, как мама вернулась со мной во Францию, почти десять лет назад, я ни разу не видела своего так называемого отца.
– Так, послушай, ты солгала в первый раз, когда заявила, что еще учишься в школе, во второй раз ты солгала, когда попыталась выдать себя за девственницу, не говоря уже о том, что ты дала крайне неточный ответ, когда сказала «отец неизвестен». Так что, ничего не мешает тебе солгать в третий раз. Поэтому нам придется тебя немножко, а может, и не немножко, помучить, чтобы ты созналась во всем, что тебе известно. Прижигание тлеющим кончиком сигары доставляет чудовищную боль, особенно когда ее прикладывают к самым чувствительным и уязвимым местам, сама знаешь, к каким… Аромат светлого табака становится от этого еще более тонким, более изысканным…
На сей раз моя маленькая сирена Балтийского моря (стоящая здесь передо мной с широко раздвинутыми ногами) безутешно расплакалась, сотрясаясь от рыданий, стала бессвязно клясться и божиться, что она не знает ничего из того, что у нее хотят выпытать, умоляя нас сжалиться над ее милашкой, которая дает ей средства к существованию. Поскольку я продолжал спокойно потягивать свою «гавану» (одну из лучших, что мне доводилось курить), наблюдая за тем, как она корчится и причитает, она вспомнила нечто такое, что, как она надеялась, могло убедить нас в ее искренности, хотя это было и так ясно: «Когда я видела его в последний раз, мне как раз исполнилось шесть лет… Это было в одной скромной квартире в центре, с окнами на Жандарменмаркт, сейчас от нее уже ничего не осталось…»
– Ну вот, видишь, – сказал я, – ты кое-что знаешь и опять хотела нас обмануть, когда утверждала обратное.
С решительным видом я встаю с кресла и иду к ней, между тем как она разом замирает, парализованная страхом, выпучив глаза и разинув рот. Стукнув по сигаре указательным пальцем, я стряхиваю с ее кончика цилиндр сероватого пепла, несколько раз подряд с силой затягиваюсь, чтобы она разгорелась как можно ярче, и делаю вид, будто хочу поднести сигару к ее груди, прямо к розовой ареоле с выпирающим соском. Мысль о неотвратимой пытке исторгает из уст обвиняемой протяжный крик ужаса.
Этого я и добивался. Я бросаю окурок «гаваны» на пол. Затем, очень ласково, с бесконечной нежностью, я обнимаю мою связанную жертву и шепчу ей на ушко признания в любви, сентиментальные и глупые, но сдобренные, во избежание излишней слащавости, парочкой шокирующих словечек, позаимствованных из лексикона похоти или довольно жесткой порнографии. Жижи трется об меня животом и грудью, как дитя, которое избежало опасности и хочет укрыться в объятиях спасителя. Из-за того, что путы сковывают ее движения, ей остается лишь взывать ко мне, и вот она подставляет мне свои влажные губы, чтобы я мог к ним приложиться, и отвечает на мои поцелуи с весьма правдоподобной, хоть и несколько наигранной страстью. Когда моя правая рука, та самая, которой я едва не начал терзать ей соски, медленно погружается ей в пах, дотягиваясь до отверстия между разверстых ягодиц, я замечаю, что моя юная возлюбленная делает пи-пи, выпуская короткими рывками струйку и тщетно пытаясь сдержаться. Дабы ее подбодрить и вкусить плоды своих трудов, я кладу пальцы прямо на теплый источник, откуда сейчас бьют длинные тугие струи, ибо моя сломленная жертва слишком долго терпела и, наконец, перестала сдерживать позывы, и тут же, смешиваясь с еще не просохшими слезами, из нее извергаются потоки звонкого и прохладного смеха – смеха маленькой девочки, которая выучилась новой, немного противной игре. «Вот что я называю умением убеждать!» – говорит доктор.
Но в этот самый миг слева от меня раздается громкий звон разбитого стекла, который доносится со стороны матового окна, отделяющего нас от соседнего помещения.
А.Р., все еще погруженный в созерцание загадочной фрески, заменяющей окно в детской, где он спал, не может оторвать взгляда от девочки, изображенной в натуральную величину, которая стучит в оконное стекло (тоже иллюзорное), взывая о помощи, такая живая – с этой вытянутой рукой, но, главное, с румянцем на взволнованном ангельском личике, с большими зелеными глазами, расширившимися от возбуждения, с губами, разомкнутыми, как блестящая мякоть плода, в протяжном крике отчаяния, – и стоящая так близко, что кажется, будто она уже проникла в комнату, этот самый А.Р. вздрагивает, когда у него за спиной раздается звон разбитого стекла.
Он быстро поворачивается к противоположной стене. В левом углу комнаты, в проеме распахнутой двери, стоит Жижи, все еще в школьной форме с отложным воротничком, отороченным белыми кружевами, и смотрит себе под ноги на пол, на поблескивающие осколки, какие могли бы остаться от разбившегося вдребезги бокала для шампанского. Самый крупный и самый узнаваемый из них – это целиком отколовшаяся ножка бокала на подставке, с хрустальным острием, тонким, как стилет с круглым клинком. Перекинув через руку что-то из верхней одежды, пальто или плащ, девочка с беспомощным видом, приоткрыв рот в замешательстве и опустив глаза, обозревает последствия неожиданной катастрофы. Она говорит:
– Я хотела принести вам бокал игристого вина… Он выскользнул у меня из рук, сама не знаю, как это получилось…
Затем она поднимает глаза и говорит уже обычным самоуверенным тоном: «А вы чего тут сидите целый час перед этой дурацкой картиной, да еще в пижаме? Я за это время уже успела пропустить стаканчик с друзьями, внизу у матери, и собралась на работу, в вечернюю смену… Мне уже пора идти, иначе я опоздаю…»
– Место, где ты работаешь, очень злачное?
– А вы попробуйте найти приличное место в Берлине, среди всей этой разрухи, после катаклизма! Тут есть такая поговорка: шлюхи и жулики всегда скорее попов! Закрывать на это глаза бессмысленно… И опасно!
– Там бывают только военные из армии союзников?
– Когда как, смотря, в какой день. Бывают и всякие любители острых ощущений: жалкие шпионы, сутенеры, психоаналитики, авангардные архитекторы, военные преступники, нечистые на руку дельцы со своими адвокатами. Как говорит Ио, все те, кто нужен для того, чтобы построить новый мир.
– И как называется этот Двор Чудес?[23]
– На северной окраине Шенберга, от Кройцберга и до Тиргартена, такие заведения попадаются на каждом шагу. Кабаре, в котором работаю я, называется «Die Sphinx», то есть «Сфинкс», только в немецком это слово женского рода.
– Ты знаешь немецкий?
– Немецкий, английский, итальянский…
– А какой предпочитаешь?
На лицо Жижи падает золотистая прядь, и она, как будто вместо ответа, высовывает розовый кончик языка и хватает пухлыми губками непослушный завиток. Глаза ее странно блестят. Удачный макияж или какой-то наркотик? Что за вино она выпила? Напоследок она быстро говорит: «Пожилая дама, которая приносит вам еду, соберет осколки. Если вы еще не знаете, туалет в коридоре: сначала направо, потом налево. Из дома никуда не уходите: вы еще слишком слабы. К тому же, дверь, которая ведет на нижний этаж, заперта на ключ».
Какая-то странная клиника, размышляет А.Р., который все никак не может понять, хочется ли ему покидать это беспокойное жилище, где его, похоже, держат в заточении. Куда подевалась его одежда? Он открывает дверь большого зеркального шкафа. Здесь висит на плечиках мужской костюм, но явно чужой. Не желая ломать над этим голову, он снова поворачивается к картине, смотрит на батальную сцену, на себя самого в облике солдата или просто на какого-то мужчину, который даже в окровавленной повязке, прикрывающей ему глаза, похож на него, и на эту Жижи из Центральной Европы, что держит его за руку. Только сейчас он замечает на этом нарисованном окне одну деталь, на которую не обратил внимания прежде: на стекле, в которое стучит маленькая спасательница, красуется звездообразная трещина, в том самом месте, куда она ударила кулачком. Отсюда расходятся, пронизывая мнимую толщу стекла, извилистые линии, длинные нити света, искрящиеся, как тончайшие металлизированные ленты дипольных отражателей, которые выбрасывают во время атаки боевые самолеты, чтобы их не засекли радары.
Четвертый день
В третьем номере отеля «Союзники» А.Р. вырывает из сна внезапный рев четырехмоторного американского самолета, вероятно, транспортного варианта «В 17», только что поднявшегося с ближайшего аэродрома в Темпельгофе. Сейчас вылеты совершаются уже не беспрерывно, как во времена «воздушного моста», когда Берлин был взят в блокаду, но все еще довольно часто. Занавески на окне с видом на тупик заброшенного канала раздвинуты как днем, и когда проходит самолет, судя по всему, ниже, чем обычно, стекла дребезжат настолько угрожающе, что кажется, будто они того и гляди разобьются вдребезги, и звон осыпающихся на пол осколков сольется с гудением удаляющейся и набирающей высоту крылатой машины. Уже рассвело. Путник привстает и садится на краешек кровати, радуясь тому, что все обошлось. В голове у него царит такой кавардак, что он даже не совсем понимает, где находится.
С трудом поднявшись, ибо телом и конечностями ему шевелить не легче, чем мозгами, он замечает, что дверь в его номере (та, что напротив окна) широко раскрыта. На пороге застыли двое: пригожая Мария держит заставленный поднос, а сзади над ней возвышаются голова и плечи одного из братьев Малеров, наверное, Франца, судя по неприветливому голосу, который звучит с укором и вызовом: «Это ваш завтрак, месье Валь, вы велели подать его в это время». Этот верзила, ростом, похоже, еще выше, чем казалось внизу в баре, тут же исчезает в темной глубине коридора, где ему приходится пригибать голову, между тем как изящная горничная с самой очаровательной улыбкой водружает поднос на небольшой столик возле окна, который путник не заметил, когда сюда вселился (вчера? позавчера?), и который служит заодно письменным столом, поскольку, прежде чем расставить тарелки, чашки, корзинки и т. д., юная девушка отодвигает в сторону кипу белых листов бумаги актового формата, без штампа сверху, и авторучку, лежащую здесь словно в ожидании скриптора.
Так или иначе, одно А.Р. теперь знает наверняка: он вернулся к себе в номер в гостиницу и провел тут остаток этой беспокойной ночи. Пришел он, ясное дело, очень поздно, но вот просил ли он разбудить его и когда именно, он не помнит, а выведать это у брюзгливого владельца гостиницы, чтобы как-то компенсировать отсутствие исправных наручных часов, он не успел. Впрочем, он как будто вообще потерял счет времени, возможно, после того, как его неожиданно отстранили от выполнения специального задания, или только в тот момент, когда он погрузился в созерцание батальной сцены на картине, украшающей его детскую в доме по-матерински заботливой и пленительной Ио. И действительно, начиная с того момента, как он забылся, глядя на дважды заделанное окно, сначала замурованное, а затем превращенное в оптическую иллюзию, наполненную каким-то ускользающим смыслом, все дальнейшие события этой ночи неприятно поражают его отсутствием причинной связи и хронологической последовательности, кажутся чередой разрозненных, но непрерывно сменяющих друг друга эпизодов (что только мешает расставить их по своим местам), некоторые из которых были проникнуты отрадной чувственной негой, а другие скорее напоминали кошмар или горячечные галлюцинации.
Когда Мария заканчивает накрывать на стол, А.Р., у которого все еще звучат в ушах слова грозного Малера, останавливает девушку, уже было собравшуюся уходить, и вместо того чтобы уточнить, что крылось за двусмысленной фразой «в это время», спрашивает у нее на упрощенном, но вразумительном немецком, откуда взялось имя Валь и почему его так называют. Мария смотрит на него с удивлением, делая большие глаза, и, наконец, говорит: «Ein freundschaftliches Diminutiv, Herr Walther![24]», и это объяснение еще больше озадачивает путника. Так значит, это «дружеское» сокращение не от фамилии Валлон, а от имени Вальтер, которое он никогда не носил и не указывал ни в одном документе, ни в настоящем, ни в поддельном.
Юная горничная удаляется с грациозным поклоном, прикрыв за собой дверь, и А.Р. рассеянно откусывает и жует какие-то хлебцы, печенье и безвкусный сыр. Думает он о другом. Отодвинув в сторону всю эту неуместную снедь, которая не вызывает у него никакого аппетита, он опять выкладывает чистые листы бумаги на середину стола, прямо перед собой. И торопясь хоть как-то упорядочить – если это еще возможно – дискретную, изменчивую, зыбкую последовательность разных ночных перипетий, прежде чем они растворятся в тумане вымышленных воспоминаний и мнимого забвения, случайно выпадут из памяти или даже подвергнутся полному распаду, путник не мешкая вновь принимается за свой рапорт, боясь, что он уже разучился это делать.
Когда Жижи отправилась на свою сомнительную работу, на пороге двери, которая так и осталась открытой, я подобрал хрустальный кинжал – осколок разбившегося бокала для шампанского. Я долго вертел его в руках, внимательно осматривая со всех сторон. С помощью этого хрупкого, но зверского оружия я мог бы защитить себя, вернее, кого-нибудь припугнуть, если бы мне вдруг вздумалось силой заполучить у какого-нибудь надзирателя или надзирательницы ключи от своей темницы. На всякий случай я поставил эту опасную вещицу на полку в шкаф, на уцелевшую подставку, рядом с изящной бальной туфелькой, покрытой мерцающими голубыми чешуйками, хранящими далекий отблеск глубоких заводей под скалами на берегу Балтийского моря.
Трудно сказать, сколько прошло времени к тому моменту, когда появилась дуэнья в черном, держа в руках небольшой поднос с едой, напоминающей военный паек из запасов американской армии: холодная куриная ножка, несколько нарезанных дольками свежих помидоров (лоснистых, идеально ровных, с красивым химическим румянцем) и прозрачный пластиковый стакан с коричневатой жидкостью, похожей на кока-колу без газа. Не говоря ни слова, пожилая дама приблизилась к моему матрацу и поставила на него свою ношу. Когда она уходила, по-прежнему храня молчание, с таким же неприступным видом, она заметила на полу осколки стекла и, бросив на меня укоризненный взгляд, просто пихнула их ногой в угол.
Поскольку присесть тут было больше негде, я ел помидоры и курицу, пристроившись на детской кроватке с подушкой, на которой красовалась большая готическая буква «М», вышитая вручную. Хотя я боялся, что меня могут отравить или опоить каким-нибудь зельем, я рискнул пригубить подозрительную жидкость цвета темной ржавчины, которая, впрочем, оказалась на вкус ненамного хуже кока-колы. Я отхлебнул еще немного, и она мне даже понравилась, возможно, это был какой-то слабоалкогольный напиток, так что, в конце концов, я опустошил весь стакан. Я не догадался спросить у наведавшейся ко мне дамы, который теперь час, да и ее неприветливый вид не располагал к разговору. Эта суровая надзирательница, длинная, тощая и вся в черном, явилась ко мне как будто прямиком из античной трагедии, поставленной на модный в наше послевоенное время манер. Уже не помню, забылся ли я сном, снова повалившись на свой матрац.
Чуть позже надо мной появилась Ио с белой чашкой на блюдце, которое она осторожно несла в обеих руках, удерживая его ровно в горизонтальной плоскости, в общем, это было повторение давней, уже описанной сцены. Но на этот раз ее блестящие, слегка волнистые черные волосы рассыпались по плечам, а молочно-белая кожа местами просвечивала сквозь газ и кружева прозрачного пеньюара, надетого словно для первой брачной ночи, под которым не было никакого нижнего белья и который ниспадал на ее голые стопы. Обнажены были и ее плечи, покатые и крепкие, с атласной, почти бесплотной кожей. Подмышки были гладко выбриты. Лобок был покрыт мехом в форме равностороннего треугольника, не слишком большого, но очень темного и ясно различимого сквозь складки колыхавшейся накидки.
«Я принесла вам чашку липового отвара, – робко прошептала она, словно боясь меня разбудить, хотя лежал я с открытыми глазами и смотрел на нее почти в упор. – Его пьют на ночь, чтобы крепко спать и не видеть дурных снов». Разумеется, это сразу же навело меня на мысль о матери-вампире, целующей на ночь маленького мальчика, который не может уснуть без этого напутственного причастия. Будь на моем импровизированном ложе одеяло, она бы непременно его подоткнула перед тем, как поцеловать меня напоследок.
Между тем, в следующем кадре, она, облаченная в тот же наряд и так же склонившись над моим лицом, уже сидит верхом на мне, согнув ноги в коленях, бедра ее распахнуты, мое вздыбленное мужское естество погружено в ее женское, которым она тихонько двигает, медленно колышется, раскачивается, колеблется и вдруг неистово обрушивается на меня, как океан, ласкающий скалы… Наверное, меня не могла не тронуть заботливость, которую она проявляла, занимаясь со мной любовью подобным образом; но я пребывал в состоянии какого-то странного помутнения, это было что-то вроде раздвоения личности: я ощущал острое физическое наслаждение, и вместе с тем у меня было такое чувство, словно на самом деле все это происходило не со мной. В подобных обстоятельствах я обычно предпочитаю вести главную партию, не особенно рассчитывая на партнершу, но в эту ночь все вышло наоборот. Я чувствовал себя так, словно меня насилуют, но не скажу, что это было неприятно, совсем напротив, – разве что немного нелепо. Лежа на спине и не двигая руками, я мог целиком сосредоточиться на наслаждении, но все это время был в буквальном смысле не в себе. Я был как сонный младенец, которого раздевает мать, намыливает, неторопливо моет, забираясь в самые укромные места, ополаскивает водой, вытирает, присыпает тальком, распределяя его затем пушистой розовой кисточкой и обращаясь ко мне голосом ласковым и властным, звучащим как убаюкивающая музыка, в смысл которой я даже не пытаюсь вникнуть… Впрочем, если вдуматься, это полностью противоречит моему характеру, насколько я себя знаю, тем более что эта любовница в обличий матери моложе меня: ей тридцать два года, а мне сорок шесть лет! Спрашивается, какой наркотик – или приворотное зелье – подмешали к моей кока-коле?
В какое-то мгновение (до вышеописанной сцены? или после нее?) над моим покорным телом склонился врач. Чтобы провести аускультацию, меня перенесли на детскую кроватку и уложили на спину (так что мои согнутые в коленях ноги упирались в пол). Доктор сидел возле меня на кухонном стуле (откуда он здесь взялся?), и мне показалось, что я уже где-то видел этого человека. К тому же, судя по его немногословным замечаниям, он осматривал меня уже не в первый раз. У него были усы, бородка и ленинская лысина, а его раскосые глаза с прищуром скрывались за очками в стальной оправе. Он что-то замерял разными медицинскими приборами, главным образом, прослушивал сердце, и заносил полученные данные в блокнот. Не исключено, что мы с ним никогда прежде и не встречались: просто он был похож на известного шпиона или военного преступника, фотография которого недавно была напечатана во многих французских газетах. Уходя, он категорическим тоном знатока заявил, что мне необходим анализ, но не уточнил, что именно следует проанализировать.
И вот снова возникает образ Ио. Наверняка, это заключительный кадр той сладострастной сцены, хотя он и выпал из нее: тело молодой женщины все еще окутано дымкой воздушной вуали, а сама она так и сидит верхом на мне. Но теперь она держит спину прямо, расправив плечи, и на какое-то мгновение даже выгибается в талии. Ее воздетые руки вращаются в разные стороны, словно она плывет, отчаянно пытаясь спастись от накрывающей ее волны кружев и муслина. Ртом она хватает воздух, задыхаясь в заливающих ее потоках. Волосы падают ей на лицо, как лучи черного солнца. Протяжный хриплый крик медленно замирает у нее в горле…
И вот я снова один, но уже не в детской. Я блуждаю по коридорам в поисках уборной, в которой до этого меня уже по меньшей мере дважды вырвало. Кажется, с тех пор эти длинные, почти неосвещенные коридоры, которые внезапно разветвляются, загибаются под прямым углом и заканчиваются тупиками, бесконечно умножились, стали более прихотливыми, более запутанными. Со страхом я думаю о том, что все это не очень-то соответствует внешним размерам дома на набережной. Может быть, меня, без моего ведома, перевезли в другое место? Я уже не в пижаме: в спешке я натянул на себя исподнее, которое нашлось в большом шкафу, затем надел белую рубашку, пуловер и, наконец, костюм, висевший на плечиках. Костюм из толстой шерстяной ткани, удобный, моего размера, как будто сшитый мне на заказ. Все эти вещи не мои, но они были на виду, словно их предназначали для меня. Заодно я прихватил и белый носовой платок, в уголке которого вышита буква W, и мужские спортивные туфли, которые тоже были как будто приготовлены для меня.
Походив кругами, неоднократно повернув в обратную сторону и повторив все сначала, я кажется, наконец, нахожу то, что так отчетливо помню: просторную комнату, превращенную в ванную с умывальником, унитазом и большой чугунной эмалированной ванной на четырех львиных лапах. Дверь, которую я узнаю, хотя свет в коридоре тусклый, а в этом месте совсем слабый, легко подается; но вот она открывается, и, похоже, за ней какая-то комнатушка, погруженная в кромешный мрак. Я провожу рукой по стене слева, где должен находиться выключатель. Однако не могу нащупать возле наличника ничего похожего на фарфоровую кнопку. В недоумении я переступаю порог, глаза мои понемногу привыкают к темноте, и теперь я вижу, что это никакая не ванная, большая или маленькая, и вообще не комната: я стою на верхней площадке узкой винтовой лестницы с каменными ступенями, напоминающей скорее потайной выход, чем заурядный черный ход для прислуги. Слабый отблеск струящегося снизу света лежит где-то в глубине, но не могу понять, на каком расстоянии, – на нижних различимых ступенях этой крутой, очень темной и немного пугающей лестницы.
Переборов страх, я зачем-то ступаю на эту неудобную лестницу, спускаясь по которой, временами не могу разглядеть в темноте даже свои ноги. Перил на ней нет, поэтому я придерживаюсь левой рукой за холодную и шероховатую стену, которой обнесена эта спираль, с той стороны, где ступени хотя бы не такие узкие. Боясь упасть, я продвигаюсь совсем медленно, ибо сначала носком ботинка нащупываю каждую ступеньку, чтобы убедиться, что лестница не обрывается. В какой-то момент тьма так сгущается, что мне кажется, будто я ослеп. Несмотря ни на что, я продолжаю свое нисхождение, но на это рискованное предприятие у меня уходит гораздо больше времени, чем я предполагал. К счастью, отблески, падающие сверху, из коридора, сменяются, наконец, тусклым светом, струящимся снизу. Увы, этот слабо освещенный участок довольно быстро заканчивается, так что вскоре мне снова приходится красться по кругу вдоль стены, опуская ноги в непроглядную тьму. Трудно сказать, сколько витков спирали я преодолел, прежде чем, наконец, понял: эта странная каменная шахта, пронизывающая сверху до низу сложенный из кирпича особняк, ведет не на первый этаж, а в какое-то подземелье, в погреб или склеп, в общем, в подвал, двумя этажами ниже комнаты, из которой я вышел.
Когда я, наконец, добираюсь до основания этой спирали, которая казалась мне бесконечной и была размечена лишь редкими дежурными лампочками, расположенными слишком далеко друг от друга, передо мной открывается вход в туннель, но освещения там уже нет никакого. Впрочем, на последней ступеньке под последней тусклой лампой лежит переносной армейский фонарь, какие используют американские оккупационные войска; и он совершенно исправен. Насколько хватает этого узкого пучка света, можно разглядеть прямой подземный ход шириной, самое большее, полтора метра, своды которого выложены довольно старыми на вид, тесаными камнями. Пол идет круто под уклон и вскоре исчезает под толщей стоячей воды, которая собралась в самом глубоком месте и покрывает участок длиной метров пятнадцать-двадцать. Но деревянные мостки с правой стороны проложены довольно высоко, так что можно перебраться через эту лужу, не намочив ног…
И там, между последней доской этого настила и стеной, погруженное на три четверти в темную воду, лежит ничком тело мужчины, с вытянутыми руками и ногами, явно мертвого. Я быстро провожу по нему кружком света, который отбрасывает мой фонарик, и меня немного поражает его жутковатый вид. Отсюда пол опять тянется вверх, и, прибавив шагу, чтобы, не мешкая, убраться подальше от компрометирующего трупа, я поднимаюсь к другой винтовой лестнице со ступенями из перфорированных листов железа, на которой вообще нет никакого освещения. Я взбираюсь по ней, стараясь ступать как можно тише. Она ведет в проржавевшую металлическую будку, которая, как я сразу догадываюсь, находится внутри подъемного устройства старого откидного моста. На всякий случай погасив фонарик, я кладу его на железный настил с ромбическим рифлением, после чего выхожу на набережную, которую едва выхватывает из мрака несколько допотопных, явно газовых фонарей, хотя их света мне достаточно для того, чтобы быстро шагать по разбитой и ухабистой мостовой.
Этой ночью уже не так холодно; я вполне могу обойтись без своей шубы и вообще без пальто. Как и следовало ожидать, после довольно долгого перехода по глубокому, кое-где затопленному водой туннелю я нахожусь уже на другом берегу тупикового рукава канала, как раз напротив этого богатого особняка, в котором полно ловушек, этой кукольной лавки, логова двойных агентов, предприятия по торговле свежими кожами, тюрьмы, клиники и т. д. Все окна на фасаде дома ярко светятся, словно там в самом разгаре какое-то большое празднество, хотя я ничего подобного не заметил, когда оттуда уходил. Центральное окно над входной дверью, – в котором я впервые увидел Жижи, – широко раскрыто. За другими окнами, украшенными изнутри плотно прилегающими к стеклам белыми тюлевыми занавесками, с раздвинутыми двойными шторами, мелькают тени гостей, слуг с большими подносами, танцующих пар…
Вместо того чтобы перейти по мосту на другой берег заброшенного канала и вернуться в отель «Die Verbündeten», я шагаю дальше по этой стороне и дохожу до самого тупика, где стоит на приколе корабль-призрак… Почти в тот же миг я слышу за спиной звук мужских шагов по неровной мостовой, разом тяжелых и мягких, по которым можно узнать ботинки, какие носят солдаты из Military Police. Мне не нужно оборачиваться, чтобы понять, кто это может быть, как вдруг неподалеку от меня раздается короткий приказ на немецком: «Halt!»,[25] который звучит так, словно человек, отдавший его, говорит на родном языке. Без излишней спешки я оборачиваюсь и вижу, что ко мне приближается обычный наряд американской военной полиции, двое солдат в касках с двумя большими белыми буквами «MP», намалеванными спереди, с небрежно наведенными на меня автоматами, которые они держат наперевес у бедра. Сделав несколько шагов, широких под стать их росту, они останавливаются в двух метрах от меня. Тот, что говорит по-немецки, просит меня предъявить документы и разрешение, необходимое для того, чтобы передвигаться по городу после комендантского часа, если таковое у меня имеется. Не говоря ни слова, я засовываю правую руку в левый внутренний карман своей куртки непринужденным жестом человека, уверенного в том, что там отыщутся требуемые документы. К моему великому изумлению, я нащупываю в кармане какой-то твердый предмет, настолько плоский, что я даже не заметил его, когда надевал этот позаимствованный костюм, и извлекаю на свет берлинский Ausweis[26] – плотный прямоугольник с закругленными углами.
Даже не взглянув на него, я делаю шаг вперед и протягиваю его солдату, который рассматривает документ при ярком свете карманного фонарика, точно такого же, как тот, каким совсем недавно пользовался я сам; затем он направляет слепящий луч мне в лицо, чтобы сравнить меня с тем, кто изображен на фотографии, вставленной в эту металлическую карточку. Я еще могу наплести, будто этот Ausweis, который мне не принадлежит, в чем я готов сразу же сознаться, вернули мне по ошибке вместо моего во время предыдущей проверки документов, поскольку там было много народу; при этом я сделаю вид, что только сейчас заметил подмену. Однако, полицейский возвращает мне этот драгоценный документ с любезной, чуть ли не сконфуженной улыбкой, лаконично извиняясь за допущенную оплошность: «Verzeihung, Herr von Brückel».[27] После чего он быстро отдает честь каким-то неопределенным жестом, отдаленно напоминающим «немецкое приветствие», и вместе со своим напарником улепетывает обратно в сторону Ландверканала, чтобы продолжить прерванное патрулирование.
На сей раз изумление мое столь велико, что меня так и подмывает взглянуть на это удостоверение, ниспосланное мне судьбой. Как только полицейские исчезают из виду, я бросаюсь к ближайшему уличному фонарю. В синеватом ореоле света, который окружает чугунный фонарный столб, увитый стилизованным плющом, лицо на фотографии, и впрямь, может сойти за мое. Подлинный владелец этого удостоверения – Вальтер фон Брюке, проживающий по адресу: Фельдмессерштрассе 2, Берлин, Кройцберг… Предчувствуя, что это очередная западня, которую устроила мне прекрасная Ио вместе со своими пособниками, я возвращаюсь в отель в полном замешательстве. Я уже не помню, кто открыл мне дверь. Мне вдруг стало так дурно, что я в каком-то дремотном тумане разделся, быстро вымылся, лег в кровать и тут же провалился в глубокий сон.
Надо полагать, вскоре после этого, разбуженный естественным позывом, я отправился в ванную, где сразу вспомнил другую уборную, которую все никак не мог найти этой беспокойной ночью, и в тот же миг у меня перед глазами промелькнули все эти сцены, хотя поначалу я был готов поверить, что они просто пригрезились мне в кошмарном сне, тем более что в них явно угадывались знакомые мотивы сновидений, преследующих меня с детства: долгие блуждания в тщетных поисках уборной, спуск по винтовой лестнице, на которой не хватает ступенек, путешествие по подземному ходу, затопленному морскими, речными или сточными водами… и наконец, проверка документов, во время которой меня принимают за другого… (12) Но когда я шел обратно к своей измятой постели, мне попались на глаза вещественные доказательства того, что эти воспоминания были вполне реальными: костюм из толстой шерстяной материи, висевший на стуле, белая рубашка (украшенная, как и носовой платок, вышивкой в виде готической буквы W), пошлейшие ярко-красные носки в черную полоску, грубые спортивные башмаки… Во внутреннем кармане куртки нашелся и немецкий Ausweis… Меня одолевала такая усталость, что я тут же снова заснул, не дожидаясь убаюкивающего материнского поцелуя…
Примечание 12: наш психоаналитик-любитель, разумеется, «забывает» о трех ключевых темах, вокруг которых выстраиваются эти эпизоды, описанные им, впрочем, довольно подробно: инцест, рождение близнецов, слепота.
Не успел я покончить с коротким утренним завтраком, ограничившись только самым необходимым в виду плохого аппетита, как в мою комнату без стука вошел Пьер Гарин, который по своему обыкновению держался непринужденно и развязно, готовый на что угодно, лишь бы не выдать свое удивление и показать, что он осведомлен лучше собеседника. Вскинув руку в знак приветствия, привычным для него жестом, словно он хотел отдать честь на фашистский манер, но в последний момент передумал, он сразу же заговорил таким тоном, как будто мы расстались всего пару часов назад, и с тех пор ничего особенного не произошло: «Мария сказала мне, что ты уже проснулся. Вот я и решил заглянуть на минутку, хотя никаких срочных дел у меня к тебе нет. Просто хочу вкратце сообщить: нас одурачили, Oberst фон Брюке не погиб. Отделался небольшой царапиной на руке! Когда он медленно оседал под пулями убийцы – это было одно лишь притворство. Я должен был это предвидеть: это ведь самый лучший способ скрыться от преследования или даже избежать возможного повторения… Впрочем, те, другие, наверное, окажутся похитрее…»
– Ты хочешь сказать, похитрее нас?
– Пожалуй… Хотя я не собирался сравнивать…
Чтобы он не заметил, как меня встревожило его сообщение, я стал с показной невозмутимостью наводить порядок на своем загроможденном столе, который служил мне для разных целей и был небольшим, о чем я уже упоминал. С таким видом, будто я слушаю его в пол-уха, я сложил остатки своего завтрака на поднос, который еще не успели убрать, и сдвинул к другому краю стола разные вещицы, принадлежащие мне; а самое главное – припрятал листы с фрагментами незаконченной рукописи, но все это как будто невзначай. Боюсь, как бы Пьер Гарин не разгадал мою уловку. Теперь-то я знал, что в этой сомнительной афере он играет не на моей стороне. И то сказать, по меньшей мере странно, что этот пернатый вестник несчастья (он ведь часто пользовался псевдонимом Sterne – «крачка») даже не обмолвился ни о моем неожиданном отстранении, ни о том, как ему удалось снова напасть на мой след, и не полюбопытствовал, чем я занимался в эти два (или три?) дня. Безразличным тоном, словно желая поделиться собранной информацией, я спросил:
– Говорят, у фон Брюке был сын… Он не мог сыграть какую-то роль в твоей невероятной истории?
– А! Так значит Жижи рассказала тебе про Вальтера? Нет, он тут не при чем. Он погиб во время отступления на восточном фронте… Не верь Жижи и ее россказням. Она выдумывает всякие глупости, ей просто нравится все запутывать… Хоть она и очаровательная девчушка, но все же прирожденная лгунья!
Кому, действительно, не стоило верить, так это самому Пьеру Гарину. Он, разумеется, не мог знать о том, что, блуждая той ночью по огромному дому, где меня в некотором смысле держали в заточении, я случайно обнаружил три порнографических рисунка с подписью этого самого Вальтера фон Брюке, на которых он, вне всяких сомнений, изобразил Жижи собственной персоной, хотя и в неприличных позах, причем лет ей тогда было на вид не меньше, чем сейчас. Я не хотел упоминать об этом в своем рапорте, поскольку мне показалось, что в сущности это ничего не значит, разве что позволяет пролить свет на садоэротические склонности этого W. Но последняя реплика моего товарища Стерна заставила меня изменить свое мнение: теперь у меня есть вещественное доказательство того, что Вальтер фон Брюке не погиб на войне, о чем прекрасно известно и Жижи, хотя она утверждает обратное, и трудно поверить, что Пьер Гарин об этом не знает; так зачем же он пересказывает мне выдумки этой девчонки?
Между тем, рассказать об этом не так-то просто, и, видимо, не только потому, что весь этот эпизод был умышленно опущен: мне все никак не удается определить его положение, если не в пространстве (комната, в которой это произошло, могла находиться только в лабиринте коридоров на первом этаже), то хотя бы во времени. Когда это случилось: до или после визита врача? Успел ли я к тому времени съесть свой скудный завтрак, запив его тем подозрительным ликером? В чем я был: еще в пижаме или уже в костюме, в котором я совершил побег? Или же – почем знать – на мне была какая-то другая одежда, которую я ненадолго позаимствовал, а потом об этом позабыл?
Как бы то ни было, на всех трех рисунках, пронумерованных и снабженных подписью с названием, Жижи изображена в совершенно обнаженном виде. Выполнены они на листах чертежной бумаги формата 40 × 60 довольно твердым, черным графитным карандашом, обработаны растушевкой, чтобы оттенить некоторые детали, и кое-где слегка подкрашены акварелью. Все прорисовано с отменным мастерством – и рельеф оголенной плоти, и выражение лица. Некоторые части тела и оковы, как и хорошо знакомые черты натурщицы, изображены с преувеличенной, почти маниакальной точностью; иные части, напротив, получились какими-то нечеткими, либо из-за неравномерного освещения, более или менее контрастного сообразно расположению источников света, либо из-за того, что извращенный художник не уделил равное внимание всем деталям своего сюжета.
На первом рисунке, под названием «Покаяние», изображена анфас юная страдалица, стоящая на коленях, под которые подложены две круглые и жесткие подушки, утыканные острыми иглами, ее широко разведенные ноги перехвачены на икрах, под самыми коленями, кожаными браслетами, притороченными к полу туго натянутыми веревками. Спиной она опирается о каменную колонну, к которой прикована за запястье ее левая рука, прямо над головой с растрепавшимися и спутанными золотистыми локонами. Правой рукой (единственной свободной конечностью) Жижи гладит себе вульву, разжав ее края пальцами, большим и безымянным, и глубоко погружая указательный палец, вместе со средним, под шерстку на лобке, на котором от обилия мукоидного секрета слиплись завитки короткой молодой поросли возле щели. Она выгибается в талии, сильно выпячивая правую ягодицу. Кровь красивого цвета красной смородины струится по коленям, покрытым ранами, которые она с каждым движением растравляет все больше. На ее лице застыло выражение какого-то сладострастного исступления, до которого ее довели страдания или, скорее, мученическое упоение.
Под вторым рисунком стоит подпись «Костер», но это не традиционное сооружение из вязанок хвороста, на каком живьем сжигали ведьм. Маленькая мученица опять стоит на коленях, но уже прямо на каменном полу, веревки на ногах натянуты так туго, что того и гляди разорвут ее пополам, изображена она со спины, в три четверти, склоненная перед колонной с железным кольцом, к которому на уровне плеч прикреплены ее связанные в запястьях руки. Зритель (живописец, сгорающий от волнения влюбленный, похотливый палач-эстет, искусствовед) может любоваться ее ягодицами, слегка раздвинутыми и явленными во всей красе благодаря тому, что она сильно выгнулась в талии, а под ними в жаровне, на каком-то высоком тагане в форме свечи, похожем на курильницу для благовоний, рдеют горящие уголья, пламя которых мало-помалу пожирает мякоть лонного бугорка, паха и всей промежности. Голова ее повернута набок и запрокинута, так что мы можем видеть ее хорошенькое личико, искаженное от нестерпимой боли, нарастающей по мере того, как ее снедает пламя, и красивые разъятые уста, из которых вырываются протяжные хриплые стоны, хорошо модулированные и весьма волнующие.
В нескольких строках, торопливо нацарапанных карандашом по диагонали на обороте листа, может быть заключено посвящение рисовальщика своей натурщице, с признаниями в любви, более или менее непристойными и пылкими, или просто нежными, с легким налетом жестокости… Однако разобрать целиком надпись, сделанную таким нервным почерком, да еще и готической скорописью, иностранцу совершенно невозможно. Кое-где я еще могу угадать отдельные слова, хотя не знаю, насколько верно, – например, слово «meine», которое представляет собой на вид всего лишь ряд из десяти заостренных, совершенно одинаковых отвесных линий, соединенных едва заметными наклонными штрихами. Все равно, в зависимости от контекста, это немецкое местоимение может с равным успехом означать и «та, о ком я думаю», и «моя» – «та, что мне принадлежит». Этот короткий автограф (состоящий из трех или четырех предложений) подписан лишь усеченным именем «Валь», под которым можно без труда разобрать дату «апрель 49». А вот под самим рисунком имя указано полностью – «Вальтер фон Брюке».
На третьем рисунке с символическим названием «Искупление» Жижи изображена распятой на виселице из бревен, грубо отесанных на четыре канта и сколоченных в форме буквы «Т», установленной на перевернутую «V». Руки ее растянуты почти горизонтально и прибиты гвоздями к краям верхней перекладины, ноги разведены и уложены вдоль расходящихся брусьев опоры, а стопы приколочены к выпирающим и слегка скошенным подпоркам. Склоненная голова, украшенная венком из цветков дикой розы, свесилась на плечо, так что взору открываются мокрые от слез глаза и уста, из которых исторгаются стоны. Римский центурион, который следил за тем, чтобы приговор был должным образом приведен в исполнение, напоследок решил изувечить половые органы девушки, глубоко вонзая острие копья в нежную плоть между ног. Из многочисленных ран в нижней части живота, на вульве, в паху и на ляжках, льются потоки алой крови, которой Иосиф Аримафейский уже наполнил до краев бокал для шампанского.
Такой же бокал стоит сейчас на самом видном месте в комнате снисходительной натурщицы, согласившейся позировать для картины, изображающей ее казнь, – на каком-то туалетном столике, рядом с картонной папкой для рисунков, которую я закрываю, аккуратно сложив в нее три листа чертежной бумаги. Бокал уже опорожнен, но на хрустальных стенках и на вогнутом дне остались засохшие следы ярко-красной жидкости. Судя по его необычной форме (он гораздо глубже тех бокалов, в каких принято подавать игристое вино, когда под рукой нет фужеров), он из того же богемского сервиза, что и бокал, который девочка разбила на пороге моей комнаты. (13) В этой комнате, которую, по всей видимости, занимает она, царит страшный беспорядок, и не только на длинном столе, заваленном всевозможной домашней утварью вперемешку с румянами и коробочками с кремом и мазями, скопившимися вокруг наклонного зеркала. Все помещение загромождено разными диковинами: тут и цилиндр, и дорожный чемоданчик, и велосипед с мужской рамой, и толстая связка бечевки, и старый патефон с раструбом, и портняжный манекен, и мольберт, и белая трость для слепцов… и все эти вещи раскиданы, как попало, свалены в кучу, одни лежат на боку, другие перевернуты вверх дном, словно здесь шли бои или пронесся ураган. Одежда, нижнее белье, какие-то сапоги и башмаки без пары разбросаны повсюду, по мебели и по полу, словно немое свидетельство того, как небрежно и грубо Жижи обращается с личными вещами. На паркете, между гребнем из материала, имитирующего черепаховый панцирь, и большими парикмахерскими ножницами, лежат панталончики с пятнами крови. Судя по ярко красному цвету этих более или менее свежих отметин, кровотечение, похоже, было вызвано ранением, а не регулами. Надо полагать, безо всякого развратного умысла, а скорее поддавшись инстинкту самосохранения, словно заметая следы преступления, к которому я был причастен, я поглубже запихнул запятнанные шелковые панталоны себе в карман.
Примечание 13: Как раз с этого момента, – когда А.Р. поднимает с пола детской причудливый хрустальный кинжал, в который превратилась ножка разбитого бокала для шампанского, и тут же решает использовать его в качестве оружия устрашения, дабы совершить побег из дома, где, как он полагает, его держат в заточении, – наш обезумевший спецагент начинает нести уже такой бред, что его рассказ следует переписать заново, и не просто кое-где подправить, а повторить с самого начала, чтобы восстановить истинную картину.
Сразу после легкого ужина к А.Р. наведался наш добрый доктор Хуан, который констатировал, что состояние больного внушает серьезные опасения: прострация на грани обморока (он еще оставался в сознании, но становился все более безучастным) периодически сменялась более или менее непродолжительным психическим возбуждением, сопровождавшимся тахикардией и резким повышением кровяного давления, и в такие моменты его опять охватывала мания преследования, ему казалось, что он стал жертвой большого заговора, что какие-то воображаемые враги насильно держат его здесь взаперти и пичкают барбитуратами, наркотиками и всякой отравой. Хуан Рамирез – врач опытный и заслуживающий доверия. Будучи известным психоаналитиком, он занимается и обычной медицинской практикой, но больше всего интересуется психическими расстройствами на сексуальной почве. Да и репутацию сговорчивого абортмахера он заработал среди завистливых коллег, слава Богу, тоже не без причины! Мы, и впрямь, частенько используем этот его талант для обслуживания наших малолетних моделей, которые обнажаются не только когда позируют на любительских сеансах рисования.
Едва он вышел из импровизированного больничного покоя, где лежал его пациент, как туда заглянула Жоёль Каст в надежде на то, что ей удастся рассеять нелепые подозрения неблагодарного путника, который приписывал ей дурные намерения, хотя она приютила его исключительно по доброте душевной. Чтобы ее появление выглядело естественно, она принесла его вычищенную и выглаженную одежду, исподнее, обувь и шубу, а заодно и чашку индийского липового отвара, который эта радушная мнимая вдова ценила (и как успокоительное средство, и как средство, тонизирующее центральную нервную систему!) гораздо выше любых аптечных микстур. Когда ей показалось, что француз уснул, она, стараясь не шуметь, прошла через комнату, прикрыла за собой дверь и удалилась, поскольку тоже собиралась прилечь в другой части дома.
Однако А.Р. лишь притворился спящим, убедительно изобразив глубокий сон: тело расслаблено, рот приоткрыт, дыхание спокойное и ровное… Он выждал десять минут, за это время хозяйка наверняка должна была добраться до своей комнаты. Затем он встал, быстро надел свои вновь обретенные вещи, взял с полки зеркального шкафа запрятанный туда хрустальный кинжал и, собравшись с духом, крадучись двинулся по большому притихшему дому.
Разумеется, он не слишком хорошо ориентировался в лабиринте вестибюлей и коридоров, который, и впрямь, устроен гораздо сложнее, чем можно вообразить, глядя на нарядный особняк с улицы. Когда его несли в бывшую детскую, где уложили на матрац, брошенный прямо на пол, он еще не пришел в себя после того, как неожиданно упал в обморок в гостиной с живыми куклами, под конец бурного припадка, сопровождавшегося галлюцинациями. А потом, когда его нужно было проводить до большой розовой уборной с ванной, в которой господа любят купать маленьких девочек, он, казалось, ничего вокруг себя не видел, так что Жижи пришлось вести его за руку и туда, и обратно. В общем, А.Р. довольно долго блуждал в поисках лестницы, ведущей на первый этаж. Кругом не было ни души, к тому же освещение в столь поздний час было совсем скудным: лишь кое-где горели синие дежурные лампы…
Но вот он вышел из узкого прохода в главный коридор и чуть было не столкнулся с Виолеттой, которая сняла туфли на высоком каблуке, чтобы не разбудить спящих обитателей дома. Виолетта – одна из юных подруг дочери Ж.К., которая дает девушке кров, покровительствует ей, заботится о ее материальном благополучии, оказывает ей психологическую поддержку и выполняет обязанности ее опекунши (помогает улаживать юридические, медицинские, финансовые и другие дела). Этой прелестной барышне шестнадцать весен, она стройна и рыжеволоса, пользуется большим успехом среди старших офицеров и, в общем-то, ничего не боится. Однако, когда перед ней внезапно, в ореоле призрачного света, который испускали слишком тусклые лампы, возник незнакомец с изможденным лицом, устрашающе тучный, отчего его тяжелая шуба казалась еще толще, она от неожиданности испугалась и непроизвольно вскрикнула.
А.Р. впал в панику при мысли о том, что этот крик может переполошить весь дом, и велел ей молчать, угрожающе наставив на нее свой хрустальный кинжал, который он держал на уровне бедра, так что его острие оказалось у края ее неприлично короткой юбки. Дело в том, что на юной девушке была миленькая школьная форма, какую положено носить официанткам в «Сфинксе», но не просто двусмысленная, как у Жижи, а откровенно вызывающая: расстегнутая почти до самой талии блузка сползла набок, обнажив плечо, а между краем юбки и сборчатыми круглыми подвязками, украшенными крошечными цветочками из розового газа, которыми были перехвачены длинные черные шелковые чулки, отделанные повыше колен кружевами, зияла полоска гладкой кожи.
Виолетте стало не по себе, когда она поняла, что на нее напал какой-то сумасшедший преступник, и она медленно попятилась к стене под натиском злоумышленника, который вскоре загнал ее в угол за полуколонной и подошел так близко, что едва к ней не прижался. Полагая, что она нашла лучший способ защиты от нападающего, с которым ей все равно было не совладать, и уповая на силу своих чар, не раз доказавших свою действенность, бесстрашная девушка подалась вперед и стала ластиться к нему, стараясь еще больше высвободить из под сползающей блузки красивые обнаженные груди, а вдобавок беззастенчиво шепнула: если он хочет изнасиловать ее стоя, она готова сейчас же снять свои панталончики…
Но этому мужчине было нужно другое, он требовал что-то невообразимое: ключ от дома, в котором никогда не запирают двери. Она и не заметила, как страшное острие стеклянного клинка, который незнакомец все это время неумолимо наводил на нее, уперлось ей под самый лобок. Когда она отпрянула, пытаясь схватить обеими руками этого нежданного, незваного клиента, А.Р. подумал, что она хочет вырваться и убежать. Повторяя сдавленным голосом: «Дай мне ключ, потаскушка!», он понемногу налегал на свой хрустальный стилет, и его острый, как игла, кончик сам собой вонзился в мягкий треугольник у нее между ног. Перекошенное лицо путника приняло испуганное выражение, а его жертва замерла, как зачарованная, онемев от ужаса, вытаращив глаза на убийцу и держа перед раскрытым ртом руки, в которых она все еще сжимала ремешки бальных туфель. Туфли слегка покачивались, и металлические чешуйки, густо покрывающие треугольную союзку, переливались бесчисленными голубыми искрами.
Но тут А.Р., похоже, вдруг осознал, что он делает. Все еще сомневаясь, свободной, левой рукой он со страхом задрал эту неприличную плиссированную юбочку и сразу увидел испод меховой подушечки, защищенной иллюзорным покровом из белого шелка, который был пронзен насквозь и под которым на глазах разливалось ярко красное, блестящее озерцо прибывающей свежей крови.
Он с удивлением воззрился на свою правую руку, словно ее отрезали, и это была уже не его рука. Потом он вдруг стряхнул с себя оцепенение, в страхе попятился и вполголоса произнес шесть слов: «Какой ужас, Боже милосердный, какой ужас!» Рывком он выдернул свой невесомый стеклянный нож из глубокой раны, так резко и грубо, что Виолетта протяжно застонала от дикой боли. Но в следующее мгновение, воспользовавшись тем, что ее мучитель явно пришел в замешательство, она изо всех сил оттолкнула его и с криком побежала по коридору, не поднимая с пола свои поблескивающие туфли, которые она выронила, когда рванулась на свободу.
А.Р., вновь оторопев от неожиданности, запутавшись в хитросплетениях повторений и воспоминаний, уставился на туфли, лежащие перед ним на полу. Капля крови упала с острия его пики на подкладку левой туфельки, которая была отделана изнутри белым шевро, и оставила на ней круглое ярко-красное пятно с бахромой брызг по краям… По всему дому, разбуженному криками жертвы, разносился грохот хлопающих дверей, слышался быстрый топот в коридорах, пронзительно звенела сигнализация, истерические рыдания пострадавшей сливались с жалобным блеянием других переполошившихся овечек… Сквозь нарастающий гвалт на миг пробивались тревожные возгласы тех, кто сбегался на шум, короткие приказы, нелепые крики о помощи, под аккомпанемент которых повсюду занимался яркий свет.
Уже казалось, что преследователи обложили А.Р. со всех сторон, как вдруг он опомнился, увернулся от мощных лучей, бьющих из наведенных на него прожекторов, и метнулся туда, откуда, судя по всему, появилась Виолетта, и, действительно, тут же увидел широкую лестницу. Перепрыгивая ступеньки, он бросился вниз, держась за массивные лакированные перила на пузатых деревянных балясинах, и на бегу едва успел рассмотреть картинку, которая висела на стене, как раз на уровне глаз: ненастная ночь, романтический пейзаж с видом на полуразрушенную башню, рядом с которой распростерлись на траве двое мужчин одинаковой наружности, очевидно, упавших с нее от удара молнии. В этот миг он сам впопыхах угодил ногой мимо ступеньки и приземлился уже на нижней площадке, раньше, чем ожидал. Тремя прыжками он, наконец, перемахнул через порог входной двери, которая вела на крыльцо и, разумеется, как и все остальные, отнюдь не была заперта на ключ.
Ночная прохлада немного его остудила. Когда он со скрипом раздвинул ворота и вышел из сада на набережную с неровной мостовой, он разминулся с американским офицером, который шагал в другую сторону и на ходу отдал ему честь, но А.Р. не кивнул в ответ. Тот остановился и даже демонстративно обернулся, чтобы получше рассмотреть этого невежливого или просто рассеянного господина, лицо которого показалось ему знакомым. А.Р. спокойно шагал дальше, вскоре свернул направо и двинулся вдоль Ландвер-канала в сторону Шенберга. Левый карман его шубы, даром что широкий и глубокий, выпирал каким-то странным бугром, продолговатым и твердым. Он сунул туда руку и без особого удивления обнаружил бальную туфельку с голубыми русалочьими чешуйками, которую он безотчетно подобрал с пола перед тем, как обратился в бегство. А вот хрустальный стилет на подставке от бокала для шампанского стоял теперь в центре столика-геридона, что высился, как башня, на верхней площадке широкой лестницы, по которой кубарем скатился напуганный убийца, под грозовым небом, среди вспышек молнии, озарявших эти декорации под неумолчные раскаты грома.
Показания американского офицера – последние в практически непрерывном ряду свидетельств, благодаря которым нам досконально известно, что делал и как вел себя наш беглый больной в весьма особом особняке фон Брюке. Когда А.Р. свернул направо в конце тупиковой улочки и исчез из виду, военный в свой черед проследовал через ворота, только в обратном направлении, решительным шагом, как постоянный клиент кукольной лавки; если быть точным, это был полковник Рольф Джонсон, которого знают в лицо все наши, да и вообще сотрудники всех западных спецслужб, хотя между собой чаще называют его просто сэр Рольф, дружески подтрунивая над его подчеркнуто британской выправкой. Он взбежал на три ступеньки крыльца, взглянув на массивные часы, которые он носит на левой руке.
Так что, нам в точности известно, что с этого момента до того, как А.Р. объявился в кабаре «Die Sphinx» (где работают многие наши школьницы), прошло ровно восемьдесят минут, а это в два раза больше, чем тратят на дорогу девушки, для которых этот маршрут уже стал привычным: сначала вдоль канала мимо Мерингплац, затем налево, через канал, прямиком на Йоркштрассе. Словом, у нашего так называемого спецагента было время (минут двадцать-тридцать), чтобы сделать крюк и даже совершить убийство, которое было продумано заранее или же произошло случайно, по стечению обстоятельств. Как бы то ни было, надо полагать, что он уже успел освоиться в этом квартале, ведь ему часто доводилось останавливаться неподалеку, во французском секторе: сразу за Тиргартеном, который фактически представляет собой международную зону (хотя формально целиком относится к английскому сектору), поскольку там находится вокзал Цоо – главный въезд в город с Запада.
Более того, беглец наверняка хорошо знал и то заведение, где он мог спокойно отсидеться после наступления комендантского часа, – в почти не пострадавшем от разрушений районе южнее Клейстштрассе и Бюловштрассе, изобилующем ночными притонами, куда часто наведываются служащие оккупационных войск и толстосумы с сомнительной репутацией, которые разжились драгоценными пропусками, дающими право разгуливать по городу в любое время суток. По крайней мере, он, похоже, без колебаний миновал всевозможные вывески, хоть и не слишком броские, но довольно заметные, на многих из которых, к тому же, красовались французские названия: Le Grand Monde, La Cave, Chez la comtesse de Ségur,[28] но встречались и другие: Wonderland, Die Blaue Villa, The Dream, Das Mädchenpensionat, Die Hölle[29] и т. д.
Когда А.Р. вошел в тесный и переполненный «зрительный зал» кабаре «Сфинкс», Жижи в черном приталенном корсете и цилиндре исполняла на барной стойке традиционный берлинский номер. Не прерывая выступление, она, улыбнувшись, махнула ему в знак приветствия своей длинной белой тростью со щегольским золотым набалдашником, так непринужденно, словно этим вечером они условились здесь встретиться, хотя сама девушка это категорически отрицает и даже настаивает на том, что она просила больного оставаться в комнате, ведь доктор Хуан нашел его крайне слабым, и, уж тем более, не выходить из дома, а чтобы он об этом и не помышлял, приврала, будто бы все двери заперты на ключ. В общем, и тут эта малолетняя дрянь, как водится, солгала, по меньшей мере, один раз.
Остаток вечера прошел гладко, под томные звуки музыки, в сладковатом дыму «Camels», в рассеянном рыжеватом свете, в умеренно теплой атмосфере кондиционированной геенны, наполненной благоуханием сигар, смешанным с приторным ароматом надушенных девушек, на которых по большей части уже не осталось почти никакой одежды. Чтобы найти себе пару, было достаточно фривольного жеста или взгляда. Иные более или менее скрытно удалились из зала в тесноватые, но комфортабельные отдельные кабинеты, которые размещались на первом этаже, или же в специально оборудованные камеры в полуподвале.
Выпив несколько порций бурбона в темном углу зала, где его обслужила обходительная официантка лет тринадцати, по имени Луиза, А.Р. заснул от усталости.
Бездыханное тело оберфюрера Дани фон Брюке было обнаружено под утро нарядом военной полиции возле Виктория-парка, то есть поблизости от большого аэропорта Темпельгоф, во дворе частично разрушенного бомбами дома, в котором никто не жил, но уже велись восстановительные работы. На этот раз убийца не промахнулся. Стреляли спереди в грудь, почти в упор, и обе пули, гильзы от которых удалось найти на месте преступления, оказались того же калибра, что и те, какими убитый был ранен в руку три дня назад, к тому же, по мнению экспертов, выпущены они были из той же автоматической 9-миллиметровой «Беретты». Возле трупа лежала дамская туфелька на высоком каблуке, союзка которой была покрыта голубыми металлическими чешуйками. На подкладке виднелось пятно от капли ярко-красной крови.
Пятый день
А.Р. снится, что он просыпается в комнате без окон, где раньше жили дети фон Брюке. Из пригрезившегося сна его вырывает громкий звон осыпающегося стекла, который, похоже, доносится со стороны шкафа, хотя зеркало на нем цело. Опасаясь, что разбилось что-то внутри, он встает и открывает тяжелую дверцу. И действительно, на средней полке, на уровне глаз, хрустальный кинжал (до этого стоявший ровно на подставке от бокала для шампанского) опрокинулся на голубую туфельку с русалочьими чешуйками, скорее всего, от грохота четырехмоторного американского самолета, который поднялся в Темпельгофе (при северном ветре) и прошел необычайно низко, так что все в доме дрожало, как во время землетрясения. Острие прозрачного клинка обрушилось вниз с такой силой, что проткнуло белое шевро, которым отделана изнутри изящная туфелька, теперь тоже лежащая на боку. Рана сильно кровоточит: густая алая жидкость пульсирующим потоком заливает нижнюю полку и белье Жижи, сваленное там как попало. А.Р. в панике, он не знает, как остановить кровь. А тут еще, к пущему ужасу, по всему дому внезапно разносится пронзительный бунтарский крик…
В этот момент я вправду проснулся, но на сей раз в третьем номере отеля «Союзники». В коридоре, прямо за моей дверью, устроили шумную перебранку две горничные. Я все еще был в пижаме и лежал поперек кровати на развороченном одеяле, влажном от пота. Когда ушел Пьер Гарин и унесли мой Frühstück, я решил ненадолго прилечь, и поскольку слишком короткий сон так и не прогнал гнетущую усталость, которую я испытывал после этой беспокойной ночи, меня тут же опять сморило. А сейчас за окном, между раздвинутыми занавесками, уже догорал зимний день. Горничные бранились на каком-то диалекте с сильным деревенским выговором, так что я не понимал ни слова.
Я с трудом поднялся и рывком распахнул дверь. Мария и ее юная напарница (наверное, новенькая) разом угомонились. На полу в коридоре лежал расколовшийся на три части стеклянный графин, содержимое которого (похоже, это было красное вино) разлилось на пороге моего номера. Мария была явно раздосадована, но взглянула на меня с натянутой улыбкой и принялась оправдываться, уже на литературном немецком, стараясь ради меня говорить проще: «Эта дурочка испугалась: ей показалось, что самолет рухнет на дом, вот она и выронила от страха поднос».
– Это неправда, – тихо возразила другая девушка. – Она нарочно меня толкнула, чтобы я потеряла равновесие.
– Довольно! Не докучай постояльцам своими баснями. Месье Валь, внизу вас уже целый час дожидаются два господина. Они не велели вас будить… сказали, что им не к спеху… Они интересовались, есть ли в отеле другой выход!
– Ясно… А здесь есть другой выход?
– Нет, конечно! Да и зачем? Тут только одна дверь с выходом на канал, вы и сами видели. Она для всех – и для посетителей кафе, и для поставщиков, и для постояльцев.
Кажется, Мария решила, что гости затеяли весь этот разговор о дверях из глупого любопытства. Но что если она лишь прикинулась простушкой, а сама-то прекрасно поняла, к чему они клонят? Возможно, она даже нарочно устроила эту суматоху в коридоре, чтобы выманить меня из номера, поскольку боялась, как бы я не сбежал? Я спокойно сказал, что сейчас оденусь и спущусь. Тут я резким движением снова закрыл дверь и вдобавок демонстративно запер ее на ключ, который повернулся в замке с глухим хлопком, похожим на звук выстрела из револьвера с «глушителем».
В тот же миг я увидел на стуле свой дорожный костюм, в том самом месте, куда я положил позаимствованную одежду, в которой вернулся в отель этой ночью. А в глубине комнаты на крюк настенной вешалки была теперь нацеплена моя исчезнувшая шуба, надетая на плечики… Когда и кто подменил одежду так, что я ничего не заметил? Сейчас мне уже не вспомнить, попадались ли мне на глаза мои исконные вещи в тот момент, когда ко мне ненадолго наведался Пьер Гарин, но даже если бы они появились после того, как ко мне некстати нагрянула Мария с завтраком на подносе, я вполне мог и не обратить на них внимания, потому что слишком к ним привык… Впрочем, куда больше тревожило меня то, что теперь не осталось никаких доказательств, подтверждающих какую-никакую объективную реальность моей последней вылазки. Все пропало: удобный твидовый костюм, отвратительные красные носки в черную полоску, рубашка и носовой платок с вышивкой в виде готической буквы W, грубые башмаки, заляпанные грязью из подземелья, берлинский Ausweis с моим (или, по меньшей мере, очень похожим на мое) лицом на фотографии, но выданный на другое имя, которого нет среди тех, какими пользуюсь я сам, хотя оно имеет прямое отношение к моей поездке.
Тут я вспомнил о запачканных кровью панталончиках, которые зачем-то подобрал с пола в комнате Жижи. Разве я не вынимал их из кармана твидовых штанов перед тем, как улегся в постель? (По крайней мере, я хорошо помню, как торопливо запихнул их туда, завершив осмотр трех рисунков, выполненных моим двойником, и тогда еще подумал, что костюмы редко шьют целиком из такой ткани.) В конце концов, я с облегчением нашел их в мусорной корзине в ванной: к счастью, тут еще не убирались, поскольку я не выходил из номера.
Рассматривая панталончики, я заметил в центре красного пятна крошечное отверстие, какое можно было бы проделать очень тонким и заостренным предметом. Как тут было не вспомнить о стеклянном стилете, который только что привиделся мне в кошмарном сне? Тем более что, при всей анекдотичности этого кошмара, в нем, как почти во всех снах, легко угадывались зачатки вчерашней яви: когда я поставил на загроможденную полку в большой шкаф осколок разбитого бокала для шампанского рядом с голубой туфелькой, мне, и впрямь, на миг показалось, что я загарпунил этой пикой рыбу на большой глубине, во время подводной охоты (О, Ангелика!).[30] Я аккуратно убираю за зеркало домашней аптечки свой охотничий трофей, который может служить доказательством реальности моих ночных похождений, стараясь не оторвать ненароком хрупкий осколок стекла, прицепившийся к волокнам шелка.
Одевшись без излишней спешки, чтобы спуститься к гостям, я взглянул на вешалку и заметил, что левый карман моей шубы как-то странно выпирает. Осторожно приблизившись к ней, я с опаской сунул руку в карман, откуда извлек тяжелый автоматический пистолет, который сразу показался мне знакомым: точно такую же, если не эту самую, «Беретту» я нашел в день прибытия в Берлин в ящике письменного стола в квартире J.К. с видом на Жандарменмаркт. Может быть, кто-то хотел подтолкнуть меня к самоубийству? Я решил выяснить это позже, а пока, не зная, что мне делать с этим навязчивым оружием, положил пистолет туда же, куда его запихнул неизвестный, прежде чем вернуть мне мою одежду, и спустился в холл, разумеется, без шубы.
В зале «Café des Alliés», в котором обычно немноголюдно, я сразу заприметил двоих ожидавших меня мужчин, хотя они и не проявляли нетерпения: просто других посетителей там не было. Они сидели за столиком возле входной двери, склонившись над стеклянными кружками с остатками пива, и смотрели на меня, а один указал мне (скорее смиренным, чем повелительным жестом) на свободный стул, приготовленный, очевидно, для меня. Едва взглянув на их костюмы, я сразу понял, что передо мной немецкие полицейские в штатском, впрочем, они и сами без обиняков заявили, что им поручено получить от меня точные, честные и прямые ответы на некоторые вопросы и в подтверждение своих полномочий предъявили мне удостоверения. Хотя они были не слишком разговорчивы и не сочли нужным привстать при моем появлении, их жесты, позы и немногословные реплики были исполнены учтивости и даже некоторой доброжелательности, по меньшей мере, показной. Тот, что помоложе, говорил по-французски, вразумительно и правильно, но без излишнего педантизма, и я был польщен тем, что полиция проявила такую заботу обо мне, хотя понимал, что теперь мне не удастся при случае увильнуть от неудобного вопроса, сделав вид, будто я не уловил его буквальный смысл или какие-то очевидные намеки.
Бросив взгляд на их удостоверения, я заметил, что второй полицейский, который по незнанию или умышленно не говорил ни слова на моем родном языке, был старше по званию. Вид у него был скучающий и немного рассеянный. Его спутник вкратце изложил мне суть дела: меня подозревают в причастности (если не сказать больше) к одному преступлению, расследование которого было поручено им сегодня утром. Поскольку ни жертва, ни подозреваемые не состоят на военной или гражданской службе у американцев, дело – по крайней мере, на начальном этапе – решено было передать западноберлинской Stadtpolizei,[31] как заведено в этом секторе. Сейчас он для начала зачитает мне фрагменты протокола, которые касаются меня. Я могу прервать его в любой момент, если сочту нужным сделать замечание; но чтобы не терять время понапрасну, лучше не злоупотреблять этим правом и высказывать сразу ряд комментариев, будь то возражения или уточнения, скажем, после того, как он закончит вводную часть. Я согласился, и он не мешкая приступил к чтению типоскрипта, который извлек из своего толстого портфеля:
– Ваше имя Борис Валлон, дата рождения – октябрь 1903 года, место рождения – Брест, не белорусский Брест, а военный порт во французской Бретани. По крайней мере, под этим именем вы пересекли checkpoint?[32] на Фрид-рихштрассе, когда перебрались в западную часть нашего города. Между тем, часов за тридцать до этого вы покинули пределы Федеративной Республики через пограничный пост Бебра с паспортом, в котором была указана другая фамилия – Робен, и другое имя – Анри; этот же документ вы предъявили в поезде по требованию постового, у которого вызвало подозрение ваше странное поведение на вокзале в Биттерфельде. В том, что у вас на руках не один Reisepas, а несколько паспортов, с виду подлинных, хотя имена и данные о месте рождения и роде деятельности в них указаны разные, вас не обвиняют: для командированных французских агентов это обычное дело, и нас это не касается. Чем вы занимались после того, как въехали в советскую зону через Герстунген-Айзенах, до того момента, как перебрались из Восточного Берлина к нам в американский сектор, нас по большому счету тоже не интересует.
Но вышло так, что ту ночь (с 14-ого на 15-ое) вы провели на втором этаже разрушенного дома на Жандармен-маркт в квартире, окна которой выходят как раз на ту часть широкой пустынной площади, где приблизительно в полночь было совершено первое покушение на некоего полковника фон Брюке: из одного выбитого окна этого самого дома в него дважды стреляли из револьвера, но лишь ранили в руку. Одна обездоленная пожилая дама по имени Ильза Бак, которая нелегально проживает там, невзирая на антисанитарные условия, отсутствие электричества и водоснабжения, уверенно указала на вас, когда ей предложили на выбор несколько разных фотографий. Она уверяет, что выстрелы были произведены из полуразрушенной нежилой квартирки, которая находится на том же этаже, что и ваша. Она видела, как вы приехали под вечер и вышли из дома только после того, как прогремели выстрелы. Хотя никто не задавал ей наводящих вопросов, в своих показаниях она упомянула и о вашей толстой шубе, подивившись тому, что приезжий в такой хорошей одежде остановился на ночлег в этой трущобе, которую облюбовали клошары.
На следующий день она видела, как вы уходили с багажом в руках, но уже без густых усов, в которых появились накануне. Хотя в рассказе этой особы местами были заметны признаки слабоумия, такие детали в ее показаниях не могут не настораживать, тем более что, добравшись до Кройцберга (пешком, по Фридрихштрассе), вы спросили дорогу у юной официантки в пивной «Спартак», и она объяснила вам, как пройти на Фельдмессерштрассе, которую вы искали и на которой сразу же сняли номер в этой самой гостинице, в двух шагах от дома, принадлежащего вашей предполагаемой жертве, вернее, уже его бывшей супруге, француженке Жоёль Каст. Поскольку этот маршрут вы выбрали не случайно, все это, естественно, наводит на подозрения.
Так вот, прошлой ночью в 1 час 45 минут этот офицер, сотрудник спецслужб вермахта Дани фон Брюке был убит (на сей раз по-настоящему): двумя выстрелами в грудь, в упор, из автоматического пистолета калибра 9 мм, из того же самого, из которого, по заключению экспертизы, его лишь легко ранили тремя днями ранее. В обоих случаях гильзы были обнаружены на месте преступления, во втором случае – на строительной площадке у Виктория-парка, до которого можно добраться отсюда за тридцать пять минут спокойным шагом. Мы знаем с точностью до минуты, когда было совершено убийство, со слов ночного сторожа, который слышал выстрелы и взглянул в тот момент на часы. Обе гильзы, оставшиеся после удачного повторения, лежали в пыли возле трупа. Что касается первой неудачной попытки, предпринятой в Восточном Берлине, то там гильзы были обнаружены в квартире, на которую указала фрау Бак, на полу перед оконным проемом без рамы, из которого вы, по ее словам, и произвели выстрелы. Пусть эта дама не совсем в своем уме, пусть ей повсюду мерещатся преступники и израильские шпионы, но надо признать, что ее бредни совпадают в главном с установленными нами фактами, научными и неопровержимыми…
Сделав такой комплимент, в известном смысле себе самому, полицейский поднял голову и пристально посмотрел мне в глаза. Нисколько не смутившись, я ему улыбнулся, словно порадовался его успехам или, на худой конец, дружески усмехнулся в ответ. По существу, то, что он прочел мне вслух с листа, по ходу то и дело добавляя что-то от себя (скажем, последнюю фразу он наверняка сочинил сам), не слишком меня удивило: разве что лишний раз подтвердило мои предположения о том, что кто-то хочет свалить всю вину за это преступление на меня. Но вот кто: Пьер Гарин? Ио? Вальтер фон Брюке?… В общем, я приготовился отвечать честно, только все никак не мог решить, вправе ли я разглашать берлинской полиции какие-то сведения об этом сомнительном задании, в котором все больше неясностей, и жертвой которого мало-помалу становился я сам.
Я уже хотел было взять слово, как вдруг мой собеседник воззрился на своего начальника, который встал со стула. Я тоже взглянул на этого рослого мужчину и увидел, что он внезапно изменился в лице: гримаса равнодушия с налетом скуки исчезла, теперь он с напряженным вниманием, почти со страхом, смотрел в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, которая находилась у меня за спиной. Его подчиненный, разумеющий по-французски, тоже вскочил и застыл на месте, глядя в ту же сторону с нетерпением насторожившейся ищейки, столь же явным, сколь и неожиданным.
Не поднимаясь со стула, без единого намека на поспешность, я тоже повернул голову, чтобы узнать, от чего они вдруг встрепенулись. Глядя на них, спустившись с лестницы, на последней ступеньке, в полутьме стояла Мария возле Schupo[33] в форме, с громоздким плоским чемоданом, который он держал обеими руками горизонтально перед грудью, так бережно и почтительно, словно ему доверили большую ценность. По губам миловидной горничной можно было прочитать хорошо артикулированное немое послание, несомненно, на немецком языке, обращенное к моим обвинителям. Выходит, эта молоденькая девушка, с виду такая наивная, тоже работала на местную разведку, как, впрочем, почти вся прислуга в отелях и пансионах Берлина. Как только Мария поймала мой взгляд, она, естественно, осеклась, и ее гримасы тотчас превратились в невинную улыбку, предназначенную для меня. Старший инспектор поманил их к себе, и они расторопно выполнили его приказ.
Когда Мария убрала две кружки с остатками пива, полицейский опустил свою драгоценную ношу на наш стол, открыл замки и откинул крышку, все так же бережно, как обычно обращаются с музейными экспонатами. Внутри чемодана выстроились в ряд семь прозрачных полиэтиленовых пакетов, проложенных большими листами папье-пелюра и снабженных ярлычками с отметками, сделанными от руки готической скорописью и поэтому неудобочитаемыми для француза. Впрочем, взглянув на эту коллекцию, я сразу узнал бальную туфельку с голубыми чешуйками и белой подкладкой из шевро, на которой теперь темнело красное пятно, автоматическую «Беретту» калибра 9 мм, четыре гильзы, вероятно, от пуль, выпущенных из этого пистолета, голую целлулоидную куколку телесного цвета, с оторванными руками, шелковые трусики с кружевными оборками, те самые, что я, казалось бы, надежно спрятал в туалетном шкафчике, прозрачный стеклянный флакон с остатками такой же бесцветной жидкости, в которую была погружена трубочка от пипетки на конце винтовой пробки, угрожающего вида осколок разбитого бокала для шампанского со следами крови на тонком острие.
Полицейский, который читал мне вслух отчет о проведенном расследовании, немного помолчал и спросил, узнаю ли я эти вещи. Я еще раз тщательно их осмотрел и спокойно ответил:
– На полке платяного шкафа в доме Жоёль Каст в комнате, где я ночевал, стояла точно такая же туфелька, но без пятна крови и на правую ногу; а тут у вас туфелька на левую. Пистолет, который, я полагаю, нашли наверху в моих вещах, запихнули в карман моей шубы, пока я спал; мне самому показалось это подозрительным, когда я обнаружил его после пробуждения.
– Вы когда-нибудь видели его прежде? Скажем, в заброшенной квартире с окнами на Жандарменмаркт?
– В ящике письменного стола, действительно, лежал автоматический пистолет; но если память мне не изменяет, там была модель меньшего калибра. Что касается стреляных гильз, то я понятия не имею, откуда они взялись… А вот эта замученная кукла явилась прямиком из детского сна.
– Из вашего?
– Из моего, хотя это снится очень многим мальчикам! По поводу хрустального стилета я думаю, что это осколок бокала для игристого вина, в который была налита красная краска, я видел его в комнате Жижи, дочери Жоёль, там еще был ужасный беспорядок, а на полу валялись заляпанные менструальной кровью шелковые панталончики. Но не надо путать их с бельем, которое вы мне здесь предъявили в качестве вещественного доказательства: на них не было кружевных рюшечек, ткань была самая простая, для школьниц, к тому же без дырочки на уровне вагинальной щели.
– Тогда позвольте узнать, где вы взяли это белье с колотым отверстием, которое обнаружили у вас в ванной?
– Нигде. Как и в случае с «Береттой», остается лишь предположить, что некто, не знаю, кто именно, подбрасывает мне эти сфабрикованные улики, возможно, пытаясь свалить на меня вину за это преступление, цель которого мне неясна.
– А какую роль в вашем не слишком правдоподобном сценарии вы отвели бы вот этой бутылочке? Что это за жидкость, которая еще осталась в пипетке?
Честно говоря, из всех странных вещиц, собранных в чемодане, это единственная, которую я совершенно не припоминаю. Я еще раз внимательно ее осматриваю и замечаю, что под определенным углом на стенке этой бутылочки, похожей с виду на какую-то аптечную склянку, можно различить матовую этикетку, представляющую собой силуэт слона, над которым большими буквами выведено греческое название этого млекопитающего, как ни странно, кириллицей (поэтому вместо сигмы в конце стоит русская «С»), а внизу, буквами помельче, написано немецкое слово «Radierfiüssigkeit»,[34] значение которого для меня сущая загадка… Но тут я вспоминаю о художествах Вальтера фон Брюке, и меня осеняет: Radierung[35] означает «травление офорта»… Впрочем, пока я предпочитаю умолчать о компрометирующих эротических рисунках моего соперника и отвечаю уклончиво:
– Очень может быть, что это какой-то наркотик или дурман, который вот уже несколько дней добавляют мне по капле во все напитки: в кофе, пиво, вино, кока-колу… даже в воду из-под крана.
– Да уж… Впрочем, этот ваш психоз или просто попытка выгородить себя под предлогом того, что вами манипулируют с помощью различных снадобий, фигурирует в материалах этого дела. Если вы подозреваете в этом кого-то конкретно, в ваших интересах назвать его имя.
Не поднимая головы, склоненной над раскрытым чемоданом, я вскинул глаза (невзначай или от того, что мое внимание привлек громкий шепот?) и увидел в сумрачной глубине зала Марию и того полицейского, что был постарше, которые расположились перед стойкой бара, так же как я перед их коллегой, сидящим спиной к ним, и оживленно беседовали, стараясь, впрочем, говорить вполголоса. Держались они вполне непринужденно, как старые приятели, и, глядя на их серьезные лица, я поначалу подумал, что они просто знакомы по службе. Но один нечаянный жест мужчины, исполненный нежности, убедил меня в том, что отношения у них куда более близкие, по меньшей мере, не лишенные сексуального оттенка… Если только они не решили меня одурачить, заметив, что я прислушиваюсь к их уединенной беседе, наверняка, имеющей ко мне прямое отношение.
– Во всяком случае, – продолжает мой дознаватель, – кое-какие факты уже опровергают вашу гипотезу. Во-первых, это никакой не дурман, а корректурная жидкость, что указано, хоть и по-немецки, на самом флаконе. (К вашему сведению, этот раствор превосходно стирает написанное, ни оставляя ни малейшего следа даже на самой тонкой бумаге.) Во-вторых, на стекле обнаружены отпечатки ваших пальцев, многочисленные и четкие, так что ошибка тут исключена.
С этими словами полицейский поднимается и закрывает чемодан, видимо, полагая, что мне тягостно смотреть на его содержимое. Два замка на крышке захлопываются со щелчком хорошо отлаженного механизма, словно закрывая наши прения.
– Того, кто хочет повесить на меня свое преступление, – говорю я, – зовут Вальтер фон Брюке, он сын убитого.
– К сожалению, этот сын погиб в мае 45-го в ходе последних боев под Мекленбургом.
– Так уверяют все участники заговора. Но это ложь, и я могу это доказать. К тому же, этой своей дружной сознательной ложью они только выдают личность преступника.
– Что же им двигало?
– Жестокое соперничество, явно в духе Эдипа. Это проклятое семейство – сущее Фиванское царство!
Кажется, полицейский размышляет над моими словами. Наконец, медленно, задумчиво, отрешенно, с какой-то едва уловимой издевкой в голосе, он приводит доводы, которые, по его мнению, убеждают в невиновности моего обвиняемого:
– Вообще-то, некрасиво с вашей стороны, милейший, обвинять людей на таких основаниях… И потом, коль скоро вы так хорошо обо всем осведомлены, вам должно быть известно, что этот самый сын, который, действительно, выжил, хотя и получил тяжелое ранение глаз, сейчас входит в число самых ценных наших агентов, именно благодаря тому, что у него такое прошлое, и еще потому, что в настоящее время у него хорошие связи с разными подозрительными лавками, более или менее подпольными организациями и с теми, кто хочет свести разного рода счеты, а таких в Берлине полно. И наконец, да будет вам известно, что этой ночью, по стечению обстоятельств в тот самый момент, когда был убит его отец, нашего дорогого W.B. (как мы его называем) остановил неподалеку от его дома для рутинной проверки документов патруль Military Police. Когда сторож услышал выстрелы на строительной площадке у Виктория-парка, Вэбэ как раз предъявлял свой Ausweis американским полицейским, в двух километрах от места преступления.
Пока я сверяю свою собственную хронологию событий с этими данными полицейского расследования, заставляющими меня еще раз тщательно перебрать в уме все мои впечатления и путаные воспоминания, довольный полицейский хватает свой чемодан и направляется к Schupo, который сторожит входную дверь. Однако на полпути он оборачивается и, не переставая излучать любезность, наносит мне напоследок еще один удар:
– У нас имеется также старое французское удостоверение личности, в котором кто-то искусно подменил вашу фамилию, имя и место рождения: вместо «Берлин, Кройцберг» указано «Брест, Санпьер», а вместо «Маркус ф. Брюке» – «Матиас ф. Франк». Не переправлена только дата рождения: б октября 1903 года.
– Но вы же знаете, что этот Маркус, брат-близнец Вальтера, умер еще ребенком!
– Знаю, конечно, но, похоже, воскрешение из мертвых в этом мифическом семействе уже вошло в привычку… Если вы захотите что-то добавить к своим показаниям, дайте мне знать. Меня зовут Лоренц, как того ученого, который по счастливой случайности открыл «время-пространство» и вывел формулы, что легли в основу теории относительности… Комиссар Лоренц, всегда к вашим услугам.
Не дожидаясь моего ответа, он вышел на улицу в сопровождении полицейского в форме, которому передал свой ящик Пандоры. Его коллега и Мария, стоявшие до этого в другом конце кафе у бара, освещенного теперь желтоватой лампой, тоже куда-то подевались. Скрыться они могли только где-то внутри отеля, поскольку здесь, как меня уверяли, нет другого выхода. Некоторое время я сидел один в опустевшем зале, постепенно погружавшемся во мрак, размышляя об этом удостоверении личности, поддельном вдвойне, которое наверняка было ничем иным, как нелепым измышлением моих врагов, угрожающе подступавших ко мне оскалившейся сворой.
На улице уже почти стемнело, и набережные с неровной, ухабистой мостовой, по обеим сторонам канала, будто вымерли. Неплотно пригнанные булыжники, влажные от вечернего тумана, слегка блестели и казались от этого еще более выпуклыми. Мое детское воспоминание было все там же, в конце этой глухой заводи, прямо передо мной, неподвижное и неотступное, грозное или, скорее, безнадежное. Прямо над ним, в сгущающейся дымке источал голубое сияние уличный фонарь, отбрасывающий, как в театре, идеально ровный круг света на истлевший деревянный остов корабля-призрака, обреченного вечно идти ко дну…
Там остановилась мама, неподвижная, молчаливая, застыла как статуя у сине-зеленой воды. А я все цеплялся за ее безжизненную руку, не понимая, что мы тут делаем… Чтобы она очнулась, я дернул ее чуть сильнее. С какой-то усталой обреченностью она сказала: «Пойдем Марко, мы уезжаем… Дом все равно закрыт. Через час, не позднее, мы должны быть на северном вокзале… Но сперва мне нужно зайти за нашими чемоданами…» И вот, вместо того чтобы двинуться прочь от этого жуткого и унылого берега, равнодушно взирающего на нас, она тихонько, беззвучно заплакала. Я не понимал, почему она плачет, но тоже старался не шевелиться. Так мы и стояли, словно мертвые, не заметившие своей смерти.
На поезд, мы, разумеется, опоздали. Утомленные до изнеможения, мы, наконец, нашли пристанище в какой-то безликой, не внушающей особого доверия комнате, наверное, это был номер в непритязательной гостинице неподалеку от вокзала. Мама все время молчала. Наши пожитки, сваленные в кучу на голом дощатом полу, казались жалкими и бесполезными. Над кроватью висела большая, вставленная в раму цветная репродукция какой-то очень темной картины, на которой была изображена сцена из военной жизни. Двое мертвых мужчин в штатском гротескно разметались на траве возле каменной стены, один на спине, другой на животе. Очевидно, это были расстрелянные. Слева по каменистой дороге удалялись четверо солдат, волоча свои карабины, сгорбившись под бременем усталости (или стыда). Замыкающий держал в руке большой фонарь, испускавший в ночи красноватый свет, в дрожащих лучах которого их тени исполняли танец из какого-то фантастического и скорбного балета. В ту ночь я спал вместе с мамой.
Налетел легкий ветерок, и было слышно, как прямо подо мной вода с тихим плеском бьется о невидимую каменную стену набережной. Я опять поднялся к себе в третий номер, раздираемый новыми сомнениями и противоречивыми опасениями. У своей двери я зачем-то стал ступать тише, с превеликой осторожностью повернул ручку и скользнул в полумрак, украдкой, как взломщик, который боится разбудить жильцов. Итак, в комнате было темно: только из ванной, где все еще горела неоновая лампа, струился неясный свет, благодаря которому я мог передвигаться свободно. Первым делом я подобрался к настенной вешалке. Как я и ожидал, в кармане моей надетой на плечики шубы уже не было никакого пистолета. Затем, вдоль стены, на которой висела плохая копия картины Гойи, казавшаяся в полутьме почти черной, я прокрался туда, где было, напротив, очень светло, и убедился в том, что панталончики с соблазнительными, обагренными кровью оборками все еще лежат глубоко в тайнике, над умывальником, за зеркальной дверцей, закрывающей пробитую в стене полость домашней аптечки. Ее нижнее отделение было заставлено всевозможными склянками и тюбиками, которые принадлежали не мне. Судя по большому зазору между двумя флаконами из цветного стекла, один пузырек оттуда вынули.
Вернувшись в спальню, я, наконец, нажал кнопку выключателя, зажглась потолочная лампа, ослепив меня яркой вспышкой света, и тут я вскрикнул от неожиданности: в моей кровати спал какой-то мужчина. В тот же миг, вырванный одним махом из глубокого сна, он приподнялся и сел в постели. И я увидел то, чего боялся больше всего, сколько себя помню: это был тот самый пассажир, который занял мое место в поезде во время остановки на вокзале в Галле. Какая-то гримаса (удивления, ужаса или негодования) исказила его и без того асимметричное лицо, но я ни секунды не сомневался в том, что это был он. На какое-то мгновение мы замерли и молча смотрели друг на друга. Я подумал, что лицо у меня сейчас, должно быть, перекошено точно так же, как у моего двойника… А он – из какого кошмара или рая он был извергнут по моей вине?
Он первый опомнился и заговорил по-немецки тихим, хрипловатым голосом, который, – я отметил это с облегчением, – звучал не совсем как мой, а скорее как неумелое подражание… насколько вообще можно судить о своем собственном голосе. Он сказал: «Что вы делаете в моем номере? Кто вы? Когда вы пришли? Как вы сюда попали?»
Он произнес это таким естественным тоном, что, оторопев от неожиданности и зная, что я вообще горазд на такие оплошности, я едва не принялся извиняться: дверь не была заперта, ни на ключ, ни на задвижку, вот я и зашел сюда по ошибке, а номера здесь так похожи, везде одно и то же… Но не успел я и рта раскрыть, как на лице незнакомца, который все это время глядел на меня с угрюмым недоверием, промелькнула какая-то злорадная улыбка, и он снова заговорил, на сей раз по-французски:
– Я узнал тебя, ты Маркус! Что тебе здесь нужно?
– Так вы Вальтер фон Брюке? И вы остановились в этом отеле?
– Тебе ли этого не знать, раз ты пришел за мной сюда.
Он разразился каким-то нехорошим, невеселым смехом, в котором слышались отзвуки презрения, горечи или застарелой, забытой, но внезапно воскресшей ненависти:
– Маркус! Этот проклятый Маркус, любимчик нашей матери, которой ничего не стоило бросить меня ради того, чтобы уехать с тобой в свою доисторическую Бретань!.. Так, значит, ты не умер ребенком, не утонул в своем бретонском океане? А может, ты призрак?… Да, я частенько останавливаюсь здесь, в третьем номере, и в этот раз живу тут уже четыре дня… а может, и все пять. Можешь справиться в гостевой книге…
В моей бедной голове свербит одна единственная мысль: мне нужно любой ценой избавиться от самозванца. Выставить его из номера – нет, этого мало, он должен исчезнуть навсегда. Один из нас двоих лишний в этой истории. С решительным видом я делаю четыре шага в сторону своей шубы, которая все еще висит на крюке с круглой головкой из лакированного дерева. Но боковые карманы пусты – пистолета там нет… Куда же я мог его задевать? Я провожу рукой по лицу, я больше не понимаю, где я, кто я такой, когда все это происходит, зачем я здесь…
Взглянув на W, который все сидит в постели, прикрыв ноги одеялом, я вижу, что он, как герой фильма, крепко сжимает в вытянутых руках «Беретту» и целит мне в грудь. Наверняка, перед моим приходом он предусмотрительно припрятал пистолет под подушку. Да и спящим он, возможно, только прикидывался.
Он произносит, отчетливо выговаривая каждое слово: «Да, я Вальтер, и я стал твоей тенью с того момента, как ты сел в поезд в Айзенахе, – то крался за тобой по пятам, то обгонял тебя, в зависимости от того, как падал свет… Я нужен здесь твоему другу Пьеру Гарину, нужен позарез, для более важных дел. Вот почему он устроил для меня эту встречу с тобой, Маркус, он же Ашер, он же Борис Валлон, он же Матиас Франк… Мерзавец! (Неожиданно он начинает говорить угрожающим тоном.) Да будь ты проклят! Ты убил отца! Ты переспал с его молодой женой, не ведая о том, что она моя, и ты домогался ее дочери, а ведь она еще совсем ребенок!.. Но сейчас я с тобой покончу, ты уже свое отыграл».
Я вижу, как его пальцы едва заметно сжимаются на спусковом крючке. Раздается оглушительный грохот выстрела, разрывающего мне грудь… Никакой боли, только тревожное ощущение опустошенности. Но я уже не чувствую ни рук, ни ног, ни тела. Мощная волна подхватывает и накрывает меня, вода с привкусом крови заливает мне рот, я уже не могу достать ногой до дна… (14)
Примечание 14: Ну вот, все кончено.
Я действовал в порядке самообороны. Когда он достал автоматический пистолет из кармана своей висевшей на стене шубы, я тут же вскочил и навалился на него с такой прытью, какой он от меня явно не ожидал. Без особого труда я вырвал оружие у него из рук и отскочил назад… Но он успел снять пистолет с предохранителя… Пистолет выстрелил сам собой… Ясное дело, все мне поверят. На вороненой стали повсюду свежие отпечатки его пальцев. К тому же, берлинская полиция слишком сильно нуждается в моих услугах. А если потребуются еще какие-то доказательства того, что нападавший с оружием в руках угрожал моей жизни, я могу позаботиться о том, чтобы он первым произвел выстрел еще во время нашей короткой схватки, но промахнулся… пуля угодила, скажем, в стену за мной или в дверь…
В этот момент, повернувшись к двери, которая выходит в коридор, я замечаю, что она приоткрыта, наверное, еще Маркус забыл притворить ее за собой… Там, во мраке коридора, в котором уже погашены все лампы, белеют одинаковые лица братьев Малеров, неподвижные и бесстрастные, мертвенные, как у восковых манекенов, и слегка перекошенные, поскольку им пришлось прижаться друг к другу головами, чтобы наблюдать за этим спектаклем сквозь щель между дверью и косяком, слишком узкую для их тучных тел. Кровать повернута изголовьем к этой стене, так что прежде дверь была мне не видна… Увы, теперь мне уже не избавиться от этих случайных свидетелей…
Пока я спешно, в виду срочности дела, обдумываю сложившееся положение, хозяином которого я себя уже не чувствую, и быстро перебираю в уме всевозможные способы решения этой задачи, все как один непригодные, лица близнецов на глазах начинают таять, незаметно отплывая в темноту. То, что справа и чуть подальше, уже почти не различимое, кажется теперь смутным отражением второго лица, так потускнели его черты… Не прошло и минуты, как Франц и Иозеф Малеры исчезли, словно их поглотила тьма. Я бы принял все это за галлюцинацию, если бы не слышал их тяжелые неспешные шаги, сначала в коридоре, а потом на лестнице, ведущей в холл.
Что именно они видели? К тому моменту, когда я заметил их сдвоенный силуэт, я уже бросил пистолет на простыню. Да и высокая кровать должна была скрыть от их взора ту часть пола, где лежало бездыханное тело Марко. Впрочем, я почти уверен в том, что они прибежали отнюдь не на шум выстрелов. Если бы они бросились наверх, чтобы узнать, кто стрелял, они бы не смогли подняться сюда так быстро. Выходит, они молча наблюдали за убийством.
И тут меня внезапно осенило: Пьер Гарин – вот кто меня предал. Он уверял, что сегодня братья должны отлучиться на целый вечер в советский сектор для участия в рабочем совещании НКГБ, которое затянется до глубокой ночи. Разумеется, ни на какое совещание они не собирались, потому что он тут же сообщил им, где и когда я должен нанести решающий удар: в отеле «Союзники», сразу после визита берлинской полиции. К сожалению, я ничего не могу предпринять против этих двойных агентов-близнецов, которые по совместительству работают на ЦРУ и поэтому пользуются его покровительством… А прекрасная Ио – какую роль исполнила она в этой хитроумной интриге? Теперь можно допустить все что угодно…
Я еще был погружен в тревожные размышления, когда в номер быстро, твердым шагом, вошли два санитара из американского военного госпиталя. Не глядя на меня и не говоря мне ни слова, как будто здесь не было ни одной живой души, они выверенными движениями погрузили на раскладные носилки пострадавшего, чьи конечности еще не успели окоченеть и не создавали неудобств, какие обычно возникают при транспортировке трупов. Спустя пару минут, я снова остался в одиночестве и, не зная, как мне быть, принялся оглядывать номер, словно ключ к разгадке висел где-то на вешалке или лежал на полу. Все выглядело вполне пристойно и скучно. Следов крови на половицах не было. Я затворил дверь, которую оставили нараспашку безмолвные архангелы с белыми крыльями, когда уносили свою бездыханную добычу… Раз уж я был в пижаме, я подумал, что хорошо бы сейчас ненадолго прилечь и посмотреть, как будут развиваться события, и потом мне что-нибудь придет на ум, а пока я бы еще немного вздремнул.
Покой, серая мгла… И, наверняка, невыразимое уже близко… Никакая это не воронка. Но и не пресловутая тьма. Беспамятство, забвение, ожидание мягко окутаны этой серой, что бы там не говорили, довольно светлой пеленой, как сквозистым предрассветным туманом. И одиночество – тоже обман… Все равно тут, кажется, кто-то есть, тот же и все же другой, разрушитель и хранитель порядка, дух повествования и путник… некий изящный ответ на извечный вопрос: кто тут сейчас говорит? Это без конца складываются сами собой все те же древние слова, не единожды звучавшие, которые передают из века в век одну и ту же старую историю, каждый раз повторяющуюся, всегда новую…
Эпилог
Маркус фон Брюке, он же Марко, он же «Ашер» – седой, припорошенный пеплом человек, восставший из собственного остывшего погребального костра, – приходит в себя среди гладкой белизны современной больничной палаты. Он лежит на спине, его голову и плечи подпирает целая гора довольно жестких подушек. Опутанный трубками из стекла или прозрачной резины, подсоединенными к медицинским аппаратам, какие используются после операции, он едва может пошевелиться. Все тело затекло и ноет, но настоящей боли он не чувствует. У кровати стоит Жижи и смотрит на него с ласковой улыбкой, какой он у нее еще ни разу не видел. Она говорит:
– Все хорошо, мистер Фау-Бэ, не волнуйтесь!
– Где мы? Зачем меня…
– В Штеглице, в американском госпитале. Это исключительная привилегия.
Марко замечает, что преимущества его нынешнего положения этим не ограничиваются: пусть голос его звучит слишком вяло, а язык заплетается, но он может говорить без особого труда:
– И кому я обязан такой привилегией?
– Это все братья Малеры, они всегда появляются там, где требуется их помощь… Оперативность, эффективность, хладнокровие, конфиденциальность!
– Что со мной случилось?
– Две пули калибра девять миллиметров в верхнем отделе грудной клетки. Но слишком высоко и далеко от сердца. Всему виной неудачная поза стрелка, который сидел на кровати с чересчур мягкими пружинами, и это притом, что он и так плохо видит после ранения, полученного на войне. Этот идиот Вальтер уже ни на что не годен! И надо же быть таким самоуверенным, чтобы не подумать о том, что его жертва может повторить трюк с попаданием в «яблочко», который впервые исполнил Дани на Жандарменмаркт… Ну и вам, конечно, повезло. Одна пуля застряла у вас в мякоти левого плеча, вторая – под ключицей. Сущая безделица для здешнего хирурга number one. Сустав почти не задет.
– Откуда вы все это знаете?
– От врача, конечно!.. Он завсегдатай нашего старого доброго «Сфинкса», симпатичный малый, только руки любит распускать… Не то что эта сволочь – доктор Хуан, у него вы бы не протянули и пяти секунд…
– Простите за нескромный вопрос, но кто, в действительности, убил того, кого вы называете Дани?
– Ну не папой же нам его называть!.. Конечно, это Вальтер, в конце концов, отправил старика adpatres.[36] Но стрелять в упор – это несерьезно. Так не заработаешь репутацию меткого стрелка.
– Надеюсь, после второго покушения на убийство он угодил за решетку?
– Вальтер? Да что вы… Зачем? Ему, знаете ли, и так уже досталось… И потом, семейные споры мы улаживаем сами, так надежнее.
В последней фразе уже не было и намека на фамильярность, которой девочка щеголяла с самого начала беседы. Казалось, она процедила эти слова сквозь зубы, а ее зеленые глаза тревожно блеснули. Только сейчас я обратил внимание на наряд, в котором сегодня предстала передо мной эта юная девушка: белый халат медицинской сестры, приталенный и такой короткий, что можно было любоваться шелковистой, покрытой безупречным загаром кожей на ногах, почти от самых бедер до приспущенных гольфиков. Как только Жижи поймала мой взгляд, на ее лице снова заиграла прежняя улыбка, разом ласковая и вызывающая, и она принялась объяснять, почему на ней такое странное платье сиделки, хотя доводы ее звучали не слишком убедительно:
– Без медицинского халата тут нельзя свободно разгуливать по отделениям… Вам нравится? (С этими словами она поворачивается вокруг себя, грациозно покачивая округлыми бедрами и выпятив зад.) Кстати, в некоторых наших ночных кабаре, где поднимают боевой дух солдат, такой костюм, только без нижнего белья, ценится очень высоко. Наравне с костюмами маленькой попрошайки, невольницы-христианки, восточной одалиски и юной балерины в пачке. Между прочим, даже в этом госпитале, на психиатрическом отделении, есть секция эмоциональной партенотерапии: психотерапия посредством тесного общения с девочками предпубертатного возраста…
Сразу видно, что она, по своему обыкновению, нагло лжет. Я перевожу разговор на другую тему:
– А как поживает Пьер Гарин?
– Он уехал, адреса не оставил. Он предал сразу слишком многих людей. Малеры, наверняка, укрыли его в надежном месте. На них можно положиться: честность, преданность, исполнительность… Обслуживание и упаковка бесплатно.
– Вальтер его еще боится?
– Вальтер хорохорится, но в глубине души он всего боится. Он боится Пьера Гарина, он боится обоих Малеров, которых мы называем «Франсуа-Жозеф», он боится комиссара Лоренца, он боится сэра Ральфа, он боится Ио, он боится собственной тени… Думаю, он боится даже меня.
– Что вас с ним связывает?
– Все просто: он мой сводный брат, вы и сами знаете… Но он уверяет, будто это он мой настоящий отец… Мало того, он еще и мой сутенер… И я его ненавижу! Я его ненавижу! Я его ненавижу!..
Разражаясь этой пылкой тирадой, она, как ни странно, пританцовывает в ритме вальса, повторяя в такт три этих слова с игривым и кокетливым выражением на лице, и, приблизившись ко мне, легонько целует меня в лоб:
– Счастливо оставаться, месье Фау-Бэ, не забудьте ваше новое имя: Марко Фау-Бэ, так на немецком произносится V.B. Будьте паинькой, постарайтесь заснуть. Эти водолазные трубки с вас снимут, они вам все равно больше не нужны.
Она направляется к двери, но на полпути оборачивается, так порывисто, что ее мягкие светлые волосы взмывают вверх, и добавляет:
– Ах, да! Забыла главное: к вам собирается наведаться господин комиссар Хендрик Лоренц, чтобы задать вам еще пару вопросов. Будьте с ним полюбезнее. Он зануда, но человек вежливый, и, может быть, еще вам пригодится. Собственно, он и послал меня выяснить, в состоянии ли вы ответить на его вопросы. Постарайтесь хорошенько припомнить все события, о которых он будет вас расспрашивать. Ну а если вам случится выдумать какую-то деталь или целый эпизод, остерегайтесь слишком явных неувязок. И главное – никаких синтаксических ошибок: Андришу всегда поправляет меня, когда я допускаю солецизмы – и на немецком, и на французском!.. Ладно! Не могу у вас больше задерживаться: нужно еще навестить друзей на другом отделении.
Я немного опешил от этого потока слов. Впрочем, не успела она затворить за собой дверь, как ее сменила другая, во всех отношениях более правдоподобная сиделка (которая, вероятно пережидала время в коридоре): традиционный белый халат, почти целиком прикрывающий голени, тугой отложной воротничок, волосы убраны под чепец, сдержанные, исключительно деловитые жесты, холодная дежурная улыбка. Она посмотрела, сколько осталось бесцветной жидкости в капельнице, взглянула на стрелку манометра, проверила, хорошо ли закреплен ремень, поддерживающий мне левую руку, после чего удалила почти всю мою трубчатую пуповину и сделала мне внутривенную инъекцию. Все это продолжалось не больше трех минут.
Лоренц, который заходит в палату спустя мгновение после того, как удаляется проворная сиделка, первым делом извиняется за то, что он вынужден еще немного меня потревожить, затем усаживается на белый лакированный стул возле моей койки и спрашивает меня в лоб, когда я в последний раз видел Пьера Гарина. Я долго пытаюсь собраться с мыслями (голова у меня онемела не меньше, чем все остальное) и, наконец, отвечаю, довольно робко и нерешительно:
– Это было, когда я проснулся в третьем номере отеля «Союзники».
– В какой день? Во сколько?
– Думаю, вчера… Мне трудно сказать наверняка… Ту ночь я провел с Жоёль Каст и вернулся в отель совершенно разбитый. От приворотного зелья и всяких снадобий, которыми она меня пичкала, беспрестанно пытаясь меня соблазнить, у меня под утро произошло какое-то раздвоение личности, мне так хотелось спать, что я был на грани обморока. Я даже не знаю, сколько я после этого спал, тем более что меня несколько раз будили: большой самолет, который прошел слишком низко, какой-то постоялец, который ошибся дверью, Пьер Гарин, у которого не было для меня никаких важных известий, хорошенькая Мария, которая некстати принесла мне завтрак, один из братьев Малеров, тот, что полюбезнее, которого встревожил мой крайне утомленный вид… Вообще-то, раз там был Пьер Гарин, это происходило скорее позавчера… Он ведь исчез?
– Кто вам такое сказал?
– Не помню. Наверное, Жижи.
– Да что вы говорите! Так или иначе, сегодня утром он снова всплыл на поверхность и дрейфовал по каналу. Труп выловили возле быка старого откидного моста у входа в глухую заводь, туда как раз выходят окна вашего номера. Смерть наступила за несколько часов до этого и не могла быть вызвана несчастным случаем. На спине у него глубокие ножевые раны, которые нанесли ему до того, как он перевернулся через перила на мосту и упал в воду.
– И вы думаете, что мадмуазель Каст об этом известно?
– Не просто думаю: она сама сообщила нам о том, что в канале напротив ее дома плавает чуть притопленный труп… Мне не хотелось бы вас беспокоить, но, к сожалению, подозрение падает снова на вас, поскольку вы последний видели его живым.
– Я не выходил из своего номера, после его ухода я сразу повалился как колода и уснул.
– Это вы так утверждаете.
– Да! И самым решительным образом!
– Странно это слышать от человека, у которого память пришла в такое расстройство, что он даже не может сказать, в какой день это произошло…
– Но в прошлый раз, когда у вас тоже были подозрения на мой счет, разве свидетельские показания братьев Малеров не подтвердили, что я говорил правду? Теперь у нас есть доказательства того, что Вальтер фон Брюке – помешанный убийца. Если учесть его психическое состояние, все указывает на то, что именно он убил своего отца и, возможно, прошлой ночью разделался с несчастным Пьером Гариным.
– Мой дорогой месье Фау-Бэ, не надо опережать события! По поводу расправы с оберфюрером Франсуа-Жозеф ничего нам не сообщал. Так что, признавать выдвинутые против вас обвинения необоснованными пока нет никаких оснований. И потом, не будем забывать, что именно вы пытались учинить сексуальное насилие над Виолеттой, одной из многих хорошеньких молоденьких потаскушек, которые работают в «Сфинксе» и живут в большом доме мадам Каст.
– Как это пытался? Где? Когда? Я даже ни разу не видел эту юную даму!
– Видели, конечно: по крайней мере, дважды, причем именно у Жоёль Каст. Впервые в гостиной на первом этаже, куда хозяйка дома по вашей просьбе привела к вам нескольких хорошеньких живых кукол в весьма откровенных нарядах. А во второй раз – следующей ночью (точнее говоря, с 17-ого на 18-ое), когда вы накинулись на юную девушку (глаз на нее вы, несомненно, положили еще накануне) на втором этаже на углу коридора, откуда можно попасть в спальни жильцов и в комнаты, которые предоставляют на время в распоряжение посетителей. Это произошло уже под утро, приблизительно в половину третьего. По ее словам, у вас было безумное лицо, как будто вы много выпили или приняли наркотики. Вы требовали у нее ключ – общеизвестный сексуальный символ, а сами тем временем угрожали ей другим символическим предметом: тем хрустальным кинжалом, который был среди вещественных доказательств. Пырнув жертву в подчревную область, вы сбежали и прихватили на память ее окровавленную туфельку. Когда вы выходили из садовых ворот, вас видел полковник Ральф Джонсон, который обратил внимание на ваше странное поведение. Через пятнадцать минут вы были уже у Виктория-парка. Виолетта и американский офицер описали ваше лицо и вашу толстую крытую мехом шубу, так что у нас нет ни малейших сомнений по поводу личности нападавшего.
– Вы прекрасно знаете, комиссар, что Вальтер фон Брюке так похож на меня, что нас немудрено спутать, к тому же он вполне мог взять мою шубу, пока я отбивался от чародейки Ио.
– Не стоит все время твердить, что вы похожи друг на друга, как родные братья-близнецы. Если тот, кого вы обвиняете в отцеубийстве, ваш брат, значит и у вас могли быть точно такие же мотивы, тем более что вы вступили в кровосмесительную связь с вашей мачехой, которая была к вам так добра… Да и зачем Вальтеру, человеку умному, так жестоко кромсать драгоценные прелести столь соблазнительной особы, которая с таким блеском проституирует у него в заведении?
– Разве в этом ремесле телесные наказания не в ходу?
– Я знаю их привычки не хуже вас, милейший, и наша полиция как раз уделяет особое внимание случаям жестокого обращения с несовершеннолетними куртизанками. Но никто не стал бы заниматься этим тайком в коридоре, поскольку в подвале особняка имеется множество хорошо оборудованных пыточных камер в оттоманском и готическом стиле, отведенных для таких церемоний. И хотя юные воспитанницы частенько подвергаются весьма продолжительным и жестоким сексуальным истязаниям, делается все исключительно с их согласия, благо за это полагается приличное вознаграждение. Короче говоря, наказание за какую-то провинность, даже если ему предшествует пародия на допрос с вынесением приговора мнимым преступницам, это только предлог – всего лишь игривая уловка, к которой прибегают многие господа, чтобы придать пикантность своей любимой утехе. Что касается самих эротических пыток, то узница, которую держат в случае необходимости несколько дней на цепи в карцере, подвергается им в соответствии с пожеланиями богатого ценителя, предпочитающего, как правило, собственноручно приводить в исполнение приговор, снабженный подробным перечнем надругательств и зверств (прижигание сигарой чувствительных интимных частей, сечение нежной плоти плетьми и розгами, медленное введение стальных игл под кожу в самых болезненных местах, прикладывание жгучих тампонов, пропитанных эфиром или спиртом, к устью влагалища и т. д.), но с таким расчетом, чтобы на теле не оставалось ни стойких следов, ни малейших увечий.
Например, у предусмотрительной Ио за соблюдением мер предосторожности при воплощении необычных фантазий, сопряженных с особым риском, следит добрый доктор Хуан. Фактически нам крайне редко приходится пускать в ход особый отряд полиции, поскольку серьезные сводники понимают, что в случае слишком явных правонарушений заведение будет немедленно закрыто. Однажды, во время блокады, мы пресекли деятельность трех предприимчивых югославов, которые пытали хорошеньких наивных девчушек и совсем юных дам, не успевших обзавестись покровителями, да так рьяно, что те в итоге не читая подписывали договор, позволявший бесчестным мучителям подвергать их еще более жестоким истязаниям, безо всякого стеснения, но на законных основаниях, и обращать в звонкую монету их прелестные тела, неторопливо растянутые, вывернутые и, несомненно, изломанные на устрашающих механизмах, их лица, на которых появлялось дивное выражение ужаса в тот момент, когда они узнавали об уготованной им участи, их исступленные мольбы, их соблазнительные обещания, их сладостные поцелуи, их напрасные слезы, а там и сцены жесткого изнасилования с помощью утыканных шипами фаллосов, крики боли, исторгнутые из них каленым железом и клещами, их бьющую алым фонтаном кровь, поступательную экстракцию их нежных девичьих прелестей и, наконец, продолжительные конвульсии и судороги, пробегавшие волнами по их истерзанным телам, после чего, увы, всегда слишком рано, они испускали последний вздох. Затем лучшими их отрубами лакомились в ресторанах для гурманов возле Тиргартена, где они значились в меню под названием «шашлык из дикой лани».
Будьте покойны, дорогой друг, такими темными делишками они промышляли недолго, ибо мы бдительно несем свою службу, хотя и понимаем, что эрос по природе своей – царство обмана, злодейских измышлений и излишеств. Надо признать, что при виде отданной на заклание прелестницы, распятой на кресте или на дыбе в подобающей и, как говорят у вас во Франции, неконвенционной позе, с помощью крепких веревок, туго натянутых цепей, кожаных ремней и браслетов, старательно прилаженных с таким расчетом, чтобы можно было с удобством подвергать ее разнообразным запланированным пыткам и экспромтом насиловать, иному эстету, опьяненному возбуждающей атмосферой жертвоприношения, не так-то просто умерить свой любовный пыл, особенно когда соблазнительная пленница убедительно изображает покорность, страдания и исступление. Но, несмотря ни на что, такие предосудительные эксцессы случаются не слишком часто, поскольку истинные знатоки дорожат маленькими угодливыми мученицами, которые, не жалея сил, грациозно бьются в путах и трогательно стонут под пытками, содрогаясь и выгибаясь в талии, между тем как грудь их трепещет от учащенных вздохов, и вдруг, уронив голову в сладостном жертвенном порыве, разжимают набухшие губки, издавая гармоничные гортанные хрипы, и очаровательно лишаются чувств, закатывая широко раскрытые глаза… Наша Виолетта, которую вы едва не выпотрошили, была у нас одной из самых известных актрис. К нам приезжали издалека, чтобы посмотреть, как четвертуют ее сказочно красивое тело, как ручеек крови струится по ее отливающей перламутровым блеском коже, как угасает ее ангельское личико. Она играла с такой страстью, что при небольшой сноровке можно было довести ее до продолжительного оргазма между двумя кульминациями страдания, которое едва ли могло быть притворным…
Неужели этот здравомыслящий с виду человек совсем спятил? Или он просто заманивает меня в ловушку? Поскольку меня одолевают сомнения и любопытство, я решаюсь осторожно воспользоваться его профессиональной терминологией, которая пестрит определениями, слишком хорошо знакомыми даже дилетантам:
– Так, значит, меня обвиняют в том, что я злонамеренно поломал одну из самых красивых ваших игрушек?
– Да, если угодно… Хотя, по правде сказать, у нас их немало. И нам нетрудно найти ей замену, поскольку кандидаток у нас предостаточно. Например, ваша дражайшая Жижи, несмотря на молодость и явную неискушенность, в которой, впрочем, есть своя прелесть, уже с малолетства обнаруживает поразительный талант на этом немного необычном поприще. К сожалению, у нее непростой характер, она слишком своенравна и непредсказуема. Ее собирались отправить на курсы повышения квалификации в одну из наших школ для наложниц; однако она со смехом отвергла это предложение. Что ни говорите, но заботу о профессиональной и психологической подготовке начинающих гетер должна взять на себя полиция нравов, если мы хотим восстановить ее репутацию.
Наш специалист по эротическим бесчинствам говорит спокойно, рассудительно и уверенно, но уже немного рассеянно, похоже, все больше отвлекаясь от дознания и погружаясь в дебри собственных измышлений. Быть может, эрос – это заодно царство вечного возвращения и неуловимой, но бесконечной тавтологии? Не следует ли мне приструнить этого чиновника, который слишком увлекся своей работой?
– Если вы, и впрямь, полагаете, что я убийца и вдобавок душевнобольной, неспособный сдерживать свои садистические порывы, почему вы тогда сразу меня не арестуете?
Лоренц выпрямляется на стуле и смотрит на меня с изумлением, словно он внезапно вышел из транса и, вернувшись в реальность, вдруг заметил мою особу, но продолжает разговор в такой же дружелюбной манере:
– Марко, дорогой, это не для вас. Тюрьмы у нас старые, и там исключительно неуютно, особенно зимой. Потерпите хотя бы до весны… К тому же, мне не хотелось бы так сильно огорчать прекрасную Ио, которая всегда рада нам помочь.
– Вы тоже принимаете участие в ее промысле?
– Doceo puellas grammaticam,[37] – отвечает комиссар с заговорщицкой улыбкой. – Образчик двойного винительного падежа еще времен нашего прилежного ученичества! Первым делом нужно изучить синтаксис и овладеть надлежащим запасом слов – вот, на мой взгляд, лучший способ воспитания девиц, особенно если они собираются вращаться в обществе, не чуждом культуры.
– А карой за неправильное словоупотребление и синтаксические ошибки должны быть телесные наказания?
– Разумеется! Розги играли важную роль в греко-римской системе образования. Ну, посудите сами: двойная вина – двойное наказание, ха-ха! Неряшливая речь и нерадивость в деле удовлетворения сладострастия – две вещи неразделимые. Так что, для пикантности при нанесении ровных алых полосок с помощью хлесткой тросточки, дабы заодно развить у наказуемых учениц гибкость, необходимую для избранной ими профессии, их заставляют принять непринужденную чувственную позу, склонившись перед какой-нибудь колонной с крепежными кольцами и удобными цепями, или растянувшись на козлах с острой кромкой… Поза чувственная, разумеется, для преподавателя, но чувствительная для ученицы!
Как это часто случается с хорошими полицейскими, Лоренц, похоже, совершенно сроднился с более или менее предосудительной деятельностью в том секторе, за которым он ревностно надзирает. Кроме того, надо признать, что его французский гораздо изощреннее, чем мне показалось во время нашей первой встречи в зале Café des Alliés, ведь он отваживается играть словами, да еще и с латинской цитатой… Так, мне нужно выяснить еще кое-что, на сей раз это касается департамента, в котором служу или, по крайней мере, «служил» я сам:
– Скажите, комиссар, Пьер Гарин, который, видимо, очень близок с мадам и мадмуазель Каст, тоже входит в эту организацию либертенов?
– По крайней мере, у нас в Западном Берлине без Пьера Гарина не обходилась ни одна затея, связанная с развратом, незаконной торговлей и коррупцией. Это и сгубило нашего друга. Он разом предал слишком многих людей. Кстати, расскажу вам одну любопытную историю, которая пока не поддается объяснению. Мы еще два дня назад нашли первый труп Пьера Гарина, и вдруг на третий день, после обеда, он явился к вам, целый и невредимый. Правда, мы довольно скоро догадались, что обезображенное тело, обнаруженное в луже гнилой воды в нижней части длинного подземного хода, проложенного под глухим рукавом канала и ведущего из особняка Каст на противоположный берег, принадлежит не вашему несчастному коллеге, хотя во внутреннем кармане его куртки лежал французский паспорт на имя Гари П. Стерна, родом из Вичиты, штат Канзас, а он чаще всего пользовался именно этим псевдонимом. Единственным правдоподобным и, безусловно, самым разумным объяснением мы считаем предположение о том, что он хотел скрыться. Он явно почуял опасность и вообразил, что ему удастся ускользнуть от убийц, которые преследуют его, бог весть, по какой причине, если они решат, что он уже мертв. Спустя тридцать или сорок часов кто-то пырнул его ножом в спину и сбросил тело в канал, неподалеку от вашего отеля.
– Поэтому вы уверены, что это моих рук дело?
– Да нет, что вы! Я высказал это предположение наугад, просто хотел узнать, как вам такой сюжет – это пока черновой набросок, повествование еще может принять любой оборот… Для нас эта стадия самая увлекательная.
– Вы уже напали на след?
– Конечно, и даже не на один. Расследование продвигается быстро, причем в разных направлениях.
– И что вы думаете об убийстве фон Брюке старшего?
– Тут все иначе. Пьер Гарин и Вальтер сразу указали именно на вас. Последний даже уверяет, что стрелял в вас, чтобы отомстить за убийство отца.
– И вы ему верите?
– В его рассказе все прекрасно согласуется: хронология событий, продолжительность пути, соответствующие свидетельские показания, не говоря уже о том, что у вас были все основания для отцеубийства. На вашем месте я поступил бы точно так же.
– Только я не сын оберфюрера. Он мог быть нацистом, он мог бросить совсем еще молодую жену из-за того, что она наполовину еврейка, он мог проявить чрезмерное служебное рвение на Украине, но меня все эти семейные дела не касаются.
– Напрасно вы, дорогуша, запираетесь, прошлое-то у вас темное, отец якобы неизвестен, детство прошло между Финистером и Пруссией, память неважная…
– А Вальтер, значит, весь как на ладони, без прошлого и вне подозрений! Вы знаете его порно-садистические картины и рисунки?
– Конечно! Все их знают. В одном специализированном книжном магазине возле Zoobahnhof можно приобрести даже их литографические репродукции, отличного качества. В тяжелые времена каждый выживает, как может, а он даже приобрел репутацию художника.
В этот момент в палату без стука вошла та же чопорная сиделка в белом накрахмаленном костюме и вручила мне прозрачный полиэтиленовый пакетик, в котором, как сообщила она на своем чистом и пресном немецком, лежали две пули, извлеченные из меня хирургом, решившим подарить мне их на память. Лоренц протянул руку, взял у меня пакетик и стал с удивлением рассматривать его содержимое. Свой вердикт он вынес незамедлительно:
– Тут не девять миллиметров, а семь с половиной. Это все меняет!
Он резко поднялся и, не прощаясь, вышел из палаты вместе с сиделкой, прихватив эти каверзные пули. Я так и не узнал, касались ли упомянутые изменения моей персоны. Затем мне подали какой-то безвкусный ужин, к которому не прилагалось ничего горячительного. За окнами уже воцарилась тьма, мутная и бледная из-за густого тумана. Но лампы так и не зажглись, ни на улице, ни в палате… Покой, серая мгла… Вскоре я снова уснул.
Прошло много часов (не знаю, сколько), и вот снова появилась Жижи. Я не заметил, как она вошла. Когда я открыл глаза, наверное, разбуженный шорохом, она уже стояла у моей постели. По ее движениям и выражению ее детского личика было видно, что она как-то странно взбудоражена; но это было не радостное волнение или чрезмерное воодушевление, а скорее горячечное возбуждение, какое вызывают некоторые ядовитые растения. Она бросила на одеяло твердую блестящую прямоугольную карточку, которую я узнал еще до того, как взял ее в руки: это был Ausweis Вальтера, который по счастливой случайности оказался у меня в кармане, когда я, пробравшись по подземельям кукольной лавки, вышел из мрачного туннеля. Очень быстро, с какой-то невеселой усмешкой, она пояснила:
– Бери! Это тебе! В твоем деле еще одно удостоверение личности никогда не помешает. На фотографии как будто и впрямь ты… Вальтеру это больше не понадобится. Он мертв!
– Его тоже убили?
– Да, отравили.
– Известно, кто это сделал?
– Ну, лично мне это известно из самых достоверных источников.
– И кто же?
– Очевидно, я сама.
Тут она начала рассказывать, но говорила так сбивчиво, быстро и временами так путано, что я лучше изложу все вкратце, опустив ненужные уточнения и отступления, а главное – по порядку. В общем, я пересказываю и подвожу итоги: Вальтер часто наведывался в один ночной притон под названием «Вампир», неподалеку от «Сфинкса», чтобы выпить фирменный коктейль из свежей крови юных мучениц-официанток, которые доставляли гостям напитки и удовольствие, разгуливая по бару в коротеньких, воздушных блузах с симпатичными прорехами. В тот вечер Жижи сама вызвалась оказать своему повелителю столь высоко ценимую им услугу и совершить – только у себя дома – такой же ритуал со своей кровью. Разумеется, Вальтер с радостью согласился. Доктор Хуан лично произвел забор жертвенной крови и наполнил ею один из немногих уцелевших хрустальных бокалов для шампанского. Кроме спирта и острого перца, Жижи, уединившись в уборной, добавила в смесь убийственную дозу синильной кислоты, которая придала напитку явственный запах миндаля, хотя у Вальтера это не вызвало никаких подозрений. Пригубив любовный эликсир, он все равно счел его восхитительным и выпил залпом. Через несколько секунд он был мертв. Хуан и бровью не повел. Он осторожно понюхал красную жидкость, оставшуюся на стенках бокала. Затем он молча уставился на девочку. Она не опустила глаза. Тогда доктор сделал медицинское заключение: «Остановка сердца. Я выдам тебе свидетельство о смерти от естественных причин». В ответ Жижи промолвила: «Как печально!»
Выписавшись из американского госпиталя, я отправился с ней на остров Рюген, как она говорила, в свадебное путешествие. Между тем, после нашего возвращения я, по обоюдному согласию, должен был сочетаться законным браком с ее обворожительной матерью. Такое решение показалось Жижи вполне разумным, к тому же это больше соответствовало ее характеру: ей, конечно, нравилось исполнять роль рабыни, но только в эротических играх, а так личная свобода была для нее превыше всего. Разве она это уже не доказала?
Правда, полученное ранение немного сдерживало мои любовные и собственнические поползновения. Левым плечом я старался особенно не двигать, а саму руку из предосторожности еще носил на перевязи. На Лихтенбергском вокзале мы сели в тот же поезд, из которого я вышел две недели назад, и поехали дальше на север. На платформе была большая давка. Перед нами застыла сплоченная группа довольно высоких, худощавых мужчин в длинных приталенных черных пальто и таких же черных широкополых фетровых шляпах, которые чего-то ждали, хотя поезд из Галле, Веймара и Айзенаха уже давно прибыл. За этой траурной или религиозной делегацией я, кажется, заметил Пьера Гарина. Впрочем, лицо его немного изменилось. Щеки и подбородок затеняла щетина, по меньшей мере восьмидневной давности. Глаза были скрыты за темными очками. Незаметно качнув головой, я указал на это привидение своей маленькой невесте, и она, бросив взгляд в его сторону, совершенно спокойно сказала, что это вполне может быть Пьер Гарин, тем более что добротное пальто, в которое он одет, вроде бы принадлежало Вальтеру. Жоёль предложила Пьеру Гарину взять приглянувшиеся вещи из гардероба дорогого покойника.
Я лишь подивился тому, что он украл мою одежду. Я засунул здоровую руку во внутренний карман куртки, где лежал мой прочный Ausweis. По нашей просьбе доктор Хуан составил свидетельство о смерти на имя Марко фон Брюке. Лоренц охотно дал свое согласие. Я с удовольствием примерил новую жизнь, и многое в ней пришлось мне впору. Резкая боль в левом глазу временами напоминала мне о боях на восточном фронте, в которых принимал участие тот, кого я замещаю. Я тут подумал, что по приезде в Засниц мне нужно обзавестись темными очками, чтобы защитить еще слабые после ранения глаза от лучей зимнего солнца на искрящихся белых скалах.
Примечания
1
Кьеркегор С. Повторение. Перевод П.Г. Ганзена. – М. 1997. С. 7. – Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Главный вокзал Галле (нем.)
(обратно)3
Полевая жандармерия (нем.)
(обратно)4
Предъявите документы (нем.)
(обратно)5
Не понимаю, искаж. нем. nicht verstehen.
(обратно)6
Вокзал Цоо. (нем.)
(обратно)7
Завтрак (нем.)
(обратно)8
Убийца, (нем.)
(обратно)9
Кто не въезжал, выехать не может (нем.)
(обратно)10
Двести (нем.)
(обратно)11
Заграничный паспорт (нем.)
(обратно)12
Все в порядке (нем.)
(обратно)13
Союзники (нем.)
(обратно)14
Кафе «Союзники» (фр.)
(обратно)15
Куколки, (нем.)
(обратно)16
Центр города (нем.)
(обратно)17
Броселиандский лес – заколдованный лес, упоминаемый во многих рыцарских романах, в частности, в сказаниях об Артуре и рыцарях круглого стола; отождествляется с лесом Помпон близ Плоэрмаля на юге полуострова Бретань.
(обратно)18
Вальпургиева ночь (нем.)
(обратно)19
Апсара – «движущаяся в водах», персонаж индийской мифологии, сходный с нимфами, наядами или русалками.
(обратно)20
Залив на Лазурном берегу, под Антибом.
(обратно)21
«По душе мне даже слез ручей, что льет из-за меня» (фр.), слова Нерона из трагедии Ж. Расина «Британик» (действие II, явление II. Пер. Э.Л.Линецкой).
(обратно)22
Оберфюрер (нем.) – генерал-майор войск СС.
(обратно)23
Квартал в средневековом Париже, служивший притоном для нищих.
(обратно)24
Дружеская уменьшительная форма, господин Вальтер (нем.)
(обратно)25
Стоять (нем.)
(обратно)26
Удостоверение личности (нем.)
(обратно)27
Простите, господин фон Брюке (нем.)
(обратно)28
«Высший свет», «Подземелье», «У графини де Сегюр» (имеется в виду французская писательница XIX в., урожденная С. Ростопчина, автор романов для детей, в частности, «Примерные девочки», «Горести Софии»).
(обратно)29
«Страна чудес», «Голубая вилла», «Греза», «Пансион для девочек», «Преисподняя» (англ., нем.)
(обратно)30
Имеется в виду Ангелика, принцесса Катая, героиня поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд»; Роланд убил морское чудовище Орку, которому должны были принести в жертву обнаженную принцессу, прикованную к скале.
(обратно)31
Городская полиция (нем.)
(обратно)32
Контрольно-пропускной пункт (англ.)
(обратно)33
Полицейский (сокр. от der Schutzpolizist)
(обратно)34
Корректурная жидкость (нем.)
(обратно)35
Офорт, гравюра, но также подчистка или стирание написанного, например, ластиком (нем.)
(обратно)36
К праотцам (лат.)
(обратно)37
Учу девушек грамматике (лат.) – здесь обыгрывается хрестоматийная латинская фраза, иллюстрирующая принцип согласования посредством двойного винительного падежа: Doceo pueros grammaticam (Учу детей грамматике).
(обратно)
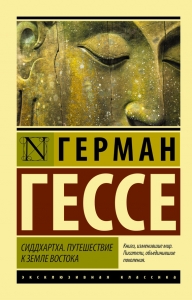
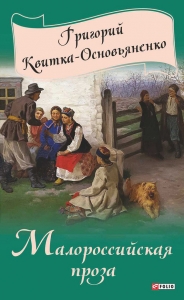

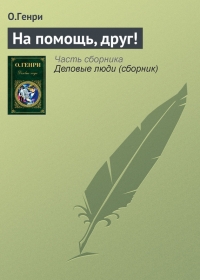


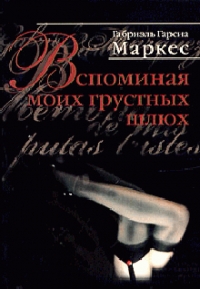



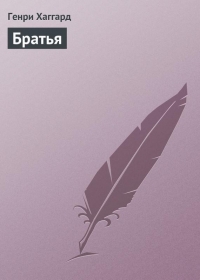

Комментарии к книге «Повторение», Ален Роб-Грийе
Всего 0 комментариев