Сигрид Нуньес Друг
Часть 1
В восьмидесятые годы двадцатого века большое количество камбоджиек, живших в Калифорнии, обращались к своим лечащим врачам, жалуясь на одно и то же — на слепоту. Все они были беженками и перед тем, как покинуть родину, стали свидетельницами зверств, которыми прославились красные кхмеры, правившие Камбоджей с 1973 по 1979 год. Многие из этих женщин оказались изнасилованы, подвергнуты пыткам или иным жестоким издевательствам. Члены семей большинства из них были убиты у них на глазах. Одна такая женщина, которая так больше никогда и не увидела своего мужа и трех детей после того, как их увели солдаты, сказала, что зрения она лишилась, так как на протяжении четырех лет плакала каждый день. И она была не единственной, кто ослеп от слез. Были и другие, страдавшие от расфокусировки или частичной потери зрения, а также от затемнений и болей в глазах.
Врачи, которые обследовали этих женщин — всего таких пациенток было около полутора сотен, — обнаружили, что их глаза находятся в нормальном состоянии. Дальнейшие исследования показали, что и мозг у каждой из них функционировал нормально. Так что если эти женщины говорили правду — а кое-кто в этом сомневался, считая, что они симулируют, чтобы привлечь к себе внимание или в надежде на получение пособия по инвалидности, — то единственным объяснением их состояния была психосоматическая слепота.
Иными словами, сознание этих женщин, впитавшее в себя столько ужасов и неспособное впитывать их и дальше, сумело просто-напросто отключить свет.
Именно об этом мы и беседовали во время нашего с тобой последнего разговора, когда ты был еще жив. После этого я получила от тебя только электронное письмо с перечнем книг, которые, по твоему мнению, могли пригодиться мне для изысканий, необходимых для работы над моей и нынешней книгой. И, поскольку декабрь был на излете, письмо оказалось еще и с пожеланиями всех благ в наступающем году.
В твоем некрологе были две ошибки. Во-первых, дата твоего переезда из Лондона в Нью-Йорк была указана неверно с погрешностью в год. А во-вторых, не совсем правильным было написание девичьей фамилии твоей первой жены. Это небольшие погрешности, и позже они были исправлены, но мы все понимали, что тебя бы они привели в ярость.
Однако во время акции памяти о тебе я подслушала диалог, который бы тебя позабавил:
— Жаль, что я не могу молиться.
— Что же тебе мешает?
— Мне мешает Он.
Смог бы, сделал бы. Говоря о мертвых, мы часто используем сослагательное наклонение. А еще у нас, живых, появляется такое чувство, будто уйдя от нас, ты стал всеведущ, что мы теперь не можем скрыть от тебя ничего из того, что делаем, думаем или чувствуем. Удивительное ощущение, что ты читаешь эти самые слова и знаешь наперед все, что я напишу еще.
И это правда, что если ты плачешь достаточно горько и достаточно долго, то в конце концов твое зрение может затуманиться.
Я лежала в кровати, хотя была уже середина дня. Я плакала несколько дней, и от непрерывного плача у меня все это время раскалывалась голова. Я встала и подошла к окну, чтобы посмотреть в него. Еще была зима, у окна оказалось холодно, и меня продувал сквозняк. Но мне были приятны и этот холод, и этот сквозняк, и прикосновение лба к ледяному стеклу. Я все моргала и моргала, но мое зрение никак не прояснялось. Я подумала о тех камбоджийках, которые ослепли от плача. Я продолжала моргать, чувствуя, как в моей душе поднимается страх. И тут я увидела тебя. Ты был одет в свою старую летную куртку, которая была немного мала и оттого сидела на тебе еще лучше, а волосы у тебя были темные, густые и длинные. По этим признакам я и поняла, что мы попали в прошлое. В далекое прошлое. Ушли почти на тридцать лет назад.
Куда ты направлялся? Да никуда, просто шел и все. Не затем, чтобы что-то сделать, не затем, чтобы с кем-то встретиться. Ты просто прогуливался, засунув руки в карманы и наслаждаясь видами и звуками улиц. Ты любил это делать. Если я не могу гулять, я не могу писать. Ты всегда работал по утрам, а потом наступал момент, когда тебе начинало казаться, что ты уже не способен написать даже самое простое предложение, и тогда ты выходил из дома и гулял, проходя по много миль. Ты проклинал те дни, когда тебе не удавалось погулять из-за погоды (правда, это случалось редко, потому что холод или дождь были тебе не помеха, и помешать твоей прогулке могла только настоящая буря). Вернувшись домой, ты обычно вновь садился и брался за работу, стараясь придерживаться того же ритма, какой установил для себя во время прогулки. И чем точнее тебе удавалось соблюсти этот ритм, тем лучше было то, что выходило из-под твоего пера.
Потому что все дело в ритме, говорил ты. Все хорошие предложения начинаются с того, чтобы задать определенный такт.
Ты разместил в Интернете эссе «Как быть бездельником», в котором говорилось об обычае гулять по городу, просто шатаясь без дела, и его месте в культуре словесности. Тогда ты подвергся нападкам, поскольку поставил под вопрос возможность такого времяпрепровождения для женщин. Ты считал, что женщина не может бродить по улицам в том же духе и с теми же чувствами, что и мужчина. На пути гуляющей по городу женщины постоянно возникают препятствия: похотливые мужские взгляды и комментарии, восхищенный свист, попытки облапать. Полученное воспитание заставляет женщину всегда оставаться настороже. Не идет ли этот мужчина слишком близко от нее? А тот малый, не преследует ли он ее? А раз так, то как может гуляющая по улицам женщина достаточно расслабиться, чтобы добиться утраты ощущения собственного «я» и обрести чистую радость от того, что она просто существует на этом свете, которая и является целью истинного праздношатания?
В заключение ты написал, что эквивалентом гуляния без цели для женщин, вероятно, является шопинг — точнее говоря, разглядывание товаров в магазинах без намерения что-либо купить.
Я тогда думала, что ты кругом прав. Я сама знаю множество женщин, которым всякий раз, когда они выходят из дома, приходится внутренне собираться, и даже нескольких таких, которые вообще избегают покидать дом. Разумеется, женщине довольно просто подождать, пока она не достигнет определенного возраста, когда она становится невидимой — и проблема решается сама собой.
Правда, надо отметить, что в твоем эссе шла речь о женщинах вообще, хотя на самом деле ты имел в виду молодых женщин.
В последнее время я много гуляла и совсем ничего не писала. Я пропустила срок сдачи рукописи. Мне посочувствовали и дали отсрочку. Но я не сдала рукопись и к новому сроку, и теперь мой издатель думает, что я симулянтка.
Я была не единственной, кто ошибочно думал, что раз ты много об этом говоришь, ты никогда этого с собой не сделаешь. Ведь ты, в конце концов, был отнюдь не самым несчастным человеком, которого мы знали. Твоя депрессия была не самой тяжелой, не тяжелее, чем у других (подумай хотя бы о Г. или Д. или о Т.—Р.) Ты даже — как ни странно это звучит теперь — не казался слишком уж склонным к самоубийству.
Поскольку ты сделал это в самом начале года, можно заключить, что это было твое обдуманное решение.
Как-то раз, когда ты говорил об этом, ты сказал, что тебя могла бы остановить мысль о твоих студентах. Как и следовало ожидать, тебя беспокоило то воздействие, которое подобный пример мог бы на них оказать. Однако мы ничего не заподозрили, когда в прошлом году ты ушел с должности преподавателя, хотя и знали, что ты любишь преподавать и что тебе нужны те деньги, которые тебе платили за эту работу.
В другой раз, когда речь зашла о самоубийстве, ты сказал, что для человека, достигшего определенного возраста, это могло бы быть рациональным решением, абсолютно разумным выбором и даже разрешением всех проблем. В отличие от тех случаев, когда самоубийства совершают люди молодые, что всегда является не чем иным, как ошибкой.
Однажды ты рассмешил нас всех, заявив: Думаю, я предпочел бы, чтобы моя жизнь напоминала новеллу.
Слова Стиви Смит[1] о том, что Смерть — это единственный бог, который должен явиться, когда ты призываешь его к себе, доставили тебе массу удовольствия, как и различные высказывания других людей, сводившиеся к тому, что если бы не возможность совершить самоубийство, они бы не могли продолжать жить.
Как-то раз, прогуливаясь с Сэмюэлем Беккетом[2] прекрасным весенним утром, один из его друзей спросил: «Разве в такой день, как этот, вы не радуетесь тому, что живы?» Беккет ответил: «Я бы так далеко не заходил».
И разве не ты рассказал нам, что Тед Банди[3] как-то раз отвечал на звонки по телефону доверия в центре предупреждения самоубийств?
Тед Банди.
— Привет. Меня зовут Тед, и я здесь, чтобы выслушать тебя. Поговори со мной.
Мы были крайне удивлены, узнав, что будет проведена акция памяти о тебе. Ведь мы слышали, как ты говорил, что никогда не пожелал бы ничего подобного и сама мысль об этом тебе претит. Может быть, третья жена просто предпочла проигнорировать твое желание? Или все дело в том, что эта твоя воля не была выражена в письменной форме? Как и большинство самоубийц, ты не оставил предсмертной записки. Я никогда не понимала, почему это называют именно запиской. Ведь наверняка есть самоубийцы, оставляющие послания, которые никак не назовешь короткими.
По-немецки такое послание называется Abschiedsbrief, то есть прощальным письмом.
(Что куда лучше.)
Правда, твое желание быть кремированным было уважено: ни похорон, ни шивы[4]. В твоем некрологе нами уделено особое внимание твоему атеизму. «Между религией и знанием, сказал он, человек должен выбрать знание».
Какое нелепое высказывание для любого, кто знаком с еврейской историей, как было замечено в одном из комментариев.
К тому времени, когда состоялась акция памяти о тебе, шок от твоей смерти сошел на нет. И люди забавлялись гадая, каково это будет, когда все три твоих жены соберутся в одном помещении. Не говоря уже обо всех твоих подружках, которые, как утверждали сплетники, даже не смогли бы уместиться в одном зале. Если бы не показываемое по кругу слайд-шоу, с его повторяющимся раз за разом напоминанием об утраченной красоте и утраченной молодости, эта акция памяти не очень бы отличалась от прочих литературных сборищ. Было слышно, как люди в приемной говорят о деньгах, а также о литературных премиях, выплачиваемых в качестве репараций, и о последней рецензии, которую можно было бы озаглавить «умри, автор, умри». Правила приличия в данном случае диктовали отсутствие слез. Люди использовали предоставленную им возможность для того, чтобы пообщаться между собой, узнать последние сплетни и укоризненно покачать головами, слушая, как твоя вторая жена слишком откровенно делится личными и интимными подробностями своей жизни с тобой (кстати, по слухам, она оформляет все это в виде книги). Надо признаться, что твоя третья жена при этом блистала, но блеск этот был холоден, как у стального клинка. Она держалась так, словно хотела сказать: только попробуйте меня жалеть или намекать, что я в чем-то виновата, и я вам покажу, можете не сомневаться.
Я была тронута, когда она спросила меня, как идет моя работа над книгой. — Мне не терпится ее прочесть, — заявила она затем, чему я не поверила ни на минуту.
— Я не уверена, что закончу ее, — сказала я.
— О, знаете, он хотел бы, чтобы вы ее все-таки закончили.
(Хотел бы.)
У нее такая обескураживающая привычка, говоря, медленно качать головой, словно одновременно она отрицает каждое произносимое ею слово.
К нам с ней подошел кто-то более или менее известный, и, повернувшись к нему, она спросила:
— Вы не против, если я вам позвоню?
Я ушла рано. Выходя, я слышала, как кто-то сказал:
— Надеюсь, на моем поминовении будет больше народу.
И еще:
— Теперь он уже официально стал мертвым белым мужчиной.
— Правда ли, что литературный мир заминирован ненавистью, что это поле боя, простреливаемое снайперами, где постоянно разворачиваются распри, подогреваемые завистью и соперничеством? — спросил одного известного автора репортер из Национального общественного радио. Автор ответил, что так оно и есть. — На этом поприще действительно много зависти и вражды, — сказал он. И попробовал объяснить:
— Этот мир похож на тонущий плот, на который пытаются взобраться слишком много людей. Так что, если тебе удается столкнуть кого-то в воду, плот, на котором ты плывешь, поднимается из нее немного выше.
Если чтение, как нас постоянно уверяют, и впрямь развивает в людях способность сопереживать другим, то писательство, похоже, в какой-то мере нивелирует ее.
Как-то раз на одной конференции ты вогнал в ступор переполненную аудиторию.
— С чего вы все взяли, что быть писателем — это чудесно? Писательство, — сказал Сименон, это не профессия, а призвание, приносящее несчастье. — Это слова Жоржа Сименона, который написал сотни романов под своим собственным именем и еще несколько сотен под двумя дюжинами псевдонимов и который к тому времени, когда ушел на покой, был самым кассовым автором в мире. Ничего не скажешь, это большое несчастье.
Он хвастался, что переспал, по меньшей мере, с десятком тысяч женщин, многие, если не большинство из которых были проститутками, и называл себя феминистом. Его литературной наставницей была не кто иная, как сама Колетт[5], а его любовницей — сама Жозефина Бейкер[6], хотя говорили, что он оборвал связь с ней, поскольку их отношения слишком мешали его работе, замедлив ее настолько, что в том году он написал всего лишь какие-то жалкие двенадцать романов. Когда его спросили, что побудило его стать романистом он ответил: «Ненависть к моей матери». (Должно быть, это была сильная ненависть.)
Сименон-праздношатающийся: замыслы всех моих книг приходили ко мне во время прогулок.
У него родилась дочь, которая оказалась психопатически в него влюблена. Когда она была маленькой девочкой, она попросила подарить ей обручальное кольцо, и он ей его подарил. По мере того как она росла, она несколько раз отдавала кольцо в ювелирную мастерскую, чтобы его расширили. Когда ей было двадцать пять лет, она застрелилась.
ВОПРОС: А где молодая парижанка может достать пистолет?
ОТВЕТ: В оружейной мастерской, о которой она прочла в одном из романов своего отца.
Как-то раз, в 1974 году, в той же университетской аудитории, где я иногда веду занятия, одна поэтесса объявила студентам, посещавшим занятия по писательскому мастерству, которые она вела в том семестре:
— Возможно, на следующей неделе меня здесь не будет, — затем, придя домой, она надела старую шубу своей матери и с бокалом водки в руке застрелилась в гараже.
Старая шуба ее матери — это как раз та деталь, на которую преподаватели писательского мастерства любят указывать своим ученикам, одна из тех выразительных, красноречивых деталей, такая, как, например, информация о том, каким образом дочь Сименона достала свой пистолет, — которые часто встречаются в жизни, но, как правило, отсутствуют в литературе, исходящей из-под пера тех, кто только учится писать.
Поэтесса села в свою машину, помидорно-красный винтажный «Кугуар» выпуска 1967 года, и включила зажигание.
Во время первого курса писательского мастерства, который я вела, после того, как сделала упор на важности деталей, один из учащихся поднял руку и сказал, что он совершенно с этим не согласен. — Если вам нужна масса деталей, вам надо просто смотреть телевизор. — И впоследствии я поняла, что это замечание не так глупо, как показалось на первый взгляд.
Тот же самый студент также обвинил меня (он произнес «писатели вроде вас») в том, что я пытаюсь отпугнуть людей, которые хотят попытать свои силы в литературном труде, стараясь внушить им, что писать гораздо труднее, чем это есть на самом деле.
— Зачем нам стараться это делать? — спросила его я.
— Да бросьте, — ответил он. — Разве это не очевидно? Все дело в том, что размер писательского пирога весьма ограничен.
Моя собственная преподавательница, учившая меня писательскому мастерству, любила повторять студентам, что если они могут, вместо того чтобы стать писателями, выбрать какую-либо другую профессию, то им следует выбрать именно ее.
Вчера вечером какой-то музыкант играл на флейте на узле станций нью-йоркского метро «Юнион-сквер» песню Эдит Пиаф[7] «Жизнь в розовом цвете» molto giocoso[8]. В последнее время я стала в этом плане очень уязвимой, назойливые мотивы привязываются ко мне часто, и игривое исполнение этой мелодии тем флейтистом преследовало меня целый день. Говорят, что лучший способ избавиться от преследующего тебя мотива — это прослушать пару раз всю песню до конца. И я прослушала наиболее известную ее версию, исполненную Эдит Пиаф, которая написала слова и впервые спела ее в 1945 году. И теперь в моих ушах неотвязно, не смолкая, звучит странный плачущий, выражающий саму душу Франции голос Эдит Пиаф, этого Воробышка[9].
А еще на станции «Юнион-сквер» я видела нищего с плакатом, на котором было написано «Бездомный беззубый диабетик».
— Хорошая надпись, — сказал один житель пригорода, ежедневно ездящий в Нью-Йорк на работу, и бросил в бумажный стаканчик нищего несколько монеток.
Иногда, когда я тружусь на компьютере, у меня на экране выскакивает окошко с надписью: «Вы сейчас пишете книгу?»
Интересно, о чем со мной хочет поговорить твоя третья жена? Меня это не очень-то заботит. Если бы ты написал мне письмо или оставил какое-то другое послание, я бы его уже наверняка получила. Возможно, она планирует устроить еще какое-то поминальное торжество, например, публичное чтение воспоминаний о тебе, и если так оно и есть, то она опять собирается сделать как раз то, чего ты, по твоим словам, не хотел.
Я думаю об этом сборище с ужасом не потому, что твоя третья жена вызывает у меня антипатию (это вовсе не так), а потому, что не хочу участвовать в подобных ритуалах.
И я не желаю говорить о тебе. Наши с тобой отношения были довольно необычны, и другим не всегда бывает легко понять их суть. Я никогда не спрашивала тебя и потому так и не узнала, что ты говорил о нас с тобой женам. Я всегда была тебе благодарна за то, что хотя твоя третья жена и не была моей подругой, как твоя первая жена, она не была и моим врагом, как вторая из твоих жен.
Она же не виновата в том, что любой твой брак означал приноравливание очередной жены к твоим дружеским связям, ибо таковы все браки. Наши с тобой отношения бывали наиболее близки, когда ты оказывался не женат, то есть эти периоды всегда длились недолго, поскольку ты всегда был почти патологически не способен к тому, чтобы подолгу оставаться в одиночестве. Ты однажды признался мне, что за небольшими исключениями — например, когда ты пропадал в командировках или в турне в поддержку последней книги (а то и в эти периоды) — ты в течение сорока лет ни разу не проспал ни одной ночи один. Между женами у тебя всегда были подружки, а между подружками — партнерши на одну ночь. (А еще были те, которых ты предпочитал называть мимолетными связями, и после секса с ними ты не спал.)
Должна со стыдом признаться: узнав, что ты опять влюбился, я всегда чувствовала душевную боль, а, услышав, что ты с кем-то порвал, всякий раз испытывала прилив радости.
Я не хочу говорить о тебе или слушать, как о тебе говорят другие. Разумеется, таково расхожее мнение: мы ведем беседу об умерших, чтобы их вспоминать, чтобы продлевать их жизнь единственным способом, который нам доступен.
Я чувствую облегчение от того, что меня хотя бы не приглашают в твой дом. (Он все еще остается твоим домом.) Правда, меня не связывают с ним какие-либо особо крепкие ассоциации, поскольку за те несколько лет, что ты в нем прожил, я побывала там только два или три раза. Я хорошо помню мой первый визит туда, состоявшийся вскоре после того, как ты въехал, когда провел меня по всему этому роскошному дому, построенному из красно-коричневого песчаника, и я любовалась его встроенными в стены книжными шкафами и красивыми коврами на потемневшем от времени буковом полу и лишний раз напоминала себе, как по сути своей буржуазны современные писатели. Как-то раз за великолепным ужином в доме другого литератора кто-то упомянул знаменитое высказывание Флобера[10], о том, что писатель должен жить, как буржуа, а думать, как полубог, хотя мне всегда казалось, что собственная жизнь этого необузданного человека не очень-то напоминала жизнь обычного буржуа. «В наши же дни, — сказал хозяин дома (и все его гости с ним согласились), — прежних незадачливых представителей богемы уже практически не сыскать, и их заменили хипстеры, ловкие, искушенные, обладающие потребительской сметкой, нёбом гурмана, а также изощренным вкусом и во многом другом. И справедливо это или нет, — заявил наш хозяин, открывая третью бутылку вина, — многие писатели сейчас признаются, что стесняются или даже стыдятся того, чем они зарабатывают себе на жизнь».
Тебе, переехавшему в Бруклин задолго до тогдашнего бума, было досадно видеть, что этот район Нью-Йорка превратился в своего рода бренд, ты дивился тому, что о твоем Бруклине стало так же трудно писать, как в свое время о контркультуре шестидесятых: с какой бы серьезностью ты ни брался за перо, из-под него все равно выходило нечто, отдающее пародией.
Не менее знаменитыми, чем высказывание Флобера, являются слова Вирджинии Вулф[11]: «Нельзя хорошо рассуждать, хорошо любить и хорошо спать, если ты хорошо не отобедал». Аргумент принят. Но голодный художник не всегда был мифом, и стоит вспомнить, сколь многие мыслители жили, как бедняки, или же были похоронены, как бедняки, в общих могилах.
Вулф писала о Флобере и Китсе[12], как о гениях, жестоко страдавших из-за равнодушия, с которым к ним относился мир. Но как вы думаете, что написал бы о ней самой Флобер, который однажды сказал, что все женщины, занимающиеся искусством — это потаскухи? И у Флобера, и у Вулф были персонажи, кончавшие с собой, покончила с собой и сама Вулф.
Был период — и весьма долгий — когда мы с тобой виделись почти каждый день. Но в последние несколько лет можно было бы подумать, что мы живем не в разных районах Нью-Йорка, а в разных странах. Мы регулярно поддерживали связь, но главным образом по электронной почте. Весь последний год мы чаще встречались случайно — на вечеринке, на публичном чтении или еще на каком-нибудь мероприятии — чем по договоренности.
Так почему же мне так страшно вновь войти в твой дом?
Думаю, я была бы сокрушена, случайно увидев какой-то знакомый мне предмет одежды, или же какую-то фотографию, либо книгу, или же уловив какой-то намек на твой запах. А я не хочу чувствовать себя сокрушенной, о господи, только не тогда, когда рядом со мной будет стоять твоя вдова.
«Вы сейчас пишете книгу? Вы сейчас пишете книгу? Кликните сюда, чтобы узнать, как ее можно будет опубликовать».
В последнее время, с тех пор, как я начала писать эти строки, на экране компьютера то и дело выскакивает новая надпись.
«Вы одиноки? Испуганы? Подавлены? Позвоните на Круглосуточную горячую линию по предотвращению самоубийств».
Единственное живое существо на земле, которое совершает самоубийство, это также единственное живое существо, которое плачет. Правда, я слышала, что загнанные олени, измученные попытками убежать от охотников и окруженные гончими, иногда также проливают слезы. Имеются сообщения и о плачущих слонах, и, разумеется, люди готовы рассказывать самые невероятные истории про плач кошек и собак.
Ученые считают, что слезы животных вызываются стрессом и их нельзя смешивать со слезами такого эмоционального существа, как человек.
Те человеческие слезы, которые вызваны эмоциями, отличаются по своему химическому составу от тех, которые образуются для смачивания и смазывания глаза, когда в него, например, попадает нечто, имеющее раздражающее действие. Известно, что излияние таких химических веществ в потоках слез может принести плачущему пользу, что объясняет, отчего, выплакавшись, люди так часто чувствуют себя лучше, а также служит причиной неувядающей популярности слезливых мелодрам.
Говорят, великий Лоренс Оливье[13] очень досадовал на то, что, в отличие от других актеров, не способен плакать, когда того требует исполняемая им сцена. Было бы интересно узнать, каков химический состав актерских слез и к которому из описанных выше двух типов они принадлежат.
В произведениях фольклора и художественной литературе человеческие слезы, как и человеческие семя и кровь, могут обладать магическими свойствами. В конце сказки братьев Гримм про Рапунцель, когда после нескольких горестных лет разлуки она и принц вновь находят друг друга и обнимаются, ее слезы попадают ему в глаза и чудодейственным образом возвращают ему зрение, отнятое колдуньей.
Одна из легенд о жизни Эдит Пиаф также повествует о чудодейственном исцелении от слепоты. Рассказывали, что кератит, от которого она страдала в детстве и который на несколько лет лишил ее зрения, прошел, когда проститутки, работавшие в борделе, принадлежавшем ее бабушке, где маленькая Эдит какое-то время жила, взяли девочку с собой в паломничество к могиле Святой Терезы из Лизье[14]. Это могло бы быть просто еще одной сказкой, однако, по словам Жана Кокто[15], у Пиаф, когда она пела, «были глаза слепой, которую от слепоты исцелило чудо, глаза духовидицы».
«Но два дня я пробыла слепой… Что из увиденного мною ослепило меня? Я никогда этого не узнаю».
Слова поэтессы Луизы Боган[16], описывающей эпизод из своего детства, полного насилия и нищеты: «Наверное, я испытывала на себе насилие с самого своего рождения».
Я думала, что знаю сказку братьев Гримм «Рапунцель» наизусть, но я совсем позабыла, что принц в ней пытается совершить самоубийство. Он верит колдунье, когда та говорит ему, что он никогда больше не увидит Рапунцель, и бросается вниз с башни, где она раньше жила. До того, как я вспомнила эту деталь, моя память говорила мне, что колдунья ослепила его своими когтями — а еще я помнила, что колдунья сказала ему, что «красавицы-птички нет больше в гнезде, и она уже не поет. Ее унесла кошка, а тебе она выцарапает глаза». Но на самом деле принц лишился зрения, когда в отчаянии выпрыгнул из башни. Колючие шипы кустарника, на которые он упал, выкололи ему глаза.
Но даже будучи ребенком, я считала, что колдунья имела право разозлиться. Обещание есть обещание, его надо держать, и она отнюдь не обманом заставила родителей Рапунцель отдать ей свое дитя. Она хорошо заботилась о Рапунцель, ограждала ее от большого злого мира. И мне казалось совсем несправедливым, что первый красивый юноша, которому случилось проезжать мимо, мог увезти Рапунцель прочь.
В тот период моего детства, когда из всего, что я читала, мне больше всего нравились волшебные сказки, у нас имелся сосед, слепой. Хотя он и был уже взрослым мужчиной, он продолжал жить со своими родителями. Его глаза всегда скрывали большие темные очки, и меня приводило в недоумение то, что слепому нужно защищать глаза от света. Та часть его лица, которая была видна, отличалась мужественной красотой, как у героев вестернов. Он мог быть и кинозвездой, и секретным агентом, но в истории, которую тогда написала я, он оказался раненым принцем, а слезы, которые его исцелили, были пролиты мной.
— Надеюсь, это заведение вам по вкусу. С вашей стороны было так любезно приехать так далеко.
Поездка, как ей отлично известно, заняла у меня менее тридцати минут, но твоя третья жена — женщина, неизменно следующая правилам хорошего тона. А «это заведение» было не чем иным, как прелестным кафе в европейском стиле, от которого рукой подать до твоего особняка. (Для меня это все еще твой особняк.) Когда я вошла и увидела ее, сидящую у окна и при этом не пользующуюся никаким электронным гаджетом, в отличие от всех остальных из тех, кто сидел там в одиночестве и даже некоторых из тех, кто был не один, а вместо этого смотрящую на улицу, я подумала — какое идеальное окружение для столь элегантной и красивой женщины.
«Она одна из тех женщин, которым известны пятьдесят способов, как повязать шарф» — это была одна из первых вещей, которые ты мне о ней сказал. И дело не столько в том, что она не выглядит на свои шестьдесят лет, сколько в том, что, посмотрев на нее, начинаешь думать, что можно быть привлекательной и в шестьдесят, причем не прикладывая для этого никаких усилий. Я помню, как мы все удивились, когда ты начал с ней встречаться, с вдовой лишь чуть-чуть моложе тебя самого. Мы при этом, разумеется, думали о твоей второй жене и о других, которые были еще моложе, и полагали, что, учитывая твои склонности, недалек тот день, когда ты начнешь встречаться с кем-нибудь, кто будет моложе твоей дочери. Но потом мы пришли к выводу, что, скорее всего, в объятия женщины средних лет тебя толкнули битвы, которыми был полон твой второй брак и которые, по твоим словам, состарили тебя на десять лет.
Но хотя я любуюсь ею — ее недавно подстриженными и окрашенными волосами, искусным макияжем, идеальным маникюром и наверняка таким же идеальным педикюром на скрытых туфлями ногах, — я не могу отделаться от одной мысли. От той мысли, которая пришла мне в голову, когда я увидела ее на твоем поминовении и осознала, что вспоминаю одну историю, о которой много писали газеты — историю о семейной паре, чей ребенок бесследно исчез, когда вся семья отдыхала, поехав в отпуск. Шли дни, ребенок так и не нашелся, не было никаких зацепок, и в конце концов тень подозрения пала на самих родителей. Их сфотографировали, когда они выходили из полицейского участка — обычная семейная пара с незапоминающимися лицами. Но что я запомнила, так это то, что губы женщины оказались накрашены и на ней были надеты украшения: что-то на шее, кажется, медальон и пара серег в виде крупных колец. То, что в такой момент эта женщина озаботилась тем, чтобы накраситься и надеть украшения, тогда поразило меня. Я бы ожидала, что в такой ситуации она будет смотреться, как бомжиха. И теперь в этом кафе я опять подумала: она была его женой, и именно она нашла его тело. Но и сейчас, как и на той акции памяти она приложила все усилия, чтобы выглядеть не просто достойно, не просто собранно, а в своем самом лучшем виде: и ее лицо, и одежда, и ногти на руках, и ногти на ногах говорили о том, что она тщательнейшим образом позаботилась абсолютно обо всем.
Нет, я не испытывала желания ее критиковать, я чувствовала только изумление.
Она была другой — она была никак не связана ни с литературными, ни с академическими кругами, а таких людей в твоей жизни было немного. После окончания бизнес-школы она всю жизнь проработала консультантом по вопросам управления в одной и той же фирме на Манхэттене. «Но послушайте, она читает даже больше моего», — говорил ты, рассказывая о ней, и, слушая тебя, мы внутренне сжимались. Она с самого начала вела себя со мной вежливо, но сухо, проявляя готовность принять меня как одного из твоих самых старых друзей, но сама оставаясь для меня всего лишь знакомой. Это было куда лучше, чем безумная ревность твоей второй жены, которая требовала, чтобы ты порвал все отношения и со мной, и с любой другой женщиной из прошлого. Наша дружба раздражала ее необыкновенно; она называла ее кровосмесительными отношениями.
— Почему «кровосмесительными»? — спросила я.
Ты пожал плечами и заверил, что она имела в виду, что мы слишком уж близки.
Она так и не поверила, что между нами нет физической близости. Однажды, когда мы с тобой говорили по телефону, я сказала что-то, рассмешившее тебя. И услышала, как она жалуется, что ты мешаешь ей читать. Когда ты не обратил на нее внимания и продолжал смеяться, она пришла в бешенство и швырнула книгу тебе в голову.
Тогда ты первый раз сказал ей нет. Ты согласился видеться со мною реже, но отказался совсем вычеркнуть меня из своей жизни.
Какое-то время ты мирился со вспышками ее ярости, с летящими в тебя предметами, криками, плачем и жалобами соседей. А потом начал ей лгать. Мы несколько лет встречались с тобой тайком, будто и в самом деле были любовниками. Это звучит просто безумно. Ее враждебность ко мне так и не ослабела. Если нам с ней случалось встретиться на людях, она всегда смотрела на меня волком. Она сверлила меня злобным взглядом даже во время твоего поминовения. Ее дочери — твоей дочери — там не было. Кто-то сказал мне, что она занимается важным исследовательским проектом в Бразилии, думаю, это было связано с каким-то исчезающим видом птиц.
Вы оба страдали: ты и твоя отдалившаяся от тебя дочь, еще менее склонная простить тебе твою измену своей матери, чем она сама.
— Она не понимает, — сказал ты. — Она меня стыдится.
(Почему ты решил, что она не понимает?)
Но в речи, которую произнесла в память о тебе твоя вторая жена, не было ни капли злобы. Она заявила, что ты любовь и свет всей ее жизни, что ты — это самое лучшее, что с ней когда-либо происходило. И говорят, что теперь она пишет книгу о своей жизни с тобой. Причем это будет беллетризация. Возможно, из нее я узнаю, сказал ли ты ей, что один раз у нас с тобой все-таки был секс. Один раз. Много лет назад. Задолго до того, как с тобой познакомилась она.
Хотя ты сам едва-едва закончил учебу, ты уже начал преподавать. Я была не единственной из тех, кто у тебя учился, кто стал твоим другом, и в этой же самой группе мы оба познакомились с той, которая стала твоей первой женой. Ты был самым молодым преподавателем на факультете, его вундеркиндом и Ромео. Ты считал, что любые попытки изгнать из аудитории любовь обречены на провал. Ты говорил, что великий преподаватель — это всегда соблазнитель и бывают случаи, когда он должен также разбивать сердца. И хотя я не до конца понимала эти твои слова, от этого они не становились менее волнующими. Что я понимала, так это то, что жаждала знаний, а ты был способен мне их дать. Наша с тобой дружба продолжилась и после окончания учебного года, и тем летом — в то самое время, когда ты начал ухаживать за своей будущей первой женой, — мы с тобой стали неразлучны. И как-то раз ты меня изумил, сказав, что мы с тобой должны заняться сексом. Учитывая твою репутацию, это вовсе не должно было меня удивлять. Но прошло уже столько времени, что я перестала с волнением ждать, когда ты начнешь меня соблазнять. И вот ты прямым текстом предложил мне с тобой переспать. Я тупо спросила почему. Ты весело рассмеялся. «Потому, — заявил ты, касаясь моих волос, — что нам надо узнать друг о друге это». Думаю, ни одному из нас не приходило в голову, что я могу отказаться. Среди всех желаний, которые я испытывала в то время — а именно в это время они были неистовы, как никогда, — самым сильным было желание полностью довериться кому-то, какому-то мужчине.
Потом, когда ты сказал, что, попытавшись стать чем-то большим, чем друзья, мы совершили ошибку, я почувствовала, что сгораю от стыда.
Какое-то время после этого я притворялась больной. Потом устроила дело так, будто меня нет в городе. А затем заболела по-настоящему, и обвиняла тебя во всем, и проклинала тебя, и перестала верить, что ты можешь быть моим другом.
Но когда мы наконец увиделись вновь, вместо того, чтобы ощутить мучительную неловкость, которой я так боялась, я почувствовала, как что-то — некоторое напряжение и тревога, которых я до этого даже не вполне осознавала, отпускают меня и уходят прочь.
Разумеется, именно на это ты и рассчитывал. Теперь, несмотря на то что ты успешно завершил завоевание сердца своей первой жены, наша дружба продолжала крепнуть. Дружба с тобой переживет все остальные мои дружеские отношения. Она принесет мне ярчайшее счастье. И я чувствовала, что мне повезло: да, я страдала, но, в отличие от других женщин, я не осталась с разбитым сердцем. («Неужели?» — как-то раз не согласился со мной мой психотерапевт. Твоя вторая жена была не единственным человеком, видевшим в наших с тобой отношениях что-то нездоровое, и не только мой психотерапевт спрашивал меня, не сыграли ли они какую-то роль в том, что я за все эти годы так и не вышла замуж.)
Твоя первая жена. Это, несомненно, настоящая и страстная любовь. Но с твоей стороны она не была верной. Прежде чем вашему браку пришел конец, с твоей женой произошел нервный срыв. И не будет преувеличением сказать, что с тех пор она так и не стала прежней. Да и ты тоже. Я помню, как тебя истерзало то, что, выйдя из больницы, она немедля нашла себе другого.
Когда она снова вышла замуж, ты поклялся, что никогда больше не женишься. И следующее десятилетие твоей жизни было отмечено множеством романов, большинство из которых длились недолго, но несколько почти ничем не отличались от браков. И я помню, что каждый из них заканчивался изменой.
— Я не люблю мужчин, которые оставляют за собой вереницу плачущих женщин, — сказал Уистен Хью Оден[17]. Он бы тебя точно возненавидел. Твоя третья жена. Помню, ты говорил нам, что она — это скала. (Как ты выразился, моя скала.) Она была старшей из девяти детей, и на нее легла громадная ответственность, когда на мать обрушилась болезнь, лишившая ее трудоспособности, а отцу, чтобы содержать семью, приходилось работать на двух работах. О первом браке мне было известно только то, что ее муж был альпинистом и погиб в горах и что у них родился один ребенок, сын.
Сейчас мы с ней впервые встречаемся один на один. Поскольку, когда я общалась с нею раньше, она всегда была сдержанна, меня удивляет то, как разговорчива она сейчас, создается впечатление, что эспрессо развязал ей язык, словно вино. Говоря, она все время качает головой туда-сюда — может быть, так она пытается меня загипнотизировать? Мне кажется, она нервничает, хотя ее голос остается тихим и спокойным.
Ты не первый человек в ее жизни, который совершил самоубийство, говорит она.
— Мой дедушка застрелился. Я тогда была маленькой девочкой, и я его не помню. Однако его смерть сыграла большую роль в моем детстве. Родители никогда не говорили о ней, но его самоубийство продолжало оказывать воздействие на нашу семью, оно было как висящая над домом туча, как затаившийся в его углу паук или скрывающийся под кроватью гоблин. Он был моим дедом со стороны отца, и в меня вдолбили, что я никогда, ни при каких обстоятельствах, не должна спрашивать о нем моего отца. После того как я выросла, я наконец заставила мать кое-что мне о нем рассказать. Она сказала, что его самоубийство стало для семьи полной неожиданностью и шоком. Он не оставил предсмертной записки, и никто из тех, кто его знал, не могли назвать ни одной причины, которая могла бы толкнуть на подобный уход из жизни. Он никогда не выказывал никаких признаков подавленности, не говоря уже о каких-либо признаках склонности к самоубийству. Почему-то из-за того, что причина его смерти так и осталась тайной, мой отец пережил ее особенно тяжело и долгое время продолжал настаивать, что, должно быть, это было убийство. По словам матери, он больше злился на своего отца не за то, что тот покончил с собой, а за то, что никак этого не объяснил. По-видимому, он ожидал, что всякий самоубийца должен назвать причину своего поступка.
Ты же всегда страдал от депрессии. И эта депрессия, по ее словам, никогда не была более тяжелой, чем в те шесть месяцев прошедшего года, когда ты по утрам с трудом вставал с кровати и не написал ни единого слова. Но что было странно, так это то, что ты преодолел тот кризис и начиная, по крайней мере, с лета, пребывал в добром расположении духа. Во-первых, по ее словам, долгий период твоего творческого бессилия закончился и после нескольких фальстартов ты наконец начал работать над каким-то произведением, которое тебя захватило. Ты садился за свой письменный стол каждый день и чаще всего говорил вечером, что работа у тебя шла хорошо. Ты много читал, как всегда, когда писал роман. И ты снова стал двигаться.
Как она объяснила, в прошлом твоя депрессия так усилилась, в частности, из-за того, что ты травмировал спину, передвигая тяжелые ящики, и после этого много недель не мог заниматься физическими упражнениями. Даже ходьба причиняла тебе боль. «А вы же помните его мантру, — сказала она: — Если я не могу гулять, я не могу писать». Но в конце концов травма спины у тебя зажила, и ты смог снова подолгу гулять и совершать пробежки в парке.
— И он также восстановил свои социальные связи и опять стал общаться со всеми людьми, встреч с которыми избегал, когда был в депрессии. И вам известно, что он завел себе собаку?
Ты действительно написал мне по электронной почте о псе, найденном тобою в парке во время одной из тех пробежек, которые ты совершал на рассвете. Он стоял на выступе, нависавшем над оврагом, выделяясь на фоне рассветного неба — самая большая собака, которую ты когда-либо видел. Мраморный дог. Ни ошейника, ни бирки с регистрационным номером на нем не было, и ты пришел к выводу, что хотя пес и был породистым, кто-то, вероятно, его бросил. Ты сделал все возможное, чтобы отыскать владельца, а когда твои попытки не удались, решил оставить его себе. Твоя жена была в ужасе. Ты написал, что она вообще не любительница собак, а Дайно очень большой пес. Целых тридцать четыре дюйма от плеча до лапы. И сто восемьдесят фунтов веса. Ты прикрепил к письму файл с вашей фотографией: вы двое щека к щеке, и его массивная голова на первый взгляд выглядела как голова пони.
Потом ты передумал называть его Дайно. По твоим словам, в нем было слишком много достоинства, чтобы носить такое имя. Что я думаю о кличке Ченс? Или Чонси? Или Диего? Или Ватсон? Или Ролф? Или Арло? Или Элфи? Мне нравились все эти клички. Но в конце концов ты назвал его Аполлоном.
Твоя третья жена спросила меня, не знаю ли я одного твоего друга, который покончил с собой за несколько месяцев до тебя. Я ответила, что никогда с ним не встречалась, хотя ты мне о нем рассказывал.
— Знаете, здоровье у этого бедняги просто ужасное. У него была эмфизема легких, стенокардия и диабет — так что качество жизни у него было поистине жутким.
А вот твое здоровье, наоборот, было великолепным. По словам твоего врача, сердце и мышечный тонус у тебя оказались такие же, как у намного более молодого мужчины.
Она замолчала и чуть слышно вздохнула, повернув голову к окну и начав обшаривать глазами улицу, словно ожидая, что ответ, который она пытается отыскать, наверняка сейчас покажется и что он просто немного запаздывает.
— Я веду к тому, что хотя у него и были свои подъемы и спады и стариться ему нравилось не больше, чем всем остальным, мне действительно казалось, что у него все идет великолепно.
Когда я ничего на это не ответила — а что я могла ответить? — она продолжила:
— Думаю, он зря бросил преподавательскую работу. Не только потому, что ему нравилось преподавать, но также и потому, что это придавало его жизни стабильность, что, я уверена, шло ему на пользу. Хотя мне также известно, что преподавание уже не приносило ему такого же удовлетворения, как раньше. Вообще-то говоря, он постоянно жаловался, говоря, что преподавание сейчас слишком деморализует, особенно если преподавательскую деятельность ведет писатель.
Мой телефон дзинькает. В поступившем сообщении нет ничего срочного, но я смотрю на время и ощущаю некоторое беспокойство. Нет, меня сегодня больше нигде не ждут, и нет на этот день никаких других планов. Но прошло уже полчаса, наши чашки опустели, а я до сих пор не знаю, зачем, собственно, я сюда пришла. Я продолжаю сидеть и ждать, когда она наконец заговорит о чем-нибудь конкретном, поднимет какую-то тему, которая окажется щекотливой и которую мне будет трудно с ней обсуждать, потому что я не знаю, о чем она думает, и мне неизвестно даже, насколько она осведомлена о твоих делах. Мне приходят в голову сразу несколько веских причин, в силу которых ты мог ничего ей не говорить, к примеру, о группе студенток, которые пожаловались на то, что, обращаясь к ним, ты говоришь «дорогая».
Я считала, что эти студентки повели себя достойно: они направили письмо с жалобой напрямую тебе и только тебе.
Возможно, вы считаете, что такое обращение очаровательно. В действительности же оно оскорбляет наше достоинство. Оно неприемлемо и фривольно. Вы должны перестать его употреблять.
И ты перестал, но не без раздражения. Ты считал, что это совершенно безобидная привычка, ты обращался так к своим студенткам и студентам столько лет. Сколько именно? Да с тех самых пор, как начал преподавать. И за все это время никто ни разу не выразил по этому поводу и тени недовольства. И вдруг каждая женщина в твоей группе (как и большинство групп, изучающих писательское мастерство, эта состояла в основном из женщин) подписала это письмо. Само собой, ты воспринял это как коллективный наезд.
— Какая пошлость, согласна? — сказал ты мне. — Ты видишь, как вся эта история абсурдна и пошла? Вот бы каждая из них так накручивала себя по поводу собственного подбора слов!
Это был один из тех редких случаев, когда мы поссорились.
Я. То, что ни одна из них никогда ничего по этому поводу не говорила, вовсе не значит, что ни у кого из них не было возражений.
Ты. Полно, если никто ничего не говорил, стало быть, никто и не возражал, разве не так?
По глупости (теперь я признаю, что с моей стороны это было неосторожно) я тут же вспомнила знаменитого поэта, который преподавал в той же самой программе, что и ты, много лет назад и который, набирая себе учеников, среди тех, кто конкурировал за место в его группе, требовал, чтобы каждая женщина беседовала с ним лично, дабы он имел возможность отбирать их по внешним данным. И это сходило ему с рук. Мне тогда показалось, что твоя голова взорвется от ярости. Как я могла прибегнуть к такому обидному для тебя сравнению! Да как я смею намекать на то, что ты когда-либо делал что-то подобное!
Прости меня.
Но что ты действительно делал, так это заводил многочисленные связи со своими студентками, как с теми, которых еще учил, так и с бывшими.
И никогда не видел в этом ничего предосудительного. (Если бы я считал, что это дурно, я бы этого не делал). К тому же правила, запрещающего это, не существовало. И ты считал отсутствие подобного запрета правильным. «Аудитория — это самое эротическое место на земле, — говорил ты. — Отрицать это было бы ребячеством. Почитай Джорджа Стайнера[18]. Почитай его «Уроки мастеров»[19]. Я читала Джорджа Стайнера, который был одним из твоих собственных учителей, и которого ты почитал и любил. Я читала «Уроки мастеров», и вот цитата из этой книги: «Чувственность, скрываемая или декларируемая открыто, существующая лишь в виде фантазий или претворяемая в жизнь, вплетена в сам процесс преподавания… Этот изначальный факт опошляется существующей зацикленностью на сексуальных домогательствах».
То, что осталось несказанным: в этом разговоре я повела себя как лицемерка. Мы оба знали, что, учась у тебя, я трепетала всякий раз, когда ты называл меня «дорогая».
И я разрешаю тебе заметить, что было немало таких случаев, когда не ты соблазнял своих студенток, а они соблазняли тебя.
Но я также припоминаю, что была одна студентка, иностранка, которая отвергла твои заигрывания и впоследствии обвинила тебя, заявив, что ты отомстил ей за это, поставив оценку «A» с минусом вместо чистой «A», которой она заслуживала. Однако оказалось, что эта студентка взяла в привычку оспаривать оценки, и комиссия, разбиравшая ее жалобу на тебя, установила, что если оценка и была несправедлива, то в сторону завышения. Однако, хотя романтические отношения между преподавателями и студентками и не были официально запрещены, ты своим поведением продемонстрировал пренебрежение к приличиям и неумение выносить обоснованные нравственные оценки, чего никак нельзя терпеть.
Это было предостережение. На которое ты не обратил ни малейшего внимания. У тебя ушло много времени на то, чтобы измениться. Ушла целая вечность. Тебе только что исполнилось пятьдесят лет. Ты набрал двадцать фунтов, которые потом сбросил, но не сразу. Ты явился в тот бар навеселе, напился в стельку и начал изливать мне душу. Мне так хотелось, чтобы ты перестал. Мне было противно, когда ты говорил об этой женщине. Нет, это не была ревность, я тогда уже не испытывала ее и могла бы поклясться, что давным-давно примирилась с этой стороной твоей натуры. Но мне не хотелось чувствовать стыд за тебя. Ты понимал, что я ничего не могу поделать и все равно продолжал настойчиво демонстрировать мне свою рану. Несмотря на то что это подразумевало непристойное обнажение.
Ей девятнадцать с половиной — она еще достаточно молода для того, чтобы «с половиной» имело значение. Она тебя не любит, с чем ты можешь смириться (и что ты, честно говоря, даже предпочитаешь). С чем ты не можешь смириться, так это с тем, что она тебя не хочет. Иногда она имитирует желание, но никогда не делает этого в полной мере. Но по большей части она слишком ленива, чтобы даже пытаться. Правда состоит в том, что секс с тобой ей неинтересен. Она с тобой не из-за секса. И тебе отлично известно, что секс, который ей интересен, она получает где-то на стороне.
Но теперь это уже стало системой — молодые женщины, готовые заниматься с тобою сексом, но не разделяющие того желания, которое влечет к ним тебя. Вместо желания их теперь влечет к тебе самолюбование, наслаждение, которое они испытывают, заставляя мужчину, который старше их, мужчину, наделенного властью и имеющего авторитет, стоять перед ними на коленях. Эта девица девятнадцати с половиной лет от роду может дергать твое сердце за ниточки. Дерг, дерг в эту сторону — нет, в ту сторону, профессор.
Ты любил повторять (думаю, цитируя кого-то), что молодые женщины — это самые могущественные люди на земле. Не знаю, так ли это, но мы все знали, какого рода могущество ты имел при этом в виду. Тебя всегда отличала половая распущенность (кажется, таким же был и твой отец). И при твоей красоте, твоем красноречии, твоем выговоре, как у ведущих Би-би-си и уверенности в себе тебе всегда было нетрудно увлекать в свои сети тех женщин, к которым тебя тянуло. И ты говорил, что напряженность твоей половой жизни не просто помогает тебе в литературной работе, а имеет для нее жизненное значение. Бальзак, который после ночи страсти сетовал на то, что из-за нее потерял книгу, Флобер, настаивавший на том, что оргазм высасывает творческие соки и что если ты предпочитаешь жизни работу, то должен согласиться на такое строгое половое воздержание, какое только может выдержать мужчина — все эти истории не лишены интереса, но в действительности все это просто глупость. Как говаривал ты, если бы подобные страхи имели под собой хоть какое-то основание, то самыми плодовитыми творцами на земле были бы монахи. И не следует к тому же забывать, что очень многие великие писатели были также и великими сердцеедами, или им, по меньшей мере, был свойственен могучий половой инстинкт. Ты любил цитировать слова Хемингуэйя: ты пишешь для двух людей — во-первых, для себя самого и, во-вторых, для женщины, которую ты любишь.
Сам ты, как ты утверждал, писал лучше всего в те периоды, когда много и с удовольствием занимался сексом. В твоем случае начало очередной любовной связи совпадало со временем наибольшего творческого подъема. Эта твоя особенность была одним из оправданий для твоих измен. Я находился в творческом кризисе, говорил ты мне, а срок сдачи рукописи был уже на носу. И, произнося это, ты почти не шутил.
Еще ты говорил, что хотя твои амурные похождения и создают тебе проблемы в жизни, они того стоят. И, разумеется, ты никогда серьезно не задумывался над тем, чтобы измениться.
То, что рано или поздно перемены должны будут произойти — притом не потому, что ты сам этого захочешь, — тебя, похоже, почти не беспокоило.
В один прекрасный день в ванной гостиничного номера ты получил сокрушительный удар. Напротив душевой кабинки располагалось зеркало, в котором ты мог видеть себя в полный рост. Нет, ты не увидел ничего слишком уж отвратительного для мужчины средних лет. Но в ярком свете ламп подсветки ты не мог не разглядеть правды.
Такое тело не заведет ни одну женщину.
Ты лишился одного из тех даров, которые были тебе даны.
— Это было похоже, — сказал ты, — на своего рода кастрацию.
Но ведь это и называется старением, не так ли? Кастрация, но только снятая методом замедленной съемки. (Не цитирую ли я здесь тебя самого? Не взяла ли я это из какой-то твоей книги?)
Увлечение женщинами было такой неотъемлемой частью твоей жизни, что ты едва ли мог представить себе, что тебе придется обходиться без него. Кем бы ты был без него?
Кем-то другим.
Никем.
Однако ты был не готов сдаться. Во-первых, к твоим услугам всегда были проститутки. А во-вторых, ты вовсе не перестал затаскивать в постель студенток. В конце концов тебе и так известно, что молодым девушкам даже тридцатилетний мужчина кажется стариком.
Но до сих пор тебе не приходилось довольствоваться совокуплениями, в которых твоя партнерша отдавалась тебе, не испытывая вообще никакого желания.
Еще одно зеркало: «Бесчестье» Дж. М. Кутзее[20] Одна из твоих — наших — любимых книг, написанная одним из наших с тобой любимых писателей.
Дэвид Льюри: такой же возраст, такая же работа, такие же склонности. И такой же кризис. В начале романа он описывает то, что ему представляется неминуемым уделом мужчины старшего возраста — стать клиентом, вызывающим у проституток гадливое содрогание, такое же, какое испытываешь, когда ночью видишь в раковине таракана.
В баре, напившись допьяна и став слезливым, ты рассказал мне, как тебе захотелось поцеловать свою крошку, а она отпрянула от тебя. «У меня свело шею», — сказала она.
— Почему бы тебе не перестать с ней встречаться, — говорю я — говорю механически, отлично зная, что ты не способен избавить себя и от гораздо худшего унижения.
Дэвид Льюри приходит в такой ужас от своего унизительного состояния: перестав быть сексуально привлекательным, он тем не менее по-прежнему сгорает от похоти — что начинает задумываться о таком выходе, как кастрация, о возможности найти врача, который сделает ему такую операцию, или даже о том, чтобы, используя учебник по медицине, сделать ее себе самому. Ведь разве это превосходит по мерзости ужимки старого развратника?
Но вместо этого он насилует одну из своих студенток, как в омут головой бросаясь в бесчестье, которое погубит его навсегда.
Это была книга, которую ты прочитал своей кожей.
Но тебе повезло больше, чем профессору Льюри. Ты так и не познал бесчестья. Нередко твоим уделом бывала неловкость. Иногда даже стыд. Но никогда истинное, непоправимое бесчестье.
У твоей первой жены была своя теория. Есть бабники двух видов, говорила она. Те, которые любят женщин, и те, которые их ненавидят. Ты, по ее словам, принадлежал к первому виду. Она считала, что женщины скорее прощают бабников, относящихся к твоему виду, более склонны относиться к ним с пониманием и даже покровительственно. И если ты бабник именно такого вида, менее вероятно, что обиженная тобою женщина будет испытывать желание тебе отомстить.
Разумеется, говорила она, такому бабнику лучше быть человеком искусства или иметь какое-то другое возвышенное призвание.
Или быть чем-то вроде изгоя, живущего вне закона, подумала тогда я. Это привлекательнее всего.
ВОПРОС. От чего зависит, к какому виду относится бабник: к первому или ко второму?
ОТВЕТ. Разумеется, все дело в матери.
Но ты сделал одно предсказание: «Если я продолжу преподавать, раньше или позже это кончится плохо».
Я тоже этого боялась. Ты был одним из моих друзей, относящихся к типу Льюри: безрассудных, распутных мужчин, готовых рискнуть карьерой, средствами к существованию, своим браком — иными словами, всем. (Что касается вопроса почему они рискуют, если ставки столь высоки, то я могу объяснить это только одним: таковы мужчины.)
Сколько из всего этого известно твоей третьей жене? И есть ли ей вообще до этого дело?
Я понятия не имею, и у меня нет ни малейшего желания это выяснять.
Словно подслушав мои мысли, она говорит:
— Разрешите мне сказать вам, почему я хотела с вами поговорить. — От этих слов сердце почему-то начинает учащенно биться. — Это насчет пса.
— Насчет пса?
— Да. Я хотела спросить вас, не возьмете ли вы его.
— Возьму его?
— Да, не возьмете ли вы его к себе.
Ничего подобного я от нее не ожидала. Я чувствую облегчение и досаду — то и другое в равных долях.
— Я не могу этого сделать, — говорю я ей. — В моем многоквартирном доме не разрешают держать собак.
Она бросает на меня недоверчивый взгляд, затем спрашивает, говорила ли я об этом когда-нибудь тебе.
— Не знаю. Не помню.
Немного помолчав, она спрашивает меня, знаю ли я историю о том, как к тебе попал этот пес. По какой-то непонятной причине я качаю головой и даю ей возможность рассказать мне историю, которую я уже знаю. Когда ты решил оставить пса у себя, вы с ней крупно поругались. Такое красивое животное — и как она может не испытывать жалости к этому бедолаге, которого бросили на произвол судьбы? Но она не любит собак, никогда не любила, и этот пес — нет, он не плохой, он очень даже хороший, но он занимает слишком много места. Она сказала тебе, что отказывается брать на себя хоть какую-то часть ответственности за него — например, тогда, когда тебе будет надо уехать из города.
— Я умоляла его отдать его кому-нибудь еще, и тогда в разговоре всплыло ваше имя.
— В самом деле?
— Да.
— Но мне он ничего об этом не говорил.
— Это потому, что на самом деле ему хотелось оставить пса себе. И в конце концов он взял меня измором. Но несколько раз он упоминал в этой связи ваше имя. Она живет одна, у нее нет ни партнера, ни детей, ни домашних питомцев, она в основном работает дома и любит животных — вот что он сказал.
— Он так и сказал?
— Я бы не стала этого выдумывать.
— Нет, я не это хотела спросить — просто я удивлена. Как я уже сказала, он ничего мне об этом не говорил, и я никогда даже не видела этого пса. Я и, правда, люблю животных, но у меня никогда не было собаки. Только кошки. Я предпочитаю кошек. Но как бы то ни было, я не могу его взять. Так записано в моем договоре аренды.
— Да, вы говорили. — Ее голос дрожит. — Что ж, тогда я не знаю, что делать. — Ее плечи бессильно опускаются. За последнее время она многое пережила.
— Наверняка есть много людей, которые захотели бы взять к себе такого прекрасного породистого пса.
— Вы так думаете? Вероятно, так бы оно и было, будь он щенком. Но как вы и сами знаете, у большинства людей, которые хотят иметь собаку, она уже есть.
Неужели в ее семье нет никого, кто мог бы взять к себе этого пса, спрашиваю я.
Похоже, этот вопрос вызывает у нее раздражение.
— У сына и его жены только что родился ребенок. Они не могут взять в свой дом гигантского чужого пса.
Что касается ее падчерицы, то это тоже невозможно.
— Она проводит столько времени в полевых условиях, что у нее даже нет постоянного адреса.
— Уверена, что кто-нибудь все-таки найдется, — говорю я. — Давайте, я поспрашиваю.
Но, по правде сказать, я не очень-то надеюсь на успех. Она права. Те, кто хочет иметь собаку, ее уже имеют. И у любого из тех, о ком я думаю, если и нет собаки, то есть, по меньшей мере, одна кошка или один кот.
— А сами вы точно никак не можете оставить его у себя? — спрашиваю я, умалчивая, однако, о том, что, по моему твердому мнению, именно так она и должна поступить.
— Я рассматривала такую возможность, — уточняет она, но, по-моему, ее слова звучат неубедительно. — Ведь это было бы не навсегда. Доги живут недолго, возможно, от шести до восьми лет, а ветеринар сказал, что Аполлону уже около пяти. Но, по правде, я никогда не хотела, чтобы он жил со мной и особенно не хочу этого сейчас. Если бы я все-таки оставила его у себя, я уверена, что в конце концов я бы начала испытывать злость. А я не хочу с этим жить. Всегда испытывать это чувство, которое еще больше бы осложнило те и без того сложные чувства, которые… — Которые вызываете у меня вы — вот что она хочет сказать, но не говорит. — Это было бы уже слишком.
Я киваю, чтобы показать, что я, правда, ее понимаю.
— К тому же я собиралась скоро уйти на покой. И теперь, когда я стала жить одна, думаю, мне захочется больше путешествовать. И я не хочу, чтобы меня привязывал к месту какой-то пес, которого я вообще никогда не хотела у себя держать.
Я киваю. Я действительно ее понимаю.
Кто-то посоветовал ей связаться с частными приютами для собак, в которых им подыскивают новую семью и держат, не усыпляя, но у всех таких приютов, которые она обзвонила, были длинные листы ожидания. Ей было больно думать о том, что бы ты почувствовал, если бы она отдала твоего любимого пса человеку, которого она совершенно не знает, или в муниципальный приют, где, если его в течение определенного времени никто не возьмет, он будет усыплен. — Но, возможно, мне придется это сделать. Не может же он весь остаток своей жизни провести в гостинице для собак. Ведь это кроме всего прочего, стоит мне целого состояния.
— Вы поместили его в гостиницу для собак?
— Да, я поместила его в такую гостиницу, — говорит она, недовольная моим тоном, — потому что не знала, что еще могла бы сделать. Невозможно объяснить собаке, что ее хозяин умер. Этот пес просто не мог понять, что его папочка больше никогда не придет домой. Он сидел у входной двери и ждал день и ночь. Какое-то время он даже отказывался есть, и я боялась, что он умрет от голода. Но хуже всего было то, что время от времени он издавал этот ужасный звук — он выл. Это был звук не громкий, но странный, как будто стонал призрак или еще какое-то жуткое существо в этом роде. Он все выл и выл. Я пыталась отвлечь его собачьим лакомством, но он всякий раз отворачивался от него. Один раз он даже зарычал на меня. Иногда он выл ночью. От этого воя я просыпалась и больше не могла заснуть. Я лежала в кровати, слушая его, пока мне не начинало казаться, что еще немного — и я сойду с ума. И каждый раз, когда мне удавалось взять себя в руки, я снова видела, как он ждет своего хозяина под дверью, или он опять начинал голосить, и я снова расклеивалась. Мне необходимо было убрать его из дома. А теперь, когда я его выгнала, было бы жестоко по отношению к нему возвращать его в тот же самый дом. Я не могу себе представить, что он мог бы снова почувствовать себя здесь счастливым.
Я вспоминаю историю Хатико, пса породы акита, который приходил каждый день на токийскую станцию «Шибуя», чтобы встретить своего хозяина, возвращающегося с работы — пока однажды этот мужчина внезапно не умер и Хатико пришлось прождать его напрасно. Но на следующий день и каждый день после этого на протяжении почти десяти лет пес продолжал приходить на станцию, встречая поезд в урочный час.
Никто так и не смог объяснить Хатико, что такое смерть. Люди смогли только превратить его имя в легенду, поставив ему памятник и все еще воспевая ему хвалы даже сейчас, почти сотню лет спустя.
Как это ни невероятно, история Хатико — это не рекорд. Фидо, пес из города в окрестностях Флоренции в Италии, прождал своего хозяина четырнадцать лет (тот погиб под бомбежкой во время Второй мировой войны) на автобусной остановке, куда он обычно приезжал после работы. А до Хатико был Бобби, скай-терьер, который каждую ночь последних четырнадцати лет своей жизни проводил у могилы хозяина, умершего в 1858 году и похороненного на кладбище Грейфрайерз в Эдинбурге, Шотландия. Интересно, что люди всегда рассматривали подобное поведение собак как проявление крайней преданности, а не крайней глупости или какого-либо другого психического отклонения. Лично я сомневаюсь в правдивости сообщений из Китая о какой-то собаке, якобы утопившейся от горя. Но именно из-за подобных историй я всегда предпочитала держать у себя не собак, а кошек.
— Что если бы вы взяли его к себе хотя бы на время? Даже это очень бы ему помогло. Ваша компания-домовладелец не стала бы возражать, если бы пес пожил у вас всего лишь неделю…
Дело не только в домовладельце, возражаю я. Моя квартира просто крошечная. Псу такого размера в ней было бы негде даже повернуться.
— О, но это же сторожевой пес. Ему, конечно, нужна физическая нагрузка, но не в такой мере, как другим породам собак. Даже если спустить его с поводка, он не отошел бы от вас далеко. И, как вы убедитесь сами, он очень послушен. Он знает все команды. Когда не положено, он не лает. Он не грызет вещи, не причиняет неприятностей. И не пытается залезать на кровать.
— Я уверена, что так оно и есть, но…
— Всего лишь несколько месяцев назад он прошел ветеринарный осмотр. Он здоров, если не считать некоторых проявлений артрита, которыми очень часто страдают большие собаки его возраста. И ему, естественно, были сделаны все необходимые прививки. О, я понимаю, что прошу вас о большом одолжении, но мне действительно хочется хотя бы на время забрать бедолагу из этой чертовой гостиницы для собак! Но если я приведу его обратно в дом, клянусь, что он проведет остаток жизни, ожидая своего хозяина под дверью. А он заслуживает чего-то лучшего, вам так не кажется?
Да, думаю я, и у меня разрывается сердце.
Нельзя объяснить собаке, что такое смерть.
А собака, продолжающая любить, заслуживает лучшей участи.
Часть 2
В основном он меня игнорирует. Он мог бы с таким же успехом жить здесь один. Иногда он встречается со мною взглядом, но сразу же отворачивается опять. Его большие карие глаза кажутся на удивление похожими на человечьи; они напоминают мне твои глаза. Я помню, как один раз, когда мне пришлось уехать из города, я оставила кошку у бойфренда. Он не был любителем кошек, но потом он рассказывал мне, как ему нравилось держать ее у себя, потому что, как сказал он, я скучал по тебе, а держа при себе ее, я чувствовал себя так, будто со мною продолжает находиться часть тебя.
Держать у себя твоего пса — это то же самое, что иметь при себе часть тебя.
Выражение его глаз не меняется. Наверное, такое же выражение было во взгляде пса Бобби, который день за днем лежал на кладбище Грейфрайерз на могиле своего хозяина. Я еще ни разу не видела, чтобы он вилял хвостом. (Хвост у него не обрезан, хотя уши купированы — к сожалению, неровно, так что одно ухо немного больше другого. К тому же он кастрирован.)
Он не пытается залезать на кровать.
Если он начнет залезать на мебель, заверила твоя третья жена, достаточно сказать ему «Лежать».
С тех пор, как он переехал ко мне, он большую часть времени проводит на кровати.
В первый день, обнюхав мою квартиру — обнюхав вяло, без малейших признаков интереса или любопытства, — он залез на кровать и разлегся на ней.
Я так и не смогла произнести команду «лежать».
Я подождала, пока не пришло время ложиться спать. Днем он съел миску сухого корма и позволил мне себя прогулять, но он сделал это, по-прежнему не обращая внимания на то, что происходит вокруг и даже не замечая этого. Его не заинтересовал даже вид другой собаки. (Однако сам он неизменно привлекает внимание. Надо будет к этому привыкнуть, приноровиться к тому, что ты являешься предметом постоянного внимания, что тебя и его постоянно фотографируют на телефон и все время спрашивают: «Сколько он весит? Сколько он ест? Вы не пробовали кататься на нем верхом?») Во время первой прогулки со мной он постоянно ходил, опустив голову, словно какое-нибудь вьючное животное. А вернувшись домой, сразу же запрыгнул на кровать.
Это изнеможение от горя, — подумала я. Ибо я была уверена, что он все понял. Он умнее тех других собак. Он понимает, что ты ушел навсегда. Он понимает, что уже никогда не вернется в твой особняк.
Иногда он лежит на кровати, растянувшись во всю свою длину и глядя на стену. Прошла уже неделя, как он живет у меня, а я все еще чувствую себя скорее его тюремщиком, чем человеком, заботящимся о нем. В первую ночь, когда я позвала его по имени, он поднял свою громадную голову, повернул ее и искоса на меня посмотрел. Когда я подошла к кровати, и мое намерение согнать его с нее стало очевидно, он сделал то, о чем я не могла даже помыслить — он на меня зарычал.
Другие люди изумлялись тому, что это меня не испугало. Неужели мне не пришло в голову, что в следующий раз одним рычанием дело не обойдется? Нет, я никогда об этом не думала.
Я была не совсем правдива, говоря твоей третьей жене, что у меня никогда не было собаки. Мне не раз приходилось делить жилище с человеком, у которого имелась собака. Однажды это была помесь дога с немецкой овчаркой. Так что нельзя сказать, что у меня вообще не было опыта общения с собаками, с большими собаками или с этой конкретной породой. И я, разумеется, знала, как страстно животные этого вида привязываются к людям, даже если они не заходят в своей любви так далеко, как Хатико и ему подобные. Кто не знает, что собака — это олицетворение преданности? И именно из-за этой инстинктивной преданности собак людям, даже тем, кто ее не заслуживает, я отдала предпочтение кошкам. Потому что лучше иметь домашнего питомца, который сможет прожить и без меня.
Я не солгала твоей третьей жене, когда сказала, что моя квартира крошечная — в ней едва будет пятьсот квадратных футов[21]. В ней две почти одинаковые по размеру комнатки, малюсенькая кухня и ванная, такая узкая, что Аполлон может войти в нее только передом, а выйти, только пятясь задом. В стенном шкафу спальни я держу надувной матрас, купленный несколько лет назад, когда у меня гостила сестра.
Я просыпаюсь в середине ночи. Мои шторы раздвинуты, луна стоит высоко, и в ярком потоке ее света я вижу большие блестящие глаза пса и его похожий на крупную сочную сливу нос. Я неподвижно лежу на спине, вдыхая едкий запах его дыхания. Мне кажется, что так проходит долгое время. Каждые несколько секунд на мою щеку падает капля слюны с его языка. В конце концов он кладет массивную лапу размером с мужской кулак мне на грудь. Это тяжелый груз — как дверной молоток, которым стучат в дверь замка. Я не говорю, не двигаюсь и не пытаюсь его приласкать. Должно быть, он чувствует биение моего сердца. Меня посещает ужасающая мысль, что он может решить придавить меня всем своим весом, ибо я вспоминаю репортаж в новостях о верблюде, который прикончил погонщика, искусав и излягав его и в конце концов сев на него, и как спасатели сдвинули этого верблюда с его тела только с помощью привязанного к животному пикапа.
Наконец он убирает лапу. И тут же тыкается носом в изгиб моей шеи. Это безумно щекотно, но я сдерживаюсь. Он обнюхивает всю мою голову и всю шею, затем ведет носом по всему краю моего тела, иногда тыкая меня носом так сильно, словно ему хочется добраться до чего-то, находящегося подо мной. Наконец, оглушительно чихнув, он снова ложится на кровать, и мы оба вновь погружаемся в сон.
Это происходит каждую ночь: на несколько минут я становлюсь предметом, привлекающим его обостренное внимание. Но днем он продолжает жить в своем мире и по большей части игнорирует меня. В чем же дело? Я вспоминаю кошку, которую когда-то держала — она ни разу не дала мне погладить себя или подержать на коленях, но как только я засыпала, она ложилась на мое бедро и спала там.
Правда и то, что в многоквартирном доме, где я живу, не разрешается держать собак. Я помню, что, подписывая договор долгосрочной аренды, не придала этому никакого значения.
У меня тогда были две кошки, но мысли не было заводить еще и щенка. Владелец дома живет во Флориде, и я с ним не знакома. Управляющий живет в соседнем здании, которым владеет тот же человек, которому принадлежит и мой дом. Эктор родился в Мексике и находился там на свадьбе своего брата в тот день, когда я привезла Аполлона домой. В тот день, когда он вернулся, он сразу же наткнулся на нас, когда мы выходили на прогулку. Я поспешила объяснить ему ситуацию: хозяин пса умер внезапно, взять его было некому, кроме меня, и он останется на время. Это объяснение казалось тогда абсолютно правдоподобным, и мне и в голову не приходило, что я пойду на риск потерять квартиру на Манхэттене со стабильной арендной платой, квартиру, за которую я держалась более тридцати лет, оставляя ее за собой, даже когда выезжала из Нью-Йорка, например, ради того, чтобы преподавать в каком-нибудь университете.
— Вы не можете держать здесь это животное, — заявил мне Эктор. — Даже временно.
Одна моя подруга рассказала мне о требованиях закона: если квартиросъемщик держит в своей квартире собаку три месяца и за все это время домовладелец не предпринимает юридических действий, чтобы выселить его, то квартиросъемщик может продолжать держать у себя эту собаку и выселить его за это будет уже нельзя. Мне это тогда показалось невероятным, но закон, касающийся содержания собак в нью-йоркских многоквартирных домах, действительно содержит такое положение.
При этом оговаривается, что нахождение собаки в доме должно быть открытым и скрывать его нельзя.
Нет нужды говорить, что скрывать этого пса было невозможно. Я вывожу его гулять по нескольку раз на дню. Он стал местной достопримечательностью. Пока что никто из жильцов здания не подал на него жалобы, хотя, увидев его в первый раз, некоторые были удивлены и испуганы, а иные даже робко пятились, и после того, как одна женщина отказалась садиться вместе с нами в один тесный лифт, я решила, что мы всегда будем подниматься и спускаться по лестнице. (Когда он вприпрыжку бежит вниз по пяти лестничным маршам, это комичное зрелище, но это единственный случай, когда он кажется неуклюжим).
Если бы он имел привычку лаять, жалоб наверняка было бы немало. Но он удивительно — и даже настораживающе — безмолвен. Поначалу я беспокоилась по поводу воя, о котором мне рассказывала твоя третья жена, но пока что я его так и не слышала. Интересно, может быть, он больше не воет, поскольку сделал вывод, что его выгнали из особняка в собачью гостиницу именно из-за воя? Возможно, это предположение и натяжка, но мне кажется, что раз он больше не воет, это может объясняться тем, что он оставил надежду когда-либо увидеть тебя вновь.
— Вы не можете держать здесь это животное. (Он всегда произносит это животное, так что иногда я даже начинаю гадать: знает ли он вообще, что это собака?) Мне придется сообщить о нем.
Не думаю, что твоя третья жена говорила неправду, когда сказала мне, что Аполлон приучен не залезать на кровать. Она просто предположила, что он приспособится к коренному изменению окружающей его обстановки, не изменившись при этом сам. Так что я не слишком удивилась, обнаружив, что она была не права.
Я знала одну кошку, хозяйке которой пришлось отдать ее в другие руки, когда у сына развилась аллергия на чешуйки кошачьей кожи. Эту кошку передавали из одного временного дома в другой (мой был одним из них) пока ей подыскивали постоянное пристанище. Она смогла пережить два или три переезда, но после еще одного перестала быть самой собой. Она стала как выжатый лимон, сделалась такой нервной, что никто уже не мог ужиться с ней, и тогда первоначальная хозяйка велела ее усыпить.
Они не кончают с собой. Не плачут. Но они могут сломаться и иногда ломаются. У них может разбиться сердце, и иногда это происходит. Они могут потерять рассудок и иногда теряют его навсегда.
Однажды вечером, придя домой, я обнаружила, что мое рабочее кресло лежит на боку, а большая часть того, что лежало на письменном столе, валяется на полу. Аполлон изжевал целую пачку бумаг. (Теперь я могла бы совершенно честно сказать студентам: вашу домашнюю работу изжевала собака.) Я вышла из дома, чтобы выпить в компании другого преподавателя, и мы задержались в баре. Меня не было часов пять, и раньше я никогда не оставляла его так надолго. Пол усыпан поролоном из диванной подушки, и книга Кнаусгора[22] в толстой бумажной обложке, которую я оставила на журнальном столике, разодрана в клочки.
Мне говорят: вам достаточно связаться по Интернету с группами любителей догов, и вы найдете кого-нибудь, кому можно будет его отдать. Но если вас выселят из вашей квартиры, вы уже не сможете найти себе квартиру, за которую сможете платить, во всяком случае, не в Нью-Йорке. Собственно говоря, с таким соседом вам будет вообще трудно найти квартиру где бы то ни было.
Я продолжаю фантазировать на тему серий «Лесси»[23]. Вот Аполлон расстраивает планы домушников, пытающихся пробраться в квартиру. Вот Аполлон спасает жильцов, отрезанных огнем. Вот Аполлон защищает маленькую дочку управляющего от педофила.
— Когда же вы избавитесь от этого животного? Он не может оставаться в доме. Мне придется о нем сообщить.
Эктор не плохой человек, но его терпение на исходе. И ему даже не надо говорить мне об этом: я знаю, что он может лишиться работы.
Один из моих друзей, очень мне сочувствующий, уверяет меня, что в Нью-Йорке домовладельцу может понадобиться уйма времени, чтобы выселить квартиросъемщика. Так что тебе не придется ночевать на улице, успокаивает он меня.
Дочитав до этого момента, некоторые люди начинают волноваться: не случится ли с догом чего-то дурного?
Если погуглить Интернет, можно прочитать, что дог — это Аполлон среди собак. Я не знаю, поэтому ли ты выбрал для него такую кличку, или же это было совпадение, но на каком-то этапе ты, скорее всего, узнал об этом, так же, как узнала об этом я. Со временем я также выяснила, что Аполлон — это не такой уж редкий выбор имени для собаки или какого-то другого домашнего питомца. Другие факты: откуда произошла эта порода, точно не известно. Считается, что их ближайший родич — это мастиф. И зря в англоязычных странах их называют датскими догами — так их назвал неправильно информированный французский натуралист по фамилии Бюффон, живший в восемнадцатом веке, в то время как в Германии, с которой в основном и ассоциируется эта порода, таких собак называют DeutscheDogge, или немецким мастифом.
Отто фон Бисмарк обожал догов; красный барон Манфред фон Рихтгофен[24] сажал своего дога к себе в биплан. Сначала этих собак использовали для охоты на вепрей, потом для сторожевой службы. И все же, несмотря на то что их вес может достигать двухсот фунтов, а рост, если они встают на задние лапы, может доходить до семи футов, они известны не свирепостью или воинственностью, а ласковым нравом, спокойствием и эмоциональной уязвимостью.
Аполлон среди собак. Названный в честь самого греческого из всех богов Олимпа.
Мне нравится твое имя. Но даже если бы оно мне не нравилось, я бы не стала его менять. Несмотря на то что знаю: когда я произношу его имя и он отзывается — если он отзывается — скорее всего, он делает это в ответ на мой голос и тон, а не на само это слово.
Иногда я, как это ни глупо, начинаю гадать, каково его «настоящее» имя. Собственно говоря, за свою жизнь он мог сменить несколько имен. Впрочем, какая разница, какое имя у собаки? Если бы мы так и не дали домашнему питомцу имени, ему или ей это было бы все равно, но нам самим бы чего-то не хватало. У нее нет имени, говорят иногда о подобранной бездомной кошке, так что мы называем ее просто Киской. И все-таки это какое-никакое, а имя.
Мне нравится думать о том, что задолго до того, как свое мнение по этому вопросу выразил Т. С. Элиот[25], Сэмюэль Батлер[26] заявил, что выбрать имя для кота — это один из самых трудных тестов на воображение.
И как не вспомнить твою собственную вызывающую безудержный хохот мысль:
— Разве было бы не проще, если бы мы просто назвали каждого кота и кошку Паролем?
Я знаю людей, которые резко возражают против того, чтобы вообще давать домашним животным имена. Они принадлежат к той же категории, как и те, кому не нравится само понятие «домашний любимец». Им совсем не нравится и слово «владелец», а от слова «хозяин» они вообще впадают в ярость. Таких людей раздражает само понятие господства — господства над животными, которое человечество со времен Адама считало своим правом и которое, с их точки зрения, всегда было самым настоящим порабощением.
Когда я сказала, что собакам предпочитаю кошек, я вовсе не имела в виду, что кошки нравятся мне больше. Эти два вида животных нравятся мне примерно одинаково. Но даже если оставить в стороне тот факт, что слепая собачья преданность выбивает меня из колеи, мне претит мысль о доминировании над животным. А между тем, даже если вам кажется нелепым называть владельцев собак рабовладельцами, невозможно отрицать тот факт, что собаки, как и другие прирученные животные, выведены специально для того, чтобы подчиняться людям, для того чтобы делать то, что нужно людям и для того, чтобы люди могли их использовать.
Но это не относится к кошкам.
Все знают, что первое, что Адам сделал с животными, которых Бог слепил из только что сотворенной Им земли — и это впервые ознаменовало его господство над ними, — это дал каждому из них название. И иные утверждают, что до того, как Адам присвоил животным их названия, эти животные вообще не существовали.
У Урсулы К. Ле Гуин[27] есть одно произведение, в котором некая женщина, не названная по имени, но явно являющаяся подругой Адама, Евой, берется за то, чтобы свести на нет последствия поступка Адама: она убеждает всех животных расстаться с данными им именами. (При этом кошки утверждают, что никогда их и не принимали.) После того как все животные становятся безымянными, женщина чувствует, что все стало по-другому: пала стена, исчезло расстояние между животными и ею, они стали едины и равны. Теперь, когда их не разделяют названия, нельзя больше отличить охотника от предмета охоты, едока от еды. Следующим неизбежным шагом Евы было вернуть Адаму то имя, которое дал ей он и его отец, оставить Адама и присоединиться ко всем остальным существам, которые, приняв свою безымянность, освободились от оков. Однако для Евы, единственной из всех живых существ, этот поступок означал также и отказ от речи, которая объединяла ее с Адамом. Но ведь, говорит она, одной из причин, побудившей ее сделать то, что она совершила, было то, что все их разговоры всегда заканчивались ничем.
По-видимому, Аполлона научили повиноваться людям еще в раннем возрасте — так, по словам твоей третьей жены, сказал ветеринар. Судя по его поведению, он был научен общаться как с людьми, так и с другими собаками. На его теле не было следов какого-то по-настоящему жестокого обращения. Но с другой стороны, эти уши: его отдали в руки какого-то мясника, который купировал их не только неровно, но и слишком коротко. Из-за этих остроконечных маленьких ушек на его огромной голове он казался менее царственным и выглядел более злым, чем на самом деле, но они являлись только одной из особенностей, из-за которых он был негоден для того, чтобы принимать участия в выставках.
Кто мог сказать, каким образом он оказался в парке, будучи чистым, достаточно упитанным, но не имеющим ни ошейника, ни регистрационного номера, ни бирки с именем и данными владельца? По словам ветеринара, такая собака ни за что бы не убежала от своего хозяина или хозяйки, разве что произошло нечто в высшей степени необычное. Однако его не только никто не разыскивал, но никто даже не заявил в полицию, что видел его прежде. Что означало, что он, возможно, явился откуда-то издалека. Был ли он похищен? Не исключено. Ветеринар не слишком удивился, узнав, что сам факт его существования, похоже, нигде не зафиксирован. Есть великое множество собак, сказал он, владельцы которых не позаботились о том, чтобы обратиться за получением на них регистрационного свидетельства, а в случае, если собака породистая, зарегистрировать ее в Американском клубе собаководства.
Возможно, владелец этого пса потерял работу и больше не мог позволить себе покупать корм и оплачивать услуги ветеринара. Конечно, трудно поверить, что человек, у которого он прожил всю жизнь, просто так выбросил его на улицу, оставив на произвол судьбы. Но, сказал ветеринар, подобные случаи не так редки, как можно было бы подумать. А может быть, случилось так, что он действительно был похищен, но, узнав, что его нашли, владелец решил, что без этого пса ему будет лучше. Жить без него стало легче, так пусть теперь о нем заботится кто-то другой! Ветеринар видел и такое. (Видела такое и я сама: несколько лет назад сестра и ее муж купили второй дом за городом. У тех, кто его им продал, чтобы перебраться во Флориду, была старенькая дворняжка. Они сказали, что она жила с ними со щенячьего возраста и была членом их семьи. Однако когда сестра и ее муж приехали в свое новое жилище, их там встретила эта самая собака, оставленная своими предыдущими хозяевами в одиночестве в пустом доме.)
Быть может, хозяин Аполлона умер, и его выбросил на улицу тот или та, кому он достался по наследству.
Скорее всего, мы никогда не узнаем, откуда он взялся. Но ты сказал мне одну вещь: то мгновение, когда ты поднял взгляд и увидел его, такого величественного на фоне летнего неба, то мгновение было таким волнующим и необыкновенным, что ты почти поверил, что этот пес возник здесь с помощью волшебства. Что он был сотворен колдуньей, как те гигантские собаки в сказке Андерсена.
Часть 3
Вместо того, чтобы писать о том, что вы знаете, говорил ты нам, пишите о том, что вы видите. Исходите из предпосылки о том, что вы знаете очень мало и никогда не будете знать много, пока не научитесь видеть. Записывайте то, что вы видите, в записную книжку, например тогда, когда находитесь на улице.
Я давно уже перестала вести какие-либо записи или дневник. В наши дни на улице я очень часто вижу бездомных или тех, кто выглядит таким неимущим, что я прихожу к выводу, что и они не имеют дома. Однако нет ничего необычного в том, чтобы увидеть у такого бездомного мобильный телефон. И, если я не ошибаюсь, все больше и больше бездомных обзаводятся какими-то животными.
Там, где Бродвей переходит в улицу Астор-Плейс, я видела собаку, сидевшую в одиночестве в окружении человеческих пожиток: доверху набитого рюкзака, нескольких книг в бумажных обложках, термоса, спального мешка, будильника и нескольких контейнеров для еды из вспененного полистирола. Именно отсутствие человека делало эту сцену такой невыносимо душераздирающей.
Я видела пьяного, валявшегося в собственной моче у дверного проема. На нем была футболка с надписью: «Я архитектор своей собственной судьбы». Неподалеку от него сидел попрошайка с написанной от руки табличкой: «Когда-то и я был кем-то». В книжном магазине я видела человека, который ходил от стола к столу, кладя руку то на одну книгу, то на другую, но не рассматривая и не открывая ни одной из них. Какое-то время я следовала за ним, гадая, какую же книгу этот метод побудит его купить, но он так и ушел из магазина с пустыми руками. А вот кое-что, чего я не видела, но непременно увидела бы, заверни я за угол несколькими минутами раньше: из окна офисного здания выпрыгнул человек. К тому времени, когда я подошла к месту падения, тело уже было накрыто. Позднее я смогла выяснить только одно — это была женщина под шестьдесят. Она прыгнула незадолго до полудня в погожий осенний денек в квартале, где всегда бывает много народа. Интересно, как она рассчитала свой прыжок, чтобы не задеть никого из прохожих? Или же ей просто… нам всем просто… повезло?
Граффити на Дворце философии в кампусе Колумбийского университета: «Изученная жизнь так же не стоит того, чтобы ее проживать, как и неизученная».
Церемония вручения литературных премий, проводимая в частном клубе. Я выхожу из станции метро на Пятой авеню. До клуба надо пройти шесть кварталов. Я вижу двух человек, также только что вышедших из метро: женщину с виду за шестьдесят и сопровождающего ее мужчину вдвое моложе. Они могли бы направляться в миллион других мест, расположенных неподалеку, но мне кажется, что они идут туда же, куда и я. И я оказываюсь права. Что в них было такого, что заставило меня так думать? Не могу сказать. Для меня остается загадкой, почему людей, принадлежащих к литературным кругам, так легко узнать. Так, как-то раз, проходя мимо трех мужчин, сидевших в кабинке в ресторане в Челси, я признала в них коллег по литературному труду еще до того, как один из них сказал: «Это и есть главное достоинство пребывания в когорте авторов, пишущих для «Нью-Йоркера»[28].
В своем почтовом ящике я нахожу сигнальный экземпляр романа и письмо от его редактора: «Надеюсь, вы найдете этот роман таким же обманчиво глубоким, как и я».
Конспект лекции.
«Все писатели — чудовища». Анри де Монтерлан[29].
«Писатели вечно кого-то предают. [Писательство] — это агрессивный и даже враждебный акт… прием, используемый тем, кто по сути своей является хулиганом». Джоан Дидион[30].
«Каждому журналисту… известно… что то, что он делает, не имеет морального оправдания». Джанет Малколм[31].
«Любой писатель, хорошо знающий свое дело, понимает, что лишь небольшая часть литературы в какой-то мере компенсирует людям тот ущерб, который они понесли, научившись читать». Ребекка Уэст[32].
«Похоже, не существует лекарства от порочной склонности к сочинительству; те, кто страдает от нее, упорно отказываются бросить эту привычку, хотя она больше не приносит им никакого удовольствия». В. Г. Зебальд[33].
Всякий раз, видя свои книги в книжном магазине, он чувствовал себя так, словно ему что-то сошло с рук, писал Джон Апдайк[34].
Он также сказал, что, по его мнению, приятный человек не стал бы писателем.
Проблема неуверенности в себе.
Проблема стыда.
Проблема ненависти к самому себе.
Ты однажды выразил все это так: «Когда то, что я пишу, опостылевает мне настолько, что я бросаю это, а затем, позже, меня снова начинает неодолимо тянуть к тому, что я оставил, я всегда вспоминаю фразу из Библии: «Так пес возвращается на блевотину свою».
Если кто-нибудь спрашивает меня, что я преподаю, говорит один из моих коллег, почему я никогда не могу ответить «писательское мастерство», не испытав при этом чувства неловкости?
Индивидуальная беседа со студентом. Студент упоминает какой-то факт из своей жизни и говорит:
— Но вы это уже знали.
— Нет, — отвечаю я, — не знала.
Студент, похоже, раздосадован ответом.
— Разве вы не прочли мой рассказ?
И я объясняю, что никогда автоматически не рассматриваю литературное произведение в качестве автобиографического. А когда я спрашиваю его, почему он считает, что мне следовало понять, что он пишет о себе, он озадаченно смотрит на меня и говорит:
— А о ком еще мне было писать?
Одна моя подруга, работающая сейчас над мемуарами, заявляет: «Мне не нравится думать, что писательский труд — это своего рода очищение души, потому что мне кажется, что если подходить к делу именно так, то хорошей книги не написать».
«Не стоит надеяться, что с помощью сочинительства можно обрести утешение в горе», — предостерегает Наталия Гинзбург[35].
Но обратимся затем к Исак Динесен[36], которая считала, что можно сделать горе терпимым, если написать о нем рассказ.
«Полагаю, я сделала для себя то, что психоаналитики делают для своих пациентов. Я выразила на бумаге некую эмоцию». Вирджиния Вулф пишет о своей матери, мысли о которой неотступно преследовали ее с тринадцати лет (когда ее мать умерла) до сорока четырех, когда «в большой и явно непроизвольной спешке» она написала роман «На маяк». После этого ее одержимость мыслями о матери прошла: «Теперь я больше не слышу ее голоса и не вижу ее».
ВОПРОС. Зависит ли сила катарсиса от качества того, что ты пишешь? И если человек достигает катарсиса, то есть очищения души с помощью написания книги, имеет ли значение, хорошая у него получилась книга или плохая?
Моя подруга также пишет о своей матери.
Писатели любят цитировать Милоша[37]: «Когда в какой-нибудь семье рождается писатель, этой семье приходит конец».
После того как я вывела в одном из написанных мною романов мою мать, она мне этого так и не простила.
А Тони Моррисон[38] называла списывание персонажа с реального человека нарушением авторских прав. Жизнь человека принадлежит ему одному, говорила она. И кто-то другой не имеет права использовать ее в художественной литературе.
В книге, которую я читаю сейчас, автор говорит о людях слов, противопоставляя их людям кулаков. Как будто слова не могут быть также и кулаками. И часто не превращаются именно в кулаки.
Одна из ключевых тем творчества Кристы Вольф[39] — это опасение, что написать о каком-нибудь человеке — это способ его убить. Превращение истории чьей-то жизни в литературное произведение — это похоже на превращение этого человека в соляной столп. В автобиграфическом романе она описывает свой детский ночной кошмар, который снился ей снова и снова: ей снилось, что она убивает отца и мать, написав о них. Стыд от того, что она пишет книги, преследовал ее всю жизнь.
Интересно, сколько психоаналитиков сделали для своих пациентов столько же, сколько Вирджиния Вулф сделала для себя?
— Можно сколько угодно развенчивать идеи Фрейда, — сказал как-то ты. — Но нельзя отрицать, что он был великим писателем.
— Да был ли Фрейд реальным человеком, существовал ли он на самом деле? — как-то задал вопрос один студент.
И, разумеется, термин «писательский ступор» придумал не кто иной, как еще один психоаналитик. Эдмунд Берглер был, как и Фрейд, австрийским евреем. Согласно Википедии, он полагал, что первопричиной всех неврозов является мазохизм и что единственное явление, которое еще хуже жестокости человека по отношению к другому человеку, это жестокость человека по отношению к самому себе.
(Но писательнице достается двойная доза мазохизма, сказала Эдна О’Брайен[40]: мазохизм, свойственный женщине, и мазохизм, свойственный человеку искусства.)
Я получила приглашение вести занятия по обучению писательскому мастерству в лечебном центре для жертв торговли людьми. Женщина, которая предложила эту работу, была мне знакома: когда-то в колледже мы с ней были подругами. В то время она тоже хотела стать писательницей, но вместо этого стала психологом. Все последние десять лет она проработала в этом лечебном центре, который был связан с крупной психиатрической лечебницей, до которой из Манхэттена можно было быстро доехать на автобусе. Женщины, с которыми она работала, хорошо поддавались изотерапии, то есть терапии изобразительным искусством. (Впоследствии мне предстояло увидеть некоторые из сделанных ими рисунков, и я нашла их шокирующими.) Она полагала, что писать для этих женщин было бы еще полезнее, чем рисовать, поскольку это очень помогало другим психологически травмированным пациентам, в частности, ветеранам войн, у которых был посттравматический синдром.
Я хотела поработать в этом центре. Хотела послужить обществу, оказать услугу старой подруге и еще потому, что я писатель.
Я сразу подумала о молодой женщине с причудливыми пирсингом и татуировками, с которой познакомилась несколько месяцев назад на писательских групповых занятиях, которые я вела во время летней конференции. Эти занятия были посвящены художественной литературе, хотя то, что писала она, было ближе к мемуарам — назовите это автобиографическим произведением, или реалити-прозой, или как угодно еще, — это была рассказанная от первого лица история Ларетты, девушки, ставшей жертвой торговли женщинами.
То, что она писала, было хорошо по трем основным причинам: там не было сентиментальности, не было жалости к себе и там присутствовало чувство юмора. (Если последнее кажется вам невероятным, то попробуйте вспомнить хоть одну хорошую книгу, в которой, какой бы мрачной ни была ее тема, не было бы чего-нибудь смешного. Как сказал Милан Кундера[41], мы чувствуем, что можем доверять тому или иному человеку именно потому, что у него есть чувство юмора.) Это была одна из историй жизни, которую пришлось несколько смягчить, чтобы читателю было не так трудно поверить в ее правдивость. (Читатели были бы удивлены, узнай они, как часто писателям приходится проделывать такие вещи.) Эта девушка провела два года в реабилитационном центре, борясь с пристрастием к наркотикам, стыдом и искушением сбежать обратно к сутенеру, имя которого было вытатуировано на ее теле в трех различных местах. Позднее она поступила в окружной двухгодичный колледж, где впервые и записалась на курс писательского мастерства.
Как и многие из тех, с кем я встречалась, она считает, что занятие литературой спасло ей жизнь.
Ты всегда смотрел со скепсисом на писательство как способ работы над собой. Тебе нравилось цитировать Фланнери О’Коннор[42]: для широкой публики должны писать лишь те, у кого, есть литературный дар.
Но как редко мы встречаем людей, считающих, что то, что они пишут, должно оставаться их личным достоянием. И как часто встречаются такие, кто полагает, что написанное ими дает им право не только на внимание широкой публики, но и на славу.
Ты считал, что люди идут по неверному пути. По твоему мнению, то, к чему они стремятся — самовыражение, общность, контакты, — можно с большей вероятностью найти в других видах деятельности. Например, в хоровом пении или коллективных танцах. Или на посиделках, во время которых женщины совместными усилиями изготавливают стеганые лоскутные одеяла. Именно к таким занятиям люди и обратили бы свои взоры в прошлом, говорил ты. Ведь литературное творчество — это слишком трудное дело! Генри Джеймс[43] недаром сказал, что любой, кто хочет стать писателем, должен начертать на своем знамени только одно слово — одиночество. А Филип Рот[44] заметил, что литературный труд — это досада из-за ощущения собственного бессилия и унижение. Он сравнил его с бейсболом — «Две трети своего времени ты терпишь неудачу».
Такова истина, говорил ты. Но в наш век графоманов истина была утрачена. Теперь все пишут точно так же, как испражняются, а при словах «литературный дар» у многих рука тянется к пистолету. Развитие публикации опусов за свой собственный счет стало катастрофой. Стало смертью литературы. Что означало смерть культуры вообще. Гаррисон Киллор[45] был, по твоему мнению, совершенно прав: когда все становятся писателями, писателем уже не является никто. (Хотя это утверждение относится к тем, которых ты нам советовал остерегаться: звучит хорошо, но если надавить, рассыпается в прах.)
Ничто из вышеперечисленного не ново и кажется таковым только на первый взгляд.
«Написать что-то и добиться, чтобы это опубликовали — это становится все менее и менее необычным. И все спрашивают: «А почему так не могу и я?»
Это написал французский критик Сент-Бёв.
В 1839 году.
Ты не стал отговаривать меня от работы в лечебном центре для жертв торговли людьми. Думаю, сказал ты, это может быть очень тягостно, но это не будет скучно.
Вообще-то это была твоя идея, что мне надо будет написать об этом.
Женщинам в этом центре рекомендовали вести дневники.
— Это будут сугубо личные дневники, — сказала моя старая подруга-психолог. Некоторые из женщин были очень обеспокоены мыслью о том, что кто-то сможет прочитать то, что они написали, и ей пришлось уверять их, что этого не произойдет. Они могут писать о чем угодно, совершенно свободно, зная, что никто, кроме их самих, этого не прочтет. Даже она не будет этого читать. Она предложила тем, для кого английский был вторым языком, писать свои дневники на родном языке.
Некоторые из женщин тщательно прятали дневники, когда не пользовались ими, чтобы делать записи. Другие постоянно носили дневники с собой. Но было и несколько таких, которые настаивали на том, чтобы уничтожать то, что они написали либо сразу после того, как они сделали запись, либо вскоре после этого. И она говорила им, что можно и так.
Этих женщин просили писать каждый день хотя бы по пятнадцать минут, писать быстро, не задумываясь надолго и не отвлекаясь. Они писали от руки в тетрадях, которые предоставлял им центр (моя подруга верит результатам тех исследований, которые доказывают, что письмо от руки позволяет лучше сосредоточиться, а линованный лист бумаги больше подходит для раскрытия интимных подробностей и секретов, чем пустой компьютерный экран.)
Разумеется, среди женщин были и такие, кто отказывался вести дневник.
— Это те, кто злится на меня за то, что я ожидаю от них воспоминаний о том плохом, что с ними случилось, — объяснила моя подруга. — Ты должна понять, через что этим женщинам пришлось пройти. Для большинства из них жестокое обращение началось еще до того, как они были проданы в сексуальное рабство. («Наверное, я испытывала на себе насилие с самого своего рождения»). Некоторых из них подвергали опасности нарочно, а в иных случаях, нисколько этого не скрывая, даже продавали в рабство, члены их собственных семей. И хотя сейчас эти надругательства остались, это отнюдь не означает, что они не продолжают страдать. В какой-то момент я всегда спрашиваю их, что, по их мнению, самое лучшее из того, что могло бы с ними произойти, и могу сказать тебе, сколь многие из них говорят: думаю, самое лучшее для меня — это умереть.
Но было среди этих женщин и несколько таких, которые с радостью пристрастились к писательству, и они зачастую посвящали этому куда более пятнадцати минут в день. И моя подруга хотела дать этим женщинам возможность поучиться на настоящих занятиях по писательскому мастерству, где они были в безопасности и могли бы не только писать о том, что они пережили, но и делиться написанным друг с другом и со своим преподавателем. Среди тех, которые записались ко мне на курс, сказала она, я могу рассчитывать на определенный уровень знания английского, хотя не для всех из этих женщин он является родным языком. И даже носительницы английского выражали некоторое беспокойство по поводу своей способности выражать мысли в письменной форме, особенно тревожась о правописании и правильности грамматических форм. И она сказала этим женщинам, что когда они будут писать дневники, им не надо будет обращать никакого внимания на правописание и требования грамматики.
— Так что очень важно, чтобы ты не заостряла внимания на этих ошибках. Я понимаю, что для тебя это будет нелегко, но у этих женщин и так хватает проблем с самооценкой, так что нам совсем ни к чему сдерживать их самовыражение.
Я вспомнила стихотворение Адриенны Рич, в которое она включила строчки, написанные студенткой из программы приема без ограничений, которую открыл Колледж Нью-Йорка. В бедности люди страдают жестоко…
Моя подруга показала мне несколько примеров рисунков женщин, ставших жертвами торговцев живым товаром: обезглавленные тела, объятые пламенем дома, мужчины со ртами, похожими на пасти свирепых зверей, нагие дети с пронзенными гениталиями или сердцами.
Она прокрутила мне записи свидетельских показаний, которые дали некоторые их этих женщин, и их жуткие рисунки словно ожили.
— Я все время называю их женщинами, — сказала она. — Но мы здесь видим, что многие из них еще девочки. И именно они представляют собой некоторые из наиболее трагических случаев. У нас есть четырнадцатилетняя девочка, которую мы в прошлом месяце спасли из дома, где ее держали прикованной цепями к койке в подвале. Когда к сексуальному насилию прибавляется еще и рабство, последствия наиболее катастрофичны. Сейчас эта девочка не способна говорить. Нет, ее речевые органы не задеты — во всяком случае, так считают врачи, — но она настаивает на том, что не может говорить. Время от времени мы наблюдаем подобные психосоматические симптомы: немоту, слепоту, паралич.
Моя подруга хотела, чтобы я посмотрела шведский фильм «Лиля навсегда». Вообще-то, я уже видела его, когда он впервые вышел на экраны много лет назад. Тогда я не знала, что он основан на истории из жизни. Я вообще почти ничего о нем не знала; я решила посмотреть его как-то раз под влиянием минутного настроения, просто потому, что мне понравился предыдущий фильм этого режиссера и потому, что он шел в ближайшем кинотеатре.
Вполне вероятно, что если бы я знала, чего от него ждать, я бы никогда не пошла и не посмотрела «Лилю навсегда». Но когда я посмотрела этот фильм, у меня осталось от него неизгладимое впечатление, так что, хотя с тех пор прошло уже более десяти лет, мне не было нужды смотреть его еще раз.
Лиля — шестнадцатилетняя девушка, живущая со своей матерью в унылом многоквартирном муниципальном доме где-то на территории бывшего Советского Союза. Она верит, что вместе с матерью и ее сожителем очень скоро эмигрирует в США, но когда наступает время отъезда, мать Лили и ее сожитель уезжают вдвоем, оставив Лилю одну. Затем квартиру, в которой жила Лиля, прибирает к рукам ее безжалостная тетка, принудив девочку переехать в какую-то убогую, грязную дыру. Всеми покинутая, оставшаяся без денег, Лиля в конце концов скатывается к проституции.
От людей, которые ее окружают, Лиля теперь ждет только жестокости и предательства. Единственное исключение из этого правила — Володя, мальчик на несколько лет младше Лили, которого жестоко избивает пьяница-отец. Володя любит Лилю, которая становится его другом и дает ему приют после того, как отец выгоняет парня из дома. Вместе эти двое беспризорных детей выкраивают для себя несколько счастливых моментов. Но по большей части жизнь Лили беспросветна.
Надежда приходит к ней в лице красивого сладкоголосого молодого шведа по имени Андрей. Он говорит Лиле, которая сразу же влюбляется в него, что с его помощью она сможет переехать в Швецию и начать там новую жизнь. Она хватается за этот шанс, не думая о том, что это может означать для Володи, который после того, как Лиля, его единственный друг в этом мире, уезжает, кончает с собой.
Володя продолжает появляться в фильме в виде ангела.
Лиля прилетает в Швецию одна (Андрей обещал, что приедет к ней позже), и в аэропорту ее встречает мужчина, который, как ей сказали, возьмет их под свое крыло. Мужчина увозит ее на машине в новый дом, квартиру на одном из верхних этажей дома-башни и запирает там. Рапунцель, Рапунцель. Он становится первым из тех, кто насилует Лилю, и так начинается ее новая жизнь. День за днем ее отдают на милость клиентов — мужчин самых разных типов и возрастов — ни один из которых, не обращая ни малейшего внимания ни на ее слишком юный возраст, ни на то, что она явно действует против своей воли, не дает себе труда сдержать свою похоть. Наоборот, все они ведут себя так, словно Лиля была послана на эту землю лишь для того, чтобы оказаться в сексуальном рабстве.
Когда Лиля пытается сбежать в первый раз, ее ловят и избивают. Во второй раз она оказывается на мосту над скоростной автомагистралью. Хотя помощь в лице женщины-полицейского близка, Лиля поддается панике и прыгает вниз.
После того как девушка, чьи жизнь и смерть легли в основу фильма «Лиля навсегда», спрыгнула вниз и разбилась насмерть, на ее теле было найдено несколько написанных ею писем. Так ее история и стала достоянием гласности.
Когда я в одиночестве смотрела этот фильм в маленьком местном кинотеатре, был будний день, и до вечера было еще далеко. В зрительном зале была всего лишь горстка людей. Я помню, что когда фильм закончился, мне пришлось какое-то время подождать, чтобы успокоиться, прежде чем я выйду из кинотеатра. Это было унизительное чувство. Впереди, через несколько рядов от меня, сидела еще одна женщина, пришедшая в кинотеатр одна. Она рыдала. Когда я наконец вышла из зала, она все еще сидела на своем месте и продолжала рыдать. Я почувствовала, что унижена и за нее.
Моя подруга рассказала мне, что фильм «Лиля навсегда» часто показывают в группах волонтеров, правозащитных организациях, а также в школах в тех районах, где девочкам, как считают, грозит наибольшая опасность стать жертвами торговцев живым товаром. «Фильм недостаточно безжалостен» — такова была реакция группы молдавских проституток, которых попросили его посмотреть.
Я была еще больше потрясена, когда услышала, как режиссер фильма сказал, что он верит — Бог позаботился о Лиле (после смерти она, как и Володя, появляется на экране в виде ангела), и что без этой веры он не смог бы снять этот фильм.
— Думаю, без нее я бы покончил с собой, — сказал он.
И что же в таком случае, по его мнению, должны делать те, у кого нет такой веры и кого ни на минуту не согревает надежда на то, что Бог заботится о таких, как Лиля?
Моя подруга сказала: «Среди людей, которые сами стали жертвами неравенства и эксплуатации, таких, как те, кто оказался в трущобах, где была вынуждена прозябать Лиля, может существовать какое-то сочувствие и какое-то понимание того, почему они жестоки друг к другу». Они могут даже прощать. Но развратное поведение всех этих обеспеченных скандинавских мужчин, подданных государства всеобщего благоденствия — понять и принять его куда труднее.
Как-то раз я видела фотографию в каком-то журнале — длинная извивающаяся очередь из мужчин, стоящая у лачуги, в которой продают себя несколько проституток подросткового возраста. Я не помню, в какой части света была сделана эта фотография, но отлично помню, что все мужчины на ней вели себя так, словно все это в порядке вещей. Некоторые из них курили сигареты, один смотрел на часы, еще один вглядывался в небо, был и такой, который читал газету. Здесь царила всеобщая атмосфера терпеливой скуки. Эти мужчины могли бы с таким же успехом ожидать автобуса или своей очереди в Департамент штата по регистрации транспортных средств.
Моя подруга рассказала мне о еще одном случае из ее практики, когда врачи не нашли у девушки, вызволенной из сексуального рабства, никаких травм или болезней, которые бы мешали ей говорить, как любой нормальный человек. Но она не говорила. Когда ей предложили начать писать, она сразу же воодушевилась. За неделю она исписала целую пачку блокнотов. Она писала поразительно мелким почерком, самыми крохотными буковками, которые только можно себе представить. Было страшно наблюдать за тем, как она все пишет и пишет, быстро-быстро. Ее рука распухла, пальцы покрылись кровавыми мозолями, но она все не переставала — не могла перестать — писать.
— Мы так и не узнали, что именно она писала, потому что она не давала нам читать свои записи, — сказала моя подруга. — Но я бы не удивилась, если бы они состояли в основном из повторов и бессмыслицы. К счастью, мы смогли подобрать ей лекарственную терапию, которая помогла ей перестать маниакально писать и начать говорить вновь.
Ларетта поведала мне, что и в ее жизни был период немоты. Всякий раз, когда она пыталась что-то сказать, горло болезненно сжималось, как будто ее душили невидимые руки.
«Я изо всех сил старалась заставить себя говорить, но самое большее могла издавать только приглушенный писк, как страдающая астмой мышь, и людей это смешило. Мне было так стыдно, что я перестала даже пытаться. Когда мне надо было что-то сказать, я писала или использовала что-то вроде языка жестов или произносила слова одними губами. И все равно горло у меня все время болело».
Во время сеанса психотерапии она вспомнила один случай, о котором не думала много лет. В этом эпизоде участвовала ее бабушка, женщина, о которой она старалась думать как можно меньше. Когда Ларетте было десять лет, ее мать насмерть зарезал сожитель. Поскольку отца у нее не было, она была отдана на попечение своей бабушки. Говоря об этой женщине, наркоманке, которой нужна была все большая и большая доза амфетаминов, Ларетта называла ее не иначе, как «моя первая рабовладелица».
«Она первой начала продавать меня мужчинам. Я помню, как мы с ней сидели за столом в кухне, а потом она встала и подошла к холодильнику. Она открыла морозилку, достала оттуда фруктовый лед на палочке и, развернув, разломила его надвое вдоль. Я помню, что он был вишневый, это мой любимый вкус. Она засунула один кусок мне в рот и сказала: «Давай, я покажу тебе, как это делать, детка». Вторую половинку она положила в свой собственный рот и начала обсасывать ее особым образом».
Это было одно из нескольких воспоминаний, насчет которых у Ларетты были сомнения — стоит ли ей включать их в книгу. Она опасалась, что эта сцена покажется ее читателям чересчур надуманной. Она выбрасывала ее, потом вписывала обратно, потом выбрасывала опять.
Я знаю другую женщину, писательницу, которая время от времени зарабатывает на жизнь как секс-работница. Она совершенно не согласна с преобладающей в последнее время точкой зрения, что любую проститутку надо рассматривать как жертву торговцев живым товаром. Она желает, чтобы все проводили четкую границу между секс-рабынями, с одной стороны, и свободными, продающими себя по своей воле секс-работницами, как она сама, с другой.
Полицейские рейды на бордели, ловля клиентов на «живца», в роли которого выступает переодетая и изображающая проститутку женщина-полицейский, и публичное посрамление клиентов, пытающихся купить секс за деньги, путем опубликования их имен и адресов в Интернете и газетах, вызывают у нее горячее негодование.
— Упаси нас боже от тех, кто мнит себя рыцарями-спасителями, — говорит она. — Почему так трудно поверить, что отнюдь не все мы нуждаемся в спасении или желаем его? Но, с другой стороны, разве не факт, что общество никогда не могло согласиться с тем, что то, что женщина делает со своим телом — это только ее дело и больше ничье?
Эта моя подруга любит рассказывать историю о французской актрисе Арлетти, которая в 1945 году предстала перед судом, поскольку во время оккупации у нее была любовная связь с немецким офицером. В свое оправдание она сказала: «Мое сердце — это сердце француженки, но задница — интернациональна». (Собственно говоря, моя подруга предпочитает более лаконичную версию знаменитой остроты Арлетти: «Моя задница — это не Франция».)
Моя подруга, секс-работница, жалуется, что ее изумляет наивность большинства женщин. Они и не подозревают, что большая часть мужчин имели секс с проституткой, и в числе этих мужчин находятся и их собственные отцы и братья, бойфренды и мужья. Ларетта говорила то же самое, и я слышала, как мужчины заявляют, что сомневаются в правдивости тех своих собратьев, которые утверждают, что никогда не платили за секс.
В показанном недавно телевизионном документальном фильме бывшая проститутка, работавшая в пригородном мотеле, объясняет, что больше всего клиентов у нее всегда бывало в понедельники по утрам: по-видимому, ничто так не способствовало процветанию ее бизнеса, как выходные, проведенные мужчинами с их женами и детьми.
Однажды я спросила мою подругу, получает ли она удовольствие от предоставления секс-услуг. Я была почти уверена, что она скажет да. Но она посмотрела на меня так, словно не расслышала вопроса. «Я делаю это из-за денег, — сказала она. — Какое тут может быть удовольствие? Если бы я могла зарабатывать на жизнь только литературным трудом, я бы не делала этого вообще. Но эта работа легче, чем преподавание», — добавила она.
Мне пришлось пообещать, что я не стану использовать в своих книгах ничего из того, что напишут женщины, вызволенные из сексуального рабства, с которыми я проводила занятия. Но моя подруга-психолог разрешила мне написать о ней самой и о ее работе. Ты со своим обычным великодушием подбросил эту идею издателю, с которым вместе обедал, и вскоре у меня на руках уже был договор и мне был назначен срок сдачи рукописи.
После того как мы обе закончили университет, эта моя подруга, ставшая впоследствии психологом, напечатала несколько своих рассказов. Журналы, в которых они были опубликованы, имели небольшие тиражи, но считались престижными — это были литературные ежеквартальные журналы, к которым относились серьезно и со вниманием. За один из своих рассказов моя подруга получила премию, а затем, в том же году, она была номинирована на получение гораздо более крупной премии, ежегодно присуждаемой подающим надежды молодым писателям.
Я спросила ее, почему она бросила писать.
«Это нельзя было назвать решением, — сказала она. — Я начала писать роман, и у меня никак не получалось сосредоточиться, и тогда один мой знакомый посоветовал мне попробовать заняться медитацией. Так я и пришла к буддизму. Я провела месяц в уединенном буддистском приюте вдали от городов в северной части штата, учась медитировать, и с тех пор занимаюсь этим постоянно. Я знаю, что многие писатели увлекаются или увлекались буддизмом, и кто в наши дни не практикует в каком-то виде медитации или не занимается йогой? Знаю я также, и что некоторые люди говорят, что медитирование помогло им продвинуться в карьере. Но когда я начала всерьез изучать буддизм, я обнаружила, что он не сочетается со стремлением стать писателем.
Но если быть совершенно точной, я отнюдь не бросила писать. Мне не было нужды это делать. Во-первых, я веду дневник — собственно говоря, я считаю ведение дневника чем-то вроде медитации, — а еще я пишу стихи. То, что я каждый день вижу на моей работе, очень шокирует и пугает, и я обнаружила, что написание стихов помогает мне успокаиваться. Нет, я никогда не пишу о своей работе. Мои стихотворения в основном посвящены красоте мира — чаще всего в них говорится о природе. Я понимаю, что это не очень-то хорошие стихи, и у меня нет никакого желания с кем-то ими делиться. Для меня сочинение стихов — это как молитва, а молитвы — это не то, чем надо делиться с другими людьми. Не то, чтобы я хотела полностью удалиться от мира, стать буддистской монахиней или чем-то в этом роде. Но, как я уже говорила, у меня появились сомнения в том, что мне нужно стать писателем.
Я не видела, как можно совместить карьеру в области литературы со свободой от привязанностей. Вскоре после того, как я завершила свое пребывание в уединенном буддистском приюте, я на время поселилась в творческом поселке — тогда я еще не оставила надежды вернуться к написанию романа. Я помню, как смотрела на остальных живущих там людей, некоторые из которых еще только начинали писать, как и я, а некоторые были уже признанными мастерами, и думала, что же требуется — разумеется, помимо таланта — для того, чтобы добиться успеха. Ты должен обладать честолюбием, серьезным честолюбием, и если ты хотел написать по-настоящему хорошее произведение, ты должен был иметь высочайшую мотивацию. Ты должен был хотеть превзойти то, что до тебя сделали другие. Ты должен был верить, что то, что ты делаешь, невероятно серьезно и важно. И мне казалось, что все это невозможно совместить с медитированием, когда ты должен научиться сидеть неподвижно и освобождаться от своих ожиданий и надежд. И хотя писательский труд — это вроде бы не состязание, во всяком случае, так предполагается, я видела, что большую часть времени писатели рассматривают его именно так. Пока я жила в творческом поселке, один из находившихся там писателей получил от своего издательства аванс, такой огромный, что об этом написали в «Таймс». В тот вечер за ужином он сказал: «Это значит, что теперь я потерял двух своих последних друзей». Он, конечно, шутил, но я заметила, что когда какой-нибудь писатель становится очень успешным и идет в гору, другие прилагают массу усилий, чтобы стащить его вниз. И мне казалось, что все вокруг больше всего думают о деньгах. Я этого не понимала. Как можно стать писателем, если твоя цель — деньги? Помню, на моем первом занятии по писательскому мастерству наш преподаватель сказал: «Если вы хотите стать писателями, то первым делом вы должны принести обет бедности». И тогда никто в аудитории и глазом не моргнул.
А теперь мне казалось, что все мои знакомые писатели — а среди тех, кого я тогда знала, почти все были писателями — находятся в состоянии хронической неудовлетворенности и томления духа. Люди постоянно накручивали себя из-за того, кто сколько заработал, а кто был обойден вниманием, только и говорили о том, как несправедливо устроен весь литературный мир. Я не понимала, почему все должно быть именно так. Почему все мужчины-писатели так надменны и почему столь многие из них — сексуальные хищники? Почему все женщины-писательницы так злы и так подавлены? Честное слово, мне трудно было их всех не жалеть.
Всякий раз, когда я приходила на публичное чтение какого-то нового произведения, я невольно чувствовала неловкость за его автора. Я спрашивала себя, хотела ли бы я быть на его месте, и каждый раз ответ был: конечно, нет! И такие чувства испытывала не одна я. Такое же ощущение неловкости пронизывало всю аудиторию. И я помню, что тогда у меня мелькнула мысль: именно это имел в виду Бодлер[46], когда сказал, что искусство — это проституция.
Тем временем я все еще пыталась писать роман. И вот однажды я сказала себе: представь, что ты не напишешь эту книгу. Разве на свете не тысячи и тысячи людей, желающих подарить этому миру свои романы? И, если честно, не слишком ли много на земле романов? Неужели я и впрямь считаю, положа руку на сердце, что если я не напишу своего романа, кто-нибудь из-за этого огорчится? И разве смогу я оправдать себя, если сделаю со своей жизнью, своей единственной бесшабашной и драгоценной жизнью нечто такое, о чем, не сделай я этого, никто не стал бы сожалеть?
Примерно в это время я услышала выступление какого-то писателя по радио. Не помню, кто именно это был, но это с таким же успехом мог быть сам Господь Бог. Я помню, как он сказал, что если за весь следующий год не будет опубликовано ни одно художественное произведение вместо того огромного вала романов и рассказов, которые, как нам известно, увидят свет на самом деле, воздействие этого факта на мир будет, в сущности, таким же. Это, разумеется, не так, поскольку это, вероятно, существенно повлияло бы на экономику. Но я понимала, о чем он говорит, и у меня было такое чувство, словно он адресовал это мне. И тогда я заявила себе: «Ты должна изменить свою жизнь».
Нельзя сказать, что я никогда не жалела о том, что так и не стала писателем. Много раз у меня возникало мерзкое чувство, что я просто слабачка, капитулянтка, слишком ленивая или слишком трусливая, чтобы добиваться осуществления своей мечты. Но если я нуждалась в подтверждении правильности моего решения, мне достаточно было посмотреть на то, что я читаю изо дня в день. Раньше я была страстной книгочейкой, но с годами я все больше и больше теряла интерес к чтению, особенно если это были произведения художественной литературы. Возможно, это как-то связано с теми реалиями, с которыми я сталкиваюсь каждый день, но мне стали казаться скучными все эти истории о вымышленных людях, живущих вымышленной жизнью, полной вымышленных проблем.
Какое-то время я продолжала следить за новинками литературы. Время от времени я покупала книгу, которую все называли шедевром, или Великим Американским Романом, или еще чем-то в этом же духе, и в половине случаев я не могла дочитать эту книгу до конца. А если и дочитывала, то не запоминала прочитанного. Чаще всего я забывала книгу, которую прочла, почти сразу же после того, как закрывала ее. Потом наступил момент, когда я вообще почти перестала читать художественную литературу и осознала, что у меня нет такого чувства, будто мне чего-то недостает».
А что было бы, если бы она не бросила писать художественные произведения, спросила ее я. Как, по ее мнению, она все равно утратила бы интерес к чтению художественной литературы?
— Без понятия, — ответила она. — Я знаю одно — я чувствую себя намного счастливее, делая то, что делаю, чем если бы я делала то, что делаешь ты.
Может быть, я должна была счесть за комплимент то, что она, по ее мнению, может высказать все это мне, не опасаясь, что это заденет мои чувства.
Студент или студентка, которые проходят программу обучения писательскому мастерству, а потом… бросают писать. Нам с тобой были знакомы такие примеры. Похоже, один такой или одна такая бывали в каждой группе, и мы всегда удивлялись: почему это так часто происходит именно с тем или той, кто подает наибольшие надежды? (Типичный случай такого явления — это твоя первая жена.)
Напишите о каком-то предмете. О чем-то таком, что важно для вас сейчас или было важно раньше. Это может быть все, что угодно. Опишите этот предмет, затем напишите, почему он для вас важен.
Одна студентка написала о сигаретах. И назвала их лучшим другом. Она начала курить, когда ей было восемь лет. Без них я не смогла бы выжить в той жизни, которая у меня была, написала она. Я предпочитаю курение всем другим занятиям. Другая женщина написала о ноже, которым она воспользовалась, чтобы защититься. И она оказалась не единственной, кто написал о каком-то виде оружия. Но примерно половина женщин написала о куклах. Все эти куклы, кроме одной, плохо кончили. Они потерялись или сломались либо были тем или иным образом уничтожены. Единственная кукла, избежавшая подобной участи, была спрятана в потайном месте, откуда женщина, которая о ней написала, надеялась когда-нибудь ее достать. Это было все, что она написала. Когда я напомнила ей, что она должна была описать предмет, она покачала головой. Если она это сделает, сказала она, она навлечет на куклу зло. С той случится какая-то беда, и она больше никогда ее не увидит.
Неделя за неделей, сидя в автобусе, везущем меня домой, я читала истории, написанные женщинами, побывавшими в сексуальном рабстве, и в конце концов они стали казаться мне одной длинной историей, пересказом одного и того же. Кого-то постоянно бьют, кому-то все время больно. С кем-то все время обращаются, как с рабыней. Как с вещью.
Кое-что из-того, что связано со страданиями.
Одни и те же существительные: нож, ремень, веревка, бутылка, кулак, шрам, синяк, кровь. Одни и те же глаголы: принуждать, избивать, сечь, жечь, душить, морить голодом, кричать.
Напишите сказку. Для некоторых из этих женщин это был способ представить себе в воображении, как они отомстят своим мучителям. И это опять, всегда, были истории о насилии и унижении. И всегда один и тот же лексикон.
Ты говаривал, что не бывает сочинительства впустую. Даже если у тебя что-то не получается и ты в конце концов все это выбрасываешь, как писатель, ты все равно чему-то учишься, узнаешь что-то новое.
И вот что я узнала: Симона Вейль[47] была права. «Выдуманное зло романтично и разнообразно; реальное же зло мрачно, однообразно, бесплодно, скучно».
Это было последнее, о чем мы с тобой говорили, когда ты был еще жив. После этого ты прислал мне только электронное письмо со списком книг, которые, как ты считал, могли бы быть мне полезны в проведении моего исследования. И, поскольку был конец декабря, ты пожелал мне всего наилучшего в новом году.
Часть 4
Это казалось таким невероятным: мемуары о любовной связи между мужчиной и собакой.
Мужчина — Дж. Р. Экерли (1896–1967), британский писатель и литературный редактор еженедельного журнала «Би-би-си» и «Зе Лиснер».
Собака — Куини, немецкая овчарка, которую в возрасте полутора лет приобрел Экерли, в то время холостяк средних лет, известный своей неразборчивостью в интимных связях и оставивший надежду когда-либо найти себе постоянного партнера.
Книга — «Моя собака Тюльпан». Изменить кличку собаки предложил издатель, поскольку Куини — это женское имя, а Экерли был открытым геем, и об этом было всем известно.
Естественно, об Экерли я впервые услышала от тебя. Тогда был только что издан томик его писем. «Их стоит почитать, — сказал ты, — как и все остальное, что он написал. Но что тебе надо обязательно прочесть, — продолжил ты, — так это его мемуары».
Подбери правильный тон, и можешь писать о чем угодно, читая книгу Экерли, — я часто вспоминала это изречение. Один из читателей этой книги написал в своем отзыве на нее: «Отсюда вы узнаете куда больше, чем хотели бы, о том, что входит в мочевой пузырь и задний проход собаки, и о том, что оттуда выходит». Собственно говоря, по большей части в книге «Моя собака Тюльпан» Экерли рассказывает о ее течках. Однако хотя порой читателю просто не может не казаться, что это неизбежно и что ему надо внутренне к этому подготовиться, ни одного акта скотоложества в книге нет. Хотя сказать, что в отношениях Экерли и его собаки совсем нет близости, тоже было бы неправдой.
Подумайте о том, как рискованно перечитывать книгу, особенно такую, которая тебе когда-то очень нравилась. Всегда есть вероятность, что теперь она не оправдает твоих ожиданий и по какой-то причине уже не понравится тебе так же сильно, как в первый раз. Когда это происходит, а со мной это происходит постоянно (и тем чаще, чем старше я становлюсь), я прихожу в такое уныние, что теперь всякий раз открываю те книги, которые я когда-то любила, с опаской.
Итак, стиль прозы Экерли все так же хорош, его остроумие все так же блестяще, сюжет, пожалуй, захватывает еще больше, чем когда я читала книгу в первый раз. Но что-то все же изменилось. Когда я читаю произведение Экерли во второй раз, автор и рассказчик уже не вызывает во мне симпатии. Он даже пробуждает во мне некоторую неприязнь. Его враждебное отношение к женщинам — в первый раз я этого не заметила или же просто со временем это забылось?
«Женщины опасны, особенно те из них, которые принадлежат к низшим классам… Они ни перед чем не останавливаются и никогда не отступают.»
Правда, Экерли не очень-то любит вообще все человечество, но особенно он ненавидит женщин. Женщины плохи уже потому, что они женщины.
Исключение он делает только для мисс Кэнвей, компетентного и сострадательного ветеринара, которая сразу же диагностирует причины странностей в поведении Тюльпан, сказав, что они связаны с ее сердечными муками. «Она влюблена в вас, это очевидно».
Так же очевидно и то, что он влюблен в нее. Но при всей очевидности этого факта, меня озадачивает то, как он с ней обращается. Поведенческие расстройства Тюльпан весьма серьезны. Это не собака, а сущее наказание, она плохо выдрессирована, нервозна и так легко возбудима, что ее можно назвать истеричной, и к тому же она необщительна и неуживчива. Она постоянно лает и даже кусается. Она ведет себя так ужасно, что это отрицательно влияет на отношения Экерли с людьми. Он считает, что в «расстройстве ее психики» виноваты первые хозяева, которые слишком часто и надолго оставляли ее одну и иногда били. Но он и сам часто не выдерживает и ругает ее и бьет, хотя и понимает, что такие наказания могут только привести в замешательство и обескуражить.
Неудовлетворенность, ярость, насилие (это его собственные слова). Эта модель поведения кажется неотвратимой. Когда Тюльпан ощеняется, что еще больше усугубляет хаос, который и без того царит в доме Экерли, он иногда бьет ее щенков.
Сам собой напрашивается вывод, что если бы он выдрессировал Тюльпан лучше, она была бы намного счастливее, а жизнь самого Экерли, не говоря уже о его соседях, стала бы куда более приятной. Но он тоже из тех людей, которые ни за что не хотят доминировать над своими животными. Он зациклен на мысли о том, что Тюльпан должна вести полноценную собачью жизнь. А значит, она должна иметь возможность охотиться и поедать загнанных ею кроликов и должна изведать и секс, и материнство. И даже после того, как у нее появляется первый помет, он не может заставить себя подвергнуть ее стерилизации: «Как я могу вмешаться в природу такого прекрасного животного?» Несмотря на легкие уколы совести, ему в общем-то наплевать на участь ее беспородных щенков, которых, как он понимает, ему не пристроить в хорошие руки. Потребности его возлюбленной для него важнее всего. Периоды течек переворачивают вверх дном не только их собственные жизни, но и сеют хаос во всем районе Лондона, где они живут, поскольку очень многих собак, как и саму Тюльпан, даже в период течки, хозяева выводят на улицы без поводков.
Страница за страницей, на которых описывается сексуальная неудовлетворенность. Экерли разделяет ее страдания, и это разбивает его сердце удручает его до глубины души. Течка за течкой они страдают вместе. Но он все равно отказывается ее стерилизовать, сделать так, чтобы ей удалили яичники. Его описания этой части существования Тюльпан так душераздирающи, что, когда я их читала, мне хотелось закричать: «Как вы можете терпеть все это и не вмешиваться в ее природу?»
Я помню, что как ты ни восхищался произведением Экерли, тебя коробила жизнь, которую он вел. Жизнь человека, в которой самые важные для него отношения — это отношения с собакой.
— Что может быть печальнее, — сказал ты тогда. Но мне показалось, что Экерли в полной мере испытал ту взаимную бескорыстную любовь, которой жаждут все люди, но которую доводится пережить лишь немногим. («Сколько людей обрели свою Тюльпан?» — спрашивает Оден.) Это был брак, длившийся пятнадцать лет, самое счастливое время его жизни, написал Экерли. А когда муки, которые причиняла ей ее последняя болезнь, заставили его попросить уничтожить ее: «Я был готов принести себя в жертву, как индуистская вдова, сжигающая себя на погребальном костре своего мужа». Но вместо этого он продолжал жить. Он писал и пил. Шесть долгих темных лет. Он все пил и пил и в конце концов умер.
Человек и собака. Неужели это все началось, как полагают специалисты, изучающие животных, с кормящих матерей, дававших грудь осиротевшим волчатам вместе со своими собственными малыми детьми? И разве такое объяснение не стыкуется с мифом об основателях Рима Ромуле и Реме, брошенных после рождения и вскормленных волчицей?
Интересно знать, почему мы иногда называем бабника волком? Ведь известно, что волк — это моногамный, верный партнер и заботливый отец.
Мне нравится, что аборигены Австралии говорят, что это собаки делают людей людьми. А также мне нравится такое высказывание (хотя я не помню, кто его автор): «Единственное, что не дает мне стать законченным мизантропом, — это то, что я вижу, как собаки любят людей».
Чрезмерно чувствительный к запахам вообще и брезгливый по отношению к человеческому телу, Экерли не воротил носа ни от каких запахов, исходивших от Тюльпан, даже от ее анальных желез, и видел красоту в том, как она испражнялась.
Правда, о том, как она выделяла кал и мочу, он пишет меньше, чем о ее половой жизни, но и этого более чем достаточно. А если вчитаться в детали…
Эта глава книги называется «Жидкости и твердые вещества».
Хотя я всегда выгуливаю Аполлона на поводке, меня, как и Экерли, беспокоит мысль о том, что собаку — особенно большую, — делающую свои дела на улице, может сбить машина.
К сожалению, Аполлон часто приседает, чтобы погадить на мостовой слишком далеко от обочины. Я не могу, подобно Экерли, решить эту проблему, разрешив ему гадить на тротуаре, несмотря на то что, в отличие от Экерли, я всегда подбираю за ним его помет. Мое решение этой проблемы заключается в том, что когда Аполлон начинает гадить так далеко от обочины, что это может быть опасно, я встаю между ним и машинами, мчащимися мимо. Получается, что вместо него я просто подставляю под удар себя, но, наверное, все дело в моей не очень-то невинной надежде на то, что водитель станет ехать более осторожно, если будет бояться наехать не на собаку, а на человека. Водители Манхэттена не отличаются терпеливостью, и многие из тех, кому я доставляла затруднения, обзывали меня. Но я знаю, что есть и другие, такие, которые все равно бы притормозили, как это делают и многие пешеходы, чтобы поглазеть на Аполлона и меня.
В своем эссе «Как бродить без цели» ты написал, что не считаешь долгую прогулку с собакой настоящим праздношатанием, поскольку это не то же самое, что бесцельное блуждание, а ответственность человека за собаку не дает ему погрузиться в себя. В последние дни я так много гуляю с Аполлоном, что даже не могу себя представить, как бы я пошла на прогулку одна. Но что действительно не дает мне погрузиться в себя или вообще о чем-либо думать, так это внимание, которое привлекает к себе он. Я никогда не поощряю внимания к нему посторонних, но хотя Аполлон не выказывает никаких признаков неудовольствия, когда ему не удается погадить в одиночестве, я нахожу эти моменты особенно неприятными. Хуже всего бывает, когда кто-то наблюдает за тем, как я убираю его помет, что, похоже, приводит определенный тип людей в некоторое возбуждение. Люди делают замечания по поводу размеров его какашек, как будто я не стою здесь же с ведерком и совком (вид которых сам по себе вызывает немало веселья, хотя, по правде сказать, я была очень довольная собой, когда мне пришла в голову мысль использовать детское ведерко для песка с пластиковым пакетом внутри и садовый совок).
— Мне вас жаль, — замечает кто-то, ухмыляясь. Или: — Я люблю собак, но я никогда не смогла бы делать то, что сейчас делаете вы.
Несколько человек укоряли меня за то, что я вообще держу такого пса:
— В большом городе таким крупным собакам не место!
— По-моему, это жестоко, — сказала одна женщина. — Жестоко держать собаку такого размера в тесной городской квартире.
— О, мы приехали в город всего на один день, — промурлыкала в ответ я. — Завтра улетаем домой, обратно в наш роскошный дом.
(Да, есть, разумеется, и приятные люди, прежде всего, другие владельцы собак, а также те, кто либо не лезет в чужие дела, либо говорит что-то приятное, душевное или умное. Но мы все знаем, что о приятном никогда не бывает столь же интересно писать и столь же интересно читать.)
Жидкости: когда я смотрю на выливающиеся из Аполлона галлоны мочи, я радуюсь, что он поднимает заднюю лапу не так высоко, как большинство кобелей — тогда вместо двери машины он описал бы ее окно.
Твердые вещества: об этом сказано уже достаточно.
Но есть еще кое-что между жидкостями и твердыми веществами, проклятье собак многих крупных пород. Несколько раз в день мне приходится вытирать его морду. Я называю это «драить палубы».
Вместо того чтобы показывать пса прежнему ветеринару, что означало бы, что мне каким-то образом пришлось бы возить его в Бруклин, я нашла ветеринара, который практикует в пешей доступности от моего дома. С Аполлоном он ладит, но я отношусь к нему с подозрением, потому что он разговаривает со всеми женщинами как с идиотками, а с женщинами в годах, как с глухими идиотками.
Когда я говорю ему, что Аполлон никогда не играет с другими собаками, даже в парках для собак, он отвечает:
— Что ж, он ведь уже не так молод, верно? Уверен, что и вы уже не носитесь вприпрыжку, как когда-то.
Когда я рассказываю ему историю Аполлона, он только пожимает плечами.
— Люди все время выбрасывают на улицу кошек и собак. Это собаки готовы умереть за своих хозяев, а не наоборот. (По-видимому, он не читал Экерли.) Разве процент браков, заканчивающихся разводами, не говорит нам, чего стоит человеческая верность? — замечает он тоном, который я нахожу неприятным.
Кто-то сказал мне, что многие ветеринары становятся раздражительными, потому что в силу своей профессии им приходится сталкиваться с особо широким диапазоном проявлений человеческой глупости — и многие из этих проявлений имеют форму антропоморфизма. Я помню, один ветеринар раздраженно закатил глаза, когда я сказала ему, что мой кот все время мурлычет, стало быть, он всем доволен и счастлив.
— Мурлыканье — это просто звуки, которые издают кошки и коты, и это вовсе не значит, что они счастливы, — резко выпалил он.
Мой нынешний ветеринар говорит мне прямо, что хотя Аполлон и в довольно хорошей форме для своего возраста, он долго не проживет. А если принять во внимание его артрит, ему бы и не захотелось долго жить. Что бы вы ни делали, говорит он, не давайте ему набирать вес.
Посмотрев на халтурно купированные уши пса, этот ветеринар качает головой и указывает мне и на другие особенности экстерьера, делающие его не совсем совершенным образчиком породы: грудь и плечи, слишком широкие по сравнению с крестцом; недостаточно чистая белизна шеи и не совсем правильное распределение черных пятен на туловище; слишком близко посаженные глаза; слишком широкие челюсти; толстоватые лапы. Сложение крепкое, но чересчур коренастое, нет настоящего изящества.
Ему не сложно поверить в то, что пес скорбит по своему умершему хозяину, и что его эмоциональное состояние еще больше осложнилось слишком большими изменениями в окружающей его обстановке. («Как бы вы сами чувствовали себя в таких условиях?» — грубо говорит он, как будто это была мысль, до которой я сама никогда бы не додумалась.) Я рассказываю ему о том, как раньше пес выл, и об ужасном новом симптоме, который, похоже, пришел на смену вою. Время от времени с Аполлоном случается что-то вроде припадка. Сначала он оглядывается по сторонам с видом полнейшей растерянности. Затем поджимает хвост и пригибается так низко к полу, насколько это вообще возможно, если не ложиться на него. Впечатление такое, будто он старается сжаться так, чтобы стать как можно более маленьким. А потом он начинает трястись. Во время этих припадков, которые длятся от нескольких минут до получаса, он ежится и непроизвольно дрожит.
«Посмотрев на него в это время, любой бы сказал, что ему кажется, что с ним скоро случится нечто ужасное», — говорю я ветеринару, умалчивая, однако, о том, что эти припадки так бередят мне душу, что при виде их у меня на глаза наворачиваются слезы.
Существуют лекарственные препараты для лечения тревоги и депрессии у собак, но ветеринар не является сторонником применения этих лекарств.
«Лекарство может подействовать только через несколько недель, — говорит он, — а часто и не действует вообще. Оставим лекарственную терапию в качестве крайней меры. — А пока что не оставляйте его надолго одного и обязательно разговаривайте с ним. Обеспечивайте ему как можно больше физической нагрузки и, если он вам позволит, попробуйте делать ему массаж. Но все равно не рассчитывайте на то, что он у вас превратится в мистера Счастливого Пса. И, вполне возможно, что он так никогда и не придет в себя, что бы вы ни предпринимали. И вы даже никогда не узнаете почему. И дело не в том, что вы не знаете всей истории его жизни. Люди полагают, что собаки просты, и нам нравится думать, что мы знаем, что творится у них в головах. Но на самом деле мы начинаем все больше понимать, что собаки намного более таинственны и сложны, чем нам когда-либо казалось, и если они не овладеют нашим языком, мы никогда по-настоящему их не поймем. И это, разумеется, можно сказать о любом животном.
— Аполлон — хороший пес, но я должен вас предостеречь, — говорит он. — Вы дама миниатюрная, и он, должно быть, тяжелее вас фунтов на восемьдесят. (Эти слова показались мне лестными.) С собаками крупных пород надо обращаться так, чтобы они не прознали правды, которая заключается в том, что на самом деле вы не можете заставить их делать то, чего они делать не хотят».
Можно подумать, будто Аполлон и так этого не знает. Уже несколько раз, когда мы с ним гуляли, он решал, что уже достаточно погулял. В таких случаях он останавливается и садится или ложится на землю, и, что бы я ни делала, я не могу заставить его встать опять. Но при этом я меньше сержусь на него, чем на людей, которые останавливаются рядом с нами, чтобы поглазеть и иногда посмеяться. Как-то раз какой-то мужчина, видимо, желая мне помочь, остановился чуть поодаль и, хлопая себя по ноге, свистнул. В ответ раздался рык, похожий на раскаты грома, такой, какого я раньше никогда не слышала и настолько грозный, что и этот мужчина и несколько человек, находившихся поблизости, быстро перешли на другую сторону улицы.
«Тот, кто занимался его дрессировкой, — говорит ветеринар, — внушил ему, что люди — это вожаки, и нельзя делать ничего, что бы побудило его думать иначе. Вам совершенно ни к чему, чтобы он вбил себе в голову, что вожак — это он. Когда он прислоняется к вам, как часто делают доги, стойте твердо, не давайте ему валить вас на землю. Заставьте его лечь на спину, потрите ему грудку. И ради бога, ложитесь на кровать, а его заставьте вернуться на пол. Любого пса нужно учить, заставляя сидеть и лежать».
Выражение моего лица, когда я слышу эти слова, явно его раздражает.
— Он хороший пес, — повторяет он, на этот раз уже громко. — Смотрите, не превратите его в пса плохого. Плохой пес может легко превратиться в опасного пса.
К тому времени, когда он заканчивает осматривать Аполлона и читать мораль, Ворчливый Ветеринар нравится мне уже больше. Но мне куда меньше нравится его прощальная фраза: «Запомните, вам совершенно ни к чему, чтобы он начал думать, что вы его сука».
Теперь, когда у меня есть Аполлон, я часто думаю о Боу, помеси дога и немецкой овчарки, принадлежавшем парню, с которым я жила, когда мне было немного за двадцать. Хотя когда я с ним познакомилась, он был еще щенком, он вырос, став почти таким же высоким, как дог и унаследовав многие черты дога, но у него осталась нервная система и агрессивность овчарки. Крупный, некастрированный и очень властный, он каждый раз выходил на улицу так, словно искал драки (и, к сожалению, нередко ее находил). Наша квартира находилась в небезопасном районе, но, когда дома был Боу, мы даже не всегда давали себе труд запереть дверь. Я всегда брала его с собой, когда ходила в гости к подруге, жившей в двух милях от нашей квартиры, засиживалась у нее до часа или двух часов ночи и затем возвращалась пешком домой по темным безлюдным улицам. Боу понимал, какая мне грозит опасность, это было видно по тому, как он напряжен, по его сверхбдительности; он был, как мохнатый солдат; он был взведен, как курок опасной винтовки. Он не раз наводил смертельный ужас на какого-нибудь малого, околачивающегося на углу или в дверном проеме. (Должна сказать, что лишь немногие из тех, кого я знала и кто жил в той части города, ни разу не становились жертвами уличного ограбления, проникновения в квартиру домушников или чего-нибудь еще хуже.) И мне приятно щекотали нервы раскатистый лай и рычание Боу, то, как он грозно вставал между мною и тем, что он расценивал как угрозу (включая любого незнакомого мужчину, который имел неосторожность хотя бы посмотреть на меня) и уверенность, что он будет защищать хозяйку — причем, если понадобится, даже ценой своей жизни. В частности, благодаря этому я и любила этого пса.
К тому же в те годы мне нравилось, что мы с ним привлекаем к себе внимание.
Но сейчас все по-другому. Город стал спокойнее, улицы теперь безопасны, к тому же я все равно больше не гуляю по ним ночами. В час или два часа ночи я всегда сплю. Мне уже не нужна защита. Не нужно, чтобы меня охранял агрессивный пес. Я не хочу, чтобы Аполлон чувствовал, что ему надо на кого-то залаять или зарычать. Я не хочу, чтобы он беспокоился. Не хочу, чтобы его снедала тревога. Я хочу, чтобы он чувствовал, что мы с ним оба находимся в полной безопасности, куда бы мы ни пошли. Я не хочу, чтобы он был моим телохранителем. Я хочу, чтобы он расслабился. Я хочу, чтобы он стал мистером Счастливым Псом.
— Он скучал по вам, — говорит женщина, живущая в квартире, находящейся над моей. Возвращаясь домой с занятий, я встречаюсь с ней возле лифта. Ее слова означают, что Аполлон опять начал выть.
Он должен забыть тебя. Он должен забыть тебя и влюбиться в меня. Вот что должно произойти.
Часть 5
— Вы читали о тибетских мастифах?
Я читала статью в «Таймс» и говорю, что да, читала, но желание моей соседки высказаться слишком велико, и она все равно пересказывает мне эту историю. Всего несколько лет назад тибетский мастиф считался в Китае символом престижа, предметом роскоши, средняя цена которого составляла 200 000 долларов, а некоторых щенков, по слухам, продавали и более, чем за миллион. По мере того, как это помешательство нарастало, алчные заводчики разводили этих собак все в больших и больших масштабах. Потом всеобщее увлечение этой породой угасло. И спрос на тибетских мастифов, ставших слишком дешевыми, едящих слишком много корма, огромных и иногда трудноуправляемых, резко упал. Их стали массово выбрасывать на улицы. Их набивали в кузовы грузовиков, где они ужасно мучились и часто умирали. И везли на скотобойни.
Поистине эта история была не из тех, которые мне бы хотелось выслушивать дважды.
Я часто встречаюсь с этой женщиной, когда она выгуливает своих двух собак, ласковых дворняжек, мать и дочь. От пересказа журнальной статьи она тут же переходит к любимой обличительной речи — которую она уже произносила передо мной и раньше — о пагубных последствиях разведения породистых собак. По ее словам, с природой согласуются только дворняги, и только они и должны существовать. Но что мы имеем вместо них? Глупых колли, нервных овчарок, кровожадных ротвейлеров, глухих далматинцев и лабрадоров, таких безмятежных, что можно в них стрелять, а они даже не почувствуют, что им грозит опасность. Мохнатые овощи, калеки, дебилы, социопаты, собаки со слишком тонкими костями или слишком жирной плотью. Вот, что получается, когда собак разводят с целью придания им таких черт, которые хотят видеть в них люди. Это нужно считать настоящим преступлением. (Я решила, что эта женщина сошла с ума, когда она рассказала мне о пойнтерах, которые застывают в охотничьих стойках над добычей и уже не могут сами изменить своих поз, но оказалось, что рассказы о столь нелепом поведении этих охотничьих собак — чистая правда.)
— Я содрогаюсь при мысли о том, как будут обстоять дела через пятьдесят или сто лет, — говорит женщина, и вид у нее при этом неописуемо мрачный. — Но к тому времени, — добавляет она, — будет уничтожена уже вся земля. — И, видимо, успокоенная этой мыслью, она уходит, уводя с собой своих дворняг.
Я продолжаю думать о тибетских мастифах. Кроме огромных размеров и грив, делающих их похожими на львов, они известны своей беззаветной преданностью хозяевам и стремлением всегда их защищать. Так что же чувствует пес, выведенный специально для того, чтобы обладать такими чертами натуры, когда хозяин позволяет загнать его в грузовик, который повезет его на скотобойню? Понимает ли такой пес, что это предательство? Полагаю, что, скорее всего, нет. Мне кажется главное, о чем думает такой мастиф по дороге на бойню, это: «Кто же будет теперь защищать Хозяина?»
Отступление. Что нам действительно известно о страданиях животных? Доказано, что у собак и других животных более высокий болевой порог, чем у людей. Но истинные пределы их страданий — как и истинный уровень их интеллекта — остаются тайной.
Экерли полагал, что тесная эмоциональная связь с людьми и вечное стремление угодить им наполняют жизнь собаки хронической тревогой и стрессом. «Но бывают ли у собак головные боли?» — гадал он, поскольку нам неизвестна о них даже такая малость.
Еще один вопрос: почему людям иногда труднее смириться со страданиями животных, чем со страданиями других людей? Взять хотя бы то, что писал Роберт Грейвс[48] о битве на Сомме[49]: «Я был потрясен огромным количеством мертвых лошадей и мулов; трупы людей еще можно как-то оправдать, но втягивать таким образом в войну животных казалось мне чем-то неправильным».
И почему из всех ужасающих воспоминаний о своем пребывании в лагере для военнопленных в Японии во время Второй мировой войны Льюис Замперини, участник Олимпийских игр, ставший американским летчиком, особенно часто и мучительно переживал воспоминание о том, как охранник лагеря истязал утку?
Разумеется, в обоих этих случаях страдания животных были вызваны действиями людей, и в случае с уткой это был чистой воды садизм. Но разве животные не находятся всегда в полной нашей власти и не связано ли наше сострадание к ним с осознанием нами того факта, что само животное не может понять причины своих мук (из-за этого некоторые люди утверждают, что животные, должно быть, страдают даже больше людей). Я же считаю, что острота сострадания, которое ты чувствуешь к животному, связана с тем, что оно воскрешает в памяти давнюю жалость человека к себе самому. Мне кажется, что мы все на протяжении всей своей жизни сохраняем глубинное воспоминание о самых ранних моментах, том времени, когда мы были в такой же мере животными, как и людьми, и о переполнявших нас чувствах страха, беспомощности, уязвимости и жажде защиты, которая, как подсказывал нам инстинкт, обязательно придет, если достаточно громко заплакать. Невинность — это тот этап, через который люди проходят, который оставляют позади и к которому не в силах вернуться. Животные же и живут, и умирают, оставаясь в этом состоянии, и зрелище надругательства над невинностью в форме истязания несчастной утки может показаться человеку самым варварским из всего, что творится на земле. Я знаю людей, которых подобные чувства возмущают, которые называют их циничными, мизантропическими и извращенными. Но я уверена, что тот день, когда мы перестанем испытывать такие чувства, станет ужасным днем для всех живых существ, ибо наше скатывание в бездну жестокости и варварства начнет происходить тогда еще с большей быстротой.
Когда меня спрашивают, почему я перестала держать у себя кошек, я не всегда даю правдивый ответ, проистекающий из того, как мои кошки и коты умирали. Страдали и умирали.
Через это проходят все владельцы домашних животных. Ваш домашний любимец болен, это очевидно, но что же с ним не так? Сам он не может этого сказать.
Как невыносима мысль о том, что ваша собака, считающая вас Богом, верит, что вы можете прекратить терзающую ее боль, но отказываетесь сделать это по какой-то причине (может быть, потому, что она вас чем-то прогневила). Поэт Рильке[50] однажды написал, что видел, как умирающий пес смотрел на хозяйку взглядом, полным упрека. Позднее он вложил это описание в уста рассказчика, от лица которого велось повествование в написанном им романе: «Он был убежден, что я мог бы это предотвратить. Теперь мне было очевидно, что он всегда переоценивал мои возможности. И у меня не оставалось времени, чтобы объяснить ему все как есть. Он продолжал глядеть на меня, удивленный и одинокий, пока все не было кончено».
Сначала у тебя возникает подозрение, что твоя кошка, это гордое, независимое, стоическое существо, скрывает от тебя, как серьезно она больна на самом деле.
Ты несешь ее к ветеринару, тот ставит диагноз, и теперь наконец-то ты хотя бы знаешь, что с ней не так. Потом следует операция, лекарства. (Да перестань же ты выплевывать эти чертовы таблетки!) Ты надеешься. Потом начинаешь сомневаться. Как мне узнать, больно ли ей и насколько больно? Может быть, я веду себя эгоистично? Может быть, она предпочла бы умереть? За долгие годы я прошла через это несколько раз, слишком много раз, держа на руках кошку, которая, как уверял меня ветеринар, умрет, не страдая. Родная мать, которая тоже имела подобный опыт, как-то сказала: «Моя кисуля лежала у меня на руках до самого конца и все время мурлыкала». (Теперь я знаю — мурлыканье — это просто звуки, которые они издают.)
Вскоре после того, как одна из двух последних кошек, которых я держала, умерла (у меня на руках, но не мурлыча) — а с этой кошкой я прожила двадцать лет, дольше, чем с кем-либо из людей, — вторая моя кошка заболела. Она ходила по квартире, не в силах остановиться и отдохнуть, хотя бы одну минуту. Только представьте себе — кошка, которая не может заснуть. Ей хотелось есть, она пыталась есть, но не могла. Изменился и ее голос, теперь это было непрерывное страдальческое мяуканье: «Помоги мне, помоги, почему ты мне не помогаешь?»
УЗИ показало наличие у нее опухоли.
— Мы могли бы сделать ей операцию, — сказала приятная молодая женщина-ветеринар в хирургическом костюме успокаивающего розового цвета. — Но примите во внимание ее возраст.
— Я приняла его во внимание, а также то, как она мучается, и тот факт, что поскольку ей уже девятнадцать лет, она может не пережить операции.
— Другой выход, — добавила женщина-ветеринар, — это усыпить ее.
Как же Экерли ненавидел этот «бесчестный» эвфемизм. Но слово, которое использовал он сам — уничтожить — всегда казалось мне странным, если употреблять его применительно к существу, наделенному чувствами. Но ни он, ни кто-либо другой никогда не употребляет честного глагола убить. Я попросил убить мою собаку Тюльпан. Я отнесла мою кошку к ветеринару, чтобы ее убили. Было бы лучше убить эту бедняжку. Никакой надежды не осталось, надо ее убить. Если мы не сможем их пристроить, они все будут убиты.
— Вы хотите остаться с ней до конца? — спросила меня ветеринар.
— Конечно.
— Две инъекции… Первая из них ее успокоит…
С проведением первой инъекции возникли проблемы. Что-то, связанное с обезвоживанием и его воздействием на вены. И тут кошка, которая до этого момента лежала неподвижно, вдруг насторожилась. Она вытянула лапку и коснулась ею моего запястья. Она подняла голову, качающуюся на исхудавшей шейке, и устремила на меня неверящий взгляд.
Нет, я не утверждаю, что она это произнесла. Я верю, что я это услышала.
— Подожди, ты делаешь ошибку. Я не говорила, что хочу, чтобы ты убила меня, я сказала, что хочу, чтобы ты сделала так, чтобы мне стало лучше.
Теперь ветеринар уже явно нервничала. Прежде чем я успела ей хоть что-то выдать, она схватила кошку и торопливо устремилась к двери.
— Я сейчас вернусь, — сказала она.
Мы находились в большой полной людей и животных ветеринарной клинике, где было множество помещений, и я понятия не имела, в которое из них она вошла.
Десять минут спустя она вернулась и положила мою кошку на стол, мертвую.
Вы хотите остаться с ней до конца? Конечно.
Эти слова слетели с моих уст, прежде чем я смогла их сдержать:
— Что вы наделали?
Я что-то слышала об исследовании, которое показало, что кошки, в отличие от многих других животных, никогда ничего не прощают. (Возможно, в этом они похожи на писателей, которые, как сказал мне один знакомый редактор, никогда не прощают неуважения.)
Возможно, в этом случае мое чувство вины было еще острее, потому что из всех кошек, которые у меня когда-либо были, эта была наименее любимой. Она всегда держалась отстраненно, не давала мне себя гладить и сажать на колени и ждала, когда я засну, чтобы тихонько прокрасться на кровать и улечься на моем бедре. А теперь именно о ней я не могла перестать думать. Стоило мне найти где-то в квартире кошачий волосок или ус, и я снова слышала хриплое отчаянное мяуканье ее последних дней. Нет, я не хотела заводить другую кошку. Я не хотела снова видеть, как умирает еще одна кошка, страдает и умирает. Не говоря уже о другом моем страхе: если я опять заведу кошку, что с ней станется, если я умру первой?
Это и спасло меня от превращения в старую кошатницу. Я рада тому, что в наш век Интернета, возродившего древний культ кошек как богинь, это определение постепенно перестает быть обидным. Как-то раз один молодой врач-ординатор сказал мне, что в психиатрической субординатуре его учили, что владение несколькими кошками может быть признаком душевной болезни. Вспомнив ужасные случаи патологического накопительства животных, о которых мне доводилось слышать, я обрадовалась, что в этой области психиатрическое сообщество держит руку на пульсе. Но когда я спросила этого ординатора, владение сколькими кошками считается признаком того, что человек, возможно, ненормален, он ответил: тремя.
Поскольку у собак крайне развито обоняние, я понимаю, что хотя с тех пор прошло уже немало лет, Аполлон знает, что мое жилище было когда-то территорией кошек. Интересно, что он об этом думает?
Есть один венгерский фильм, который называется «Белый бог» и в котором собаки Будапешта восстают против тех, кто их угнетает. Как у любого восстания, у этого есть свой вожак. Это Хаген, любимый пес-полукровка девочки Лили. Его мытарства начинаются, когда отец Лили отказывается заплатить налог, который по новому закону должны выплачивать владельцы беспородных собак. Выброшенный на улицу, Хаген пытается отыскать дорогу назад, к Лили (а она тем временем старается делать все, что в ее силах, чтобы найти пса), но его попытки срываются сначала из-за того, что его ловит служба отлова бродячих собак, а затем из-за того, что он попадает в лапы отморозка, который, используя жесточайшие методы, натаскивает его на участие в собачьих боях. Поучаствовав в своем первом бою и убив другого пса, Хаген наконец осознает не только то, что сделал он сам, но и то, что люди сделали с ним. Он убегает от мерзавца, который его натаскивал, но вновь попадает в сети ловцов бродячих собак, которые отвозят его в муниципальный приют для бездомных животных, где его приговаривают к уничтожению. Но Хаген опять спасается и одновременно освобождает из приюта множество других собак, которые следуют за ним, неудержимо несясь по улицам Будапешта. Огромная стая бежит — и иногда атакует людей — и к этим собакам присоединяются другие собаки, собаки из всех закоулков города. Так Хаген становится вожаком собачьей армии. Он одного за другим разыскивает всех своих врагов и его стая жестоко их убивает. Теперь некогда ласковый и кроткий Хаген так переменился, что когда он наконец снова встречает Лили во внутреннем дворе скотобойни, где ее отец работает ветеринарно-санитарным инспектором, он ощеряет зубы и рычит. Ведь она тоже человек, и здесь же рядом с ней находится ее отец, который и начал эту войну. Хагена окружают бойцы его армии, и каждый из них готов напасть. Но тут испуганная Лили вспоминает, как Хагену нравилось, когда она играла на валторне, ее инструменте в школьном оркестре, и как музыка всегда успокаивала его. Она достает валторну из своего ранца и начинает играть. Хаген успокаивается и ложится на землю. Затем успокаиваются и ложатся и все остальные собаки. Лили продолжает играть, продлевая минуты мира и покоя.
Но это не хеппи-энд, потому что мы, разумеется, понимаем — эти собаки обречены. Но они сумели отомстить своим обидчикам.
Мы верим — это часть нашей мифологии — что дикое или рассвирепевшее животное можно успокоить или усмирить с помощью музыки. И это не лишено смысла, ведь нам хорошо известно, как музыка может действовать на настроение человека.
В «Белом боге» непосредственно перед тем, как собаку умерщвляют, ее помещают в комнату, где по телевизору показывают старый мультфильм про Тома и Джерри, который называется «Кошачий концерт» и в котором Том играет на пианино «Венгерскую рапсодию № 2» Листа.
Я не знаю, может ли музыка и впрямь успокоить собачью психику, но в Интернете она фигурирует среди рекомендаций по лечению подавленности у собак.
(«Вы сейчас пишете книгу? Вы не подавлены? Вы хотите завести домашнее животное? Ваше домашнее животное не подавлено?»)
Но какого рода музыку надо использовать?
Когда-то у меня был кролик, которому я позволяла свободно бегать по всему дому. В гостиной имелась стереосистема, и два больших динамика стояли на полу. Всякий раз, когда кто-то включал музыку, кролик подбегал к одному из динамиков и ложился рядом с ним. Обычно он просто лежал смирно или скреб лапой свои уши. Но если я ставила пластинку с адажио из кантаты № 208 Баха «Овцы могут спокойно пастись», он вскакивал и весело скакал по комнате.
Так какого же рода музыку надо включать? Веселую? Спокойную? С быстрым или медленным ритмом? «Венгерскую рапсодию № 2»? А как насчет Шуберта? (Нет, может быть, все-таки не Шуберта, с чьего пера, по словам Арво Пярта[51], сходило пятьдесят процентов чернил и пятьдесят процентов слез.) А как насчет «Сучьего варева» Майлса Дэвиса[52]. (Я понимаю, что все это до идиотизма антропоморфично, но иногда любовь принимает и такие формы.)
Я включаю для Аполлона Майлса Дэвиса, Баха и Арво Пярта. Я ставлю Принса[53], Адель[54] и Фрэнка Синатру[55]. И Моцарта, много музыки Моцарта.
Но, похоже, ничто из этого на него не действует. Думаю, он даже не слушает. А если и слушает, то думаю, ему это до фонаря.
И тут я вспоминаю об одном эксперименте — когда группе мартышек предложили на выбор: слушать Моцарта или рок-н-ролл, они выбрали Моцарта, но когда им предложили выбор между Моцартом и тишиной, они выбрали тишину.
Создатели фильма «Белый бог» черпали вдохновение в том числе и в романе «Бесчестье». Потеряв работу преподавателя, Дэвид Льюри бросает свою кейптаунскую жизнь и удаляется в деревню на Восточном Мысу, где его дочь Люси ведет на маленькой ферме натуральное хозяйство и где он в конце концов начинает работать в приюте для животных. Размышляя об участи никому не нужных собак, Люси замечает: «Они оказывают нам честь, относясь к нам как к богам, а мы в ответ обращаемся с ними как с вещами».
Я получаю письмо из офиса управляющего многоквартирным домом, в котором живу, где говорится, что им стало известно, что я нарушаю договор аренды своей квартиры. Проживающий со мной пес должен быть немедленно удален из здания, или…
Не случится ли с этим псом чего-нибудь плохого?
Часть 6
Студент, которого я назову Картер, считает, что недостаток рассказа студентки, которую я назову Джейн, заключается в том, что его главная героиня не похожа на литературный персонаж. Она больше похожа на девушку из реальной жизни.
Он проговаривает это дважды, потому что мои мысли какое-то время были заняты другим, и мне приходится попросить его повторить то, что он сейчас сказал.
— Вы заявляете, что героиня слишком реальна? — спрашиваю я, хотя и так понимаю, что именно это Картер и имеет в виду.
Героиня, о которой идет речь, — это девушка с рыжими волосами и зелеными глазами, которая подружилась с другой девушкой, светловолосой и голубоглазой, и вдруг обнаруживает, что парень, только что брошенный светловолосой — это ее собственный новый бойфренд. Цвет волос и глаз этого бойфренда не указан, но сказано, что он высок. Затем студентка, которую я назову Вив, скажет, что ей хочется знать, высока ли также и его новая девушка.
— Почему это кажется вам важным? — спрашиваю я, не давая воли своему раздражению (чего нельзя сказать о Вив, которая терпеть не может, когда ее просят что-то объяснить, и брюзгливо отвечает: «Разве я не могу просто спросить?»).
Есть в рассказе Джейн и некоторые вещи, по поводу которых вопросы есть и у меня. К примеру, почему, когда эти две девушки хотят поговорить, они садятся в свои машины и едут к кому-то из них домой? Почему ни одна из них никогда не пользуется мобильником, хотя бы для того, чтобы отправить сообщение и спросить, дома ли вообще вторая подруга? Почему они не знают друг о друге такие вещи, которые могли бы легко узнать из аккаунтов в Фейсбуке?
Это одна из самых загадочных и ставящих в тупик особенностей студенческой прозы. Я где-то читала, что студенты колледжей проводят в социальных сетях до десяти часов в день, но для людей, о которых они пишут и которые по большей части тоже студенты колледжей, Интернета практически не существует.
«В художественной литературе нет места мобильным телефонам» — такое критическое замечание оставил как-то раз на полях одной моей рукописи редактор, и с тех пор — а после этого прошло уже более двадцати лет — я не перестаю удивляться глухой стене, отделяющей полный технических новинок реальный мир и художественную литературу, в которой они почти не упоминаются.
Когда-то мне казалось, что если кто и может пролить свет на этот вопрос, то это студенты, однако выяснилось, что от них в этом плане мало толку. Наиболее интересный ответ я получила от студентки магистратуры, у которой есть пятилетний ребенок. Всякий раз, когда она читает ему сказку, сказала она, он то и дело перебивает ее вопросами:
— А когда они ходят в туалет? Мама, когда они ходят в туалет?
Аргумент принят: есть вещи, которые мы все время делаем в нашей реальной жизни, но не описываем в художественной литературе. Но никто не проводит в туалете по десять часов в день.
Подумайте о критическом замечании Курта Воннегута[56], который написал, что современные романы, оставляющие за скобками технические новинки, дают о современной жизни такое же неверное представление, как романы викторианской эпохи, оставлявшие за скобками секс.
Но это представляет собой еще одну загадку. «У них абсолютно ничего нет ни в головах, ни между ног» — так один мой знакомый преподаватель литературного мастерства описывает персонажей студенческой прозы. Этот преподаватель читает предмет намного дольше, чем я, и собирается скоро уйти на покой. И он сказал мне, что так было не всегда.
— Я помню время, когда в рассказах моих студентов было более чем достаточно секса, и немалая его часть была с вывертами. Теперь же все боятся оскорбить чьи-то чувства или спровоцировать какой-то негатив. Но по правде говоря, мы, преподаватели, должны им быть за это благодарны. В наши дни, обсуждая вопросы секса на семинаре, ты можешь схлопотать себе неприятности. Я знаю еще одного преподавателя-мужчину, работающего в чисто женском колледже, которому здорово досталось за то, что он включил в список предлагаемых письменных заданий тему «Ваш первый сексуальный опыт», что дало повод нескольким студенткам написать на него жалобу. После чего декан заявил, что поступок этого преподавателя может быть — и был — расценен как форма сексуальных домогательств.
Я прошла обязательный для моего учебного заведения онлайн-курс, называемый «Тренингом по предотвращению противоправных действий сексуального характера» и с изумлением открыла для себя, что любое устное или письменное упоминание о сексуальном поведении, включая двусмысленные шутки, или рисунки, или случайный разговор о своей собственной, или чей-либо еще сексуальной жизни, подпадают под определение противоправных действий сексуального характера. И, похоже, для ведения курса литературного мастерства никакие исключения не предусматривались. Я начала беспокоиться, поскольку добавила в программу рассказ, включавший в себя сцену аутоэротической асфиксии, но до моих студентов просто не дошло, о чем идет речь. Я просветила их по этому поводу, после чего начала беспокоиться о том, что, возможно, мне не следовало этого делать.
Хотя должна признаться: я прочитала большую часть материала этого онлайн-курса только по диагонали, меня удивило, когда, дойдя до последнего раздела, озаглавленного «Проверьте ваши знания» («Никто не увидит Ваши результаты, кроме Вас самих»), я обнаружила, что дала неправильные ответы на два из десяти вопросов теста. И мне было рекомендовано вернуться к соответствующим разделам курса и прочитать их более внимательно. Но зачем зря заморачиваться, если теперь я уже знала, что да, я обязана немедля доложить любую имеющуюся у меня информацию о том, что кто-то из преподавательского состава встречается с кем-то из учащихся и что, хотя я и не обязана, но мне настоятельно рекомендуется настучать на коллегу, отпустившего сомнительную шутку, даже если меня лично эта шутка не задела.
— Я хочу признаться, — говорит Картер, — что знаю эту девушку. И могу подробно рассказать вам, как она выглядит.
Каким образом? Единственное, что я смогла рассказать вам об этой девушке, это то, что написала Джейн: цвет волос, цвет глаз — обычный для студента способ описания персонажа, как будто рассказ, в котором выведен этот персонаж, это какое-то удостоверение личности вроде водительских прав. Это так типично, что я пришла к выводу о том, что студентам, по-видимому, кажется, что говорить о персонаже слишком подробно — это невежливо, это вторжение в его личную жизнь и лучше описывать его как можно более осторожно — а вернее сказать, безлико. Так, студент, пишущий, к примеру, о Картере, упомянет, что у него карие глаза, но ни словом не обмолвится о том, что шею его обвивает татуировка в виде колючей проволоки, или о том, что он постоянно потирает свое запястье, ноющее после долгих часов приготовления эспрессо в расположенной на кампусе кофейне «Старбакс». Будут упомянуты также его кудрявые русые волосы, но ничего не будет сказано о том, что они всегда, каким бы теплым ни был день, покрыты черной вязаной шапкой. Скорее всего, за скобками будут оставлены даже кольца, вставленные в мочки его ушей и растянувшие в них дыры размером с серебряный доллар, на которые я не могу смотреть, не морщась.
— Я могу рассказать вам о ней все, — говорит Картер.
Мне героиня Джейн кажется такой же невыразительной и тусклой, как тонкая прядка седых волос, которую я только что смахнула со своего рукава. Но Картер считает, что проблема состоит не в том, что она чересчур безлика, а в том, что она чересчур узнаваема. Это вечная тема его критических разборов произведений других студентов. Какой смысл писать истории о людях, которых ты каждый день встречаешь в реальной жизни? Флэннери О’Коннор как-то заметила, что опасно позволять студентам критически разбирать рукописи других студентов — получается, что слепой ведет слепого. Сам Картер хочет стать вторым Джорджем Р. Р. Мартином[57]. Роман, который он пишет, повествует об эпических распрях выдуманных королевств, ведущих между собой нескончаемую войну в стремлении к власти, могуществу и мщению. Правда, его, в отличие от его кумира, нельзя обвинить в том, что в произведении имеются сцены сексуального насилия. На страницах его романа нет ни изнасилований, ни инцеста. Там вообще нет секса, а женщины упоминаются только мельком. Когда другие члены группы высказывают сомнения по поводу состоятельности романа, в котором отсутствуют сколько-нибудь примечательные женские персонажи, Картер только пожимает плечами и молчит. Но когда мы остаемся с ним одни в кабинете, он рассказывает мне, что на самом деле в его романе есть женщины. И секс. Много секса, и в основном жесткого. Есть и изнасилования. И групповые изнасилования. И инцест.
— Для обсуждения на семинарах я все это удаляю, — говорит он.
Когда я спрашиваю его, зачем, он закатывает глаза.
— Вы что, шутите? Неужели вы не знаете, как на это отреагировали бы другие, я имею в виду женщин? Меня могут исключить из колледжа.
Когда я заявляю, что уверена — ничего подобного не случится, это парня не убеждает. Сегодня его черная вязаная шапочка надвинута на лоб, что делает бедолагу похожим на кроманьонца. Своими растянутыми ушными мочками он напоминает мне одного своего вислоухого персонажа из числа выведенных в романе полулюдей.
— Нет, я не стану так рисковать, — говорит он. — Но поверьте, в моем романе все это есть. Я имею в виду разного рода насилие и непристойности.
Эти слова во мне что-то пробуждают. Что он сразу же замечает.
— Но если это хотите почитать вы, я вам все покажу.
— Не думаю, что в этом есть необходимость, — бормочу я, и он понимающе ухмыляется.
Это делают большинство моих студентов. Это делают некоторые из моих коллег-преподавателей. Люди, работающие в издательском бизнесе, делают это тоже. И особенно вероятно, что все они будут это делать, если литератор, о котором идет речь, — женщина. Но когда это началось, это всеобщее обыкновение говорить о писателях, которых ты никогда не встречал, называя их не по фамилиям, а по именам?
Книжный фестиваль в Бруклине. Я спускаюсь на станцию метро «Четырнадцатая улица» и сажусь в поезд № 2. Вагон полон. Я вижу мужчину и женщину средних лет, сидящих от меня недалеко, но недостаточно близко, чтобы я могла слышать их разговор. Судя по их телодвижениям, жестам и мимике, они скорее друзья или коллеги, чем муж с женой или пара любовников. Что-то подсказывает мне, что они направляются туда же, куда и я. Полчаса спустя, когда мы доезжаем до станции «Атлантик авеню», они выходят вместе со мной. Сейчас субботний вечер, на станции не протолкнуться, и вскоре я теряю их из виду. Книжный фестиваль проходит в зале здания, находящегося в нескольких кварталах от станции. Прибыв туда, я направляюсь прямиком к стойке бара, и мужчина и женщина из поезда № 2 опять тут как тут, они стоят в очереди прямо передо мной.
В нынешнем семестре я делю кабинет с еще одной преподавательницей. Ее наняли недавно, собственно говоря, она только начинает преподавать. Оказывается, всего несколько лет назад эта молодая женщина была моей студенткой. Одна и та же программа, одно и то же учебное заведение.
Иногда она занимается в кабинете медитацией, и тогда в воздухе стоит аромат мимозы или флердоранжа от ароматических свечей, которые она при этом жжет.
Поскольку мы с ней проводим свои занятия в разные дни, то обычно не встречаемся, но поддерживаем связь с помощью текстовых сообщений и записок, и она иногда оставляет мне какое-нибудь лакомство: печенье, шоколадку или пакетик жареного миндаля. Однажды в день моего рождения она уставила наш кабинет цветами.
Еще будучи студенткой, эта женщина добилась немалого успеха, продав издательству свою магистерскую диссертацию, то есть свой первый роман еще до того как ею была написана половина конечного текста, а также свой второй роман еще до того как у нее появилась первая его задумка. Еще до того как ее первая книга вышла в свет, она начала получать литературные премии, которые только и существуют для авторов, подающих особенно блестящие надежды. Она стала известна среди нас как О. П. Как и ожидалось, когда ее первый роман был издан, критики встретили его восторженными отзывами. Но, несмотря на это и невзирая на то, что за него ей присудили еще одну литературную премию, книга продавалась плохо. В нашем маленьком литературном мирке О. П. остается знаменитой, она «та девушка, которая получает все премии». Но в большом мире даже среди тех, кто не оставляет без внимания новинки художественной литературы, хотя после выхода ее первого романа прошло уже два года, ни его название, ни фамилия автора почти наверняка ничего никому не скажут.
Такая история отнюдь не нова, и едва ли это можно назвать концом света. Но попробуйте сказать это О. П., которая уже два года как не может писать вообще.
Она думала, что преподавание могло бы ей помочь или что, занимаясь им, она хотя бы сможет делать что-то полезное. Будучи студенткой, она, хотя и была по натуре интровертом, излучала уверенность в своих силах. Но как преподаватель она не справляется. Она примерно такого же возраста, как и ее студенты, и даже моложе некоторых из них. Она полностью осознает, как бросается в глаза ее неопытность и как недостает ей умения утвердить свой авторитет. Голос у нее высокий, тонкий, имеющий от природы тенденцию дрожать, и, волнуясь, она склонна краснеть.
Она горько обижена на студенток, которые, она это чувствует, хотят ей навредить и которые постоянно дают ей понять, что она для них никто, как это часто делают женщины по отношению к другим женщинам, особенно если эти особы амбициозны и стремятся вырваться на самый верх. Среди студентов мужского пола трое уже попытались ее склеить. Притом одному из них так хорошо удается раздевать ее глазами, что она ловит себя на мысли, что в аудитории невольно прикрывает руками грудь. А что еще хуже, ее тянет к нему неудержимо.
Иногда перед занятиями у нее бывают панические атаки. Поэтому она и занимается медитацией, прибавляя к ней иногда успокоительное. О. П. терзает страх, она боится не только того, что никогда больше не сможет писать, но также и того, что вся ее жизнь — это одна сплошная ложь. Все, чего она достигла, было результатом какой-то ошибки. Почему кто-то захотел издать то, что она написала — почему кто-то посчитал, что она способна преподавать — все это совершенно непонятно! Что касается этого ее второго романа, то сколько раз издательство ни отодвигало бы срок сдачи рукописи, она знает — ей никогда его не написать. О. П. живет в страхе, что ее разоблачат, что все поймут, что она не просто неудачница, а самая настоящая самозванка. — И, пожалуйста, все, перестаньте называть меня О. П.! — И совершенно бесполезно напоминать ей, что точно такие же сомнения мучили и других писателей во все времена, и особенно некоторых из самых великих. Бесполезно цитировать Кафку, который, характеризуя свой великий роман «Превращение», написал: «Он несовершенен почти до самой своей основы».
Другая преподавательница, у которой занятия проходят в те же дни, что и у О. П., говорит, что иногда слышит, как она плачет за закрытой дверью, однажды она плакала из-за того, что ей никак не удавалось написать простой двухстраничный отзыв на студенческую работу.
В тот день, когда я присутствую на занятии в ее группе в качестве наблюдателя от руководства факультета, я вижу, как студент, к которому, как она мне призналась, ее влечет, неотрывно смотрит на нее одновременно с нежностью и вожделением. Хотя я и уверена, что это так, я не упоминаю в своем отчете, что она завела роман с этим студентом. Если мне повезет, она мне в этом не признается и не попросит у меня совета.
Я представляю себе, как это когда-нибудь случится: я в это время буду в магазине, продающем косметику, или в каком-нибудь салоне, или в ванной какого-то дома, куда буду приглашена. И почувствую легкий запах мимозы или флердоранжа, но не вспомню тех ароматических свечей, которые О. П. жгла в нашем с ней кабинете, и потому моя реакция озадачит: меня проберет тревожная дрожь, словно я только что узнала телепатическим путем, что кто-то, кого я знаю, попал в беду.
Напротив кабинета, который я делю с О. П., находится кабинет нынешнего Выдающегося приглашенного писателя, но он туда никогда не заходит. Он не ведет консультаций и дал указание секретарю нашей программы переправлять его почту к нему домой, вместо того чтобы использовать его почтовый ящик в колледже. Когда он приходит на очередное занятие, он идет прямо в аудиторию, где сидит группа. Его коллеги встречаются с ним редко, а когда это происходит, он просто смотрит сквозь того, кого встретил, как будто этого человека здесь и нет. Перед началом семестра он дал указание ректору сообщить преподавателям, что он не пишет кратких отзывов, помещаемых на обложках книг. А студентам он на первом же занятии заявил:
— Я не сочиняю рекомендательных писем. Даже не просите.
Услышав об этом, ты был возмущен:
— Надо было сказать это ему, когда он попросил меня написать ему рекомендательное письмо в издательство музея Гуггенхайма.
Вскоре после начала семестра он устраивает публичное чтение своей новой книги в книжном магазине-кафе компании «Барнес энд Ноубл»[58]. Публики собралось немного, но это его не смущает: он продолжает читать более получаса.
Затем приходит время отвечать на вопросы, и когда кто-то спрашивает, почему его книга, форма которой весьма далека от традиционной, называется романом, он отвечает:
— Это роман, потому что так говорю я.
Во время подписывания экземпляров его книги какая-то женщина заявляет, что он должен как можно скорее написать еще одну книгу.
— Потому что знаете, — с серьезным видом произносит она, — здесь же ничего нет.
Это в книжном-то магазине компании «Барнес энд Ноубл».
Сообщения в новостях: тридцать два миллиона взрослых американцев не умеют читать. С 1992 года число потенциальных читателей поэзии сократилось на две трети. Женщина, «с трудом выкраивающая деньги на квартирную плату» и беспокоящаяся о том, как ей выжить в Нью-Йорке, решила попробовать написать роман («и он идет у нее хорошо»).
Часть 7
Твоя первая жена живет за границей. Она прилетела в Нью-Йорк на устроенную после твоей смерти церемонию поминовения, и однажды вечером до того, как она улетела домой, мы с ней поужинали в ресторане.
— Я знаю, на тебя его смерть подействовала тяжелее, — доброжелательно говорит она. — Мы с ним были женаты, но это произошло так давно. А после того, как наш брак распался, больше ничего не было. Ни дружбы, ни контактов, ничего. Так и должно быть. И я буду с тобой честной: сначала я думала, что даже не явлюсь на церемонию поминовения. Но потом я подумала: так я примирюсь с тем, что было, и отпущу прошлое. Что бы это ни значило.
— Когда человек кончает жизнь самоубийством, — сказал кто-то на церемонии поминовения, — примириться с этим нельзя.
— Но ты — другое дело, — продолжала она. — Вы были такими близкими друзьями, и ваша дружба длилась так долго. Как я этому завидовала. Я думала: если бы мы с ним не влюбились друг в друга, тогда у нас могла бы быть такая дружба!
Но мы ничего не могли с собой поделать. Наша любовь была так сильна, как будто ее нам кто-то наколдовал. Это оказалась одна из тех великих страстей, испытать которые дано лишь немногим, в то время как удел всех остальных — только слушать рассказы или грезить о чем-то подобном.
Даже сейчас это кажется мне любовью-легендой — такой же прекрасной, ужасной и обреченной.
Я помню, что тогда находиться рядом с вами двоими было все равно, что сидеть возле печки. И еще помню, что когда ваш брак начал распадаться, я подумала, что из-за этого кто-то из вас в конце концов умрет. До этого ты сам как-то сказал мне, что порой тебе кажется, что ты делаешь что-то запретное, даже преступное. А она, воспитанная в католической семье, была убеждена, что такая любовь, похожая на идолопоклонство, наверняка грех. И в конце концов именно это и довело твою вторую жену до отчаяния: не твои бесконечные измены, а уверенность в том, что великая любовь бывает только раз в жизни, что твои чувства к ней не могут сравниться с тем, что ты чувствовал к своей первой жене, которой, как она всегда боялась, все еще принадлежит твое сердце.
— Если бы мы только не влюбились друг в друга, — она повторяла это раз за разом. — Я только что думала об этом, сидя в такси по дороге сюда. Помнишь, как мы все его боготворили? Как мы все были исступленными поклонницами его таланта? Как нас тогда называли?
— Литературной семьей Мэнсона[59].
— О господи, да. Брр! Как я могла забыть.
Помнишь, как мы благоговейно внимали каждому твоему слову, как бежали и покупали каждую книгу и каждый альбом, о которых ты нам говорил?
Помнишь, как все, что мы писали, было только жалким подражанием тому, что писал ты?
Помнишь, как ты заставил нас поверить, что когда-нибудь тебе присудят Нобелевскую премию?
Теперь он стал просто еще одним мертвым белым мужчиной.
— Он хорошо писал, — говорю я. — Лучше и успешнее, чем большинство других писателей.
— Но я слышала, что последние года два он почти ничего не писал.
— Это верно.
— Неужели он казался настолько подавленным? Он что-нибудь об этом говорил? Я спрашиваю не из праздного любопытства, это действительно не давало мне спать по ночам. И почему он бросил преподавать?
Я повторяю ей все твои жалобы, которые не слишком-то отличались от того, что мы каждый день слышим от других преподавателей: теперь даже выпускники лучших университетов не могут отличить хорошее предложение от плохого, никому в современных издательствах больше нет дела до того, как написана та или иная книга, книги умирают, литература умирает, а престиж писателя упал так низко, что остается только диву даваться, почему в наши дни все вплоть до бабушек тщатся что-то написать, считая, что это непременно принесет им славу.
Я рассказываю ей, как ты потерял веру в предназначение художественной литературы — ведь теперь никакой роман, как блистательно он ни был бы написан, каких бы ни содержал идей, уже не оказывает на общество сколько-нибудь значительного воздействия, и теперь уже невозможно даже представить себе чего-либо похожего на то, что заставило Авраама Линкольна сказать Гарриет Бичер-Стоу[60], когда они встретились в 1862 году:
— Так это вы — та маленькая женщина, которая начала такую большую войну?
Если Авраам Линкольн действительно это сказал.
И тут я вспоминаю о твоем интервью.
Как странно, что я вообще могла про него забыть, даже на время. Ты дал это интервью, которое, вероятно, стало для тебя последним, для первого номера нового литературного журнала, основанного на Среднем западе.
В этом интервью ты предрек, что среди писателей скоро начнется волна самоубийств.
— И когда же, по вашему мнению, это произойдет?
— Скоро.
Я помню, что была удивлена, когда ты ничего не сказал мне об этом интервью, которое я, вероятно, так бы и не прочла, если бы мне его не отправил на почту еще один мой друг.
Я не стал говорить тебе о нем, потому что был смущен. Позднее я понял, каким оно может показаться мелодраматическим и полным жалости к себе. Перед тем, как дать его, я немного выпил.
Я помню, что интервьюер задал тебе обычный в таких случаях вопрос о твоей аудитории, о том, представляешь ли ты себе какого-то конкретного читателя, когда пишешь очередную книгу. Тогда ты пустился в рассуждения об отношениях между писателем и читателем и о том, как эти отношения изменились. Когда ты был молодым писателем, кто-то сказал тебе:
— Никогда не исходи из предположения, что твой читатель менее умен, чем ты сам.
И ты отнесся к этому совету очень серьезно. Ты писал для читателя, который был так же умен, как и ты, иногда даже умнее! Для того, кто был интеллектуально любознателен, кто имел привычку к чтению и любил книги так же сильно, как и ты. Для того, кто любил художественную литературу. А затем, с приходом Интернета у тебя появилась возможность читать отзывы реальных людей, среди которых ты с радостью находил тех, кто в большей или меньшей степени был похож на идеального читателя, которого ты себе представлял. Но были и другие — и таких было не один и не два, а весьма немало, — кто неверно, а в некоторых случаях даже совершенно превратно понял или истолковал то, что ты написал. Это оказывалось достаточно тяжело и в том случае, если такому читателю твоя книга действительно не понравилась, но так бывало отнюдь не всегда. Как и других писателей, тебя теперь регулярно поносили или хвалили за то, что вообще никогда не приходило тебе в голову, когда ты работал над тем или другим из своих произведений, за мысли, которых ты никогда не выражал и никогда бы не выразил, за то, что было прямо противоположно тому, во что ты действительно верил.
И это, сказал ты, привело тебя в замешательство. Потому что хотя ты и знал, что должен радоваться всякий раз, когда кто-то покупает твою книгу, благодарить судьбу за каждого читателя, который выбрал именно ее среди миллионов других, тебя, честно говоря, совсем не вдохновляет мысль о том, что какой-то читатель все в ней понял не так, как ты хотел, и ты предпочел бы, чтобы этот читатель вообще прочел не твое произведение, а произведение кого-нибудь еще.
— Но разве так было не всегда?
— Да, конечно, но в прошлом писатель мог об этом и не подозревать, это не было для него насущной проблемой.
— Но как же тогда насчет известного изречения Д. Г. Лоуренса[61] «Никогда не доверяй рассказчику, доверяй рассказу» и его слов о том, что задача критика состоит в том, чтобы спасти произведение от его автора?
— Знаете ли, под «критиком» Лоуренс не имел в виду самозваного критика. Хотелось бы мне почитать отзыв обыкновенного читателя, который спас бы книгу от ее автора.
Позвольте мне сыграть здесь роль адвоката дьявола. Представим, что я пригласил кого-то на ужин и приготовил для него изумительную тушеную говядину, а он съедает ее и говорит: «Надо же, это самая вкусная тушеная баранина, которую я когда-либо ел!»
— Ну, и что с того? Разве важно не то, что ваш гость съел блюдо с удовольствием?
— О, мы с вами говорили об ужине? Что ж, позвольте мне сказать вот что: когда я пишу слово «говядина», а кто-то вместо этого читает «баранина», я отношусь к этому серьезно. — Проблема, черт возьми, состоит в том, что люди говорят о книге так, словно это просто какая-то вещь, что-то вроде кушанья или изделия, такого, как электронный гаджет или пара обуви, изделия, которое создается, чтобы потребитель был доволен. Даже мои студенты, сказал ты, те, кто желает стать писателями, похоже, оценивают книгу не с точки зрения того, насколько автору удалось воплотить в ней свой первоначальный замысел, а только с точки зрения того, нравится она им или нет. И как следствие, ты получаешь от студентов работы, в которых говорится, например: «Я терпеть не могу Джойса[62], у него слишком много понтов или «Не понимаю, почему я должен читать о проблемах белых людей». Ты получаешь отзывы от читателей, полные возмущения, из которых следует, что если книга не подтверждает правильности выводов, к которым уже пришел для себя сам читатель, правильности того, с чем он солидаризируется, то автору вообще не стоило ее писать. Уморительные истории, которые многим нравятся и которые они с удовольствием пересказывают: например, о члене клуба книголюбов, который сказал: «Когда я читаю роман, мне хочется, чтобы в нем кто-то умер», или жалоба на то, что в дневнике Анны Франк[63] ничего не происходит, а потом повествование просто обрывается, не вызывают у тебя веселого смеха. О, да, ты понимал, что множество людей, включая писателей, обвинят тебя в манерности. Иные сказали бы, что для творца самым убедительным свидетельством неудачности его произведения является то, что его понимают все и каждый. Но правда состоит в том, что ты пришел в такое уныние, обнаружив, сколь повсеместной стала привычка читать невнимательно, что случилось то, что, как ты всегда считал, не случится никогда — тебе стало все равно, будут тебя читать или нет. И хотя ты знал, что твой издатель плюнет тебе в глаза, если ты скажешь это вслух, ты был склонен согласиться с тем человеком, кто бы это ни был, который сказал, что ни одна по-настоящему хорошая книга не найдет более трех тысяч читателей.
— О боже, — говорит твоя первая жена.
В конце этого интервью ты затронул тему наставничества и преподавания и резко обрушился на новые университетские правила, ставящие под запрет романтические связи между преподавателями, с одной стороны, и студентами и студентками, с другой.
— Какая чушь, — сказал ты, — эта идея о том, чтобы сделать университет безопасным местом. Только подумайте обо всех тех прекрасных вещах, которые бы никогда не произошли — обо всех тех вещах, которые никогда не были бы созданы или открыты и даже не пришли бы никому в голову, — если бы главным приоритетом в жизни было создать у всех людей до единого чувство безопасности. Кто бы захотел жить в таком мире?
— О боже, боже.
Единственной частью этого интервью, которой я не слышала раньше, было то, что ты наговорил о самоубийствах.
До этого я немного выпил. Я попросил прислать мне текст интервью до того, как он будет опубликован, и мне сказали, да, само собой, но этот гад-журналюга так мне его и не прислал.
Я выдаю твоей первой жене о студентках твоей группы, которые не хотели, чтобы ты, обращаясь к ним, говорил «дорогая». Но я не говорю ей еще об одной вещи, которая тоже совсем было вылетела у меня из головы и вспомнилась только сейчас: в тот день, когда ты давал это интервью, ты был расстроен и впоследствии рассказал мне почему. Ты подозревал, что твой литературный агент передал твою последнюю книгу издательству, так и не прочитав ее.
Я рад, что этот журнал закрывается. Это был дерьмовый журнал.
— Я скажу тебе, почему я какое-то время просыпалась по ночам и не могла спать, — признается твоя первая жена. — Я читала, что среди тех людей, которые пытались покончить с собой, но выжили, почти все заверяют, что жалеют о том, что пытались это сделать. Как те, кто прыгал с высоты, но не разбился и потом говорил, что, оказавшись в воздухе, они сразу же поняли, что совершили ошибку и на самом деле не хотят умирать.
Я тоже это слышала, но мне вспоминаются также другие истории из другого времени, истории о том, как следователи, расследовавшие случаи насильственной или скоропостижной смерти, выяснили, изучая трупы тех, кто утопился, кажется, речь шла о тех, кто утопился в Сене: оказалось, что те, кто хотел умереть из-за любви, пытались выплыть обратно на берег. А те, кто желал смерти из-за финансового краха, сразу же камнем шли ко дну.
Старение. Мы знали, что пережить это тяжелее всего, а для тебя это было еще тяжелее, чем для других. Мужчина, который когда-то мог покорить любую женщину, которую бы он захотел. Который был окружен исступленными поклонницами, ловившими каждое его слово и верящими, что он может получить Нобелевскую премию.
Даже если это была просто группа глупых, потерявших голову девиц вроде нас. Мы с твоей первой женой уже начали привлекать внимание. Две женщины, наклонившиеся над первыми блюдами, держа друг друга за руки и вытирая глаза салфетками.
Позднее, впервые увидев Аполлона по Скайпу, она говорит:
— Ничего себе! Не могу поверить, что на твою голову навязали такое чудовище. Неудивительно, что никто не хочет брать его к себе.
Я вздрагиваю. Мне тяжело слышать, что кто-то считает, что Аполлон никому не нужен. Я вспоминаю, как твоя третья жена отвергла мое предположение, что, наверное, есть много людей, которые захотели бы взять к себе такого красивого пса.
Возможно, если бы он был щенком, — сказала она.
— И я не понимаю, как он мог ожидать, что ты возьмешь его к себе, если это будет означать, что тебе придется съехать с насиженного места.
— Уверена, что либо я никогда не говорила ему, что мне нельзя иметь собаку, либо он об этом забыл.
— Но подумать только, он сам тебя об этом не просил, даже не поднимал этот вопрос, как будто твое мнение вообще не имело для него значения. Я представить себе не могу, о чем он только думал.
А я могу. Потому что я представляла себе это много раз: как ты, думая над ответами на все остальные вопросы, которые наверняка приходили тебе в голову, подумал и о том, что станется с твоим псом.
Я слышала о еще одной самоубийце, одним из последних поступков которой было отвести свою собаку в приют. Прощание, о котором невыносимо даже думать.
Правда, ты нигде об этом не написал: как и большинство самоубийц, ты не написал вообще ничего. И не внес никаких изменений в завещание, которое составил несколько лет назад. Но ты объявил свою волю жене.
Она живет одна, у нее нет ни партнера, ни детей, ни домашних питомцев, она в основном работает дома и любит животных — вот, что он сказал.
Может быть, в какой-то момент ты думал, что надо обсудить это со мной, может быть, ты даже намеревался это сделать. Но ведь, как мне говорили, самоубийцы часто выбирают момент для ухода из жизни наугад, думая: сейчас или никогда, когда им кажется, что, даже просто помедлив, чтобы черкнуть пару прощальных строк, они могут струсить. (Тот, кто колеблется, еще может передумать.)
Может быть, ты боялся, что если бы у нас с тобой все-таки состоялся этот разговор — разговор о том, что станется с твоим псом в случае твоей смерти, — я могла бы догадаться или, по крайней мере, заподозрить, что ты задумал совершить.
Когда я рассказываю твоей первой жене, сколько лет Аполлону, что это уже пожилой пес, принадлежащий к такой породе, что ему осталось жить недолго — по словам ветеринара, года два, она говорит:
— Тогда то, что он сделал, кажется мне хуже. Я бы еще поняла, если бы этот пес был щенком. Но что ты будешь делать с таким старым и крупным псом? Как ты будешь заботиться о нем, если он станет немощным?
Эта мысль со всеми тяжелыми последствиями, которые неизбежно из нее вытекают, конечно же, уже приходила мне в голову.
— Не знаю, что и сказать. У меня такое чувство, будто во всей этой ситуации есть некий элемент безумия.
В самом деле. С тех пор, как я узнала о твоей смерти, я так часто чувствовала себя как человек, одной ногой стоящий в безумии. Поначалу я иногда оказывалась в каком-то месте, совершенно не помня, как я туда попала, и порой за чем-то выходила из дома, но затем начисто забывала, за чем именно. Однажды я отправилась на работу, не взяв с собой конспекта лекций, без которого я не могла вести занятие. Я перепутала свои сроки записи к врачам и в результате пришла не в тот кабинет. Почему мои студенты так уставились на меня? Я что, сказала какую-то несуразицу или повторила то, что уже говорила пять минут назад? Или мне только кажется, что они на меня глазеют?
Получив от секретаря факультета открытку фирмы Холлмарк Кардз[64] с выражениями сочувствия, топорными, но трогательными, я проплакала целый час.
К тому времени, когда у меня дома поселился Аполлон, такие случаи стали происходить со мной реже. Но всю мою жизнь сейчас окутывает густая дымка нереальности. Временами мне кажется, что я оказалась в какой-то волшебной сказке. Когда люди спрашивают меня, что вы собираетесь делать, когда вас выселят из вашей квартиры, не можете же вы просто сидеть и ничего не предпринимать, надеясь на чудо, я думаю:
— Именно чуда я и жду!
Я чувствую, что оказалась в одной из тех сказок, в которых человек должен пройти испытание, в одном из тех преданий, в которых некто встречает незнакомца — иногда это человек, иногда зверь, — которому нужна помощь. Если человек отказывается помочь, его ждет суровая кара. Если же человек делает добро существу, которое оказалось в беде — а часто под его личиной скрывается некто богатый, могущественный или тот, в чьих жилах течет королевская кровь, — он получает награду, нередко в виде любви этого существа, чья истинная благородная сущность наконец открылась, перестав быть тайной. Мне нравится история про Грету Гарбо, которая посмотрев фильм Жана Кокто[65] «Красавица и чудовище» до конца, когда злые чары разрушаются и Чудовище предстает в образе принца, которого играет Жан Марэ, крикнула: «Верните мне мое прекрасное чудовище!» Иногда в таких историях фигурирует собака. Как в одной исламской легенде, в которой проститутка приносит воды умирающему от жажды псу и этим своим поступком так угождает Всевышнему, что он прощает все грехи и впускает ее в рай.
— Аполлон не виноват в том, что он не милый маленький щенок. Он не виноват в том, что он такой большой. И пусть это звучит дико, но у меня такое чувство, что если я не оставлю его у себя, случится что-то плохое. Если ему придется сменить обстановку еще раз, у него могут развиться такие психические проблемы, что его придется усыпить. Я не могу этого допустить. Я должна его спасти.
Твоя первая жена теряется:
— О ком мы сейчас говорим?
Может быть, все дело действительно в безумии? Неужели, я верю, что если я буду к нему добра, если я поведу себя самоотверженно и пойду на жертвы, неужели я в самом деле верю, что если я буду любить Аполлона — красивого, стареющего, грустного Аполлона, — то в одно прекрасное утро я проснусь и увижу, что его больше нет, а на его месте — ты, вернувшийся из царства мертвых?
Теперь, после того как Эктор сообщил о том, что я держу собаку, домовладельцу, он чувствует себя виноватым. Каждый раз, встречая меня, он выглядит сконфуженным.
— Простите меня, — говорит он, — но вы же сами понимаете…
— Я понимаю, что вам надо было делать свою работу.
— Он хороший пес…
Его, похоже, трогает то, что Аполлон позволяет ему гладить себя по голове, как будто он в самом деле думает, что пес знает, что он, Эктор, сделал.
— Вам есть куда переехать?
— Пока нет, но что-нибудь наверняка подвернется, — говорю я с беспечностью, которая совершенно искренна: моя жизнь стала настолько нереальной, что я едва пробежала глазами второе уведомление о выселении, присланное из офиса управления зданием, прежде чем выбросить его в мусор.
— Какая жалость, — говорит Эктор. — Такое прекрасное животное. Мне очень жаль.
— Это не ваша вина.
Чтобы доказать, что я его не виню, я планирую дать ему на Рождество более щедрые чаевые, чем в прошлом году.
Я не могу точно сказать, нравится ли Аполлону, когда я его массирую, или же он это просто терпит. Но я продолжаю это делать, заставляя его ложиться то на один бок, то на другой, а между массированием боков почесывая его грудь. Чесание груди явно нравится ему больше всего. Ему не нравится, когда дотрагиваются до его лап, но живущая глубоко внутри меня шалунья не оставляет попыток трогать и их.
Он уже привык и к своему новому дому, и ко мне. Я не оставляю его одного, кроме того времени, которое я провожу в колледже. Но и там я постоянно о нем думаю, и мне не терпится поскорее вернуться к нему. Он встречает меня у двери (ждал ли он у двери все время, пока меня не было?), но вид у него печальный, что говорит о том, что ожидание давалось ему нелегко. (Насколько хороша его память? Если она очень хороша, а считается, что у собак память отличная, то какое же горе он, наверное, испытывает, когда я запираю его одного. И — эта мысль рвет мне сердце — не тебя ли он все еще ждет, сидя под этой дверью?)
Его хвост движется из стороны в сторону, это явно виляние, но виляние грустное. Он никогда не виляет хвостом радостно, не машет им изо всех сил, что характерно для догов (до такой степени, что часто дог из-за этого и травмирует свой хвост, и ломает предметы домашней утвари, что и побуждает многих хозяев купировать им хвосты).
Надувной матрас снова лежит в стенном шкафу. Но на этом еще не поставлена точка. Он больше ни разу на меня не рычал, и когда я говорю: «Лежать», — мне обычно не приходится повторять это дважды. Однако его любимым местом продолжает оставаться кровать, и он предпочитает находиться именно там, особенно по ночам. (Я попыталась заставить его рассмотреть надувной матрас как собачью подстилку, но из этого ничего не вышло.) Несмотря на предупреждение ветеринара, я не сочла необходимым полностью изгнать его с кровати. Ведь в конце концов многие люди разрешают своим собакам спать на кровати. Некоторые даже кладут в изножье специальное собачье одеяло, чтобы собака спала именно на нем. Если бы Аполлон был той-пуделем, лежащим, свернувшись калачиком, на таком специальном одеяльце в изножье кровати, в этом не было бы ничего необычного. Почему же надо относиться к псу как-то иначе, если он размером с мужчину и, растянувшись, кладет свою голову на подушку? Да, я согласна, разница есть. Но позвольте мне сказать вот что: когда ты лежишь в постели, терзаемая ночными мыслями о том, почему твой друг решил свести счеты с жизнью, и о том, через какое время ты потеряешь крышу над головой, ощущение, что к твоей спине прижимается огромное теплое тело, дает тебе несказанное успокоение.
Он знает все команды.
Как-то раз после долгого неудачного дня — я потеряла мобильник, студенты на занятии вели себя вяло, и у меня опять не получилась попытка вернуться к написанию романа, — Аполлон шевелится, собирается спрыгнуть с кровати, и я, не задумываясь, говорю ему: «Место».
Я заметила, что некоторые из моих друзей начали меня избегать. Я не могу избавиться от мысли о том, что, по крайней мере, частично это вызвано их опасениями, что в один прекрасный день, и уже скоро, я появлюсь у них на пороге, ведя за собой Аполлона и держа в руке чемодан.
Мне звонит мой друг, который особенно сочувственно относится к положению, в которое я попала, и спрашивает, как у меня дела. Я рассказываю ему, что для лечения депрессии Аполлона я пытаюсь делать ему массаж и включать музыку, и он спрашивает меня, не думала ли я о том, чтобы воспользоваться услугами психотерапевта. Я говорю ему, что скептически отношусь к психиатрам для собак, но он отвечает, что имел в виду отнюдь не это.
Семестр подошел к концу. Я звоню родным и говорю им, что не смогу приехать к ним на Рождество. Во время каникул, которые продлятся один месяц, мне вообще не придется расставаться с Аполлоном. Даже в самую холодную погоду мы с ним выходим из дома и гуляем, гуляем. Нам нравится холодная погода. Нам нравится город зимой. На тротуарах больше места. Вокруг меньше глазеющих на нас зевак. К тому же, когда стоит мороз, Аполлон не так склонен останавливаться, чтобы сделать одну из своих обычных передышек.
Я получаю последнее предупреждение из офиса управления зданием. Мне приходит в голову, что я могла бы попробовать поговорить с владельцем дома. Почему я должна верить в то, что этот малый — бессердечный ублюдок, а не само воплощение сострадания? Почему бы не произойти рождественскому чуду? По крайней мере, я могла бы попросить его об отсрочке. Я звоню агенту-управляющему и прошу его дать мне флоридский номер телефона владельца здания.
— Мы не раскрываем этот номер, — говорит он.
Двенадцать писателей — шесть мужчин и шесть женщин — снялись в чем мать родила для настенного календаря. Приглашение, присланное на мою электронную почту, призывает меня не пропустить это эксклюзивное предложение: тираж календаря ограничен, каждый экземпляр подписан всеми двенадцатью писателями и доступен для предварительной продажи.
Я немедля вспоминаю одну групповую дискуссию, во время которой кто-то поднял вопрос о чувстве собственного достоинства и падении его роли в литературных кругах.
«Вот увидите, — сказал ты тогда, — скоро писатели начнут публиковать свои фото в стиле ню». И потом сидел с каменным лицом в то время, как все остальные участники дискуссии смеялись.
31 декабря. Я сижу дома и в который раз смотрю по телевизору «Эту прекрасную жизнь»[66]. Я не открываю бутылку шампанского, которую мне прислала одна из моих студенток за то, что я дала ей рекомендательное письмо.
Тот друг, который относится к моей ситуации с наибольшим сочувствием, организует на следующей неделе шквал звонков и электронных писем от знакомых, некоторые из которых не связывались со мной уже несколько лет.
Они не хотят, чтобы я потеряла свою квартиру. Они хотят, чтобы я образумилась, пока еще не поздно. Мне нужен какой-то другой, лучший способ, чтобы справиться с одолевающими меня чувствами утраты и вины. Мне нужен курс специальной психотерапии. Вот имена психотерапевтов. Мне нужно медикаментозное лечение. Вот список лекарств, которые помогли им самим. Есть книги. Есть сайты. Есть специализированные группы поддержки. Утешение не придет ко мне, если я буду вести себя как теперь — удалившись в мир фантазий и самоизоляции и проводя все свое время с псом. Есть такая штука как патологическая скорбь, при патологической скорби возникает несуразное магическое мышление, которое является одним из видов помешательства. Все они делают заключение, что я страдаю именно им. Следуют всевозможные великодушные предложения, но никто не предлагает взять к себе твоего пса.
Затем — подумать только! — именно это делает твоя вторая жена:
— У меня есть маленький внук, который обожает собак. Он был бы вне себя от радости, получив такого большого пса, на котором он сможет кататься верхом.
— Это бы решило все твои проблемы, — говорит мне твоя первая жена.
А я отвечаю, что этого ты никогда бы мне не простил. И разве не подозрительно, что такое предложение сделала именно вторая из твоих жен?
— Что ты хочешь этим сказать? Я думала, она просто пытается помочь.
— Помочь? Да эта женщина всегда ненавидела меня почти так же сильно, как тебя. Я бы ни за что не стала ей доверять. Только вспомни, каков был этот брак: сплошная ярость, злоба и неприязнь. Я бы не доверила Аполлона никому, если бы знала, что рядом будет она.
Женщины опасны, они ни перед чем не останавливаются и никогда не отступают.
Твоя первая жена думает, что у меня паранойя, но на самом деле не так уж редко люди мстят человеку, вымещая свою злобу на его беззащитном ребенке или животном, которое он любит или любил.
Ты бы никогда мне этого не простил.
— И что же ты собираешься делать? Ты же не можешь просто сидеть и ждать чуда.
Но именно его я и жду.
Часть 8
Совет, часто даваемый писателям: читайте свои черновики вслух. Обычно я слишком ленива, чтобы следовать этому совету. Но теперь я делаю все, что только может заставить меня подольше сидеть за письменным столом. Я беру страницы, которые только что распечатала, и начинаю читать их вслух. И слышу, как у меня за спиной Аполлон, спавший за диваном, встает на лапы. Он трусит к письменному столу (когда я сижу за ним, наши глаза находятся на одном уровне) и воззряется на меня, как будто я делаю что-то выходящее из ряда вон. А может быть, дело в том, что хотя мы сегодня уже долго гуляли, он хочет отправиться на еще одну прогулку.
Дойдя до конца страницы, я замолкаю, думая. Аполлон толкает меня носом. Потом гавкает, очень тихо и только один раз. Затем делает шаг вперед, шаг направо, шаг назад, все время склоняя голову то в одну сторону, то в другую. Именно таким образом он говорит: «Какого черта?»
Да ведь он хочет, чтобы я продолжила читать! Так это или нет, но это именно то, что я и делаю. Но вскоре я замолкаю.
Читайте предложения, которые написали, вслух, гласит совет, и вы услышите, что именно звучит не так, что именно написано плохо. Я это слышу, слышу. То, что звучит не так, то, что написано плохо. Я все слышу. Ничуть не лучше, чем когда читаю написанное мною про себя. Я складываю руки на столе и кладу на них голову. Тычок носом. Лай. Я поворачиваю голову. Взгляд Аполлона глубок, неумело купированные уши навострены. Он облизывает мое лицо и снова делает ту же серию шагов и наклонов головы, что и прежде. Потом виляет хвостом, и я в тысячный раз думаю: какое же бессилие и досаду, должно быть, испытывает собака, предпринимая нескончаемые усилия, чтобы ее понял человек. Я пересаживаюсь с кресла перед столом на диван. Аполлон смотрит на меня, морща лоб. Когда я усаживаюсь, он подходит и садится передо мной. Глаза в глаза. О чем думают собаки, когда видят, что кто-то плачет? Это породу разводят, чтобы они успокаивали людей, и они успокаивают. Но как же их, наверное, озадачивает вид человека, который чувствует себя несчастным. Мы, люди, существа, умеющие наполнять свои блюда так часто, как нам хочется, таким количеством еды, какое только захотим, умеющие выходить из дома, когда заблагорассудится и идти куда угодно — мы, не имеющие хозяина, которого надо бесконечно ублажать и слушаться, — так какого же черта?
Из стопки книг на журнальном столике я беру «Письма к молодому поэту» Рильке, книгу из обязательного списка литературы для одного из моих курсов, и начинаю читать ее вслух. Прочитав несколько страниц, я вижу, что Аполлон, наполовину открыв пасть, улыбается — я часто вижу это выражение на мордах других собак, но на его морде — и это меня беспокоит — оно до сих пор появлялось редко. Я продолжаю читать, и он ложится на пол, накрыв своим телом мои ступни и прижавшись к моим голеням. Голову он опускает на лапы и скашивает на меня глаза всякий раз, когда я переворачиваю страницу. Его уши движутся в ответ на мои интонации и модуляции моего голоса. Это напоминает мне поведение кролика, который садился у динамика стереосистемы, когда из него звучала музыка. Но Аполлон явно никогда не испытывал удовольствия от музыки, которую я для него играла, его ничто не утешало, не умиротворяло: ни музыка, ни массаж, но сейчас он умиротворен, его утешило мое чтение. И я продолжаю читать — так четко и с таким выражением, как читала бы кому-то, кто может понять каждое мое слово. И я тоже нахожу это умиротворяющим: лирическая проза, которую я читаю, и теплое, тяжелое, чуть заметно вздымающееся в такт дыханию тело на моих ногах.
Я хорошо знаю эту небольшую книжку: десять писем, адресованных студенту, который написал Рильке, спрашивая совета, когда самому классику было всего двадцать семь лет. В своем восьмом письме он изложил свое знаменитое толкование сказки про Красавицу и Чудовище. «Возможно, все драконы в нашей жизни — это принцессы, которые только и ждут, когда мы совершим какой-то поступок, всего один, полный красоты и отваги. Возможно, все, что нас пугает, это по глубинной сути своей что-то беззащитное, нуждающееся в нашей любви». Эти слова часто цитируют или перефразируют, включая эпиграф к недавнему фильму «Белый бог»: «Все ужасное — это нечто, нуждающееся в нашей любви».
Берегись иронии, не обращай внимания на критику, полагайся на то, что просто, изучай то в этом мире, что невелико и непритязательно, делай то, что трудно, именно потому, что это трудно, не ищи ответов, а вместо этого получай удовольствие от вопросов, не беги от печали или подавленности, потому что, возможно, это и есть условия, необходимые тебе для того, чтобы работать. Ищи уединения, прежде всего, ищи уединения.
Я читала советы Рильке так часто, что знаю их наизусть. Когда я прочла эти письма в первый раз — примерно в том же возрасте, в котором был Рильке, когда писал их, — я чувствовала, что они обращены ко мне в такой же степени, как и к тому, кому они адресовались, что все эти чудесные советы предназначены для любого, кто хочет стать писателем.
Но сейчас, хотя слова Рильке, возможно, кажутся мне еще прекраснее, чем когда-либо прежде, я не могу читать их, не испытывая тревоги. Я не могу забыть про собственных студентов, которые отнюдь не чувствуют того же, что, должно быть, чувствовал Молодой Поэт, когда получил эти письма в первом десятилетии прошлого века. Они не чувствуют того же, что чувствовали мы, когда ты задал нам эти письма в качестве обязательного чтения три четверти века спустя вместе с автобиографическим романом Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге». У них нет чувства, что Рильке обращается к ним. Напротив, они обвиняют его в том, что он изгоняет их из числа тех, кому адресованы его советы. Они говорят, что это неправда, будто писательство — это религия, требующая такого же беззаветного служения, как служение священника. По их словам, это нелепо.
Когда я рассказываю им легенду о смерти Рильке, и говорю, что возник миф, будто его смертельная болезнь началась, когда он уколол руку шипом розы — того самого цветка, которым он был одержим и который оказался таким важным символом в его стихах — они стонут, и один студент не может сдержать смеха.
Было время, когда молодые писатели — по крайней мере, те, которых мы знали, — верили, что мир Рильке вечен. Я согласна со своими студентами, что этот мир исчез, но в их возрасте мне никогда бы не пришло в голову, что он может исчезнуть, тем более на протяжении моей жизни.
Ничто не пробуждает в душе такой тревоги, как утверждение Рильке, что человек, чувствующий, что может жить, не занимаясь писательством, не должен им заниматься вообще. Должен ли я быть литератором? Это вопрос, который он предписывает студенту задать себе в самый глухой час ночи. Если бы вам запретили писать, вы бы умерли? (Слова, которые Леди Гага запечатлела в своем сердце или, по крайней мере, на своем бицепсе, где велела вытатуировать их в оригинале, то есть по-немецки.)
«Мы должны любить друг друга или умереть» — так другой поэт, Оден, когда-то закончил последнюю строфу того, что стало одним из самых известных в мире стихотворений, «1 сентября 1939 года». Но затем автор этого стихотворения начал презирать его и прежде, чем разрешить перепечатать стихотворение в антологии, он настоял на том, чтобы переписать его: «Мы должны любить друг друга и умереть». А еще позже, все еще мучимый совестью, он, несмотря на внесенное исправление, вообще отказался от этого стихотворения, поскольку оно, по его мнению, было безнадежно испорчено.
Я думаю об этой истории про Одена.
Я думаю о том, что было время, когда мы с тобой считали, что писать книги — это самое лучшее, что мы можем сделать с нашей жизнью. (Самое лучшее призвание в мире.)
Я думаю о том, как ты начал говорить студентам, что если они могут посвятить свою жизнь чему-то другому, кроме писательства, они должны это сделать. Примерно в это же время в прошлом году я проводила уборку в стенных шкафах. Я достала с верхней полки несколько коробок, полных фотографий, вырезок из газет и прочих бумаг и нашла среди них твои письма. Я и забыла, как их много, сколько писем ты мне написал до того, как появилась электронная почта.
Похоже, я часто искала твоего совета.
Ты хочешь знать, о чем тебе следует писать. Ты боишься, что то, что ты напишешь, будет банально, что это будет всего лишь перепевом того, что уже писали другие. Но помни, в тебе заключена, по крайней мере, одна книга, которую написать можешь только ты одна. Так что мой тебе совет: копни поглубже и найди ее.
Он тоже оставлял после себя вереницы плачущих женщин. Но из двух типов бабников он совершенно явно принаддежал к тому, который любит женщин. Я могу говорить только с женщинами, писал Рильке. Он мог понять только женщин и общаться только с ними (если только это общение не затягивалось слишком надолго). И лишь немногие мужчины были способны найти стольких женщин, готовых их любить, защищать и прощать.
И опять я натыкаюсь на его знаменитое определение любви:
«Два одиночества, которые охраняют друг друга, граничат друг с другом и скорбят друг о друге».
«Что это вообще может означать? — пишет в своей курсовой работе одна из студенток. — Это просто слова. Они не имеют никакого отношения к реальной жизни, в которой действительно случается любовь».
Этот раздраженный враждебный тон, который так часто встречается в студенческих работах.
В реальной жизни Рильке не сумел быть мужем своей жены, которую он бросил примерно через год после их свадьбы. Не сумел стать отцом для своей дочери. Он, находивший такую живость красок и такое огромное значение в том опыте, который дает нам детство, и написавший столько прекрасных слов о детях, не заботился о собственном ребенке. Что не помешало ей посвятить свою жизнь его творчеству и памяти. Когда ей был семьдесят один год, она покончила с собой.
Рильке, который любил собак, пристально вглядывался в них, и у него с ними случалось глубочайшее единение. Однажды в молящем взгляде некрасивой находящейся на сносях бездомной собаки, которую он встретил рядом с кафе в Испании, он нашел «все, что проникает за границы одинокой души и уходит бог знает куда — в грядущее или в то, что не поддается пониманию». Он скормил ей кусочек сахара из своего кофе, что, как он написал позже, было сродни совместному служению мессы.
Рильке, в творчестве которого то и дело упоминался Аполлон.
Книга писем Рильке коротка, ее можно прочесть за два часа. Но скоро Аполлон засыпает, как ребенок, которому мать читала перед сном, ожидая, когда он заснет, чтобы на цыпочках уйти прочь. Но я не могу уйти на цыпочках. Зажатые его немалым весом, ступни онемели. Я шевелю ими, и он просыпается. Не вставая, он тянется к моей руке, в которой все еще зажата маленькая книжка, и лижет ее.
Теперь встаем мы оба и идем на кухню. Я насыпаю ему собачьего корма — уже подошло время кормления — и пока он ест, я готовлюсь вывести его на прогулку.
Я могла бы не обратить внимания на значение этого эпизода, подведя его под категорию моих антропоморфных фантазий, но уже на следующий день случается вот что: я сижу на диване, держа на коленях ноутбук, и тут ко мне подходит Аполлон и начинает обнюхивать книги, лежащие на журнальном столике. Его огромная пасть раскрывается и закрывается, схватив книгу Кнаусгора в бумажной обложке, которую я купила, что бы заменить ею тот экземпляр, который он изгрыз. О боже, неужели опять? Но прежде чем я успеваю отнять у него книгу, он осторожно кладет ее рядом со мной.
Я, разумеется, слышала о терапевтических собаках. О собаках, которых специально обучают для работы в больницах, домах престарелых, зонах бедствия и тому подобное и предназначение которых заключается в том, чтобы нести людям утешение и ободрение в надежде облегчить их страдания. Я знаю, что таких собак используют уже давно и что в наши дни они часто помогают детям с эмоциональными проблемами или затруднениями в учебе. Чтобы улучшить их речевые навыки и повысить уровень их грамотности, детей в школах и библиотеках просят читать вслух собакам. Сообщалось, что это дает великолепные результаты: дети, читавшие собакам, делали гораздо большие успехи, чем дети, читавшие людям. Сообщалось также, что многие собаки-слушатели явно получали удовольствие от такого чтения, выказывая признаки пристального внимания и любопытства. Однако исследования, о которых я читала, умалчивают о той пользе, которую чтение вслух, осуществляемое людьми, приносит самим собакам.
Мне приходит в голову, что кто-то когда-то читал Аполлону вслух. Правда, я не думаю, что он представляет собой обученного и получившего соответствующее свидетельство терапевтического пса. (Разве такое ценное животное оказалось бы выброшенным на улицу?) Но я уверена, что кто-то читал ему вслух — а если и не ему самому, то, по крайней мере, в его присутствии — и для него это счастливое воспоминание. Может быть, дело просто в том, что ему читал вслух кто-то, кого он любил. (Может быть, это был ты? — «Насколько я знаю, нет, — говорит твоя третья жена. — Во всяком случае, не в моем присутствии».) А может быть, хотя Аполлон и не являлся профессиональной терапевтической собакой, он должен был слушать, пока этот человек читал, и за это его хвалили и вознаграждали? В пособиях по дрессировке говорится, что у многих собак в натуре заложено выполнять какую-то работу («когда им дают какое-то задание, собаки, проявляющие признаки скуки или подавленности, часто оживляются и воодушевляются»), однако люди почти никогда не дают им достаточно того, чем они могли бы себя занять — или же вообще не поручают им никаких дел.
А может быть, Аполлон — это гений среди собак, который каким-то образом понял мое отношение к книгам. Может быть, он уразумел, что когда я чувствую себя не самым лучшим образом, единственный выход для меня — это увлечься чтением книги. Может быть, об этом ему сказало его феноменальное собачье чутье. Если, как показывают исследования, нос собаки способен учуять рак, было бы совсем неудивительно, если бы он мог также учуять перемены в организме человека, вызванные снятием стресса или стимуляцией умственных процессов или чувством удовольствия. Если некоторые собаки могут предсказывать возникновение эпилептических припадков, что, как известно, случалось не раз, разве было бы странно, если бы какой-то пес мог предсказывать надвигающийся на человека приступ хандры?
По правде говоря, чем дольше я живу с Аполлоном, тем больше убеждаюсь, что Ворчливый Ветеринар был прав: мы, люди, не знаем и половины того, что происходит в собачьем мозгу. Вполне возможно, что хотя они и немы, они могут неким непостижимым образом понимать нас лучше, чем мы понимаем их самих. Как бы то ни было, мне на ум приходит явственный образ: лавина отчаяния, обрушивающаяся на меня, и, подобно сенбернару, пробирающемуся сквозь снег к попавшему в беду в Альпах путнику, неся на шее маленький бочонок бренди, ко мне подходит Аполлон и приносит книгу.
Даже если нам известно, что на самом деле сенбернары никогда не приносили заплутавшим в снегу путникам бренди. Было время, когда мне было бы легче разобраться, не является ли чтение писем Рильке к молодому поэту собаке признаком психического дисбаланса.
Я решаю сделать чтение вслух частью нашего повседневного распорядка дня. Правда, понимая, что на это могут сказать другие люди, я никому об этом не говорю. Но ведь многое из того, что я написала на этих страницах, я не рассказывала никому. Удивительно, как сам процесс письма приводит тебя к исповеди. Хотя иногда он также способствует безудержной лжи.
Как и Рильке, Флэннери О’Коннор написала серию писем незнакомке, от которой как-то раз нежданно-негаданно получила письмо. В собрании писем О’Коннор, опубликованном после ее смерти, эта женщина, которая попросила не упоминать ее имени, фигурирует как А. Вначале ей тридцать два года, на два года больше, чем самой О’Коннор, которая, тем не менее, с успехом справляется с ролью ее наставницы. Письма к А., написанные на протяжении девяти лет, полны мыслей о литературе и религии и о том, что значит быть писателем и ревностной католичкой. Она свободно рассуждает о своих художественных произведениях, и когда А. отправляет ей кое-что из того, что сочинила сама, то получает одобрительный и ободряющий ответ. У А. имеется дар к написанию рассказов, пишет О’Коннор и называет один из ее рассказов «почти что совершенным». Когда у А. начинается творческий кризис и она не может больше писать, О’Коннор сразу же приписывает это проискам дьявола. Ибо для истовой католички О’Коннор дьявол — это отнюдь не метафора.
Хотя со временем эти две женщины договариваются о личной встрече, они будут встречаться нечасто. Между тем в письмах их дружба крепнет, сблизив их настолько, что О’Коннор называет А. своей «приемной родней». Несказанно обрадовавшись, когда А. решает перейти в католицизм, она соглашается стать ее поручительницей при конфирмации.
Но в конечном итоге дьявол победил. А. утрачивает веру и покидает католическую церковь. Хотя она и создает произведения различных жанров, она так ничего и не публикует. В возрасте семидесяти пяти лет, через тридцать четыре года после того, как О’Коннор в тридцать девять лет умерла от волчанки, Хейзел Элизабет Хестер, известная как Бетти Хестер[67] застрелилась.
Если бы О’Коннор была моей наставницей, если бы она переписывалась со мной, я, наверное, задала бы ей такой вопрос:
— Что именно имела в виду Симона Вейль, когда сказала: «Когда ты в своей жизни должен принять решение о том, что будешь делать, делай то, что будет стоить больше всего».
Делай то, что трудно, потому что это трудно. Делай то, что будет стоить дороже всего. Да кем были эти люди?
Если бы писать книги не было больно, говорит О’Коннор, этим не стоило бы и заниматься.
Теперь обратимся к Вирджинии Вулф, которая сказала, что когда ты облекаешь мысли в слова, боль уходит. Написать сцену так, как нужно, создать убедительный персонаж — ничто не доставляет большего удовольствия.
Первое совещание преподавательского состава в этом семестре. Следует ли разрешить студентам читать книги для обязательного чтения с помощью мобильных телефонов? Большинство преподавателей твердо: с помощью других электронных гаджетов можно, но от мобильников упаси бог. Но в чем тут логика, не соглашается О. П., ведь мы говорим всего лишь о размере экрана. Разве это не то же самое, что сказать, что им нельзя читать карманные издания бумажных книг? Нет, это совершенно другое дело, утверждает большинство. Правда, за последовавшие за этим пятнадцать минут никто из них так и не дал внятного разъяснения почему.
Консультация: студентка А. неудовлетворена тем, что программа обучения требует прочтения такого количества книг.
— Я не хочу читать то, что пишут другие. Я хочу, чтобы другие читали то, что пишу я.
Студентку Б. беспокоит тот факт, что столь многие из книг, заданных для обязательного чтения, не имели кассового успеха или что их нет в продаже:
— Не следует ли нам изучать произведения более успешных авторов?
Такие вещи случаются довольно часто: я узнаю от своей бывшей студентки, что у нее родился ребенок. Так что книгу, над которой она работала, пришлось на время отложить в сторону. Может быть, когда ребенок немного подрастет, она вернется к этой книге. Затем, когда ребенок немного подрос — обычно, когда ему что-то около двух лет — у нее рождается еще один ребенок.
Они все приходят и приходят, прочитав объявления о возможности поучиться писательскому мастерству, к которой прилагается возможность заняться чем-то еще. Вы можете писать и наслаждаться изысканной пищей, писать и дегустировать вина, писать и ходить в походы по горам, писать и избавляться от зависимости от наркотиков или чего-нибудь другого, писать и учиться вязать, готовить, печь, говорить по-французски или по-итальянски и так далее. Сегодня я вижу проспект, рекламирующий литературный фестиваль: «Кто сказал, что нельзя одновременно писать и расслабляться? Насладитесь идеальным краткосрочным отпуском: курс занятий по писательскому мастерству в уединенном отеле, имеющем спа».
В книжном магазине. Последний роман одного из моих друзей, опубликованный в прошлом году, вышел в бумажной обложке. Я расстраиваюсь из-за того, что вдруг осознаю, что не только не прочитала его, но и начисто о нем забыла.
У врача-офтальмолога. В приемную входит женщина средних лет с волосами, выкрашенными в черный цвет точно такого же оттенка, как и ее кожаная куртка. Что-то в ней кажется мне знакомым, и я чуть было не кричу: «Эврика!» — когда на ее вместительной сумке с двумя ручками вижу логотип «Нью-йоркского литературного обозрения». Она садится и вынимает из сумки номер журнала.
Популярный в преподавательской среде анекдот.
Профессор А.: Ты читал эту книгу?
Профессор Б.: Читал? Я еще даже не изучал ее со своими студентами.
В преподавательском клубе. Мы с еще одной преподавательницей пьем джин и развлекаемся, строя догадки: если в нашем учебном заведении начнется массовый расстрел, кого из студентов и студенток мы заслонили бы собой от пули, а кого нет?
Иногда в баннерной рекламе, иногда в правом окошке, а иногда — сюрприз! — когда я пролистываю экран вниз, появляется Джеймс Паттерсон[68], самый кассовый писатель в мире, чьи книги более двадцати раз подряд занимали первую строчку в списке бестселлеров, публикуемом «Нью-Йорк таймс». Поскольку его скромность, по-видимому, так же безгранична, как и его успех, он полагает, что такого же успеха может без особого труда достичь каждый. Или, по крайней мере, каждый, у кого есть девяносто долларов за курс из двадцати двух видеоуроков плюс упражнения, который он предлагает всем желающим: всего тридцать дней с гарантией возврата денег. «Перестань читать это и начни писать». Джеймс Паттерсон, один из самых богатых авторов в мире, с состоянием в 700 миллионов долларов (теперь, вероятно, уже больше). «Сосредоточься на рассказываемой истории, а не на предложении». Его имидж — пожилой, дружелюбный, спокойный. Нормальный парень в очках и темно-синем свитере. «Одержи победу над чистой страницей!» Иногда показывают, как он пишет в блокноте с линованной бумагой размером 8,5 × 14 дюймов (никогда не на компьютере). «Чего ты ждешь? Ты тоже можешь написать бестселлер». Джеймс Паттерсон. Он появляется на экране компьютера то и дело, настоятельно призывая, уговаривая, суля златые горы. Ну, совсем как дьявол.
— Ты что, шутишь? — говорит один мой друг, выращивающий коз на севере штата и производящий козий сыр, получивший множество наград. — Писательский ступор, утрата способности писать — это самое лучшее из всего, что случилось со мной в жизни.
Годовщина твоей смерти. Я хочу отметить ее, но точно не знаю, как это сделать. Уже не в первый раз я захожу в Интернет, и еще раз смотрю видеосюжет, в котором ты даешь публичное чтение. Я никогда не видела, чтобы Аполлон как-то реагировал на изображение на экране, включая телевизионный (похоже, его глаза не фокусируются ни на какой экранной картинке, даже если это еще одна собака). Если я дам ему послушать, думаю, он узнает твой голос. Но выяснить это наверняка мне мешает мысль о том, что это, быть может, было бы жестоко. Пусть теперь он и мой пес (мой пес!), я не думаю, что он забыл тебя. Как он может отреагировать, если услышит твой голос? Как он сможет это понять? Что если он решит, что ты заперт внутри компьютера?
Вот история о том, как дети Джуди Гарленд[69] в первый раз смотрели фильм «Волшебник страны Оз», который так ее прославил. Так случилось, что актриса была в отъезде за границей, когда ее дети вместе со своей няней сели смотреть этот фильм, который в тот день показывали по телевизору. Хотя к тому времени Джуди уже давно миновала возраст, в котором снималась в фильме, играя Дороти (ей тогда было шестнадцать), дети узнали свою маму. Значит, вот где она сейчас! Ее унесли к злой колдунье летучие обезьяны! Напуганные и огорченные так, что даже трудно себе представить, дети разразились слезами.
На почте. Молодая женщина, сопровождаемая пятнистой дворнягой, входит и встает в очередь. Стоящий за стойкой почтовый служащий говорит:
— Сюда не разрешается приходить с собаками, мисс.
— Это пес-компаньон, — отвечает молодая женщина.
— Это пес-компаньон? — переспрашивает служащий.
— Да, — огрызается женщина так свирепо, что почтовый служащий реагирует осторожно:
— Я просто спросил, мисс. То есть я хочу сказать, что на нем нет никакого бейджика, никакого знака.
Клиент, стоящий в очереди впереди женщины, оборачивается, смотрит на нее, смотрит на дворнягу и снова отворачивается, качая головой. Женщина надменно выпрямляется и обжигает нас всех испепеляющим взглядом. «Как вы смеете. Этот пес — моя собака эмоциональной поддержки. Как вы смеете ставить под сомнение его право находиться здесь!» Что придает этой странной сцене еще большую странность, так это то, что у пса не хватает одной задней лапы.
Я смотрю, как Аполлон спит. Его бок медленно поднимается и опускается. Он сыт, в комнате тепло и сухо, и он прошел сегодня четыре мили. Как обычно, когда он присел на мостовой, чтобы сделать свои дела, я охраняла его от проезжавших мимо машин. А в парке, когда прямо на нас бежал отправляющий сообщение по телефону бегун трусцой, Аполлон залаял и преградил ему путь, не дав налететь на меня. Мы с ним провели несколько раундов перетягивания резиновой игрушки. Я разговаривала с ним, и пела ему, и читала ему вслух стихи. Я подстригла ему когти и расчесала каждый дюйм шерсти на его шкуре. И теперь, глядя, как он спит, я чувствую прилив удовлетворения. Его сменяет другое, более глубокое чувство, необычное и таинственное и в то же время очень знакомое. Не понимаю, почему у меня уходит целая минута, чтобы дать ему имя.
Что мы такое, Аполлон и я, если не два одиночества, которые охраняют друг друга, граничат друг с другом и скорбят друг о друге?
Хорошо, когда все наконец стало понятно. Произойдет ли чудо или нет, что бы ни случилось, ничто не сможет нас разлучить.
Часть 9
— Все, кого я знаю, пишут книгу, — говорит мне психотерапевт, хотя в этой его реплике и нет никакой нужды. — Я имею дело со многими писателями, и должен сказать вам, что творческий тупик, утрата вдохновения встречается среди них весьма часто.
Но я здесь не затем, чтобы говорить о творческом тупике. Если бы мне так не терпелось поскорее закончить сеанс и уйти, я бы все ему объяснила. Обычно, когда писатель узнает, что у другого автора только что вышло большое произведение в одном из крупных издательств и что оно посвящено той самой теме, над которой работает он сам, он испытывает уныние и тоску. Я же испытала облегчение. («Ну, что ж, о’кей, — сказал редактор, которому это также принесло облегчение. — Думаю, на этот раз тебя пронесло».)
Чтобы заставить меня разговориться, психотерапевт спрашивает, чем я занималась во время каникул. Когда я отвечаю, он мягко произносит (он всегда делает это мягко):
— Похоже, это одно из последствий вашей утраты: вы не хотите быть с другими людьми.
Я бы не сказала, что терпеть не могу быть с другими людьми. Пожалуй, мне страшно быть с другими людьми.
Но правда заключается в том, что даже если бы меня не беспокоило то, что я оставляю Аполлона одного, я бы все равно хотела быть одна.
«Одиночки» — так писатель, которого я недавно читала, называет людей, которые по той или иной причине и вопреки тому, чего они, возможно, хотели на более раннем этапе своей жизни, никогда так и не становятся по-настоящему частью общества, как это происходит с большинством людей вообще. У них могут быть серьезные романы, у них могут быть друзья, даже широкий круг друзей, они могут проводить значительную часть своей жизни в обществе других людей. Но они никогда не вступают в брак и не имеют детей. Праздничные дни они проводят со своими родственниками или друзьями. Это продолжается из года в год, пока они наконец не находят в себе силы признаться самим себе, что предпочитают просто сидеть дома.
— Должно быть, вы часто сталкиваетесь с такими людьми, — говорю я психотерапевту.
— По правде сказать, — отвечает он, — совсем не часто.
Отвлекусь на минутку, чтобы извлечь кое-что из прошлого. Учась в колледже, я два года зарабатывала деньги на карманные расходы, работая на семейного психотерапевта. Моя работа состояла в перепечатывании магнитофонных записей ее сеансов. Не для того, чтобы помочь ей в лечении пациентов, а потому, что она планировала написать книгу. Пары, которые к ней приходили, были в основном среднего возраста, и все они женаты. (Этой даме-психотерапевту не нравился термин «консультант по брачным отношениям», она называла его старомодным.)
Прослушивание записей сеансов нередко приводило меня в уныние. Я помню, что удивлялась, как эта женщина-психотерапевт может выносить свою работу, особенно после того, как я узнала, что в значительном числе случаев этим семейным парам, даже с помощью психотерапии не удавалось устранить свои разногласия, и они в конце концов разводились.
Сама эта психотерапевт производила впечатление на редкость шикарной женщины: высокая, стройная и умопомрачительно элегантная — сапоги на шпильках, облегающие платья-свитера. К ее сорока годам у нее за плечами было два развода. Насколько мне стало известно, она никогда ничего не рассказывала своим пациентам о собственной личной жизни, но мне всегда было интересно, не насторожила бы история ее брачных отношений хотя бы некоторых из них. И еще я помню, как думала тогда: что бы там ни говорил Толстой о несчастных семьях, все несчастные пары несчастливы одинаково.
Почти каждого из мужей жена либо застукала за супружеской изменой, либо подозревала в ней. (Не раз и не два муж во время сеанса признавался в изменах, и именно во время сеанса психотерапии один мужчина выдал своей жене, что влюблен в другого мужчину.)
В основном женщины жаловались на то, что мужья забросили их, недостаточно их ценят и, что, по-видимому, было хуже всего — не слушают их.
Мужчины же смотрели на жен как на своего рода версию Жены Рыбака из сказки братьев Гримм: вечно они пилят, никогда ничем не довольны.
Снова и снова я приходила к удивительному выводу, что для мужа и для жены одно и то же слово не всегда имеет одинаковое значение. Во время сеансов всплывали одни и те же слова, и я печатала их: любовь, секс, брак, слушать, нуждаться и нужды, помогать и помощь, поддерживать и поддержка, доверять и доверие, равноправие, справедливо, уважать и уважение, заботиться и забота, делиться, хотеть, деньги, работать и работа. Я печатала эти слова, слушала, что говорит та или иная пара и видела, что одно и то же слово для него означает это, а для нее то. Я слышала, как некоторые мужчины возражали против употребления слов «супружеская измена» для обозначения случаев, когда он переспал с другой.
— Супружеская измена — это когда такие вещи входят в привычку, — настаивал один из них.
Он не оказывает мне никакой помощи, — сказала одна из жен. А когда муж выдал перечень дел, которые он переделал по ее поручению за последнюю неделю, она истошно закричала: — Я искала помощи!
Слушая записи всех этих психотерапевтических сеансов, я уловила еще кое-что: голос психотерапевта чуть-чуть менялся в зависимости от того, к кому она обращалась. Эта перемена трудноуловима, но она повторялась всегда: разница была то ли в высоте ее голоса, то ли в чем-то еще, трудно поддающемся описанию. Возможно, все это мне только казалось. Но если бы мне надо было выразить свое мнение, я бы сказала, что она чаще была на стороне мужчин.
Мне следовало сразу понять, что психотерапевт захочет, чтобы я провела у него весь оговоренный час. Когда я говорю ему, что оставила Аполлона привязанным на улице, он предлагает:
— А почему бы в следующий раз вам не захватить его с собой сюда?
В следующий раз?
В этом и заключалась суть нашей сделки: психотерапевт даст мне то, что мне нужно, а я за это приду к нему опять.
— По меньшей мере, еще два сеанса, — говорит он.
Сидя в его кабинете рядом с Аполлоном, я невольно улыбаюсь. Мы с ним словно пришли на сеанс семейной психотерапии.
С той только разницей, что мы прекрасно ладим.
Как-то раз, женщина, проходившая мимо нас по улице, бросила мне такие слова:
— Я всегда говорю — лучше пес в качестве мужа, чем муж, который ведет себя как пес.
Всегда?
Когда мне было немного за двадцать, и я гуляла с Боу, мужчины иногда выкрикивали в мой адрес непристойные замечания:
— Этот пес твой хахаль? Ты что, спишь с этим псом? Ты трахаешься с этим псом, дамочка? Зуб даю, ты даешь ему…
Я нервничаю, когда еще одна женщина, которую я встречаю на улице, называет Аполлона красивым и говорит, что завидует мне.
— Вам повезло, крупно повезло, — заключает она.
Когда психотерапевт выдает так нужное мне свидетельство моего прогресса, я даю его понюхать Аполлону, а потом прикрепляю магнитиком к дверце холодильника.
— Ты же сама понимаешь, что совершаешь мошенничество, — говорит твоя первая жена. — Даже если ты делаешь это ради благого дела.
Я понимаю праведный гнев, который возникает у тех, кто действительно нуждается в животном для эмоциональной поддержки. Недоумение вызывают все множащиеся ряды людей, выдающих вполне обыкновенных — а иногда и экзотических животных — за животных-помощников. Я слышала о скунсе, которого держат в общежитии колледжа, об игуане, обитающей в ресторане, о свинье в самолете. И я даю себе слово, что не стану приводить Аполлона в такие места, куда бы не пустили обычного пса. Сделав копию добытого мною свидетельства и отослав ее в офис управления зданием, я решила оставлять и его, и специальный бейджик, выданный мне для Аполлона Национальным реестром животных-помощников, дома.
Что до психотерапевта, то он, не мучаясь никакими сомнениями, заявил в письменной форме, что я страдаю от депрессии и состояния тревоги, усугубленных потерей близкого человека, и что мой пес обеспечивает мне необходимую эмоциональную поддержку, лишение которой, с большой долей вероятности, нанесет вред моему психическому здоровью и может даже угрожать моей жизни.
Твоя первая жена находит это смешным.
— Потому что на самом деле, — говорит она, — в данном случае с ситуацией не справляется пес, а ты человек, который оказывает ему эмоциональную поддержку.
Теперь я вынуждена начать говорить. Хотя бы затем, чтобы объяснить, почему я не хочу говорить. Особенно о тебе.
Я хочу процитировать слова Витгенштейна[70] о невыразимом словами и потребности в молчании. Хотя ты советовал нам никогда не цитировать философов, вырывая их слова из контекста.
— Утверждения философов — это вам не старые поговорки.
Тут я делаю паузу, чтобы подумать о Витгенштайне, трое из четверых братьев которого покончили с собой и который тоже часто подумывал о том, чтобы свести счеты с жизнью. И который, как говорят, подобно Кафке, принял известие о том, что он смертельно болен, с облегчением, хотя его предсмертные слова невольно заставляют вспомнить Джорджа Бейли: «Скажите им, что я прожил прекрасную жизнь!»
— Разговариваете ли вы с Аполлоном? — спрашивает меня мозгоправ.
— Да, разговариваю.
— Чтобы сблизиться со своими собаками, людям рекомендуется с ними говорить. Что, похоже, является для меня чем-то естественным (хотя думаю, в наши дни люди делают это все реже и реже, благодаря поглощающим их внимание электронным гаджетам).
Как-то я подслушала, как какая-то не знакомая мне женщина возбужденно сказала мопсу: «И полагаю, ты думаешь, что во всем этом опять виновата я?» В ответ на это мопс, честное слово, закатил глаза.
Да, я разговариваю с Аполлоном. Но не о тебе. В этом-то все и дело: ему мне не нужно об этом говорить. («Как всем известно, собаки умеют скорбеть лучше всех в мире», Джой Уильямс[71].)
Но хотя на свете есть и другие люди, потерявшие кого-то из-за его или ее самоубийства, это вовсе не значит, что тем, что чувствую я, можно поделиться с кем-то еще. Как-то раз я выслушала с начала до конца радиопередачу о самоубийствах. Слушателей просили звонить на передачу и высказываться. Участники передачи как всегда забросали самоубийц словами-камнями, такими, как грех, зло, трусость, мстительность и безответственность. И ненормальность. Никто не сомневался в том, что все самоубийцы были не правы. Права на самоубийство, по их мнению, просто не существовало. Самоубийцы были объявлены чудовищами, полными себялюбия и жалости к себе. Какая неблагодарность за то, что им достался этот бесценный дар — жизнь. И хотя они, возможно, себя и ненавидели, самоубийцы хотели уничтожить не столько самих себя, сколько свои семьи и друзей, которых они бросали. Ничто из этого мне не помогло.
Не помогли мне и десятки книг о самоубийстве, которые я прочитала за последний год. Однако из них я все-таки узнала несколько интересных вещей. К примеру, то, что некоторые мудрецы древности полагали, что добровольный уход из жизни, хотя он обычно и достоин осуждения, можно счесть морально приемлемым и даже достойным способом спастись от невыносимой боли, меланхолии, бесчестья — или даже от простой старой скуки. Узнала я также и то, что мыслители, жившие в более поздние времена, намекали, что, несмотря на тот абсолютный запрет, который христианство налагает на совершение самоубийства (хотя во всем тексте Библии нигде не содержится недвусмысленного его осуждения) можно сказать, что именно это сделал и сам Христос. Следует еще добавить, что в западных странах количество предсмертных записок достигло своего максимума в восемнадцатом веке, когда самоубийцы размещали их для публикации в газетах вместе с другими публичными объявлениями.
И еще неожиданный поворот: повествование от первого лица — это известный фактор риска для совершения вами самоубийства.
А помогли мне слова женщины, с которой я была знакома много лет назад, когда мы с ней работали в одном и том же журнале. Когда она и ее муж были молоды и только недавно поженились, он вдруг оставил ее вдовой.
Вчера мы планировали наше будущее, рассказывала она, а на следующий день его уже не стало. Поначалу я думала, что это мой долг по отношению к памяти — сделать все возможное, чтобы попытаться его понять. Но потом я осознала, что это было бы неправильно. Он выбрал молчание. Причина его смерти осталась тайной. И в конце концов я решила оставить ему его молчание. Его тайну.
Я говорю о владеющем мною чувстве, что я живу, одной ногой стоя на территории безумия, об искажениях реальности, о тумане, иногда окутывающем меня, таком же обескураживающем, как амнезия. (Что я делаю в этой аудитории? Почему в этом зеркале мое лицо выглядит таким странным? Неужели это написала я? Что я могла иметь в виду?)
Я говорю о том, что сколько бы времени я ни спала, я чувствую себя измотанной. О том, как часто я на что-то натыкаюсь или что-то роняю или спотыкаюсь на ровном месте. О том, как схожу с обочины прямо под колеса проезжающего автомобиля, который непременно сбил бы меня, если бы кто-то из стоящих со мною рядом не оттащил меня назад. О тех днях, когда я ничего не ем и о тех, когда я не ем ничего, кроме фастфуда. О моих нелепых страхах: что если в здании где-то есть утечка газа и оно взорвется? О том, что я часто что-то теряю или кладу не туда и потом забываю, куда положила. О том, что я забываю заполнить налоговую декларацию.
— Все это проявления психического симптомокомплекса, вызванного потерей близкого человека, — говорит психотерапевт, хотя я знаю это и без него. Доктор Очевидность.
Но знаешь, Аполлон, после четвертого или пятого сеанса мне кажется, что я начинаю чувствовать себя немного лучше.
Еще кое-что о Витгенштайне. Как вспоминает физик Фримен Дайсон[72], который посещал Витгенштейна в Кембридже в 1946 году, если в лекционном зале осмеливалась появиться женщина, он замолкал и молчал, пока до нее не доходило, что она должна уйти.
— Я с каждым днем становлюсь все глупее и глупее. — Дайсон слышал, как философ однажды несколько раз тихо пробормотал эти слова.
Во всяком случае, в том, что касалось женщин.
Если вы испытываете соблазн слишком довериться великому мужскому уму, то вспомните вот что: он посмотрел на кошек и объявил их божествами. Он посмотрел на женщин и спросил: «А люди ли они?» А потом, когда ответ на этот трудный вопрос был дан, задал другой: «Но есть ли у них души?»
Дело не в том, что я не могу сказать, что я чувствую. Мне недостает тебя. Мне недостает тебя каждый день. Сильно недостает.
Еще одна пауза, на сей раз, для того чтобы поразмыслить над тем, что Витгенштейн имел в виду под «прекрасной жизнью»?
И для того, чтобы посочувствовать его сестре Гретль: три брата и муж, которые покончили с собой.
Я рассказываю психотерапевту о тех странных моментах, которые я испытала, когда только что услышала весть о твоей смерти и когда думала, что это какая-то ошибка. Ты исчез, но не умер. Вроде как просто пропал без вести. Вроде как ты решил сыграть с нами какую-то ужасную ребяческую шутку. Ты пропал без вести, но не умер. Что означало, что ты можешь вернуться. Ты можешь вернуться, а раз можешь, то, разумеется, вернешься. Это было похоже на тот краткий период много лет назад, когда я думала, что все дело в стрессе или усталости или в какой-то странной фазе жизни, которая скоро закончится, и когда эти проблемы, в чем бы они ни заключались, останутся позади, моя красота ко мне вернется.
Позднее я ловила себя на том, что часто вспоминаю финальную сцену из фильма «Гудини»[73]. Я говорю о старой версии, снятой в пятидесятые годы с Тони Кертисом[74] в главной роли, которую я видела по телевизору, когда была еще подростком. В этой финальной сцене Гудини, прославившийся на весь мир своими потрясавшими воображение трюками, умирает, пытаясь освободиться из резервуара с водой, в который его поместили головой вниз, зажав ноги в колодки. Он уже не раз успешно выполнял этот трюк с освобождением из Китайской водяной камеры пыток, но на сей раз он, хотя публика об этом и не подозревает, слаб и страдает от боли, причиняемой ему лопнувшим аппендиксом.
Умирая, великий иллюзионист, обещает своей жене: «Если есть хоть какой-то способ это сделать, я вернусь».
От этих слов меня тогда мороз продрал, и они волнуют и сейчас.
Несмотря на то что я прекрасно знаю, что на самом деле Гудини умер на больничной койке и что его последними словами были: «Я устал от борьбы».
Я извлекаю из глубин памяти еще одно воспоминание. На этот раз я намного младше — я еще ребенок. Празднование дня рождения одной из моих подруг проходит в большом сизо-сером викторианском особняке, который мне кажется замком, наводящим ужас. Мы играем в прятки, и я вожу. Я кончаю считать и убираю руки с глаз. На дворе зима, день близится к вечеру, и весь свет выключили ради игры. Дом, всего несколько минут назад полнившийся ярким светом и весельем, превратился для меня в гробницу. Позднее мне рассказали, что первые, кто вышли из укрытий, чтобы посмотреть, как там дела, обнаружили меня лежащей ничком на ковре.
Слишком много волнительных моментов, мороженого и торта, сказали взрослые, но они все поняли превратно, как взрослые часто превратно понимают, в чем состоят проблемы детей. А я, перепуганная до глубины души и не имеющая слов, чтобы объяснить, что со мной случилось, даже не попыталась их просветить. Но я ничего не забыла. Избитое выражение «гробовая тишина» может мгновенно пробудить в моей душе эту сцену.
Годом раньше исчез мой дед. А вскоре также бесследно исчез и директор нашей начальной школы. Все, что произносилось в попытках объяснить эти исчезновения, было не очень-то убедительно. Но то, что в деле замешано что-то ужасное, что-то невероятное, о чем нельзя говорить вслух — это было ясно.
Меня охватил леденящий ужас. Эти остальные дети — они вовсе не прячутся, они исчезли. Исчезли в этой самой тьме, чтобы никогда не вернуться. Осталась только я. Одна, совсем, совсем одна. Комната поплыла перед моими глазами. Меня вырвало, и я упала в обморок.
Я только что вспомнила, что свекор Гретль Витгенштейн тоже покончил с собой.
Вижу ли я тебя во сне?
Я покорно описываю свои сны. Я бреду по глубокому снегу, пытаясь догнать кого-то, идущего далеко впереди, фигуру в темном пальто, похожую на треугольную прореху в огромном снежном одеяле. Я зову тебя по имени. Ты оборачиваешься и начинаешь делать мне знаки руками. Но я их не понимаю. Просишь ли ты меня поторопиться или, наоборот, предостерегаешь, чтобы я остановилась и пошла обратно? Муки неопределенности. Конец сна.
— Или, по крайней причине, — говорю я (по какой-то нелепой причине, чувствуя себя виноватой), — это все, что я помню.
Я рассказываю о тех случаях, когда я тебя вижу. Каждый раз, когда мне так кажется, у меня екает сердце. Но почему, почему почти всегда, когда я принимаю кого-то за тебя, этот человек оказывается не в том возрасте, когда ты умер, а в какой-то другой период твоей жизни? Однажды на кампусе я чуть не закричала от радости при виде человека, который оказался похож на тебя такого, каким ты был, когда ты и я встретились впервые.
Я признаюсь психотерапевту в том, что у меня бывают внезапные приступы ярости. Идя в самый разгар часа пик по Манхэттену, среди спешащих в обоих направлениях толп, я ловлю себя на том, что киплю от бешенства, что я готова убить. Кто все эти гребаные люди, и разве это справедливо, разве это вообще возможно, что все они, все эти совершенно заурядные люди живы, когда ты…
Психотерапевт прерывает меня, замечая, что ты сделал свой выбор сам.
Я действительно все время об этом забываю. Потому что очень часто мне кажется, что все было не так, что это вовсе не было твоим выбором, не было актом свободного волеизъявления, что с тобой произошел какой-то дикий несчастный случай. Что, как я полагаю, нельзя назвать неточным описанием событий, ведь убийство самого себя бесспорно противоречит естественному ходу вещей.
«Коню, собаке, крысе — жить. Но не тебе. Тебя навек не стало», — плачет король Лир над телом своей дочери Корделии.
Временами я с трудом сдерживаю свой гнев на студентов. Как можно специализироваться на английском языке и не знать, что после вопросительного знака нельзя ставить точку? Почему даже студенты магистратуры не понимают разницы между романом и мемуарами?
Мне хочется ударить студентку, которая не прочитала заданных на прошедшую неделю пятидесяти страниц обязательной литературы и в качестве оправдания заявляет, что должна была участвовать в жюри присяжных.
Я оставляю без ответа и вымарываю анкету кого-то из тех, кто рассматривает возможность поступления в мою группу. (Вопрос номер один: «Вас чрезмерно беспокоят такие вещи, как пунктуация и грамматика?»)
Весь этот гнев, говорит психотерапевт, ведь он никоим образом не направлен на тебя. Я не злюсь на тебя, не обвиняю. Это потому, что я думаю, будто самоубийство можно оправдать?
Так считал Платон[75]. Так считал Сенека[76].
Но что думаю я? Как я считаю, почему ты это сделал?
Потому что ты был заперт в резервуаре с водой, куда тебя поместили вниз головой.
Потому что ты был слаб и страдал от боли.
Потому что ты устал от борьбы.
Я провожу большую часть следующего часового сеанса, не произнося ни слова. Всякий раз пытаясь заговорить, я начинаю плакать. После нескольких безуспешных попыток я просто сижу, рыдая, пока не приходит время уйти.
Я хотела вспомнить о том времени, когда мы с тобой повстречались в Берлине. В тот год я жила там в качестве исследователя-стипендиата, а ты был проездом — только что вышел перевод твоей последней книги на немецкий. И мы провели вместе долгие выходные.
Ты хотел посетить могилу писателя Генриха фон Клейста, то самое место, где в 1811 году в возрасте тридцати четырех лет он застрелился. Я знала эту историю. Клейст, всю свою жизнь страдавший от отчаяния, давно уже хотел умереть. Но не в одиночку. Его всегда воодушевляла мысль о совместном совершении самоубийства вместе с возлюбленной. С возлюбленной его мечты — женщиной, которая пожелает умереть вместе с ним.
Генриетта Фогель была не первой женщиной, которой он это предлагал, но именно она после того, как ей в возрасте тридцати одного года поставили смертельный диагноз — рак — с восторгом приняла его предложение о романтическом уходе из жизни с помощью убийства и самоубийства.
Убив ее выстрелом в левую грудь, Клейст затем выстрел себе в рот. Как мужчина.
Оба они, похоже, ожидали от всего этого чего-то сродни оргазму.
Свидетель рассказывал, что накануне вечером их видели в ресторане, где они спокойно ужинали и были веселы. И хотя оба они являлись христианами, они явно ожидали, что смерть перенесет их в лучший мир, в вечное блаженство среди ангелов — никаких страхов перед вечными муками, которые, как утверждают, ожидают тех, кто убил другого или наложил руки на себя.
Фогель, которая была замужем, попросила в своем последнем письме мужу после смерти не разлучать ее с Клейстом. И их похоронили там, где упали их тела, на тенистом зеленом склоне у озера, известного как Кляйнер Ванзее.
Как многие кладбища, это место упокоения было безмятежно. Я часто приходила сюда одна. (Потом там был проведен косметический ремонт, но я с тех пор туда не возвращалась.) На надгробии Клейста я всегда, даже зимой, находила свежий цветок. Я любила его стихи еще с тех пор, как впервые прочла их в колледже, и мне было приятно находиться на месте его упокоения. Думать о том, что здесь бывали братья Гримм. На этом самом месте Рильке писал стихи в записной книжке.
В тот день, проходя по мосту через Ванзее, мы видели спаривающихся лебедей. Это вовсе не изящное зрелище, как можно предположить: лебедушке грозила серьезная опасность утонуть. Как бы то ни было, трудно представить себе, что их смешные усилия, сопровождаемые хлопаньем крыльев, увенчаются каким-то результатом.
Но вскоре на пешеходной дорожке под мостом у самого берега я увидела их гнездо. Я часто возвращалась и сюда. Обычно видела в нем одного лебедя, как я предполагала самку, либо она лежала, свернувшись, и спала, либо сидела в гнезде, в то время как второй лебедь плавал рядом. Иногда я наблюдала, как они работают вместе, расширяя гнездо с помощью веточек и тростника, пока оно не стало напоминать гигантское мексиканское сомбреро.
Общеизвестно, что лебеди образуют пары на всю жизнь. Менее известно то, что они порой изменяют своим супругам. Я обнаружила, что один из этой пары — я предположила, что это был самец, — частенько навещал другую лебедушку в дальней части озера.
Хотя я не заметила в гнезде яиц, я все-таки надеялась увидеть, как у пары появятся лебедята. Но потом гнездо вдруг исчезло. Понятия не имею, что с ним произошло. Лебеди начали строить новое гнездо, но вскоре исчезло и оно.
Лебеди на Ванзее часто появлялись к концу дня, и их перья отливали всеми то и дело меняющимися цветами заката. Бледно-розовые лебеди, такие же розовые, как фламинго, ярко-фиолетовые, как фиалки, темно-фиолетовые, как сумерки, ночные лебеди. Птицы из снов, напоминание о красоте мира. О рае.
Мы с тобой оба согласились, что Клейст, должно быть, был чудовищем. Он использовал свой поэтический дар, чтобы уговорить кроткую неизлечимо больную женщину пойти на смерть от пули.
Но как насчет нее? Она все равно умирала. Самоубийство, совершенное чужими руками, хотя и ускорило смерть, почти наверняка избавило ее от тяжких страданий. Но дать возможность другому человеку совершить убийство и самоубийство — причем человек этот, хотя и пребывал в отчаянии, был молод и мог бы прожить еще много лет, сочиняя гениальную литературу — как можно это оправдать? Если бы Клейст так и не отыскал спутницу в смерти — если бы эта женщина, как и другие, тоже отказалась исполнить его безумную просьбу, — кто знает, что могло бы случиться? Или не случиться. По правде говоря, чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что госпожу Фогель следовало бы за многое призвать к ответу. Неужели у нее даже и мысли не возникло попытаться спасти его?
Теперь я гадаю, почему написала «О рае», хотя и не верю, что такое место существует.
Для тех, кто не хочет отправиться навстречу смерти в одиночку, Интернет — это подарок небес. Совершенно не знакомые друг другу люди, иногда живущие в разных частях планеты, находятся онлайн и договариваются о встрече. Мужчина из Норвегии летит в Новую Зеландию и там вместе с еще одним мужчиной прыгает со скалы. Мужчина и женщина бронируют разные номера в отеле в курортном городке на берегу озера, а затем их находят скованными наручниками вместе и утонувшими. В Японии, где традиция группового самоубийства особенно сильна, то и дело натыкаются на машины, полные трупов. Но излюбленным местом для самоубийц в Японии остается знаменитый лес Аокигахара у подножия горы Фудзияма, который, несмотря на объявления на дорожках, гласящие: «Ты не один» и «Подумай о своих родителях» и телефоны, подсоединенные к горячим линиям психологической поддержки, так и не перестал быть одним из тех мест в мире, куда стекается наибольшее количество самоубийц. В этом он соперничает с мостом Золотые ворота, этой Меккой для самоубийц в США.
Берлин. Там ты был в превосходном настроении. Тебе повезло с публикацией (по твоим словам, теперь это в основном зависело от везения), и книга, которая на родине продавалась плохо, в Европе стала бестселлером. Поэтому в той поездке с тобой носились как с членом какой-нибудь царствующей королевской семьи. Ты был в восторге от того, что приехал в Германию, известную тем, что к чтению там относятся серьезно (ты все время это повторял), и особенно от того, что находишься в Берлине, одном из твоих самых любимых городов, который, как и Париж, является идеальным местом для прогулок пешком.
Я помню, как счастлива я была, когда узнала, что ты скоро приедешь. Мне тебя очень недоставало. И отчасти благодаря тому, что в тот раз ты, что случалось редко, не имел ни жены, ни любовницы, а отчасти благодаря тому, что мы были далеко от дома — приезжие в чужой стране, которых часто принимали, что было вполне естественно, за мужа и жену — иногда у меня возникало такое чувство, будто мы и в самом деле пара. Пара, приехавшая в отпуск. Как бы то ни было, я помню, что в те субботу и воскресенье я ощущала между тобой и собой особую близость, и когда ты уехал, меня охватило острое чувство потери.
Все это неизгладимо впечатано в мою память, и эти воспоминания нахлынули на меня в кабинете психотерапевта. Но я не могла об этом говорить, поскольку не сумела перестать плакать.
Теперь я задаю себе вопрос, почему, несмотря на все мои размышления, я не вычеркнула слова «О рае».
Мой психотерапевт считает, что я в тебя влюблена. Что я всегда была в тебя влюблена. Он говорит мне это тоном, отличающимся от мягкого вежливого тона, который он использует всегда. Этот тон не то, чтобы невежлив, но если я не ошибаюсь, в нем звучат нотки раздражения. А может быть, он просто напряжен.
Это осложняет переживание мною утраты близкого человека. Я горюю о тебе, как горевала бы возлюбленная. Как горевала бы жена.
— Быть может, вам стало бы легче, если бы вы написали об этом, — заявляет он, когда я прихожу к нему в последний раз.
А быть может, и нет.
«Я и забыла, как это больно — вспоминать», — пишет одна из моих студенток. А ей ведь только восемнадцать лет.
Новость мне приносит Эктор, позвонив в дверь как-то под вечер. Агент, управляющий зданием, уведомил его владельца, что будет слишком много мороки, если тот начнет оспаривать мое ходатайство о том, чтобы оставить Аполлона в квартире в качестве животного для эмоциональной поддержки, тем более что на него не поступало никаких жалоб от других жильцов. (Один из моих друзей заметил, что теперь, когда у меня есть свидетельство от психотерапевта, я вероятно, смогу держать в квартире собаку все время, пока я ее снимаю, даже после того, как Аполлон скончается. Наверное, так оно и есть, но я дала себе слово больше не прибегать к этому трюку. К тому же я не могу вынести мысли о том, что Аполлон скончается, что Аполлон будет заменен.)
Эктор улыбается во весь рот. Мои глаза влажные от облегчения.
— Думаю, это следует отпраздновать, — говорю я.
У меня все еще осталась бутылка шампанского, которую мне подарила одна из студенток.
Часть 10
Каждый, кто вынужден наблюдать за стареющей собакой или кошкой, напоминает мне поэта Гэвина Юарта, желающего, чтобы его выздоравливающий после болезни четырнадцатилетний кот смог прожить хотя бы еще одно лето перед этим последним роковым ужасным визитом к ветеринару.
Я вижу в шерсти на морде Аполлона седые волоски и красные ободки вокруг его глаз. Я замечаю, как тяжело он иногда ходит, как порой у него только со второй попытки получается встать на лапы, и от этого мне больно. Перечень симптомов, который дает мне ветеринар, говоря, что я должна их опасаться, перечень распространенных признаков болезней и ухудшения состояния у собак старшего возраста повергает меня в ужас. (Как ты будешь заботиться о нем, если он станет немощным?) За те полгода, что прошли между осмотрами у ветеринара, его артрит стал хуже.
Одного чуда мне недостаточно. То, что катастрофы удалось избежать, то, что нас с ним избавили от разлуки или выселения — простите, но мне этого мало. Теперь я как Жена Рыбака из сказки братьев Гримм: я хочу большего. И не просто еще одного лета или двух, или трех, или четырех. Я хочу, чтобы Аполлон прожил еще столько же, сколько и я. Все, что меньше, было бы несправедливо.
И почему в конце концов должен быть этот неизбежный визит к ветеринару? Почему он не может умереть дома, во сне, мирно, как этого заслуживает хороший пес?
Почему, спасая его, я теперь должна смотреть, как он страдает — страдает и умирает, — а затем остаться в одиночестве, без него?
Мне кажется, он понимает, когда меня начинают одолевать такие мысли. Если он в это время рядом, то переносит все свое внимание на меня, как будто для того, чтобы отвлечь.
Люди верят: хотя животные не знают, что когда-нибудь умрут, многие из них все-таки понимают, что сейчас, сегодня, они умирают. Но в какой же момент умирающее животное начинает осознавать, что с ним происходит? Возможно ли, что задолго до смерти? И как животные реагируют на свое старение? Ставит ли их это в тупик, или же они каким-то образом интуитивно понимают, о чем говорят все эти признаки? Может быть, эти мои вопросы глупы? Я признаю, что да. И все же они занимают все мое внимание.
У Аполлона есть любимая игрушка, ярко-красная, для перетягивания, сделанная из жесткой резины. Мне нравится, как он понарошку грозно рычит, когда я пытаюсь вырвать эту игрушку из его зубов. Но, похоже, больше всего в этой игре ему нравится позволять мне выходить из нее победительницей. (Я до сих пор не знаю, насколько он осознает или не осознает собственную силу. Я совершенно точно никогда не видела, чтобы он применял ее в полной мере.) Другие игрушки его не интересуют, хотя я продолжаю покупать ему новые — точно так же я продолжаю водить его в парк для собак, хотя давно уже утратила надежду увидеть, как он там играет. Другими собаками он интересуется не больше, чем другими людьми. И это по-прежнему меня беспокоит. Почему ты не хочешь ни с кем играть? Ведь в парке так много приятных дружелюбных собак!
Но почему это должно меня заботить? Думаю, я веду себя как родитель, который хочет, чтобы его ребенок был пусть и не безумно популярен, но хотя бы не оставался всегда один. Я была бы так счастлива, если бы Аполлон подружился хотя бы с одной из других собак, а может быть, даже бы влюбился. Хотя его и кастрировали, это же не означает, что он не может испытывать какие-то особые чувства к другой собаке, разве не так? Мы часто встречаемся с изумительно красивой серебристо-серой девочкой-мастифом по имени Белла. (Я решила, что мне все равно никуда не уйти от антропоморфизма, и, хотя я пытаюсь скрывать его, я больше против него не борюсь.)
По поводу вызывающей такое восхищение собачьей верности писатель Карл Краус заметил, что собаки верны людям, но не другим собакам. Так что, возможно, они не лучший пример такой добродетели, как верность. По правде говоря, собаки часто ненавидят других собак, даже собственную кровь. Я наблюдала пример такой ненависти только сегодня утром. Две собаки на поводках заметили друг друга и тут же начали угрожающе рычать и рваться со своих поводков.
У-у, гребаный гад! Я тебя ненавижу. Черт бы тебя побрал! Я откушу твой гребаный нос, ты, вонючий кусок дерьма. Я прикончу тебя. Тебе повезло, что я на поводке, не то я откусил бы твои гребаные яйца.
Они едва не удавили себя до смерти, пытаясь добраться друг до друга.
Аполлон не такой. Я никогда не видела, чтобы он обижал, атаковал или задирал другого пса. Несмотря на все что ему пришлось пережить, он остался добрым, он сохранил свою — человечность, хочется мне сказать (а какое еще слово мне следует употребить?).
Однажды мы проходим мимо небольшой веранды, и на ней примерно на уровне головы Аполлона сидит кошка. Кошка подпрыгивает, описывает полукруг и фыркает прямо ему в морду. Аполлон подставляет морду — кошка взмахивает лапой и сильно бьет по ней. На мгновение меня охватывает страх за эту кошку, но Аполлон продолжает идти дальше. Ему не нужны неприятности. Ему нужен покой.
Даже в старости он остается существом такой поразительной красоты, что прохожие то и дело восхищенно ахают, глядя на него.
Как же прекрасен он был в расцвете сил.
Нет ничего необычного в том, чтобы жалеть, что ты не знал человека, которого полюбил, таким, каким он был до встречи с тобой. Тебе почти что больно, оттого что ты не знаешь, каким твой любимый был в детстве. Я испытывала подобные чувства к каждому мужчине, в которого когда-либо влюблялась, и ко многим близким друзьям, и сейчас я испытываю то же самое к Аполлону.
Как жаль, что я не знала его, когда он был игривым молодым псом, что я пропустила те месяцы его жизни, когда он был щенком! Я чувствую не просто грусть, такое чувство, будто меня обманом лишили чего-то дорогого. Ведь у меня нет также фотографии, на которой было бы видно, каким он был когда-то. Мне приходится довольствоваться разглядыванием фотографий мраморных догов-щенков в книгах или в Интернете. И признаюсь, что я посвятила этому несколько часов.
Это случилось лишь однажды. Идя по Сохо, я повстречалась с человеком, выгуливающим еще одного мраморного дога. И я, и он были в восторге, наши собаки же даже не посмотрели друг на друга.
С твоей собакой может случиться что-то дурное. Этот урок мы усваиваем рано, из детских книг. Животные в этих историях часто погибают и нередко жестокой смертью. Рыжий пони из рассказа Джона Стейнбека, например. И даже когда они не погибают, даже когда в конце они не только остаются живы, но и живут счастливо, до этого им все равно приходится туго, часто они жестоко страдают, нередко проходят через настоящий ад. Автобиография Красавчика Джо, написанная на основе жизни реального пса и изобилующая жестокими сценами, начинается с того, что изверг-хозяин отрубает ему уши и хвост топором.
Как, несомненно, и многие другие читатели, я помню, что плакала над этими книгами (особенно горько над участью Джо), но я никогда не жалела, что их прочла. Есть ли на свете истории, более захватывающие, чем истории о дружбе между ребенком и животным? Когда я впервые поняла, что хочу писать книги, я была уверена, что стану писать именно об этом. Но на самом деле я никогда не создавала ничего подобного.
Когда людям совсем мало лет, они смотрят на животных как на равных себе, даже как на свою родню. То, что люди отличаются от животных, то, что они уникальные существа, стоящие над всеми остальными видами — это понимание приходит лишь с годами, ему надо учить.
Дети склонны придумывать в своих фантазиях миры, населенные существами, иными, чем человек. В детстве мне нравилось делать вид, что я кошка, или кролик, или лошадка. Тогда я пыталась общаться с другими людьми не с помощью речи, а с помощью звуков, которые издавало то животное, которым я себя представляла, и отказывалась есть при помощи рук.
Иногда я играла в эти игры так долго и убедительно, что родители даже начинали беспокоиться. Пусть это была всего лишь игра, но в глубине ее таилось нечто совершенно серьезное, и частица этого осталась со мной и после того, как я стала взрослой — нежелание быть частью человеческого рода.
В романе Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия» фигурирующая в нем собака умирает. Главный герой дарит эту собаку, тогда еще щенка, своей жене Терезе, дарит по той же причине, по которой женился на ней: чтобы искупить те боль и унижение, которые он причиняет ей своими нескончаемыми изменами. Хотя щенок — девочка, его эксцентрично называют в честь персонажа-мужчины из другого романа — в честь мужа Анны Карениной, Каренина. Каренин-собака терпеть не может перемен, любит находиться в сельской местности, где она заводит дружбу с кабанчиком, потом заболевает смертельной формой рака, и ее усыпляют.
Вместо слов, написанных в Главе 1 стихе 26 библейской Книги Бытия, где Бог говорит о господстве человека над животными, Кундера интерпретирует этот стих по-своему: «Истинная доброта человека может проявиться лишь тогда, когда ее объект беззащитен». Так давайте же посмотрим, как род человеческий обращается с теми, кто находится в его власти. И мы увидим, что с точки зрения нравственности, в этом отношении «человечество потерпело неудачу, настолько сокрушительную, что все остальные его неудачи проистекают именно из нее».
Каренин и Тереза преданы друг другу. Размышляя о связывающей их чистой и бескорыстной привязанности, Тереза приходит к заключению, что такая любовь, если она даже и не больше, то, во всяком случае, лучше, чем те нечистые, напряженные, вечно разочаровывающие и неполноценные отношения, которые у нее всегда были.
«Идиллические» — так Кундера характеризует отношения людей и животных. Идиллические, потому что животные не были изгнаны вместе с нами из рая. Они остались там, их не смущают такие сложности, как разделение тела и души, и через наши с ними любовь и дружбу мы можем вновь обрести связь с раем, даже если она представляет собой всего лишь тонкую нить.
Другие идут еще дальше Кундеры. Собаки, по их мнению, не только не затронуты злом и пороком, но они — это небесные существа, покрытые шерстью духи-хранители, отправленные на землю, дабы опекать людей и помогать им жить. Как и стремлением обожествлять кошек и котов, верой в это полон весь Интернет, и она распространяется и крепнет. Поневоле начинаешь задумываться. Я имею в виду, насчет людей.
В романе «Бесчестье» множество собак погибает. И остается вопрос, почему Дэвид Льюри отказывается спасти ту собаку, дворняжку, которая явно его полюбила и к которой он в свою очередь тоже чувствует особую привязанность? Почему эта собака — хорошая собака, искалеченная, но все еще молодая и тонко чувствующая музыку, почему ее нельзя спасти от участи, постигающей всех остальных невостребованных собак, которых уничтожают в приюте? Почему вместо того, чтобы взять эту собаку себе, Льюри настаивает на том, чтобы ее отдали на заклание?
Помните, как агент ФБР Кларисса Старлинг рассказывает в «Молчании ягнят» Ганнибалу Лектеру, как, будучи маленькой девочкой и живя на ранчо своего дяди, она жаждала спасти ягнят от неизбежного весеннего забоя? Как она взяла на руки ягненка и попыталась убежать с ним. «Я думала, что если сумею спасти хотя бы одного… но он был тяжелый. Такой тяжелый». И в конце концов она не смогла спасти животное, приговоренное к смерти. Даже одно.
Мы знаем, что собаки думают, но имеют ли они свои мнения?
Кундера придает большое значение тому факту, что, в отличие от нас, животные не испытывают отвращения. Я не так уж в этом уверена (неужели отвращения не чувствуют даже кошки?), но неспособность собак осуждать нас и быть категоричными, несомненно, играет большую роль в том, что они вызывают у нас теплые чувства. (Это и навело педагогов на мысль о том, что очень хороший способ научить детей, имеющих затруднения при чтении, преодолевать их — это предлагать им читать вслух собакам. И, наверное, именно поэтому такие исполнители, как Лори Эндерсон и Йо-Йо Ма говорят, что глядя на публику на своих концертах, они представляют себе, что вся она состоит из собак.)
Благодарность. Думаю, люди ничего не придумывают, когда уверяют, что это чувство свойственно собакам, которых они спасли. Я часто чувствую, что Аполлон мне благодарен.
Мне бы хотелось знать, свойственно ли ему предвкушать что-то приятное.
Она скоро придет. С нетерпением жду, когда наконец смогу поесть! Завтра будет новый день.
Еще больше мне хотелось бы знать, как он помнит то, что было в прошлом. Чувствует ли он тоску по минувшему? Сожалеет ли о чем-то былом? Есть ли у него сладкие-пресладкие воспоминания? Или горько-сладкие? Раз уж у собак так развиты органы чувств, почему бы им не иметь внезапные воспоминания-вспышки, навеянные чем-то в настоящем?
Почему бы им не иметь прозрений, озарений моментов истины и так далее в этом духе?
В начале нашей совместной жизни я часто замечала, что он пристально смотрит на меня, но всякий раз, когда я отвечала на его взгляд, он отворачивался. Теперь же он часто кладет свою огромную голову мне на колени, скашивает глаза на мое лицо и смотрит на меня выразительным взглядом.
— О чем вы с ним говорите? — спрашивал меня мозгоправ.
В основном я, похоже, задаю ему вопросы. Как дела, милый? Хорошо поспал? Погонялся ли ты за кем-нибудь в своих снах? Хочешь пойти погулять? Хочешь есть? Тебе хорошо? Тебе больно от артрита? Почему ты отказываешься играть с другими собаками? Ты правда ангел? Хочешь, я тебе почитаю? Хочешь, спою? Кто тебя любит? Ты меня любишь? Ты будешь любить меня всегда? Хочешь, потанцуем? Я лучшая из тех людей, которые у тебя когда-либо были? Ты можешь определить, что я пила спиртное? В этих джинсах я не кажусь толстой? Как поется в песне: «Если бы мы умели говорить с животными».
Что на самом деле означает: если бы они могли говорить с нами.
Но это, разумеется, испортило бы все дело.
— Вся твоя квартира провоняла псиной, — говорит мне знакомый, пришедший меня навестить. — Я этим займусь, — отвечаю я. Что означает, что я больше никогда не приглашу его к себе.
Однажды ночью я просыпаюсь и вижу, что Аполлон стоит на полу и, по-видимому, зубами пытается натянуть на меня одеяло, которое я, наверное, сбросила с себя во сне. Когда я рассказываю об этом другим, они мне не верят. Говорят, что это мне, должно быть, приснилось. Что, соглашаюсь я, возможно. Но на самом деле я думаю, что они просто мне завидуют.
На презентации книги. Женщина, которую я прежде никогда не видела, хихикает и говорит: «Вы, кажется, та самая дама, которая влюблена в пса? Неужели это так?» Взяла ли я собаку в мужья, как Экерли взял собаку в жены? Будет ли смерть моего пса самым горестным днем в моей жизни? Захочу ли я тоже сгореть на его погребальном костре, как это раньше делали индуистские вдовы? Но мне тоже так захотелось поскорее вернуться домой и увидеть его, что вместо того, чтобы поехать на метро, я взяла такси. Я тоже пою при мысли о том, что скоро увижу его вновь, и эта любовь не похожа ни на какую-либо другую, испытанную мною прежде.
Меня то и дело охватывает тревога: вдруг придет кто-то, утверждающий, что он хозяин Аполлона, расскажет мне безумную, но убедительную историю о том, как их разлучили, и потребует, чтобы я вернула пса.
Читая Экерли, я заметила, что говоря о собаке, он иногда называет ее «человеком». Поначалу я думала, что это какая-то ошибка. Но учитывая тот факт, что он является одним из самых въедливых и аккуратных писателей в мире, я бы сказала, что это представляется маловероятным.
Видя тебя с собакой, люди рассказывают тебе истории про собак. Мужчина в деловом костюме гладит Аполлона по голове и рассказывает мне, как его мать в один прекрасный день решила бросить пса, который жил у нее несколько лет. Она отнесла животное на автобусную станцию и оставила его в сумке для переноски собак под скамейкой. Узнав об этом, мужчина выяснил, что пса его матери отправили в приют. Он позвонил в приют и сказал, что заберет пса, но позже, поскольку сейчас он находится на другом конце страны, заканчивая учиться на юриста. В приюте ему пообещали подержать пока пса у себя, но прежде, чем он смог приехать за ним, пес умер. Ему сказали, что он просто перестал принимать пищу.
— Я совершенно этого не понимаю, — возмутился этот мужчина. Пес был безобразно толст, потому что хозяйка кормила его пончиками, но еще молод, мил, и его совсем нетрудно было пристроить в хорошие руки. У нее совершенно не имелось оснований вот так выбрасывать его на улицу, как ненужную вещь. Хотя все это произошло много лет назад, он еще тщился понять, почему его мать совершила такой поступок.
Потому что она хотела сделать кому-то больно, думаю я, но вслух этого не говорю.
Продюсер общественного радио предлагает мне написать рецензию на книгу. Это может быть любая книга, говорит она, которая произвела на меня сильное впечатление и которую я рекомендовала бы радиослушателям.
Вообще-то я знакома с этой серией радиопередач, поскольку слушала, как другие писатели читали в них рецензии, которые написали на свои любимые книги.
Я выбираю «Оксфордскую книгу смерти». Не только потому, что, по моему глубокому убеждению, ее должен прочитать каждый, но и потому, что как раз сейчас я перечитываю ее, обращая особое внимание на главы «Самоубийство» и «Животные».
Я пишу требуемые пятьсот слов, рассыпаясь в похвалах блестящему выбору напечатанных в этой антологии отрывков, взятых из произведений всех времен — от древности до наших дней — и посвященных всем сторонам предмета от «Определений» до «Последних слов». Я говорю о том, какими потрясающими я нахожу все эти тексты о смерти и о том, что, как это ни парадоксально, книга занимательна и полна жизни.
Я трачу на эту рецензию немало времени, испытывая чувство благодарности за то, что мне дали эту небольшую работу, за то, что я могу что-то писать, что бы это ни было. Закончив, я отсылаю рецензию, но ответа не получаю, и продюсер больше не пишет мне ни строчки.
В новостях передают:
В некоторых приютах для животных применяется экспериментальная психотерапия — волонтеры читают вслух собакам, пережившим жестокое обращение или психическую травму.
Интервью с известным танцовщиком, который в детстве, став жертвой непрекращавшихся издевательств утратил дар речи.
Умер писатель Майкл Херр. Из его некролога следует, что в последние годы своей жизни он стал убежденным буддистом и перестал писать.
Из «Оксфордской книги смерти»:
Силлогизм Набокова. «Другие люди умирают. Но я не другой; следовательно, я не умру».
«Единственное из пережитого мною, чего я никогда не опишу, — сказала я вчера Вайте», — написала в своем дневнике Вирджиния Вулф. Пятнадцать лет спустя то, чего она не могла описать, свершилось.
Многие истории, написанные студентами курсов писательского мастерства, начинаются с того, что кто-то встает утром. Гораздо реже такие истории заканчиваются тем, что кто-то ложится спать. Более вероятно, что история закончится смертью. Вообще-то рассказы студентов часто начинаются или кончаются на похоронах. А когда студент желает передать поток мыслей персонажа, он чаще всего отправляет его в путь. Сажает в какой-то вид транспорта, обычно в машину или самолет. Похоже, студенты могут представить себе, что кто-то думает, только если этот кто-то одновременно движется в пространстве.
ВОПРОС. Почему вы отправили этого персонажа в поездку в Индию, хотя это не имеет ни малейшего отношения к остальной части вашего рассказа?
ОТВЕТ. Я хотел показать, что он очень беспокоится.
Предсмертные слова. «Так вот как кончается эта история», — сказал один мой друг в хосписе для больных СПИДом. Глаза его при этом были широко открыты от удивления, совсем как у малого ребенка.
Часть 11
Как же должна закончиться эта история? Уже некоторое время я представляю, что у нее будет вот такой конец.
Однажды утром женщина, находящаяся одна в своей квартире, готовится выйти из дома. Стоит ранняя весна, и день обещает быть наполовину солнечным, наполовину облачным. Возможно, поздно вечером прольется ливень. Женщина проснулась с первым проблеском рассвета и с тех пор не спала.
Который сейчас час?
Восемь часов.
Что делала эта женщина между своим пробуждением и восемью утра?
Примерно полчаса она пролежала в постели, пытаясь заснуть опять.
Эта женщина что, страдает именно от того вида бессонницы, для которого характерны частые пробуждения и невозможность заснуть снова?
Да.
Есть ли у нее какой-то свой способ, с помощью которого она, проснувшись, пытается опять заснуть?
Да, она пытается считать в обратном порядке, начиная с тысячи. Или перечислять в алфавитном порядке все пятьдесят штатов. Однако сегодня утром не сработало ни то, ни другое.
Итак, она встала. А что было потом? Она сделала себе кофе. Эспрессо, сваренный в гейзерной кофеварке на одну чашку, которую она приобрела лишь недавно и которая, как ей кажется, нравится ей больше, чем кофеварка другого типа, случайно разбитая ею с месяц назад. В общем и целом она находит удовольствие в этом утреннем ритуале — приготовлении и выпивании кофе, одновременно слушая по радио новости.
Какие новости слышала женщина?
По правде говоря, сегодня утром она была погружена в свои мысли и не прислушивалась к новостям.
Она что-нибудь съела?
Половинку банана, разрезанную на ломтики и смешанную с натуральным йогуртом, изюмом и кусочками грецких орехов.
А что она делала после завтрака?
Проверила электронную почту. Ответила на одно письмо, запрос из книжного магазина при колледже насчет книг, которые она заказала для своего учебного курса. Подтвердила, что придет на прием к стоматологу в назначенное время. Приняла душ и начала одеваться. Но она все время колеблется из-за того, какая сегодня будет погода. Не будет ли ей слишком тепло, если она наденет свитер? Не слишком ли тонок ее непромокаемый плащ? Стоит ли взять с собой зонтик? А как насчет шляпы? И перчаток?
Куда эта женщина поедет сегодня утром?
Она отправится навестить старого друга, который выписался из больницы.
Что она в конце концов решает надеть?
Джинсы и кардиган поверх водолазки. И плащ с капюшоном.
Как она добирается до дома своего друга?
Она доезжает из Манхэттена до Бруклина на метро.
А по дороге она делает где-нибудь остановку?
В цветочном магазине у станции метро на Манхэттене, где она покупает несколько нарциссов.
А сойдя на остановке, она идет прямо к дому своего друга?
Да. Видите, вон она подходит к его особняку из красно-коричневого песчаника.
А тот друг, к которому она идет, тоже живет один?
Нет, он живет с женой. Сегодня утром ее нет дома, потому что она на работе. Но с ним собака. Послушайте, как она лает, когда звонит дверной звонок. Дверь отворяется, и мужчина выходит и обнимает женщину в знак приветствия. Он одет — это чистое совпадение — точно так же, как и она под плащом: синие джинсы, черная водолазка, серый кардиган. Несколько мгновений они крепко друг друга обнимают в то время, как пес, карликовая такса, лает и прыгает на них.
Теперь они сидят в гостиной и пьют чай, который для них приготовил он. Несколько песочных печений на маленькой тарелке остаются нетронутыми. Нарциссы были поставлены в небольшую хрустальную вазу на освещенный солнцем подоконник, где они горят с яркостью неоновых огней, из-за чего (невольно думает женщина) кажется, что они искусственные. Стебелек одного из них согнулся, и цветок поник, словно ему стыдно, или он стесняется быть на виду.
Теперь видно, что лицо мужчины бледно и осунулось, как у выздоравливающего после болезни. Голос у него севший, ему пока трудно говорить. В воздухе разлито напряжение, как будто сейчас что-то лопнет или разобьется на куски. Пес чувствует это и потому не может расслабиться, хотя и лежит совершенно неподвижно в своей плетеной корзинке. Мужчина говорит, и пес, слыша свое имя, стучит хвостом по дну корзинки.
— Я хотел поблагодарить тебя за то, что присмотрела за Джипом.
— О, он не доставил мне никаких хлопот, — замечает женщина. — Мне нравилось, что он живет со мной. У меня было такое чувство, будто рядом находится покрытый шерстью кусочек тебя.
— Ха, — отвечает мужчина, и женщина объясняет:
— Я просто была рада, что могу тебе помочь.
— И ты очень мне помогла, — заверяет ее мужчина. — Джип хороший пес, но он избалован, и ему нужно много внимания. А у моей бедной жены и так была уйма забот. — Пауза. Мужчина понижает голос: — Кстати, я хотел спросить тебя, что именно она тебе рассказала?
— Что отправилась в командировку, но ее рейс задержали из-за бури, разыгравшейся в Денвере. Она пыталась дозвониться до тебя из аэропорта, но ты не отвечал. Потом рейс отменили вообще, и она вернулась домой на такси, а приехав, обнаружила записку, адресованную уборщице, в которой говорилось, чтобы она не входила в дом. И чтобы позвонила в 911.
Пока женщина говорит, мужчина не смотрит на нее. Он не сводит глаз с нарциссов на подоконнике, щурясь, как будто их яркие цвета режут ему глаза. Когда она перестает говорить, он какое-то время молчит, словно ожидая, что она скажет что-то еще, а когда она ничего не добавляет, он замечает: «Если бы такое написал мой студент, я бы выдал: — Получилось как-то слишком легко».
В это мгновение солнце скрывается за облаком, и в комнате становится темнее. Женщина чувствует приступ паники и боится, что глаза ее сейчас засаднит от навернувшихся слез.
— Я все продумал, — говорит мужчина. — Джипа я отвез в гостиницу для собак. А уборщица должна была прийти только на следующее утро.
— Но как ты чувствуешь себя сейчас? — спрашивает женщина, пожалуй, чуть громче, чем следовало бы, и пес в корзинке испуганно вздрагивает. — Как ты сейчас?
— Я чувствую себя замаранным.
Женщина пытается протестовать, но мужчина обрывает ее. — Это правда. Я чувствую себя униженным. Но это типичная реакция.
«Я знаю», — думает женщина, но не говорит этого вслух. Не говорит она и того, что специально читала о самоубийствах.
— Но этим мои чувства не исчерпываются, — заверяет мужчина. — Оказывается, в них нет ничего особенного. Я реагирую так же, как и другие самоубийцы, которым не удалось довести дело до конца: я рад, что остался жив.
В нерешительности женщина говорит:
— Что ж, а я рада это слышать!
— Но я все время гадаю, — продолжает мужчина, — почему я не чувствую чего-то большего. Значительную часть времени я чувствую себя как в тумане или в состоянии оцепенения, как будто все это произошло пятьдесят лет назад — или не произошло вовсе. Но это отчасти объясняется действием лекарств.
Облако прошло, и в комнату снова льется солнечный свет.
— Наверное, ты рад, что ты дома, — говорит женщина.
Мужчина отвечает не сразу.
— Я, конечно же, рад, что вышел из больницы. У меня было такое чувство, словно я пробыл там не пару недель, а несколько месяцев. В психиатрическом отделении мало чем можно было заняться. Еще хуже то, что я не мог читать, моя концентрация обнулилась, так что я уже успевал забыть, о чем была речь в предложении, едва добравшись до его конца. К тому же, поскольку мне не хотелось, чтобы другие узнали, что со мной случилось, я не мог допустить, чтобы меня навещали. Кстати, если не считать моей семьи, ты единственная, кто знает всю эту историю. Пока что я хочу, чтобы все так и осталось.
Женщина кивает.
— Нельзя сказать, что это был целиком и полностью негативный опыт, — добавляет он. — И я все время напоминаю себе — когда с писателем случается что-то плохое, то каким бы ужасным это ни было, нет худа без добра.
— Ах, вот оно что? — говорит женщина, выпрямляясь. — Означает ли это, что ты собираешься об этом написать?
— Это, разумеется, не исключено.
— Это будет художественное произведение или часть мемуаров?
— Понятия не имею. Пока еще слишком рано говорить. Сначала мне надо в какой-то мере от этого дистанцироваться.
— А сейчас ты что-нибудь пишешь? Ты можешь писать?
— Вот именно об этом я и хотел тебе рассказать. В отделении у нас проходили своего рода литературные занятия! Это было частью групповой психотерапии. Там была одна женщина, рекреационный психотерапевт — так это называется. По ее заданию мы писали не прозу, а стихи — потому, говорила она, что у нас мало времени, но наверняка на это были и другие причины. И она просила каждого прочесть то, что он написал, вслух. Никакого анализа, никакой критики. Все просто делились своими чувствами. Каждый из них писал просто ужасно, и все остальные восторгались этим, захлебываясь от избытка чувств. Все эти совершенно жуткие стихи, которые и стихами-то не назовешь — можешь себе представить, какая это была дребедень. И когда они читали все это, их голоса дрожали и срывались, а у некоторых уходила целая вечность, чтобы дойти до конца. И каждый был абсолютно серьезен, было очевидно, как много для них значит эта возможность излить душу и увидеть, что они могут тронуть других до слез. И каждое стихотворение встречала буря аплодисментов. Это было очень странно. За все те годы, что я преподаю писательское мастерство, я никогда не подходил хоть сколько-нибудь близко к тем мощным эмоциям, которые я испытывал в той комнате. Это было очень трогательно и очень странно.
— Мне трудно представить тебя в подобной ситуации.
— Поверь мне, я сам понимал, насколько это парадоксально. Поначалу мне казалось, что я не хочу в этом участвовать, как не хотел участвовать и в раскрашивании книжек-раскрасок, которыми нам все время советовали пользоваться — не только для того, чтобы занять время, но и потому, что считается, будто раскрашивание облегчает тревогу. Но мое неучастие могло бы вызвать проблемы, потому что там все знали, что я писатель и преподаватель писательского мастерства, и откажись я участвовать, я бы выглядел ужасным снобом. И к тому же, как я уже говорил, в отделении было невыносимо скучно. Я не мог читать, а выходить в город вместе с остальными отказывался, поскольку до ужаса боялся столкнуться с кем-то из тех, кого я знаю, ведь тогда мне пришлось бы объяснять, что я делаю в кино или музее в сопровождении медсестры и кучки чокнутых психов. Так что занятие стихосложением было каким-никаким способом отвлечься и как-то убить время. А если уж быть совсем честным, мне было кое-какое дело до этой женщины — рекреационного психотерапевта. Нет, ее нельзя назвать роскошной, но она была молода и сексуально привлекательна, а ты же меня знаешь. Я хотел, чтобы она обратила на меня внимание. Пусть я был душевнобольным и ее пациентом и к тому же таким старым, что мог бы оказаться ее дедом, но мне все равно хотелось произвести на нее впечатление. По правде говоря, мне хотелось ее трахнуть, хотя на это у меня не было никакой надежды. Так или иначе, я не писал стихов с тех пор, как учился в колледже, и было что-то поистине чудесное в том, чтобы через столько лет опять вернуться к их сочинению. Я буду помнить эту бурю рукоплесканий до самой смерти. И что самое удивительное, я продолжаю писать стихи и сейчас.
— Ты пишешь стихи? — Женщина ощущает новый приступ паники, потому что думает, что, возможно, сейчас он попросит ее почитать часть этих стихов. Или, что еще хуже, посидеть и послушать, как их читает он сам.
— О, ничего такого, что я решился бы кому-то показать на этом этапе, — говорит мужчина. — Но сейчас мне легче работать над короткими вещицами. Мысль о том, чтобы написать что-то более длинное, честно говоря, пугает меня до чертиков. Вернуться к книге, которую я писал, — это было бы возвращение пса к блевотине своей! Но хватит болтать обо мне. Чем в последнее время занималась ты?
Женщина рассказывает ему о новом учебном курсе, который она ведет. Художественная литература как автобиография, автобиография как художественная литература. Такие писатели, как Пруст, Кнаусгор.
— Удачи тебе в попытке заставить этих придурков почитать Пруста! А как насчет того, над чем ты работала? Ты закончила?
— Нет, я ее бросила.
— Почему?
Женщина пожимает плечами.
— Из этого ничего не вышло. Отчасти потому, что меня мучило чувство вины, мне казалось, что я использую людей, о которых пишу. Я не могу точно объяснить, почему у меня появилось такое чувство, но оно меня изводило. А ты же знаешь, каково это, когда чувствуешь себя виноватым, это все равно как чувствовать дым и знать, что дыма без огня не бывает.
— Но это же вздор, — говорит мужчина. — Для своих произведений писатель может брать любой материал, все зависит только от того, каким образом ты его используешь. Разве я когда-нибудь советовал тебе писать о чем-то, о чем, по моему мнению, писать нельзя?
— Нет. — Но все дело в том, что когда ты предлагал мне написать о женщинах, ты думал не о них, а обо мне. Ты полагал, что написать о них было бы хорошо для меня. Потому что меня опубликуют, меня станут читать, мне заплатят.
— Да, ведь именно этим и занимаются писатели. Это называется публицистика. Но я тебе не поверю, если ты не скажешь, что для того, чтобы бросить писать эту книгу, у тебя были и другие веские причины.
— Может быть, и были, но это не имеет значения. Я не могла ее написать. Я хочу сказать, что писала буквально следующее: «Оксане двадцать два года, у нее круглое бледное лицо, высокие скулы, волосы с прядями, выкрашенными в светлый цвет, и она говорит с легким русским акцентом». Потом читала написанное, и мне становилось противно. И я не могла писать дальше. Слова ко мне просто не шли. Я провела исследовательскую работу. У меня были все соответствующие записи. И вот я сижу и спрашиваю себя, что я рассчитываю сделать со всеми этими свидетельствами о насилии и жестокости, с этим описанием чудовищных деталей? Превратить все это в какое-нибудь занимательное повествование? Но если бы мне это удалось, если бы я сумела найти точные слова и выбрать верный тон — если бы я превратила неприкрашенные грязь и ужас всего этого в хорошую профессиональную прозу, — к чему бы это привело? Я считала, что погружение во все это должно было бы как минимум помочь мне самой, мне, автору, хоть что-то понять, но я знала — такие ожидания напрасны. Сколько бы я об этом ни писала, это ни на йоту не приблизило бы меня к постижению представшего передо мною зла. И моя книга ничем не помогла бы самим жертвам этого зла — от этого печального факта тоже никуда не уйти. Единственное, что я могла бы заявить точно и что, по моему мнению, верно для всех таких проектов, как этот, так это то, что главное лицо в них — сам автор. А мне начало казаться, что в том, что я делаю, есть нечто не только эгоистичное, но и жестокое — я бы даже сказала бесчувственное. Мне был противен тот экспертно-криминалистический подход, которого, как мне кажется, требует этот жанр.
— Тогда, может быть, дело пошло бы лучше, если бы ты попробовала превратить это в произведение художественного плана?
Женщина морщится.
— Это было бы еще хуже. Превращать этих девушек и женщин в некие яркие, занимательные персонажи? Мифологизировать и беллетризировать их мучения? Нет.
Мужчина издает нарочито тяжелый вздох.
— Мне известен этот аргумент, и я с ним не согласен. Если бы все думали так же, как и ты, мир так и не узнал бы о многих вещах, о которых ему определенно следует знать. Писатели должны свидетельствовать, в этом и состоит их призвание. Иные сказали бы даже, что у писателя нет более высокой цели, чем свидетельствовать о несправедливости и страданиях.
— Я много об этом думала с тех пор, как Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию. Мир полон жертв. Обыкновенных людей, которые переживают ужасные события, но голосов которых никогда не слышно и которые умирают забытыми. Ее цель как писательницы, это дать таким людям слово. Но она считает, что этого нельзя добиться, сочиняя художественные произведения. Мы живем уже не в чеховском мире, говорит она, и художественная литература не очень-то годится для осмысления нашей действительности. Нам нужны документальные романы, сюжеты, взятые из жизни обычных людей. Не нужно вымысла. Не нужна точка зрения автора. Она называет свои книги романами, состоящими из голосов. Я также слышала, как их называли романами-свидетельствами. Большинство ее рассказчиков — женщины. Она считает, что женщины рассказывают лучше мужчин, потому что они вдумываются в то, что пережили и прочувствовали так, как мужчины обычно не могут, вдумываются более напряженно и глубоко и… Почему ты улыбаешься?
— Я просто думал об этом аргументе в пользу того, что мужчины должны вообще перестать писать книги.
— Алексиевич этого не говорит. Но она действительно утверждает, что если ты хочешь добраться до глубин человеческого опыта и эмоций, надо дать слово женщинам.
— Но не давать слова самой писательнице.
— Вот именно. Цель состоит в том, чтобы свидетельствовали именно те, кто страдал, и чтобы роль писателя сводилась лишь к тому, чтобы дать им такую возможность.
— Это стало уже устоявшимся мнением, что, разве не так? Мысль о том, что писатели занимаются чем-то постыдным, и что все мы являемся в той или иной мере подозрительными типами. Когда я занимался преподаванием, я заметил, что с каждым годом мнение моих студентов о писателях опускалось все ниже. Но что это означает, что означает то, что люди, желающие стать писателями видят писателей в таком негативном свете? Ты можешь себе представить, чтобы ученица балетного училища думала так о нью-йоркском балете? Или чтобы начинающие спортсмены презирали олимпийских чемпионов?
— Нет, не могу. Но на балерин и спортсменов не смотрят как на людей привилегированных, а на писателей смотрят именно так. В нашем обществе, чтобы стать профессиональным писателем, ты с самого начала должен иметь привилегированный статус, а в обществе преобладает мнение, что люди, принадлежащие к привилегированным слоям, вообще больше не должны писать книг — разве что они придумают способ, как не писать о себе самих, потому что это только содействует еще большему утверждению принципов превосходства белой расы и патриархата. Ты презрительно фыркаешь, но не можешь же ты отрицать, что писательство — это деятельность элитарная и что писатели сосредоточены на самих себе. Они пишут для того, чтобы привлечь к себе внимание публики и достичь жизненного успеха, а не для того, чтобы сделать этот мир справедливее. Так что, естественно, что в этом есть что-то постыдное.
— Мне нравится то, что по этому поводу сказал Мартин Амис: осуждать писателей за то, что они сосредоточены на самих себе — это то же самое, что осуждать боксеров за то, что они применяют насилие. Было время, когда это понимали все. И было время, когда начинающие писатели считали, что писательство — это призвание свыше — как постриг в монахини или священнический сан, как сказала Эдна О’Брайен. Помнишь?
— Помню, а еще я помню слова Элизабет Бишоп: ничто не вызывает такого чувства неловкости, как быть поэтом. Проблема ненависти к самому себе не нова. Ново представление о том, что люди, которые пережили больше всего несправедливостей, имеют наибольшее право на то, чтобы их выслушали и что пришло время, когда искусство должно не только подвинуться, чтобы дать место их голосам, но и отдать им пальму первенства.
— Получается что-то вроде требований, противоречащих друг другу. Те, кто относится к привилегированным слоям, не должны писать о себе, поскольку это содействует дальнейшему укоренению принципов империалистического патриархата белой расы. Но также не должны писать и о других социальных группах, потому что так они присваивали бы себе их культуру.
— Именно поэтому я и считаю произведения Алексиевич такими интересными. Если ты собираешься использовать в литературе то, что пережила какая-то угнетенная группа людей, ты должна найти способ дать высказаться им самим, оставаясь при этом в тени. Причина того, что теперь люди относятся с раздражением к представлению о том, что, для того чтобы писать, нужно иметь литературный дар, заключается в том, что в таком случае голоса слишком многих никогда не будут услышаны. Алексиевич дает людям возможность высказаться, поведать миру свои истории независимо от того, могут они написать красивые предложения или нет. Еще одна рекомендация — если ты пишешь об угнетенной социальной группе, ты должна отдать свой гонорар какой-нибудь организации, которая помогает этим угнетенным людям.
— Что лишает твою работу смысла, если писательским трудом тебе нужно зарабатывать на жизнь. По сути дела, если принять эти правила, только богатые могли бы позволить себе писать то, что им хочется. Для меня единственный серьезный вопрос во всем сказанном — это способна ли небеллетристическая литература вроде той, которую пишет Алексиевич, быть не хуже беллетристической. Сам я склонен согласиться с Дорис Лессинг, которая считала, что воображение лучше помогает доискиваться до правды. И я не согласен с представлением о том, что художественной литературе уже не под силу описать действительность. Я бы сказал, что проблема состоит в другом. Я заметил в своих студентах еще кое-что — какими самодовольными ханжами они стали, как они теперь нетерпимы к любой слабости писателя, к любому недостатку его характера. При этом я говорю вовсе не об очевидном расизме или женоненавистничестве, а о любом мелком проявлении бесчувственности, предвзятости или каких-то психологических проблем, неврозов, завышенной самооценки, одержимости или о вредных привычках — словом, о любой странности. Если какой-нибудь писатель не производил при жизни такого впечатления, чтобы мои студенты захотели бы иметь его в качестве друга, а это неизменно означало бы прогрессивные взгляды и правильный образ жизни, то к черту его, к черту! Как-то раз вся моя группа в полном составе согласилась с тем, что неважно, насколько велик был Набоков как писатель и что произведения такого человека, как он — а они считали его снобом и извращенцем, — не должны фигурировать в чьем-либо списке рекомендованной литературы. Они полагали, что романист, как и любой приличный гражданин, должен подчиняться общепринятым правилам, а представление о том, что человек может писать все, что хочет, независимо от чьих бы то ни было мнений, казалось им чем-то немыслимым. Разумеется, в рамках подобной культуры литература не может выполнять своих задач. Меня огорчает, что писательство теперь стало настолько политизировано, но мои студенты голосуют за это обеими руками. Собственно говоря, некоторые из них хотят стать писателями именно из-за этого. А если против чего-то из этого ты возражаешь, если пробуешь говорить с ними, например, об искусстве ради искусства, они затыкают уши и обвиняют тебя в попытке говорить с ними в снисходительной профессорской манере. Поэтому-то я и решил не возвращаться к преподаванию. Я не хочу слишком предаваться жалости к себе, но если ты настолько не вписываешься в превалирующую культуру и ее темы, то какой смысл преподавать?
Чтобы не быть слишком жестокой, она молчит о том, что студентам не будет его недоставать.
— Как бы то ни было, мне жаль, что ты бросила эту работу, — говорит он. — Ты же знаешь, я хотел, чтобы ты ее дописала.
— Честно говоря, — отвечает женщина, — на это была еще одна причина. Я отвлеклась — начала писать кое-что другое.
— О чем?
— О тебе.
— Обо мне? Как странно. С какой стати тебе захотелось написать обо мне?
— Ну, я этого, в общем-то, совсем не планировала. Были Рождественские дни, и я случайно еще раз посмотрела фильм «Эта прекрасная жизнь». Уверена, что ты его видел.
— Да, много раз.
— И ты знаешь сюжет. Джимми Стюарту, вернее, его герою Джорджу Бейли, не дает совершить самоубийство ангел, который показывает ему, как много потерял бы мир, если бы его никогда не существовало. Я сидела и смотрела этот фильм вместе с Джипом — я держала пса на коленях — и, разумеется, думала о тебе. Я хочу сказать, что все время думала о тебе после того, как услышала, что случилось, гадая, все ли с тобой будет в порядке. (Тут мужчина невольно переводит взгляд на цветы на подоконнике.) И я начисто позабыла про фильм и начала представлять себе, что случилось бы, если бы не спасли тебя. Ведь это, в конце концов, было чистым везением — или, может быть, у тебя действительно есть ангел-хранитель. Так или иначе, я не могла об этом не думать. Что, если бы тебя не нашли вовремя? И я поняла, что писать нужно именно об этом.
Если мужчина и казался бледным раньше, то сейчас он делается белее бумаги.
— Я не ослышался? Пожалуйста, скажи, что это не так.
— Прости. Мне следовало сказать тебе, что это будет художественное произведение. Я изменила всех действующих лиц, так чтобы их нельзя было узнать.
— Ой, да ладно. Ты думаешь, я не знаю, что это значит? Ты изменила мое имя.
— Собственно говоря, я не использовала имен. Я никому не дала имени. Кроме пса.
— Кроме Джипа? Ты пишешь и про Джипа?
— Ну, его там зовут не Джип. В книге есть пес, и он важный персонаж. И у него есть имя — Аполлон.
— Не слишком ли громкое имя для карликовой таксы?
— Он больше не такса. Как я уже сказала, это художественное произведение, в нем все изменено. Нет, не все. Например, я не стала выбрасывать деталь о том, что ты нашел его в парке. Ты же знаешь, как это работает. Берешь некоторые вещи из жизни, придумываешь другие, рассказываешь уйму полуправды и уйму полулжи. Так что Джип превратился в дога. А тебя я сделала англичанином.
Мужчина стонет:
— Разве ты не могла сделать меня хотя бы итальянцем?
Женщина смеется.
— Вот что говорит Кристофер Ишервуд о том, как реальный человек превращается в персонаж художественного произведения. Это как будто влюбляешься. Вымышленный персонаж похож на того, в кого ты влюблен: он всегда необычен, не такой, как все. Ты берешь в нем то, что интересно и интригующе, те особенные черты, из-за которых тебе собственно и захотелось о нем написать, и ты раздуваешь эти черты. Я знаю, все хотят быть итальянцами. Но с тех пор, как я тебя знаю, ты всегда казался мне похожим на британца.
— И ты вдобавок еще и сделала меня гоем?
Женщина смеется опять.
— Нет. Но я сделала тебя немного большим бабником, чем ты есть на самом деле.
— Только немного?
— А. Ты огорчен.
— Ты наверняка знала, что я буду огорчен.
— Да. Признаюсь, что знала. Когда людям нравилось, чтобы о них писали в книгах? Но я должна была что-то сделать. Как я уже сказала, с той минуты, когда я впервые услышала о том, что случилось, я не могла об этом не думать. Поэтому я и сделала то, что делаешь в том случае, если ты писатель и чем-то одержим: ты превращаешь это в книгу и надеешься, что ее написание освободит тебя от твоей одержимости или хотя бы поможет понять, что все это значит. Несмотря на то, что по опыту ты знаешь, что это практически никогда не срабатывает.
— Да, ты могла бы мне этого и не говорить. И писатели действительно похожи на вампиров, этого ты тоже можешь мне не говорить. Уверен, когда-то тебе сказал это я сам. Я понимаю всю парадоксальность и этого тоже. Но, как видишь, известие о том, что ты пишешь обо мне, стало для меня настоящим потрясением. Я не знаю, что и думать. Что ты наделала? В данную минуту я могу сказать, что это кажется мне предательством. Точно, это предательство. И после разговора, который у нас только что был, я не могу не спросить тебя: почему ты сочла законной добычей именно меня? И ты ведь могла бы, по крайней мере, подождать. Господи Иисусе. Я нахожусь в больнице, в самой низкой точке всей своей жизни, а ты тем временем сидишь за компьютером и строчишь страницу за страницей. Не слишком-то приглядная картина. Сказать по правде, она кажется мне совершенно низкопробной. Что ты за друг, если… эх, ты. Я вижу, ты не находишь слов. Меня изумляет, что ты вообще можешь смотреть мне в глаза. И я не ослышался насчет пса? Одним из главных героев является пес? Пожалуйста, скажи, что с псом не происходит ничего плохого.
Часть 12
Не жизнь, а масленница, да? Солнце не слишком печет, дует приятный бриз, поют птицы. Я знаю, что ты любишь солнце, иначе ты бы не лежал на солнцепеке, а находился рядом со мною, на тенистой террасе. Наверное, тебе очень приятно греть на солнце твои старые кости. И, вероятно, океанский бриз кажется тебе таким же освежающим, как и мне. Всякий раз, когда он начинает дуть в твою сторону, ты поднимаешь голову и принюхиваешся, и я знаю, что триста миллионов твоих обонятельных рецепторов улавливают куда больше, нежели острый запах морской соли, доступный тем жалким шести миллионам таких рецепторов, которые имеются у меня. Человеку трудно чуять больше одного запаха одновременно. Когда я слышу, как кто-то, описывая букет вина, говорит, что оно обладает ароматом черного перца, за которым следуют едва заметные привкусы ежевики и малины, я понимаю, что этот человек несет полнейшую ахинею. Покажите мне человека, который может по запаху отличить малину от ежевики, даже если при этом ему и не придется вдыхать запах черного перца. Но твой нос, в десятки тысяч раз более чувствительный, чем мой, как установила наука о собаках, способен различить одно-единственное гнилое яблоко в двух миллионах бочках — так что здесь речь идет о качественно ином органе обоняния.
Еще более поразительно то, что ты способен отличить один от другого все из тех бесчисленных запахов, которые атакуют тебя со всех сторон в каждый отдельный момент времени. Такого рода способность делает каждую собаку Чудо-Собакой. Но только представьте, что столько информации одновременно получает человек. Подобная способность свела бы его с ума.
Я вспоминаю, как когда-то ты будил меня среди ночи, обнюхивая дюйм за дюймом, пока я лежала на полу. Ты искал данные обо мне. О том, кто я такая и что у меня на уме. Ты и сейчас все время обнюхиваешь мою одежду, но уже без прежнего исследовательского рвения.
Согласно данным науки, ты можешь определить не только, что я съела сегодня на завтрак, но и что я съела вчера на ужин, а также, когда я последний раз стирала футболку и шорты, которые надеты на мне сейчас и использовала ли я при этом отбеливатель. Ты можешь также определить, куда я последнее время ходила в этих босоножках, и почуять, что я сменила марку солцезащитного крема. Все это было бы для тебя проще пареной репы. Но теперь, когда я знаю, что могут делать собаки, меня уже ничем не удивишь. Женщина, с которой мы часто встречаемся, когда она выгуливает своих двух дворняг: мать и дочь — утверждает, что собаки могут различать время.
— Когда я возвращаюсь с работы домой, — говорит она, — я поднимаю голову и вижу, что мои девочки сидят на окне, хотя мне остается идти еще целый квартал. Они могут определить силу моего запаха в окружающем воздухе.
Думаю, было бы правильно сказать, что благодаря своему более острому чутью, ты можешь определить мое состояние лучше, чем я твое. Тебя постоянно держат в курсе запахи. Они говорят тебе о моей тревоге по поводу занятий, которые должны вновь начаться через неделю. О моих открытых ранах. О моих потаенных страхах. О моем одиночестве. О моей ярости. О моем нескончаемом горе. Ты способен чуять все это. А что еще? Несколько злокачественных клеток, которые не научилась распознавать медицина? Бляшки и узлы, безмолвно образующиеся в моем мозгу, предвестники надвигающегося слабоумия?
Высказывались предположения, что собака может понять, что ты беременна еще до того, как об этом узнаешь сама.
Так же ты, вероятно, можешь чувствовать приближение смерти.
Правда, теперь твое чутье уже не то, что прежде. Наверняка возраст притупил его, как это бывает и у людей. Достаточно посмотреть на твой нос — раньше он был похож на черную спелую влажную сливу, а теперь покрыт серой корочкой, напоминая прогоревший уголек.
Я говорила: жаркое солнце, прохладный бриз — уверена, что они тебе точно по душе. Но как насчет пения птиц? Во дворе есть кормушка, и птиц возле нее видимо-невидимо. Мы слушаем пение синиц, воробьев, вьюрков и малиновок целый день, кроме некоторых часов, когда эти птички до единой таинственно замолкают, словно все они отправляются в церковь.
Мне нравятся звуки, которые издают птицы, даже монотонные заунывные крики плачущих горлиц и пронзительные вопли соек, ворон и чаек. Но ты равнодушен к музыке, сочиненной людьми, так что мне интересно, какое же воздействие оказывает на тебя музыка, создаваемая природой?
Я знаю людей, которым не нравится пение птиц, которых оно даже раздражает. Рассказывают, что дирижер Сергей Кусевицкий жаловался, что по утрам его в Тэнглвуде будят «все эти фальшиво поющие птицы».
Иногда на глаза тебе попадается какая-то птица — так делают городские голуби, — которая летит низко или прыгает по лужайке, но ты при этом не чувствуешь искушения догнать ее.
Так же поступают белки, кролики и бурундуки, некоторые из них подбираются к людям совсем близко, но и им нет нужды нас опасаться.
Соседский кот, такой же черно-белый, как и ты, наблюдает за тобой, прищурив глаза, с другого конца лужайки, всем своим видом показывая, что он тебя не боится.
Однажды мимо воровато промчалась странного вида собака и исчезла так быстро, что я даже подумала, не привиделась ли мне она. Только позднее до меня дошло, что это была не собака, а лиса.
Интересно, ты когда-либо гонялся за каким-нибудь зверьком? Мне кажется, да. Ведь в тебе есть такой инстинкт. В конце концов, охота на вепрей заложена в твоих генах.
Хотя я рада, что все мы здесь живем в мирном царстве. Я бы не хотела, чтобы было по-другому.
Я только что вспомнила, как мой давний бойфренд учил Боу стоять смирно целую минуту, пока на голове у него сидела ручная мышь.
Но я все-таки видела, как ты щелкал зубами, хватая челюстями мух и других летающих насекомых, в том числе, к моему беспокойству, таких, которые умеют жалить. И однажды ты съел огромного паука прежде, чем я успела тебя остановить.
А может быть, в том случае речь шла о том, как научить мышь сидеть смирно с собакой под ее хвостиком.
Другой несмолкаемый звук — это рокот прибоя, который, как мне нравится думать, ты находишь таким же умиротворяющим, как и я.
Когда мы с тобой впервые пришли на пляж, я подумала: а видел ли ты океан прежде, плавал ли в нем, ходил ли по песку? (Полагаю, размеры твоих следов на песке вызывают у некоторых людей тревогу.) К счастью, пляж находится всего в десяти минутах ходьбы. Мы с тобой ходим туда, только когда солнце стоит низко, то есть на рассвете и перед закатом. Хотя это и короткая прогулка, она не всегда дается тебе легко. Ты идешь медленно, все медленнее и медленнее — я стараюсь избегать слова ковыляешь. И я боюсь, что в один прекрасный день мы дойдем до пляжа, а проделать обратный путь уже не сможем.
Недавно, когда мы гуляли по городу, произошла ужасная вещь. Стоял палящий зной, это был первый по-настоящему плохой день лета, и мы с тобой направлялись в тенистый парк. Но прежде чем мы туда дошли и, хотя мы прошли еще совсем немного, ты вдруг остановился, ноги твои подогнулись, и ты рухнул на бетон, явно истощенный.
Меня тогда охватила паника, я подумала, что потеряю тебя прямо здесь и сейчас.
Но как же добры к тебе были люди. Кто-то бегом бросился в ближайшую кофейню и принес тебе миску холодной воды, которую ты жадно выпил, так и не встав с земли. Потом проходившая мимо женщина раскрыла зонтик и остановилась, держа его над тобой. «Не беда, если я опоздаю на работу», — сказала она. Проезжавший мимо мужчина предложил подвезти нас, но я знала, что тебе будет трудно взобраться на заднее сиденье, к тому же к тому времени ты, к счастью, почувствовал себя лучше, и мы смогли вернуться домой.
Теперь всякий раз, когда мы выходим из дома, я испытываю страх.
Но ветеринар говорит, что тебе надо гулять. Ты должен получать хотя бы какую-то физическую нагрузку каждый день.
Лекарства от твоего артрита действуют, говорит он. Болеутоляющие и противовоспалительные препараты дают гарантию, что хотя ты и не всегда чувствуешь себя полностью комфортно, тебя не мучает боль. Что, разумеется, может измениться, и от сознания этого боль испытываю уже я сама. Ведь как мне узнать, когда это произойдет?
Меня неотступно преследует описание поведения Куини перед ее концом, которое дал Экерли: «Она начала поворачиваться мордой к стене и спиной ко мне». Тогда он и решил, что время пришло, что это знак: он должен попросить ветеринара ее убить.
Ты ведь дашь мне знать, верно? Не забывай, я всего лишь человек, я совсем не такая чуткая, как ты. Мне нужно, чтобы ты подал мне знак, когда тебе станет слишком худо.
Я отнюдь не считаю, что этим я вмешаюсь в то, что предначертано природой, или узурпирую роль Бога, или, как сказали бы иные, помешаю духовному пути земного существа, его переходу в бардо[77]. Я смотрю на это как на благодеяние. Для тебя я хочу того же, чего хотела бы для себя.
Я думала, что решающий момент настал вчера, когда ты не притронулся к завтраку. Тогда я отломила кусочек собственного хлеба, который обычно ем на завтрак, и ты съел его из моей руки. Однако к вечеру к тебе вернулся аппетит.
Так что давай больше не будем об этом думать. Давай заботиться только об этом дне. Об этом дарованном нам с тобой чудесном летнем утре.
Еще одно лето. У тебя есть хотя бы это.
Еще одно лето, которое ты сможешь спокойно пролежать, растянувшись и греясь на солнце.
А у меня хотя бы будет возможность попрощаться.
С кем я сейчас разговариваю: с тобой или с самой собой? Должна признаться, что граница между тем и другим немного расплылась.
Несколько недель перед тем, как мы перебрались сюда, были такими тяжелыми. Ты уже не мог с легкостью подниматься и спускаться по лестнице на пятый этаж, и мы начали пользоваться лифтом. Соседи в основном не возражали. Теперь они привыкли видеть нас вместе, и только одна соседка, медсестра на пенсии, чей муж умер в прошлом году от лейкемии, попыталась поставить под сомнение твое звание терапевтической собаки. Но даже она заметила мне, что ты хорошо воспитан, поскольку всегда сжимаешься, чтобы занимать в нашем тесном лифте как можно меньше места. А другие жильцы, как те люди, которых мы все время встречаем на улицах, смотрят на тебя с очевидным восторгом, очарованные, как это часто бывает, таким большим и ласковым псом. Но им становилось все труднее не обращать внимания на все более и более острый запах, исходящий от твоей шкуры, смрад от твоего дыхания и твою тягучую липкую слюну — особенно в тесноте этого жаркого и душного лифта. А потом началось то неизбежное, чего я так боялась. В лифте, в коридоре, в застеленной ковром прихожей. Не проходило и дня, чтобы с тобой не приключился конфуз. И острее всего проблема стояла в квартире.
— Господи, тут пахнет, как в конюшне, — сказал доставщик. Еще кто-то сравнил мою квартиру с зоопарком. Эктор, да благословит его Бог, не сказал ничего. Мне пришлось выбросить три ковра, диван и кровать. Я купила второй резиновый надувной матрас, и мы начали спать рядом на этих двух матрасах на полу.
Я старалась изо всех сил, вытирая и драя все, что можно, тратя каждую неделю по несколько бутылок дезинфицирующего средства, но вскоре это стало чем-то вроде чистки авгиевых конюшен, подвига, достойного Геракла, и запах сделался постоянным. Он пропитал все и вся — деревянные полы, книжные полки. Им разит от всей одежды, как от нее разило табачным дымом, когда мне было между двадцатью и тридцатью — и иногда мне кажется, что так пахнут и моя кожа, и волосы.
— Дело плохо, но все же не так уж плохо, — сказал тот мой друг, который всегда с особенным сочувствием относился к ситуации, в которой я оказалась. — Тебе нужно просто на время уехать и дать квартире проветриться.
Когда я готова была уже впасть в отчаяние, он пришел нам на помощь.
— Моей матери пришлось переехать в дом престарелых, где за ней ведется постоянный уход, — сказал он. — У нее есть коттедж на Лонг-Айленде, где она раньше проводила лето. Мы только что продали его, но новые хозяева вступят в права владения только после Дня труда. Они собираются полностью вычистить помещение и произвести в нем капитальный ремонт, так что неважно, какой ущерб ему может нанести твой пес. К тому же он все равно будет проводить много времени во дворе. Этим летом я сам редко туда выбирался. Мне надо работать, и я терпеть не могу уезжать из города на выходные, особенно теперь, в августе, когда от движения на дорогах можно с ума сойти. В любом случае до Дня труда осталось только две недели, и тебе это нужно намного больше, чем мне. Вот увидишь, там твоя жизнь станет намного легче. А пока тебя здесь не будет, я, если хочешь, посмотрю, что можно сделать с твоей квартирой.
Мой герой.
Он даже отвез нас сюда на своем внедорожнике.
Чтобы ты смог безболезненно взобраться в этот внедорожник, Эктор придумал соорудить что-то вроде наклонного трапа из старой двери, которая хранилась в подвале дома.
Здесь нам не надо беспокоиться о лестницах, ведь на террасу ведут всего лишь две низенькие ступеньки. И нам не нужна машина. Чтобы покупать продукты, я могу ездить на велосипеде в ближайший городок, до которого всего шесть миль. Через неделю, когда нам придется уезжать, мой друг приедет на своем внедорожнике и отвезет нас домой.
В нашу первую ночь здесь разразилась ужасная буря. Мы с тобой в страхе, ежась, сидели в доме, слушая, как по крыше оглушительно барабанит дождь. Дождь шел всю ночь, а утром наступило затишье. Впечатление было такое, будто кто-то снял занавес, открыв взгляду целый новый мир, яркий и чистый. Мне почти казалось, что слышатся звуки «Ave Maria» Шуберта. Можно было даже почуять аромат голубого неба. И каждый день с тех пор был просто великолепен.
В начале сумерек на пляже мы иногда видим еще одну пару: молодого человека без рубашки со светло-коричневым загаром и выгоревшими добела волосами — настоящего завсегдатая пляжа — и его веймарского борзого пса. Мы смотрим, как пес снова и снова бросается в воду, чтобы принести палку, которую раз за разом бросает парень. У него сильные руки. Палка летит далеко-далеко, и пес плывет все дальше и дальше, неутомимо преодолевая одну волну за другой. Удивительное зрелище. Каким умопомрачительно счастливым кажется этот пес, с каким торжествующим видом он подбегает к парню, принося палку к его ногам. Я не могу сдержать приступа зависти, глядя, как играют эти два молодых сильных существа. Но зависть присуща только мне. Ты же смотришь на них как всегда безмятежно. Тебе неизвестна зависть. Неизвестны сожаления. Неизвестна тоска. Ты действительно принадлежишь к другому виду.
Я думала, что время здесь будет идти медленнее, ведь мне почти нечего делать. Я читаю Элмора Леонарда, запоем смотрю «Игру престолов», немного готовлюсь к предстоящим занятиям — и вроде все. По большей части я питаюсь сандвичами, причем мне даже лень готовить их самой, так что я покупаю их в кулинарии, по две штуки в день, а кроме того беру фрукты в фермерском киоске.
Час за часом я сижу на террасе, просто думая. Например, о психотерапевте — помнишь его? Последнее время я размышляю над кое-чем из того, что он говорил. Самоубийство заразно, сказал он. Я, разумеется, понимала, куда он клонит. Доктор Очевидность. Я помню, что рассказывала ему о моем сне, о сне, в котором был мужчина в темном пальто, идущий по снегу. Звал ли он меня к себе, подманивал ли меня — скорей, скорей ко мне — или, наоборот, предостерегал, чтобы я ни в коем случае не шла за ним?
Я думала об этом, потому что несколько ночей назад мне опять приснился этот сон. Только на сей раз вместо пустого снежного пространства мы оба находились на поле какой-то битвы. Вокруг рвались бомбы, целились и стреляли солдаты. И на сей раз это был уже не просто сон, а самый настоящий кошмар.
Это обычная лечебная практика — если человек рассуждает о самоубийстве, надо попросить его описать, как именно он будет его совершать. Чем подробнее его план, тем громче звучит сигнал тревоги. Если бы это я готовилась распрощаться с этим жестоким миром, я бы знала, что делать. Броситься в океан и отплыть от берега так далеко, как я только смогу.
То есть не очень далеко. Пловчиха из меня никакая, я даже никогда не погружалась в воду с головой.
Но ведь где-то я, кажется, слышала, что утопление — это самый худший способ уйти из жизни. Нет, не слышала, а читала. Правда, возникает вопрос: откуда это стало известно? «Море — море — возьми меня», — как поется в песне. О чем говорит в ней поэт: о Любви или о Смерти?
Ничего не изменилось. Все по-прежнему очень просто. Мне его недостает. Мне недостает его каждый день. Очень недостает.
Но что будет, если это чувство уйдет?
Я бы этого не хотела.
Я сказала мозгоправу:
— Я вовсе не почувствовала бы себя счастливой, если бы мне вдруг перестало его недоставать.
Нельзя торопить любовь, поется в песне. Нельзя торопить и горе.
Мне кажется, что он сделал то, что, как известно, делали до него и другие: убедил себя в том, что у тех, кого он оставит, все будет в порядке. Какое-то время мы будем в шоке, потом какое-то время погорюем о нем, а потом оправимся от горя, как всегда бывает с людьми. Это не будет конец света, жизнь всегда движется дальше, идя своим чередом, и мы тоже продолжаем жить дальше, делая то, что должны делать, что бы это ни было.
Что ж, если ему было нужно это сделать, чтобы вдобавок ко всему прочему не страдать еще и от чувства вины, то я его не осуждаю. Не осуждаю.
Конечно же, меня беспокоило то, что, возможно, писать обо всем этом было бы ошибкой. Ты что-то записываешь, потому что надеешься удержать это в памяти во всех подробностях. Ты пишешь о том, что ты пережила для того, чтобы до конца понять смысл пережитого, и отчасти для того, чтобы его не отняло у тебя время. Чтобы горе не кануло в забвение. Но всегда существует опасность того, что все произойдет наоборот. Что ты утратишь воспоминание о том, что пережила, заменив его воспоминанием о том, как ты об этом писала. Как у людей, чьи воспоминания о местах, куда они ездили, — это на самом деле всего лишь воспоминания о фотографиях, которые они там сделали. В конечном итоге письмо и фотографирование, вероятно, разрушают прошлое куда больше, чем сохраняют его. Так что это может произойти: когда ты пишешь о ком-то, кого ты потеряла — или даже о слишком много о нем говоришь, — ты, возможно, хоронишь его навсегда.
И вот еще что: даже сейчас я не могу с уверенностью сказать, была я в него влюблена или нет. Я была влюблена не раз и никогда не сомневалась в том, что это именно так. Но что касается его — что ж, какое значение это имеет сейчас? Кто может сказать: что есть любовь? Это похоже на определение веры, которое попытался сделать какой-то мистик и которое я где-то прочитала: «Это не это, и не то, это похоже на это, но все же не это, похоже на то, но все же не то». Но это неправда, что ничего не изменилось. Нет, я не стану использовать такие слова, как исцеление, или выздоровление, или примирение с утратой, но я чувствую, что теперь что-то иначе. Что-то, похожее на приготовление. Может быть. Оно еще не пришло, но какое-то облегчение уже на подходе. Готовность отпустить прошлое.
Текстовое сообщение: «Как дела? Твоя квартира теперь в полном порядке!»
Мой герой.
Теперь я думаю о той женщине, которой принадлежит этот дом. Вернее, принадлежал. О женщине, с которой я никогда не встречалась. Если не считать самых необходимых вещей, из трех небольших комнат было вынесено почти все. Наверное, по ошибке здесь была оставлена черно-белая фотография в серебристой рамке, висящая на стене спальни. На ней изображены женщина и мужчина, несомненно, она сама и ее муж, стоящие возле машины. Он одет в форму армии США, она — по моде тогдашнего времени, с подбитыми широкими плечами, и волосы ее уложены в прическу «локоны победы», популярную в 40-х и 50-х годах двадцатого века. На ногах у нее туфли-лодочки с изображением диснеевской Минни-Маус. Он мужественно красивый, она хорошенькая. Они оба совсем молоды. Я знаю, что он умер более десяти лет назад. Она же с тех пор жила одна, похоже, прекрасно обходясь без посторонней помощи, пока в прошлом году все ее здоровье не начало рассыпаться, как карточный домик. Из энергичной пловчихи, и садовницы, и чемпионки по разгадыванию кроссвордов она очень быстро превратилась в почти совсем беспомощную старуху. Обезножевшую, ослепшую, оглохшую, беззубую и задыхающуюся. Она полностью лишилась памяти. Ее разум все больше и больше угасал. Когда же она посадила эти розы? Сейчас они, великолепные, красные и белые цветут, и их цветение в полном разгаре. И как же они благоухают! Я думаю о том, как они радовали ее год за годом, год за годом, и как она ими гордилась. И мне становится грустно не от мысли о том, что ей их сейчас недостает, а от сознания того, что она больше не способна чувствовать, что ей их недостает. То, чего нам недостает — то, что мы потеряли и по чему горюем — не это ли, в сущности, делает нас именно теми, кто мы есть? Это и еще то, что мы хотели получить от жизни, но так и не получили.
В определенном возрасте ваши дела совершенно точно обстоят именно так. И этот возраст наступает раньше, чем людям, возможно, нравится думать.
Я вижу, что солнце тебя вымотало. Не надо тебе оставаться на нем слишком долго, не так ли? Сегодня температура должна дойти до девяноста градусов по Фаренгейту[78].
Наверное, мне стоит принести тебе воды. А пока я буду наливать воду, я сама выпью высокий стакан доброго чаю со льдом.
О, только посмотри. Бабочки. Целый рой бабочек, похожий на белое облачко, летящее над лужайкой. Кажется, я никогда еще не видела, чтобы их собралось вместе так много, хотя парами они летают часто. По-моему, это капустницы. Но пока до них еще слишком далеко, чтобы сказать, есть ли у них на крыльях черные точки.
Им следует опасаться тебя, о, пожиратель насекомых. Если ты щелкнешь своими огромными челюстями, большинству из них придет конец. Но они летят прямо на тебя, словно ты просто лежащий на траве большой камень. Они облепляют тебя, как конфетти, но ты и ухом не ведешь!
О, какой странный звук. Что могла увидеть та чайка, чтобы издать такой крик?
Бабочки снова поднимаются в воздух, они улетают, направляясь к берегу.
Я хочу позвать тебя по имени, но оно умирает в моем горле.
О, мой друг, мой друг!
Слова благодарности
Спасибо тебе, Джой Харрис. Спасибо тебе, Сара МакГрэт.
Я также выражаю благодарность Фонду Сивителлы Раньери, Фонду Сэлтонстолла по поддержке искусств, а также организации Хеджбрук за их щедрую поддержку.
Отрывок из этой книги был напечатан в «Парижском обозрении». Спасибо тебе, Лорин Стайн.
Примечания
1
Флоренс Маргарет Смит, известная как Стиви Смит (1902–1971) — британская писательница, поэтесса и художница.
(обратно)2
Сэмюэль Баркли Беккет (1906–1989) — ирландский писатель, поэт и драматург. Представитель модернизма. Один из основоположников театра абсурда. Получил всемирную известность как автор пьесы «В ожидании Годо». Лауреат Нобелевской премии по литературе 1969 года.
(обратно)3
Теодор (Тед) Банди — американский серийный убийца, садист, насильник и некрофил, действовавший в 70-е годы двадцатого века.
(обратно)4
Шива — в иудаизме период обязательного семидневного траура.
(обратно)5
Колетт, Сидони-Габриэль (1873–1954) — выдающаяся французская писательница, член Гонкуровской академии с 1945 года.
(обратно)6
Жозефина Бейкер (1903–1975) — знаменитая американо-французская танцовщица, певица и актриса.
(обратно)7
«La vie en rose» — песня, впервые исполненная знаменитой французской певицей Эдит Пиаф в 1946 г. и ставшая ее визитной карточкой.
(обратно)8
Очень игриво (итал).
(обратно)9
Piaf — воробышек (парижский жаргон).
(обратно)10
Флобер, Гюстав (1821–1880) — французский прозаик-реалист, считающийся одним из крупнейших европейских писателей девятнадцатого века.
(обратно)11
Вулф, Вирджиния (1882–1941) — британская писательница и литературный критик. Ведущая фигура модернистской литературы двадцатого века.
(обратно)12
Китс, Джон (1795–1821) — выдающийся английский поэт-романтик.
(обратно)13
Сэр Лоренс Керр Оливье (1907–1989) — британский актер театра и кино, режиссер и продюсер. Один из крупнейших актеров двадцатого века.
(обратно)14
Исцеление маленькой Эдит Пиаф от слепоты произошло в 1922 г., а Тереза из Лизье была причислена к лику блаженных только в 1923 г., а к лику святых — в 1925 г.
(обратно)15
Кокто, Жан (1889–1963) — французский писатель, поэт, драматург, художник и кинорежиссер. Одна из крупнейших фигур во французской литературе двадцатого века.
(обратно)16
Боган, Луиза (1897–1970) — американская поэтесса.
(обратно)17
Оден, Уистен Хью (1907–1973) — англо-американский поэт, родившийся в Великобритании и после Второй мировой войны переехавший в США. Считается одним из величайших поэтов двадцатого века.
(обратно)18
Стайнер, Джордж (род. 23 апреля 1929 г.) — французский и американский литературный критик, писатель и теоретик культуры. Преподавал во многих престижных университетах.
(обратно)19
Книга Джорджа Стайнера, вышедшая в 2004 г., посвященная в частности анализу отношений наставник — ученик, начиная от Сократа и Иисуса до наших дней.
(обратно)20
Кутзее, Джон Максвелл (род. 9 апреля 1940 г.) — южноафриканский писатель, критик, лингвист. В последние годы живет в Австралии. Лауреат Нобелевской премии 2003 г.
(обратно)21
46, 45 кв. м
(обратно)22
Кнаусгор, Карл Уве (род. 6 декабря 1968 г.) — норвежский писатель, известный шестью автобиографическими романами под общим названием «Моя борьба».
(обратно)23
Британский семейный фильм о дружбе мальчика и шотландской овчарки Лесси.
(обратно)24
Рихтгофер, Манфред фон (1892–1918) — германский летчик-истребитель, ставший лучшим асом Первой мировой войны. Известен как Красный барон, поскольку он покрасил свой самолет в красный цвет.
(обратно)25
Томас Стернз Элиот, известный как Т. С. Элиот (1888–1865) — англо-американский поэт, драматург и литературный критик. Представитель модернизма в поэзии. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1948 г. В частности, написал известное стихотворение «The Namingof Cats» — «Дать имя коту», где сказано «Дать имя коту — плод серьезных раздумий».
(обратно)26
Батлер, Сэмюэль (1835–1902) — английский писатель, художник, переводчик, один из классиков викторианской литературы.
(обратно)27
Ле Гуин, Урсула Крёбер (род. 21 октября 1929 г.) — американская писательница и литературный критик. Получила наибольшую известность как автор произведений в жанрах научной фантастики и фэнтези.
(обратно)28
«Нью-Йоркер» — американский еженедельник, публикующий репортажи, комментарии, эссе, критику, художественные произведения, поэзию, юмор и комиксы.
(обратно)29
Монтерлан, Анри де (1895–1972) — французский писатель.
(обратно)30
Дидион, Джоан (род. В 1934 г.) — американская писательница, журналистка, эссеистка и сценаристка, автор книг об «атомизации» американского общества.
(обратно)31
Малколм, Джанет (род. в Чехословакии в 1934 г. как Яна Винерова) — американская писательница и журналистка.
(обратно)32
Уэст, Ребекка (настоящее имя Сесиль Изабель Фэйфилд) (1892–1983) — британская писательница, журналистка, литературный критик и деятельница суфражистского движения.
(обратно)33
Зебальд, Винфрид Георг Максимилиан, обычно подписывавшийся В. Г. Зебальд — немецкий прозаик, поэт, эссеист, историк литературы, писал на немецком и английском языках.
(обратно)34
Апдайк, Джон Хойер (1932–2009) — известный американский прозаик, поэт и литературный критик. Лауреат двух Пулитцеровских премий.
(обратно)35
Гинзбург, Наталия (1916–1991) — итальянская писательница.
(обратно)36
Исак Динесен — один из псевдонимов, под которым творила датская писательница Карен Христина Динесен, баронесса фон Бликсен-Финеке. Свои получившие известность произведения она писала по-английски, а затем переводила на датский.
(обратно)37
Милош, Чеслав (1911–2004) — польский поэт, эссеист, переводчик. Один из величайших польских поэтов, лауреат Нобелевской премии 1980 г.
(обратно)38
Моррисон, Тони (при рождении Хлоя Арделия Уоффорд, род в 1931 г.) — американская писательница, редактор и профессор. Лауреат Нобелевской премии 1993 г.
(обратно)39
Вольф, Криста (1929–2011) — немецкая писательница.
(обратно)40
О’Брайен, Эдна (род. в 1930 г.) — выдающаяся ирландская романистка, драматург, мемуаристка, поэтесса и автор рассказов.
(обратно)41
Кундера, Милан (род. в 1929 г.) — современный французский прозаик чешского происхождения. С начала 1990-х годов пишет по-французски.
(обратно)42
О’Коннор, Фланнери (1925–1964) — одна из крупнейших американских писательниц, писавшая в жанре «южной готики».
(обратно)43
Джеймс, Генри (1843–1916) — американский писатель, считающийся одним из крупнейших англоязычных романистов.
(обратно)44
Рот, Филип Милтон (род. в 1933 г.) — американский писатель, автор более 25 романов, лауреат Пулитцеровской премии (1998) и Букеровской международной премии (2011).
(обратно)45
Кейлло, Гаррисон (род. в 1942 г.) — популярный американский радиоведущий и писатель-юморист.
(обратно)46
Бодлер, Шарль Пьер (1821–1867) — французский поэт, критик, эссеист и переводчик, основоположник эстетики декаданса и символизма, повлиявший на развитие всей последовавшей европейской поэзии. Классик французской и мировой литературы.
(обратно)47
Вейль, Симона Адольфина (1909–1943) — французский философ и религиозная мыслительница.
(обратно)48
Грейвс, Роберт Рэнк (1895–1985) — британский поэт, романист и литературный критик.
(обратно)49
Битва на реке Сомме — крупнейшая битва Первой мировой войны на Западном фронте.
(обратно)50
Рильке, Райнер Мария (1875–1926) — австрийский поэт, оказавший немалое влияние на европейскую поэзию двадцатого века. Писал также прозу и драматические произведения.
(обратно)51
Пярт, Арво (род. в 1935 г.) — эстонский композитор, один из самых выдающихся композиторов современности, начиная с 2010 г. наиболее часто исполняемый из ныне живущих композиторов.
(обратно)52
«Сучье варево» — альбом американского джазового музыканта Майлса Дэвиса (1926–1991) и его студийной группы. В этом альбоме были заложены основы музыкального стиля джаз-фьюжн.
(обратно)53
Принс (псевдоним Принса Роджерса Нельсона) (1958–2016) — выдающийся американский певец, гитарист-виртуоз, автор песен, актер и режиссер.
(обратно)54
Адель — под этим именем известна Адель Лори Блу Эдкинс (род. в 1988 г.) — британская певица, автор-исполнитель и поэт.
(обратно)55
Фрэнсис Алберт Синатра, известный как Фрэнк Синатра (1915–1998) — выдающийся американский певец, актер, кинорежиссер, продюсер и шоумен. Славился романтическим стилем исполнения песен и бархатным тембром голоса. В двадцатом веке Синатра стал легендой не только музыкального мира, но и всех аспектов американской культуры.
(обратно)56
Воннегут, Курт (1922–2007) — один из наиболее значительных американских писателей двадцатого века.
(обратно)57
Мартин, Джордж Рэймонд Ричард, известный как Джордж Р. Р. Мартин (род. В 1948 г.) — современный американский писатель, пишущий в жанрах научной фантастики и фэнтези, сценарист и продюсер. Лауреат многих литературных премий. Наибольшую славу ему принес выходящий с 1996 г. цикл романов «Песнь Льда и Пламени», экранизированный компанией HBO в виде популярного телесериала «Игра престолов».
(обратно)58
«Барнес энд Ноубл» — крупнейшая американская компания по продаже книг.
(обратно)59
Мэнсон, Чарльз Миллз (1934–1917) — американский преступник, создатель секты «Семья», члены которой совершили в 1969 г. ряд жестоких убийств, в том числе убийство жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт, находившейся на девятом месяце беременности, и нескольких ее гостей.
(обратно)60
Бичер-Стоу, Гарриет Элизабет (1811–1896) — американская писательница-аболиционистка (т. е. сторонница отмены рабства), автор знаменитого романа «Хижина дяди Тома» (вышел в 1852 г.), в котором страстно обличались ужасы рабства и который убедил многих в необходимости его отмены. Всего в США было продано более 600 000 экземпляров этой книги. В 1861 г. после избрания аболициониста Авраама Линкольна президентом в США началась гражданская война между свободным Севером и рабовладельческим Югом, в ходе которой в 1862 г. Линкольн издал декрет об отмене рабства. В 1865 г. война закончилась победой Севера.
(обратно)61
Лоуренс, Дэвид Герберт (1885–1930) — английский романист, поэт, драматург, эссеист и литературный критик. Один из ключевых английских писателей начала двадцатого века.
(обратно)62
Джеймс Джойс (1882–1941) — ирландский писатель, представитель модернизма. Наибольшую известность ему принес роман-поток сознания «Улисс» (1933 г.).
(обратно)63
Дневник Анны Франк — записи, которые с 12 июня 1942 года по 1 августа 1944 года вела еврейская девочка Анна Франк в период нацистской оккупации Нидерландов. Через три дня после последней записи в дневнике всех обитателей убежища, где скрывалась от нацистов Анна, арестовало гестапо. Анна умерла в концлагере. После войны ее отец Отто Франк издал дневник дочери.
(обратно)64
Холлмарк Кардз Инкорпоретед — американская компания, крупнейший производитель открыток на все случаи жизни, от поздравлений по различным поводам до соболезнований также по самым различным поводам.
(обратно)65
Жан Кокто (Кокто, Жан Морис Эжен Клеман) (1889–1963) — французский писатель, поэт, драматург, художник и кинорежиссер. Одна из крупнейших фигур во французской культуре двадцатого века.
(обратно)66
«Эта прекрасная жизнь» — американский фильм, снятый в 1946 г. режиссером Фрэнком Капрой. Главный герой фильма, Джордж Бейли, измученный чередой проблем, решает совершить самоубийство в канун Рождества, но ангел-хранитель спасает его. Это классический фильм, который, начиная с 1970-х годов, показывают в канун Рождества ведущие телеканалы США.
(обратно)67
Хестер, Хейзел Элизабет (1922 или 1923–1998) — была американской собеседницей по переписке некоторых известных писателей, включая Фланнери О’Коннор и Айрис Мердок. Сама написала несколько рассказов, стихи, дневники и философские эссе, однако ничего из этого не было опубликовано.
(обратно)68
Паттерсон, Джеймс Брендан (род. в 1947 г.) — популярный американский писатель.
(обратно)69
Джуди Гарленд (урожденная Фрэнсис Этель Гамм) (1922–1969) — знаменитая американская актриса и певица.
(обратно)70
Витгенштейн, Людвиг (Людвиг Йозеф Иоганн Витгенштейн) (1889–1951) — австрийский философ и логик, представитель аналитической философии, один из крупнейших философов двадцатого века.
(обратно)71
Уильямс, Джой (Джой Элизабет Уильямс) (род. в 1982 г.) — известная американская певица, исполнительница собственных песен.
(обратно)72
Дайсон, Фримен Джон (род. в 1923 г.) — американский физик-теоретик английского происхождения. Один из основоположников квантовой электродинамики.
(обратно)73
Гудини, Гарри (урожденный Эрик Вайс) (1874–1926) — знаменитый американский иллюзионист, прославившийся сложными трюками и удивительными освобождениями.
(обратно)74
Тони Кертис (настоящее имя Бернард Шварц) (1925–2010) — американский актер, пользовавшийся широкой популярностью в 50-х и начале 60-х гг. двадцатого века.
(обратно)75
Платон (между 427 и 429 гг. до н. э. — 347 до н. э.) — великий древнегреческий философ, ученик Сократа и учитель Аристотеля.
(обратно)76
Сенека, Луций Анней (4 г. до н. э. — 65 г.) — выдающийся римский философ-стоик, поэт и государственный деятель.
(обратно)77
Бардо — в буддизме промежуточное состояние между смертью и последующим перерождением.
(обратно)78
32, 2 градуса по Цельсию.
(обратно)



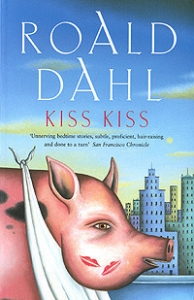






Комментарии к книге «Друг», Сигрид Нуньес
Всего 0 комментариев