Новеллы и повести. Том 2
Георгий Мишев МАТРИАРХАТ
Разбудили ее ласточки.
Недалеко от окна тянулись телефонные провода — даже сквозь сон слышалось ей ровное их гудение. Она знала, что по утрам они провисают под тяжестью черных пичужек. Великого множества пичуг, еще затемно выпорхнувших из своих гнезд. Она словно видела сейчас, как они улетают и прилетают, чистят клювом примятые за ночь перышки и о чем-то болтают без устали на своем ласточкином языке.
«И о чем только болтают? — думала Жела, прислушиваясь к их голосам. — Может, рассказывают, кому что привиделось ночью… Либо уговариваются, как будут днем учить птенцов летать…»
Под крышей у них издавна висело гнездо — комочки глины, скрепленные птичьей слюной. Каждую весну в нем поселялось прилетавшее с юга птичье семейство, но она не могла разобрать, вернулись ли это прежние обитатели или кто-нибудь из их потомства. На днях, подметая сени, она заметила на полу тонкие, почти прозрачные голубоватые скорлупки, а из гнезда торчали темные головки только что вылупившихся птенцов.
Ласточки беспокойно закружили у нее над головой. Одна из них пищала особенно тревожно, и Жела поняла, что это мать.
— Да не бойся ты! — сказала она. — Знаю я, каково матерью-то быть.
И ей подумалось, что птицам тоже вовсе не сладко живется на этом свете. Натаскай в клюве глины да соломы, слепи гнездо, день-деньской летай туда-сюда, чтобы насытить раскрытые клювики… Потом, когда крылья у птенцов поокрепнут, наступит время проводить их на телефонные провода, учить их летать. А научишь — улетят они и больше не вернутся…
Мимо проехал грузовик. Его громыханье постепенно улеглось в отдалении, и снова утреннюю тишину заполнил гул проводов. Этот гул всегда пробуждал в Желе знакомое радостное чувство.
Чувство, которое было связано с далекими днями детства, когда она была маленькой девочкой, а на том месте, где сейчас их дом, расстилались луга, поросшие высокой густой травой. Шоссе тогда не было. Она помнила трудовые батальоны — как-то летом прибыли они, разбили палатки на берегу Осыма, под ветлами. Работали до самой осени, рыли через луга канавы, дробили камни, а потом приехали паровые катки и, неуклюже поворачиваясь, разровняли каменное полотно дороги. На другую весну в канавах зазеленела первая травка, зацвела вероника, полез молодой щавель. В одно такое весеннее утро, когда трава от росы казалась белой и только там, где ступал ягненок, оставался ярко-зеленый след, Жела со своей подружкой Пеной, помахивая ветками шелковицы, шли за ягнятами, которые бежали вдоль обочины и возились между собой. Уже давно рассвело, от росы веяло прохладой. Когда они проходили мимо одного из телефонных столбов, их внимание вдруг привлек какой-то гул.
— Слышишь? — сказала Жела. — Передают…
— Чего? — спросила Пена. Она была годом моложе Желы, глаза голубые, как васильки, ситцевая косынка узлом стянута на затылке.
— По телефону передают, — ответила Жела.
Она подобрала камешек, подошла к просмоленному снизу столбу.
— А хочешь, я тоже что-нибудь передам?
Она постучала камешком, провода загудели громче, Жела приникла ухом к столбу и стала слушать. Она почувствовала слабый, терпковатый запах оструганного дуба.
— Алло, алло! — закричала Жела. — Говорит село Югла…
Она видала в общине телефонный аппарат, за которым надрывался помощник кмета[1].
Пена тоже подобрала камешек, постучала по столбу с другой стороны, крикнула «алло, алло» и прижалась ухом. Провода гудели, точно растревоженный улей.
Было раннее утро в канун Георгиева дня, с ярко зеленеющей травой на лугах и высоким, синим небом, каким оно бывает в мае. Летали ласточки, резвились на траве ягнята, радуясь последним своим денечкам. Жела чувствовала себя по-детски счастливой и не подозревала, что это утро на всю жизнь запомнится ей. С той поры каждый раз, когда она проходила мимо телефонного столба и слышала гул проводов, в ней пробуждалось воспоминание о далеких годах детства.
«Господи! — думала она. — Неужто это и впрямь было когда-то?.. Неужто я была девчонкой, носила сукман из толстой шерстяной материи, бегала, пасла ягнят, коз, волов… Прижималась ухом к столбам, пахнувшим горьковатым запахом оструганного дуба…»
Она встала и начала одеваться.
*
— Который час? — спросил Тодор.
Будильник тикал на окне, недалеко от изголовья, но стрелок не было видно — часы шли только перевернутыми циферблатом вниз. Тана дотянулась до него, посмотрела:
— Десять минут пятого.
Тодор мог еще поваляться, поезд был в пять, но ей пора было вставать.
— Вскипятить тебе молока? — спросила она, натягивая платье.
— Свари лучше яиц, — ответил муж, не открывая глаз. — От молока меня уже воротит.
— Воротит, потому что оно есть, — сказала она. — Поглядим, что ты запоешь через месяц…
Он промолчал. И без нее знал, что буйволица стельная, вот уже несколько недель ее доят только утром и молока набирается — еле-еле дно закрыть.
Тана вышла во двор. У них был хороший дом, болгарский двухэтажный дом в четыре комнаты, с десятком ступенек перед входной дверью. Но они с мужем занимали только нижний этаж. Жили там круглый год, а верхние комнаты пустовали, нарядно прибранные «для гостей». Только Йонка, дочка, спала наверху, когда приезжала на каникулы.
Рядом с домом, под небольшим навесом из тарного железа стояла печка, в которой пекли хлеб. Перед ее закопченным устьем Тана летом разводила огонь и стряпала.
Она взяла из корзины охапку соломы, подложила сухих кукурузных стеблей и чиркнула спичкой. Пока вода вскипит, она управится с другими делами.
Возле колодца, на стволе алычи, висел рукомойник. Тана подобрала концы платка и умылась, нагнувшись и расставив ноги, чтобы не забрызгать тапочки. Потом подхватила ведро и пошла доить.
Буйволица лежала позади дома, привязанная к обглоданному стволу старой яблони. Услыхав звяканье ведра, она скосила глаза и тяжело поднялась. Цепь, лежавшая на земле, не шевельнулась.
— Да ты у меня никак отвязалась, Средана! — воскликнула Тана, решив, что отстегнулся ремень. Но, нагнувшись за ним, увидела, что он перетерся.
«Сшить бы надо», — подумала Тана, понимая, что без привязи буйволица смирно стоять не будет. Она и всегда-то при дойке слегка сатанела, а теперь и вовсе становилось все трудней и трудней выцедить из нее скупые струйки молока.
Тана отделила цепь и пошла в сарай, где стоял ящик с разным мелким инструментом. Отыскала шило, кусок медной проволоки и сделала несколько стежков. От ремня пахло прогорклым буйволовым жиром, он весь потрескался, истерся, чуть что — опять порвется в другом месте, и она подумала, что если буйволица как-нибудь ночью дернет посильнее, то, конечно, отвяжется и наделает бед. Во дворе ничего особенного не росло, только вот если в люцерну заберется — будет худо. Двадцать соток приусадебного участка позади дома у них было засеяно люцерной.
Тана принесла в ведре немного воды, чтобы ополоснуть буйволице вымя. Вымя было уже маленькое, дряблое, раньше-то молоко лилось толстыми струями, ведро наполнялось до краев, пена, шипя, вздымалась, точно снежный сугроб, а теперь еле слышно постанывали две струйки.
Струйки постанывали, звякала цепь, буйволица беспокойно мотала головой и переступала с ноги на ногу, потому что ей было больно.
— Да погоди ты! — прикрикнула на нее Тана. — Потерпи немного.
Она всегда покрикивала на нее, как и на Тодора.
Когда она вернулась к печке, Тодор уже мылся под рукомойником. Она поставила ведро, по тропочке между бобовыми грядками прошла к колодцу, возле которого у нее было посажено немного чесноку, латука и перца.
Брынза, яйца да чеснок — обычный завтрак, но Тодор от чеснока отказался.
— Знаешь ведь, что мне в поезде ехать. А от меня чесноком разить будет. Нехорошо.
— Ешь, ешь! — сказала она. — Тебе небось не целоваться.
Пока он завтракал, она перемыла посуду и намешала корму цыплятам, которые, проснувшись, пищали в ящике, прикрытом проволочной сеткой.
— Ну, я поехал, — сказал Тодор, выполоскав у рукомойника рот.
С тех пор как он устроился на работу в городе, Тана приметила за ним это непрерывное мытье. И бриться стал через день, башмаки начищать по утрам на приступках. «Форсу городского ради», — говорила она с досадой.
— Ты для кого это так прихорашиваешься? — с язвительной улыбкой спрашивала она. — Ничего, полюбят и небритого…
Он отмалчивался, а она продолжала насмешничать, уверенная, что вряд ли еще кому приглянется этот тщедушный человечек с длинным лицом и желтыми кошачьими глазками.
— Сумку-то взял? — крикнула Тана ему вслед, хотя прекрасно видела у него под мышкой сложенную вдвое сумку, в которой он вечером привозил продукты из заводского магазина.
Он замедлил шаги и вместо ответа показал сумку. Готовый парусиновый пиджак мешком висел на его костлявых плечах, и вся его сутуловатая фигура вызывала у Таны жалость. Так было всегда. Еще в ту пору, когда он только заглядывался на нее, а ей и в голову не приходило, что она станет его женой, он вызывал у нее это чувство. Другим представлялся ей настоящий мужчина.
Тодор ушел. Вскоре она услыхала шум утреннего поезда и увидела на макушках деревьев первые солнечные лучи. Кастрюля с водой уже кипела на огне, Тана подоткнула фартук и прошлась по бобовым грядкам. Стручки молодые, душистые и сварятся быстро. Чтобы суп был повкуснее, она сорвала горсть алычи и тоже бросила в кастрюлю.
Теперь оставалось застелить постель, подмести, накормить кур и трех уток, плескавшихся во дворе в каменном корыте, отнести молоко в селькооп, на приемный пункт, и выгнать буйволицу на площадь, где цыганка Эмиша собирала свое небольшое стадо.
Пока она управилась со всеми этими делами, бобы сварились, а из репродуктора полились первые такты утренней гимнастики.
Тогда Тана налила себе миску супу и села поесть, потому что она-то свою гимнастику уже проделала.
*
У малыша были густые ресницы, курносый носишко и яркие, как у девочки, губы. «На меня похож», — думала Ганета, не решаясь разбудить его. Она стояла, наклонившись над ним, чувствуя его теплое дыхание, и смотрела, как пульсирует жилка у него на шее. Стояла и не шевелилась до тех пор, пока со двора не донеслись шаги свекрови.
— Вставай, Лецо… вставай! — громко сказала Ганета.
Старуха вошла в комнату. Она была вся скрючена от ревматизма и ходила, опираясь на палку, а в груди у нее вечно хрипело, точно она собирается рассмеяться, только до смеха никогда дело не доходило.
— Все еще спит? — спросила она. — С коих пор рассвело.
— Вставай, сынок! — опять позвала Ганета. — Опоздаешь, ребята смеяться над тобой будут.
Лецо с трудом приподнял веки, слипшиеся от сладкого сна. Невидящим взглядом посмотрел на нее и снова погрузился в сон.
— Может, не трогать его, а? — сказала Ганета. — Ты его потом отведешь…
— Нет, дочка, нет… — сказала свекровь. — Неслух он, убегает… Нешто мне за ним угнаться?
— До того сладко спит…
— Всю ночь спал, будет с него.
Наконец малыш поднялся, но, пока мать натягивала на него рубаху и штанишки, голова, еще тяжелая от сна, все падала на грудь. Он вышел за порог и сел на залитые солнцем ступеньки. Зевал, тер кулачонками глаза, но скоро его кликнули завтракать.
Лецо сел хлебать тюрю, а Ганета пошла в кладовку, сменила белье. Вот уже несколько дней в обед, когда солнце особенно припекало, женщины стали ходить на речку купаться, и, раздеваясь, она чувствовала на себе их взгляды. Она была моложе всех, с высокой грудью, упругими бедрами. И ей доставляло удовольствие первой скинуть с себя все и пойти к воде.
Она провела ладонью по гладкой коже бедра, погладила живот и подумала, что через несколько лет после родов ее тело снова стало по-девичьи гибким. Это подбодрило ее, придало уверенности, но, когда она снова натянула платье, еще хранившее тепло ее тела, ей опять стало тоскливо. Платье было из ситца, сшитое еще прошлым летом, с зеленоватыми узорами вроде петушиных перьев, но уже выцветшее от солнца и частых стирок. Какая красивая была расцветка, когда муж покупал ей эту материю. Знать бы, что это последнее платье, попросила б купить еще три метра… Теперь уж она не могла шить себе новые платья, приходилось считать каждую стотинку, пока не вернется муж. «Как-нибудь дотяну, — подбодряла себя Ганета. — Обойдусь без обновок. Потерплю…» И терпела. Лишь изредка, вот как этим утром, в самые радостные минуты вдруг начинало щемить сердце…
Свекровь и сынишка были во дворе, кормили утят. Ганета заранее намешала проса и рубленой крапивы, голодные птенцы толклись в корыте, старуха кричала «утя-утя-утя» и палкой отгоняла кур, которые подбирались к кормушке. Только одна курица беспрепятственно расхаживала возле утят — она три недели просидела в гнезде и высидела эти желтые пушистые комочки.
— Тут один обжора ужасный, — сказал мальчуган. — Я буду его звать Желторотый Разбойник.
Ганета как-то прочла сынишке сказку Каралийчева о маленьком утенке, и ему понравилось прозвище Желторотый Разбойник.
— Хорошо, хорошо. Пошли! — сказала Ганета, уже вскинув мотыгу на плечо.
— Утя-утя! — подзывала свекровь утенка, который все норовил отойти в сторону. Наседка беспокойно кружила возле корыта, крайне удивленная непослушанием птенцов.
У школьного двора их ждала председательша. Она всегда на лето устраивалась воспитательницей в детский сад, потому что муж у нее — председатель сельсовета. Ей было лет сорок, она окончила восемь классов, красила волосы «колораном» и для пущей элегантности шила платья в обтяжку. Достигала ли она желанной цели — трудно сказать, но с первого взгляда было видно, что платье ее в любую минуту может лопнуть по швам.
— Что нужно сказать тете? — спросила Ганета, когда они подошли к воспитательнице.
Мальчик поздоровался.
— Он знает, знает… — улыбаясь, сказала председательша. — Он умный мальчик, только озорник… Иди сюда, мой хороший…
«Ишь, лиса! — подумала Ганета, — Нарочно торчит утром у ворот, к матерям подлизывается…»
Потом, уже отойдя от школьного двора, решила, что эти фигли-мигли у них в селе не пройдут. В Югле давно уже знали цену этой бабенке с ее улыбочками, модными нарядами и краской «колоран».
*
Осел стоял на привязи у старого амбара, под широким навесом. Дед Петр много лет назад сколотил ему ясли из старого ящика из-под яиц; на истертых ослиной шеей досках еще проглядывала в двух местах отпечатанная трафаретом надпись «Яйцекооп». Бабка Йордана с вечера насыпала в ясли травы, принесенной с огородов, но длинноухий за ночь уплел все до последнего стебелька и теперь, понурив голову, сонно размышлял о своих житейских проблемах.
Он был уже в преклонном возрасте, шерсть его стала мышиного цвета — на спине светлей, чем на брюхе, только одна темная полоса тянулась от ноздрей по гриве и до пучка черных волос на кончике хвоста.
— Газету читаешь, что ль? — спросила его бабка Йордана, подойдя к нему и принимаясь отвязывать тонкую веревку, обмотанную вокруг стояка. Она была в старой безрукавке из овчины, на спине холщовая торба, в которой она брала с собой еду на весь день, а вечером приносила траву для осла.
Не под силу ей было возиться с этим ослом, и она решила продать его — ждала только, чтобы минуло девять месяцев после смерти мужа. Дед Петр скончался в феврале в один субботний день, хотя до этого никогда не хворал и ни на что не жаловался. Для своих семидесяти пяти он был крепок и вынослив. Запрягши осла в тележку, ходил подсоблять людям — свезет зерно на мельницу, кукурузу и тыквы с личных участков перевезет, а уж осенью при сборе винограда никто без него не обходился. В кооперативе осталось всего несколько телег — жди, пока подойдет твоя очередь, так что осел и тележка деда Петра были для всех хорошим подспорьем. Но так продолжалось до той субботы, когда дед Петр сказал, что, пожалуй, приляжет, вроде у него мерцание какое-то перед глазами, лег и уж больше не встал. Бабка Йордана горько плакала, как только можно плакать по человеку, с которым прожил под одной крышей целых сорок шесть лет. Ей пришлось до того похоронить двух детей, смерть была ей не в диковинку, и, проводив своего старика, она быстро свыклась с одиночеством. Вот только к ослу к этому никак не могла приноровиться.
Ей никогда не доводилось ходить за скотиной. В прежнее время держали в хозяйстве и коров, и лошадей, и волов, но это было мужское дело, а теперь что ни утро берись за вилы, выгребай за ослом, накладывай ему соломы и сена, таскай воду да любуйся, как он цедит ее сквозь зубы и роняет слюну. Как и большинство жителей Юглы, бабка Йордана недолюбливала ослов. В этом равнинном селе, раскинувшемся в плодородной долине речки Осым, в былые времена растили буйных коней с лоснящейся шерстью, дымчатых коров, рослых буйволиц с тугим выменем, дававших густое, жирное молоко. Ослов в селе не держали. Их видели только у жителей горных селений, когда те привозили шерсть на чесальни. Эти низкорослые животные, нагруженные огромными тюками, безропотно несущие тяготы своей ослиной доли, вызывали жалость или насмешку. Но то было много лет назад; времена переменились, появились машины, примерный устав сельхозкооператива оставил в каждом дворе только кур, по пять штук овец да иногда по буйволице. Коней, всех до единого, свели на общую конюшню, где они быстро одряхлели и один за другим окончили свои дни в котле — чтобы войти составной частью в рацион современной птицефермы. Примерный устав дело свое знал, но крестьяне тоже не дремали, выискивая в нем уязвимое местечко. Искали, искали и нашли. Решая большие проблемы, устав упустил из виду один пунктик. Насчет ослов. Об ослах в нем не упоминалось ни словом. Сколько ослов разрешается держать? Сколько ослиного молока полагается сдать? Как быть с ослиными шкурами?.. По этим вопросам устав хранил молчание. Крестьяне тоже молчком возблагодарили его за это и двинулись в горные селения. А когда воротились — каждый вел за собой по ослу. Старые кузнецы-тележники только того и ждали. Сковали ободья размером поменьше, выточили спицы и чеки, похожие на игрушечные, и смастерили первые маленькие тележки — точь-в-точь как настоящие телеги. Покрасили их масляной краской в четыре цвета, между колесом и основанием оси поместили тонкие стальные шайбы, чтобы пели эти тележки так же, как их прабабки, рожденные в кузне Сали Яшара…[2]
Тележки получились на славу, и скоро они замелькали на улицах села, но первое время только ребятишки да женщины решались сесть в их расписные кузова, мужчины же опасались, как бы тележки не развалились под их тяжестью. А потом убедились, что опасались зря — тележки на поверку оказались гораздо крепче, чем можно было подумать. И люди начали возить на них мешки с зерном на мельницы, кадки с виноградными выжимками на винокурни, а когда вырубили Волчий заказник, то и дрова тоже вывозили по большей части опять на них же, только предварительно снимали кузова.
*
— Н-но, Серый! — крикнула бабка Йордана, окрутив ему шею веревкой. Она звала длинноухого этой универсальной ослиной кличкой, потому что не помнила, как называл его покойный хозяин.
Осел, презрев самолюбие, покорно двинулся за нею.
По-настоящему звали его Минко — красивое и звучное имя, далекий отзвук юности, прожитой в горах. Но пришло время, когда уже безразлично, как тебя кличут, — куда важней словчить и выбраться со двора без хомута на шее.
Минко дрогнул только, когда они приблизились к тележке и он почуял запах машинного масла. Но старуха продолжала брести к воротам, а это означало, что и сегодня обойдется без хомута. С того дня, как дед Петр лежа выехал из ворот и остался на краю села в том огороженном месте, где летом растет высокая трава, бабка Йордана все реже вспоминала о тележке. С утра она выводила осла на поле, привязывала там к дереву и приносила ему травы, а он в уплату за это вечером нес на спине мотыги, которыми работали женщины. Так жизнь и шла, хотя веревка — вещь тоже не больно приятная, потому что вечно осаживает, не дает выйти за пределы круга. Но ко всему в конце концов привыкаешь! Минко был доволен своей новой жизнью, без упряжи, и плешина вокруг шеи стала снова зарастать шерстью.
Когда они вышли на улицу, бабка Йордана вынула из торбы клубок пряжи и деревянное веретено с колесом-маховиком. Этим веретеном крестьянки скручивают пряжу и называют его скруткой.
Она нацепила нитку на согнутый крючком гвоздик, завертела веретено, и оно опустилось у нее чуть не до земли. Потом нитка закрутилась и оно поднялось.
— Припозднились мы с тобой, Серый! — сказала бабка Йордана. — Даже Ощипанная Бона нынче придет вперед нас.
Она натянула повод, сделала новую петлю и крутанула веретено, которое спустилось от ее руки, точно огромный паук.
Так она и будет до самых огородов идти и крутить на ходу пряжу.
*
Старушка тревожилась зря. Ощипанная Бона не придет вперед них. Потому что Ощипанная Бона еще никак не найдет свою мотыгу.
Она стояла посреди двора и пыталась вспомнить, куда девала ее вечером, придя с поля домой. Какой вчера день был? Пятница. Весь день пололи помидоры, трава вымахала по колено, сорго уже выкинуло метелки. Мотыги срезали его с сочным похрустыванием, а бабка Йордана собирала и охапками относила своему ослу. Вечером, как идти домой, все набили полные сумки и корзины этой травой — кормить домашнюю живность. Она тоже приволокла корзину, хотела бросить ее курам, но заметила, что во дворе ни одной курицы нет.
— Цыпа-цыпа! — стала их звать Бона. — Неужто в этакую рань спать ушли?
Но этого не могло быть, потому что обычно они встречали ее у самых ворот и озверевшие от голода, клохтая и хлопая крыльями, корили за то, что забыла про них.
— Цыпа-цыпа! — опять позвала она и тут только заметила их по ту сторону проволочной решетки. У нее потемнело в глазах.
За этой решеткой рос у нее семенной лук. За этой решеткой было шестнадцать соток отличнейшей жирной земли, которую она всю весну вскапывала, куда всадила две кринки семян и с нетерпением ждала, когда взойдет лук. Тот самый ядреный, золотистый лук, который в этот год шел по сказочной цене — десять левов кило!
Столько трудов, столько надежд, и вот на́ тебе — эти куры поганые!
— Кыш, проклятые!.. Кыш! — в ярости завопила Бона, стряхнула с мотыги корзину, перескочила через нее и, толкнув калитку, с размаху метнула мотыгу в куриную стаю. Несмотря на свою толщину, женщина она была сильная, с крепкими бедрами и круглым животом, из-за чего юбка у нее всегда спереди немного задиралась.
Куры от неожиданности закудахтали и опрометью кинулись кто куда, лишь одна осталась на месте, уткнувшись головой в рыхлую землю и перебирая в воздухе ногами.
— Получила? Дух из тебя вон! — злорадно крикнула Бона. — В другой раз будешь знать, как на грядки лезть!
Куры, пробравшиеся сюда через дыру под оградой, теперь не могли отыскать дороги обратно. Насмерть перепуганные воплями хозяйки, они кудахтали и тыкались головами в решетку.
Бона вылавливала их одну за другой и со злостью швыряла через ограду — с такой силой, что куры не успевали расправить крылья и камнем плюхались на землю.
Вернув их во двор, она прошлась вдоль всей ограды и отыскала место, через которое куры проникли на грядки. Они, оказывается, вырыли под решеткой лаз — Бона подгребла туда земли, засыпала дыру и приставила к ограде кусок каменной плиты. И уж тогда пошла взглянуть, что там такое с курицей, по-прежнему валявшейся на грядке.
Это была одна из лучших ее несушек, с грязно-белыми перьями, повыщипанными на грудке и брюшке. Ее восково-белые ноги с налипшей грязью теперь уже недвижно торчали в воздухе.
— Что? Дух из тебя вон! — повторила Бона. — Чтоб вас всех чумой поразило, лезете куда не надо…
Она подхватила курицу за ноги и со словами: «От тебя теперь проку мало!» — взмахом мотыги отсекла ей голову.
Потом занялась потоптанными грядками. Сопя и чертыхаясь, разравнивала землю руками, пока совсем не смерклось и тонкие, как сосновые иглы, перышки лука было уже не разглядеть. Тогда Бона воткнула мотыгу между грядками, подобрала убитую курицу и вернулась в дом.
До поздней ночи кипела на огне кастрюля. Курица была не первой молодости, и вариться ей надо было долго. Ощипывая ее, Бона обнаружила большое яйцо с еще не затвердевшей скорлупой, которое та снесла бы на другой день. Обнаружила она и множество желточков, мелких и покрупнее, — те тоже в свое время превратились бы в яйца.
Злоба в ее душе утихла, сменившись смятенным чувством, которое она определила одним словом: «Грех!» Грех, конечно, что она со злости замахнулась на эту птицу, которая все лето сидела бы в гнезде и неслась. Грех, что от ее руки погибло столько жизней — эти желтые комочки в куриной утробе… не успев родиться, белого света увидать…
Она вспомнила про свою затею с семенным луком.
Как-то раз услыхала она, женщины говорили в поле, что теперь легко нажить денег на продаже семенного лука. По неведомым причинам в овощеводческой Болгарии стало не хватать лука, он с каждым днем дорожал и стоил уже левов восемь, а то и десять. Десять левов! Шутка сказать! Отвести под лук хотя бы десять соток да снять с них двести — триста кило, так столько огребешь денег — машину купить можно. Да и трудов-то особых не требуется: побросай семена, заровняй грядки, поливай из лейки, разок-другой прополи — и все. У одного человека из-под Плевена, говорят, приусадебного участка было тридцать соток, так он столько денег выручил, что купил сыну и машину и квартиру в городе.
Так однажды толковали между собой бабы, а Бона тайком прикидывала в уме: на огороде позади дома, где прошлый год они сажали кукурузу и ячмень на корм скотине, в эту весну можно спокойно вырастить семенной лук. Семена у нее имеются, возьмет разобьет грядки и спрашиваться ни у кого не станет. Муж ей не помеха — он работал на железной дороге, на отдаленном участке, домой приходил только раз в неделю переодеться, так что она без него посадит лук, а там он пускай себе ворчит сколько влезет.
Бона никому ни словом не обмолвилась насчет своих планов, чтобы никто не последовал ее примеру, а как-то утром, сказав Милору, бригадиру, что ей нездоровится, вооружилась мотыгой и пошла на зады. Земля тут была с осени вспахана, так что копать было легко, и в два дня она разрыхлила все комки и разбила грядки. Раскидала навоз, семена намочила и поставила в тепло под печку, чтобы проросли, а потом высеяла их на грядки. Она была из потомственных огородников, и эти дела были ей не в новинку.
Бабы в селе считали ее ленивой — на работу она являлась последней, любила постоять, опершись на мотыгу, а когда в обед ложились немного вздремнуть, то не разбуди ее — проспит до вечера.
Но одно дело на общем поле, где работе не видать конца-краю. А у себя в огороде взрыхлить землю да грядки разбить всего каких-нибудь два денька и нужно.
Муж вечером пришел домой и глазам своим не поверил. Не поверил и в затею ее — разбогатеть одним махом.
— А кукурузу где сажать будем? — спросил он, кривя шею, потому что его обкидало чирьями.
— Где? У тебя на бороде! — Ее разбирала досада, что он не хочет понять. — Ему дело говоришь, а он про свою кукурузу толкует…
— А птицу чем кормить будем? — продолжал он, глядя на кур.
Так и не убедила его, он уехал злой и четыре субботы не показывался, а на пятую приволок белье и одежду, до того грязные и замызганные, словно в преисподнюю в них лазил.
«Люди из ничего деньги делают, а мой дураком был, дураком и помрет, — размышляла она. — Но уж если я загребу денежки, ни гроша он у меня не получит… Всё отдам Данчо, пускай своему извергу «Москвича» купит…»
Данчо была ее дочка, которая работала в городе на фабрике, а изверг — зять, уже два раза требовавший развода, потому что не дали за дочерью никакого приданого.
«Я ему заткну глотку-то, — мысленно грозилась Бона. — Только кабы не вышло опять так же, как… с той курицей, что не снесла яиц…»
Она поужинала куриным крылышком, но и это не принесло облегчения. В доме, кроме нее, не было ни души, огонь догорал, мясо оказалось жесткое, а когда она легла, ей приснился бригадир Милор, будто он тонет в омуте возле плотины, она протягивает ему руку, чтобы вытащить, а он норовит заглянуть ей под юбку…
Разбудил ее свисток цыганки Эмиши, напоминавшей хозяйкам, что пора выгонять скотину.
Бона поскорей привела себя в порядок, захватила на обед половину курицы, но еще долго стояла посередине двора, припоминая, куда вчера закинула свою мотыгу.
Когда она пришла на огороды, женщины уже окучивали помидоры.
*
Женщины рыхлили почву, двигаясь между рядами колышков, которые напоминали какой-то призрачный, высохший лес без веток и корней. Лишь бледно-зеленые помидорные стебли свидетельствовали о том, что в этом лесу что-то растет. Женщины работали босиком, и, когда прикасались к стеблям голыми икрами, на коже появлялись желтые пятна. Эта желтая, неприятно пахнущая жидкость была единственным защитным средством растения.
С дальнего края огородов, где в кирпичном сарайчике стояли весы, показался Милор со связкой мочалы. Рубаха на нем была расстегнута до пояса, на обнаженной груди торчали седые космы. Слегка спотыкаясь на кочковатой тропке, он на ходу вынул из кармана складной нож и в двух местах перерезал связку. Потом прошел по рядам и дал каждой из женщин по пучку мочалы, которую те заткнули за пояс.
У того ряда, где трудилась Бона, бригадир задержался, осматривая кусты.
— Эге! — сказал он. — Да вы, когда подвязываете, пасынкуете или нет?
— Тебя забыли спросить! — огрызнулась Бона.
— А ну-ка вернись, вернись! — приказал Милор. — Это вот как называется?
Он присел на корточки перед одним из колышков и показал на самые нижние побеги, на которых не было ни цветов, ни завязей и которые полагалось отсекать.
— Подумаешь! — сказала Бона, вернувшись и наскоро обломив их.
— Эх, Бона, Бона! — сказал бригадир, качая головой. — Плачут по тебе грабли…
— А ты сам не можешь уж и нагнуться? — вмешалась Тана. — Ничего, не переломишься…
Ее слова послужили сигналом, и женщины загалдели. Они не выносили, когда кто-то барином расхаживал возле них и распоряжался.
Милор слушал их, отойдя в сторонку, и улыбался краем губ. Он прекрасно понимал их. И знал, сколько взрывчатки накопилось в душе у каждой — от одного неосторожного слова, как от искры, все может вспыхнуть. Поначалу, когда кооперативы только-только организовались, крестьянки держались с председателями и бригадирами молчаливо и робко, выслушивали их замечания и не смели слова поперек сказать, только стискивали зубы и злобно взмахивали вслед рукой. Теперь не то. Женщины уже не молчат. Да и сами председатели сменили нрав: когда наведываются к ним (впрочем, теперь они наведываются нечасто), беседу ведут с оглядочкой, стараются побольше улыбаться, прежние начальственные замашки уже не в моде. Обе стороны уразумели ту простейшую истину, что без женщин кооперативу не прожить. Хороши или плохи, они его опора, без их рук, без их мотыг даже председательская контора травой зарастет.
— Ишь, расшумелись, — сказал Милор, глядя на женщин, опершихся на мотыги, чтобы немного передохнуть. — Знаете, на кого вы похожи?
Он хотел рассказать им про ужа и муравьев, но побоялся. Сказал, что они похожи на тигриц, — чтобы умаслить немного.
— А ты — на старого кота! — огрызнулась Тана, но в голосе ее уже не было прежней сварливости.
— Давайте работайте! — примирительно сказал бригадир и повернул назад. Он по опыту знал: самое умное — уйти, чтобы они работали, а не трепали попусту языками.
Шагая вдоль берега реки, он заглянул с обрыва на то место, куда закинул убитого ужа. И снова увидал его белый, высохший скелет, начисто обглоданный муравьями. Убил он ужа с неделю назад — чуть было босыми ногами не наступил на него и, схватив палку, двумя ударами перешиб ему хребет. Потом кинул с обрыва, чтоб не пугал баб, а нынче утром, заглянув вниз, обнаружил, что рядом с этим местом находится муравейник…
Бабы были схожи с этими красноватыми букашками, которые сновали теперь возле муравейника. С виду кроткие, трудолюбивые, но всегда готовые обглодать до костей…
Вот что хотел им сказать Милор, да не посмел…
*
Кооперативные огороды раскинулись на небольшом полуостровке и были ограждены рекой, зеленым поясом разросшегося ивняка и матами из ржаной соломы, поставленными для того, чтобы защищать рассаду от ветра. Огородники Юглы десятилетиями проявляли здесь свое мастерство. Плодородный песчаник, впитавший в себя множество удобрений, сгнившие корни и листья, стал из желтого коричневым. Две канавки поили его водой из реки, запруженной выше по течению.
Здесь прошла у Желы вся ее жизнь. На том самом месте, где она сейчас махала мотыгой, когда-то находился огород ее отца. Он был человек усердный, работящий. Весной, бывало, ни за что спать не ляжет, покуда не перетаскает рассаду из теплиц на грядки. Вдвоем с матерью они еще затемно приходили сюда, прихватив с собою медный котел и веревку. Мать спускалась с обрыва и, подоткнув с одного бока юбку, входила в реку, зачерпывала котлом воду, а отец, широко расставив ноги для упора, вытягивал его наверх. Пока рассветет да пока другие огородники придут, они знай себе поливают свой огород. Потом появились водочерпалки. Крестьяне копали колодцы — их так и называли копанями, — стенки выкладывали камнем, а сверху ставили железные водочерпалки, крашенные в красный цвет. Лошадь, которую погонял прутиком кто-нибудь из детей, с утра до вечера ходила вокруг копани, медленно, монотонно, без конца…
Теперь огороды орошались каналами, но, пожалуй, других перемен и не было. В остальном все осталось так, как повелось еще при дедах и прадедах: ранней весной надо перекопать землю в теплицах, натаскать на деревянных носилках навозу, пересадить рассаду, прополоть, окучить… И ноги вечно в мутной воде… Ох уж эта вода! К старости югленские огородники при очередном приступе ревматизма не раз поминали ее недобрым словом.
— Тетя Жела, присесть бы, а? — сказала Ганета. — Сжаришься на этом солнце.
Солнце стояло в зените и впрямь припекало со всем жаром молодого, летнего солнышка. Кофты у огородниц взмокли под мышками.
— По одному ряду осталось, — сказала Жела. — Лучше еще потерпеть малость, а уж потом отдохнуть как следует.
Она уже много лет была звеньевой, и ее слушались.
Резковатая манера, с которой она говорила (манера не врожденная, а скорее усвоенная на собраниях и посиделках, где если не крикнешь — не услышат), внушала им уважение. Они и сами понимали, что иначе с ними не совладать.
Работа продолжалась, женщины, согнувшись, шли между рядами колышков, переходя от куста к кусту. Жаркое дыхание вскопанной земли и лучи солнца быстро сушили вырванную траву.
Два раза бабка Йордана набирала полный фартук травы и относила своему ослу. На второй раз увидала — лижет, бедняга, траву языком, пить, значит, хочет — и отвела его к каналу. Минко зашел в воду и опустился на колени — уж очень хотелось ему искупаться.
— Потом, потом! — дернула за повод старуха. — Я тебя к плотине свожу… А сейчас некогда мне.
— Всю воду из канала выхлестал, — сказала она женщинам, вернувшись. — И лечь норовил в нее…
— Жарища такая, — отозвалась Бона, — что я и сама не прочь бултыхнуться… Как, бабоньки, сегодня тоже купнемся?
— Еще бы! — воскликнула Ганета. — Благодать-то какая — искупаться! Живи мы поближе к реке, я бы даже ночью купаться бегала… Как ты, тетя Жела.
Двор у Желы был над самой рекой. В теплые вечера она спускалась по ступенькам, которые вырубила в земле, раздевалась под плакучей ивой и входила в воду. Здесь, на краю села, где поблизости не было ни дорог, ни тропинок, ивы надежно прятали ее от людских глаз, и она сидела в воде до тех пор, пока кожа не покрывалась пупырышками. Иногда она брала с собой мережу, забрасывала ее умеючи, по-мужски, и в несколько заходов налавливала рыбы на целую сковороду, вкусной осымской рыбы, полюбившейся ей еще с детских лет…
«Давно я рыбки не ловила», — подумала она сейчас и пожалела, что не догадалась утром положить мережу в кошелку. Возле плотины, где они купались, река кишмя кишела рыбой. К тому же в эти часы Дим Бой, речной сторож, обычно похрапывал где-нибудь в тенечке.
Но вот наконец окучен и последний ряд. Огородницы вышли на край поля и окинули взглядом все это ровное пространство, которое они несколько дней вскапывали своими мотыгами. Им было приятно смотреть на подсыхающую, очищенную от сорняков землю, на нежные стебли с кудрявыми листочками, на желтые цветы, светившиеся, как звездочки. После долгих часов усталости и напряженного труда под знойным солнцем недолгая радость наполнила их сердца, радость от сознания, что ими что-то сделано.
С другого края поля, где сверкали стекла парников и белели косынки женщин из соседнего звена, показался Милор.
— Вот это я понимаю! — сказал он, подойдя к ним и по глазам поняв, что они сами довольны своей работой. — Все вычищено, подвязано — совсем другое дело!
— Сколько ты нам начислишь? — взглянула на него Тана. Она была высокая, костлявая, с темно-карими глазами, в которых бригадиру всегда виделся какой-то вызов. — Ежели меньше, чем по два трудодня, — значит, бессовестный ты человек.
— Вот именно! — поддержала ее Ганета. — Руки отваливаются из-за твоих помидоров, будь они прокляты…
— А это уж что обмер покажет, — ответил Милор. — Я ни при чем.
— Ни при чем, говоришь? Ни при чем? — покрутила головой Бона. — Была бы с нами твоя кучерявая, так небось сколько сказали бы, столько б и начислил.
В соседнем звене работала былая любовь Милора — Цана Димитрица, кудрявая деревенская красавица, и, хотя ее кудри уже тронуло сединой, женщины продолжали ревновать к ней бригадира.
— Бона! — оборвал ее Милор, напуская на себя строгость. — Смотри у меня, а то как ощиплю тебе…
— Как бы тебе самому перья не ощипали! — вспыхнула Бона. Она не любила, когда ей напоминали о прозвище, которое прилепилось к ней с девичьих лет. — А то «ощиплю»!.. Да ты взгляни на себя, головешка потухшая!
Бригадир безнадежно отмахнулся — лучше с ними не связываться, себе дороже. Женщины отошли в тень, под деревья, а он отправился за землемерным циркулем. Надо было замерить, сколько они сделали, потому что день был субботний — каждой не терпелось уйти пораньше, чтоб успеть и по дому кое-что сделать.
«Потухшая головешка…» — безо всякой обиды вспомнил он, входя в сарай. — Что говорить, так оно и есть… Ушло былое и никогда не вернется! До чего же быстро пролетела жизнь! Вроде я все такой же, каждый день я — это я… А взглянул сейчас на женщин — они ведь тоже уже совсем не те, что были… Взять Желу… На одной парте сидели с нею, вместе скотину пасли на Чукаревце, вместе на посиделки ходили… У ее брата граммофон был, а она пела, да так, что перепевала певиц с пластинок… «Танголита»… Они с Пеной обе сшили себе плиссированные юбки, в праздник повязывались шелковыми косынками… Косынки были мягкие, блестящие — помню, как мне нравилось проводить ладонью по косынке Пены, а Желы и коснуться не смел. Жела мне и сейчас как родная сестра…»
Милор улыбнулся. Вспомнилось, до чего мягкий был шелк — совсем как нежная женская кожа, которой еще не коснулось ни солнце, ни чужой взгляд… Он был неутомим по части женского пола… С юных лет и до недавнего времени… Бригадир с самого основания кооператива, больше пятнадцати лет работает с женщинами. И захочешь в святые записаться — не выйдет! Он знал, что ходили насчет него по селу разные слухи, но ни одна жена не пролила слезинки, не пожаловалась и ни один муж не хватался из-за него за нож или топор, чтобы защитить свою честь. Милор покорял женщин своей улыбкой, крепким мускулистым телом, природным умением дарить любовь, не чванясь, не лукавя. А что еще женщине надо?
Циркуль лежал на куче скатанных рогож. Он закинул его туда через окно, и теперь, чтобы достать, пришлось лезть наверх. Сухое потрескивание рогожи напомнило ему один давний летний вечер, такие же вот рогожи под дощатым навесом и женщину с гладкой, мягкой кожей, пахнувшей влажной землей и травами. Ощипанная Бона. Их звено тогда весь день поливало грядки, а он смотрел, как женщины шлепали по воде, подоткнув подолы, видел ее круглые колени, и его так и тянуло на двусмысленности, на которые она отвечала долгим ленивым взглядом. Ему тогда было сорок четыре, а она была похудей, чем сейчас, и не было этого кирпичного сарая с весами, только рогожа под навесом словно была та же самая — такая же темно-желтая, она потрескивала под тяжестью их тел, как потрескивает брошенная в костер сухая солома…
Милор достал циркуль и направился к помидорным грядкам, хотя солнце пекло немилосердно и у него не было ни малейшей охоты шагать по рыхлой земле.
Женщины сидели под тенистой акацией и обедали.
— Ешьте, ешьте! — сказал он, когда они позвали его сесть с ними. Он незадолго перед этим сжевал огурец, и есть уже не хотелось.
Часом позже, когда он лежал возле кирпичной стены сарая, они прошли мимо него, и Ганета, задиристая, как всегда, сказала ему:
— На пляж идем, Милор… Только посмей подглядывать за нами…
Он улыбнулся ее шутке и опять закрыл глаза. Знойное марево дрожало над прогретой землей, над стеклами парников и зелеными купами ив, и ему вдруг подумалось, что он похож на тот выполотый женщинами бурьян, который сейчас увядал между рядами колышков.
*
Мережа была в мешке, задубевшем от влаги и насквозь пропахшем рыбой. Жела сняла его с гвоздя, повесила на руку. Обула старые галоши, в которых было удобно ступать по неровной, колючей гальке. В них и в воду можно войти.
Она прошла через кукурузу, которая росла у нее за домом. Темные листья шуршали, касаясь ее юбки. Спустилась вниз по земляным ступенькам.
Сумерки выползали из ивняка и стлались по реке, еще не в силах погасить ее блеск. В скользящем зеркале реки отражалось небо, еще не остывшее на западе. Из листвы и камышей, из травы и бочажков — дневного своего прибежища — с пронзительным голодным писком вылетали комары. Лягушки и кузнечики наполнили вечер своей музыкой, но привыкшее к ней человеческое ухо не слышало ее.
Жела вынула мережу, погрузила в воду, провела вдоль берега, чтобы сеть хорошенько расправилась. Свинцовые грузила застучали по гальке. Потом она намотала веревку на правую руку, подобрала конец и, зажав его зубами, вошла в воду и метнула мережу перед собой. Плю-ух! — мережа крышкой упала на воду, и веревка натянулась.
Первый бросок вышел удачно. «Жаль, Кыню нет, поглядел бы, как я сеть закидываю», — подумала она.
Кыню был ее муж.
Она вдруг спохватилась, что уже несколько дней не вспоминала о нем, словно он навсегда ушел и из села и у нее из сердца. Эта мысль неприятно кольнула ее.
И пока медленно вытягивала веревку, вглядываясь во вздрагивающий купол мережи, она вспоминала о том, как он тогда учил ее кидать сеть. Это было на поляне. Они расчистили местечко от камней и кустов бузины, чтоб не мешались, и он показывал ей, как собирать сеть, как замахиваться. После нескольких попыток мережа вздулась шаром и осела на траву. Муж был доволен ею.
По тому, как вздрагивал купол, она поняла, что рыба попалась. Представила себе, что теперь творится там, под водой, в переплетениях мокрых нитей, возле грузил, которые волочатся по дну и мешают перепуганным рыбам отыскать выход на волю. Представила себе их агонию, которая началась под сетью и вскоре завершится в заскорузлом мешке, полном чешуи и пропитанном запахом их предков. И ей подумалось, что, будь она маленькой девочкой, ей наверняка стало бы жалко их. В детском сердце всегда много любви к другим — быть может, потому, что оно ощущает свою беззащитность и само нуждается в любви. Но сейчас она не испытывала никакой жалости, вытянутой рукой крепко ухватила мережу и, когда вытащила ее на берег, увидала, что там бьются два усача…
Кыню умел ловить рыбу. В армии он был в стройбате, работал на Дунае, на строительстве дамб. Оттуда-то он и привез мережу — пожалуй, первую в их селе. В те времена в их речке рыбы было много, а рыболовов — по пальцам перечесть.
Никаких тебе членских книжек, никакого Общества охотников и рыболовов, никаких речных сторожей: выходи среди бела дня и лови, никто тебе слова не скажет. Она помнила, как в те годы — она еще была молодой, только-только замуж вышла — пошли они с мужем рыбачить, она шла по берегу, несла его одежу, а он вышагивал по реке, точно аист, и забрасывал мережу против течения. Рыбы бились у него в руках и шлепались на берег, а она, радостно вскрикивая, подбирала их и, хотя они издыхали у нее на глазах, не чувствовала ни капли жалости. Тогда-то и поняла Жела, что детство ушло, что человеческая душа с годами тоже стареет и тот свет, который бывает в человеке спервоначалу, постепенно меркнет, тускнеет, как тускнеет от грязи серебряная чешуя этих рыб, когда они падают на берег.
Это в ту пору попросила она мужа дать и ей закинуть мережу. И он тут же расчистил камни и бузину на полянке, желая поскорей научить ее своему рыбацкому делу…
Жела улыбнулась. Сколько всяких историй связано с этим увлечением ее мужа!
Вспомнилось ей, как он однажды перехитрил речного сторожа Дим Боя, — история, которую Кыню так любил рассказывать друзьям…
Дим Бой был их сверстник. Она помнила его еще мальчонкой, плаксивого, вечно хлюпающего носом, не умеющего даже собственное имя выговорить полностью — Димитр Бойчев. Он из всего имени облюбовал два слога, не подозревая, что они останутся его прозвищем до конца жизни.
Этот самый Дим Бой, став инспектором рыбнадзора, пронюхал, что Кыню по ночам промышляет со своей мережей, и сказал в корчме, что ежели поймает его, то сдерет две тысячи штрафу. К тому времени вышел закон, запрещавший ловить рыбу без членских книжек, так что крестьяне рыбачили по ночам, когда и закон и верные его слуги спят… Две тысячи! Да за такие деньги тогда неплохую лошадь купить было можно, и, само собой, кому охота отдать коня за мешок рыбы?
— Меня-то тебе не поймать! — сказал Кыню, — Хоть среди бела дня выйду с мережей, а ты и не учуешь… Давай на спор!
Любил он иной раз прихвастнуть, муженек ее, она его знала как облупленного. И в тот раз тоже полез в бутылку, и, слово за слово, побились они с Дим Боем об заклад. Она помнила, как муж тогда пришел домой слегка подвыпивши и долго не мог заснуть, потому что хмель уже улетучивался и он начинал сознавать, что связался со сторожем зря.
«Надо чего-нибудь придумать», — пробухтел он, изложив ей, как было дело. Единственное, что подсказало ему воображение, — одеться в какое-нибудь рванье, вымазать физиономию сажей и пойти к реке в таком обличье.
А она научила его, как выиграть спор. В условленный день Кыню надел старое женино платье, повязал голову белым платком, взял в руки бак и узел грязного белья и направился туда, где югленские бабы обычно занимались стиркой. Поставил бак на два камня, развел огонь, чтобы вскипятить воду, и, вытащив из-под платья припрятанную мережу, полез в реку.
Дим Бой, который, выслеживая браконьера, за весь день ни разу не присел, видел издали стелившийся по берегу дымок и женщину в белом платке, но ему и в голову не пришло, что эта самая прачка в тот же вечер заявится в корчму и вытряхнет на глазах восхищенной публики кучу еще живых усачей и кленей…
Жела улыбалась. Настоящий артист ее Кыню! Впрочем, и приглянулся он ей в первый раз тогда, когда они играли в постановке «Йончовы постоялые дворы». Он изображал приехавшего из города купца, щеголеватого, в сером костюме, а у нее была роль хозяйки… Эх, молодость, молодость! Все-то им было весело, по всякому поводу сыпали шутками, работали в охотку, ночи были коротки, не думалось, что когда-нибудь придет старость, что понадобятся деньги поднимать сына-студента, что надо будет заботиться о трудовом стаже для пенсии… Кыню уже восьмой год работает в Мадане, возвращается домой только по большим праздникам да в отпуск, и она уже свыклась с одиночеством, все реже вспоминает о нем, все реже видит его во сне или слышит его голос…
И тут она услыхала чей-то голос.
Она отошла уже далеко от своего двора, натянутая веревка подрагивала, вода с тихим плеском омывала ей ноги.
— Слышь, что ль, тебе говорю! — произнес голос из темноты. Это был Дим Бой. Он стоял на берегу — казалось, силуэт из черной бумаги наклеен на ночное небо. Из-за плеча у него торчало дуло карабина, похожее на какой-то чудной ключ.
— Чего тебе? — спросила Жела.
— Вылезай!
Он узнал ее, но нарочно не называл по имени.
— Не суйся не в свое дело! — сказала она, сматывая мокрую веревку.
— Это и есть мое дело! — сердито крикнул он. — Вылезай, тебе говорят! Стрелять буду!
— Полегче, полегче! — сказала Жела и вытянула мережу на камни. Одна рыбина, ловко извиваясь, пыталась выскользнуть из сети. Жела высвободила ее, и по тому, как укололо пальцы, догадалась, что это угорь. Хотела было кинуть его обратно, но удержалась, чтобы Дим Бой не подумал, что она испугалась его.
— Ах, растуды твою… — выругался Дим Бой, закуривая сигарету. — Не ожидал я от тебя такого, Жела…
— Катись ты! — крикнула она. — Плевать мне, чего ты ожидал…
— Вылезай! — приказал он, стараясь, чтобы голос прозвучал как можно строже. — Вылезай, а то ведь я могу и снасть отобрать.
— Ори больше! — сказала она. — Пока не наловлю на одну сковороду, никуда не пойду.
Дим Бой походил по берегу, нашел спуск, слез к ней на камни. Он был маленький, сухонький и двигался бесшумно, как и требовала его служба.
— Знаешь небось, закон строгий… — сказал он. — За одну рыбку я могу…
— Ты все можешь! — оборвала она.
Запустила руку глубоко в мешок, ощупала холодные, скользкие рыбины и стала не спеша сворачивать сеть. Ей было неприятно разговаривать с этим человеком — ишь сопит тут, шмыгает носом.
— Я на нижний луг шел, — сказал он. — Туда каждую субботу прикатывают городские на машинах… Разводят костры и спят под открытым небом. Но взяло меня сомнение, не ставят ли они переметы… Дай, думаю, пойду другим берегом, чтоб незаметно… Иду, значит, и вижу: кто-то сеть закидывает…
— Ясно! — огрызнулась Жела. — Увидал! Ну и что? Сейчас тебе за это медаль повесят…
— Тебе хорошо говорить… Нешто я могу пройти мимо, когда я тебя засек…
— Меня-то засек, а которые на целые банкеты налавливают, тех не видишь…
Сторож прикусил язык. Она ударила по самому больному месту. Когда односельчанам хотелось его позлить, они напоминали ему о его слабоволии, о его раболепии перед начальством и о ловкости, с которой он, когда нужно, умел находить лазейки в законе. Он был вроде того угря, который кололся, чтобы выбраться из сети.
Дим Бой служил в рыбнадзоре с 1933 года, с перерывом на те несколько лет после Девятого сентября, когда революция одним махом вымела всех, кто был на службе при прежнем режиме. В эти годы он работал возчиком, а потом опять понадобился инспектор рыбоохраны, он подал заявление и как-то вечерком занес председателю местного совета сома килограмма на два. Дим Бой искренне тогда считал, что этими двумя килограммами все и ограничится, но, когда он снова вооружился карабином, пришлось и самому ловить и выдавать разрешения на еще множество килограммов, множество разных сомов, усачей и кленей, без которых не обходилась в области ни одна конференция или совещание… Вкуснющая это штука — речная рыба, поджаренная на подсолнечном масле, с золотистой корочкой, хрустящим хвостом и до того аппетитным запахом, что уже им одним можно закусить стаканчик виноградного вина…
Галоши у Желы были полны воды и негромко похлюпывали. Намокший подол шлепал по ногам. Продев палец под ремень карабина, Дим Бой шел за нею, и на душе у него было тошно.
— Куска хлеба из-за вас лишусь, — помолчав, сказал он. — Почему я за вас страдать должен?
— Один ты страдаешь! — бросила Жела.
— Да ведь служба проклятая… Год остался и семь месяцев… Кабы не это…
Он шмыгнул носом, сплюнул и продолжал шагать, угадывая дорогу по шлепающему звуку ее юбки. Они подошли к земляным ступенькам.
— Да, треклятая моя служба… — повторил он и вслед за Желой поднялся на ее участок, стараясь в темноте не сбиться с тропки.
Жела привела его в летнюю кухоньку, зажгла свет, заставила его сесть и вынула из шкафа запылившуюся бутылочку ракии.
— Хлебни маленько, пока я рыбу почищу, — сказала она и налила ему рюмочку. — До смерти есть охота…
— Поехали! — сказал Дим Бой, чокаясь с бутылкой.
Рука у него была как у молодого, с плоскими ногтями. Из-под выгоревшей брезентовой куртки выглядывала заношенная зефировая рубаха. «Жена двоих внучат нянчит, вот он у нее и ходит заброшенный», — подумала Жела.
Она пошла переоделась в сухое и занялась рыбой. Сторож отпивал из стопки и смотрел, как уверенно орудуют ножом ее руки.
«Жела-верховодка», — вспомнилось ему, как они в детстве дразнили ее, а она гоняла с ними по лугам и любого мальчишку могла заткнуть за пояс… У мужа ее, который вечно пропадает где-то на рудниках, в голове ветер, и кабы не Жела, они б и по сю пору ютились в старом сарае деда Станчо, господь его прости… На счастье, Жела — баба деловая, собрались с силами, понаделали кирпичей, поставили дом и во дворе тоже всего понастроили. Что тут было раньше? Пустошь… А теперь двор. С разными строениями, дорожки залиты цементом, деревья фруктовые — каких во всей округе поискать. И все это благодаря вот этой женщине… Ауфвидерзен!.. Почет и уважение!.. Меня спроси, я скажу: вот такую бы и выдвигать в руководство, потому толковая и головы ни перед кем не клонит. Да разве ее выдвинут?
Огонь разгорелся, масло зашипело, по кухоньке разнесся вкусный запах. Дим Бою надо бы уйти, двойное будет преступление, если он отведает этой рыбки, но никакой силой нельзя было его сейчас поднять с места…
*
Жена косила люцерну. Он увидел ее высокую худую фигуру, она склонялась и взмахивала косой, стальное лезвие которой со змеиным шипением пробивалось сквозь густую стену люцерны. «Шщик-хруп! Шщик-хруп!» — долетали до него отрывистые звуки.
«Надо бы подсобить», — подумал Тодор и повесил сумку на забор. Но пока он дошел до заднего двора, Тана уже отставила косу и набивала травой плетеную корзину. Ему показалось, что она искоса взглянула в его сторону, но притворилась, что не видит, и, поднатужась, с трудом взвалила корзину на спину. Опять злится, подумал он, и напускает страдальческий вид, точно малое дитя, которому нравится, чтоб все его жалели.
— Дай-ка! — сказал он, протянув руку к корзине, но она обошла его и прибавила шагу, сгибаясь под тяжестью ноши.
Тодор пошел за нею. Если кто издали посмотрит на них, мелькнула у него мысль, то, наверно, подумает, что они дурачатся, как молодожены, что им весело и легко в этот летний вечер, полный светлячков и запаха свежескошенной травы. Вечер и впрямь был хороший. Тодор мельком взглянул на тлеющий оранжевый закат, но ему сейчас было не до закатов и мягкие, теплые сумерки не радовали его, потому что Тана опять на него злилась.
— На сверхурочную оставались, — сказал он, пока она насыпала буйволице люцерну. — Все оставались, не я один… Конец месяца…
— Будь она проклята, работа ваша! — сказала она, дергая буйволицу за цепь. — Отойди! Отойди же ты!
Цепь проделась в копыто, буйволица натягивала ее и могла порвать либо цепь, либо потертый ремешок вокруг шеи.
— Отойди! — кричала Тана, ударяя ее по колену.
«Надо мне, пожалуй, отойти, — подумал Тодор. — Не то поругаемся, еще хуже будет…»
Шестнадцать лет уже, как они поженились, дочка подросла — в городе учится, в автомеханическом техникуме; так шла у него жизнь до сих пор и, верилось, точно так же будет идти и дальше.
Наконец цепь звякнула, высвободившись из копыта, и буйволица потянулась к люцерне.
Тана пошла в дом.
— В конце месяца всегда так… — сказал Тодор, идя за ней следом. — Говорят — план… Разве уйдешь?
— А у нас тут планов нету?! — обернулась она и метнула на него сердитый взгляд. — Так я всю жизнь и буду тянуть одна? Целый день махай мотыгой, а домой придешь — берись и косить, и скотину поить, и стряпать, стирать… Тебе этого не видно.
— Как не видно… — сказал Тодор. — Но…
— Виноград опрыскивать надо, кукуруза травой заросла, а тебя нету… Одно воскресенье есть свободное, так ты опять бежишь свой план выполнять…
— Никуда я не бегу. Просили, чтобы завтра тоже, но я… нипочем… Бай Димитр заместо меня…
Тана сняла с забора его сумку, вынула хлеб, пощупала. Хлеб был не горячий, но мягкий.
«Ничего, поостынешь… — подумал Тодор. — Покричишь малость и остынешь…»
Чтобы переменить разговор, он подробно рассказал, как ему удалось купить две буханки: случайно увидал в булочной дочку Йордана Гончара — Веску, она его признала и дала хлеба без талона да еще велела и другой раз заходить, в ее смену, с пустыми руками не отпустит…
С прошлой осени хлеб в городе отпускали только по талонам, которые выдавались по месту жительства. Горсовет провел в вечерних поездах проверку и обнаружил, что много хлеба уплывает в село; говорили, будто некоторые кормили им скотину, потому что ему цена пятнадцать стотинок кило, а килограмм отрубей стоит втрое дороже. Поэтому выдали талоны городским жителям и сочли дело решенным.
— Хорошо, что мне девчонка та встретилась, — сказал Тодор. — Сбережем мучицы…
Муки у них оставалось еще с полцентнера, и он радовался, что, если будет привозить хлеб из города, они спокойно дотянут до нового урожая. Как истинный крестьянин, Тодор считал, что только тогда можно назвать год удачным, когда муки́ старого урожая с избытком хватает до нового.
— Ты должен выхлопотать себе талоны, — сказала Тана, собирая на стол. — Раз работаешь в городе, обязаны дать…
— Сама знаешь, я же не прописан… — сказал он.
И с опаской подумал, что снова дал ей повод прицепиться. Несколько месяцев уже, как он подал заявление насчет городской прописки, и ему осточертело ходить за ответом, а она сейчас непременно спросит, ходил ли он опять.
Чтобы опередить вопрос, Тодор сказал, что человек, который занимается пропиской, уехал в Софию на две недели. Он, мол, после обеда заходил, и секретарша сказала… «Получилось правдоподобно», — подумал он, но чуть погодя сердце опять виновато сжалось, потому что он обнаружил в своих объяснениях уязвимое место: день-то субботний, во всех учреждениях работают только до обеда, так что никакая секретарша ничего ему сказать не могла… Если Тана догадается, опять крик поднимет.
Из тактических соображений он отошел к рукомойнику и, чтобы выиграть время, долго тер руки мылом, сморкался и отфыркивался, а когда вернулся и сел за стол, Тана уже налила супу и, похоже, угомонилась.
— Ничего тебе не добиться, — снова заговорила она. — Рохля ты. Что ни скажут — со всем соглашаешься! А надо быть понахальней, ходить, пороги обивать… В дверь выгонят — ты в окно лезь…
— Еще чего! — сказал Тодор. — Пороги обивать…
— Того самого! Не придешь — никто о тебе не побеспокоится. Но ты ведь…
— Что ты ко мне привязалась? — Он швырнул ложку и вскочил. — Сколько живем, ни разу не сумел тебе угодить… Вечно всё не так!
Он долго шарил по карманам в поисках сигарет, пока не спохватился, что уже несколько лет как бросил курить. Опять же из-за нее бросил: она не выносила табачного запаха, каждый божий день подсчитывала, сколько денег уходит на курево, и, устав от всех этих разговоров, он сдался. Иногда только, тайком от нее, покупал маленькую пачку, выкуривал до конца смены восемь сигареток, а чтобы не пахло табаком, жевал чеснок либо петрушку. Теперь он жалел, что нет при себе ни одной сигареты: закурить бы в открытую, окутаться бы теплым дымком, совсем бы в нем спрятаться…
Есть уже не хотелось, и он побрел на улицу. Вышел за ворота, сел на лавочку и стал вглядываться в темноту — ждать, не мелькнет ли огонек чьей-нибудь сигареты. Вокруг стояла тишина. Село засыпало.
*
— Еще немножко… — умолял малыш. — Ну хоть чуточку! Мне еще не хочется спать.
— Сейчас не хочется, а утром не поднимешь! — сказала Ганета и выключила телевизор. Экран мигнул, и его свет, сворачиваясь в одну точечку, спрятался внутрь, как прячется улитка в свой домик. А потом исчезла и точечка, осталось зеленоватое холодное стекло.
— Тогда почитай мне! — сказал мальчик.
Она помогла ему раздеться, укрыла одеялом, потом прилегла рядом и прочитала две сказки. Знала — так он скорее заснет.
К концу сказки, когда трое братьев заспорили о красавицах, она услышала его ровное дыхание, осторожно высвободила руку и погасила свет. Тьма хлынула в отворенное окно и заполнила комнату.
Ганета лежала на своей широкой двуспальной кровати и прислушивалась к дыханию сынишки. С тех пор как Богомила посадили, малыш перебрался со своей железной кроватки к ней. «Теперь я буду папкой!» — радовался он, потому что ему сказали, что папка уехал далеко и вернется только через полтора года. И вечером, когда они раздевались и ложились спать, он целовал ее в щеки и губы — так делал тот человек, который вернется через полтора года.
Стало жарко, и она приложила локоть к прохладному полированному дереву кровати. Ей казалось, что даже в темноте видно, как оно блестит. Она вспомнила чувство, которое испытала, когда в первый раз внесли в комнату эту кровать, — пока Богомил прилаживал боковины, она держала спинку, пахнувшую политурой, столярным клеем и буком, гладила ее сверкающую поверхность, которая ненадолго мутнела под ее пальцами.
Потом наступила первая ночь на этом мягком, роскошном ложе, на поющих пружинах, таких не похожих на жесткие доски их старой деревенской кровати.
На той жесткой кровати они проспали первые три года своей супружеской жизни, там было зачато их дитя, там привиделось ей столько дивных снов, и Ганета не могла легко забыть об этом.
Кровать была узкая, рассохшаяся, но теперь она казалась ей милее, чем эта застланная простынями ширь, потому что здесь ей приходилось спать одной. Она бы, не раздумывая, перебралась на старую кровать, только бы Богомил опять оказался рядом. Но Богомила не было.
Богомил валяется сейчас бог знает где, на дощатых нарах, полуживой от усталости, и клопы, выползающие из соломенного тюфяка, опутывают его тело невидимой сетью своих тропок…
Она не сердилась на мужа и ни в чем не винила его, потому что, оставаясь за него в магазине, тоже запускала руку в ящик с выручкой. Раза два в неделю он уезжал в город за товаром, а она повязывалась по-девичьи косынкой, надевала черный сатиновый халат и сама любовалась своей стройной фигурой, затянутой в мягкую блестящую материю. Она умела быстро считать, встречала покупателей улыбкой, и в эти дни выручка бывала больше, чем когда за прилавком стоял муж. Потом он стал оставлять на нее магазин и на более долгое время, двери хлопали чуть не до полуночи и за обоими столиками, которые стояли перед прилавком, всегда сидели люди. Пивная находилась на другом краю села, и многим было сподручнее завернуть к Богомилу, а он откупоривал бутылки и разливал ракию по стаканам. Вечером он относил выручку домой, потому что в магазине окна были без железных решеток и пересчитывать там деньги было неудобно. Он делал это дома, наверху, допоздна подсчитывая, какова выручка за день и сколько осталось лишку.
— Спокойно выйдет еще одна зарплата, — говорил он, довольный, что все цифры у него сходятся. — Тебе нет никакого расчета работать… Расти ребенка и помогай мне, когда нужно…
В ту пору они купили телевизор и оштукатурили дом. Штукатурка была под гранит, с белыми полосами под крышей и по углам, и на солнце в цементе поблескивали слюдяные чешуйки.
Размышляя о тех временах, Ганета понимала, что была по-настоящему счастлива, когда вечером возвращалась в свой дом, играла с маленьким Лецо, а утром открывала глаза, и комната слепила ее своей белизной и шелковой паутиной занавесей.
Богомил был человек тихий, и она сейчас жалела, что порой не ценила его доброты. Но он так был поглощен делами и заботами о том, как бы заиметь побольше «лишку», что уделял ей мало внимания. Чтобы отомстить, она как-то раз, когда он был в отлучке, изменила ему с Серафимом, ревизором из города. Серафим заявился однажды утром прямо с поезда — в нейлоновой рубахе и черных очках, повесил на дверь табличку «ревизия» и положил на стол расстегнутый портфель. Ганета начала доставать с полок товар, забираясь на прилавок и исподтишка наблюдая, как ревизор ощупывает ее взглядом. К тщеславному желанию понравиться этому человеку прибавлялось желание скрыть от его глаз бутылки с домашней сливовой, которые Богомил держал под прилавком и еще не успел продать…
— Я остановился в комнате для приезжих, — сказал вечером Серафим, собираясь запечатать дверь бумажной лентой с печатью. — Знаешь, где это?
Она ответила, что знает. Это было неподалеку от них, в доме, владельцы которого давно перебрались в город.
— Точненько! — сказал ревизор, глядя ей в глаза. — Вход прямо с улицы.
— Желаю вам приятных сновидений, — притворилась она недогадливой.
— Так ты поняла, где я остановился? — снова повторил он. — Я ложусь поздно. У меня с собой австрийский кипятильник… Растворимый кофе когда-нибудь пила?
Она сказала, что нет.
— Я кофе варю изумительный! — сказал ревизор. — А теперь — до скорого! И не забудь, где я.
Она шла домой, и ей чудилось, что она прозрачная, что стоит кому чуть пристальнее взглянуть на нее, и он сразу разгадает ее тайну. Несколько раз давала она себе слово не думать больше о комнате для приезжих, ей даже показалось, что она легко откажется, не пойдет туда, но когда они с Лецо стали ложиться, не смогла заставить себя закрыть дверь в коридор. Дверь была застекленная, и когда ее отворяли, стекла звенели.
Через час, когда сынишка уснул, Ганета вышла со двора и, прошмыгнув мимо темных стволов шелковиц, с колотящимся сердцем подошла к сельской гостинице. Ревизор стирал в тазу свою нейлоновую рубаху.
— Кофе пить будешь? — спросил он, стоя перед ней в майке-безрукавке.
Он опустил кипятильник в стакан с водой, и через минуту кофе был готов, но она не смогла его выпить, потому что нетерпеливые руки ревизора потянулись к выключателю…
«Зачем я пошла?» — размышляла она, когда на рассвете возвращалась домой, и ей было ясно, что не только из-за спрятанных под прилавком бутылок навестила она комнату с выходом на улицу. «Я сделала это ради Богомила», — убеждала она себя, но сама внутренне смеялась над этим оправданием, потому что помнила, что в ту минуту, когда появился этот человек в белой рубашке, Богомил перестал для нее существовать, улетучился из памяти, и если бы кто-нибудь тогда произнес его имя, она бы не сразу сообразила, о ком идет речь…
«Со всеми бабами так? — спрашивала себя Ганета. — Или только я одна такая?..»
И впервые попыталась взглянуть на себя со стороны. Точно на экране видела она, как ее гибкая фигура крадется по темной улице села и подходит к двери, за которой склонился над алюминиевым тазом человек в майке…
Человек этот уехал в отличном настроении, наскоро подписав акт ревизии, но всего две недели спустя нагрянули двое других и обнаружили под прилавком бутылки, а в сарае два кубометра тесу и неоприходованный цемент. Богомил не ожидал ревизоров так скоро и теперь расплачивался за свое легкомыслие в лесах под Амбарицей, где ему надлежало пробыть восемнадцать месяцев…
Она вспомнила свою последнюю поездку к мужу. Свидания давали раз в месяц, и она выбрала воскресный июньский день, солнечный, яркий, с высоким чистым небом. У нее была с собой целая кошелка разной снеди, и когда она сошла на конечной остановке с автобуса, то увидала на шоссе несколько женщин, которые сошли с того же автобуса и несли в руках такие же кошелки. Лесхоз, где работали заключенные, находился выше, в двух километрах от остановки. Они шли по шоссе и рассказывали друг другу печальные истории своей жизни, последние главы которых привели их в эту глухомань. Женщины были в скромных поношенных платьях, говорили невесело, без улыбок, и безропотно волокли тяжелую ношу. Когда они подошли к дощатой караульной будке, каждая старалась незаметно сунуть в руки часового бутылочку ракии или какое-нибудь угощение. Часовому эти знаки внимания была приятны, но закон суров, и он прикидывал, как бы это ни женщин не обидеть, ни закон. С рассеянным видом принимал подношения, совал в тайничок над притолокой, потом, прижав к уху телефонную трубку, долго выкликал имена заключенных, которые должны были прийти на свидание.
Немного погодя полянка перед караульной будкой превратилась в огромную трапезную — все расселись, только часовой остался стоять, как полагалось по уставу караульной службы.
Богомил и Ганета расположились возле своей кошелки, она разодрала вареного цыпленка и подавала мужу самые нежные кусочки, а он ел с аппетитом арестанта. Глядя на его бритую голову и темные круги под глазами, она думала о том, что несладко ему, должно быть, на теперешней работенке, если раньше ему знакома была лишь одна усталость — от стояния за прилавком.
Богомил быстро наелся, украдкой, чтобы не заметил часовой, глотнул вина и тут увидал ее колено и узкую полоску не тронутой загаром кожи, выглядывавшую из-под сбившейся юбки.
Она перехватила его взгляд и одернула подол, но он уже тянул ее за руку:
— Пошли!
— Ты в своем уме?..
— Пойдем!
— А этот, с ружьем?
— А что он нам сделает?
Поблизости росли ярко-зеленые кусты бука, до того густые, что в них можно было забраться, как в шалаш. Земля там была покрыта толстым, мягким ковром папоротника и пахло лесными травами и палой листвой.
Когда они вернулись, на поляне были только кошелки да разостланные полотенца с остатками еды. Спустя немного стали одна за другой возвращаться супружеские пары, они смущенно улыбались, а часовой у будки что-то насвистывал и рассеянно поглядывал на холмы…
«Все мы одним миром мазаны», — подумала Ганета, вспомнив, о чем она думала в то утро, когда возвращалась домой из комнаты для приезжих. Это развеселило ее, и на обратном пути, шагая к автобусу, она без устали рассказывала попутчицам разные смешные истории, а те громко смеялись и вообще были теперь совсем не такие, как утром; освободившиеся от клади кошелки болтались у них в руках.
*
Напоив Серого и наложив ему в ясли корма на ночь, бабка Йордана вернулась домой зарядить стан. Она уже давно собиралась сделать это — у нее было наготовлено шестнадцать локтей черной бумажной основы, припасены и два узла пряжи на уток.
Чего им зря валяться? Ждать, покуда моль источит, да пыль собирать на чердаках и в кладовках? Лучше наткать рядна. Рядно — оно всегда рядно. Сложить, посыпать нафталином — и пускай себе лежит в сундуке. Когда-никогда пригодится. Дед Петр, покойник, не мог этого взять в толк и вечно ворчал: «Да будет тебе! С собой на тот свет небось не унесешь!»
Унести, конечно, не унесешь. Но когда он преставился, она достала из сундука самый красивый кусок материи — чистая шерсть с золотым и зеленым узором; достала и укрыла его, чтобы было ему чем согреть свои старые кости, чтобы хорошо ему было там…
Где оно, это «там», она не допытывалась, ей достаточно было того, что она знала — от дома далеко, место чужое, чужое и холодное, и теплое покрывало ему всегда пригодится.
Стан, разобранный, стоял в подвале, и она принялась по одной вытаскивать его тяжелые деревянные части.
Муж-покойник много лет назад сам сделал этот стан из груши — грушевая древесина крепкая, но тяжелая.
Когда бабка Йордана выносила стойки, ей заломило поясницу. Пережидая, пока боль отойдет, она обмахнула со стоек паутину и тут заметила, что дерево подгнило от сырости.
«Хоть бы в этот раз не развалился, а там уж как бог даст!» — подумала она.
Каждый раз, когда она отрезала очередное тканье, ей казалось, что больше уж никогда не доведется сесть за стан: годов за плечами много — почитай столько же, сколько нитей в берде, глаза уж без очков не видят, жизнь наматывается, как на навой основа, а под конец придет безносая и перережет своей косой…
— Зря ведь надрываешься, — говорили соседки, заставая ее за работой и глядя, как она обеими руками водит батан. — Снохи этих твоих половиков не постелют.
Она печально улыбалась, потому что и без них знала это. Оба ее сына жили в Софии. Она побывала у них в квартирах, застланных дорогими фабричными коврами и дорожками. Обе снохи были городские — родились в большом городе, в городе и помрут, так что им не узнать, что такое ниченка, навой или веретено.
В феврале, когда она послала им телеграмму, только старший сын приехал хоронить отца. Младший, как ей сказали, находится в дальних странах и вызвать его никакой возможности нет. Через месяц он воротился и как-то раз вечером постучался в дверь с целым чемоданом подарков. На другой день, когда пришли они с кладбища, он сказал:
— Вот что я надумал, мать… Заберу-ка я тебя с собой в Софию. Машина на дворе, соглашайся — и поехали.
Машина его и вправду стояла во дворе — темно-синяя, широченная, еле в ворота въехала. Бабка Йордана знала, что если даст согласие, то уже к вечеру очутится далеко от своего двора и будет ступать по мягким покупным коврам, пить воду из крана и глядеть сверху на темные железные крыши.
Но как на такое решиться?
Осла она, конечно, продаст — и без того давно хотела от него избавиться. Кур связать — и прямиком в багажник. А вот с домом как быть? В Югле столько было брошенных, пустых домов, что никто и лева не даст за эти не раз чиненные стены, сложенные еще при турках, эту замшелую каменную кровлю. Дом. Тесовый амбар. Подвал, заставленный кадками и кувшинами. Тележка, в которую впрягали осла. Ткацкий станок, прялка. Маслобойка. Ушат для брынзы. Дробилка для кукурузы. Два медных котла. Полая тыква для соли, деревянные тарелки, ложки — весь этот мир, в котором она жила до сих пор, который окружал ее и вокруг которого кружилась она, мир, вмещавшийся целиком в одно-единственное старинное слово: скарб.
— Господь с тобой, Стоян! — воскликнула она тогда. — Что ты говоришь, сынок… А что будет со скарбом нашим, с пожитками?
Стоян отступился. Но когда машина его скрылась из виду, бабка Йордана подумала про себя, что не только из-за пожитков не решилась она покинуть родное село. В глубине души она опасалась, как бы не случилось с ней того же, что с Дамяном Сырчаджией, как бы на старости лет не попасть людям на язычок… У деда Дамяна — сын профессор, по сей день живой, здоровый, ни дна ему ни покрышки! Прикатил однажды вот на такой же легковой машине, подбил отца перебраться в столицу, продал его домишко, деньги — в карман, а через какое-то время старик прислал о себе весть из дома для престарелых, что в Ихтимане. Профессорше, вишь, неприятно, что у нее в доме какой-то старик…
Вот чего опасалась бабка Йордана, и даже не столько из-за себя, сколько ради доброго имени сыновей. В селе Митко и Стояна знали еще мальчишками, и никогда она дурного слова о них не слыхивала, пусть так оно и дальше будет. Да и они чтоб не забывали Юглу, отчий дом, где сделали первые свои шаги, огороды по берегу Осыма, где добывались те скудные гроши, на которые они выучились… Чтоб помнили и наведывались в родное село — не то что сын деда Дамяна, для которого все пути-дорожки в Юглу травой поросли…
Стан был собран, оставалось только пойти одолжить бердо у Ощипанной Боны — у нее бердо пошире, сядут как-нибудь днем, пока светло, и нитку за ниткой проберут черную основу через его кизиловые зубья.
Бабка Йордана отправилась за бердом.
Еще с улицы она увидала, что у Боны во всем доме свет. Все лампы горят, двери и окна распахнуты, радио играет что есть мочи какую-то незнакомую музыку, в которой она различила только звуки скрипки.
Со стесненным сердцем поднялась старуха по ступенькам, заглянула в первую комнату и увидела Бону — та лежала поперек кровати, бесстыдно заголив толстые ноги.
— Бона! — окликнула ее бабка Йордана. — Что с тобой, Бона?..
*
Ничего особенного не произошло. Бона просто была пьяна.
Когда она после купания шла домой, у нее было смутное предчувствие, что в этот вечер с ней что-то случится. Сильно клонило ко сну, но столько еще всего надо было переделать — постирать, прополоть рассаду, сбегать за опрыскивателем к Неше, золовке, потому что завтра — виноградник опрыскивать…
«Господи, за что вперед браться?» — спрашивала она себя, а потом решила немножко вздремнуть — со свежей головой быстрее управишься.
Она укрылась меховой безрукавкой и, засыпая, думала о том, что эта ее сонливость не к добру. «Что есть смерть? — запали ей в голову слова одного дьякона из Троянского монастыря. — Сон вечный… Каждую ночь мы приближаемся к вечности…»
Это было во время ярмарки, на пресвятую богородицу. Она заглянула в монастырь, и дьякон предложил поводить ее по кельям, показать, где обитают его братья во Христе. Час был поздний, она отнекивалась, говорила, что устала, хочет спать. Вот тогда-то дьякон и сказал, что сон подобен смерти и глупо самому торопиться навстречу вечности, когда можно похитить у нее еще хоть минутку…
«Ну, ты-то на другое заришься! — подумала она. — Только ничего у тебя не выйдет, козел бородатый!»
У дьякона были большие глаза навыкате, светло-коричневые, как мушмула, которую продавали на базаре; длинная волнистая борода жирно блестела, и от нее шел какой-то слабый запах, похожий на запах меховой безрукавки, которую она сейчас накинула на себя…
Проснулась она, когда на дворе уже стемнело, куры уснули, а рассаду не прополешь — ничего не видать. Стояла тишина, и Бона услыхала совсем рядом, около дома, какое-то глухое постукивание: «туп… туп…»
«Яблоки! — догадалась она. — Этак они у меня все попадают!»
Это опадала ранняя, сладкая яблонька.
Бона заглянула под прогнувшиеся ветки и увидела, что земля сплошь покрыта падалицей.
«Прошлый год я их поросенку скормила, — подумала она. — А нынче что с ними делать?»
И тут вспомнила, что до того, как они завели поросенка, она резала яблоки и сушила на солнце. За лето насушивала по нескольку мешков, и зимой у нее всегда булькала на печи кастрюля с компотом. Но это давно, когда дом был полон народу и было для кого варить компот. Теперь, для себя-то одной, что за охота возиться! От многого она отказалась, обойдется и без компота.
«Мне бы сейчас взять сечку, — подумала Бона, — да нарубить этих яблок, не ракия бы получилась — чудо!»
Это показалось ей не таким уж сложным делом, и, отыскав сечку и потемневшее деревянное корыто, она сгребла падалицу в кучу и села рубить. Чтобы яблоки лучше разминались, она била их обушком, они были мелкие, но крепкие, и руки у нее забрызгало сладким соком. Когда корыто наполнилось доверху, она прикатила из погреба кадушку, в которой они осенью возили на винокурню виноградные выжимки. Если наполнить кадушку до верхнего обруча, то получится как раз одна заправка.
Бона даже ощутила запах ракии. Глазам представилась приземистая сельская винокурня, раскаленные угли в очагах, тоненький звон струек, стекающих по стенкам подставленной посуды.
Прошлой осенью она в первый раз сама сварила ракию. Муж приехать не смог, а очередь подошла, так что она в одиночку погрузила кадку на тележку деда Петра. Вернулась домой к полуночи, притащила на коромысле два ведра прозрачной, обжигающей жидкости, которая окутывала ее своим невидимым спиртовым облаком. Тихо было в доме и пусто, и у Боны сжалось сердце — никто не выбежал навстречу, чтобы снять с нее ношу, некому было отведать ее ракии. Голова у нее кружилась, ей показалось, что она сейчас задохнется, она распахнула окна настежь и зажгла все лампы, потому что боялась темноты…
«С кем я ее пить-то буду, господи?» — спрашивала она себя, а слезы струились по щекам и капали на раскрытую грудь.
Тяжкая была ночь… Все вокруг плыло и качалось, и до сих пор слышала она свой голос, гулко отдававшийся в пустой комнате: «С кем я ее пить-то буду, господи!» Хотя тревога эта, как оказалось потом, была совершенно напрасной: к весне от двух ведер осталась всего одна бутылка…
Бона отложила сечку и пошла за ней. Та хранилась в самом нижнем отделении буфета, среди других бутылок и банок, чтобы не лезла на глаза, не напоминала о себе, но рука быстро нащупала ее. В полумраке комнаты раздалось негромкое бульканье.
И тогда опять схватило сердце, опять показалось, что не хватает воздуха, что в углах комнаты притаилась тьма; она решила, что пришел ее последний час, и бросилась отворять окна и зажигать все лампы, какие только были в доме.
Когда всюду стало светло, а в комнаты хлынул прохладный вечерний воздух, она успокоилась. Включила радио, села на свою пружинную кровать, еще немного отхлебнула из бутылки и решила, что лучше всего сейчас лечь спать. Ноги обвевало приятным холодком.
А чуть погодя придет за бердом бабка Йордана, заглянет в комнату, прикроет Бону одеялом и, затворив все двери и окна, загасив свет, бесшумно уйдет со двора.
*
К концу июня виноградники на Чукаревце уже в четвертый раз опрысканы, и листья у них синие от медного купороса и гашеной извести.
Весь холм издали кажется синим — редкая краска на земной палитре. Одним эта синева могла напоминать кусок летнего неба, другим — необычное море с темно-зелеными островками черешневых деревьев. Но для крестьянок Юглы синий холм был лишь кручей, по которой надо втаскивать на коромыслах раствор, взбираться с опрыскивателями на спине, пошатываясь из-за того, что в их медных резервуарах перекатывается жидкость.
Летний день, начавшийся с этого прозрачного утра, с блеска росинок на траве и восторженных возгласов иволги, потеряет свое очарование, стоит лишь вступить в виноградник.
Впрочем, осла Минко и буйволицу Средану этот летний день уже давно перестал восхищать: они тащили вверх по крутой тропе воду для раствора.
Буйволица была впряжена в настоящую телегу, только вместо конского хомута на ней было деревянное ярмо, специально сделанное по ее шее. Тропа была сухая, утоптанная, но на телеге поплескивали водой два бочонка, и Средана с трудом передвигала ноги. Позади раздавались голоса Таны и хозяина, Тодора, время от времени подгонявшего ее стрекалом.
По воскресеньям Тодор всегда ходил на виноградник помогать жене; он шагал сбоку, держась рукой за грядку телеги, чтобы почувствовать, когда Средана начнет уставать, и помочь ей.
Хорошо, что помогает, — буйволица это понимала, но не могла ему простить, что у него в руках эта заостренная палка…
Позади погромыхивала тележка Минко. Бабка Йордана тянула осла за повод, а Жела, Ганета и Ощипанная Бона несли почти весь груз на коромыслах, чтобы ему было полегче. В кузове остался один только бочонок, но, видать, ослу и это было не под силу, потому что старуха крикнула:
— Толканите, толканите!.. Мотор-то глохнет!
Женщины налегли и общими усилиями не дали тележке остановиться. В тот день им предстояло еще три раза спуститься к реке и столько же раз опять подняться на холм. И так каждое воскресенье, маленькой своей артелью, с помощью осла и буйволицы они сообща возили воду, делали раствор медного купороса и, взвалив на спину опрыскиватели, ходили между рядами до тех пор, пока не опрыскают все лозы до единой.
У каждого было по десять соток виноградника, все рядышком, так что они оставляли телеги на поляне под дикими грушами и приходили с опрыскивателями за раствором. Бабку Йордану, как самую старую, от опрыскивания освобождали. Ее обязанностью было сидеть возле бочонка и, когда ей подносили опорожненные опрыскиватели, ковшиком наливать в них раствор.
Пока продолжалось опрыскивание, женщины почти не раскрывали рта: тут не до разговоров — надо поспеть управиться до обеда, потому что к полудню зной становился нестерпимым. При первом опрыскивании они управлялись к сроку: листьев еще было мало — только поднесешь шланг, лоза уже окутана синим облаком. Но от воскресенья к воскресенью требовалось все больше раствора, чтобы обдать разросшиеся кусты. А значит, надо все чаще спускаться к реке, чтобы набрать в бочонок воды, и чуть не на себе вкатывать тележку наверх..
С высоты открывалась широкая долина Осыма, где село поблескивало окнами сквозь зеленые купы деревьев. За лугом, вдоль желтых квадратов расцветшего рапса, ровной чертой белело полотно железной дороги, где скоро уже должен был пройти «Спаситель»…
Много поездов проходило за сутки по железной дороге, но женщины отличали только два из них — один подавал им сигнал к обеденному перерыву, другой проходил ближе к вечеру, и с ним наступал конец рабочего дня. «Спаситель» и «Освободитель» — прозвали они эти поезда.
Ручка опрыскивателя проворачивалась все легче. Раздался вздох — это в насосе кончился раствор и туда со свистом ворвался воздух.
Жела завернула кран, посмотрела, далеко ли еще до края — оставалось немного, ряда три, еще разок зарядить — и хватит.
Она пошла за раствором и, спускаясь с холма, увидела вдалеке, в самом конце долины, дымок «Спасителя». Потом показался и сам поезд, который полз робко, бесшумно; когда он приблизился к станции, над трубой паровоза взметнулось на миг облачко пара, а звук долетел несколькими секундами позже.
Возле телег стояла Ганета, уже без опрыскивателя, в кофте, измятой его лямками.
— Я кончила, тетя Жела! — сказала она. — Хоть один-единственный кустик останься, все равно шабаш, мочи нет!
Волосы у нее выбились из-под платка мокрыми прядями.
— Отдохни, — сказала ей Жела. — Пойди в тенек… Мне осталось еще ряда три, а потом пройду взгляну, как дела у Боны.
Она встала к бочонку спиной, и бабка Йордана налила ей раствора, зачерпывая остатки со дна.
Поднимаясь опять к винограднику, Жела почувствовала через платье, как приятно раствор холодит спину.
Она закончила свои ряды и перешла на соседний участок, откуда доносилось пыхтение насоса Ощипанной Боны. Жела двинулась ей навстречу.
— Хорош виноград, — сказала Бона, когда она подошла ближе. — Уберечь бы только.
Она была в одной сорочке, мягкая оранжевая ткань на груди была туго натянута.
— Вдруг какой мужик пройдет… — осуждающе сказала ей Жела.
— Мужик? — фыркнула Бона. — Давненько уже этого слова не слышала. Коли и дальше так пойдет, и вовсе его забуду.
Глядя на ее могучие формы, Жела подумала про себя, что, даже если бы в Югле хватало мужчин, этой женщине было бы нелегко кого-нибудь соблазнить…
— Эх, Бона, Бона! — сказала она. — Наша песенка спета… Есть ли мужики, нет ли — нам все одно.
— Живем, как свиньи оскопленные, — сказала Бона. — Только жир нагуливаем…
Она уже сняла с себя опрыскиватель и одевалась. Оранжевая комбинация выглядывала теперь только в вырез платья.
Под одним из грушевых деревьев, в тенечке, Ганета и бабка Йордана уже разложили принесенные из дому припасы. В ожидании, пока подойдут Тана с Тодором, вымыли руки, полив друг другу водой из бутылей, вытерлись фартуками, а уж потом сели обедать. От медного купороса пальцы так и остались синие, сморщенные.
Обедали всухомятку — зеленый лук, брынза, крутые яйца, перец, яблочный мармелад в пластмассовых коробочках. Только бабка Йордана накрошила в миску хлеба, вынула маленький белый узелок — в нем оказался сахар, — посыпала хлеб сахаром и залила водой. «Сладкая водичка» была летом ее обычной едой.
— Усики на лозах хорошие, — сказал Тодор. — Осенью попьем винца…
Он был единственный мужчина среди них и чувствовал, что должен что-то сказать.
— Только б уцелел! — отозвалась бабка Йордана. — Молите бога, чтобы градом не побило или ржа не напала.
— Ржавчины-то теперь бояться нечего, — сказала Жела. — Она опасна между вторым опрыскиванием и третьим.
— Ну, беда приспеет — наперед не скажется, — произнесла Тана. — Позапрошлый год — помните? Самый сбор винограда, а тут ливни как зарядят!.. Все ягоды полопались, заплесневели… Вино получилось никудышное.
— Вино никудышное, зато ракия — огонь! — проговорила Бона. — Я тогда семьдесят кило сахару заработала — все ушло на подогретую ракийку…
— И ничего тебе не сделалось? — Женщины покатились со смеху.
— Ничегошеньки! Всю зиму чайник не снимала с печи — пью ее горяченькую да свининой закусываю. Мы тогда кабанчика зарезали… Так я за всю зиму и не приболела ни разу!
— Ну, сильна! — восхищенно воскликнула Ганета.
— Я и нынче затеяла одно дело… — решила похвалиться Бона. — Так что опять будет чего выпить! У нас перед домом яблонька стоит, ветки обламываются просто… Так я все яблоки порублю… Не жизнь — раздолье!
Она вспомнила, как накануне вечером рубила в корыте яблоки, вспомнила бутылку, вынутую из буфета, лампочки, которые одна за другой вспыхивали в темноте комнат, распахнутые окна, в которые врывался прохладный вечерний воздух. Но на этом ее воспоминания обрывались. Что было дальше? Когда она закрыла окна и погасила свет, когда легла — все это начисто выпало из памяти. Проснулась она с пересохшим горлом, долго пила воду у колодца, прямо из ведра, мыла лицо и только потом отправилась к золовке за опрыскивателем.
«Ведь не помнит, что я укрыла ее, — думала про себя бабка Йордана. — У меня сердце оборвалось, как увидала ее распластанную на кровати… Лучше и не говорить ей, какой ее застала…»
— А в городе ракию из карамели гонят, — сказал Тодор. — Один паренек в поезде говорил, он в «Винпроме» работает… Двадцать тонн, говорит, завезли ее — слипшаяся, в обертках, и прямиком в котел… Подлили немного эссенции — сливовая первый сорт…
— А что особенного? — сказала Тана. Для нее город по-прежнему был мечтой, и она не позволяла бросать тень на свою мечту. — Как же не варить? Двадцать тонн все-таки… По-твоему, лучше выкинуть их было, да?
— Так ведь и выкидывали! — сказала Жела. — Не помните, раз по реке лимоны приплыли?.. Держали их, держали в коммерческих магазинах, никто не покупает, и додержались, пока не сгнили. Частник мигом цены бы снизил. Хоть по пять стотинок скинь — все равно расчет есть.
— Нынче нельзя! — сказала Ганета. — Единые цены небось, государственные, от самого министра разрешение надо…
— Вот-вот, без министров мы ни шагу. А потом целыми ящиками — бух в воду!
Каждый раз, когда она слышала какую-нибудь историю в этом роде, Желу душила злость, досада или чувство какой-то страшной беспомощности, словно речь шла о ней самой или о ее близких, а не о том широком и расплывчатом понятии, которое именуется государством.
— Да будет вам! — сказала бабка Йордана. — Государство — оно, чай, богатое. Если что и повыкидывает, еще много останется.
Она шутила, желая развеять их мрачные мысли, но они-то догадывались, что делает она это больше из-за своих сыновей.
Государством для старухи были ее сыновья, и не хотела она, чтобы их считали неспособными руководителями…
Так, за обедом, потолковали о том о сем, потом собрали вещи, опять запрягли буйволицу и осла и стали спускаться с синего холма к берегу Осыма.
А там, засучив рукава, подоткнув юбки, долго терли лица, отмывали бочки и опрыскиватели.
*
К концу лета в один из воскресных дней по шоссе на Юглу ехал «Москвич», в котором сидели двое. День был жаркий, шины сухо шуршали по пыльному асфальту, петля на задней двери тихо просила смазки.
Приглушенные краски летнего пейзажа, мерный гул мотора, мягкий воздух, дувший в открытые окна, — все умиротворяло и радовало душу, но ехавшие в машине люди с самого утра вели спор, портивший настроение обоим. Они принадлежали к разным поколениям, и в споре их, быть может, таилась все та же проблема отцов и детей, которой, как уже указывалось высокими инстанциями, в действительности не существует.
— По-твоему, — говорил молодой, — надо остановиться за селом, точно мы цыгане какие-нибудь, разбить шатры и ждать?
Старик в ответ кивнул. У него был крупный нос с большими порами и отчетливой сетью лиловых прожилок. Высокий розовый лоб и гладкие щеки скрывали его годы, но зато выдавали профессию: либо повар, либо служащий на скотобойне.
— Людям в доверие влезть — дело, Коста, нелегкое, — проговорил он, решив, что кивок недостаточно ясно выразил его мысль. — Люди теперь с оглядочкой… Их убедить надо, раздоказать…
— Да брось ты! — оборвал его Коста, невольно прибавляя газ. Машина рванулась вперед. — Люди какие были, такие и есть… И хватит тебе философию разводить.
— Да нельзя же с бухты-барахты! — сказал тот, кто разводил философию. — Хоть одного своего человека иметь в селе… Вроде агента… Вот как дела-то делаются.
— Самая лучшая агентура — бабы! — самоуверенно сказал молодой. — Ты положись на меня, сам потом увидишь.
Его спутник примирительно вздохнул и стал смотреть в окно.
Уже синели вдоль дороги сливы, трава изнывала от суши, куропатка вывела на шоссе трех своих птенцов, но, заслышав шум машины, вновь загнала их в придорожные кусты.
— Ты меня слушай, бай Георгий! — сказал водитель. — И тогда мы в два-три дня обстряпаем столько, сколько ты раньше и за месяц не обстряпывал!
— Все времени нет… — произнес бай Георгий, помолчав. — Кабы не требовалось трудового стажа, я бы махнул по селам, как в прежние времена, посмотрел бы ты тогда на меня…
Он не любил хвастаться, потому что при этом невольно вспоминались молодые годы, а от воспоминаний всегда становится грустно.
— Это вы вот ушами хлопаете… — заключил он, рискуя снова вызвать спор.
Но молодой на этот раз согласился с ним.
— Зажали нас здорово, — сказал он, по-прежнему глядя перед собой. — Ни вздохнуть ни охнуть… Я когда на соломе работал, что ни день — ревизоры да контролеры…
Он как-то поработал на прессовке соломы и за один месяц отхватил такую сумму, что весь городок ахнул, а ревизоры всполошились.
— Зависть! — изрек бай Георгий. — Сами-то олухи, заработать не могут и другим не дают… Проклятая жизнь!
— Ладно, ладно!.. — сказал Коста. — Нам с тобой еще грех жаловаться… Другим похуже — вон тем бабенкам, к примеру, которые вкалывают в такое пекло…
На рыжем поле, тянувшемся вдоль дороги, белело вдали несколько косынок.
— Так оно было, так оно и будет! — опять изрек философски бай Георгий.
Молодой предложил затормозить и потолковать с этими женщинами. Он видал в кинофильмах, как это делают ответственные товарищи, крепя связь с массами. Фронтальная атака всегда свидетельствует об уверенности в своих силах, психически действует на противника и не может не привести к победе. Именно эта тактика и была не по душе бай Георгию, из-за нее и шел у них столько времени спор, но старик чувствовал, что ему не устоять под натиском молодости.
Мотор замолк возле обочины. Оба вылезли, захлопнули дверцы, по в отличие от недоверчивых водителей запирать не стали: вокруг открытое поле, машину отовсюду видно.
Услыхав стук дверец, белые косынки разогнулись.
— Может, портфель захватить? — сказал бай Георгий. Ему казалось, что с новехоньким портфелем из свиной кожи они произведут на женщин лучшее впечатление. Но Коста сказал, что это будет грубой ошибкой. Крестьянам осточертели приезжие с портфелями. Если хочешь расположить их к себе, шагай прямо по кочкам, не разбирая дороги, посвистывай и сам с собой разговаривай вслух, чтобы не приняли за начальство.
— Надо держать себя как можно проще! — сказал под конец Коста.
Перескочив через обочину, они зашагали между рядками свеклы, сходившимися вдали — там, где работали женщины. Сухая ботва, покрывавшая землю, потрескивала у них под ногами. Коста — впереди, прямой, стройный, кудрявые волосы блестят. За ним, тяжело ковыляя, — бай Георгий.
Женщин было пятеро, с каждым шагом все легче становилось их разглядеть.
Первой бросалась в глаза толстуха, у которой платье задиралось на животе, потом старуха в старинном темном сукмане. Одна из женщин была высокая, худая, с лицом темным, как сухой свекольный лист. Другая — уже не первой молодости, но еще ничего. А самой молодой — лет тридцать, стройная, сдобная деревенская красавица.
Они стояли, опершись на двурогие вилы, которыми выкапывали свеклу, и смотрели на приближавшихся мужчин.
— Небось думаете, опять начальство пожаловало? — крикнул Коста, когда оказался шагах в десяти от них. — Бог в помощь!
Женщины усмехнулись на это позабытое приветствие, но ответить — ответили, продолжая пристально рассматривать и молодого и его спутника.
Сконфуженный их взглядами, бай Георгий откашлялся.
— Не начальство мы, — продолжал Коста. — А вот поглядим, кто из вас отгадает, что мы за птицы… Награда — пять левов!
— Да у тебя, видать, денег куры не клюют! — отозвалась толстуха и назвала фамилию одного министра. Женщины покатились со смеху.
— Ну, вы скажете… — развел руками Коста. — Неужто я похож…
— А я так думаю, вы из ансамбля какого-нибудь, — сказала высокая. — Ты небось на кавале играешь, а твой товарищ — на гайде.
— Тетя Тана! — с укором взглянула на нее молодая. — Люди обидятся…
Хотя в брюнете и впрямь было что-то эстрадное, ей нравились его ладная фигура, широкая грудь, вьющиеся волосы. Она уже успела приметить, что и он поглядывает на нее с интересом.
— Значит, на артиста смахиваю? — засмеялся парень и обернулся к своему товарищу. — Убила она меня, бай Георгий!
— Да кто вас знает! — снова сказала высокая. — К нам теперь другие и не заглядывают. Я решила, что вы тоже…
— Мы на сценах не играем! — сказал Коста. — Наша сцена — жизнь!
Но тут же подумал, что хватит, пожалуй, морочить им голову и злоупотреблять терпением. Того и гляди спохватятся — работа, мол, не ждет, некогда лясы точить — и опять возьмутся за вилы. Нюх массовика подсказывал ему, что ни в коем случае нельзя доводить до этого.
— Шутки в сторону!.. — сказал он. — Разрешите представить вам этого товарища…
И, отстранившись, заставил женщин опять взглянуть на бай Георгия. Старик вымученно улыбался и не знал, куда девать руки. Он ругал себя, что послушался Косту и оставил портфель в машине. В голове у него вдруг мелькнула дурацкая мысль: отобрать вилы — ну, например, у той старухи — и приняться за свеклу, рыть ее, рыть… Он привык работать и предпочитал что-то делать, чем вот так переминаться с ноги на ногу, не зная, куда девать руки…
— Перед вами крупнейший специалист по вермишели! — сказал Коста. — Хотите — верьте, хотите — нет, только я врать не обученный…
— Да будет тебе… — Старик чувствовал, что пора и ему открыть рот.
— Не считаю нужным рассказывать вам о значении вермишели, как таковой, — продолжал Коста, обводя женщин взглядом. — Хозяйки лучше моего знают, что такое суп без вермишели. Верно я говорю? А бай Георгий, кулинарных дел мастер, изготовляет такую вермишель, какую можно сыскать лишь в столице мучных изделий — солнечной Италии!
— В магазине вермишели — завались! — произнесла толстуха, исполненная недоверия.
— А ну, спорим! — сказал Коста. — На пять левов! Только смотри, проиграешь, потому что с весны в вашей округе вермишель — товар дефицитный!
Женщины молчали, и каждая пыталась вспомнить, когда в последний раз спрашивала в магазине вермишель. В Югле был только один магазин, где продавались все товары, и не было дня, чтобы они туда не забегали, но сейчас ни одна не могла сказать ничего насчет вермишели. Только высокая вскинула брови и наморщила лоб:
— И вермишель тоже?
— Такова ситуация, — сказал Коста. — И она сохранится до конца текущего года, потому что у нас предприятия работают по плану. Поскольку план по вашему округу выполнен еще в первом квартале — будете ждать до следующего года!
Тут женщины разворчались по поводу всяких кварталов и планов, из-за которых до конца года не будут привозить вермишели, и по адресу снабженцев, которые сами-то вряд ли знают, что такое незаправленный суп…
Коста улыбался, довольный, что нащупал тему, которая их волновала.
— Но на всякую хворь есть свое зелье! — сказал он, дав им выговориться. — Потому-то я и привез к вам бай Георгия, самого что ни на есть лучшего специалиста…
— Да ладно тебе нахваливать-то… — сказал тот, заливаясь краской.
— Один лишь бай Георгий может спасти положение.
— А вы сколько за кило берете? — спросила старушка. — Кто вас знает — может, заломите бог знает сколько.
— Ни в коем разе! Плата умеренная, почти задарма!
— Я только за работу беру! — вмешался бай Георгий. — Продукты ваши. Муки малость, яйца, ежели кто хочет. На кило — три штуки…
— И самое главное, — сказал Коста, — наша вермишель не отдает машиной… У фабричной всегда запашок, а у нашей — нет, потому что пресс ручной!
Он видел, что женщины слушают его, и решил, что пора переходить к деталям: сообщил, сколько на килограмм вермишели надо муки и сколько это будет стоить, сравнил с государственной ценой, ввернул еще разок насчет Италии и про пользу мучных изделий. На него нашло необыкновенное красноречие, потому что молодая смотрела на него влажным взглядом и два раза провела языком по губам. Он вспомнил, что когда учился в восьмом классе и уже стал заглядываться на девчонок, один старшеклассник много ему про это говорил. «Если облизнулась — самый верный знак…»
— А свидетельство у вас имеется? — спросила женщина, у которой было строгое лицо. Она все время стояла чуть поодаль и не вмешивалась в разговор, но Коста давно приметил в ее серых глазах недоверчивый огонек. Поэтому вопрос о свидетельстве не был для него неожиданностью.
— Хорошенькое дело! — сказал он. — С какой это радости нам врать? У нас все имеется. Даже справка от санэпидемстанции. Но все-таки главное — дело! Не понравится вам наша продукция — пожалуйста! Оплачиваем стоимость сырья. Все тютелька в тютельку, как в аптеке!
Это звучало убедительно, и вопросы прекратились. Первой дала согласие старуха, потому что подумала, что вермишель — это как раз по ее зубам. Будет из нее суп варить, а можно и отдельно, с сахарком, если захочется сладенького. Вермишели запасти — это не худо. Она в этот год все никак не могла собраться наделать лапши впрок — вот вермишель как раз и сгодится.
Старуха сказала, что готова пойти хоть сейчас — только осла отвяжет.
И молодая тоже ничего не имела против, дома у нее было немного муки и прочих продуктов — отчего не посмотреть, что из этого выйдет…
Возник спор — а с работой как быть, как вернуться в село раньше времени? Коста сказал, что в это дело не вмешивается, пускай сами решают, у них с бай Георгием время есть, потому — их работа не волк, в лес не уйдет.
Женщины сказали, что и свекла тоже никуда не денется. Все одно грузить некуда — на станции вагонов нету, целые кучи ее третий день сохнут на солнце, да, в конце концов, не может женщина, у которой хозяйство на руках, все в поле да в поле торчать, надо немного и о доме подумать.
— Пошли! — сказала толстуха. — На сегодня хватит!
Она воткнула вилы в землю, отряхнула платье и, развязав концы платка, надвинула его на глаза, а потом оттянула назад, чтобы пригладить волосы.
Вслед за ней и остальные воткнули вилы в землю.
— Так тут и оставите? — спросил Коста. — Хоть листьями прикройте, вдруг кто мимо пройдет…
— Никто их не тронет, парень! — сказала старуха. — Такого у нас еще в селе не бывало, чтобы вилы украли или мотыгу…
Женщины двинулись к краю поля — там лежали кошелки и маячила неподвижная фигура осла. По дороге они рассказали приезжим, что вообще-то работают на огородах, но дней на десять их перевели на свеклу, а потом они опять вернутся к своим грядкам. Уборка свеклы, по их словам, была делом не легким — весь день покланяйся эдак-то, руки и поясницу разламывает, а вечером, как циркулем обмерят, меньше одного трудодня выходит, восемь десятых! Потому-то они сейчас и бросили работу с легкой душой…
— Я знал, что мы с вами поймем друг друга! — сказал Коста. — Женщины вообще народ толковый. Голову даю на отсечение, что если б женщин выбирали в президенты, сроду б никаких войн на свете не было… Верно я говорю?
Молодая с улыбкой смотрела на него, и губы у нее были влажные.
*
Тесто извивалось в сильных руках бай Георгия, оно уже стало тугим, упругим, но он продолжал месить. Весь фокус в этом самом замесе, — объяснял крестьянкам его ассистент. — Плохо замесишь — и вермишель в супе размякнет, разварится.
Бай Георгий надел на голову белый накрахмаленный колпак, высоко закатал рукава халата, и у него вправду был вид настоящего кулинара.
Женщины стояли в трех шагах от квашни и с любопытством наблюдали за каждым его движением. Давненько уж не приходилось им видеть мужчину за такой работой. Раньше-то, когда мужья жили дома, они поручали им перед пасхой месить тесто для куличей. Для куличей тесто месят долго, и руки нужны сильные. Мужья вставали на заре и, закатав рукава, старательно вымыв руки, неловко брались за желтое поднявшееся тесто. Своей мягкостью тесто напоминало им женское тело, их пальцы возбужденно ощупывали его, а потом принимались мять, крутить, вертеть, давить кулаками, пока оно не превращалось в упругий, ловкий мяч, норовивший выскользнуть из рук. Тогда мужья расправляли спину и отходили в сторонку, а женщины заворачивали тесто в чистую салфетку и относили в пекарню.
— Готово! — сказал бай Георгий, оттирая от рук тонкий слой прилипшего теста. — А теперь можно и приступать.
Пресс стоял на столе, под металлическим решетом белела разостланная газета. Бай Георгий посыпал решето мукой и положил первый ком теста, а Коста крутанул ручку. В отверстиях решета показались нити, точно личинки из медовых сот. Они стали вытягиваться, вытягиваться, бай Георгий ловкими движениями скрутил их восьмеркой и резанул ножом. Изготовление вермишели началось.
Женщины уверились, что этот человек знает свое дело, и побежали по домам за мукой. Немного погодя они стали возвращаться с тазами, в которых высились рассыпчатые белые горки, а в фартуках легонько постукивали яйца.
Палисадник перед домом Ганеты, где стоял пресс, скоро весь был застелен газетами, на которых сохла вермишель. Скрюченная свекровь стерегла у проволочной ограды, чтобы не забрела какая-нибудь курица.
Набежали и другие соседки тоже.
Чтобы сэкономить время, бай Георгий показал им, как самим замесить тесто, пока они вдвоем с Костой будут пропускать его через пресс.
К вечеру, возвращаясь из детсада, завернула к ним и председательша.
Она вошла прямой, уверенной походкой в своем репсовом платье с крупными розами по светлому фону; ее рыжие волосы горели под лучами заходящего солнца. Прошла по цементной дорожке и остановилась возле мужчин, вертевших ручку пресса.
«Это еще что за краля?» — успел спросить Коста, заметивший, что женщины при виде крашеной приумолкли. Те шепнули ему, чья это жена.
— Что тут происходит? — спросила крашеная. — Что за артель?
— Артель «Помощь домохозяйке», — отозвался Коста, дерзко посмотрев ей в глаза.
Они у нее были цвета жженого сахара и очень гармонировали с цветом волос.
— Вы от какого предприятия? — спросила председательша, и по всему было видно, что вслед за тем она потребует документы.
— Может, вам документики предъявить? — опередил ее Коста. — Диплом лучшего специалиста страны по вермишели, обладателя почетной серебряной медали второго национального съезда работников пищевой промышленности. Может, вас интересует также справка санэпидемстанции и открытое письмо института питания?
Он улыбался, зная, что никаких дипломов, почетных медалей и открытых писем нет и в помине, но он был уверен, что она не решится потребовать их.
— Я только спросила, — сказала председательша, отводя глаза. — Проверки — это по части моего мужа. Но он сейчас в городе. А я только так спросила…
— Что же это я? — воскликнул Коста. — Заболтался и забыл познакомить вас. Бай Георгий, познакомься с этой симпатичной дамочкой.
— Очень приятно. Денчева… — сказала председательша.
— Очень рад. А меня зовут Коста!
Он крепко пожал ей руку и стал рассказывать о ручном производстве вермишели, о прессе бай Георгия, обладателе серебряной медали, о том, как он знаменит даже за пределами родной страны и как одна газета (он привел и название ее — «За народный хлеб») однажды поместила его фотографию и небольшой очерк.
— Товарищ Денчева! — сказал в заключение Коста. — Не будем тратить слов попусту. Несите муку, хотя бы один килограмм, и вы сами увидите, какая бывает вермишель. Никакого запаха, идеальная консистенция, и хоть целый день варите — не разварится.
Председательша прошлась между разостланными на земле газетами, рассматривая вермишель. Ей было приятно, что этот молодой парень идет рядом и говорит с нею своим бархатистым басом. Она подумала, что могла бы завтра же пригласить его к себе, если бы кто-нибудь поработал вместо нее в детском саду. Конечно! Одна из поварих вполне может заменить ее. Она останется на весь день дома, возьмет муки получше… Но сначала неплохо бы снова покрасить волосы… Только бы Денчо не забыл привезти новый флакон «колорана», в старом уже почти ничего не осталось…
Она силилась вспомнить, когда красилась в последний раз. Пожалуй, недели две назад, а за две недели краска облезает, в особенности у корней… «Зря я сюда зашла», — подумала она, заметив, что разговорчивый парень, который определенно начал ей нравиться, часто поглядывает на ее волосы.
— Когда муж вернется, — сказала она, — можно перебраться к нам…
— Как прикажете, товарищ Денчева! — сказал Коста. — Мы всегда готовы. Верно, бай Георгий?
Поняв, что дело пошло на лад, старик широко улыбнулся.
— До свидания! — сказала председательша.
Не успела она уйти, как женщины заработали языками.
— Хуже нет, — говорили они, — когда баба считает себя начальницей над всем селом. Глупа как гусыня, в гимназии с первых же дней нахватала двоек, и на том вся ее наука и окончилась. Но везучая — подцепила Денчо в мужья! Тоже — муж называется! Чтобы какая-то дура вертела тобой, как хочет… Смех один!
— Да ладно, все мужья у жен под башмаком сидят! — смеялся Коста. — Думаете, американский президент не сидит? Хоть он и президент…
— Это верно, — согласились женщины. — Но все-таки второго такого, как наш Денчо, вряд ли где сыщешь… Только и знает, что ездить по разным семинарам да конференциям, а заправляет в Югле жена…
Но вот наконец и последний кусок теста пропущен через решето. Бай Георгий разобрал пресс и пошел к колодцу мыть. Женщины, расплатившись, понесли вермишель домой. На дворе стемнело, Ганета зажгла лампу, стала собирать ужин.
— Идите к столу, суп остынет! — крикнула она мужчинам, которые еще не кончили умываться.
По болгарскому обычаю немного поломавшись, гости поужинать согласились, но от приглашения остаться переночевать решительно отказались. Привыкли, мол, спать в машине, к чему стеснять людей, создавать лишние хлопоты.
— Даже и не думайте! — сказала Ганета. — В моем доме вас вечер застал, в моем доме и заночуете. Никуда я вас не пущу. Места много — для всех хватит!
— В «Москвиче», — сказал Коста, — сиденья раскладываются и получается кровать. Ты спала когда-нибудь в машине? Очень даже приятно!
В его словах была двусмысленность, уловить которую могла только молодая женщина. Ганета напустила на себя строгий вид и пошла стелить постель.
Когда она немного погодя повела их в дом, бай Георгий замешкался, снимая в сенях ботинки, а Коста взял ее за руку выше локтя и понял, что она не будет вырываться.
— Вот тут ляжете, — сказала она неестественно громким голосом. — Только бы тесно не было…
— А ты где спишь? — спросил ее Коста.
Она молча показала ему на второй этаж.
— Я к тебе загляну, — шепнул он. — Как только старик заснет. Я не привык ложиться в такую рань!
«Господи! — подумала она. — Те же повадки, что у того, в нейлоновой рубашке. Неужто я всем мужикам кажусь такой потаскухой?»
Она хотела показать ему, что обижена его самоуверенным тоном, но не успела, потому что старик наконец скинул ботинки и был уже у двери.
— Красота! Красота! — произнес он, оглядывая комнату, застланную новыми половиками, увешанную ковриками и яркими обложками журнала «Женщина сегодня».
От желтых оконных рам шел слабый запах олифы.
Гана пожелала им покойной ночи и ушла.
*
Окно было открыто, и они слышали, как затихали ее шаги во дворе. Слышали, как она о чем-то разговаривала со свекровью, как подошла к воротам и щелкнула ключом, как потом принялась на крыльце мыть ноги сонно хныкающему сыну.
— Проворная баба! — сказал бай Георгий. — Одна со всем хозяйством управляется.
— У-гу! — пробормотал Коста, делая вид, что засыпает.
— А как ты думаешь, эта крашеная, не устроит она нам какой пакости?.. Раз у нее муж в…
— Хватит тебе, спи! — сказал Коста. — Не забивай себе голову ерундой…
Старик замолчал, в голове у него прояснилось, и вскоре сосед услыхал его храп. Чтобы увериться, что он спит, Коста привалился к нему спиной, храп стал прерывистей, потом снова перешел в равномерный. И так будет продолжаться до утра.
Теперь Коста мог встать и спокойно надеть свои брюки из плащевой ткани. Чтобы не потревожить старуху, спавшую по соседству, он решил не открывать двери, отодвинул занавеску и перемахнул через окно. Наружная лестница вела в комнату Ганеты. Он зашагал вверх, стараясь ступать как можно тише. Ее окно тоже было открыто. Он заглянул, но внутри было темно, и ему пришлось позвать ее. Послышался звон матрацной пружины, и бледное пятно ночной рубашки обрисовалось в рамке окна.
— Напарник мой заснул, — сказал Коста.
— Ну и что?
— Ладно уж, не притворяйся!
— Чего тебе?
— Пошли, покатаю на «Москвиче»… Я тебя внизу подожду.
— Жди-дожидайся!
Он покрутил головой, прикидываясь рассерженным, и пошел к машине, не закрыв за собой ворот. Сел в машину и стал ждать, уверенный в том, что она придет. Но прошло несколько долгих минут, а ее все не было. «А что, если она и вправду меня разыгрывает? — подумал он. — От этих деревенских всего ждать можно». Он уже было собрался идти спать, как заметил ее силуэт в воротах.
Его подмывало обругать ее, но он сдержался, подождал, пока она сядет рядом с ним, осторожно захлопнул дверцу и повернул ключ зажигания. Разбуженный мотор загудел, и машина тронулась с незажженными фарами.
Вскоре они уже были за селом, фары вспыхнули, хотя все было отчетливо видно в ночи, освещенной тонким серпом зеленоватой луны.
Одной рукой он держался за руль, другой прижимал к себе теплое тело женщины. Ему было приятно, хотя и смешил привычный для него вопрос: «А куда мы едем?» Не все ли равно куда? Достаточно того, что он появился у ее окна, тихонько окликнул, и вот они уже едут. Может, своим вопросом она пыталась заглушить то, что еще сопротивлялось в ней?
«Только бы без сцен!» — подумал Коста, а вслух сказал:
— Ты прямо как маленькая!
— Зато ты большой! — ответила Ганета. — Не воображай, что…
«Начинается», — сказал он себе. Сейчас пойдут слезы, появится мокрый блеск на щеках… И… придется что-то говорить, чтобы осушить этот блеск, а разговоры были ему ни к чему, он предпочитал предоставить слово рукам…
Справа от дороги раскинулся луг с темными стогами свежескошенного сена, и машина словно сама свернула туда. Накренившись, переехала через неглубокий кювет, один из стогов качнулся и пододвинулся к ней. Позади него мотор заглох…
*
Было за полночь, когда Ганета вернулась домой и юркнула в постель к теплому тельцу ребенка. Ей было веселей, чем в тот раз, когда она вернулась из комнаты для приезжих. На миг у нее мелькнуло в голове, что эта веселость не к добру, что легкость, с которой она уступает мужчинам, к хорошему не приведет, но она поспешила отогнать эти мысли. «Богомила нет, мне хочется жить, молодость проходит, будь что будет!» И старалась заснуть, но не могла.
К чему скрывать? Человек, спавший сейчас в комнате на первом этаже, был ей приятен. Он понравился ей еще тогда, когда шел к ним по свекольному полю. Было что-то неотразимое в его плечах, волосах, в его словах, которые лились так плавно. И во взглядах, которые он кидал на нее весь день.
Вспомнился его голос, когда он звал ее у окна, не голос, а скорее шепот. Вспомнилось, как она вышла из ворот, как села рядом с ним и ощутила прикосновение его крепкой руки. А потом был темный стог, еле уловимый запах бензина и сена, распахнутые дверцы машины и глубокая тишина ночи, наступившая вдруг. И спокойный разговор — сначала о машине.
— Откуда у тебя столько денег?
— Не так уж и много. Жить надо уметь.
— На вермишели заработал?
— Нет. Вермишелью мы недавно занялись. До этого у нас другая машина была, сахарную вату делали.
— Какую сахарную вату?
— А ту самую, какую на ярмарках продают, людей морочат… Как про нее говорят: «Куснешь — хороша, глотнешь — ни шиша».
Она еще посмеялась: «Куснешь — хороша, глотнешь — ни шиша».
А он сказал, что эта машина, можно сказать, прямо деньги печатала. Но ее у них конфисковали.
— Почему?
— Власть нас не любит… Мы ее слабые места знаем. Чуть чего нету в продаже, мы тут как тут… В этом-то и весь фокус.
— И вермишель делать не разрешают?
— И ее. Но пока хватятся, нас и след простыл…
Потом пришло время возвращаться. Подъехали к селу. На другом его конце светились огни фермы — неподвижные поезда, остановившиеся среди равнины. Фары были погашены, и машина бесшумно проехала по своим прежним колеям.
Когда они прощались у лестницы, Ганета еще раз ощутила вкус его губ, который растаял так же быстро, как та вата на ярмарках.
Ее разбудил разговор мужчин. Было светло, белые стены комнаты излучали слепящий блеск, на дворе, под окном, глуховато бубнил голос Косты:
— Спокойно, бай Георгий!
— Да видел я его, — отвечал другой. — С ружьем был и все вертелся вокруг машины.
— Спокойно, говорят тебе!
— Чудной ты человек! «Спокойно». Что ж нам, сидеть и ждать этого типа с ружьем? Я ж его своими глазами видел!
— Ладно, ладно, — сказал после короткой паузы молодой. — Давай хоть с хозяйкой попрощаемся. Нельзя ж так сразу…
— Времени нет, Коста! Старуха во дворе, скажи ей, что нам надо ехать…
Одеваясь, Ганета слышала, как они прощались со свекровью, как завыл стартер, как хлопнули дверцы.
Она сбежала по ступенькам, но, распахнув ворота, увидела лишь пыльный след автомобиля в конце улицы.
Пыль медленно оседала на землю, шум стихал, и она долго стояла, вдыхая запах отработанного бензина.
Глянув в другой конец улицы, она заметила удалявшегося Дим Боя; из-за его плеча торчало дуло карабина.
*
Кто-то подарил цыганке Эмише милицейский свисток, и по утрам она свистела в него, стоя на площади. Свистела долго, делая небольшие паузы, чтобы перевести дух. Звуки разносились игриво и весело, точно ребятишки играли на новых, только что купленных на ярмарке дудочках. В первые дни цыганка время от времени обрывала свист и кричала, что пора выгонять скотину, но женщины скоро привыкли к новому сигналу и, едва заслышав его, шли к стойлам.
Обойдя дом, Тана остановилась: цепь лежала под яблоней, ремень был порван, буйволицы на месте не оказалось. Больше всего испугало ее то, что буйволица отвязалась давно, похоже, еще ночью, потому что место, где она лежала, успело остыть.
«Люцерна!» — мелькнуло у нее в голове, потому что одна люцерна могла повредить буйволице. Вчера Тана ее скосила, чтобы насушить на зиму, и если буйволица заберется туда, то, не зная меры, так набьет себе брюхо, что может лопнуть.
Тана поспешила на покос и уже издали увидела огромное брюхо. Буйволица лежала в люцерне, и бока ее то поднимались, то опадали, от туго натянутой, лоснящейся шкуры шел пар.
— Что ж ты наделала, негодная! — закричала на нее Тана. — Ненасытная твоя утроба! Ах ты, господи!
Голос ее стал писклявым, она хотела было закричать для храбрости, но поняв, что криком не поможешь, вырвала хворостину из плетня и попробовала заставить животное встать. Хворостина барабанила по тугой влажной шкуре, но все было напрасно.
— Встань, окаянная! — Женщина ожесточилась, и из уст ее посыпались проклятия, брань, попреки. Страх, постепенно охватывая ее, туманил сознание, мешал ей соображать — она металась по колкой стерне, не зная, что сделать, как поднять буйволицу.
Наконец она сбегала за цепью, накинула и принялась тянуть буйволицу. Тянула за цепь и била хворостиной, кричала и лупила хворостиной, хворостиной, хворостиной, пока огромное брюхо не заколыхалось. Буйволица встала на колени, постояла так, чтобы собраться с силами, и пошла, ступая по корневищам люцерны, трещавшим под ее копытами.
Тана волокла ее и старалась припомнить, что делают в тех случаях, когда скотина объестся и у нее так раздуется брюхо. Вспомнила только, что ее заставляют бегать. Гоняют, гоняют, гоняют до полного изнеможения, пока с губ не закапает пена…
Она вставила палку буйволице поперек рта, привязав веревочкой за рога. Теперь казалось, что буйволица улыбается страшной улыбкой, обнажились ее белые десны с прилипшими к ним травинками и зеленый язык.
«И погонять-то ее некому!» — подумала Тана, решив провести буйволицу по сельским улицам и, забежав в сельсовет, попросить кого-нибудь, чтобы вызвали ветеринара из соседнего села.
Неподалеку был дом Желы, и она повернула туда, изо всех сил натягивая цепь. И без того неуклюжая, буйволица сейчас, с тяжелым грузом в брюхе, шла еще медленней, чем обычно.
Заслышав ее крик, Жела вышла на улицу. Она была в меховой безрукавке, в которой с самого утра хлопотала во дворе.
— Керосин! — сказала она, глянув на буйволицу. — Керосин вливала ей?
Тана спохватилась, что забыла про керосин, и побежала домой за пыльной бутылкой, в которой мягко плескалась мутноватая жидкость. Они крепко схватили животное за рога и влили ему в рот немного керосина. В синих глазах его отражались их лица, растянутые расширившимися зрачками. По палке, которую жевали его челюсти, потекла редкая пена, пахнущая керосином.
— А теперь пусть побегает! — сказала Жела. — Если не поможет, то загоним ее в речку.
Она взяла у Таны хворостину, велела ей идти впереди, и они двинулись.
С площади все еще доносился свисток Эмиши, по дворам кукарекали петухи, но они слышали лишь хрип буйволицы и хлопанье по ее бокам.
Миновав несколько улиц, они добрались до сельсовета, и Жела пошла позвонить. Вернувшись, она увидела, что животное снова подогнуло ноги, а Тана тихо всхлипывает возле него.
— Не давай ей лежать! — рассердилась Жела. — Зачем ты ей лечь позволила?
Она снова взмахнула хворостиной, и удары застучали, как дробь по капустному листу. Толчками, пинками, криками им удалось поднять буйволицу, и они повели ее к реке.
Женщины выходили из ворот и старались помочь, кто чем может. Одна из них принесла облупленный кувшин со щелоком, оставшимся после варки мыла. Попробовали влить его, но щелок был густой, буйволица фыркала, и он выливался обратно.
Наконец Тана и Жела вышли на берег, туда, где женщины обычно стирали, сняли резиновые тапочки и полезли в воду искать глубокое место. Но к концу лета река обмелела, по обеим сторонам ее русла торчали сухие камни, и нелегко было найти заводь, в которую можно было бы погрузить по самые рога раздувшуюся, как шар, буйволицу.
Как они ни бились, шар плавал поверху, половина его высовывалась из воды, шкура быстро высыхала, и им приходилось плескать на нее воду пригоршнями.
— Неужели не спасем, тетя Жела? — спросила Тана. — Что ж делать-то, скажи?
— Ничего, еще не поздно, — ответила Жела, стараясь говорить спокойно. — Ветеринар обещался прийти… Бог даст успеет…
Она говорила неправду, в ветлечебнице ей ответил неизвестно кто, вероятно сторож, с трудом уразумевший, что речь идет о буйволице из Юглы. Ветеринара, сказал он, сейчас нет, но когда вернется, то пойдет к ним в село.
Когда это будет, неизвестно. А ясно было, что животному не делалось лучше, брюхо не опадало, дышать ему становилось все трудней, видно, газы сильно давили на диафрагму и в любой момент могли остановить сердце.
Жела вылезла из воды и надела тапочки.
— Ничего не выходит, Тана, — сказала она. — Пойду Парикмахершу позову. Вдруг ветеринар задержится…
*
Дом Минки Парикмахерши был в старой части села, где когда-то находился центр Юглы. Здесь еще сохранилась прямоугольная площадь, некогда посыпанная галькой, а теперь заросшая спорышем, дурманом да желтыми колючками; небольшая лужа возле обвалившегося колодца высохла, и дно ее потрескалось от летнего зноя.
Своей судьбой площадь походила на эту лужу. С той разницей, что осенью, когда начинались дожди, лужа снова заполнялась водой и снова появлялись ее обитатели — утки и гуси, а площади уже никогда не вернуть свою былую славу и царившее на ней оживление. Жизнь села переместилась в другой конец, ближе к шоссе и железной дороге, а здесь остались ветхие домишки, крытые плитняком, полуобвалившиеся каменные ограды, старая сельская школа, пережившая на своем веку столько падений и превращений, попеременно служившая то школой, то сельской управой, то полицейским участком…
Позади лужи, как раз против двери бывшей сельской управы стоял дом Парикмахерши. Это была низкая, крытая турецкой черепицей постройка с одним-единственным приступком у входа. Под крышей на выцветшей охре проступала надпись:
«Парикмахерский салон «Идеал». Ганчо Пе. Стойковъ. 1936».
Судя по всему, открыв свой салон в тысяча девятьсот тридцать шестом году, Ганчо Парикмахер действительно осуществил свой идеал. Помещеньице, названное столь громким именем, было тесновато, но зато на улице у двери стояла скамейка для клиентов. Были здесь и эмалированный таз с выщербленными краями, и махровое полотенце с надписью: «Боже, храни Болгарию!», и деревянные ставни, которые Ганчо открывал по утрам, когда всходило солнце.
Крестьяне еще помнили его: высокий, тощий человек, чуть сутулый оттого, что ему вечно приходилось склоняться над клиентами; он старательно занимался своим делом, но не проработал и десяти лет — схватил гнойный плеврит, от которого ему не суждено было оправиться. После него остались две бритвы марки «Золинген», девочка, ходившая в шестой класс, и жена Минка тридцати семи лет от роду.
Похоронив мужа, Минка года два была парикмахером в Югле, потому что среди прочих дел кое-что переняла и из ремесла мужа. Она была ловка, водила бритву уверенными, точными движениями; в ее характере было что-то мужское, что еще больше усилилось после того, как она овдовела. Все шло как будто бы хорошо до тех пор, пока Минка не начала замечать, что клиентов поубавилось. Несмотря на ее усердие, их становилось день ото дня все меньше. Сначала она думала, что мужчины испытывают неловкость оттого, что ее руки касаются их лиц; потом решила, что, наверно, жены не позволяют им ходить в парикмахерскую (ей случалось слышать кое-какие намеки), но в конце концов поняла, что клиенты не приходят потому, что их вообще уже нет в Югле.
Клиентов не было, а налог был высокий, и ей пришлось закрыть ставни парикмахерского салона «Идеал». На этот раз, кроме двух бритв и эмалированного таза, ей в наследство осталось и прозвище Парикмахерша.
Однако она была женщина стойкая, и беды, обрушившиеся на ее голову, не могли ее сломить. Закрыв парикмахерскую, она поступила работать на птицеферму — кооператив тогда только создавался, птичник еще не был построен, и птицу содержали за селом в старом коровнике. Здесь, в теснотище, среди куриных вшей и запаха сероводорода, Минка научилась выращивать цыплят, кормить тысячи птиц и лечить их от болезней. Особенно удавалось ей лечение. Достаточно было ей встать среди двора и приглядеться несколько минут к курам, как она тотчас замечала, что у одной потемнел гребень или взъерошились перья, что другая качается, стоя на одной ноге, а на глаза ее сползает бледная пленка век. Тогда Минка брала обыкновенную иглу, которой сшивала мешки или нанизывала перец, накаляла кончик ее на горящей свечке и колола птицу под крыльями. Оттуда текла густая, темная кровь. Кроме того, она знала много других средств от болезней, варила травы, подмешивала в корм серный порошок, аспирин или пенициллин, а иногда брала бритву и делала прямо-таки хирургические операции. Однажды у одной из индюшек, которых она разводила у себя дома, засорился пищевод. Зоб у индюшки раздулся, и птица почти подыхала, но Минка выщипала перья у нее на шее, полила это место ракией и уверенными движениями сделала разрез, который потом зашила простой ниткой. Она не видела ничего особенного в этой операции, но в селе долго восхищались ее сноровкой, а из окружной газеты прислали молодого журналиста, который заставил ее битый час рассказывать, как она все это проделала. Через неделю в газете напечатали ее фотографию и очерк, где случай описывался красочно и точно, и только индюшка была названа кооперативной, что очень насмешило женщин. В кооперативе индеек не разводили, и, посмеявшись, женщины решили про себя, что газетам верить нельзя. Корреспондента они все же простили, потому что подумали, что, не напиши он так, его, может, и не напечатали бы…
Как бы то ни было, но за Минкой Парикмахершей утвердилась новая слава лекарши, над которой женщины Юглы порой посмеивались, но, чуть что, спешили позвать…
Кто-то окликнул ее. Минка была во дворе, она прибежала с фермы позавтракать, когда раздался голос Желы. Ей понадобилась одна минута, чтобы схватить бритву, бутылку с ракией и запереть ворота на засов.
И они с Желой побежали к реке.
*
Буйволица лежала на том же месте, неподвижно уставясь перед собой выпученными от напряжения глазами. Вода относила в сторону ее бессильно повисший хвост с пучком белого волоса на конце.
Тана стояла на берегу и не шевелясь, с заострившимся потемневшим лицом смотрела на приближающихся женщин.
— Надо ее вытащить на берег, — сказала Парикмахерша, осмотрев лежавшую буйволицу. Она не ожидала, что животное так сильно раздулось, и почувствовала, что ее обычная уверенность исчезает. Пока они силились вытащить буйволицу из воды, Минка придумывала, как ей избежать того, ради чего ее позвали.
— Не сумею я, Тана! — наконец сказала она. — Буйволица ведь не курица, не овца… Подождем лучше ветеринара.
— Да он, может, и не придет! — сказала Жела. — Что ж нам смотреть, как она мается?
— Боязно мне. Вдруг хуже будет…
— Она же подыхает! — сказала Тана, выходя из оцепенения. — Не вижу я, что ли, что она подыхает! Что бы мы ни делали…
— Может, лучше…
— Все равно подыхает… Не бойся. Коли суждено жить, так поживет…
Минка раскрыла бритву, облила ее ракией, но не решалась подступиться к буйволице, хотя точно знала, в каком месте нужно сделать разрез. Еще ребенком она видела, как дед Алексий Налбантин пропорол бок теленку, пропорол заостренным коровьим рогом, и газы выбились через рог зеленой струей…
«Был бы у меня рог деда Алексия, — подумала Парикмахерша. — Все б меньше я опасалась…»
Но медлить дальше было нельзя, животное опять норовило лечь, они крепко связали ему ноги, и, стиснув зубы, Минка замахнулась — бритва беззвучно погрузилась в чуть заметную ямку.
*
Ветеринар приехал к вечеру. Буйволица кое-как дотащилась до двора, и теперь окровавленная, с опавшими боками лежала на том же месте, где обычно с цепью на шее коротала летние ночи. Снова наступала ночь, но цепи не было, а вытянутая шея бессильно упала на землю.
Ветеринар вылез из пролетки, спросил, где буйволица, и, подходя к яблоне, раздраженно сказал, что у него четыре села и что он не может разорваться на части.
Это был худощавый человек лет сорока, усталый и измученный бессонницей, в простой зефировой рубашке, небрежно заправленной в брюки и расстегнутой на груди. Не спеша он приблизился к голове животного, приподнял пальцами веко, глянул на десны, медленно провел ладонью по его шее.
Женщины, стоя поодаль, молчали. Парикмахерша ушла на птицеферму, и сейчас здесь были бабка Йордана, Тана и Жела. Со скорбными лицами они смотрели на человека, который ощупал животное, выпрямился, достал сигареты и закурил.
— Поправится она, доктор? — не вытерпела бабка Йордана. — Что будет-то?
— Колбаса! — сказал сердито ветеринар. — На колбасу пойдет.
Он курил и смотрел на распростертое туловище животного с засохшей раной в паху, вокруг которой кружились мухи. Женщины понимали, что он что-то обдумывает, и долго не решались ни о чем спросить, боясь помешать.
— Часть содержимого из желудка попала в брюшную полость, — сказал ветеринар. — И теперь перитонит обеспечен. Пункцию надо делать, а не так, как вы… бритвой! Кто ж вам виноват!
— Минка не виновата! — вступилась Тана. — Это я ее упросила. Она не хотела, а я…
— Подыхала ведь, доктор, — сказала Жела. — На глазах прямо подыхала, что ж глядеть, как она мучается?
— В том-то и дело, что все равно околеет, — ответил ветеринар. — Инфекцию занесли. Теперь, что бы я ни сделал, поздно… Одно остается — прирезать!
— Ох, не говори! — вскрикнула бабка Йордана. — Здоровую скотину, и вдруг ни с того ни с сего…
— Так уж ей на роду написано, бабушка! Самое большее до утра доживет. Так что смысла нет…
Он выкурил еще одну сигарету и двинулся к пролетке, женщины шли за ним, словно надеялись, что он изменит свое мнение.
— Несчастный случай! — сказал ветеринар, беря кнут. — Я составлю протокол, может, по страховке хоть немного дадут. А ждать больше, по-моему, не стоит…
Он избегал смотреть в глаза хозяйки, потому что заметил, как они наполняются слезами. Занимаясь своей профессией, он огрубел и стал равнодушен к страданиям ближних, но все же где-то глубоко под коркой этой грубости и равнодушия таилась жалость. Он был сыном крестьянина и болгарином, а в каждом болгарине живет что-то от Боне Крайненеца[3].
— Но-о! — крикнул ветеринар и рассек кнутом воздух.
Женщины постояли на улице, пока пролетка не скрылась из глаз, и снова вернулись к яблоне, где едка дышала обессилевшая буйволица.
Тогда Тана опустилась на колено у ее морды и заголосила, как голосят крестьянки на кладбище, над черными могильными холмиками. Но хотя в глазах ее стояли слезы, ни одной слезинки не пролилось, и она не плакала, а причитала, выкрикивая громко и напевно слова, полные боли и муки, которая копилась капля по капле и теперь выливалась прорвавшимся из души потоком.
Женщины слушали рассказ о том, как четыре года назад Тодор пошел в среду на базар и привел буйволицу, которую назвали Среданой; как все ей радовались, словно в дом вошел новый человек; как вскопали участок на задах и засеяли его люцерной, чтобы всегда для нее была свежая люцерна, и как из-за этой-то люцерны они лишились Среданы.
— Ну, хватит, Тана, хватит! — тронула ее за плечо Жела. — Слезами горю не поможешь…
— Оставь ее, — сказала бабка Йордана и отерла глаза концом платка. — Пусть выплачется.
Жела и Ганета повели хозяйку в дом, а она, всхлипывая, все спрашивала, что ж теперь делать, Тодора нет, а если его ждать, то буйволица, того гляди, сдохнет у них на глазах.
— Схожу-ка я домой за ножом, — сказала Жела. — Знаю, что тебе ее жалко, но что ж, лучше, чтоб она околела?
— Делай что хочешь, тетя Жела! — сказала Тана, успокаиваясь. — Хорошо, что хоть вы здесь. Что б я без вас делала?
— Может, Милора позвать? — сказала бабка Йордана. — С мужчиной-то все же спокойней.
Все согласились, что было бы хорошо, если б пришел хоть один мужчина, но где сейчас найти бригадира?
— Я загляну к ним, может, он дома… — предложила Жела. — А нет, так и без него обойдемся.
Через полчаса во дворе уже горел костер, покрывая копотью черный котел, стоявший на двух продолговатых камнях, под который бабка Йордана непрерывно совала сухие стебли подсолнуха.
Возле лужи запекшейся крови женщины, присев на корточки, осторожно снимали ножами со Среданы ее черную шкуру. Делали они это умело, с привычной сноровкой, говорили о всяких пустяках, о чем угодно, только не о буйволице, с которой маялись целый день, стараясь ее спасти, и которую теперь свежевали ножами.
Ножи скоблили упругую шкуру, воздух был полон запаха свежей крови и дыма, который поднимался от горящего подсолнуха и заволакивал весь двор.
*
Каким долгим был этот день! Как давно свистела в свой свисток Эмиша, как давно загоняли они буйволицу в реку и Парикмахерша подходила к ней со своей острой бритвой.
На дворы уже спускался сумрак, стебли подсолнуха превратились в мягкий пепел, женщины устало сидели за столом, на котором краснела мясорубка, а вокруг на деревьях были развешаны свежие колбасы.
Все кончено! Утром было смирное неповоротливое животное с серповидными рогами, теперь его уже нет. Осталось одно воспоминание да висящие на сучьях колбасы.
— Пошли, что ли! — сказала Жела.
— Погодите! — остановила их хозяйка. — Никуда я вас не пущу. Сегодня вы мои гости.
— Да нет, Тана, пора… Скотину надо встречать.
— Посидите немного и пойдете! Поужинайте у нас. Столько мяса…
Она загородила им дорогу, умоляла, настаивала и не отступилась, пока они не пообещали, что вернутся. А они пообещали потому, что скоро должен был прийти Тодор и не стоило оставлять ее с ним с глазу на глаз.
Поджидая их, Тана густо посыпала шкуру буйволицы солью и купоросом, чтобы не испортилась. Но не успела она с этим покончить, как увидела во дворе мужа. Он стоял с мрачным видом и курил.
— Видишь, что мы наделали? — сказала Тана, подойдя к нему. — Погубили животину.
Сумерки сгущались, и огонек его сигареты казался все ярче.
Наконец он выругался. Обругал то, чему не знал названия и не ведал, где оно скрывается, но что витало над его домом и каждый день старалось ему навредить. Для иных это был рок, но он не знал этого слова, — для него оно оставалось чем-то, что не позволяло ему курить, что мешало ему получить прописку в городе и что погубило их буйволицу.
— Ах, мать его! — сказал он, затоптав обжегший ему пальцы окурок. — Но ничего! Поживем — увидим!
Больше он за весь вечер не обронит ни слова. Будет сидеть с краю стола, пить вино и курить, курить, курить, пока пачка сигарет в его руках не опустеет и не сожмется в комок…
На улице послышались голоса — это возвращались женщины. Они несли вино, бутылки с ракией, фартуки их были полны огурцов и помидоров, а бабка Йордана тащила арбуз, выросший у нее на огороде.
Они уселись вокруг двух сдвинутых, покрытых газетами столов; на костре в кастрюле булькал фаршированный перец, на сковородке аппетитно потрескивали куски колбасы. Бутылки переходили из рук в руки, голоса стали бодрей, гнетущее настроение, не покидавшее их весь день, рассеивалось, как дым Тодоровой сигареты.
— Выпьем и поедим! — кричала хозяйка, разогревшаяся и осмелевшая после первых же глотков ракии. — Что нам остается? Ешьте и поминайте Средану!
— Были бы вы живы-здоровы, Тана! — успокаивала ее бабка Йордана. — Скотину-то купишь, человека вот не купишь…
— Хватит с меня! Ничего мне больше не надо. В город переберусь. Ну, Тодор, скажи, возьмешь меня в город? Не везет мне в этом проклятом селе…
А муж сидел с краю, запахнувшись в свой дешевенький пиджачок, молчаливый и уже пьяный.
— Нет, город не по мне! — призналась Бона. — Не могу я жить, когда кругом столько народу. И все по часам. Куда ни пойдешь, все по часам… Не по мне это!
— Дело твое, — сказала Тана. — Не нравится, оставайся тут, в этой грязюке и жарище. Копай, сажай, поливай перец и покупай потом по двадцать стотинок, а я его там за десять покупать буду…
Это было верно. Уже несколько лет, как правление кооператива, чтобы повысить плату за трудодень, ввело такой странный порядок. Цены на сельскохозяйственные продукты были в селе гораздо выше, чем в городе. И получался порочный круг: крестьяне выкладывали деньги из своего кармана, чтобы больше получить в конце года.
— Было б в городе лучше, — продолжала спорить Бона, — то Петко купил бы там себе дом, а не стал бы каждый вечер сюда на «Волге» ездить.
— «Волга» казенная, потому и ездит, — сказала Жела.
Петко, бывший председатель их кооператива, несколько лет назад «выдвинутый» на пост заместителя председателя окружного народного совета, действительно жил в селе, и каждое утро за ним приезжала зеленоватая «Волга», отвозила на работу, в его кабинет, а вечером привозила домой.
«Важная шишка!» — потешались над ним в селе и при нем подсчитывали, сколько бензина идет на восемьдесят километров, чтоб ездить каждый день по два раза из Юглы в город и обратно. Но он невинно улыбался или с несокрушимой логикой поговорки «Дают — бери, бьют — беги» отвечал: «Положено, вот и езжу!» Что они могли на это ответить? На такого добродушного человека и сердиться-то трудно! И они только махали рукой, уверяясь в том, что в этом мире есть какая-то сила, которая благоволит к одним и немилостива к другим. Та безымянная, невидимая, неуловимая сила, которую они могли обругать, как обругал ее в этот вечер Тодор, но были бессильны побороть.
— Будь что будет! — сказала Ганета. — Выпьем! За всех мужиков, хоть наших, хоть казенных! Тетя Жела, ну его к черту, спой-ка лучше песню… Нам мира не переделать!
Тана принесла с костра новую сковородку колбасы, поджаристой, с плотной корочкой, блестящей от жира. Развеселившиеся женщины выпили еще, а Жела затянула их любимую старинную песню, которую слышала от матери. Эта песня болгарской крестьянки с бесхитростными словами о любви и разлуке, об увядших цветах и темных тучах в небе была грустна, но полна веры, потому что та, что сложила ее, верила, что все перенесет — ведь только сильному духом дано выплакивать свое горе в песне…
— Пьют да поют! — послышался из темноты мужской голос — А потом слезы начнут лить.
Это был Дим Бой. Он стоял, засунув пальцы за ремень своего карабина. Позади него раздались шаги, кто-то подошел к нему, и лампа над дверью осветила лицо бригадира Милора.
— Вечер добрый! — сказал сторож. — Идем мы это с заседания, бригадир и говорит: давай наших баб проведаем… Твой голос издалека слышно, Жела!
Тана пригласила их к столу, налила им вина, положила закуски. Дим Бой не заставил себя долго просить — повесил карабин на стул и наклонился к тарелке. Но бригадир был задумчив и не притрагивался к еде.
— Будь здоров, Милор! — крикнула Бона. — Давай чокнемся, голубчик…
И потянулась к нему своей рюмкой. Он неохотно усмехнулся, рюмки их соприкоснулись, но, прежде чем отпить, он сказал:
— Выпьем, коли хочешь…
— Что-то ты невеселый какой? — посмотрела на него Жела.
— Да так! — сказал он. — Не будем об этом…
— Не пугай баб! — сказал ему Дим Бой, подбородок которого уже замаслился. — Ничего страшного, как-нибудь утрясется.
— Что это вы шушукаетесь! — сказала Жела, и гомон немного утих. — Опять чего-нибудь выдумали на своих заседаниях?
— Да нет! — ответил Милор. — На этот раз сверху… И мы против, да…
Он заметил, что все смотрят на него и ждут, что он скажет. Отпил немного и объяснил:
— С самого обеда заседаем… Пока вы меня искали, я на заседании сидел. И до сих пор… ох, и жаркий шел спор. Наша «шишка» прикатила разъяснять, но мы его в такой оборот взяли — всю ночь спать не будет…
— Господи! — тихо сказала бабка Йордана. — Опять…
— Опять! — сказал бригадир. — По двести тридцать килограммов зерна велено давать на человека! Хоть две тонны заработай, получишь двести тридцать кило… Остальное деньгами. И все тут!
— Хорошее дело! — сказал Дим Бой. — Мешки на мельницу не возить, клади деньги в карман, а хлеб нужен — так на то пекарня есть!
Женщины не сразу поняли, что кроется за этим новшеством. Вроде все было к лучшему: чем терять время на мельнице, удобнее покупать готовый хлеб в пекарне. Впрочем, они уже привыкли к тому, что сдавали муку, получали взамен талоны, а по ним каждый вечер — теплые белые караваи. Но постой, постой… А отруби? Чем они будут кормить кур и поросят? Кооператив не обеспечивал кормом скотину, которая была в личном пользовании крестьян, стало быть, нужно будет покупать на рынке, а там цены в два-три раза выше… На рынке! Им и торговать будет нечем! Конечно, то, что сверх нормы, будет оплачено, но по государственным ценам. На рынке каждый выручил бы больше…
— Это Петко, «шишка» выдумал! — вскинулась Бона. И все согласились, что это его рук дело. Один Дим Бой попытался его защитить и сказал, что пришла бумага и что она касается всех сел, а не только Юглы. Петко приехал лишь разъяснять, как в прошлом году он разъяснял постановление о налоге на виноградники. Но налог был отменен той же осенью, и женщины сказали:
— Авось будет, как в прошлом году!
Бригадир слушал их, подперев голову рукой. К концу лета вино уже перебродило, и хотя выпил он немного, но чувствовал, что голова у него закружилась. Все больше одолевала его усталость, осаждали мысли о недавнем заседании. Петко-то даже пот прошиб… Будет он помнить это заседание. Да, как же, будет он помнить, как помнит, что отец его был бедняком, ковырял деревянной сохой землю и завязывал деньги в платок — копил, чтобы отдать сына в гимназию. Чтоб тот выучился и забыл, что значит крестьянский труд! «Не по государственному рассуждаете! — разорялся он. — Личные интересы защищаете…» «А мы что — не государство? — спрашивали они. — Государство, что сноп, из колосьев состоит… Мы его колосья, есть у нас, есть и у государства!»… «Разговорчики! — крутил он головой. — Государству хлеб подавай, а не разговоры».
— Сказать по правде, — заявила Бона, — я-то спокойна… Я свое зерно сполна получила. Пусть у того голова болит, кто не получил!
Оказалось, что все уже получили. Зерно роздали с месяц назад, в конце уборочной, на трудодни, выработанные за первое полугодие. И не было никого, кто получил бы меньше, чем по двести тридцать кило. Даже одинокая старуха бабка Йордана привезла на своей тележке пять мешков по четыре ведра в каждом. Она быстро прикинула в уме, смекнула, что взяла на семьдесят килограммов больше, и спросила бригадира, что же теперь делать.
— Вернешь, — сказал Милор. — Иначе возьмут с тебя по шестьдесят стотинок за килограмм.
— Это уж ни на что не похоже! — воскликнула Бона, — На рынке кило — сорок стотинок, а мы будем платить по шестьдесят… Где же это слыхано!
— Не может быть! — сказала Жела. — Стращают только…
— Плохо они нас знают! — Бона ударила кулаком по столу так, что рюмки подскочили. — Ничего я им не отдам! Ни зернышка!
Платок у нее сполз с головы, открыв волосы, небрежно причесанные и подхваченные заколками. Лицо ее разгорелось от вина и какого-то внутреннего огня, который бушевал во всем ее крупном теле, едва вмещавшемся в ситцевом платье.
— Будь здорова, Бона! — крикнула Тана и подлила ей вина. — И ты городская станешь! Как дело пошло, ты тоже в город сбежишь…
Она встала, чтобы долить гостям вина. Стол уже был заставлен посудой, усыпан объедками, крошками хлеба, на газетах проступали масляные пятна и похожие на печати круги от бутылок…
— Я пошел, — сказал Милор и поднялся. Сторож украдкой дергал его, потому что одному ему неловко было оставаться. Но Милор отвел его руку и вышел, медленно растворяясь в темноте. Он слышал за своей спиной голоса женщин, скрип стульев, звон посуды и изредка удары женских кулаков по столу…
Ворота за ним захлопнулись; на улице было темно и тихо, он шел легким шагом, и ему казалось, что он идет бесконечно долго, что дом его бесконечно далеко, что не успеет он дойти до дому, как ночь кончится, станет светло и ему опять надо будет идти в поле, где его столько раз заставал рассвет, где прошла вся его жизнь в нескончаемой борьбе за хлеб… за хлеб, который никто не имел права у него отобрать…
*
— Никто не имеет права у меня его отобрать! — сказал он, открывая дверь и щелкая выключателем.
Жена подняла голову на кровати, стоявшей в углу, одеяло сползло, открыв широкий вырез ее ночной рубашки, в котором были видны ее увядшие груди и худая морщинистая шея. Пристально посмотрела на него, потом кивнула, чтобы не шумел: на металлической кроватке с сеткой спал сынишка их дочери.
Милор вышел в коридор и стал раздеваться. Ему было приятно расстегивать одежду, снимать с себя одно за другим, ощущать хранящийся в складках одежды запах собственного тела и холодок, обливающий кожу.
— Есть хочешь? — услышал он голос жены. Она вышла вслед за ним.
— Нет.
— Тогда ложись спать.
Он ничего не ответил, только махнул рукой: «Иди спи!»
— Весь вечер тебя ждали, — сказала она. — Мальчонке хотелось поиграть с тобой…
— Знаешь ведь, где я торчал с самого обеда!
— Что решили?
— Ничего, — сказал он. — Хотят, чтобы возвращали зерно.
— Какое зерно? — не поняла она. Это рассердило его. Он всегда злился, когда она задавала бессмысленные вопросы. Какое зерно? Как будто у них зерно было в десяти амбарах и она не могла догадаться, о каком зерне идет речь! Ему хотелось обругать ее, но он промолчал. Ведь эта худая женщина, терявшаяся в широких складках рубашки, не знала, о чем говорилось на заседании. Он рассказал ей все в нескольких словах.
— Как же так? — опять спросила она. — Что значит вернуть! А если б мы его уже продали?
Они еще не продали зерно, но собирались. Приезжие из горных сел предлагали в обмен картошку и уже готовы были его увезти, но Милор решил попридержать зерно до осени. От стариков он слыхал: продашь хлеб на току, на другой год самому покупать придется…
И не бог весть сколько было этого зерна! Но он рассчитывал хоть немного продать, чтобы купить насос для поливки. Завод в Трояне начал выпускать небольшие удобные насосы, кое-кто в Югле уже приобрел их, и Милор тоже хотел завести себе такой насос.
— И сколько нужно вернуть? — спросила жена.
— Ведер тридцать. «Шишка» сказал, что если кто будет упираться, то пришлют комиссию проверять.
— Спрячем! — воскликнула жена. — Ты забыл, что у нас тайник есть?
— Иди-ка ты лучше!.. — рассердился он. — Не нужны мне ничьи советы!
Он слышал, как она прикрыла дверь, как заскрипела кровать, когда она ложилась.
«Советы она мне будет давать! — проворчал он. — Не хватало бабьим умом жить… Спрячем! Что это, при фашизме, что ли?»
Но мысль о тайнике уже засела у него в голове.
Он набросил пиджак на плечи и вышел во двор. Хмель проходил, и он чувствовал какую-то бодрость во всем теле и, шагая по выложенной камнем дорожке, вспоминал такую же летнюю ночь двадцать лет назад, когда они с отцом копали возле дровяного сарая яму для тайника.
Под ногами у него затрещали щепки, в нос ему ударил запах граба, дуба, сухих дров, отдававших впитанное ими за день тепло.
«Только под сараем! — горячился тогда отец, шестидесятилетний старик с седой колючей бородой, которую он подстригал раз в месяц. — Сарай — самое надежное место. Никто поленницу не станет раскидывать…»
«В Югле половина тайников под сараями», — возражал ему Милор».
«Тем лучше», — говорил отец.
Не так давно они сложили печь, в которой пекли хлеб, и у них осталось еще штук сто кирпичей. Ими они решили выложить яму, потому что кирпичи впитывают влагу и не дадут стенкам осыпаться. Работали молча, копали по очереди, и к утру яма была выкопана и выложена кирпичами. Выстлали дно соломой и уложили мешки. Вошло восемь мешков. Прикрыли сверху старой дубовой дверью и на случай дождя обили ее сверху клеенкой. Хорошенько утрамбовали землю, оставшуюся разбросали по саду, уложили над ямой поленницу.
«Сам черт не найдет!» — сказал отец.
То были смутные времена, по дворам ходили реквизиционные комиссии, полиция обшаривала погреба и чердаки, солдаты тыкали повсюду штыками, но их тайника так и не нашли. И еще вспомнилось Милору, как однажды осенью они выгребли из ямы гнилую солому и он сказал отцу, что ни к чему теперь прикрывать ее дверью, обитой немецкой клеенкой. Жандармов и карательных отрядов нет, они никогда не вернутся, конец и реквизиционным комиссиям, конец, значит, и яме! На веки вечные!
«Тише, Милор! — ответил ему отец. — Горячишься прямо как на митинге, не торопись!»
«Верно, отец, всякое может случиться, но тайники нам больше никогда не понадобятся!»
Старик поглаживал колючую бороду.
«По мне, лучше его не трогать, — сказал он. — Накрой его крышкой, пусть себе остается… Есть-пить не просит».
Но Милор и слушать не хотел, засыпал яму собранным во дворе мусором, обломками старой ограды и всем, что попалось под руку. Его охватило какое-то остервенение, словно он засыпал что-то злое, словно хоронил в яме все невзгоды, обрушившиеся на их дом, чтобы они никогда не вернулись. Потом он разровнял землю, хорошенько утрамбовал ее, уложил поленницу и позабыл о тайнике.
Неужели снова придется вспомнить о нем? Снова брать в руки лопату и копать, как копали они в ту ночь вместе с отцом? «Хорошо, что его уже нет», — подумал Милор. На миг он представил, как разбрасывает поленницу, постукивает лопатой, чтобы найти края ямы, потом, засучив рукава, начинает выбрасывать землю. Кидает, кидает ее, а в сторонке стоит его отец, поглаживает бороду и смеется мелким старческим смешком, похожим на мышиное попискивание.
Милор вздрогнул, отчетливо услышав писк. Он остановился у темной кучи дров и стал слушать, как под ними, под преющими сучьями граба и черноклена, скребутся мыши.
«Нет, нет! — сказал он себе. — Не нужно мне ничьих советов… Я не должен поддаваться панике!»
Ему стало вдруг зябко, он повернул к дому, и щепки снова затрещали у него под ногами.
Ночь была тихая, сонно пели сверчки, ища друг друга во мраке, все дворы вокруг спали, на черном горизонте, где проходило шоссе, показался огонек, промелькнул и погас.
«Хорошо бы уснула», — думал Милор, поднимаясь по ступенькам. И снова сказал себе, что никому не позволит учить себя и что не следует поддаваться панике. Войдя в комнату, он увидел, что жена не спит и ждет его.
*
Корзину она приготовила с вечера. Это была прочная корзина из ореховых прутьев, способная вместить товару на целый прилавок. На самое дно Бона уложила баклажаны — несколько крупных баклажанов с гладкой кожурой, словно покрытых темно-фиолетовым лаком. Между ними она пристроила семь яиц, ей хотелось набрать десяток, но она все обшарила и больше ни одного не нашла. Укладывая их, она старалась, чтобы они не касались друг друга, но, подумав, вынула. Решила нарвать немного груш. «Не смотрите, что зеленые, — представляла она, как будет объяснять покупателям. — Полежат — станут желтые, а во рту прямо тают». Объяснения объяснениями, но все же, приставив лестницу к раздвоенному стволу дерева, она выбирала груши покрупнее и поспелее. Положила их поверх баклажанов, а на них яйца. И сверху прикрыла двумя пучками чебреца, высохшего до черноты, с сухим шелестом осыпавшегося под руками и источавшего тонкий и вкусный запах. Корзина была готова, и утром Боне оставалось только вынуть из гардероба новое бордовое платье в черную полоску, пройтись гребенкой по волосам и пуститься в путь.
Была среда, а по средам, как она помнила сызмальства, люди съезжались в город на базар. Шагая с корзиной на станцию и вдыхая запах чебреца, она уже представляла себе, как расставляют прилавки, как позвякивают весы и первые покупатели с сетками в руках оглядывают товар, вымытый и свежий, точно девушка в шестнадцать лет…
Она улыбнулась, припомнив время, когда была такой вот полной и проворной девушкой с розовыми щеками, а груди ее, твердые, острые и чуть торчащие в стороны, как у молодой козы, поднимали грубую ткань рубахи.
Она рано заневестилась, и парни стали заглядываться на нее, еще когда она ходила в седьмой класс. По вечерам они бродили вокруг их двора, свистели и громко смеялись, а отец выходил их разгонять. Раз зимой на святки они разобрали их телегу и затащили по частям на крышу сарая. Утром отец бранился, но не слишком сердито. Хотя ему пришлось по холоду лезть на крышу, его родительская гордость, гордость отца красивой дочери была польщена. Летом, когда наступило время торговать овощами, он любил брать ее с собой на базар. «Когда ты со мной — от покупателей отбою нет!» — любил он приговаривать. С вечера они набивали мешки перцем, вставали затемно, едва появлялась на небе утренняя звездочка, и к рассвету добирались до города. С тех самых пор запомнились ей базары с их пылью и скрипом телег, звяканьем весов и протяжными криками продавцов бузы и шербета. Помнилось ей и как усталые возвращались они в сумерках через темные поля и сады.
Много лет прошло с той поры, из ловкой девушки она превратилась в толстую, неповоротливую женщину, но стоило ей заслышать слово «среда», как что-то вздрагивало у нее в душе, оживали какие-то странные шумы и звуки, окружали ее неповторимые запахи, и она вынимала из шкафа новое платье. «Не иначе меня отец с матерью на базаре сработали, — любила она шутить в разговорах с женщинами. — Все б я на базаре стояла, и никогда б мне не надоело…»
Давно ей нечего было продавать, но она брала корзину, чтобы не идти с пустыми руками, и отправлялась на станцию.
Там уже собирался народ к утреннему поезду. Большей частью мужчины, каждый день ездившие на работу в город. Они стояли на перроне тихими сонными кучками, и серый табачный дымок вился над ними.
Подошел поезд, Бона устроилась на лавке, поставила корзину на колени и принялась смотреть на равнину, убегавшую за окном вагона. Оставались позади персиковые сады с поредевшими после сбора плодов кронами, в которых кое-где были заметны обломанные ветки. Промелькнули свекольные поля, которые женщины разворочали своими двурогими вилами. Дальше до самого горизонта тянулись песочно-желтые заросли кукурузы.
«Конца-краю нет, — подумала Бона. — И все наших рук дожидается».
Потом она подумала, что сегодня их звено должны перевести на кукурузу и женщины будут ходить между сухими стеблями и осуждать ее за то, что она уехала в этот день, осуждать без злобы и скорее из зависти, а больше из потребности о ком-то посудачить.
На конечной станции народу сошло немного, поезд опустел раньше, на остановке у машиностроительного завода. Бона потащилась с корзиной на край города, где была базарная площадь.
Тут она увидела низенькие ровные строения, между которыми тянулись деревянные прилавки, выкрашенные в зеленый цвет. Прилавки поставили недавно — раньше крестьяне раскладывали товар прямо на земле, садились рядом на корточки или устраивались на мешках и корзинах.
Пять-шесть прилавков были уже заняты — за ними, спрятав руки под фартуки, стояли женщины из окрестных сел, принесшие на продажу овощи со своих огородов, яйца, ранний виноград и лук — столько, сколько могли унести в руках. Бона задержала свой взгляд на горках лука и подумала: «Хорошо, что и я не притащила!»
Ей приходило в голову отнести на базар немного луку. А лук у нее вырос отменный. Она не так давно вырыла его из земли, и теперь он лежал в мешках под навесом. Бона не торопилась его продавать, хотела выждать, посмотреть, какая на него будет цена. И хотя она была вроде бы спокойна, но смутное предчувствие чего-то недоброго закрадывалось в ее душу. Она уже в Югле поняла, что у других женщин тоже вырос этим летом хороший лук. Сейчас, увидев прилавки, заваленные медно-красными горками луковиц, она подумала, что и на этот раз не видать ей больших барышей…
Она выбрала прилавок и начала на него выкладывать содержимое корзины. Вынула яйца, выстроила рядком с краю, положила груши и баклажаны, обтерев их, чтобы блестели. Но не успела она все разложить, как мужчина с обвисшими щеками, в синей фуражке служащего горсовета остановился возле нее и стал листать книжку квитанций.
— Ну и ну! — сказала она. — Дух перевести не дадите!
— Плати, плати! — сказал он. — Коли деньгу зашибать пришла!
— Да подавись ты ею! — выругалась она. Они были знакомы уже много лет, и она не раз в глаза говорила ему, что думает о нем и его службе.
Но он был все так же невозмутим, потому что давно привык слушать лишь то, что ему было нужно, ленивым жестом оторвал квитанцию, подождал, пока она развязала узелок и отдала ему стотинки — плату за место.
— На! И убирайся, — сказала ему она. — Тошно мне глядеть на твою фуражку…
Когда он отошел, Бона подумала, что ее и впрямь раздражает синяя фуражка. Еще с того времени, когда она с отцом ездила на базар, ей запомнилось, что эти нудные люди, которым до смерти надоела их служба, носили синие фуражки с белыми кокардами. Едва завидев их, крестьяне отворачивались, делая вид, что чем-то очень заняты, но в конце концов, конечно, платили за место, тщательно пряча квитанции.
— Выручим хоть то, что за место-то заплатили? — спросила Бона свою соседку слева, маленькую старушку в старинной одежде, какую носят в горных селах. Та продавала твердую, как орехи, мушмулу, рассыпанную по зеленому столу, с такими же зелеными пятнами у хвостиков.
— Сколько выручим, все наше! — ответила старушка.
«Настоишься ты со своей кислятиной!» — злорадно подумала Бона, ощутив во рту терпкий вкус недозрелой мушмулы. Неизвестно почему, старушка ей не нравилась. Она проглотила слюну и вспомнила, что еще не завтракала. Оставила свой товар и пошла в конец площади, где в фанерном бараке дымилась печка, на которой жарили пончики. До обеда ей удалось продать только яйца. Ни к грушам, ни к чебрецу никто даже не приценялся. Покупателей было мало, а на прилавках лежало одно и то же. И больше всего — семенной лук.
— Луку-то какая прорва, сосед! — обратилась она к своему другому соседу — крестьянину лет шестидесяти с короткими седыми волосами.
— Нам-то что, пусть тот горюет, кто целые декары посадил! — сказал крестьянин. — Будет зимой овец луком кормить. У меня-то всего килограммов десять.
— И у меня столько же, — соврала Бона.
— Весной многие на эту удочку попались. Думали разом разбогатеть. А что получилось — весь базар заполонили! Теперь тот денежки огребет, кто чеснок догадался посадить. Бешеные деньги, потому как сейчас чесноку нет.
— Ага, — согласилась Бона. — Огребет.
И замолчала, подумав с болью, что понапрасну поливала и полола грядки с луком, понапрасну надеялась и строила столько планов. Насколько лучше было бы, если бы она посадила чеснок и теперь стояла б, довольно улыбаясь, за этим зеленым столом, а деньги сами плыли бы ей в руки…
«Не везет!» — подумала она, складывая товар в корзину. Она унесет ее обратно, и, хотя тяжело будет тащить, ей и в ум не придет оставить все это здесь или отдать кому-нибудь задаром.
Она пообедала в закусочной, стоя съела пол-лепешки и кебапчета, посыпанные луком, запила бутылочкой лимонада и посмеялась своему обжорству: «Хороша же я! Что наторговала, то и промотала…» Вся мелочь, вырученная за яйца, ушла на обед.
Делать ей было нечего, до вечернего поезда оставалось еще много времени, и она пошла по главной улице, останавливаясь у витрин и рассматривая выставленные в них товары. Не пропускала ни одной витрины и прошла только мимо книжного магазина — книги казались ей толстыми, дорогими и пугали ее.
В городском саду она съела грушу и долго глядела на проходивших по аллеям мужчин и женщин. Все они были хорошо одеты, но все куда-то спешили, а эту суету она не выносила.
Из репродуктора, прикрепленного к одному из столбов, доносились тихие мелодичные звуки музыки. Она прислушалась — играли народную песню. Бона пересела поближе, песня ей нравилась. «Теперь таких песен уж нет!» — сказала она себе, но тут мысли ее стали путаться, и она задремала.
Разбудил ее мужской голос, с пафосом разглагольствовавший над самой ее головой. Говорил он о севе озимых.
«Сам-то ты много насеял?» — подумала она, потому что была уверена, что оратор говорит про то, о чем он знает только понаслышке.
Окончательно проснувшись, она пошла на станцию, отыскала вагоны своего еще не сформированного состава и устроилась в одном из купе. Мало-помалу вагоны стали заполняться людьми, в соседнем купе заиграл аккордеон, запели девушки. Один из пассажиров сказал, что если бы студенты не помогали каждую осень, то трудновато пришлось бы нашему сельскому хозяйству.
— А вот к нам никто не приезжал, — сказала Бона. — Пускай приедут, пускай в поле поработают, узнают, почем белый хлеб достается!
Но к ее удивлению, когда поезд подъехал к Югле и она стала выходить, из вагона высыпали парни и девушки в плащах и куртках, с рюкзаками и скатанными по-солдатски одеялами за спиной, а аккордеонист, тот самый, который играл в соседнем купе, продолжал и на перроне растягивать меха аккордеона. Его товарищи шумными возгласами проводили удалявшийся поезд.
— Никто нас не встречает. Что же делать? — спросила девушка со светлой лентой в волосах. — Где ж мы ночевать будем?
— Найдется где-нибудь местечко! — сказала им Бона. — Раз уж вас прислали… Идите-ка за мной, покажу вам, где дом председателя.
Она довела их до площади, но, вспомнив, что у нее на ужин ничего, кроме хлеба, нет, не решилась никого пригласить к себе домой.
Уходя, она еще раз оглядела всю группу и заметила, что парней и девушек почти поровну. Мужчина постарше в черном берете был у них за главного.
«Не устережешь их, милок, — подумала она. — Как подобрались по парочкам… так тоже шуры-муры разведут!
У нее стало вдруг тепло на душе, и, шагая к дому, прислушиваясь к затихающим звукам аккордеона, она начала тихо насвистывать. Она не чувствовала ни усталости, ни тяжести корзины, всю ее заполнило сладостное ощущение того, что она живет, что мир прекрасен, раз есть люди, которые поют и влюбляются, что так было и так будет, что каждый должен пройти свой путь, получить свою долю и уступить дорогу тем, кто идет вслед за ним…
Она поднялась по ступенькам и долго стояла, вслушиваясь в тишину села и укоряя себя за то, что не пригласила переночевать в свой дом хотя бы двух девушек.
*
Когда парни пришли, она только что включила плитку, чтобы испечь перец. В кухне пахло подсолнечным маслом и было уютно в этот уже по-осеннему прохладный вечер.
— Придется, видно, мне вас моим ужином угощать! — сказала Жела. — Только он еще не готов.
— Да вы не беспокойтесь, — сказал один из них. — Нас ведь в школе кормить будут…
Это был худенький паренек с продолговатым лицом, звали его Васко. Из закатанных рукавов поплиновой рубашки высовывались тонкие, но мускулистые руки. Товарищ его был молчаливей. Темноволосый, неторопливый, он вносил своим присутствием какое-то спокойствие, и не удивительно, что студенты относились к нему, как к старшему, и звали по фамилии — Монев.
— Сегодня у меня поужинаете, а завтра видно будет, — сказала Жела. — Вернулась бы я пораньше, курицу бы зарезала, но ничего, голодными не останемся.
Она говорила обычные слова, но в голосе ее неожиданно зазвучали материнские нотки, и Жела заметила, как оба смущенно умолкли, вспомнив, верно, про своих матерей…
— Сын у меня в Софии, — сказала им Жела. — Выучился там на инженера и женился на софиянке. На Позитановой улице живут — может, слыхали? Как будете уезжать, я вам адрес дам. В гости к ним сходите.
Студенты сказали, что прекрасно знают, где эта улица, и с удовольствием сходят к ее инженеру, а она тем временем расставляла перед ними тарелки, доставала хлеб и все уговаривала не стесняться, чувствовать себя как дома.
— Мой-то сын приезжает в году на день-два. Вы мне этот месяц за сыновей будете!
Они застенчиво улыбались.
— Ешьте да идите отдыхать, — сказала она им. — Наработались поди сегодня, устали!
— Какой там отдых! — засмеялся Васко. — На танцы пойдем. У нас магнитофон есть… Хоть здесь вволю твист потанцуем.
Монев заметил недоумение в ее глазах и объяснил, что твист — это новый танец, который в Софии запрещено танцевать. Ну, не то чтобы запрещено, но оркестры его не играют, по радио не исполняют, и студенты собираются на квартирах и танцуют его, потому что он им нравится.
— Неужели и у вас такое бывает? — сказала Жела. — Это вроде как у нас с зерном…
И в свою очередь рассказала про их неприятности из-за постановления о двухстах тридцати килограммах.
— Чушь какая! — сказал Васко. — Его непременно отменят, я уверен! Вот в прошлом году отменили же налог на виноградники.
Жела засмеялась, вспомнив, какая тревога поднялась прошлой осенью в Югле. Тогда вышло другое постановление насчет вина, которое делают крестьяне из собственного винограда. До этого сто пятьдесят литров налогом не облагались, но какой-то ученый муж, финансист, решил содрать с кооператоров еще по пятьдесят-шестьдесят левов. Деньги-то он подсчитал, но забыл, сколько труда требует каждый виноградник, сколько воды нужно перетаскать на Чукаревец, забыл — а может, и знать не знал! — каково это — копать в осенние холода или ранней весной, закапывать, выкапывать, опрыскивать, обрезать, собирать — и все это ради того, чтобы была кисть винограда для детей и внуков и стакан вина на столе.
— Это было неправильно, — сказал Монев. — Правительство поняло свою ошибку и отменило постановление.
— А уж как у нас все обозлились! — сказала Жела. — Хотели в неубранные виноградники овец пустить, прикидывали, где бочки спрятать… Не дай бог!
— Самый смех был с налоговыми инспекторами, — сказал Васко. — У меня двоюродный брат инспектором работает… Собрали их на пятидневный семинар в Софии, чтобы разъяснить, как взимать новый налог. Тысяча человек со всей страны. Я это точно знаю, потому что брат жил у нас несколько дней. Четыре дня подряд лекции им читали, а на пятый утром раскрывают они газеты — новое постановление, налог отменяется.
Рассказ показался им забавным, и все трое посмеялись.
— Так что не беспокойтесь! — заявил в заключение Васко. — Обойдется. Это какой-то сухарь бухгалтер придумал… «Сейчас бухгалтера командуют», как один дядька мне сказал. Ехал я как-то в поезде, а он спрашивает, где я работаю. Студент, говорю. «А специальность какая?» — «Болгарская филология». «Дал ты, парень, маху, — говорит. — В бухгалтера надо было подаваться. Болгарией сейчас бухгалтера управляют. Секретари партийные агитируют, директора приказы издают, а решают бухгалтера — деньги-то у них».
— Уже девять! — сказал Монев, взглянув на часы. — Идти так идти.
— И верно! — вскочил Васко. — Заболтались мы. До свидания!
Они надели плащи и ушли, сказав, что постараются не шуметь, когда вернутся.
— Мне шум не мешает, — ответила им Жела. — Я сплю внизу, в кухне.
Она не стала гасить лампу над дверью, прибралась и легла, но не успела заснуть, как на улице послышались голоса. Ей показалось, что их много, почудился ей и девичий смех. Она слышала, как подошли к воротам, кто-то упирался, его уговаривали, потом голоса затихли и только шаги отдавались во дворе.
— Заснула, конечно, — сказал голос возле самого ее окна.
— Придется разбудить, — отозвался другой. Это был Васко.
Она оделась, но подождала, чтобы они постучали, и только тогда открыла. Во дворе стояло несколько парней, двое держали чемоданчик с закругленными углами — магнитофон, догадалась она, — а за ними жалась стайка девушек. Девушки были совсем молоденькие, в узеньких брючках и с распущенными волосами.
— Ты что, Васко? — спросила она.
— Извините, вы, наверно, уже спали… — В его голосе на этот раз не было той беспечности и веселости, с какой он болтал целый вечер. — Может, вы рассердитесь, хозяйка, но не прогоняйте нас.
— Что случилось? — опять спросила она. — Я еще не спала.
— Да тетка одна нас выгнала. Грозилась милицию вызвать.
— Толстая такая… с крашеными волосами.
— Муж у нее вроде бы…
— Он-то не посмел прийти.
Она стала подниматься по ступенькам в дом, студенты шли за ней, продолжая рассказывать подробности того, как эта «крашеная» заявилась к ним и запретила танцевать твист.
Она повела их в горницу, вынесла в коридор полированный столик и разрешила им танцевать сколько душе угодно, это ее дом, и, хоть сто теток придет, ничего они им не сделают.
— Да здравствует наша хозяйка! — закричали молодые люди, а их подруги захлопали в ладоши, как девочки, которым на день рождения подарили новую куклу.
— Спокойной ночи! — сказала Жела и, улыбнувшись, укоризненно покачала головой. Этот жест вызвал у молодежи новый взрыв восторга, так могла поступить только мать — добрая и строгая, заботливая и полная доверия.
«Хорошо, что не начала им глупости говорить, — подумала она, возвращаясь в кухню. — Не маленькие уже. Не устережешь ведь, если понятия нет, что можно и чего нельзя! Ну, запретишь им танцевать, с танцев выгонишь, не разрешишь парню с девушкой постоять… Ну и что? Думаешь, добилась своего? А завтра? Когда они войдут в эту кукурузу, что на километры тянется, тоже пойдешь за ними?»
Так она спорила про себя с председательшей. Потом постаралась забыть о ней, не думать ни о чем, погасила свет, но только закрыла глаза, как услышала первые звуки магнитофона.
Она знала, что такое магнитофон. У ее сына в софийской квартире тоже был магнитофон, сын ставил его на радиоприемник, и она долго наблюдала, как вертятся его колесики и песня перематывается с одного на другое… Зимой в тот год, когда у сына родился мальчик, она жила у них три недели, помогая молодой, неопытной матери ходить за ребенком, который не умел как следует сосать и плакал по ночам. Тогда-то и увидела она впервые магнитофон. Однажды она качала внука, уговаривая его утихомириться, и не сразу догадалась, что сын нажал кнопку магнитофона. Он записал детский плач, поскрипывание плетеной зыбки и ее слова. Она была поражена, услышав из аппарата свой голос. Она никогда не думала, что он такой — что-то хрипловатое и старческое было в нем.
И ей стало грустно оттого, что никогда больше не закричать ей в поле, в страду, как бывало в ее девичью пору, что никогда не откликнется ей эхо из дубрав Чукаревца, никогда не зазвучит ее песня так нежно и мягко, как в то время, когда она баюкала своего сына в колыбели.
— Хорошая штука, правда, мама? — сказал сын и погладил шершавую коробку магнитофона.
— На патефон похож, — сказала она. — Когда патефоны только появились, дядя Георгий первый в нашем селе купил… Все жалованье отдал.
Она вспомнила, как ее брат, учитель, как-то весной принес темно-синий чемоданчик с закругленными углами и вделанной сбоку металлической коробкой для иголок. Она еще не была замужем, они с Пеной сшили себе плиссированные юбки, повязывались шелковыми косынками, а у брата собиралось много его друзей с длинными волосами, в рубашках, подпоясанных шнуром, как у Максима Горького. «О, Танголита…» — пел в мембране приятный женский голос, ей нравилась эта песня, и она быстро выучила ее, а молодые люди с прическами нигилистов выключали патефон и заставляли ее петь… Танголита… Долго звали ее так. Она была молода, всегда была готова петь и смеяться. По воскресным дням они всей компанией бродили по лугам вдоль реки, по полянам Чукаревца, где росла дикая герань и чебрец, вдоль шоссе, где в летние теплые вечера в придорожных канавах была росистая трава, в которой поблескивали светлячки… Танголита…
У брата был сослуживец, учитель, которого все звали просто по имени, Кириллом. Всегда веселый, он любил попеть, и вдвоем у них получался звучный и красивый дуэт — она первый голос, он второй, и все говорили, что они похожи друг на друга, как брат и сестра. Он купил фотоаппарат с гармошкой сзади и снимал всех — она до сих пор хранит эти фотографии, но ни на одной нет его, учителя Кирилла, потому что никто, кроме него, снимать этим фотоаппаратом не умел. Танголита…
Кирилл уехал учиться в офицерскую школу и не вернулся. Пена стала ткачихой на фабрике в Габрово. Жела осталась работать на отцовском поле и играть в любительских спектаклях, играть, пока не сыграла в последней для нее пьесе «Йончовы постоялые дворы». Поздно ночью, после представления Кыню повел ее к себе в дом, а наутро Танголиты не стало. Не стало, и не вернуться ей больше, как не вернуться той девчонке в грубом сукмане, которая стучала по звенящему дереву телефонного столба…
Магнитофон играл где-то за двумя дверьми, шум долетал приглушенно, и Жела думала, что, может быть, среди танцующих хоть один когда-нибудь вспомнит эту ночь, просторную комнату, скрипучий деревянный пол, крутящиеся колесики магнитофона и чьи-то глаза и губы.
Придет и для него день, когда он услышит молодые голоса, как она слышит их сейчас, голоса дождавшихся своей очереди веселиться, своего места в широком кругу жизни, своего часа, такого короткого и невозвратимого…
«Пускай тот, кому запомнится эта ночь, — думала она, — отведет в своей памяти уголок и для нее, для женщины, которая открыла им двери своей горницы, пожелала им спокойной ночи и долго потом не могла заснуть, прислушиваясь к звукам магнитофона, а по щекам ее текли слезы».
*
В последние дни сентября восходы красны, как гроздья памида, вьющего лозы по склонам Чукаревца. Листья тополей светятся желтым, левитановским светом. Орехи приобретают табачный цвет. Наплывают первые вереницы осенних облаков, улетают стаи птиц. Первыми улетают аисты — они летят медленно, путь их долог, и по вечерам они спускаются на равнины переночевать. Тревожно пищат ласточки за день-два до отлета. Молодые без устали кружатся над домом, чтобы доказать, что крылья их уже окрепли.
Как-то утром Жела проснулась и не услышала крика черных птиц. Моросил дождь, с опустевших телефонных проводов падали светлые капли.
Опустело и гнездо в сенях. Веселые парни и девушки уехали, в доме снова стало тихо. Жела заперла стеклянную дверь и повесила ключ на тянувшуюся к ней ветку яблони. Ветка благодарно закивала.
Она взяла корзину, набросила накидку, которую сама сделала из прозрачной клеенки, и вышла в сад.
В селе было пустынно, только свисток Эмиши да хриплый голос репродуктора доносились с площади. Две девочки вышли из ворот, торопясь в школу. Одна несла в руках альбом для рисования и желтую айву с мохнатым листом.
— Вчерашняя была больше, — сказала она подружке. — Но мы ее не дорисовали… Она на переменке исчезла.
— Мальчишки съели! — уверенно ответила вторая. — Знаешь, они какие!
Под навесом, огороженным снопами ржаной соломы, сидела бабка Йордана и плела связки из луковиц. Возле нее, смеясь большими блестящими головками, лежала уже готовая связка.
— Ого, ты меня обогнала, — сказала Жела, — В передовики тебя запишем!
— Я нарочно рано вышла, — сказала старуха. — Вчера эти опять притаскивались…
Неподалеку от Юглы жили цыгане, делавшие кирпичи, они уже несколько раз приходили к старухе, просили продать им осла.
— Что ж ты решила, продашь или нет?
— Уж и не знаю, Жела, не знаю, что и делать…
— Чем ты его всю зиму кормить-то будешь? Лучше…
— Ой, не говори! Живая душа ведь, без него одной куковать придется…
— Как хочешь, — сказала Жела. Она мочила ржаную солому, чтобы та стала мягче, и скручивала из нее перевясла. — Не продавай.
— Не продавай, — сказала старуха скорее самой себе. — А что он зимой есть будет?
Минко стоял неподалеку, привязанный к корявому стволу шелковицы. Перед ним лежала охапка травы, две тыквочки и капустные листья, и о зиме он пока не думал…
Подошла Бона, одетая в мужской полушубок с захватанным воротником. На ноги она надела высокие войлочные туфли.
— Что-то холодком потянуло! — сказала она, поеживаясь. — Не знаю, как мы эту зиму переживем, мне так уж сейчас зябко…
Она нарочно говорила про холод, чтобы найти предлог и вынуть из внутреннего кармана полушубка плоскую бутылку с яблочной ракией.
— Вот какое будет у нас паровое отопление! — сказала она и подала бутылку бабке Йордане.
Они выпили, ракия была не очень крепкая, но тепло разлилось у них по жилам. У ракии был еле ощутимый привкус яблок и запах дыма.
Потом они скручивали солому и вплетали в нее луковицы. До самого вечера им предстояло оставаться втроем, потому что Тана поступила в городе на консервный завод, а у Ганеты мальчик пошел в первый класс, и ей приходилось с ним возиться.
Груды лука будут уменьшаться, множество луковиц пройдет через их руки, чтобы составить длинные гирлянды, которые до поздней осени будут висеть под навесом, защищенные снопами, а дожди будут стучать по размякшей соломенной крыше.
— Кто-то идет, — сказала Бона.
Сквозь редкую сетку дождя был виден силуэт человека, приближавшегося к саду.
— Хоть бы не за ослом! — сказала бабка Йордана.
Человек сделал еще несколько шагов, и они узнали его. Это был Милор.
Перевод М. Михелевич и М. Тарасовой.
Ивайло Петров ПЕРЕД ТЕМ, КАК МНЕ РОДИТЬСЯ
1
Отец мой, как и большинство других в нашем роду, умом не блистал, однако первую значительную глупость он совершил, когда ему уже минуло шестнадцать лет и два месяца. К чести его, которую потом надо было отнести и на мой счет, следует уточнить, что вина вообще-то ложится на моих деда с бабкой. В одно прекрасное утро бабка заявилась в хлев, где отец убирал за скотиной и как раз в тот момент пытался выдрать овода, забившегося кобыле под хвост, прошлепала босиком через кучу навоза, выдернула из яслей соломинку и принялась ковырять ею в зубах. Она зябко ежилась в легкой своей безрукавке и, умильно глядя на отца, отрыгивала луковой похлебкой. Будущий мой папаша то ли не заметил ее появления, то ли не хотел обращать на это внимания. Тогда она сказала:
— Петро, нынешней зимой мы тебя женим!
Отец повесил скребницу на гвоздь и вышел из хлева. Бабкины слова до того ошарашили его, что от смущения он лишь далеко за полночь рискнул вернуться в дом. Бабка с дедом никакого значения не придали этой его глупой стыдливости по поводу будущей женитьбы и твердо решили, что еще две рабочие руки в хозяйстве не помешают. Оставалось только определить, в чьи ворота стучать в нашем селе.
Бабка, как всякая женщина, держалась весьма высокого мнения о себе самой и своем семействе, а вот дед был истинным реалистом. Не теша себя пустыми иллюзиями, он сказал, что сноху, конечно же, надо искать в каком-нибудь из соседних сел. Тут взыграло бабкино честолюбие: «Как так, с какой стати нам гоняться за чужими, когда своих полно. Да только скажи, от здешних девок отбою не будет!..» Целый месяц сновали они по селу, посетили множество домов, но визиты эти успеха не имели. В конце концов бабка, несколько даже сдавшая от бесконечного хождения, объявила деду, что не видит здесь подходящей для них снохи, — ей и в голову не приходило, что просто-напросто люди не очень-то высокого мнения о нашем семействе.. Тогда и был призван на помощь Гочо Баклажан.
Человек этот жил на свете очень долго, а умер нелепо и мучительно. Он провалился в заброшенный колодец далеко за околицей села, и никто толком не знает, сколько времени мучился он там от голода в тщетной надежде, что его спасут случайные прохожие. Судьба жестоко наказала Баклажана за все содеянное им зло, то есть за помолвки и свадьбы, которыми он окрутил сотни мужиков и баб — кого по собственному почину, кого по их просьбе. Что до меня лично, то — скрывать нечего — я испытал острое чувство злорадства, когда узнал, чем он закончил. Я до сих пор считаю, что эта особа — главный виновник моего появления на белый свет. Не возьмись он женить моего папашу, пустив в ход дьявольскую свою способность подыскивать для каждого супругу, отец сам никогда бы с этим не справился. В то время он, правда, хаживал уже на посиделки, но только как оруженосец более взрослых и бывалых парней. Таскал с собой крепкую дубину, разгонял ею собак и, отбивая яростные их атаки, входил в дом последним. И покуда другие парни, пристроившись подле своих зазноб, рылись у них за пазухой, папаша мой шмыгал носом в темном углу, обтирал спиной штукатурку и глянуть не смел по сторонам, боясь, что его кто-нибудь окликнет. Одним словом, к моменту, когда дед с бабкой вознамерились его женить, он если и был способен на что, так только дразнить сельских собак, без посторонней помощи застегивать свои потури[4] и вытирать нос рукавом антерии[5]. Но, как говорили древние, судьба правит желающими и влачит нежелающих. Бабка с дедом позвали в гости Гочо Баклажана, и не было нужды объяснять, почему ему оказано такое внимание. Уже после первой рюмки Гочо категорически заявил:
— Есть для вас сноха в Могиларове. Только она, и никакая другая!..
Бабке с дедом, естественно, захотелось подробнее узнать о будущей снохе, о ее близких. Баклажан залился соловьем, так что дед, хоть и был он неисправимым реалистом и скептиком, тут же спустился в подвал еще за одной бутылью вина. Чтобы не выдать своей заинтересованности, Гочо Баклажан и словом не обмолвился, что состоит в дальнем родстве с моей матерью и что во время своих странствий по свадебным делам часто ночует в том доме. Зато он предложил завтра же к вечеру отправиться в Могиларово и ненароком заглянуть к будущим сватам. Так их удастся застать врасплох, и будущий мой папаша собственными глазами увидит, подметено ли в доме. Эта тонкая хитрость очень понравилась деду. Он держался того взгляда, что тактика внезапности одинаково полезна как в военном деле, так и при поисках снохи.
На следующий день к вечеру Гочо и мой батюшка оседлали двух кобыл и подались в Могиларово. С утра выпал обильный снег, так что лошади с трудом продирались через сугробы. Баклажан хорошо подзаправился перед дальней дорогой и теперь с мельчайшими подробностями живописал своему спутнику прелести предстоящей тому брачной жизни. А тот щурился от резкого ветра, шмыгал носом и прислушивался к петушиным крикам, предвещавшим перемену погоды. Эти осипшие от гриппа крикуны до того растрогали его, что он не мог сдержать слез. Будь он поумней, наверняка бы сказал, что чувствует себя как осужденный на смерть, которого уже ведут к лобному месту. Но он знал лишь какую-то сотню слов, да и теми пользовался только в крайнем случае, так что не было у него никакой возможности выразить свои сложные переживания. Во всяком случае, уже под самим Могиларовым он дважды пытался повернуть назад, но Баклажан оставался неумолим, каждый раз хватался за повод его лошади, тащил ее на буксире.
До Могиларова добрались к девяти часам. В такое время жители села уже спали глубоким сном. Баклажан уверенно направился к нужному дому, спрыгнул на землю и открыл ворота. Два лохматых пса, величиной с доброго теленка, выскочили из-за угла и с нескрываемой яростью ринулись на них. Один из псов с ходу отхватил кусок полы отцовского ямурлука[6]. Баклажан выдрал из ограды кол, замахнулся на собак. Разлаялись и соседние псы.
Дед Георгий (это который с материнской стороны) проснулся, глянул в окошко и увидел на белом снегу две человеческие фигуры, лошадей. Набросил на себя что-то из одежды, выбрался наружу, прогнал собак. Тем временем бабка Митрина зажгла лампу. Только успела она рассовать то-другое по углам, а уж в сенцах затопали гости. Баклажан вошел будто к себе в дом, повесил у двери ямурлук.
— Решили вот заглянуть к вам, малость обогреться, — сказал он.
Им освободили местечко у огня, дедушка Георгий достал ситцевый кисет, протянул Баклажану. Потом они, свернув цигарки, долго слюнили краешек толстой оберточной бумаги, а когда закурили, дед искоса глянул на свою хозяйку. При всей своей бедности он всегда держался с достоинством, не любил разбрасываться словами и требовал, чтоб жена с детьми понимали его с первого взгляда. И они-таки понимали. Бабка Митрина взяла большую миску и направилась в погреб. В это время скрипнула боковая дверь — в комнату вошла будущая моя маманя. Она одновременно с другими услышала о появлении гостей, но, прежде чем выйти к ним, нужно же ей было одеться, причесаться, заплести косы. В обязанности ее входило, когда бы ни заявились гости, поздороваться с ними, накрыть на стол чем бог послал, поднести вина, а там, по отцовскому знаку глазами, выйти или оставаться с гостями до конца. Вот и теперь она подошла к Баклажану, подала ему кончики пальцев, потом обернулась к моему батюшке. Тут до него дошло, что это и есть та девица, на которую они приехали «взглянуть», и он сбычился, будто что-то его рассердило. Успел разглядеть лишь большую перламутровую пуговицу, блеснувшую у нее на платье.
Баклажан принял миску, сделал несколько бычьих глотков и даже икнул от удовольствия:
— Шик-арно-о-о! Ну, дай вам бог здоровья! А вашей красавице скорее выйти замуж!
У папаши моего из-под косматой шапки, нахлобученной до самых бровей, потекли мутные ручьи пота. Перепугался он, что Гочо, воодушевленный первыми же глотками вина, не удержит тайны. Но Баклажан — малый не промах, в таком деле головы не терял. Когда дед Георгий, спустя некоторое время, спросил, откуда это возвращаются они в такое позднее время, Гочо зажал пальцами посиневший свой нос, шумно высморкался.
— Да ездили вот по одному делу; посмотрим, как-то оно обернется!..
— По делу, говоришь, ездили? — проговорил дед Георгий, скрутив себе вторую цигарку.
— Торговлишка, дядюшка Георгий, торговлишка! — глазом не моргнув, заявил Баклажан. — Вот в компании с этим парнем. Не гляди, что он молод, хватки ему не занимать, да и у отца его в кармане блохи наперегонки не скачут. Марин Денев из Волчидола. Может, слышал о таком? Овец для него закупаем.
Те, кто не знал Баклажана, могли и поверить, что он с моим папаней держит в кошельке всю Добруджу, но уж дед Георгий знал Гочо как облупленного, ни единому его слову верить не собирался. Протягивая Баклажану миску с вином, он покачивал головой и тихо кашлял. А уж «торговец», которому не под силу было перемножить три на четыре, застыл на своем месте, не отрывая глаз от носков царвулей[7]. Он боялся встретиться взглядом с будущей моей матушкой, которая, кстати, давным-давно отправилась спать. Спину ему жгло от пылающего очага; он как сел там, где его посадили, так и не осмеливался даже сдвинуть на затылок шапку, а весь собранный по пути холод выходил теперь у него из носа, словно из водосточной трубы. И блохи, забравшиеся дома под антерию, не унимались никак. Растревоженные непонятным для них жаром, они ринулись искать выхода и в панике выскакивали из-за воротника антерии.
Ближе к полуночи Баклажан запел, расчувствовался от собственного пения и заплакал. Из солидарности расплакалась и бабка Митрина, хотя дед Георгий взглядами повелевал ей не предаваться излишней сентиментальности. Было уже за полночь, когда гости вскарабкались в седла и двинулись в обратный путь. Так папаня мой и не смог «взглянуть» на будущую супругу, зато оставил в Могиларове немало нашенских блох.
2
Дед Георгий, как показали события, располагал собственной разведывательной агентурой. Спустя десять дней у нас в селе появилась некая особа и остановилась у своей родни. Ей был дан строжайший наказ: любой ценой проникнуть в дом моего будущего папаши и увидеть все собственными глазами. Сведения, которые она до этого собрала о нашем семействе, особого восторга не вызывали, но, будучи профессиональной свахой, она сочла необходимым довести дело до конца, чтобы получить обещанное вознаграждение.
Если бы, как предполагалось, ей удалось нагрянуть к моей бабке внезапно, переговоры с Могиларовым прекратились бы раз и навсегда, поскольку сваха не в силах была бы закрыть глаза на то, что увидела. Но Баклажан и на этот раз спас положение. Уж он-то знал своих коллег во всей околии. К тому же опыт подсказывал, что в скором времени следует ожидать лазутчиков из Могиларова. Словом, Баклажан был начеку, и та, из Могиларова, при всей своей хитрости, даже представить не могла, какую ловушку готовит ей наша контрразведка.
Как-то спозаранку Гочо Баклажан прибежал к нашим и еще с порога прокричал:
— Дядя Иван, тетушка Неда! Из Могиларова подослали Каракачанку. Так что держите ухо востро, но… будто вы ни сном, ни духом!..
Осторожность требовала, чтобы он тут же испарился, даже не пригубив обычной своей чарки. Дед и бабка ужас как встревожились, но тревога эта была радостной. Из Могиларова подавали знак, что готовы вести переговоры, если их посланец принесет добрые вести.
Первое, что нужно было сделать, это, естественно, прибрать в доме. Дед мой и папаша принялись расчищать снег перед домом, а бабка — подметать. Она знала, что дело это не из легких, и все же масштабы его потрясли ее. Трое соплячишек, которых она мобилизовала себе на подмогу, перетаскали на помойку семь ведер мусора. Затем, подмазав полы коровяком и выколотив циновки, она налила в корыто горячей воды и позвала деда, чтобы вымыть ему голову. Обычно дед мыл голову только от пасхи до пасхи, перед тем, как отправиться в церковь, но сейчас исключительные обстоятельства вынудили его отступить от заведенного порядка и упасть на четвереньки перед корытом. Бабка натерла его плешивое темя здоровым и твердым, словно кирпич, куском мыла, сполоснула двумя кружками воды и насухо вытерла. Глянув затем на деда, она с трудом его узнала: дед настолько преобразился, что, ежели бы надеть ему еще белую рубашку да повязать галстук, легко сошел бы за податного, а то и за околийского начальника. Кого уговорами, а кого боем, поскольку все они испытывали ужас при виде воды, заставили пройти через корыто и троих соплячишек. Как только волосенки их просохли, бабка сунула каждому по ломтю хлеба и выставила на улицу — чтоб не топтались по чистому полу! Папаша мой не рискнул приблизиться к корыту. Видно, опасался, как бы не утонуть в канун столь значительного события в своей жизни, а потому предпочел скрыться где-то во дворе. Для него достаточно было протереть руки снегом и вытереть о рукава антерии. Короче говоря, посещение свахи произвело подлинную революцию в домашней гигиене дедова семейства.
Теперь деду предстояло серьезное испытание, совсем ничтожное, впрочем, по сравнению с мытьем головы: надо было зарезать курицу. Целый час понадобился, пока кукурузными зернами удалось ему заманить этих глупых птиц в хлев. Захлопнув двери, он принялся в темноте ловить их. Поймал одну, пощупал — показалась слишком жирной, выпустил ее наружу. Поймал вторую, третью, четвертую… Под яслями добрался наконец до последней. И надо же — эта оказалась самой жирной! Но уж делать было нечего, скрепя сердце вынес ее во двор, зажмурился и отсек ей голову. Курица перекувырнулась в снегу несколько раз, окровавила его и отдала богу душу. Дед, сжимая в ладони еще теплую головку, подумал, что никогда не простит себе такой роскоши.
А тем временем бабка, вся в муке, руки по локти в тесте, раскатывала баницу[8]. Вот она — еще одна роскошь, на которую дед пошел с болью в сердце! Но Каракачанка (эта черная цыганка, как удачно окрестил ее потом дед) собственными глазами должна была увидеть, что куриная яхния и пироги — будничное меню в нашем семействе. А уж о праздниках нечего и говорить… Материальное благополучие всегда было более убедительным аргументом в пропаганде, нежели слова, и бабка моя еще в те времена недурно разбиралась в этом. Хотя вообще-то, как мы увидим потом, бабка придерживалась идеалистических взглядов, была набожна, каждое воскресенье ходила в церковь, даром, что голову не мыла, — в отличие от деда, который в церковь ходил только на пасху, но перед этим обязательно мыл голову.
Наконец подошла и гостья. Напрасно вооружалась она тяжелой дубинкой — дед заблаговременно посадил на цепь собак и поджидал ее появления, выглядывая во двор сквозь опутанное паутиной оконце в хлеву. Так что, едва она показалась в калитке, дед, будто бы ненароком, вышел из хлева и проводил гостью в дом. Она и в самом деле походила на каракачанку[9]: черная, что твой уголь, тощая, во множестве пестрых юбок и фартуков. Истинное удовольствие получили бабка с дедом, когда она стала объяснять причину своего посещения: прослышала, дескать, что бабушке удалось вылечить малыша от лихорадки, а у нее самой ребенок горит огнем. «Трясет его, бедняжку, как бы еще не ослеп от жара!» Вот она и пришла попросить совета или снадобья.
Излагая все это, Каракачанка зыркала по сторонам, но ее черные, живые пронизывающие глаза не смогли уловить ничего такого, что бы шокировало ее эстетический вкус. Хозяин дома казался переодетым в новые крестьянские одежды интеллигентом, волосы хозяйки блестели, словно вороново крыло, горница — хотя потолок и стены малость покосились — сверкала чистотой и порядком. Воздух в доме был напоен смешанным и потому вдвойне соблазнительным ароматом только что испеченной баницы и куриной яхнии.
Бабка подробно рассказала, как проводила лечение, как купала больного в отваре из ореховых листьев, как эти листья ну прямо-таки впитали в себя хворобу. Бабка не упустила ни одной, даже мельчайшей, детали, чтоб подольше насладиться своим превосходством над Каракачанкой, которая продолжала играть роль хорошо законспирированного шпиона, не подозревая, что коды ее уж расшифрованы.
Когда подошло время обедать, Каракачанка собралась уходить. Дед с бабкой отлично видели, что она просто прикидывается, и все же долго и настойчиво уговаривали ее оказать честь их скромной трапезе. Наконец Каракачанка снова села, заявив, однако, что есть ей не хочется. Таким вот образом люди в нашем краю обычно показывали свою скромность и воспитанность. Считалось хорошим тоном, застав хозяев дома за обедом или за ужином, упорно отказываться сесть за стол и твердить, что ты не голоден. Поломавшись этак некоторое время, можно было отщипнуть маленький кусочек, «только чтоб не обидеть хозяев». Ну, а уж потом, выполнив весь этот ритуал, лопай себе за обе щеки!..
Деда даже оторопь взяла, когда он увидал, как набросилась Каракачанка на еду. Глядя на то, как ее черные пальцы погружаются в аппетитную яхнию, он тут же предположил, что у нее прохудился желудок и проглатываемая пища из-под пестрой юбки вываливается на пол. А когда Каракачанка с той же страстью принялась за баницу, одним духом выпивая при этом по мисочке вина, дед обложил себя в душе за свою щедрость, настроение у него окончательно испортилось. Эта баба, думалось ему, никогда не восполнит причиненного убытка, даже если приведет в дом золотую сноху.
Трое малышей, привлеченные запахом баницы и яхнии, давно шмыгали носами под дверью, но им пришлось довольствоваться постными щами, приправленными красным перцем. Каракачанка лишила их большого праздника, и они еще многие годы спустя вспоминали о ней с ненавистью: «Это та, черная, что слопала баницу и яхнию…»
И все же Каракачанке удалось завоевать благорасположение хозяев дома, так что они забыли и про пироги, и про курицу, и про вино. Подзаправившись как следует, она решила пренебречь правилами дипломатии и заявила, что она из Могиларова, что прибыла не на смотрины, а сразу просить их согласия на сватовство. Ну, уж тут бабка с дедом не преминули напустить на себя важность: дескать, людей мы этих не знаем, такие дела с налету не делаются!.. Утвердив таким образом свой престиж, они тут же раскрыли и свои карты, не замедлили дать согласие.
Под вечер Каракачанка отбыла восвояси с тяжелым желудком и полным фартуком гостинцев, неся будущим сватам привет и самые приятные новости.
3
Спустя некоторое время переговоры с Могиларовым достигли такой фазы, когда личная встреча между отцом моим и матерью стала неизбежной. Согласно требованиям тогдашнего этикета, брачующиеся должны были встретиться до свадьбы хотя бы один раз и обязательно при этом понравиться друг другу, поскольку дело-то ведь все равно уже слажено между их родителями. Эта встреча была поблажкой со стороны родителей, иначе ведь не исключалась опасность, что молодожены не признают друг друга в день свадьбы в отличие от нынешних молодоженов, которые до брака сходятся весьма близко, а вот после свадьбы предпочитают тянуть каждый в свою сторону. Но в те давние времена люди жили проще и пробные браки не практиковались.
Инструкции, которые Гочо Баклажан дал моему батюшке, налагали известные обязательства на весь наш род. Отец должен был представиться в Могиларове как торговец скотом. Как об этом уже говорилось, люди в те времена были простые и необразованные, но так же, как и мы сейчас, знали, что бытие определяет сознание, и предпочитали выходить замуж за торговцев или соответственно жениться на девицах с приданым посолиднее. Иначе любовь — как, кстати, и сейчас — была настоящей.
Как бы там ни было, дед взял напрокат у бай[10] Мито смушковую шапку (шапка эта поженила немало бедняков в нашем селе), а у бай Костадина — кожух. Кожух был новехонький, да и бай Костадин не вчера родился. После долгих уговоров он выдал этот кожух, «еще ни разу не надеванный», но дед обязался при этом, что сын его и сноха в пору жатвы четыре дня отработают на бай Костадина.
Батюшка мой нахлобучил шапку, надел кожух и с помощью деда забрался в седло. Он уже понял, что предстоящая женитьба — дело серьезное, и чтобы почувствовать себя настоящим мужчиной, весь путь до Могиларова пытался думать о своей суженой. Но как ни старался представить ее себе, в памяти вставала одна лишь перламутровая пуговица — единственное, что он успел разглядеть в то первое свое посещение. Время от времени эта блестящая пуговица возникала на фоне черной лошадиной гривы, разрасталась до размеров тарелки и опять исчезала. И тогда отец начинал думать, что скоро женят его на этой пуговице и заставят с ней век вековать. Поглощенный такими любовными мыслями и томлениями, он и не заметил, как добрался до Могиларова. Отыскал дом Каракачанки и остановился там.
Каракачанка времени даром не теряла — встреча моего отца с матерью должна была состояться на посиделках, которые устраивались в одном из соседних домов. Встреча эта готовилась втихомолку, и все же в молодежных, как сейчас бы сказали, кругах Могиларова пошли разговоры, что некий малый из некоего села нынче вечером встречается с Берой Георгиевой.
Могиларовские парни не проявляли особенного интереса к моей матушке, равно как и к достатку ее отца. Однако все они были ревнивы от природы, а потому не могли спокойно отнестись к вторжению в их мир чужака и, как мы потом увидим, устроили моему родителю такой номер, который ясно показал, что они начисто отвергают возможность мирного сосуществования двух сел с различными нравами и обычаями. У нас, во всяком случае, считают, что могиларовцам, ослепленным своим квасным патриотизмом, ничего бы не стоило, попади им в руки атомная бомба, нажать на кнопку и стереть нас с лица Добруджи вместе со всеми нашими собаками и блохами.
Каракачанкин сын, тоже холостой еще, должен был ввести моего отца в местное общество, и оба они направились на посиделки. Хозяйка дома встретила их очень любезно, девушки — тоже. Их было семь. Одни сидели за прялками, другие пришли со своим вязаньем или вышивкой. Все расположились на полу вокруг бидона из-под керосина, на котором горела лампа.
— Присаживайся, гостюшка! — сказала хозяйка и удалилась в свой угол, откуда она с пристрастием наблюдала, не позволяет ли себе молодежь каких-либо вольностей.
Тогдашние матери почему-то воображали, что стоит только молодежи собраться вместе, как тут же начнутся бог весть какие недозволенности. Можно подумать, что эти деревенские матроны от корки до корки прочли все книги, где излагались всякие там фрейдистские теории. Слава богу, наше время напрочь отмело их устаревшие представления о взаимоотношениях двух полов.
Само собой разумеется, родитель мой должен был подсесть к моей будущей матушке. Поджидая его, она предусмотрительно устроилась поодаль от общего круга, между стеной и деревянным лежаком. Беда только, что отец не мог распознать ее в этом девичьем созвездии. На глаза ему попалось зеленое платье с перламутровыми пуговицами, и он, зажмурившись, чтоб не растерять ни крупицы смелости, опустился рядом на циновку. И хотя он уселся спиной к девушке в зеленом платье, хотя не проронил при этом ни слова, всех поразил его поступок. Известно ведь было, что «купчишка» явился ради Беры, а сейчас, нате вам, решил пофлиртовать с другой!.. Однако в реакции на это собравшегося общества не было категорического осуждения. Девушки зашушукались, что, дескать, «люди с положением» могут себе позволить все. «Так было, так будет всегда!..» Судя по всему, они завидовали моей матушке и втайне надеялись, что «купчишке» вдруг взбредет на ум предпочесть кого-нибудь из них. Сын Каракачанки, подсевший к моей матушке, чтоб подготовить ее к важной встрече, смекнул, что произошло недоразумение, и подозвал отца:
— Петро, поди-ка сюда!
Родитель мои с облегчением поднялся с циновки и сел между ним и моей матерью. Он подумал, что и на этот раз удастся избежать любовных объяснений, и был крайне удивлен, когда парень сказал:
— Бера, потолкуй тут с нашим гостем, а я пока схожу на другие посиделки.
Наконец-то отец оказался лицом к лицу с матерью. Этот момент стал роковым не столько для него, сколько для меня. Отныне события разворачивались в такой последовательности, что не могли не привести к моему появлению на свет. И я, к сожалению, не в силах был этого предотвратить. А как бы, спрашивается, мог я это сделать, будучи туманным символом еще не осуществленной идеи? Спустя годы, я мог задаваться вопросом, стоило ли ее осуществлять. Но это уже было бы слишком поздно.
Подсев к матушке, будущий мой родитель начал исходить потом, шмыгать носом, вытирать его рукавом. Это приятное для папашиного возраста занятие отняло у него по меньшей мере полчаса — понятно, что ему пока было не до разговоров с невестой. В ее глазах он и был сопляком в смушковой шапке — она как-никак была на два года старше. Однако ей и в голову бы не пришло куражить его. Она была деликатна с мужчинами, особенно с теми, кто моложе ее; не относилась она и к числу тех девушек, что тешат себя праздными иллюзиями (матушка не только не верила, но даже в мыслях не допускала, что отец мой в самом деле торгует скотом). Так что вопреки врожденной гордости, пришлось ей самой повести разговор с будущим своим супругом.
— Ну, что там в вашем селе? — спросила она.
— А ничего! — ответил отец. — Что там может быть? Снег…
— Да его и тут нападало много, — продолжала матушка. — Как добрался сюда?
— А на кобыле! — проговорил мой родитель и умолк. Снежная тема быстро растаяла. А обладай мой батюшка более богатым воображением, как современные докладчики, к примеру, он бы мог развить эту тему. Ну, хотя бы доказать невесте, что снег в их селе лучше, чем в Могиларове. И это благодаря тому, что там о нем очень заботятся. Мог бы дать совет, как получать снег высшей кондиции, или, например, предложил бы провести между селами обмен опытом, потому что снег, если, как говорится, брать по большому счету, играет решающую роль в сельском хозяйстве — зимой толстым одеялом укрывает посевы, весной накапливает в земле влагу; надо только учесть, что получение его и хранение требуют научного подхода, что тут нужно действовать по методу того-то и того-то, не мешает почитать на этот счет разные брошюрки, а еще лучше — позаниматься на шестимесячных курсах в окружном городе. Но папаша мой в таких делах был не сведущ, потому что Девятое сентября тогда еще не настало, людям не доставало исторической даты, которая могла бы им служить верным мерилом во всех областях жизни. К тому же молчал отец еще и от скромности, боялся, как бы не обронить какой-нибудь комплимент, неловким словом не обидеть будущую супругу. И вообще не хотел он разводить турусы на колесах, пускаться во всякие там любовные излияния — качество, которое я лично, хорошо это или плохо — не знаю, не смог у него унаследовать. В его годы я уже здорово приударял за одной своей сверстницей — обладательницей точеной фигурки и страшно уродливого носа. Другие ребята наперебой внушали ей, что среди учениц женской гимназии она самая способная и самая умная. Ну а я, словно кот в мясо, вцепился в ее нос, не уставал восхищаться этим гибридом моркови с лодкой и посвятил ему шесть писем. И в конце концов она предпочла меня всем прочим ухажерам. В других случаях, если особенно восхищаться было нечем, я впадал в восторг по поводу какого-нибудь кривого зуба, твердил, что такие вот искривленные зубки придают женщине особое очарование и именно они — моя неизлечимая слабость. Вообще я никогда не скупился на комплименты, но ни разу не позволил себе сказать женщине, что она не столько красива, сколько умна. Наносить нежному полу подобные оскорбления — не в моем стиле. Это что касается меня. А вот батюшка мой совершенно не разбирался в подобных тонкостях, и я до сих пор сожалею, что не мог в тот вечер прийти ему на помощь, передать хотя бы частицу своего опыта. Во всяком случае я легко бы доказал ему, что для настоящего мужчины женщина — это прежде всего удовольствие, а уж потом все остальное. Но отец, судя по всему, придерживался иного мнения на этот счет. А может, у него вообще не было еще своего мнения. К тому же матушка внушала ему глубочайшее почтение, прямо-таки обезоруживала своей скромностью.
Она и в самом деле держалась очень скромно, но иначе и быть не могло. Как все болгарки, она жила на этом свете ради соблюдения своей девичьей чести и с нетерпением ждала, когда же кто-нибудь посягнет на эту ее честь, но только так, чтобы окружающие не сочли ее легкомысленной. За все время она только раз позволила себе обронить клубок пряжи и, потянувшись за ним, плотно прижаться бедром к его ноге. Папаша шарахнулся в сторону словно ошпаренный — ему и в голову не пришло, что все эти оброненные клубки пряжи или веретена, платочки или там сумочки во все времена использовались женщинами всех сословий как верное средство для завязывания знакомства и флирта с мужчинами. Где ему было знать, что Отелло душил жену свою из-за нечаянно оброненного ею платочка? Наоборот, отец решил, что матушка моя уронила клубок по неуклюжести своей. Это его даже огорчило и, конечно же, закрепило намерение молчать и держаться в сторонке. Лишь к концу посиделок он сумел разглядеть матушкину руку, и она ему понравилась. Была она довольно большая и грубая — как раз для серпа и мотыги. «Ничего, годится!»
Этим вот не высказанным, но искренним комплиментом началось и закончилось его любовное объяснение с моей матушкой.
Тем временем сюда приходили и уходили местные парни. Одни подсаживались к девушкам, другие стояли, словно городовые, и с нескрываемой ревностью наблюдали за моим отцом. Особенно недружелюбные взгляды кидал здоровенный малый с всклокоченной шевелюрой и густыми, сросшимися у переносицы бровями. Он просто испепелял родителя глазами. Этот неотесанный пастух частенько подсаживался на посиделках к матери, но, как говорится, без серьезных намерений. Заигрывания его не были ей неприятны, потому что был он куда более дерзок, чем батюшка. Только вот не догадался сделать ей предложение. И теперь она не упустила возможности отплатить ему с лихвой, недвусмысленно дав понять, что «купчишка» из соседнего села явился с серьезными намерениями, собирается взять ее себе в жены. Иные, дескать, парни, вместо того чтоб дичать в лесу, занимаются доходным делом, выколачивают деньгу. Если остроумие у этого пастуха иссякало весьма быстро, то честолюбие его, как всякого могиларовца, не знало пределов. Парень подхватил свою железную палку и удалился.
Спустя час, когда отец направлялся к Каракачанке на ночлег, ему пришлось испытать на себе прочность этой палки, сработанной по тогдашней моде, — в палец толщиной, загнутой сверху, чтобы ее можно было вешать на руку повыше кисти, и снабженной шариком снизу. Великолепное это оружие служило могиларовцам шпагой, когда требовалось отстоять личное свое достоинство, и саблей, когда возникала нужда отразить нашествие чужаков.
Выждав отца на подходе к дому Каракачанки, пастух спросил его, какого черта он без разрешения приплелся в их село. Папаша молчал, поскольку ему до сих пор не было до конца ясно, ради чего, в сущности, понесло его в Могиларово. Пастух же воспринял его молчание за чванство преуспевающего торговца и возгорел желанием отучить чужака от этой неприятной заносчивости людей более высокого сословия. Взмахнула палка — и от первого же удара отец оказался на земле.
— Ну, говори! — кричал пастух, лупцуя его куда попало.
Даже захоти отец сказать что-нибудь, у него духу не хватило бы. Свернувшись в клубок, он катался по снегу. Он считал невообразимой глупостью вступать в единоборство с противником из-за какой-то женщины, явно предпочитая помереть с философским смирением, только бы потом не судачили, что он принес себя в жертву юбке, даже если это и его будущая жена. Я лично считаю это единственно разумным поступком, совершенным им в жизни.
Новый кожух, которым папаша так поразил воображение могиларовских девиц, пошел клочьями. От смушковой шапки на снегу осталось два-три лоскутка. Пастух поднял один из них, тщательно протер им палку и… поминай как звали!
Далеко за полночь Каракачанкин сын наткнулся на моего отца, совсем уж доходившего в снегу. Парень разбудил своих, подобрали они папашины останки и, не теряя времени, отправили на санях домой. Разделан был батюшка здорово, и, судя по тогдашнему его состоянию, он даже не помышлял, что сможет стать мне отцом. Все вроде бы вело к тому, что судьба возложила на другого это серьезное дело.
Завернули отца в свежесодранные бараньи шкуры и оставили возле теплой печки. Бабка была уверена, что он уж не жилец на этом свете, оплакивала его по нескольку раз на день. И попутно прикидывала про себя, как она с оказией передаст на тот свет сердечные поздравления троим своим ранее умершим детям, а также всем остальным опочившим родичам и знакомым. В посланиях ее сквозила и определенная зависть к тем, что на небесах. Сообщив, что тут, на земле, они, слава богу, пока сводят концы с концами, бабка, однако, заключала, что если дела и дальше так пойдут, то вскорости и она переберется туда, к ним, отдохнуть от земных невзгод. Вообще в эти дни она установила постоянную связь с миром иным и частенько копалась в сундуке, где хранился штабель новой одежды, предназначенной для большого путешествия.
Дед тоже жалел своего первенца, но не до такой же степени, чтоб впадать в отчаяние. Он уж схоронил троих, так что, если на то божья воля, схоронит и четвертого. Гораздо серьезнее деда занимала проблема кожуха. За смушковую шапку он отдаст две несушки — и дело с концом. А вот за что купить новехонький кожух? О двух баранах, которых пришлось забить, чтоб завернуть в свежие шкуры покалеченного сына, говорить уже не приходится. Но чтобы справить бай Костадину новый кожух, придется заколоть еще двух, а это уж пахнет полным разорением. И ради чего, спрашивается? Ради снохи, которой он и в глаза-то не видал, а теперь, пожалуй, и вообще не увидит.
Вот какие чисто экономические проблемы занимали деда, когда он возился подле амбара, подбирая доски для будущего гроба.
И только трое сорванцов извлекли для себя приятное из происшедших прискорбных событий. Целыми днями обгладывали они бараньи кости да шарили по дому, с головы до пят перепачканные бараньим жиром…
После этой печальной истории дальнейшая связь между двумя селами стала излишней, тем более что новый обильный снегопад сделал дорогу почти непроходимой. Матушка моя не страдала по отцу даже тогда, когда в Могиларове разнеслась весть, что он в бозе опочил, и вовсе, правду сказать, не испытывала угрызений, что суетностью своей приблизила его безвременную кончину. Мало того, могиларовские парни единодушно сошлись во мнении, что теперь она вообще задрала нос, вообразила, будто цена ей вон как подскочила, раз уж люди бьются и жизнь за нее кладут. В пересудах этих была доля истины. Матушке моей действительно льстило, что она оказалась в центре внимания после того, как один из парней ради нее пожертвовал жизнью. Она ведь была настоящей женщиной, а таких, как известно, никогда не пресытишь, сколько бы ни жертвовали собой мужчины. «Жалко хлопца!» — обронила она, и прозвучало в этих ее словах не сожаление о случившемся, а утверждение собственного ее достоинства. Так что, когда по селу заговорили, что это пастух со сросшимися бровями ухлопал моего отца и теперь ему не избежать суда, матушка моя не только не отвернулась от него, но, наоборот, всячески его привечала. Не то, чтоб позволяла себе какие-нибудь вольности с ним или с другими парнями, которые теперь увивались вокруг нее. Просто ей было приятно пококетничать с ними, взмахнуть у них перед носом своими пестрыми юбками. Короче говоря, она занялась поисками нового папаши для меня. И наверно, нашла бы, если б однажды вечером не появился у них в доме Гочо Баклажан. Он до того перемерз, что нос его больше, чем когда-либо, походил на синий баклажан. Целый час понадобилось отогревать гостя вином да ракией, чтоб он смог прийти в себя и сообщить наконец то, ради чего прибыл.
— А мы думали, что малый помер, — сказал дед Георгий. — Слух по селу прошел.
— Ничего ему не сделалось, — ответил Гочо. — Жив и здоров, вышагивает, что твой петух, только не кукарекает.
Гочо не врал. Родитель мой вылупился из бараньих шкур, вскочил на ноги и принялся за обычные дела по хозяйству, словно ни один волосок не упал с его головы. Люди поговаривали, что парень вернулся с того света, какое-то время смотрели на него с недоверием — не призрак ли это, и немного побаивались его. Но потом, однако, поверив в чудо, снова признали его за человека.
Обрадовались родители моей матушки этой новости, нет ли — трудно сказать. Во всяком случае, обсудив создавшееся положение, они решили продолжать начавшееся сватовство. Матушка не противилась их решению, а про себя подумала, что от судьбы не уйти. Впрочем, своим воскресением будущий супруг вызвал у нее первое серьезное разочарование.
Подготовка к сватовству была непродолжительной, но напряженной. Обе стороны провели без сна целую неделю, обдумывая условия предстоящих переговоров. И когда наконец дед с бабкой при активном содействии Гочо Баклажана составили для себя план действий и обговорили его до мельчайших подробностей, они вылили по обычаю котел воды перед санями и двинулись в соседнее село. Настроены они были воинственно, будто не породниться собирались, а задумали дать тем, в Могиларове, последний решительный бой.
4
В Могиларове их встретили с аристократической сдержанностью, желая с самого начала дать им понять, что особого нетерпения не проявляли, дожидаясь их. Не вы, дескать, первые, кто приходил к нам свататься и уходил не солоно хлебавши. Предупреждение было серьезное, и дед, натура деликатная и чувствительная, сразу же мысленно отказался от некоторых своих притязаний. Если прежде он собирался требовать, чтобы в приданом невесты, помимо прочего, было и четыре овцы, то теперь великодушно сократил их число до двух. Позднее, кстати, былая воинственность опять обуяет его, но сейчас он чувствовал себя малость не в своей тарелке, глядя на сидящего перед ним спокойного и непроницаемого главу невестина семейства. Впрочем, внешне дед ничем не выдавал своего замешательства. Сидел он с гордым видом, руки на коленях, и тоже молчал. Бабка держалась с неменьшим достоинством, стараясь придать себе вид матери преуспевающего торговца. В сравнении с ней бабушка Митрина изрядно проигрывала и походила на захудалую метлу. Была она умна и проницательна, но — надо же! — поддалась внушению, что имеет дело со «значительными» людьми, это ее и радовало, и в то же время сковывало.
В конце стола устроились друг против друга Баклажан и Каракачанка с напускной скромностью дипломатов, прошедших сквозь воду, огонь и медные трубы, но все же организовавших двустороннюю встречу на высшем уровне. Но им рано еще было почивать на лаврах. Существовала реальная опасность, что стороны станут в позу надутых индюков, что нередко случается между бедными сватами, и оба министра иностранных дел были готовы в любой момент принять меры для «разрядки напряженности».
Баклажан был тонкий психолог, к тому ж из богатой своей практики он вывел, что в подобных случаях самой благоприятной темой могут стать воспоминания военных лет. Войны издавна были второй жизнью мужиков в нашем краю, потому что только во время войны могли они выбраться за пределы села, мир повидать. Военные невзгоды и страдания стали дорогими их сердцу воспоминаниями. Это были веселые истории, настолько веселые, что даже смерть представала в них со смешной стороны. Не знаю, откуда так повелось, но для наших мужчин стало обычным смеяться над собой, подавать свои беды в веселом свете. Пожалуй, это можно было бы отнести за счет их вошедшего в пословицу невежества. Но позже, когда я, повинуясь чистому любопытству деревенского оболтуса, начал заглядывать в книги, меня страшно удивило, что классики тоже позволяют себе посмеиваться — причем не только над собой, а и над целыми народами, и даже над высочайшими особами. Похоже, в те времена люди были ужас как несовершенны, просто нашпигованы всяческими недостатками и страстями.
Итак, Баклажан пустил в ход свои военные воспоминания, хотя на войне никогда не был. Принялся он за это сразу, как только накрыли на стол, и все начали пальцами таскать из мисок.
— В такой же вот зимний вечер, — рассказывал Гочо, — темень застигла нас, помню, в одной македонской деревушке. Холодина, мать его, стоял, вспомнить страшно! Плюнешь — так, поверите, слюна об землю ледышкой стукается. Ежели, скажем, по малой нужде приспичит — на улице и не думай. В момент у тебя вроде как бы костыль появится. Деревушка, говорю, маленькая, а нас целый полк. И приткнуться негде. Ну, потом мужик один пустил нас в свой хлев. В нем — два мула. Разместились кто где смог. А я залез прямо в ясли. Сплю это я, сплю, и вот снится мне, значит, будто гонится за мной медведь. Осенью видели мы в горах здоровенного черного медведя. Вот догнала меня, понимаете, эта напасть, свалила на землю и давай меня жрать. Ну, заорал я, само собой, благим матом. Товарищи мои повскакали, тычутся в темноте: в чем дело? А вот в чем… Один из этих мулов нанюхал у меня в котомке хлеб, ну и начал ее теребить. А котомку-то я на брюхе у себя поясом притянул…
Все, как были с набитыми ртами, так и прыснули, задрав рожи к потолку, будто волки на луну. Одна только матушка моя бровью не повела, она хлопотала вокруг стола, да и не подобало ей таращиться на потолок. Нынешним вечером она чувствовала себя как на состязании по домоводству, благоприличию и скромности, на котором ей нужно было любой ценой выиграть первый приз. Казалось, на нее никто не обращал внимания. А в сущности, все исподтишка следили за каждым ее движением. Бабка была самым строгим членом жюри. Это ей предстояло вынести последнюю оценку: «Нет, какая-то она безрукая!..» или «Чего ни коснется руками, все позолотит…» Разумеется, матушка все «золотила». Недаром ведь она под строгим контролем бабушки Митрины целую неделю упражнялась наполнять миски водой (вместо кушаний) и подавать вино (опять же воду) в луженой братине.
— Меня тоже там чуть не угробило, — проговорил хозяин дома. — Пошли мы, это, цепью. Француз по нам, само собой, пальбу открыл. «Ложись!» — орет ротный. Гляжу, впереди окоп глубокий. И тесный, будто горшок. Не иначе, какой-то сморчок в нем прятался. Но Георгию выбирать не приходится. Рванулся Георгий — и бух в окоп. А тут ротный опять шумит: «Короткими перебежками отходи к высоте!..» Наших за минуту как ветром сдуло, а я все барахтаюсь в своем окопе, не могу выбраться. Потом гляжу — теперь француз в атаку прет!.. Ну, говорю себе, тут тебе, Георгий, и помирать. Успеть бы перекреститься в последний раз… А до того тесно в проклятущем окопе, что и крестного знамения не сотворить. Зажмурился я, жду, что будет. Тут, на счастье, наши открыли огонь. Француз остановился, залег. Ну, и поднялась же тут кутерьма: наши палят, француз тоже не молчит. Только к вечеру наши отогнали его. Тогда и меня из окопа вытащили. С мокрыми портками…
Дед тоже в долгу не остался. Забыв, что дело за столом происходит, он обстоятельно, со всеми подробностями поведал, как вместе с еще несколькими безвылазно проторчал целую неделю в одном окопе под Тутраканом. Румын чесал из пулемета — носа не высунешь. И пришлось им тут же, в окопе, все свои нужды справлять, а потом на лопатках наружу выбрасывать, так что пули попадали только в лопатки. На восьмой день, однако, пришлось отходить назад. Вот тут румын и полоснул из пулемета. Все полегли, один дед остался жив. А румын-то пулемету не поверил. К одному подойдет — в брюхо саблей пхнет, иного по башке стукнет. Проверял, может, затаился кто, прикидывается мертвым. У кого нервы оказались слабые — дернулись, застонали. Румын их, ясное дело, прикончил. Подошел он и к деду, шмякнул по голове, но дед ничего, даже не шелохнулся.
— Ткнул это он, — продолжал дед, — а голова у меня так и брякнула, будто пустой кувшин. И сабля в сторону отскочила. Пустил он струйку на мою неподатливую болгарскую тыкву и ушел себе…
Дед продемонстрировал шрам на голом своем темени, и снова все, опять же за исключением моей матушки, запрокинули рожи к потолку.
5
Когда все насытились до полного изнеможения, Баклажан поднялся и торжественно объявил, ради чего пришли они дразнить могиларовских собак. Так и так, дескать, у нас есть крышка, у вас — кастрюля. Крышка испокон веку стремится подыскать себе кастрюлю, чтоб, значит, закрыть ее, а кастрюле, само собой, нужна крышка, что прикрыла бы ее. Верно ведь, дядюшка Георгий?
Баклажан не хуже любого нынешнего писателя понимал, какой магической силой обладает образное слово, и широко применял его в своем деле. И, как истинный художник, не любил повторяться. «У нас — гвоздь, у вас — доска. А чего стоит доска без гвоздя?..» Сравнения его были точны и метки, переходили из поколения в поколение. Годы пройдут, а люди по-прежнему будут говорить о ком-нибудь «Янкова доска» или «Лисаветин гвоздь».
Матушка при этих словах Баклажана покраснела и отвернулась к стене, будто услышала нечто неприличное. Вообще-то она давно уже испытывала томление, как та кастрюля по своей крышке. Ей бы сейчас и обрадоваться, что крышка наконец нашлась, а она решила разыграть стыдливую невинность, В ту пору стыдливость и уж в особенности невинность для девушки были основным капиталом, поэтому матушка не могла, конечно, не продемонстрировать его перед родителями жениха.
А вот дед Георгий вроде бы не желал согласиться с азбучной истиной по части кастрюли и ее крышки. Он был человеком дела и высказался в таком духе: ежели слова не подкрепить чем-то, что можешь увидеть глазами и пощупать руками, они так и останутся словами, а на слова способен любой, даже Иванчо-дурачок, который присядет на корточки у чужого порога и говорит пустые слова. Даже коровье дерьмо стоит дороже пустого слова, потому что коровяком хоть пол можно подмазать, если смешать с мелко нарубленной соломой и глиной…
Так он недвусмысленно дал понять будущим сватам, что не намерен попусту чесать язык. После этого деликатного заявления он многозначительно откашлялся и снова погрузился в молчание. Молчали все. Целую минуту никто не проронил ни звука, только дед почесал голое темя — ноготь указательного пальца оставил на нем темно-красную полосу, след душевного волнения перед решительной схваткой.
— Мы-то покупатели, так что за вами первое слово, — проговорил он. — Нам-то что — возьмем девицу — и домой.
— Ишь ты, руки коротки! — подала голос Каракачанка. — Так вот, без ничего вы и пальцем до нее не дотронетесь.
— Ну, так скажите же ваше слово!..
Каракачанка сказала такое, что дед с бабкой уставились друг на друга, и глаза у них полезли из орбит, как у надутой мыши. Помню, когда я маленько подрос и мог уже сам управляться за столом с ложкой, меня вместе с другой такой же малышней посылали пасти ягнят. Порой удавалось нам поймать мышь-полевку. Брали мы тогда соломинку, вставим ей под хвост и давай дуть — глаза у зверька выпучатся, прямо чуть не с кукурузное зерно, пухнет мышь, пока не помрет… Вот и сейчас цена будущей снохи подействовала на деда с бабкой похлеще сжатого воздуха.
Матушка моя и сама не подозревала, что ценится так высоко. Она еще больше смутилась, на этот раз от счастья. А что ж! Каждый из нас не то что, скажем, шкаф или корова — приятно сознавать, что тебя ценят высоко. Как тут не почувствовать себя счастливым?
Дед Георгий заметил дочкино волнение, подал ей знак глазами, и она скрылась в соседней комнатке. Села там в темноте, страшно собой гордая. Ведь прежде отец считал ее не дороже курицы, а тут потребовал три тысячи левов, бычка, две пары юфтевых башмаков (для будущего моего дядюшки, которому еще предстояло вырасти, а в тот момент он спал, как блоха в складках дерюги), четыре пендары[11] и разные другие вещи первой необходимости.
Первым желанием деда было встать и возмущенно удалиться, но он быстро взял себя в руки, усмирил взыгравшую гордость и в свою очередь рванул с дальним прицелом. Дадим, дескать, почему не дать, пальцы у нас на руках, слава богу, шевелятся каждый по отдельности, а не срослись перепонкой, как у гуся. Только ведь надо посмотреть сначала, какое за невестой получим приданьице. Так-то вот!.. До того его задело за живое, что нарушил он этикет, не дождался, покуда его министр откроет стрельбу, а сам послал шрапнель на головы тех. Подавай, значит, двенадцать овец, телку, четыре стеганых одеяла, двадцать пять рубашек, четырнадцать платков, десять пар чулок, десять декаров земли, той, что возле кургана, поближе к нашему селу, и прочее.
Супротивная сторона отнеслась к дедову залпу весьма спокойно. Позиции их остались невредимы, а шрапнель разорвалась далеко за передним краем, только пыль подняла. Четыре часа подряд стороны играли в достоинство, палили для его поддержания из всех видов оружия. Что ж, это в порядке вещей: люди всегда играют тем, или, вернее, ради того, чего им не достает. Я здесь, конечно, не имею в виду нас, добруджанцев, поскольку известно, что каждый из нас — само воплощение достоинства. Не удивительно, что именно у нас, в Добрудже, родилась поговорка про голое пузо и пару пистолетов. У нас всегда было полно гордецов, особенно среди тех, у кого в брюхе, как говорится, кишка кишке кукиш кажет, но чтоб они перед кем шапку ломали — такого не дождетесь. Приезжайте в Добруджу — люди встретят вас радушно, накормят и напоят, но не увидите вы, чтоб хоть один снял перед вами шапку. Шапки мы снимаем только перед умершими, потому что только они достойнее нас.
Ну, а дальше пошло так: с каждой следующей выпитой чаркой переговоры принимали все более деловой характер. К полуночи дед великодушно уменьшил число овец до двух (как и задумал в самом начале), до двух сократил и одеяла, отказался от телки, вот только насчет земли твердо стоял на своем, язык у него не поворачивался уступить хотя бы декар. Супротивная сторона истолковала его великодушие как добровольную сдачу позиций. Такова уж логика торга во время сватовства — сложивший оружие, как и на войне, должен принять диктуемые ему условия. Что и говорить, дед совершил роковую тактическую ошибку и сам наложил на себя тяжелую контрибуцию, хотя до выплаты ее, как мы увидим, дело не дошло. Те, что сидели напротив, припечатали цену, словно гвоздь в дубовую доску вогнали (по выражению Баклажана), и скрестили руки на груди. Дед пошел на все, только бы закончить этот торг. Уж он и крестом себя осенял и дедушку Георгия так хлопал по руке, что у того несколько раз шапка с головы падала, — все напрасно. Не помогло и красноречие Баклажана.
Потеряв всякое терпение, дед поднялся из-за стола, нахлобучил шапку. Разозлился он и все ж напоследок еще раз предложил дедушке Георгию ударить по рукам: два декара пашни — и закончим, дескать, на этом, как подобает порядочным людям.
— Земли не дам! — отрезал тот.
— Да кто ж выдает дочку без земли? — удивился дед. — Завтра детишки народятся, должны ж они что-нибудь от матери иметь?
Дед, судя по всему, имел в виду мою милость. Знай он, что я впоследствии и не пикну про эти два декара, дед, вероятно, принял бы условия и переговоры благоприятно бы завершились.
Те просто сверкали от удовольствия, как сверкает капля на кончике насморочного носа, и эта капля выводила наших из себя, возбуждала у них гнев и злобу, потому что бессилие всегда порождает злобу, берет ее за руку и вытаскивает на передний план. Дед яростно напялил на себя ямурлук и бросил в сердцах:
— Да будь ваша дочка из чистого золота, и то бы не стоила так дорого.
— Может, она и не золотая, но к чему ни прикоснется — все золотым делает! — отозвалась Каракачанка.
Дед с издевкой окинул взглядом комнату:
— Что-то я тут не вижу никакого золота. Или дочка ваша ни к чему никогда не прикасалась, или вы рогожу принимаете за золото. Ну, а мы-то видели золото, от него трещат карманы у моего сына.
— Слыхали мы вести про шесты и насести! — засмеялась Каракачанка. — Нечего тут плести кошели с лаптями…
Несколько десятилетий спустя это цветистое выражение было взято на вооружение современной молодежью, и когда я впервые услышал его в кафе «Бамбук», то с гордостью подумал: вот и мы кое-что дали родному языку!
На рассвете бабка, дед и Баклажан, поднимая снежную пыль, покатили обратно. Лаяли собаки, горланили петухи, и в этом не было ничего необычного, но нашим казалось, будто собаки насмешливо гавкают им вслед: «Где уж вам!..», а петухи вопят: «Голодранцы-ы-и!..» Дед ожесточенно стегал лошадей, те зябко вздрагивали, будто их в одних пижамах выставили из теплой постели на мороз, оскальзывались на наледях, падали. Нашим надо было вернуться затемно, чтоб никто не увидел, что возвращаются они ни с чем. Конечно, самолюбие их было задето, но кто на их месте, спрашивается, не лопался бы от злости после такого дипломатического провала? Вместо того чтобы на бешеном скаку с пистолетной пальбой промчаться по улице, переполошить все село, им приходилось теперь пробираться чуть не на цыпочках, а утром делать вид, будто и слыхом не слыхали о каком-то там сватовстве в Могиларове. Кашляя и чихая с холоду, они вели подробный разбор случившегося, и, как это бывает во всяком коллективе, каждый старался переложить вину за неуспех на чужие плечи. Дед обвинял бабку, что та молчала все время и вообще показала себя мокрой курицей, а Баклажана — почему он трусил перед какой-то цыганкой и не дал ей бой. Баклажан, опять же, поносил деда за то, что тот никак не мог остановиться, закрыть рот, совсем как тот пес-пустобрех, которому лишь бы лаять. И вообще, по мнению Гочо, ни в коем случае не следовало уступать ни пяди этим голодранцам, это всякому ясно, ну, а коли сам слабину показал, никто с тобой церемониться не станет. И дальше все в таком же духе.
Впрочем, сколько бы он ни выискивал причину провала в действиях других, Баклажан отлично понимал, что акции его вконец упали, все отнесут за его счет, а такое случалось с ним впервые. Сватовство было его призванием, как поэзия для поэта, а если уж сопоставлять пользу для человечества от состоявшейся, скажем, помолвки и новой поэмы, то ясно же, насколько первая полезней. Человечество может веками обходиться без поэм, а вот коли не будет помолвок и браков, оно обречено на самоуничтожение. И если оценивать деятельность Баклажана, отталкиваясь от этой великой житейской истины, сразу станет понятно, почему амбиция его возрастала обратно пропорционально подорванному престижу. Еще до того, как въехали они в село и тишком проскользнули по улицам, Гочо стукнул себя в грудь и заявил деду, что через несколько дней у того будет сноха. Живая ли, мертвая, но будет! Дед — натура, как уже упоминалось, скептическая — не допускал даже мысли, чтобы раздобыть сноху умыканием. Ведь для такого дела надо иметь крепкие штаны, а таковых, по его мнению, не было ни у Баклажана, ни тем более у моего папаши.
— Уж предоставь это мне! — заявил Баклажан.
Для вящей убедительности он поклялся своими усами, но после того, как дед отверг этот его залог, поклялся честью, потом коровой и, наконец, собственной головой. От головы этой дико несло винным перегаром, она, видно, задалась целью во что бы то ни стало свалиться с его плеч, так что деду весьма трудно было полагаться на такую голову.
6
В те дикие и чудные времена в нашем еще более диком и чудном краю совершалось множество самых разнообразных краж. Крали овец, угоняли волов и коней, умыкали и девушек. Некоторые из них, правда, сами себя умыкали — у нас их называли «пристанушами»[12], — и совершалось это быстро, без сучка и задоринки, все равно как гол, забитый футболистом в собственные ворота. Иных девушек надо было похищать любой ценой, поскольку родители не позволяли им выйти замуж за их избранников. Существовала и третья категория девушек, которые в умыкании видели способ поднять собственную цену в глазах будущего супруга и всего общества. Эти похищения инсценировались ради чистой показухи и были легки для исполнения, словно современные пьесы. Потом, однако, молодухе, украденной подобным способом, ничто не мешало напоминать время от времени собственному супругу, что вот, дескать, он ее похитил, значит, она была для него очень желанной, и это доставляло ей удовольствие всю жизнь. Говорили, к примеру, о ком-нибудь — «похищенная Ганка», и остальные женщины испытывали известную зависть: надо же, какой муж у этой Ганки, жить без нее не мог, даже умыкнул ее!
Если в двух случаях похищение невест было плевым делом, то в третьем в игру вступали кинжалы, пистолеты и железные дубинки. Тут уж похитители должны были быть настоящими мужчинами. Сильные и бесстрашные, проникали они среди ночи в дом невесты, поднимали ее с постели, словно запеленатого ребенка, или на глазах у всего села умыкали девушку из церкви, прямо из-под венца! Конечно, не обходилось и без того, что иной из парней расплачивался за свою смелость собственной ногой, а то и головой, но, как внушали нам в свое время бабушки, какой же юнак без раны… Люди в моем краю ревностно хранят традиции прадедов, сохраняют и воровские традиции. Конечно, неумолимое время на все накладывает свой отпечаток, меняет оно и традиции, как бы ни старались мы их уберечь, в лучшем случае малость осовременивает их. Сейчас, к примеру, и это искусство смелых приближено к требованиям современности, но ведь иначе и быть не может — прогресс дает о себе знать во всех наших начинаниях. Никто уж не умыкает девушек среди бела дня, это считается варварством, к тому же и девушки не ждут, пока их умыкнут, сами приходят к тому, кто им приглянулся. Бывают случаи, когда они прилепляются к уже женатым мужчинам, отпихивая локтями их супруг с детишками. Вообще нынче кражи у частных лиц называют буржуазным предрассудком. Теперь крадут у государства или в сельскохозяйственном кооперативе, используя при этом всевозможные бумаги, да так ловко, что иной раз комар носа не подточит…
Умыкание невест, как и всякое искусство, давно уже нуждалось в своем новаторе, и он не замедлил объявиться в лице моего родича — дядюшки Мартина. Был он первым полуинтеллигентом в целой нашей околии — три года проучился в гимназии, но, как всякий новатор, отличался известной эксцентричностью и с гимназией расстался. О дядюшке Мартине мне бы хотелось порассказать много всякой всячины, поскольку был он замечательной личностью, взбаламутил всю нашу Добруджу, водил за нос местную власть, годы подряд вел с ней отчаянную игру, смеялся ей в лицо, как никогда прежде никто не осмеливался. Непременно расскажу о нем, но в другой раз, а сейчас хочу лишь упомянуть, что это он внедрил метод так называемого бесследного умыкания девушек, чем избавил добруджанцев от кровопролития и напрасных человеческих жертв. Прежде ведь как бывало? Родичи похищенной искали ее в доме жениха. Находили, конечно; при этом выламывали двери и вдребезги разбивали окна, завязывалась перестрелка, так что подчас и сама виновница всей этой кутерьмы оказывалась жертвой. Ну, а дядюшка Мартин надумал увозить похищенную девушку куда-нибудь в другое село. Заявятся родичи искать ее в доме того, на кого у них пало подозрение, а там ее и в помине нет. С тем и уберутся восвояси. Через несколько дней дойдет до них весть, что девушку-то обвенчали, тут, само собой, проклятья, угрозы, да ведь после драки кулаками не машут — печать молодухе уже припечатали, вороти ее, никто все равно брать не станет.
Баклажан не мог один решиться на такой подвиг, и первое, что ему пришло на ум, это воспользоваться помощью дядюшки Мартина, да тот на беду запропастился куда-то: у него ведь и своих дел хватало. Тогда Баклажан сговорился с Танчо Верзилой. Тот в самом деле был детина хоть куда, и если бы наши прочли «Под игом», наверняка прозвали бы Танчо Боримечкой[13]. Бабка-повитуха, которая Танчо принимала, еле его вытащила, а мать тут же испустила дух: доконал ее этот младенец величиной чуть не с телка. Такого здоровяка прежде не рождалось во всей Добрудже, и люди судачили, что у Танчо по меньшей мере три отца. Танчо считался одним из лучших специалистов по умыканию невест. Умел он подстеречь девушку, набросить на нее ямурлук, зажать рот, метнуть ее в телегу. Вторым помощником Баклажана должен был стать мой родитель, но тот, как мы уже видели, не любил подвергать себя опасности ради прекрасного пола. Он, что называется, ушел в глубокое подполье, затаился где-то на заднем дворе, и никто не мог его сыскать. По всему было видно, он не собирался стать мне отцом и благосклонно уступал эту честь другому.
В тот вечер матушка моя отправилась к соседям на посиделки. Хозяин дома, которого Баклажан уже завербовал, должен был проводить ее до улицы и «приглядеть», пока она войдет к себе. Все бы удалось провернуть легко и быстро, не окажись на этих посиделках еще одна Бера, матушкина тезка, которой страсть как хотелось, чтоб ее умыкнули в соседнее село Карабелово. Карабеловец должен был ожидать ее за домом, у копны сена. Ближе к полуночи он и занял этот пост. И Танчо встал на свой пост — под навесом, у самого входа в дом. Хозяйский пес набросился было на него, недружелюбно рыча, но Танчо кинул ему целый каравай хлеба, и пес, как это водится у ретивых служителей, сразу продался. Спустя некоторое время дверь наверху открылась, и в световом проеме появилась та, другая Бера. «Ты не беспокойся, — сказала она хозяйской дочке, которая хотела проводить ее в одно место, — я уж сама, мне не страшно». Вторая девушка вернулась в дом, а Бера спустилась по лестнице и только ступила под навес — Танчо набросил на нее ямурлук и так запеленал, что той ни вздохнуть, ни охнуть. Для страховки Танчо и рот ей зажал, подхватил и бегом к телеге. Там уложил ее, по-прежнему не выпуская из рук, а Баклажан уж пустил лошадей вскачь. В дороге похищенная стала задыхаться, колотить ногами.
— Стоян, высвободи мне голову, — прохрипела она.
— Отпусти ее маленько, — сказал Баклажан, — А то еще задохнется, какая потом от нее польза. Зайдется от страха. Ишь, каким-то Стояном бредит.
Другая Бера не утихала, и чем сильнее брыкалась она и вопила, тем крепче держал ее Танчо Верзила. Тем временем они во весь опор неслись через пустынное темное поле. Эдак через час Бера устала орать, притихла, похоже, примирилась с участью стать мне матерью. Откровенно говоря, я бы не очень об этом сожалел, потому что была она богата и позже это избавило бы меня от многих невзгод и голодных дней. Только, вот дьявольщина, уже тогда мне крепко не повезло!
7
Дед с бабкой провели это время в нетерпеливом ожидании. Они сидели у погасшего очага, то и дело поглядывая во двор. Дед заранее предвкушал, как услышит грохот телеги, увидит сноху на пороге своего дома. Вот тебе три тысячи, получай золотые пендары, вот тебе башмаки! Не хотел добром — получи топором!.. Дед представлял, как изречет эту мудрость, будто сам хан Крум, и очень по этому поводу веселился. Но когда Танчо Верзила вытряхнул ему сноху и открыл ее лицо, дед с обалделым видом шарахнулся в сторону. То же сделала и бабка. Баклажан выпучил глаза.
— А-а-а! — воскликнул он.
Другая Бера встала, только ноги у нее дрожали, словно у слепого котенка. Была она маленькая, чернявая и страшновата лицом, а глаза, как выразился дед, огромные, будто плошки, и доверху полные слез. Зыркнула она этими плошками в сторону Танчо, забилась в угол, заскулила. Наши сидели — чурбаки чурбаками, потом дед спросил:
— Ты из чьих же будешь?
— Каишевых, — ответила она и опять заголосила. — Верните меня домой! Немедля верните! У-у-у, и-и-и-и-и!..
Достаточно поиздевался уж я над бедным своим пером, но сейчас пожалею его и попрошу тебя, читатель, чтоб ты сам представил ухмылку, которая появилась на дедовом лице. За чем пошли и чего нашли! Да если б дьяволу в поклонах они лбы в кровь разбили, и то бы не вымолили такой удачи!.. Дед дернул себя за ус, заулыбался, вид у него довольный. И у остальных тоже. Каишевы — это ж в Могиларове одна из самых состоятельных семей. О Баклажане и говорить нечего: он чувствовал себя на верху своего искусства и не помышлял признаться, что по случайности дал маху. Он же — благодетель, а с благодетелей не спрашивают за ошибки!
Довольство — это великое чувство, возникающее в момент, когда отхвачен жирный кусок, вокруг которого (чувства, конечно) философы нагромоздили столько великих теорий, но ни разу еще не назвали его истинным именем, потому что оно неблагозвучно и оскорбляет чувствительную человеческую натуру, — вдруг соскользнуло с дедовой физиономии, улыбка превратилась в гримасу, и весь он стал удивительно похож на хорька, которого обложили со всех сторон и который лихорадочно выискивает теперь лазейку, чтобы любой ценой спасти шкуру. И с другими произошла та же перемена, перемигнулись они между собой, быстро затолкали эту, с плошками, в соседнюю комнату и ринулись в темноту искать моего папашу. Хоть из-под земли его достаньте, но приведите, потому что сейчас все зависит от него!.. Все перешарили и наконец сыскали отца в хлеву, в коровьем стойле под яслями. Отряхнули с него приставшие соломинки и втолкнули в темную комнату. Плошки фосфоресцировали, пронизывали темноту и медленно надвигались на папашу, а он пятился, пятился, покуда не уперся спиной в стену. Светящиеся плошки становились все больше и страшней, словно глаза собаки Баскервилей, отец мой замахнулся, чтоб отогнать их, и тут что-то твердое стукнуло его по макушке.
— Только посмей меня тронуть! — услышал он.
— С чего бы это мне тебя трогать? — ответил отец. — Я тебя не трогаю, а ты вот бьешь…
Батюшка мой приткнулся в один угол, девушка — в другой, и так вот на расстоянии один от другого, будто собака и кошка, повели они разговор. Девушка корила папашу, что он умыкнул ее, когда она вышла из дому, чтоб ее похитил Стоян из Карабелова, а папаша отвечал, что не он тут виноват, это Танчо Верзила увез ее вместо Беры Георгиевой. Девушка быстро смекнула, что имеет дело с желторотым, заюлила вокруг него, принялась уговаривать, чтобы он нынешней же ночью отвез ее в Карабелово.
— Ладно, чего там! — сказал мой родитель, толкнул дверь, но она оказалась запертой снаружи.
К двери подскочил Баклажан, откинул щеколду. От него разило ракией, основательно приложились, видно, и остальные, они тоже просунули свои хари в дверной проем, готовые ударить шапками о землю. Баклажан шепнул что-то отцу, но тот скорчил гримасу: «Не хочу!», проскользнул мимо и исчез во дворе. Осознав, что случилось, дед запрокинул бутылку, глотнул еще ракии и проклял папашино семя.
— В нашем роду, — кипятился он, — мужик только взглянет бывало на бабу — и та уж зачала. А этот — чтоб ему пусто было! — непонятно, в кого уродился. В его-то годы я ух как падок был на девок.
Бабка кивала головой в знак согласия.
А в это время карабеловец лихо атаковал мою матушку. Едва почуяв в темноте женщину, он один, без посторонней помощи сграбастал ее и кинул в сани. Сильные кони подхватили их, будто в сказке — полозья вроде бы и не касались снега, а парили в снежных облаках; матушка лежала под теплой шубой, все еще ощущая прикосновение жестких и прохладных рук моего папаши и радостно изумлялась, до чего же быстро мальчишка превратился в настоящего мужчину. Брат похитителя, сидя впереди, вздымал лошадей в воздух; девушка, которую они умыкнули, была богата, как и они сами, и он, улыбаясь, думал о том, что деньги всегда к деньгам липнут.
Как бы ни полна была счастьем матушка, а глаза-то ей пришлось открыть — и тут она увидела рядом совсем другого парня, увидела, что по просторному чистому двору ведут ее к большому двухэтажному дому, разглядела и самого парня, с черными усиками, одетого в бараний тулуп и шапку из смушки; однако она и не подумала выяснять недоразумение, улыбнулась и с теплой взаимностью пожала ему руку. Карабеловец, кстати, и сам давно уж обнаружил ошибку по теплому и округлому телу, настолько отличному от костлявого тельца другой Беры, но промолчал, сказал про себя, что судьба, вопреки воле родителей, послала ему настоящую жену, прижался к ней и с нетерпением ожидал, когда введет ее в дом.
Ввели мою матушку в тот большой дом очень торжественно, на балконе ее поджидало все семейство, не хватало только цветов да музыки. Матушка, не моргнув глазом, поцеловала у всех руки, и, когда она склонилась перед братом, тот пронзил ее острым взглядом, отозвал жениха в соседнюю комнату. Немного погодя оба вернулись очень сердитые. Брат позвал отца, тот тоже вернулся сердитый. Так все семейство, один за другим стали сердитыми, глядели на матушку, как на сороку, которая попалась в силки вместо куропатки, и ломали головы, что с ней теперь делать — убить или выпустить на свободу, потом оставили ее одну, ушли куда-то на совещание.
Матушка выглянула в окошко на широкий двор, весь испещренный крестиками куриных лапок, и тихо заплакала — по этому двору, по большому дому, по саду и всему этому селу, в котором отныне и навеки могла бы остаться жить. Всплакнула и по парню в смушковой шапке, причем, как это мне ни неприятно, надо признать, что она даже и не вспомнила о моем батюшке. Но я ведь уже упоминал, что мне и в ту пору не повезло. Тут в комнату вошел отец парня, подвижной такой человечек с живыми, близко посаженными глазами, который вполне мог бы стать моим дедушкой и качал бы меня на коленях; он потребовал, чтобы матушка назвала себя, а потом равнодушно сказал, что произошла ошибка и эту ошибку исправят нынче же или завтра.
На рассвете Баклажан погрузил другую Беру в телегу и контрабандой доставил ее в Карабелово. Карабеловцы спросили, осталась ли она цела-целехонька, подхватили ее дрожащими руками, как хватают чужую вещь, усадили к Баклажану в телегу мою матушку, и поехала она к нам в село. Как бы там ни было, но дед восторжествовал. Однако, опасаясь, что те, из Могиларова, явятся боем вызволять свою кровинушку, ее укрыли у наших родичей, решив в первое же воскресенье сыграть свадьбу.
8
За два дня до назначенной свадьбы у одного из дедовых братьев вспыхнул пожар, сгорело все дотла. Этот дедов брат был большой фантазер, часто нес совершеннейшую околесицу и до того уносился в своих мечтах, что сплошь да рядом забывал про дела земные, житейские. Ему ничего не стоило отправиться на жатву с мотыгой или, скажем, с серпом в огород. Больше всего нравилось ему работать в воскресенье; мой дед по этому поводу говорил, что лентяи нарочно ходят на работу в воскресенье, чтоб другие это увидели и их похвалили. Этот дедов брат на всякий сезон придумывал какую-то одну тему, а потом развивал ее перед односельчанами. Так, он мог уверять их, будто был близким другом Христо Ботева и даже воевал вместе с ним на Македонском фронте. В другой раз объяснял, почему гуси плавают: у них, понимаешь, на лапках перепонки, а вот у кур таких перепонок нет, поэтому им к воде лучше не подходить — потонут. В тот вечер, когда он подпалил собственный дом, дедов брат лежал на полу и, уставившись глазами в потолок, пытался найти объяснение, как это удается мухам ползать по потолку и при этом не свалиться вниз. После долгих размышлений он догадался, что, конечно же, мухи намазывают себе лапки клеем, потому и не падают. Он живо представил самого себя мухой, как он, не падая, топает по потолку, вверх ногами, потом заснул, а тем временем пламя из керосиновой лампы, которую он поставил туда, куда ставить не следовало, — под связки конопляной кудели — лизнуло одну из них, а от нее занялся и потолок. Горящая балка обрушилась, стукнула мечтателя по голове. Когда его уложили на снегу и пытались сбить с него пламя, он объяснял окружающим, что балка упала оттого, что обгорела и уже не могла больше держаться на своем месте под потолком… Со временем я установил, что многое унаследовал от моего родича. Как и он, очень я люблю пофилософствовать по пустякам и досаждать другим; увлекшись, забыв обо всем, я тоже не раз устраивал пожары или переставал следить за скотиной, и сторожа-объездчики чуть ли не через день угощали меня березовой кашей. Похоже, не только от этого родича, но и ото всех остальных я унаследовал понемногу; порой я сам себе кажусь этакой цыганской торбой, битком набитой огрызками чужих привычек и страстей. Если задуматься, чего только в самом деле нет у меня!..
Когда пожар потушили, погорельцев пристроили у родных, а на следующее утро дед повел своего племянника к богачам, чтоб подыскать для него работу. Пареньку минуло шестнадцать, звали его Ричко, теперь ему предстояло взять на себя заботы о семье. Хутор находился километрах в трех от села, и они прибыли туда той ранней порой, когда собаки еще только потягиваются и шумно зевают, а овцы и скотина проступают на снежном холсте желтыми и коричневыми пятнами. Хутор просыпался, и сопровождалось это перезвоном колокольцев на овечьих шеях, кукареканьем, лаем, ржаньем, что окончательно отгоняло утреннюю дрему; эта симфония пробуждения разносилась в белом спокойствии полей. Зимой здесь нет эха, поскольку звук не встречает преград, птицей носится он над заснеженной степью, пока не ослабнут крылья, да и степь не повторяет его, а, подхватывая, поет.
Перед домом умывался снегом Михаил Сарайдаров. Засучив рукава белоснежной рубахи, расстегнутой до пояса, он загребал ладонями снег, фыркая, растирал шею и грудь. Кашлянув, дед поздоровался.
— Чего тебя принесло в такую рань? — сказал Сарайдаров.
Он взял полотенце, висевшее рядом на деревце, и начал растираться. Все у него было мужественно и благородно и в то же время хищно и жестоко. Росту выше, среднего, с тонкими усиками, лицо прорезали прямые глубокие складки, мужественность всего облика скрадывала прожитые им пятьдесят с лишним лет — по его виду ему нельзя было дать и сорока.
Сарайдаров выслушал просьбу и, повесив на шею полотенце, повел их на скотный двор. Открыл ворота конюшни — внутри блеснули лоснящиеся крупы вороных жеребцов. Для выездов держал он две пары лошадей: одна пара — снежно-белые, словно лебеди, другая — угольно-черные, будто черти. По тому, какая из них в упряжке, крестьяне угадывали, куда он едет и в каком настроении. Катит на вороных, лучше уходи с дороги, избегай с ним встречи. Значит, выехал по каким-то делам, скорее всего неприятным. Зато когда увидишь мчащихся белых коней, словно упряжка святого Ильи летит (всем почему-то казалось, что белые кони летают в воздухе и вызывают гром), можешь смело идти навстречу, можешь даже поздороваться — в ответ он поднесет руку к шапке, а то и остановится, поговорит с тобой. Если такая встреча произошла в селе, может даже пригласить в корчму, угостить. Сам посидит часок-другой, ежели подвернется Колю с его гайдой или цыган Гасан с кларнетом. Сарайдаров всегда держался очень прямо, казалось, его целиком втиснули в огромные сапоги, пил крупными глотками, время от времени оскаливал свои волчьи зубы и непрерывно что-нибудь заказывал. «Для души», — говаривал он, не считая, выкладывал на стойку кучу банкнот, одну приклеивал Гасану на лоб и уходил. Отправлялся в город успокаивать взволнованную душу с какой-нибудь своей содержанкой, обитающей в его городской квартире, а то, бывало, целую ночь прокутит в шантане Цинцара, требуя, чтоб цыганки и певички парами сидели у него на коленях, лепил им на лоб банкноты или засовывал прямо за пазуху, а утром велел вызвать для себя три экипажа. В один садился сам с какой-нибудь девкой, в другом везли его шапку, а в третьем — трость. Кортеж этот медленно и торжественно следовал по улицам, пока не останавливался у его дома…
Сарайдаров набросил узду на одного из вороных жеребцов, на Аспаруха, и вывел его во двор (вороным он дал клички Аспарух и Крум, белым — Симеон и Петр)[14]. На снегу Аспарух казался особенно черным, сверкал чистыми белками глаз. Еще переступая порог, он высоко задрал царственную свою голову, вдохнул свежий воздух и взыграл. В глазах у него блеснул огонь его страшной праболгарской силы, мускулы заскользили под кожей, будто слитки черного золота. Красота и бесовская сила — вот что это был за конь, готовый перемахнуть через любые ограды и податься в чисто поле. Но Сарайдаров крепко держал его, наслаждаясь им с какой-то дикой усмешкой, при этом обнаружилось поразительное сходство между ним и конем. Вороной зверь запрокинул голову, заржал, встал на дыбы, оскалился, как и его хозяин, удила проскрежетали в его пасти, на темном бархате губ проступила пена. Сарайдаров успокоил его, перехватил покороче уздечку и замер перед конем.
— Ну-ка, парень, пройди под ним! — сказал он с волчьей усмешкой.
Паренек не поверил собственным ушам, замигал, глянул на деда, а тот глуповато осклабился и ничего не ответил. Наслушался он про чудачества этого хуторянина, но не предполагал, что тот проявит к малому такую жестокость.
— Ежели ты настоящий мужчина, то пройдешь под конем, ежели нет — голодать тебе вечно, — проговорил Сарайдаров. — Ну, але-е гоп!..
— Стисни зубы и ступай! — проговорил дед. — Если зверюга эта, мать ее так, наступит на тебя, хозяин озолотит.
Рассчитывать на то, чтоб Сарайдаров озолотил кого-нибудь из своих работников, было трудно, но платил он им хорошо, особенно если справятся с испытаниями, которые он для них изобретал. Дед подтолкнул паренька, тот сделал шаг вперед. Черный зверь топтался на месте, казалось, испускал из ноздрей огненные искры. Паренек зажмурился, упал на четвереньки и пролез под брюхом чудовища.
— Молодец, парень что надо! — сказал Сарайдаров, глядя на потное лицо Ричко. — Ты настоящий мужчина! Будешь у меня возницей. Баста, кладу тебе пятьсот левов!
По тому времени это были довольно большие деньги, и дед даже икнул от неожиданности. Сарайдаров завел коня в стойло, еще раз оглядел парня и хлопнул его по плечу.
— Беги на кухню, поешь!
Он пошел в дом одеваться, а дед заковылял обратно в село.
9
Матушку мою записали «пристанушей», и венчали молодых дома. В воскресенье утром Баклажан ввел ее в дом моего родителя. Дом сверху и с боков придавили снежные сугробы, так что матушка не могла познакомиться с особенностями его архитектуры. Несколько траншей вели к хлеву, кошаре и амбару, а главная пролегла к землянке «а ля первая мировая война». Возле нее не хватало только часового, который сделал бы перед матушкой «на караул» винтовкой с примкнутым штыком. Внутри землянка больше походила на жилище, хоть и была выкопана весьма глубоко. Ростом матушка довольно высокая (на две головы выше отца), и с первого же разу, входя в будущее свое жилище, стукнулась лбом о притолоку. «На здоровье!» — сказал ей тогда дед, а впоследствии, когда она частенько набивала себе о притолоку шишки, уверял, что такое полезно для женщин, помогает им, прежде чем войти в дом, собраться с мыслями. У матушки сверкнуло в глазах, потом разлилась темнота, и только через некоторое время в темноте этой снова мелькнул свет; матушке живо представилось, как потолочные балки прогнулись, готовясь снова стукнуть ее по лбу, поэтому она как встала в дверях, так и не двинулась дальше. Тут, у порога, ей официально отрекомендовались все члены семейства, начиная с деда и кончая тремя сорванцами, еще неумытыми и растрепанными. Они прятались друг за друга, таращили на нее глаза и ковыряли в носу.
Матушка попыталась было сказать им что-нибудь приятное, но они скрылись в складках широкой бабкиной юбки и оттуда зыркали одним глазом. Как бы там ни было, матушку не обескуражило все увиденное, она только усмехнулась, вспомнив, как ее сватали за торговца, промышляющего скотом. Была она по характеру оптимистка и подумала, что трудности для того и существуют, чтобы их преодолевать. Матушка изрекла эти заветные слова в 1922 году, когда меня еще не было даже в помине, но с тех пор они стали неизменным правилом будущей моей жизни, а матушка послужила прототипом положительных героинь будущих моих романов. Истинным и сознательным оптимистом меня сделал, однако, объездчик Доко, о котором я еще с признательностью вспомню несколькими страницами позже.
Разыскали у кого-то из соседей подвенечную фату и накрыли ею матушку, чтоб могла под ней поплакать о родительском доме и заранее оплакать светлые дни, ожидающие ее в новом доме. Папашу обрядили в шубу, нахлобучили ему по самые уши барашковую шапку, хотя в комнате было до того тепло и душно и столько набилось народу, что он не мог вытереть носа. Пришел и поп Костадин. Он, словно пьяный тенор, завел свою арию еще снаружи, ввалился в комнату и, продолжая петь, подал бабке пустое кадило: «Положи, Неда-а-а, в кадило два уголечка-а-а! А вы вста-а-аньте у стены, как осужденные на сме-е-ерть!..»
Поп уже успел наклюкаться и, как всегда в подобных случаях, служил не по требнику, а молол первое, что на ум придет, оснащая эту свою речь церковнославянскими словечками, так что никто ничего не мог понять. За исключением разве дядюшки Мартина. Тот, легко расшифровывая поповы словосплетения, просто лопался от смеха. А поп распевал примерно следующее: «Ох-ох-хо-о-о! Что-то мне ударило в голову-у! Но воистину верно сказано, что клин клином вышиба-а-ают. Надо будет еще пропустить сразу после венча-а-ания. Жарко тут будто в курином заду, просто не продохну-у-уть. Малый этот, по-моему, совсем зеленый, небось не достиг еще законного совершеннолетия-я-я, но коли так приспичило ему жениться, пусть сам потом за это и распла-а-ачивается-я-я!.. Пеевы, Пеевы, к ним пойду я напоследок, к ним, имеющим трехлетней выдержки ракию, которую они хранят в тутовом бочонке, благослови их бог во веки веко-о-ов…»
В заключение поп Костадин подробно описал семейный рай, в который совместно вступают мои отец с матерью, посоветовал ей слушаться мужа своего, не позволять себе никаких вольностей с другими мужчинами, трудиться дома и в поле, столкнул их головами и на том завершил обряд бракосочетания.
Гости хлынули наружу глотнуть свежего воздуха и подготовить желудки к еде и питью, а дядюшка Мартин, вытащив пистоль, с первого же выстрела свалил галку, усевшуюся на верхушке акации. Поп Костадин тоже вытащил из-под рясы самопал, пальнул в другую галку, которая сидела на соседской дымовой трубе, но не попал — и не только в птицу, но даже в дом. И поднялась тут великая пальба, причем дядька посылал свои пули очень точно, стрелок он был почище Вильгельма Телля. Вроде бы даже не целясь, мог поразить летящего воробьишку в сердце или голову — куда угодно. Ну, а попу Костадину ракия затуманила голову, и камилавка ему мешала, он ткнул ее в снег, но, как ни целился, попасть ни во что не смог. Среди мохнатых шапок и черных платков он один был с непокрытой головой. Волосы до плеч, серебряный крест на шее и старинный пистолет в руке — с гордостью могу я сообщить современным битлам, что их патрон жил и помер в моем родном селе. Думаю, многочисленные его почитатели и последователи могли бы скинуться хоть на скромную памятную доску — пусть бы висела на его доме.
Настоящая свадьба началась вечером. Вытащили на середину бочку вина, рядом поставили другую — с рассолом, чтоб протрезвляться, отплясывали вокруг бочек хоро, ряженые изображали разные там штуки, а к полуночи все набились в дом в ожидании сладкой ракии. Подогрели ее, подсахарили, налили в бутылки с перевязанным красной лентой горлышком и поставили у ноги посаженного отца.
Наступил торжественный момент моего зачатия.
Матушку и отца заперли в комнате, а остальные удалились в соседнюю в ожидании положенного обычаями зрелища. Баклажан дал отцу самые подробные инструкции, подготовил его, так сказать, психологически, как перед состязанием поступает тренер со своим питомцем; то же проделала с матушкой одна из соседок. Да, в ту пору тратили время на советы молодым в подобных случаях, а мы нынче тратим месяцы и годы, вколачивая им в башки, чтобы воздерживались от подобных вещей хотя бы до окончания школы…
В комнате было темно, посередине белела невестина сорочка, разостланная поверх одеяла. Снаружи шумно разговаривали, пили, дурачились, но все прислушивались, не отворится ли дверь. Матушкина советница была начеку, время от времени выходила и вновь возвращалась с блудливой ухмылкой в глазах. По ее мнению, первый раунд уже миновал, она отсчитывала про себя минуты, чтобы на девятой войти в комнату, взять сорочку и представить ее собравшимся на обозрение. Баклажан, который тоже вел отсчет времени, начал уже беспокоиться. Он выбрался наружу, прошелся по двору и, выжидая, привалился к дверному косяку. Он считал, что гонгу давно бы уж пора отметить конец третьего раунда, а родитель мой все еще торчал на краю ринга и боялся оторвать спину от веревки, сделать шаг в сторону противника. Для его чувствительной натуры все эти языческие обряды были не по вкусу, а к тому ж был он и трусоват. Слабость эту он в ту ночь и мне передал по наследству. Я и поныне боязлив, и чем дальше уходят годы, тем больше. Боюсь трамваев, машин, грозы, женщин, критиков, начальников, государственных деятелей, да мало ли чего! Порой мне даже кажется, что я страдаю манией преследования. Или вдруг представится, как вот-вот произойдет землетрясение, дом накренится на одну сторону и я, вместе со всем своим скарбом, свалюсь с четвертого этажа. Или что земля, вертясь вокруг самой себя и вокруг солнца, вдруг сорвется с этой своей орбиты и ухнет на какое-нибудь иное небесное тело. А подчас так живо представляю, будто где-то что-то этакое я сказал, и дрожу недели подряд: а вдруг тот, кому я это сказал, сообщит куда не следует. В конце концов я начинаю сознавать, что ничего вовсе и не говорил и зря столько дрожал. Спустя несколько лет после того как я родился, бабка усиленно меня стращала всякими лешими да упырями — это чтоб я ее слушался, — и, наверное, с той поры стал я таким боязливым и послушным. Представляете, однажды я сказал приятелю, что троллейбусы у нас в районе ломаются каждые полчаса, и на этом основании сделал обобщение, будто у нас вообще нет городского транспорта (разозлило меня, что в тот вечер опоздал в театр), и вот потом, когда я вернулся домой, почти всю ночь глаз не сомкнул, меня трясло, а когда удалось ненадолго уснуть, привиделось, что наезжают на меня сердитые троллейбусы, и один ответственный работник транспорта крупными стежками зашивает мне рот, как зашивают начиненного всякими разностями ягненка. Много мне пришлось подрожать в жизни, много, и все, если разобраться, попусту. Вообще-то, как мне доводилось слышать, немало людей напускают на себя страху из-за мелочей. У них, конечно, могут быть к тому причины, а что касается лично моей боязливости, это у меня чисто наследственное. И автобиографию эту начал я писать, можно сказать, с перепугу. Некоторое время назад одна довольно высокопоставленная (но не выше директора) личность без всякого к тому повода публично заявила, будто я выходец из богатого, аристократического семейства. Ну, само собой, труханул я, несколько даже засомневался, а может, оно и в самом деле так, но потом засел за автобиографию, которую решил начать с событий, предшествовавших моему рождению, чтоб опровергнуть ложное утверждение, ткнуть в рожу того типа неоспоримые факты. Пишу вот и заранее злорадствую, представляя, как читает он мое жизнеописание, как бесится от досады, что не может приписать мне ни одного из грехов того презренного класса. Ко всему прочему я еще и злобен малость, да ведь известно — кто трусоват, тот и злобен. Вот и родитель мой, ничего что он сельский пролетарий, а тоже оказался немного злобным. Когда Баклажан, потеряв всякое терпение, постучал в дверь и начал выспрашивать, как да что, папаша злобно стиснул зубы и не стал ничего отвечать. А еще пуще он разозлился, когда вся орава загрохала кулаками в стену: «Эй, зятек, ты, часом, не уснул там?..» Тут уж, вконец разозлившись, он подсел, а затем и прилег к матушке. К сожалению, в те времена, всякие там мини-одежды еще не вошли в моду, и он потерял добрых два часа, пока разобрался в бесчисленных юбках…
(«Боже! — слышится мне, как восклицает он сейчас, спустя сорок лет. — До чего же нынешним мужчинам легче живется!..»)
Когда пропел первый петух, прогремел и первый выстрел за порогом. Родитель мой давил на спуск заржавленного самопала, возвещая миру о том, что стал он мужчиной, супругом — не без труда и несколько преждевременно, но стал. Эти примитивы гости таращились на сорочку моей матушки, наливались, будто поросята, сладкой ракией и горланили песни, а отцовы выстрелы превращали утро в решето, приводили в исступление окрестных собак и сотрясали дома, так что даже блохи, затаившиеся в тюфяках, перепугались не на шутку. Папаша мой продолжал громыхать. Как все в нашем роду, он тоже не прочь был прихвастнуть, извел целый ящик патронов.
10
Матушкины родители не случайно потребовали за нее три тысячи левов, несколько голов скота и десять декаров земли. Она стоила гораздо больше этого, хотя бы потому, что родила меня и дала Болгарии сына, без которого судьба Болгарии была бы ой какой несчастной. Но будем скромными, как нас тому учат ежедневно и ежечасно, предоставим последнее слово истории. А чего стоит другой матушкин подвиг? Она ведь вычистила авгиевы конюшни нового своего семейства и уничтожила столько тварей, сколько нынешним санитарным службам не вывести и за десяток лет, а ведь она-то, не надо забывать, действовала безо всяких препаратов. Бабка испытывала высшее наслаждение, когда устраивалась погожим деньком где-нибудь на припеке и звала мою матушку, чтобы та ей поискала. Бабкины волосы что вороново крыло, и всякая живность, ползающая в них, была различима невооруженным глазом даже с улицы.
А в остальном все обстояло хорошо, даже поэтично. Особенно хороши были утра, когда мать поднималась раньше других, еще до восхода солнца, растапливала печь, сажала в нее хлебы, готовила в поле харчи. Восток румянел, будто хлеб в печи (сравнение моей матери, которое я впоследствии часто и успешно использовал), на акациях щебетали воробьи, возвращались из ночных заведений летучие мыши, раскачивались из стороны в сторону, пьяные от свежего воздуха, и никак не могли найти себе места для спанья, а дома́ зевали в небо пахучим печным дымком. Надрывались петухи, очень гордые тем, что после того, как они прокукарекают, непременно всходит солнце; гоголем вышагивали они перед хохлатками, пробуя их примирить, потому что те, как истинные куры и жены, еще затемно успевали поссориться из-за какого-нибудь червяка или там зернышка. Между прочим, домашние эти птицы постоянно спорили, кто из них умнее: петухи или хохлатки. Конца этому спору, похоже, не будет, пока существуют петухи и хохлатки, но я лично думаю, что петухи умнее. И не потому, что сам принадлежу к мужской породе, не подумайте этого. Вот вам для наглядности такой пример. Как-то утром солнце в положенное время не взошло — случилось солнечное затмение. Петухи из себя выходили, сорвали себе глотки, до того осипли, что на следующее утро ни один из них не мог даже прохрипеть, а меж тем рассвело, как ни в чем не бывало. Вот после этого случая наши петухи сделали соответствующие выводы и никогда больше не воображали, будто без них и рассвету не бывать. Конечно, водились и дикие петухи, чьи внуки и поныне остаются дикарями и верят, что без их крика солнце не встанет. А что касается хохлаток, так они и в те времена были практичнее — дождутся, пока солнце поднимется над горизонтом, и только тогда присмотрят для себя укромный уголок, раскудахчутся до посинения и потом чванятся перед всем селом, что снесли яйцо. Смешнее всех были те, что кудахтали над пустым гнездом, а шумели побольше других. Потомки таких крикуш еще глупее, но и гораздо практичнее, не над гнездом кудахчут, а на собраниях, по радио и телевидению и во всяких других общественных местах. А заслуживают уважения, конечно, те из хохлаток, что несутся всякий день и без всякого шума — им не до этого, они выводят цыплят, и это отнимает у них все время. Это самые полезные и умные хохлатки. Остается помянуть еще поросят, которые разрывали навозные кучи, чтоб согреть прохладное утро, а потом тыкались пятачками в двери дома, требуя своего бульона с отрубями…
Весна стояла ласковая, животворная, влюбленная и беременная пшеницей и кукурузой, домашней и всякой прочей живностью, а главное — моей особой. Матушка моя похорошела за двоих, она ведь вмещала в себе две жизни, и отец был от нее без ума. Ему уж минуло шестнадцать лет и восемь месяцев, над верхней губой у него проклюнулись усики, а уши светились, будто бумажные фонарики. Он наконец начал понимать, что жена — это удовольствие, данное мужу из божьих рук, а потом уже мать, равноправная подруга, спутница жизни и прочее и прочее. Благословенная весна!..
Той весной, в мае, дядюшка Мартин совершил еще одно безумство. У него просто руки чесались сделать что-нибудь такое, народу на потеху. Дядька мой считал, что время от времени надо запускать камень в болото, чтоб нарушать однообразие жизни. Он часто говаривал, что в этом — закон общественного развития, иначе люди перемрут от скуки, он даже революции связывал с этим законом. В нем было полно бесов, которые сами не могли усидеть на месте и его не оставляли в покое. Это они заставили его окончить третий класс прогимназии и записаться в гимназию. Хотел учиться, да никак ему не училось, хотя был самым великовозрастным в классе. Первое, чем он занялся, — стал соблазнять дочку околийского начальника; та влюбилась в него, готова была бросить гимназию и отправиться с ним хоть на край света. Видно, и в ее душе копошилось немало чертенят. Надо сказать, дядька никуда с нею бежать не собирался. Для него было достаточно вызвать скандал в самой знатной семье города, а потом он занялся другими проделками. Учитель логики и психологии Первазов хотел его образумить, все у него допытывался: что такое логика да что такое сознание? Дядюшка Мартин ни разу так и не смог ему ответить, вечно у него были двойки по этим предметам. В конце четверти он сам решил преподать учителю урок по логике и психологии: изготовил бомбу и как-то ночью швырнул ее к нему в спальню. Бомба-то была слабенькая, но психологически она до того подействовала на учителя, что он от испуга упал в обморок. После такого покушения дядька не мог, да и не пожелал оставаться в гимназии. Если разобраться, улик против него никаких не было, но все знали, что бомбу бросил именно он. Вмешался и околийский начальник, положение дядюшки Мартина усложнилось, пришлось ему вернуться в село. Если б начальник предвидел, какую пользу принесет мой дядька спустя годы, он бы не только его не преследовал, но еще тогда сделал бы своим зятем. А Первазов, узнав, кому я прихожусь племянником, всегда ставил мне пятерки по логике и психологии, хотя буйная голова дядюшки Мартина давно уж покоилась в сырой земле, расколотая надвое, будто тыква…
Так вот, в ту весну дядюшка Мартин подрядился умыкнуть для Татаровых красотку Аницу. Татаровы были люди зажиточные, и был у них один-единственный сын Бенко, которого Аница, настолько же хитрая, как и красивая, легко затянула в свои сети. Она-то из бедного семейства, но отец не хотел выдавать ее за Татарова из-за старой вражды — они когда-то судились и с тех пор видеть друг друга не могли. Пора стояла страдная, не до свадеб, но Татаровы прослышали, что в Арнаутларе обещали выдать за кого-то Аницу сразу же, как пройдет молотьба.
Под вечер дядюшка Мартин и Бенко положили в телегу свежей травы, покрыли сверху чергой[15] и двинулись в Арнаутлар прямо вслед за солнцем. Уж стемнело, когда они остановились за околицей села. Бенко остался возле телеги, а дядька мой пошел за Аницей. По уговору Аница должна была выйти к сеновалу, а если это почему-либо не удастся, выбраться через заднее оконце дома. Дядюшка Мартин знал всех девушек в округе, с большинством из них флиртовал или собирался пофлиртовать. С Аницей он познакомился на одной гулянке, вместе хоро танцевали, запомнилась она ему, и Аница запомнила его по тем взглядам, какие он на нее бросал, а всего больше — по городскому его виду. Он был единственным парнем, кто пришел на гулянку в белой рубашке и при галстуке.
Поджидая ее теперь у сеновала, дядюшка Мартин вдруг заметил, что волнуется (не со страху, разумеется, страх ему был неведом); не иначе это бесенята в нем расшебаршились, принялись нашептывать, какая чудесная нынче выдалась ночь, благоухает только что выколосившаяся рожь, соловьи заливаются, будто одержимые, наверное, их раззадорили собственные их чертенята, в такую вот майскую ночь трудно, очень трудно умыкнуть красивую девушку, а еще труднее отдать ее в руки трусоватому парню. Но дядюшка Мартин был верный товарищ и кавалер, он тряхнул головой и ответил искусителям, чтоб оставили его в покое, а не то он напрочь поотрывает их хвосты. Покуда он грозился проделать то, чего господь-бог из каких-то своих соображений еще не удосужился совершить, Аница открыла оконце, выглянула в сад. Дядька принял от нее и надел себе на руку узелок с ее немудрящим приданым, потом подхватил и саму Аницу, зашагал прочь. Колосья ласково скользили по его рукам, Аница опустила голову ему на плечо, смолкла и замерла в его объятиях, и ни он не собирался опустить ее на землю, ни она не изъявляла желания высвободиться из его сильных рук. Так добрались они до середины поля, где рожь была особенно густа, особенно высока и особенно благоуханна.
Дядюшка Мартин устал нести Аницу и уложил ее на мягкую рожь, чтоб перевести дух. И тут вдруг соловьи разом перестали петь, звезды угасли, ветерок затих, стало темно и жарко — словом, чертенята сделали свое дело и отправились ко всем чертям.
Спустя час дядюшка Мартин передал Аницу ее возлюбленному с таким видом, что моя, дескать, хата с краю, я ничего не знаю, выразил свои искренние пожелания будущему семейству:
— Поздравляю вас! Живите, любитесь, плодитесь и все такое прочее…
Аница, царицей раскинувшись на пахучей люцерне, не проронила ни звука. Зеленоватые ее глаза хищно, как у ласки, блестели в темноте, она не шелохнулась даже тогда, когда дядька слез у Татаровских ворот с телеги и ушел. Один бог ведает, что творилось в ее душе перед тем, как легла она на брачное ложе.
Татаровы, как и полагается людям их круга, устроили пышную свадьбу, была выпита целая бочка сладкой ракии. В брачную ночь Аница обворожила Бенко, он стал похож на выжатый лимон, но сорочка оказалась чистой. Чтобы скрыть позор, старая татарка сама среди ночи полезла на чердак, поймала там голубя, вырвала из него сердце и отдала снохе, чтоб та выдавила на сорочку немножко крови. Свекор и свекровь, хоть и проглотили эту пилюлю, не могли простить Анице бесчестья, вечно ее попрекали. Но и Аница в долгу не оставалась. И бывало так, что в одной комнате они наслаждались звоном золота в кожаном мешочке, а в другой Аница забавлялась со своим любовником…
Летом дядюшка Мартин заварил еще одну кашу, едва не накликал беду на наше семейство. Однажды ночью он притащился к нам с двумя молодыми цыганами, как после стало известно — разбойниками-конокрадами, и попросил деда укрыть их. Цыгане в третий или четвертый раз бежали из тюрьмы, открыв замок простым карандашом, и дядюшка Мартин нарадоваться не мог их ловкости и отваге. Он просто обожал таких людей, потому что и сам был ловок и смел. Цыгане, двадцатилетние стройные и красивые парни, были настоящие герои. Один из них, по прозвищу Реджеб Красавчик, ради франтовства позолотил себе все зубы, и с лица его не сходила несколько холодноватая золотая усмешка; у другого, Мехмеда Чубатого, были жемчужно-белые зубы, а на лоб падал буйный черный чуб. Оба парня с благоговением смотрели на дядьку, судя по всему, они были давно знакомы. Дед понял, с кем имеет дело, и постарался их спровадить. Недели после того не прошло — в соседнем селе угнали целый табун коней.
Обычно в таких случаях угнанных коней переправляли через румынскую границу, к тамошним, валашским, цыганам, на границе делалось жарко, патрули день и ночь сновали по обе стороны, на заставах заводилось следствие. Впрочем, воров редко удавалось поймать, а расплачиваться за все приходилось местным цыганам. По приказу капитана Арабова в округе забирали подчистую всех мужчин-цыган, их запирали на заставе в подвал, а потом по одному водили в конюшню на допрос. Цыганки со всеми своими цыганятами томились вдоль колючей проволоки. Увидев, что кого-то повели на конюшню, они принимались выть по-волчьи. Они воют, детишки пищат, благим матом орут и те, на конюшне, причем орать начинают еще до того, как Арабов замахнется бичом. Дней десять продолжалось следствие, а потом капитан Арабов одного за другим выпускал узников с посиневшими задницами; цыгане возвращались к себе, и начиналась у них гульба-веселье. Дни и ночи напролет дудели дудки, ухали бубны, пропивалось все, что было выпрошено, — праздновали освобождение из конюшни. На следующий год повторялось такое же следствие и с точно теми же результатами.
Дядька мой был уверен, что всякий раз расхлебывать заваренную им кашу должны другие, и всегда выходил сухим из воды. В этой жизни, говаривал он, кто-то же должен таскать за других каштаны. А то чего доброго установится в отношениях между людьми такая великая справедливость, все мы передохнем тогда от скуки… Трифон Татаров мыслил так же, но ни перед кем этого не выдавал — расчету не было. Дядюшка Мартин частенько подсовывал ему горькие пилюли. То конь у того исчезнет, то дядька мой наведается к ним, когда Бенко погонит лошадей в ночное. Трифон подметил это, старался подстеречь дядьку, да тот ведь малый не промах. По вкусу пришлась ему та майская ночь во ржи, он и потом то и дело подстерегал Аницу. Трифон знал, что сноха у него погуливает, но и та была достаточно хитра, ловко ускользала из-под руки. Так продолжалось до июня, когда в одно прекрасное утро Трифон Татаров проснулся кметом. В Болгарии произошла небольшая заварушка, старых кметов-дружбашей[16] вышибли и назначили новых. Теперь-то уж Трифон надеялся прижать дядюшку Мартина к ногтю, рассчитаться за все сполна. Тот, конечно, не испугался, но на всякий случай почистил свой пистолет, пополнил запас патронов.
11
Зрело лето, зрел и я, даже уж начал перезревать. Мать задыхалась, с трудом поднимала мотыгу, с трудом наклонялась на жатве, но никому не было дела до того, что она беременна, а сама она стеснялась напомнить. Отца не интересовало предстоящее мое появление на свет, он для меня ни одежонки не купил, ни колясочки. Это безразличие окружающих принуждало мать и на току работать наравне с другими, ворочать снопы, управляться с диканей[17].
Я уже в ту пору не мог хранить секреты и, чтобы знал белый свет, с кем ему предстоит иметь дело, заранее оповестил о признаках своего пола: матушкино лицо покрылось темно-коричневыми пятнами, и все в один голос ей говорили, что родится мальчишка. Как раз в ту пору свалилась она с дикани, лошади испугались, понесли, вожжи хлестали их по ногам, усугубляя страх, а на нее надвигалась диканя, будто акула — того и гляди искромсает своими острыми зубьями. По случайности дед оказался на току, схватил вожжи, остановил лошадей. Отвели матушку в дом, уложили передохнуть. Бабка потом нашептывала что-то деду, а тот сопел и фыркал, как старый боров, и гундосил, что лучше бы ей (то-есть моей матушке) окотиться зимой, когда нет такой запарки с делами. Пострелята тоже о чем-то перешептывались в углу, ухмылялись, завидев моего родителя, а тот краснел, выбегал из дому.
Меж тем наступила пора бахчей и виноградников. По всем дворам поднялись горы арбузов и дынь. Днем бабы да ребятня топорами кромсали их на куски, а к вечеру разводили огонь и до рассвета варили повидло. Все живое — лошади, волы, свиньи — толпились вокруг, поедая корки, сладкий запах привлекал мух и других насекомых со всей округи. Самыми ненасытными были ребятишки, к вечеру они едва добирались до постели со вздутыми животами, тотчас же засыпали и вскоре пускались вплавь.
В одну из таких ночей вдруг затрещали ружья: у Татаровых вспыхнул пожар, все село было поднято на ноги. Дончо Синивирский, механик с хутора, и еще несколько парней осадили пограничную заставу, а там оставался один-единственный солдат. Капитан Арабов еще на закате отправился в Арнаутлар на соединение с тамошней заставой. Повстанцы[18] обезоружили солдата, заперли его в подвале, забрали оружие, какое было, и установили связь с другими селами. Стоит ли говорить, до чего по вкусу пришлось все это дядюшке Мартину, неспокойная кровь его взыграла, уши, как говорится, торчком, нос по ветру — приготовился половить рыбку в мутной воде. Давно уж мечтал он о карабине, теперь эта мечта осуществилась: вместе с другими проник он на заставу, взял себе один и удалился.
А Дончо Синивирский провозгласил новую власть и тотчас же отправился сводить счеты с кметом. Трифон Татаров ждать его не стал, пустился во все тяжкие. Когда пробегал мимо нашего дома, вскинул ружье, пальнул в сторону преследователей. Пуля просвистела у матушки над ухом, застряла в стойке навеса, под которым они с бабкой варили повидло. Мать обмерла и повалилась на землю, а когда поднялась, еще одна пуля чуть не задела ее плечо. Они с бабкой прижались к стене амбара, выжидая, пока затихнет пальба. Я был тогда на восьмом месяце и, следовательно, могу считаться первым в нашем краю не родившимся еще ребенком, испытавшим на себе смертельную опасность фашизма…
За Татаровым гнались довольно долго, но он удрал-таки в темноте, и повстанцы вернулись на заставу. А утром с целой ротой нагрянул капитан Арабов, выловил их всех и подался к Варне. Повстанцев скрутили веревками, заперли в одной комнате. Капитан Арабов велел стеречь их до его возвращения, но Татаров весь исходил злобой: накануне кто-то подпустил ему красного петуха, и сейчас он жаждал мести. На следующий день сунули в рот Дончо кляп, спеленали его солдатскими одеялами и погрузили на телегу, чтобы отвезти в Арнаутлар, к тамошним арестантам. Волчье чутье дядюшки Мартина не подвело, он тут же сообразил, какое предстоит дело, и, сунув карабин под пальто, двинулся полями неубранной кукурузы к Арнаутлару. У него чесались руки испробовать на живом свое новое оружие. Добравшись до места, которое у нас называют Раскопками, он взобрался на старую грушу и затаился там. Как и следовало ожидать, телега остановилась у Раскопок, два жандарма свалили Дончо на землю и повели к ямам, где все наши копают глину для штукатурки. Здесь пленнику вынули изо рта кляп, высвободили руки, чтоб мог он «убегать». Неподалеку маячил Трифон Татаров, которому хотелось посмотреть, чем закончится «попытка к бегству». Только Дончо не стал убегать, он сел, уставился в землю, словно и знать не желал, что через несколько минут его застрелят. Лишь когда стражники щелкнули затворами, он вздрогнул и поглядел по сторонам.
— Эй ты, фигура, подошел бы поближе, оттуда плохо видно! — крикнул он Татарову.
Татарова будто по ногам ударили — он упал за кустом, пожелтел, его стошнило. Потом он рассказывал, что это были самые страшные слова, какие он только слышал в жизни.
Дядька мой подвел мушку к середине груди одного из жандармов, и тот, вместо того чтоб пронзить пулей Дончо, сам рухнул в яму, подковы на его каблуках оскалились на небо. Второй жандарм со всех ног бросился прочь, Татаров тоже шмыгнул в кукурузу. Дядюшка Мартин, улыбаясь, наблюдал за ними с вершины груши, потом слез, подошел к Дончо. Подал ему ружье убитого, замел свои следы, и они молча разошлись. Дончо направился в сторону диких Дживелских лесов, а дядька вернулся домой, весьма довольный своим карабином.
И получилось так же, как с бомбой учителя психологии. Все были уверены, что именно дядька убил стражника, хотя никто не мог этого доказать. Вызывали его на допрос, перешарили весь дом, но ничего не нашли. Однако Татаров не упустил случая отомстить и позаботился, чтобы «конь подышал ему в затылок». Из общины вызвали Киро-Черного, того самого, кого дядька пощадил у Раскопок, сел он на коня, а дядюшка Мартин зашагал впереди. День-деньской были они в пути, Черный в седле, дядька на своих двоих. В селах, где были общины, Черный останавливался на отдых, и на это время стражники, будто пса какого-нибудь, привязывали дядьку к столбу, всячески издевались над ним. Дядюшка Мартин только усмехался в ответ, усмехался светлый его чуб, белая рубашка, всем своим видом он походил на гайдука[19], которого ведут на виселицу. Он даже запел однажды, от чего Киро-Черный вздрогнул в седле и направил ему в спину ружье.
До города добрались к вечеру, когда в торговых рядах народу было невпроворот. Люди глазели на дядьку, а он, наслаждаясь своим унижением, шел спокойно, в одном шаге перед конем и смотрел только перед собой. В этот день он дал себе клятву отомстить за унижение не только кмету, не только стражнику, но и всему миру. Предстоящая встреча с околийским начальником не страшила его: что ж, он ухмыльнется старому врагу в рожу и будет молчать.
У входа в околийское управление дорогу ему преградила нарядная красивая женщина; оба они так и застыли, пораженные, потом женщина кинулась к дядьке, схватила его за руки. Дядюшка Мартин почувствовал, что целиком потонет сейчас в ее черных очах, шагнул вперед, вошел в управление. Женщина не отставала, все так же держа его за руки, а сзади покашливал Киро-Черный. «Барышня… это… после, значит…» — тупо бубнил он. Барышня — истинный околийский начальник, как судачили в городе, — изящно одетая и властная, жестом приказала стражнику посторониться к ограде, что тот и сделал. Молодой полицейский пристав с серебряными погонами, стоявший на лестнице, криво усмехнулся, глядя на это. Арестант и барышня прошли мимо и скрылись за дверью. Пристав вытянулся в струнку, поглядел им вслед с той же усмешкой. Эмилия ввела дядюшку Мартина в кабинет своего отца и бросилась ему на шею. Несколько лет назад дядька основательно вскружил ей голову и, как видно, надолго.
Спустя час дядюшка Мартин с аппетитом ужинал в столовой околийского начальника, а сам начальник и его супруга стояли на кухне, и вид у них был несколько потерянный, если не сказать больше. Любой ценой надо было предотвратить скандал — несколько раз околийский начальник с пистолетом в руке решительно направлялся по коридору к столовой, чтоб изгнать дядюшку Мартина, и каждый раз, услышав за дверью его смех, на цыпочках возвращался в кухню. Послал служанку, чтобы вызвала Эмилию. Та заявилась, выряженная в самое роскошное из своих платьев, улыбающаяся, просто сияющая от счастья.
— Папочка, пойдем я тебя представлю моему гостю!..
Околийский начальник поднял к потолку пистолет, но нажать на спуск не посмел, тогда он истребил наполовину запасы кухонной посуды, присел на стул, жалкий и бессильный.
Дядюшка Мартин знал силу красивых женщин и слабость «сильных мира сего», ужинал себе спокойно, а после ужина удалился в покои Эмилии. Два дня и две ночи не показывался он оттуда, на третий день Эмилия на фаэтоне вывезла его далеко за город, а там при расставании посреди поля, пустынного и печального, упала к дядькиным ногам и целовала пыльные его башмаки. Дядюшке Мартину стало как-то не по себе, он поднял глаза на теплое матовое небо, и сердце его затрепетало от холода.
— Я найду тебя! Где бы ты ни был, я найду тебя!.. — говорила Эмилия, пожирая его своими черными глазами и пятясь к фаэтону.
Прошло немного времени, и Эмилия отыскала его в чаще добруджанских лесов, где дядюшка Мартин играл в кошки-мышки с отрядом жандармов, посланным ее отцом с приказом доставить дядькину голову.
Дядюшка Мартин пробрался в село, прихватил свой карабин и той же ночью исчез, отправился мстить всему свету за то, что только ему было известно. Были и такие в нашем славном роду, кто испытывал непреодолимое желание щелкнуть жизнь по ее сопливому носу, скорчить гримасу прямо в немытую ее физиономию — не от злобы и не от пессимизма, а от чего-то такого, что только им одним известно.
Как раз из таких был и дядюшка Мартин.
12
— Эй, люди, вы что, обезумели? — прокричал бы я из материнской утробы, если б смог. — До чего же вы докатитесь, коли будете поддаваться, а не сопротивляться пороку? Почему пытаетесь стращать меня жизнью еще до того, как я сам ее узнал? Известно, что жизнь похожа на цыганенка: вытрешь ему носишко, отмоешь мордашку, приоденешь во все новое, а только отвернешься, не успеешь и до пяти досчитать, как он опять перемазался, на себя не похож. Ну, раз дело обстоит таким образом, не будем шлепать за это цыганенка, а снова и снова попробуем отмыть ему рожицу, будем надеяться, что в один прекрасный день увидим его чистым и приветливым!
Конечно, никто не мог меня услышать, и каждый поступал, как ему заблагорассудится. За семь или восемь дней до того, как мне родиться, богач Сарайдаров отнял любимую у моего родича Ричко. Этому почтенному, впрочем, человеку была свойственна вошедшая в пословицу слабость к женскому полу: если Сарайдарову какая-нибудь приглянулась, кровь из носу, она должна быть его. Сейчас ему нравилась Даринка, семнадцатилетняя дочка его пастуха. Даринка часто наведывалась на хутор, потому что была влюблена в Ричко, и тот был влюблен в нее, но за все лето не собрался признаться ей в своих чувствах. Он походил на тех мужчин в нашем роду, которые, смущаясь женщин, вздыхают по ним, не понимая, что женщинам, даже когда им семнадцать, ужасно скучны одни только эти вздохи. И Сарайдаров здорово ему отплатил за эту его сентиментальную старомодность: запретил Ричко стричься и бриться, и тот стал походить на монаха из какого-то древнего монастыря.
Увидев впервые Даринку, Сарайдаров был приятно удивлен, зазвал ее к себе в комнату и всю, целехонькую, проглотил, как волк Красную шапочку. На обитателей хутора эта история особого впечатления не произвела — здесь вдосталь насмотрелись на красных шапочек, исчезающих в хозяйской пасти: русачек, болгарок, турчанок, румынок, татарок. Сарайдаров говаривал, что мужчина должен питаться молодыми женщинами, и съедение очередной Красной шапочки ознаменовывал оргиями, которые продолжались на хуторе дни и ночи подряд. Предпоследней была молодая татарочка Юлфет. Обычно в жатвенную пору здесь появлялось множество цыган и татар; в саду разбивали они свои шатры, палили костры, играли, пели — хутор превращался в огромный табор.
Прошлым летом Сарайдаров высмотрел среди них новую для себя Красную шапочку, велел заколоть двух волов и двух телят, выкатить бочки с вином и ракией, а под навесом у амбара приказал постелить ковры, чтоб, когда танцует Юлфет, мягко было ее ножкам. Само собой, на голове у нее не было никакой красной шапочки, а имела она черные как смоль волосы, глаза с косинкой, черную родинку меж бровей и тонкие смуглые пальцы. Выпучив глаза, цыгане дули в свои кларнеты, цыганки хлопали в ладоши и трясли плечами. Юлфет танцевала на мягких коврах, а Сарайдаров, потный и расхристанный, скрестив руки на груди, жадно следил за сладострастными извивами ее тела. Той же ночью ввел он татарочку в свою спальню и сделал царицей. Женщин он называл сучками и всегда делал их царицами, держал на троне одну месяц, другую год, а потом отсылал прочь, снабдив горстью золотых монет «про черный день». Коли приелась тебе какая баба, говорил он, спусти ее с цепочки и пускай себе бежит, она ведь сучьей породы, а ни одна сука не оставалась еще посреди поля. Что до жены, говорил он еще, так она святая, а святую как же можно любить?.. Сарайдаровская жена жила в Варне и появлялась на хуторе через год, через два, бледная и невзрачная, чуждая нашей страстной степи, чуждая нашим вьюжным зимам и знойным летам. Был у него и сын Петр, проедал его деньги не то в Швейцарии, не то во Франции. Тут он показывался летом, малость изнеженный и не от мира сего, но уже через несколько дней превращался в истинного Сарайдарова-младшего, работал в поле, ездил верхом, флиртовал с барышнями из города…
Сарайдаров произвел Даринку в «сучку-царицу». Съедение ее он решил отпраздновать шумнее и торжественнее, чем в другие разы, и случай ему в этом помог. На следующее утро отправился он с одним из объездчиков посмотреть на цыган, работающих у него на уборке кукурузы, и во владениях своих обнаружил целое стадо чужих волов, коров и телят. Стадо принадлежало соседу-хуторянину, еврею Ивану Фишеру, «богобоязненному» старцу с окладистой рыжей бородой и множеством дочерей. У половины из них были волосы цвета червонного золота, у другой половины угольно-черные, но у всех умные еврейские глаза и округлые бедра. Молодой Сарайдаров пробовал было швырнуть камень в это болото ленивых и благопристойных барышень, да получил лишь стаканчик чаю с песочным печеньем. Иван Фишер скорее готов был превратить свой дом в приют для старых дев, чем увидеть кого-нибудь из дочерей на сарайдаровском престоле в качестве «сучки-царицы».
Сарайдаров велел отогнать стадо к себе на хутор. Двое пастухов Фишера пробовали было отбить скотину, но Сарайдаров пальнул в них из револьвера, прогнал. Вечер еще не настал, а все это стадо — семь волов, четыре коровы и четыре телки — пало под ножами голодных цыган. Неделю напролет шла гульба в честь Даринки, цыгане из окрестных сел потом животами маялись от обжорства, а Фишер и не пробовал протестовать. Ничего, будущей весной он уж не упустит, накроет на своей земле такое же сарайдаровское стадо и так же велит пустить его под нож, колбасы накоптит, а оставшееся мясо на базар свезет.
Спустя несколько дней родич мой Ричко запряг белую пару и отвез хозяина и свою любимую в Добрич. Тамошний дом Сарайдарова — двухэтажный и просторный, обнесенный кирпичным забором с коваными воротами, — занимал добрую половину квартала на торговой улице; в многочисленных комнатах стоял запах богатства и плесени, полы, по которым человек не ступал месяцы и годы подряд, были усеяны дохлыми мухами. А тут мухи, завидев юную «царицу», вроде бы разом воскресли, заполнили комнату жужжанием, запах плесени сменился ароматом духов.
Сарайдаров набрал новую прислугу — кухарку, эконома и сторожа, определил на службу и двух цыганок, которые не мыли и не убирали, а только «делали ветерок» вокруг ее величества. Днем, если захочет она отдохнуть, цыганки вставали по обе стороны ее ложа, одна веером отгоняла мух, другая махала простыней, создавая прохладу.
Несколько дней Сарайдаров провел в спальне своей юной царицы, а Ричко маялся в грязной пристройке и, как всякий романтик, видящий свой идеал в чужих руках, проливал слезы в приступе «мировой скорби». Но романтики на то и романтики, чтобы лить слезы по любому поводу, они глядят на мир влажными коровьими глазами и думают, что мир этот по-коровьи кроток и смирен; и если задуматься, слава всевышнему, что они не перевелись, а то бы мир остался без коров, а коли не будет коров, не станет и молока!.. По дороге на хутор Сарайдаров заметил эту его скорбь, а когда молодые скорбят, пожилые становятся еще старее и подозрительней; он положил на плечо Ричко руку и вот тогда-то и приказал ему до особого распоряжения не бриться и не стричься. Этак через пару лет волосы и борода возницы, пожалуй, достигнут пояса, и от этого девятнадцатилетнего чудовища будут шарахаться и дети и собаки. Но видно, Сарайдаров забыл, что его возница пролез под вороным жеребцом и что он самолично назвал Ричко настоящим мужчиной…
13
За три дня до того, как мне родиться, объездчик Доко встретил в каменном карьере моего отца. Мать Доко, тетушка Трена, была повитухой, и от нее он слыхал, что я непременно буду мальчишкой. Свернув цигарку, он сделал глубокую затяжку, не в состоянии скрыть своей радости:
— Ну, значит, будет у тебя на этих днях парень! Будет, кому у вас скотину пасти. Поздравляю, значит!.. Ежели в самом деле родится мальчишка, гляди, без магарыча не обойтись.
Папаша мой молча ворочал камни, будто поздравления эти его вовсе не касаются. В доме все чаще начали поговаривать о моей особе, готовились меня встречать, а папаша вместо радости испытывал стыд, прятался от людей. Он был первым и не последним по счету человеком, кто устыдился моего появления на белый свет. Долгие годы я пытался ему доказать, что его сын ничем не хуже других, но он только качал головой и не раз твердил, что я не стою и понюшки табаку. Гордость не позволяет мне признать его правоты, по крайней мере в том, что касается моих литературных занятий. И все же, когда я сделал взнос за квартиру, он впервые приехал в Софию и тотчас же потребовал, чтоб я отвез его на стройку. Взобрался по лесам на четвертый этаж, долго оглядывал голые кирпичные стены, потом сказал:
— Да ты, как я вижу, вроде бы человеком становишься!..
Отец не проявлял внимания и к моей матушке, избегал ее и разговаривал с ней так, будто она готовилась к чему-то такому, что может оскорбить его мужское достоинство. Стороной обходил комнату, где она лежала, все время пропадал в хлеву. Подходило время телиться нашей корове, и он хлопотал возле нее, менял соломенную подстилку, подкладывал корму, сочувственно гладил ее по лбу. И трое меньших сорванцов постоянно вертелись вокруг хлева, хвастались соседям: «А у нас будет теленок». Получалось так, что, кроме матери, с особым и радостным нетерпением ожидал меня лишь объездчик Доко. В моем лице он видел еще одну свою жертву и не ошибался в этом, поскольку спустя несколько лет я-таки оказался в его владениях: приглядывая за ягнятами и коровами, я всякий день пускал их на чужое поле, и каждый день он ухитрялся нагрянуть в самый разгар игры. Много учителей ломали указки о мои ладони, много объездчиков и сторожей лупцевали меня по заду, но обо всех этих деревянных «педагогах» я и думать забыл, ни один из них не удержался в моей памяти. А вот этот кривошеий одноглазый карлик, беспомощный перед взрослыми, держал в страхе и покорности ребячье население нескольких сел. В отличие от других он никогда не гневался, никого даже не пробовал ударить, чтоб «ручек не замарать», как говаривал он. Провинившихся ребят он ставил одного против другого, сам чисто по-детски улыбался при этом и говорил: «Ну-ка, шлепни его разок по морде, чтоб в другой раз не считал ворон!» Ну, мальчонка слегка ударит приятеля. «А теперь ты дай-ка сдачи, чтоб не дрался!» Вначале все это выглядело шуткой. «Вот оно что, он тебе нос расквасил, а ты его гладишь! Верно ведь?..» Ребячья толпа, которая в таких случаях ничем не отличается от взрослой, шумит, потирает руки в предвкушении зрелища, подзадоривает: «Ого! Он еще не знает, какую сейчас получит затрещину!..» И удары сыплются все сильнее и больней, покуда не завяжется такой бой, что самому Доко приходится растаскивать дерущихся. Товарищество исхлестано пощечинами, изодрано ногтями, окровавлено, и недавние друзья отныне становятся врагами. Доко был в курсе всех сложностей в отношениях между семьями и родами, через детей мстил отцам и дедам за нанесенные ему когда-то обиды. Или просто наслаждался своей властью над невинными детскими душами. Детская драка не имеет ничего общего с побоями полевого сторожа, взрослые не принимали эти драки всерьез, ребятня ведь всегда дерется, и никто никогда не предъявлял на этот счет претензий к Доко. Чтоб заслужить его благоволение, дети сами показывали на тех, кто совершил потраву в его отсутствие, неприязнь, таким образом, наслаивалась, превращалась в ненависть, и через несколько лет на смену оплеухам приходили ножи да топоры…
Помню, лет шесть-семь назад, слепо подчиняясь туристской программе, я побывал в концентрационном лагере Бухенвальд. Группа у нас была большая, разных национальностей. Ужасы смерти и насилия, которые мы там видели, еще как-то можно вместить в возможности человеческого зла, но вот восемнадцать виселиц заставили людей буквально оцепенеть, некоторые хотели тут же уйти, но были не способны даже ногой шевельнуть. А гид тем временем объяснял, что на этих виселицах лагерников вынуждали вешаться самих. Один дергал петлю соседа, потом другой дергал его петлю, случалось порой так, что брат лишал жизни родного брата… Когда мы удалились от этого страшного места, большинство туристов было, казалось, не столько потрясено, сколько изумлено этими братскими виселицами, словно людям довелось столкнуться с чем-то по ту сторону зла, к чему нельзя подходить с обычным человеческим волнением. И я был потрясен этим изощренным зверством, но, знаете, оно меня не удивило, как других. Мне показалось, будто я заранее знал, что подобное изуверство окажется в ассортименте фашистской диктатуры. Может, это покажется смешным, но я в тот миг вспомнил объездчика Доко и подумал, что у моих спутников, видно, не было в детстве такого плюгавенького одноглазого надзирателя, иначе они бы так не изумлялись мерзости дел человеческих…
В детстве я верил, что на свете (а свет мой ограничивался нашим селом) нет второго такого жестокого человека, как Доко, я боялся его и ненавидел больше всех. Но со временем начал думать, что, может, этот иезуит-самоучка хотел пораньше преподать нам уроки жизни (этим-то он и хвастался перед людьми), может, хотел показать нам оборотную сторону медали, в то время как учителя линейками да указками вколачивали в наши башки добродетели. Нет, он был очень неглуп, этот объездчик: мне даже кажется, что, будь у него возможности, вполне бы мог он стать политиком, великим диктатором и вообще великим надсмотрщиком. Горькие его уроки сызмальства приучили меня ожидать от жизни всего, побудили стать неисправимым оптимистом. Зло меня не обескураживает, не повергает в отчаяние, не загоняет в тупик; если доведется столкнуться с ним, я с отвращением плюю у него за спиной, а это ведь уже немало.
В общем, как бы там ни было, поклон твоей памяти, одноглазый черт!..
Матушке моей постелили охапку сена — создали мне условия для мягкого приземления. По словам бабки Трены, я должен был прибыть из некоего мира, расположенного над нашей грешной землей, вот и надо мне опуститься на мягкое, чтоб не сломать колени — парашютист-то я неопытный. Окошко завесили одеялом, в комнате стало темно и душно, бабка Трена присела у печки, закатала рукава. Снаружи хлестал проливной и холодный дождь, село плавало в воде и грязи, на улице — ни живой души. Такого ливня не помнили уже многие годы, да еще в декабре; люди не могли пройти в лавку купить себе керосину. Очень может быть, природа тоже как-то хотела ознаменовать мое рождение.
Вечером матушка заметалась от боли, бабка Трена набросила крючок на дверь, опустилась на корточки подле нее. Другие себе спали, только бабушка время от времени просыпалась, готовая прибежать сюда, услышав мой крик, а за стеной папаша стоял подле коровы, которая также стонала от родовых мук. Знаменательно, что вместо того, чтобы состязаться в рождении с какой-нибудь знаменитой личностью или хотя бы с каким-нибудь начальником отдела, я спринтовал на белый свет в паре с теленком. В школе, в казарме и во множестве других случаев, стоило мне только допустить какой-нибудь промах, все, будто сговорившись, кричали: «Да не так же, эх ты, телок!..» Но и теленок меня опередил. Было, должно быть, десять или одиннадцать часов, когда папаша разбудил всех и сообщил, что корова принесла бычка с белым пятном на лбу. Все отправились в хлев, показали теленку, как надо сосать, потом повязали ему на шею красную ленточку и отнесли в дом, чтоб еще на него порадоваться.
Теленок меня опередил, потому что имел славный, телячий характер, а я уже тогда показал свое упрямство, не пожелал входить в жизнь как положено — головой вперед, а только ногами. Бабка Трена была напугана моим упорством, в котором она усмотрела нечто символическое:
— Ногами вперед идет, значит, ногами будет добывать себе хлеб!
Вещунья, она оказалась права. И доныне ноги — самая надежная моя опора, носят они меня по свету и обеспечивают если не что-то другое, так хотя бы основную зарплату. Ноги, не в пример голове, никогда не причиняют мне неприятностей, исключая, пожалуй, те случаи, когда занесут меня, находящегося в подпитии, в какую-нибудь лужу. Честно говоря, все, что проделано мною с помощью ног, принесло мне пользу, спокойствие и даже похвалы. Ноги для меня — и самое верное средство защиты. Ведь одно дело, когда защищаешься от кого-то словами, и совсем другое — коли дашь ему хорошего пинка. Это даже ослы знают.
Разумеется, упрямство мое при появлении на свет вызвано было не одним своенравием или желанием пооригинальничать, что мне свойственно и поныне. Бог ведает, какими тайными путями, но я прознал, что в канун и во время моего рождения в нашей милой Добрудже случалось немало неприятных событий, которые меня пугали, заставляли призадуматься. Люди насильно умыкали девушек, убивали друг друга из ружей и пистолетов, капитан Арабов хлестал бичом ни в чем не повинных цыган; как раз в эту ночь дядюшка Мартин пробирался к одному отдаленному хутору, чтоб его подпалить, Сарайдаров лежал в постели своей юной царицы, а парень, любящий ее и кого она сама любила, обрастал густой, будто у гориллы, шерстью и чах от муки и бессилия… Эти люди, как и все остальные, носили в себе какую-то огромную вину и теперь только и ждали, чтоб, когда я рожусь, тут же часть ее взвалить на меня. И ведь так они и поступили, хитрецы окаянные! И поныне таскаю я эту их вину, а вдобавок и свою собственную. У меня такое впечатление, что все люди считают себя этакими агнцами, кроткими и невинными, а жизнь свою строят на том, чтобы собственную вину перевалить на других, превратить себе подобных в истинных мулов… Недавно я видел один фильм, где высмеиваются люди, разжиревшие от обжорства. Чтоб наглядно было, какой лишний вес они таскают, режиссер взвалил на плечи каждому корзину с углем или каменьями. Один тащил семидесяти-, другой — пятидесяти-, третий — сорокакилограммовую корзину… Порой мне кажется, будто я таскаю здоровенный прицеп, нагруженный виной, неясной и тяжкой виной по отношению к себе и ко всему свету… Наконец, я был в недоумении, как это может один создавать другого, не спросясь у него согласия, просто для того, чтоб запихать его в кипящий котел ради собственного удовольствия, а подчас даже и без всякого удовольствия, как это произошло, к примеру, с моим родителем. А ежели бы мои отец с матушкой были, скажем, лошадьми или там ежами? Что ж и мне тогда пришлось бы появиться на белый свет жеребенком или ежиком? Это уже ни на что бы не было похоже! Пришлось бы мне тогда пастись на лугу и таскать чью-нибудь телегу со свежими овощами или какой-то другой поклажей, а то еще, что и того хуже, ерошить свои иголки да жрать лягушек и змей! Нет, природа не то чтобы демократична — она закоренелый диктатор! На ее месте, прежде чем даровать человеку жизнь, я бы дал ему какое-то время понаблюдать за всем, что его окружает, а потом, коли согласен стать человеком, пусть поднимет руку, коли нет — пусть и остается в небытии…
Как я и предполагал, впечатления мои от жизни оказались далеко не из приятных, чтоб не сказать — способными привести в отчаяние. Первое, что я увидел, были беззубый рот бабки Трены и ее свисающий, как у ведьмы, нос. Меня так и передернуло от страха, я хлебнул воздуха и заорал. Она ухмыльнулась, взяла ржавые ножницы и отрезала пуповину. Я реванул еще разок, но она и на это ноль внимания, сграбастала меня своими костлявыми руками и показала матушке. Та взглянула, улыбнулась через силу, опустила голову на подушку и закрыла глаза. Нетрудно было догадаться, что она устыдилась, а может, и испугалась своего детища. Я ведь походил в тот миг на ободранного зайца — ребра торчат, кожа сизая, глаза желтые, а голова голая, как и сейчас, и длинная, будто огурец. Швов на черепе не было и в помине, и то серое вещество, с помощью которого пришлось мне впоследствии добывать себе хлеб насущный, бултыхалось прямо под теменем, словно разбавленное пиво, явно хотело пролиться, и ничего удивительного, если добрая половина пролилась. Бабка Трена положила меня на ворох каких-то тряпок и принялась пеленать от шеи до пяток, нахлобучила на голову нечто похожее на шапочку и застегнула под подбородком. Поскольку я пробовал протестовать против такого насилия, сверху она обвила меня толстой шерстяной бечевкой — я оказался не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Положив меня на пол, она начала в чем-то помогать матушке, а я лежал, словно усмиренный разбойник, и волей-неволей смотрел в потолок. Балки были кривые и низкие, покрашены синькой и сплошь усеяны черными мухами. Они гудели, разбуженные и недовольные, перелетали с балки на балку, некоторые садились на медный котелок с водой. Одна из них заметила меня и уселась мне на щеку. В тот же миг щеку будто иглой кольнуло, я, конечно, вякнул, муха собралась было улетать, но, поняв, что я не способен к активной обороне, тут же опустилась на другую щеку. Чем сильнее я ревел, тем больше радовалась бабка Трена и говорила, что я настоящий юнак и что поплакать мне полезно. Ей вообще доставляло удовольствие меня мучать; каждый день потом она все туже стягивала меня шерстяной бечевкой и твердила, что таким образом выправятся мои руки и ноги. По ее совету меня пеленали целых три года, и эти годы были самыми тяжкими в моей жизни. Мухи, как они ни кровожадны, на зиму куда-то хоть исчезали, зато другие паразиты никакой сезонности не придерживались…
Первая моя ночь на этом свете оказалась особенно мучительной, просто кошмарной. Мог бы я тогда говорить, не стал бы раздирать себе легкие в плаче, а крикнул бы: «Верните меня в то блаженное время, когда я еще не родился!..» Но вот какая странность — сейчас меня часто подмывает прокричать: «Кто бы вернул мне мое детство? Верните его с самого первого дня — с маленькой землянкой, с блохами и страшными объездчиками, с темными ночами, полными леших и конокрадов!..» Так вот получается, когда человек появляется на белом свете ногами вперед.
Утром была предпринята попытка меня утешить: дали мне пососать и — чудеса какие! — стоило мне насытиться, как я умолк. Испытывая это неведомое раньше удовольствие, я понял, что у жизни есть и приятные стороны и что человек вопит и буянит до тех пор, покуда не заткнешь ему рот. А как это случится — сразу замолкает и становится послушным. Так что первопричина всяких революций и народных движений открылась для меня после первой же моей трапезы. Матушка положила меня рядом, и я, сытый и довольный, мог спокойно и беспристрастно изучать окружающий мир. В комнате появились бабка, дед, трое сорванцов, наконец пришел поглядеть на меня и папаша. Первая наша встреча не отличалась особой сердечностью, какой можно было ожидать при встрече отца с сыном. Он даже не прикоснулся ко мне, как-то виновато глянул с порога и тут же вышел. Самой любезной оказалась бабушка, она погладила меня по подбородку, взяла на руки, принялась сыпать комплименты в мой адрес, а позже, когда к нам заглянули соседки, стала всячески меня расхваливать перед ними. И те тоже меня щекотали, щелкали по носу и хвалили, что я-де такой крупный и уже могу улыбаться. Все эти бабы, подумалось мне, может, и не такие уж чистюли, может, и руки у них грязноваты, а все же, если брать в общем, они приятные бабы. Вот еще одна хорошая сторона жизни — тебе делают комплименты за то, что ты перепачкал пеленки, и даже за то, что по твоей милости никто за ночь глаз не сомкнул. И еще понравилось мне, как все с восхищением глядели на меня, одобряли каждый мой крик и по нему пытались определить, кем же я стану — пастухом, богачом хуторянином или конокрадом. Короче говоря, с первого же дня жизнь весьма умело начала льстить моему самолюбию, удовлетворять мои капризы.
За день у нас перебывало много женщин и ребятишек, они разглядывали меня, я в свою очередь разглядывал их. И все они сошлись на том, что я — самый красивый и умнейший из младенцев, когда-либо рождавшихся в нашем селе, признали меня звездой первой величины среди моих сверстников. Триумф мой длился всего лишь день, но ведь и это немало!..
Вокруг, как я заметил, было много любопытного — кошка, изогнув хвост, терлась о бабкины ноги, две собаки разлеглись посреди двора и облаивали соседок, коровы, галки да вороны, рассевшиеся на голых ветвях деревьев. Светило солнце, потом оно куда-то скрылось, и с неба посыпались крупные снежинки. Детвора высыпала наружу, принялась ловить их. За какой-нибудь час все стало белым, это мне показалось очень интересным. Потом я малость вздремнул, а проснулся охваченный еще одним новым и непреодолимым чувством: любопытством, которое должно было всю жизнь водить меня за нос и ни на миг не оставлять. Мне суждено было испытать многие огорчения, разочарования, видеть крушение своих надежд, приходить к выводу, что жизнь — это полнейшая бессмыслица, навязанная мне чужой волей, однако, любопытство оказалось более стойким, и более гибким, и более хитрым, чем все прочие чувства, и ему было дано вести меня вперед. Уже в первый мой день оно целиком овладело мной, воображение мое разбежалось по всем направлениям нашей Добруджи, и мне страсть как захотелось узнать, что происходит нынче и что случится в будущем с этим краем и его людьми. Подпалил ли ночью усадьбу дядюшка Мартин и удалось ли ему после того скрыться, или он пойман, и его, закованного в цепи, погнали в город? Вообще, удастся ли ему отомстить миру, как он задумал, или станет он заурядным разбойником? А Эмилия, дочка околийского начальника, которая тогда бросилась моему дядьке в ноги и целовала его пыльные башмаки? Это не было прихотью дьявольски гордой женской души, в этих поцелуях таилось что-то такое, чего не напрасно испугался даже дядька. А что именно? Это меня ужасно заинтриговало. Или взять не менее гордую и красивую Аницу. Как она поступит, когда тоже разыщет дядюшку Мартина в лесной чащобе и встретит там амазонку Эмилию? Две соперницы, они сойдутся в поединке, причем не на простом оружии, а кое на чем пострашнее, чем обладают только женщины. Господи, до чего же много событий должно еще произойти! Интересно узнать, например, чем кончится история Сарайдарова с Даринкой. Нож ли тут скажет свое слово, а коли так, то в чьих руках он окажется? Или Даринка зарежет и Сарайдарова и своего любимого, а потом станет любовницей жандармского начальника, который будет преследовать со своим отрядом дядюшку Мартина? А со мной самим что же в конце концов станет? Смогу ли я огрызаться в ответ на каверзы жизни, стану отмывать ее цыганскую физиономию или подожму хвост и буду стоять перед ней, вытянувшись в струнку?
Вот когда мне удастся рассказать все эти истории, тогда я смогу, как мне кажется, заявить со всей определенностью, что жизнь — это беспредельное человеческое любопытство. Но нет, не стоит спешить с выводами. Кто знает, может, еще окажется, что жизнь — совсем не любопытство, а бессмысленная игра природы, дьявольский круг, по которому все мы вращаемся, арена живых роботов или бог весть чего там еще. Во всяком случае, человек в возрасте одного дня не может не задавать себе этих проклятых вопросов.
Перевод Ю. Шалыгина.
Йордан Радичков ВОСКРЕСЕНЬЕ
Человек без тайны — что цветок без аромата. Аромат — это тайна цветка. У моего дома тоже есть свои тайны. Всю ночь у нас кукарекает петух, мы все его слышим, но в чьей ванной он живет — никто не знает. Иногда кажется, что он поет на пятом этаже, иногда его голос доносится словно из-под земли. Ребята со двора называют его Баскервильской собакой. Еще у нас в доме есть Троянская война. Воины шмыгают носами и скрещивают мечи, а троянки в коротких юбочках, подняв попки, лепят из песка фигурки. Троянский конь стоит на пороге гаража и время от времени чихает. Владелец его, до ушей вымазанный в масле и исполненный надежд, ходит вокруг него. Мальчик сидит у окна и смотрит на войну, на троянок и на «москвича». Он расскажет воинам о Шиншилле, но это произойдет позже, когда ребята вынесут во двор роликовые коньки, а Три мушкетера спустятся туда с коляской. Но младенцам еще рано гулять, они спят сейчас в своих кроватках под белыми марлевыми пологами. Когда они выспятся, мы вынесем их во двор, а сейчас надо стирать пеленки, и папы крутят резиновые валики стиральных машин. Пеленки должны быть снежно-белыми, потому что они — точно лепестки цветка, укрывающие собой тычинку. Тычинки спят в кроватках, наморщив лобики, — они стараются видеть сны. У подъезда стоит Зинка и грезит, глядя на горы.
У Зинки росла грудь. Блузка ее оттопыривается, а она вот уже несколько недель стоит у подъезда, глядя на горы или на облака, и ждет, когда что-нибудь случится. Она не знает, что то, что должно случиться, заключено в ней самой, что оно зреет и набухает, а наступит день — и оно покажет свой цвет, обдаст ее таинственным ароматом, одарит ее вкусом жизни. Мальчик из окна разговаривает с Зинкой и стесняется смотреть на ее грудь, а Зинка ничуть не стесняется.
Но вот женщины кончили стирку.
Они разогнали Троянскую войну, чтобы она не вымазала белье, и стали вешать простыни. Троянская война переместилась к гаражу и уселась на свои щиты. Сорок пять лошадиных сил, обернувшись мертвым железом, стояли на пороге и не желали двинуться с места. Но владелец их Иван Флоров ничуть не волновался, а, посвистывая, спокойно занимался своим делом. Один из троянцев воспользовался передышкой, чтобы доесть кусок хлеба с маслом. Он с грустью смотрел, как белье захватило половину поля боя. До того белое было это белье — больно смотреть!
И в эту минуту раздались крики. Женщины метались, натыкаясь на веревки, и вопили:
— Мышь! Мышь!
Выскочивший во двор маленький мышонок, совсем маленький, испугался женского крика и стал бегать взад-вперед, наталкиваясь на тени простынь. Невозможно было понять, кто кого боится больше — женщины мышонка или мышонок женщин. Он носился по двору, кидался то туда, то сюда, обезумев от страха, пытаясь спрятать куда-нибудь свой длинный хвост, но женщины тоже бросались в разные стороны, натыкаясь на веревки, а кое-кто побежал через весь двор, высоко задрав подолы юбок.
Бог его знает, почему женщины, завидев мышь, задирают подолы!
Тогда во дворе появился Иван Барабанов. Он был коротконог и коротко острижен. Оценив обстановку, он несколькими энергичными прыжками догнал мышь. Но только он хотел наступить ей на хвост, как она извернулась и, юркнув у него меж ног, засеменила назад. Женщины кинулись на другой конец двора, добежали до ограды и остановились, с ужасом и отвращением глядя на мохнатого зверька, бежавшего прямо на них.
Мальчик, сидевший у окна, смеялся и хлопал в ладоши.
Иван Барабанов бежал, свирепо наклонив свою стриженую голову. Мышь пищала, предчувствуя конец, и мела хвостом, чтобы на него не наступили. Но Иван Барабанов не стал наступать ей на хвост: он ударил ее ногой по мордочке. Мышь перевернулась и затихла.
Мышонок, и зачем только ты вылез из подвала?
Женщины вздохнули и опустили подолы. Иван Барабанов взял мышь двумя пальцами за хвост и высоко поднял ее, чтоб все видели. Троянки в коротких юбочках и мальчик в окошке подарили ему улыбки, с верхнего этажа послышалось: «Ай, ай!» — вероятно, это ужасались Три мушкетера, а женщины стояли, прижавшись к стене, и смотрели с одинаковой ненавистью и отвращением и на мышь и на ее убийцу. Может быть, это правда, что, когда уничтожаешь какую-нибудь гадость, часть ее переходит на тебя?.. Человек с мышью так не считал, он победоносно прошел со своим трофеем по двору, показал его Троянской войне, которая тут же повскакала и схватилась за щиты, показал и Ивану Флорову, шоферу, а тот сказал:
— Да брось ты ее!
Иван Барабанов раскачал мохнатый трофей и швырнул его через ограду в соседний двор.
— Не заводится? — спросил он Ивана Флорова и вытер пальцы о штаны.
— Заведется, — сказал шофер. — Мы такие моторы приводили в чувство, ты б нипочем не поверил!
Он работал механиком на авторемонтном заводе на станции Искыр.
— Состарился твой «москвич», — сказал Иван Барабанов.
— Восемьдесят тысяч километров, — сказал Иван Флоров. — Два раза обошел экватор.
— Действительно, — согласился Иван Барабанов. — Длина экватора сорок тысяч километров. Сорок на два — получается восемьдесят.
— Я ж тебе говорю, два раза обошел. И третий раз обойдем. Это не машина, а зверь.
Он похлопал зверя по капоту и залез в машину, чтобы попробовать еще раз. Нажал стартер, послышалось урчание, скрежет, что-то чихнуло и затряслось, а Иван Барабанов на всякий случай отошел в сторонку. Но машина не завелась.
— Все равно заработает, — сказал Иван Флоров и снова поднял капот.
Он засвистел, а мальчишки стали рядком около гаража. Они знали, что каждое воскресенье до обеда Иван Флоров чинил мотор Троянского коня, а после обеда Троянская война, побросав щиты, принималась толкать «москвич» по улице. Благодаря этим усилиям «москвич», хоть и медленно, вступал в свой третий пробег по экватору.
Иван Барабанов пошел к дому, продолжая вытирать пальцы о штаны. Он остановился под окном, у которого сидел мальчик, и спросил, нет ли чего почитать.
— Про Ивана-дурака есть. Очень хорошая книжка.
— А другой нет?
— Еще есть братья Гримм, но ее я сам читаю.
— Ладно, давай про Ивана-дурака. Тем более мы тезки.
Мальчик подал ему в окно книжку.
— Видел, как у женщин поджилки затряслись? — спросил Иван Барабанов. — Чуть в обморок не попадали из-за какой-то мыши.
— Видел, — сказал мальчик.
— Смешно было, да?
— Смешно, — согласился мальчик.
Иван Барабанов засмеялся, и мальчику показалось, что он смеется немножко неестественно. Он не знал, почему все, кто проходит мимо его окна, что-нибудь говорят ему, все стараются сказать посмешнее, а когда не получается смешно, все равно смеются, потому что хотят, чтобы и мальчик непременно засмеялся. И мальчик смеялся, хотя и не так громко, как те, что останавливались у окна.
Он посмотрел на белоснежное белье во дворе — ветер покачивал его легко и плавно; рубашки дергались, размахивали рукавами, но женщины на совесть прихватили их прищепками. Мальчик подумал, что если бы не прищепки, все белье убежало бы со двора.
(Он сидел в своем кресле, залитый солнцем, и мечтал о просторе. Он верил, что наступит день, когда он выйдет во двор, как другие, и будет толкать «москвич», будет драться на войне, будет бежать за самолетом, который гудит над домами и тянет на хвосте призыв «Покупайте в ЦУМе», как это делают другие ребята, и будет кататься на роликах, которые отец купил ему на прошлой неделе. Он не сознавал, что кресло держит его так же крепко, как прищепки держат белье, развешанное во дворе.)
Он взял сказки братьев Гримм и стал читать. Благодаря книжкам мальчик мог путешествовать где угодно. Вот отправился он в путь с одним юношей, который решил научиться страху… Однажды отец сказал ему: «Эй, послушай, ты, там, в углу! Ты вон, гляди, какой уже большой вырос и силы набрался, надо тебе чему-нибудь научиться и на хлеб себе зарабатывать. Видишь, как брат твой старается, а ты ни к чему не гож». «Эх, батюшка, — ответил тот, — я бы охотно чему-нибудь научился; и раз уж на то пошло, то хотелось бы мне научиться, чтоб было мне страшно; в этом деле, видно, я еще ничего не смыслю». Услыхал это старший брат, засмеялся и подумал: «Ишь, какой у меня брат дурень! Из него никогда ничего не получится; каково волокно, таково и полотно». А отец вздохнул и сказал: «Уж чему-чему, а страху ты научишься; но на хлеб себе этим вряд ли заработаешь». А тут вскоре зашел к ним в гости пономарь, и отец ему пожаловался, что младший сын у него несмышленый — ничего не знает, ничему не учится. «Вы только подумайте, спрашиваю я у него, чем ты хлеб себе зарабатывать хочешь, а он говорит: хотел бы я страху научиться»…
И так далее.
(Сущий ад — учиться страху и этим зарабатывать себе на хлеб.)
Над домом пролетел самолет, за хвостом у него полоскался призыв «Покупайте в ЦУМе», и исчез на востоке, в той стороне, где стоят ангары Софийского аэропорта.
*
А у меня дома жена занимается с сыном или, как она его называет, своим «сокровищем». Они пишут в тетрадке прописную букву Д. Из соседней комнаты я слышу объяснения жены. По ее словам, эту букву надо писать с небольшим наклоном, с небольшим утолщением, потом тонко, потом слегка завернуть, еще чуть и еще чуть и, наконец, завернув налево, с утолщением изобразить ее ухо. Или:
Прописная буква Д похожа на Косолапого Мишку, который сидит в клетке в зоопарке и, повернув голову к публике, ждет, чтоб его угостили конфеткой: спина у него согнута, он сидит спокойно, но одним ухом прислушивается, потому что он зверь и людям не слишком доверяет. Линейки в тетрадке — это дом Косолапого Мишки. Надо быть внимательным, чтобы он не выходил из дому, как, например, тот на верхней строчке — лапы вылезли за линейку, а пол-уха торчит над крышей.
Сынишка пишет свою букву, я слышу, как он шмыгает носом, перо стучит о чернильницу («Осторожно с чернилами, посадишь кляксу!»), еще раз шмыгает носом и жалуется, что у него заболела шея, а жена говорит, что шея у него не заболела, а устала от напряжения, оттого что он не хочет сосредоточиться. Самое главное — сосредоточиться, думать только о букве, не отвлекаться. Зачем он отвлекается, зачем он вертится на стуле? Зачем он постоянно смотрит в окно?.. Да самолет летит очень низко. Третий раз уже пролетает и гудит над самым домом. «Покупайте в ЦУМе». Самолет для того и тянет на хвосте надпись, чтобы ее читали жители Софии.
Вот самолет пролетел, можно спокойно продолжать, сосредоточиться на тетрадке. Ну, мое сокровище!.. Сокровище опять принимается за дрессировку буквы Д. Но, видно, нелегко дрессировать зверя, когда первый раз берешься за такое дело. Как тут ни бейся, буква то зад задерет, то вертится между линейками, то лапами водит, то ухо поднимет — никак не найдет себе места, так же как и мой сынишка не может найти себе места на стуле. Он высовывает язык, чешется (когда садишься за уроки, всюду начинает чесаться), вертит головой, потому что сзади что-то мешает, и все старается выглянуть в окно, на улицу, потому что оттуда доносится скрежет роликовых коньков.
И зачем ты поставил букву на носки, словно балерину? Зачем ты ее так вытянул? Стук, стук, стук — стукает перо о чернильницу. Ужасная буква! Один господь знает, когда мы ее выдрессируем и заставим наконец сидеть смирно на тетрадочных линейках. Такой строптивой буквы мы еще не встречали, словно кто пустил ей слепня под хвост. Всю тетрадку измазала!
Влепят тебе двойку, так и знай!
Пока мой сын дрессирует в соседней комнате прописную букву Д, я сижу у окна и пишу. Всегда, когда я пишу, я смотрю на дом напротив. Это совсем новый дом, с очень широкими окнами, с балконами, и весь он легко уходит ввысь, почти до самого неба. Иногда мне думается, что достаточно посмотреть на балконы, чтобы многое узнать о жизни и о тайнах соседнего дома. На балконах второго этажа всегда стоят корзинки, а осенью они завалены тыквами и большими глиняными кувшинами. Нетрудно догадаться, откуда эти корзины, тыквы и кувшины. На балконе четвертого этажа всегда виднеется какая-нибудь велосипедная рама, какой-нибудь обод, какие-нибудь скобяные товары или, например, старые латунные детали — не потому, что они могут пригодиться, а просто потому, что латунь дефицитна. Иметь у себя дефицитный товар, даже если он никому не нужен, всегда приятно.
Окна шестого этажа обычно закрыты, а когда это правило нарушается, я вижу, как женская рука гонит из комнаты мух. Там не любят мух. На следующем этаже каждое воскресенье после завтрака на балкон выходит мужчина и курит. Вероятно, в той квартире кто-то не выносит табака. Сегодня мужчина выкурил две сигареты.
На следующем этаже… Впрочем, остальные этажи я оглядываю мимоходом, чтобы задержать свой взгляд на последнем. Там я вижу красный халатик, руки, облокотившиеся на перила, красивую голову с мальчишеской прической. Может быть, это свойство молодости, но девушка как-то действует на меня, даже когда не смотрит на мое окно.
Я беру из игрушек сына трубку, сворачиваю бумажные фунтики и дую в трубку, посылая фунтики вверх. Живи я высоко, все было бы очень просто, но я живу на первом этаже. Однако же, чтобы игра не была такой уж детской, я пишу на листочке: «Вы прелестны», сворачиваю его фунтиком и закладываю в трубку. На мою беду листочек падает на балкон механика. Он берет его, разворачивает и удивленно пожимает плечами. Я вижу, что он смотрит на мое окно, поэтому я начинаю писать. Очень серьезно, очень сосредоточенно: тут-тук-тук — никогда я так быстро не писал на машинке.
Но он, видно, неглуп; он берет резиновую грушу и начинает так сильно ее сжимать, что слышно на всех соседних дворах. Я не могу больше изображать безразличие и жестами спрашиваю, что случилось. Механик показывает мне листок. Разводя руками, я отвечаю ему, что ничего не понимаю.
В эту минуту на балконе показывается его жена, тощая и усатая, с головой в папильотках, и под гневным взглядом механика читает листок. Потом механик снова поворачивается к моему окну, а жена, за его спиной, просияв, кланяется мне. Механик прогоняет ее в комнату и принимается сбивать ржавчину с велосипедной рамы. У меня такое ощущение, будто у меня над головой работает жестянщик.
Наверху, на последнем балконе, красный халатик наклонился и просунул между прутьями перил одну ножку. Просунул и покачивает легонько, налево и направо, налево и направо. И улыбается. Красивая ножка, и я знаю, что она заканчивается кружевами — белье, которое сохнет на верхнем балконе, всегда с кружевами. Я тоже начинаю улыбаться и вижу только этот халатик, очень далеко, очень высоко, чуть ли не в самом небе, но, несмотря на расстояние, мне приятно смотреть на это красное пятно, на эти мальчишеские светлые волосы и на ножку, просунутую меж двух прутьев. Ножка искрится на солнце, как наэлектризованная.
Можно полюбоваться ею так, как в детстве любуешься облаками, вытянувшись посреди луга на спине.
Это бы, разумеется, прекрасно, если бы не шаги жены. Она вытирает руки о фартук и спрашивает, на что я так засмотрелся.
— Смотрю, — говорю я, — на небо соседей. Красивое, синее, глубокое. Летнее небо.
— Летом небо всегда летнее.
Она мнительна и не верит мне.
— Неприлично отцу двоих детей засматриваться на соседское небо.
— Будь добра, — говорю я, — не мешай мне работать!
— Но как ты можешь работать в этом шуме! С ума можно сойти!
— Слава богу, дома всегда шумно, а я еще не сошел с ума.
— Надо сосредоточиваться на шуме в собственном доме, а не на внешних шумах.
Я не возражаю, потому что женщины в доме всегда правы. Она закрывает окно, задергивает занавески и тут же успокаивается. Она наивна не меньше, чем мнительна!
— Разрешишь мне выкурить сигарету?
Она тихо садится рядом со мной. Усталая, немножко рассеянная. Или мы уже стареем?
Я говорю ей в шутку:
— Послушай, ты задернула занавески, но я вижу небо соседей даже тогда, когда на него не смотрю.
А она отвечает мне в шутку:
— Дурачок, небо повсюду одинаковое.
И пошла открывать, потому что кто-то позвонил. Это сосед Иван Врачев, студент.
— Чудо природы! — сказал Иван Врачев. — Лягушка в Перловской реке!
Он держал в руках аквариум и поставил его на ковер.
— Я никогда не видел лягушки в аквариуме, — сказал я. — Ну и украшение будет у тебя в доме!
— Выбрось-ка ее подальше, — вмешалась жена. — Всю комнату тебе провоняет.
Лягушка лежала на поверхности воды, показывая нам свое белое горло, и мигала, словно прислушивалась к нашему разговору. Иван Врачев ткнул ее пальцем, она шевельнулась и поплыла на дно, с силой выбрасывая задние лапы.
— Видишь, какая она длинноногая, как спортсменка?
Лягушка посидела на дне, спрятав голову в лапках, и опять выплыла на поверхность. Не выплыла, а просто всплыла, как пробка, и снова уставилась на нас.
— Не хочет квакать.
— Заквакает, — сказал Иван Врачев. — Когда начну делать с ней опыты. Еще Гален учился на животных.
— А лягушка разве животное?
— Лягушка помогла физиологии подняться на еще большую высоту. В борьбе против рака человечество тоже опирается на лягушек. Знаете, сколько опытов с ними проведено? Мы им многим обязаны и разными способами выражали им свою благодарность…
— Что-то я не слышал, чтобы человечество благодарило лягушек.
Студент поднял аквариум с ковра.
— Во Франции, в Сорбонне, — сказал он, — там, где работал великий физиолог Клод Бернар, поставлен памятник лягушке.
— А я читал, что в прошлом году миллионы летучих муравьев опустились на дорогу между городами Эскорт и Колензо в Южной Африке. Движение транспорта было приостановлено на долгое время на протяжении сорока километров. Моторы машин, ехавших по шоссе, были забиты муравьями и перестали работать. Тогда на шоссе хлынуло огромное количество тропических лягушек. Муравьи для них большое лакомство. Представляешь себе ужас шоферов, которые стояли там с заглохшими моторами и смотрели, как лягушки скачут по их автомобилям.
— Я запишу себе этот факт, — сказал Иван Врачев. — Я не знал… А где дети?
— Дети во дворе, — сказала жена.
— Я хотел показать им лягушку, — сказал студент. — Пошлите их потом ко мне!
Он пошел к двери, но остановился:
— Завтра я снова пойду на Перловскую реку и, если поймаю еще лягушек, подарю вам одну.
— Ради бога, — сказала жена. — Только лягушек нам не дари!
Сосед смотрел на свою длинноногую спортсменку.
— Только лягушек нам не хватало! — сказала жена.
— С тех пор, как человечество выдумало романтическую любовь, женщины не любят лягушек, — сказал я студенту.
— Лягушка есть лягушка. Как я могу ее любить?
— Ты ведь знаешь, почему они их не любят? — спросил я Ивана Врачева.
— Почему? Я думаю, что никаких особых причин нет, — настаивала жена.
— Потому что однажды один романтично настроенный человек, возвращаясь поздно вечером домой, нашел на улице лягушку. Лягушке было холодно, и она попросила человека сжалиться над ней и взять ее домой погреться. Романтично настроенный человек принес лягушку домой и посадил ее рядом с камином, но когда он лег под одеяло, она попросила его взять ее к себе, чтобы согреться. Человек взял ее под одеяло и согрел. Тогда лягушка призналась ему, что она заколдованная и что, если он ее поцелует, она тут же превратится в молодую и красивую девушку. Романтично настроенный человек так и сделал, и лягушка тут же превратилась в молодую красивую девушку. Но в этот момент в комнату вошла жена романтично настроенного человека… Как мог он ей объяснить, что в постели с ним лежит простая лягушка?
— Посредственный довод, — сказала моя жена пренебрежительно.
Через минуту она уже была в кухне и я слышал, как гремят сковородки на плите.
(Сущий ад — чувствовать, что тобой пренебрегают!)
*
Зинка продолжала грезить, глядя на горы. На вершине горы была снежная шапка, а над ней в синем небе плыло облачко, белое и чистое, и казалось, что это отражение снежной шапки. Потом там появилось другое, серое, оно куда-то спешило, обогнало белое облачко и продолжало свой путь по небу, постоянно меняя форму. Низкие облака всегда движутся быстрее. Они собираются группами на самой горе, сползают по ее склонам, выплескивают на город свой мокрый груз и разбегаются, чтобы на следующий день собраться снова. Но это серое облачко совсем маленькое, а других за ним не видно. Наверно, дождя не будет!
— Дождя не будет, — сказал Иван Флоров. — Это облака не дождевые.
— Откуда ты знаешь? — спросила Зинка.
— В горах вырос, знаю.
— А ты когда-нибудь был там, где образуются тучи?
— Много раз. Особенно на Стара-Планине.
— Мне тоже хочется на Стара-Планину.
— Ты еще мала, — сказал Иван Флоров и посмотрелся в зеркальце автомобиля. — У тебя волосы станут дыбом от страха.
— Неужели так страшно?
— Прошлое воскресенье было страшно. Мы поехали всей бригадой, и девушки с нами были. Застала нас гроза, но в небе молний не было. Молнии шныряли по земле, как змеи в траве: ссс-ссс-ссс. Все наэлектризовалось. От электричества волосы у девушек стали дыбом. Не от страха, а от электричества. Стали дыбом и трещат… Горы требуют смелости.
— Ты шутишь, — сказала Зинка и снова засмотрелась на снежное облачко над снежной шапкой горы.
Иван Флоров снова засвистел и наклонился над мотором своей машины.
Серое облачко продолжало свой путь на юг от города и добралось до телевизионной башни. Оно спешило куда-то и, чтобы двигаться быстрей, становилось то птицей, то животным, то колобком и катилось по небу. Как легко облакам принимать разные формы и обличья! Зинка чувствовала, что в этом есть какая-то магия.
*
Девчонки, став в кружок посреди двора, подпрыгивали и пели:
Подружка моя гвоздей накупила. Всех решила удивить — суп из них сварила.Мальчик, который всегда сидел у окна, прочел сказку братьев Гримм и смотрел теперь, где ребята. Троянской войны не было, и нигде вокруг не слышно было криков.
Но вот из подвала послышался собачий визг и оттуда показалась сама Троянская война. Она несла жестяной бачок для мусора и поставила его у мальчика под окном.
— Спутник будем запускать, — сказал один из ребят.
Он приподнял крышку бачка, и мальчик увидел из окна белую собачонку француженки из французского посольства. Эта француженка уже два года жила в нашем доме вместе с собачонкой и с мужем. Никто не знал, как ее зовут, потому что на дверях у них была не дощечка с именем, а французский флажок. «Они дипломатчики, — говорил Иван Барабанов. — Нечего нам соваться в их имена».
Французская собачонка ничего не понимала в игре, она царапала когтями стенки бачка и скулила. Мальчишки с мечами в руках были начеку и, только она пыталась выпрыгнуть из бачка, стукали ее по голове и кричали, чтобы она сидела смирно, но собачонка не понимала по-болгарски. Потом ребята закрыли крышку и стали колотить по бачку. Двор заполнился лаем и громыханием жести. Иван Флоров показался перед гаражом с болтом от мотора, но, поняв, в чем дело, вернулся к машине. Дети колошматили по бачку и кричали: «Пи-пи-пи», пока во двор снова не вышел Иван Барабанов. (Мой дом не помнит такого события во дворе, в котором не участвовал бы Иван Барабанов.)
— Что здесь происходит? — спросил он.
Дети не успели ответить, потому что увидели француженку из французского посольства. Она вытащила собачонку из бачка и пошла пить валерьянку. Самые храбрые из Троянской войны пошли за ней. Она захлопнула дверь перед их носом, и ребята слышали с площадки, как она что-то говорит собаке, а потом в ванной зашумела вода и собаку стали купать. Она скулила и чихала, наверное, в нос ей попала вода. Ребята сорвали французский флажок с двери французов из посольства и вернулись с ним во двор.
Однако Иван Барабанов, увидев флажок, отругал их.
— Отнесите туда, откуда вы взяли!
— Не понесем, — сказали ребята. — Зачем она взяла у нас собаку?
— Отнесите, — сказал Иван Барабанов. — Это неприкосновенная территория! Они дипломатчики!
— Ну и что ж, что дипломатчики? — вмешался Иван Флоров.
— Они могут послать ноту, — сказал Иван Барабанов. — Ты что думаешь, из Франции приходят к нам только французские машины?
— «Рено», — сказал Иван Флоров.
— Французские машины «Рено», — уточнил Иван Барабанов. — Из Франции приходят и ноты… Отнесите флажок!
Ребята немного струсили и, шушукаясь, понесли флажок обратно. Вода в ванной еще шумела, и они надеялись, что в квартире не услышат, как они прицепляют флажок обратно к двери. По лестнице они спускались на цыпочках и старались потише дышать. В это время петух забил крыльями и закукарекал. Голос его доносился откуда-то снизу и, поверьте мне, звенел в ушах, как рев баскервильской собаки.
Натерпелись ребята страху, пока спускались по лестнице, но до ноты дело не дошло.
— Дядя Иван! — позвал мальчик, который всегда сидел у окна. — Правда, вы вчера проиграли?
— Ну и что? — сказал Иван Барабанов. — Мы всегда побеждали и снова будем побеждать, а что вчера проиграли, это ерунда. Просто не повезло вчера, вот и все.
— «Левскому» всегда не везет, — подал от гаража голос Иван Флоров. — У этой команды нет нападения.
— А у твоей есть? Ваши только толкутся у ворот.
— «Славия» — это команда. И почетный член в ней — Юрий Гагарин, первый космонавт.
— А ты что — считаться вздумал? — пожал плечами Иван Барабанов. — Каждый честный болельщик знает, что может просто не повезти. Ты почему столько машин приводишь в чувство, а свою никак не заведешь? Не везет.
— Дело не в везенье, — сказал Иван Флоров. — Зажигание барахлит.
Сверху во двор выплеснули воду.
— Кто льет? — резко повернулся Иван Барабанов.
— Наверно, Три мушкетера, — сказали ребята.
— Как же это можно — воду во двор выливать? Кто ж это позволит — воду лить? Не-ет, ни в коем случае нельзя допустить, чтоб воду выливали во двор!
— Хорошо еще, что тебя не облили, — сказал Иван Флоров. — Повезло тебе.
— А-а, видишь? — засмеялся вдруг Иван Барабанов. — Признал, что бывает везенье!
Смеясь и грозя соседу пальцем, он пошел обратно в дом.
— Ты видел Ицо Длинные уши? — спросили ребята мальчика, сидевшего у окна.
— Сегодня не видел, — сказал мальчик.
— Что ж он не выходит?
И они стали кричать: «Ицооо! Ицооо!»
Они смотрели наверх, но окна Ицо были закрыты. Они покричали еще немножко и примирились с тем, что сегодня не придется кататься на Ицовом велосипеде.
— Я вам дам мои ролики, — сказал мальчик в окне.
И он спустил их сверху.
— А мы дадим тебе оружие, — сказали ребята. — Все, если хочешь.
Троянская война оставила под окном кучу оружия и побежала с роликами на улицу. Девчонки снова стали в кружок, запели свою песню и запрыгали. Мальчик в окне мысленно выбрал себе самый лучший щит, самый лучший меч и, вооружившись до зубов, посмотрел на свое отражение в стекле окна. Он увидел маленького мальчика в рубашке с короткими рукавами, с черными, как маслины, глазами и ушами торчком. Он улыбнулся ему, и мальчик с глазами-маслинками тоже ему улыбнулся. У мальчика с маслинками впереди не хватало зуба. «Все будут кататься на моих роликах, — подумал мальчик, — потому что Ицо с велосипедом не вышел».
*
Ицо сидел дома. Он давно спустился бы с велосипедом во двор, если бы не этот глупый котенок. Он не мог доесть завтрак и хотел, чтобы котенок ему помог. Он гладил его по спинке, чувствовал под пальцами его мягкую шубку, тонкие прогибающиеся ребрышки и, наконец, биение сердца, легкое и равномерное. Так же стучал и будильник, пока Ицо его не сломал и не убедился, что внутри у него одни колесики.
Но сколько Ицо его ни гладил, котенок не желал есть хлеб с маслом. Ицо тыкал его мордочкой в хлеб, но котенок упирался, царапался, и мальчик рассердился. «Вот отрежу тебе хвост, будешь знать». Он взял ножницы и схватил котенка за хвост, а испуганный котенок, вцепившись когтями в ковер, рванулся вперед. Он дергался, хвост натягивался, и это облегчало Ицо задачу.
Но серый кошачий хвост оказался очень крепким. Ицо изо всех сил сжимал ножницы, у него даже пальцы заболели, а всего-то он и сумел, что ободрать хвост в двух-трех местах. Обезумевшее от ужаса животное дико взвыло, вырвалось, прыгнуло на стол и опрокинуло себе на спину вазу с цветами. Со стола со всех сторон полилась вода, но Ицо ничего не мог поделать.
Котенок шмякнулся о ковер и, растопырив лапы, стал отряхиваться. Ицо попытался собрать воду со стола рукой, но разве воду руками соберешь? Все стекло на ковер. А котенок стоял у его ног и отряхивался. Ицо разозлился и пнул его ногой. Пушистый комок замяукал и, пролетев по комнате, упал на кровать; свернулся там и больше уже не смел шевельнуться, только поглядывал на свой мокрый хвост.
В комнату вбежала мать.
— Боже! — воскликнула она, прижимая руки к груди и не выпуская терки, которой она орудовала перед этим на кухне. — Боже, фанера отойдет!
Стол был новый, в баварском стиле, и, когда его покупали, продавец в магазине сказал, чтобы не проливали на него воду и не ставили горячее, потому что тогда отклеится фанера. А если надо ставить что-нибудь горячее, то лучше ставить на решетку; такие решетки продаются сейчас во всех магазинах. Знаю, знаю, сказала тогда мать, складные.
Она бросилась вытирать стол фартуком, а Ицо пробрался к кровати и скорей лег, лицом в подушку. Он по опыту знал, что когда он лежит, его не бьют. А когда он стоит, щеки никуда не спрячешь, и мама и папа с удовольствием его шлепают. Они так и говорили: «Сейчас мы тебя нашлепаем». И шлепали его, а он поднимал руки, чтобы защититься, но папа отводил их вниз; в таких случаях он плакал, ему было обидно, что у него такие слабые руки и он не может обороняться. Поэтому сейчас он поспешил спрятать щеки в подушку и приготовился зареветь во все горло, если его попытаются поднять. Ни за что на свете он не расстался бы сейчас с подушкой, это была его крепость, маленькая пуховая крепость, которая пахла, как волосы мамы. Когда отец уезжал в командировку и мама брала его к себе в постель, он не мог отличить запах маминых волос от запаха подушки.
— А котенок! — воскликнула мама. — Что ты сделал с котенком! Подожди, сейчас отец придет. Пусть он с тобой разбирается.
Ицо сунул руки под подушку и сжимал ее изо всех сил. Он решил ни за что на свете не показывать щек, а по голове его бить не посмеют. Это он тоже знал по опыту. Отец как-то дал ему подзатыльник, но мама раскричалась: «Ах, что ты делаешь! Не бей по голове! Еще станет идиотом, и я всю жизнь буду рвать на себе волосы!» Мальчик тогда подумал, что это очень неприятно — всю жизнь рвать на себе волосы. Один раз во дворе они с ребятами таскали друг друга за волосы, и у него от боли даже слезы потекли. Это было здорово неприятно, и мама была права, когда говорила, что не хочет всю жизнь рвать на себе волосы.
От подушки ему стало жарко, и он чуть повернул голову, чтобы можно было дышать носом. Краешком глаза он увидел, как мать, сидя на корточках, подбирает цветы. Она поставила их обратно в вазу, а потом стала ощупывать фанеру на столе и приглаживать ее фартуком. Снаружи хлопнула дверь, в передней звякнуло ведро и кто-то прокашлялся. Это был отец Ицо, Иван Николчов.
Иван Николчов принес из подвала уголь, снял ботинки, отнес ведро на кухню и зашлепал в домашних туфлях по квартире. Войдя в комнату, он спросил у жены, что она здесь делает с этой теркой, а она ему сказала, что Ицо искромсал котенку хвост, что он пролил на стол воду, что она всю неделю воюет с ним, а теперь пусть он повоюет, сегодня воскресенье, он целый день дома, пусть попробует с ним повоевать.
Иван Николчов посмотрел на Ицо, потом на котенка; тот лежал в ногах у мальчика и зализывал свои раны. Мокрый хвост, ободранный ножницами, выглядел совсем тонким и жалким. Котенок посматривал на хозяина и безразлично моргал.
— Спит? — спросил Иван Николчов.
— Ну да, спит! — сердито сказала мать. — Притворяется!
— Я с ним воевать не собираюсь, — сказал Иван Николчов. — Я просто выгоню его на улицу. Искромсаю ему уши ножницами и выгоню его.
— Правильно! — поддержала его мать.
— Искромсаю как следует и пущу в назидание на улицу! Пусть идет куда хочет, пусть спит с крысами в подвале, мне совершенно все равно! Пусть узнает, что такое жестокость!
Ицо сжимал подушку и думал о дворе.
— Ох! — воскликнула мама. — Я забыла пирог в духовке.
Ицо слышал, как она побежала на кухню, потом крикнула что-то, потом чем-то загремела и снова вернулась в комнату, вздыхая:
— Сгорел! Обуглился весь!
— И пирог из-за него сгорел, — сказал Иван Николчов. — Прекрасно! Если я сегодня увижу, как ты даешь ему есть, я тебе руки переломаю. Так и знай!
— Не буду давать, не буду! — сказала мама.
— И завтра не давай ему есть. Руки тебе переломаю, слышишь?
— Слышу, — сказала мама.
Они пошли на кухню, а Ицо сжимал пуховую подушку и думал про себя, что один день он вполне проживет без еды. Когда он болел гриппом, он два дня не ел, есть совсем и не хотелось, и все равно он не умер. Он услышал, как его зовут со двора: «Ицо-о-о-о! Ицо-о-о-о!» — но не посмел встать и подойти к окну. И Ивана Флорова он слышал, и Ивана Барабанова, и представлял себе, что происходит во дворе, потому что он околачивался там целыми днями, но встать и выглянуть в окно не посмел.
Потом он вспомнил, что у него в коробочке из-под ленты для пишущей машинки лежит монета в один лев. Коробочку ему дал отец в народном банке. Другие ребята заходят с мамами в учреждения, где работают их отцы, чтобы вместе идти домой, но Ицо ходил к отцу на работу только один раз — ведь Иван Николчов работает в Болгарском народном банке. Все деньги Болгарии хранятся в этом банке, и туда нельзя ходить просто так.
В коробке лежала не только монета. Ицо держал там и трехугольную марку Сан Марино. За эту марку любой мальчишка со двора уступит ему свой хлеб с маслом. Ведь половине ребят обычно не хочется есть, а мамаши гоняются за ними и пичкают их. А на один лев можно купить множество разных вещей!
Ицо все лежал, хотя уже вспотел от пуха, и тут почувствовал, что кто-то трогает его за ногу. Он поднял голову и увидел котенка; тот сидел у него в ногах и трогал его лапкой. Ицо пошевелил пальцами, котенок поднял лапку и ударил его по ступне. Потом облизал лапку, старательно умылся и снова сел спокойно.
Ицо перевернулся на спину и позвал его к себе. Котенок подошел, подняв мокрый хвост трубой, и потерся о щеку мальчика. У Ицо защекотало в носу, но он не шелохнулся. Котенок сел рядом с ним на подушку и начал помаргивать и мурлыкать, вращая невидимое веретено и прядя невидимую нить своей пряжи. Ицо погладил его мордочку, спину, хвост. Шубка у котенка была мягкая-мягкая, мягче, чем подушка, сердчишко его все так же равномерно стучало под тонкими ребрышками, и усы торчали так же, как раньше.
Котенок нагнулся и лизнул Ицо в нос. Язык у него был шершавый. Ицо хотел было ответить ему тем же, но раздумал и только подергал его за усы, да так осторожно, так легко, что котенок не ощутил ни малейшей боли.
*
В это время Иван Николчов, служащий Болгарского народного банка, убеждал в кухне жену, что люди в нашем доме — все равно как монеты в банке: цена у каждого своя, но все что-нибудь да стоят. И не только в этом доме, но и в других домах, и во всем городе.
Я не знаю, каковы именно богатства моего дома, но я совершенно уверен, что он хранит в себе много сокровищ, так много, что перед ним побледнели бы сказки «Тысячи и одной ночи». Мне жаль только, что я не могу воскликнуть: «Сезам, откройся!» — и показать вам все богатства разом, как это делал Али Баба.
*
Вернув французский флажок французам из французского посольства, Иван Барабанов пошел домой — он снимал комнату на пятом этаже — и еще на лестнице усомнился в том, что все дело в везенье: ведь если бы «Левский» лучше играл на флангах и чаще прорывался к воротам, то, вероятно, команде больше бы и везло; но крайние нападающие были слабые, на ворота выходили редко, потому им и не везло, и команда проиграла, как это, впрочем, случалось с ней довольно часто (но пусть это останется между нами), и на стадионе никто не сжег свой зонтик, потому что при проигрыше публика скисает; впрочем, мы много раз обращали свои зонты в огонь и дым и снова будем делать из них факелы — Иван Барабанов совершенно был в этом уверен. Что касается «Славии» — это посредственная команда, она всегда застревает в середине таблицы и никогда не выходит вперед. И публики у этой команды нет, всего каких-нибудь двести человек. У армейцев болельщиков человек триста, железнодорожники приводят на стадион самое большее сотню своих ребят, а за «Левским» стоят восемь миллионов левскарей. Говорят, что и за границей у нас есть почитатели и что в Мадриде есть даже кафе «Левский». Хорошая команда все равно что хороший табак, подумал Иван Барабанов (он был завзятый курильщик), хотя вчера нам и дали прикурить. Но пусть армейцы не радуются раньше времени, вот начнется осенний сезон, и мы разделаем их под орех.
Размышляя об этом, он вошел в свою комнату и первым делом взглянул на телефон. Черный аппарат молчал, притаившись в углу комнаты. Телефон ему поставили накануне, и он сказал мне, что ему пришлось вести пуническую войну, пока он его добился. Сегодня он отказался от прогулки в горы из-за того, что кто-нибудь мог ему позвонить. Он не знал, кто именно мог ему позвонить, но когда у тебя в комнате стоит такое достижение техники, кто-то же должен тебе звонить. На то ведь и существуют телефоны!
Он прилег на диван с толстовской сказкой об Иване-дураке. Иван-дурак два раза победил чертенка и стал царем. Иван Барабанов читал и улыбался, представляя себе, как осенью они разделают на стадионе армейцев. А читал он вот что:
«Привез отца с матерью и девку немую и стал опять работать.
Ему и говорят:
— Да ведь ты царь!
— Ну что ж, — говорит, — и царю жрать надо.
Пришел к нему министр, говорит:
— У нас, — говорит, — денег нет жалованье платить.
— Ну что ж, — говорит, — нет, так и не плати.
— Да они, — говорит, — служить не станут.
— Ну что ж, — говорит, — пускай, — говорит, — не служат, им свободнее работать будет; пускай навоз вывозят, они много его нанавозили.
Пришли к Ивану судиться. Один говорит:
— Он у меня деньги украл.
А Иван говорит:
— Ну что ж! Значит, ему нужно.
Узнали все, что Иван — дурак».
Иван Барабанов почувствовал досаду. Он любил читать сказки, но эта показалась ему неинтересной, может быть, потому, что он был рассеян и больше думал о телефоне. Он положил книгу на грудь и попытался отвлечься, вспоминая прогулки в горы. Но вспомнить было нечего — на этих прогулках он обычно скучал. Он ходил в горы с Иваном Флоровым, механиком с авторемонтного завода на станции Искыр, а Иван Флоров нигде не останавливался, знай бродил целый день по горам, да еще приговаривал, что это не горы, а так — холмики. В позапрошлое воскресенье Иван Барабанов видел зайца — тот бежал по поляне, положив на спину длинные коричневые уши; да, именно такие были у него уши — длинные и коричневые. Разумеется, зайца можно увидеть и в зоопарке или на большом рынке за Львиным мостом, так что едва ли имеет смысл тащиться в горы, чтобы в глазах у тебя мелькнула пара длинных ушей. К тому же и птиц там не было — птицы не любят сосновых лесов. «Вот выберись-ка в Стара-Планину, — говорил ему Иван Флоров, — до Петрохана я тебя на машине довезу, а дальше пойдем пешком. Такие виды — голова закружится». Иван Флоров — турист, у него даже на «москвиче» прицеплен эдельвейс. А Ивану Барабанову это все ни к чему.
Он снова принялся за Ивана-дурака. Тот в третий раз победил чертенка и послал министров работать. Тут Барабанов почувствовал, что одна пружина в его диване вылезла и впивается ему в спину. Она торчала под самой поясницей и вгрызалась в него, хотя вылезла она уже давно, и он не раз с тех пор лежал на диване.
Телефон все еще молчал. Но если ему никто сейчас не звонил, он сам может позвонить. Иначе зачем стоит здесь это достижение техники.
Диск работал безупречно, пружины у него были новые. Вжик, вжик, вжик… Можно проверить часы по «точному времени» из Астрономической обсерватории; можно узнать в любом кино, есть ли билеты; вжик, вжик, вжик… Можно спросить, как закончился вчерашний матч, неважно, что он сам на нем был. Вжик, вжик, вжик… Разумеется, это достижение надо использовать, а то какой смысл было вести из-за телефона пуническую войну.
Он снова сел на диван, остерегаясь торчащей пружины. Хотел было закурить, но не успел чиркнуть спичкой, как услышал из-за стены стоны своей хозяйки. Вот уже две недели она каждый день в это время принималась стонать и доводила его до бешенства. Он ненавидел эту толстуху с косматой бородавкой на щеке, жирную и глупую, как утка. И хотя он ее ненавидел и называл про себя чудовищем, ему вдруг пришло в голову, что ей, может быть, нужно помочь. Если ей нужна помощь, Иван Барабанов тут же вызовет кого надо по телефону.
Он вскочил и решительно постучал в дверь.
— Войдите! — послышалось промеж двух стонов.
Чудовище прикладывало к своим распухшим ревматическим коленям распаренное горчичное семя. От компресса поднимался пар, но женщина стоически терпела, хотя кривилась и охала.
— Очень больно? — спросил Иван Барабанов.
— Очень! — сказала женщина и показала на свои жирные колени, которые от горчицы покраснели и пошли пузырями. — Больно, но надо терпеть, потому что ревматизм доконает мне сердце.
— Может быть, вам нужен врач. Если пузыри лопнут, как бы не получилось заражения.
— Что вы! — покачала головой хозяйка, и Иван Барабанов, решивший быть объективным и снисходительным, увидел, что это просто добродушная старая женщина, которая пускает в ход все средства, присоветованные ей другими добродушными старухами со двора. — Вы уж извините, наверно, я вам мешаю своим оханьем, когда меняю припарки.
— Ничуть! — сказал Иван Барабанов. — Если нужен врач, я могу позвонить.
Старуха растроганно смотрела на него, положив руки на колени, а Иван Барабанов думал, что это правда приятно — вертеть диск телефона, потому что пружины у него совсем новые и работают мягко и безупречно.
Но старуха оказалась упрямой и не захотела звать врача. Иван Барабанов вышел из ее комнаты, и, пока он шел по передней, неприязненное чувство к этой старой толстухе снова им овладело. Теперь он ненавидел ее даже больше, и не только потому, что увидел ее безобразные колени, способные сделать женоненавистником даже жителя пустыни.
Телефон, это достижение техники, все так же спал в углу. Почему никто из сослуживцев ему не звонит, ведь вчера они записали его номер! Он вспомнил, что у него тоже записаны телефоны сослуживцев, но он никогда до сих пор им не звонил, и он упрекнул себя. Дружба требует взаимности. И не только дружба, с футболом тоже так. Если бы «Левский» больше ценил свою публику, больше уважал ее, он бы так часто не проигрывал.
Он вздохнул и снова лег на диван, на этот раз подперев голову рукой. Неохотно раскрыл книгу и по рассеянности еще раз прочел страницу, на которой Иван-дурак посылает министров работать; рассердился на себя, повернулся на спину и, решив заснуть, закрыл глаза. Что-то затопало на лестнице, кто-то кричал: «Осторожней! Осторожней!» Иван Барабанов подумал, что это Три мушкетера спускают коляску с младенцем во двор.
За стенкой хозяйка охала, но совсем тихо, наверное припарки остывали.
Тремя мушкетерами были три бабки с шестого этажа моего дома. По воскресеньям они присматривали за малышом своей племянницы, и счастью их не было границ. Прозвище им придумали ребята со двора и хранили его в тайне, так же как они хранили тайну баскервильской собаки.
Посоветовавшись между собой, Три мушкетера решили раскрыть младенцу ножки, чтобы они загорали на солнце, а головку держать в тени. Как только солнце пригрело ножки, младенец намочил штанишки, и Три мушкетера, стоявшие вокруг коляски, пришли в восторг. Одна бабка держала мокрые штанишки, другая держала сухие штанишки, а третья подтирала младенца, и все три были счастливы, как матросы Колумба, увидевшие на горизонте землю.
Самолет за это время наполнил свои баки бензином, взял на борт оператора кинохроники и снова полетел над городом, и за хвостом у него заполоскался призыв: «Покупайте в ЦУМе».
*
К этому времени я кончил писать рассказ, жена принесла мне кофе, и я стал читать его вслух — привычка, оставшаяся у меня с первого класса. Рассказ был такой:
ВЕСНА ИДЕТ!
Рассказ Глигора Глигорова.
Председатель сельсовета в селе Черказки, человек молодой и энергичный, распираемый инициативой, сидел в совете и время от времени обращался к рассыльному:
— Гоца!
— Сейчас, товарищ председатель!
Гоца Герасков, рассыльный сельсовета, коренной черказец, выходил, тотчас возвращался и докладывал:
— Шестнадцать, товарищ председатель!
Они садились, выкуривали по сигарете, и председатель начинал ерзать на стуле.
— Не похоже, чтоб было шестнадцать, — говорил он. — Смотри, солнце-то уж где!
— Как скажете, товарищ председатель! — говорил Гоца Герасков и снова выходил на улицу, чтобы проверить. Вскоре он возвращался обратно и докладывал:
— Семнадцать, товарищ председатель!
— То-то же! — говорил председатель и начинал ходить по комнате. — Не может он оставаться на шестнадцати, когда солнце вон уж как печет. И чтоб на семнадцати застрял, тоже сомнительно.
— Сомнительно, товарищ председатель, — говорил Гоца Герасков.
К чести и славе села Черказки сельсовет незадолго до того купил градусник. Его повесили на фасаде сельсовета, под громкоговорителем. Спирт, конечно, был подкрашен, чтоб издали было видно. Именно об этом градуснике и разговаривали сейчас председатель с Гоцей Герасковым.
Потом они снова садились, выкуривали по сигарете, и Гоца Герасков вслух вспоминал, что когда он был в армии, он тоже мерил себе температуру градусником, но тот градусник был совсем маленький, и пяди не будет, а ртуть и вовсе не разглядишь. К самому свету надо было подходить, к окну, да и то еле различишь, поблескивает там чего в трубочке или нет. Не то что этот, сельсоветский, метровой высоты и цветной, так даже старики-пенсионеры, приходя за пенсией, спокойно смотрят на него без очков. Газету читают в очках, а на градусник смотрят запросто, пока Гоца Герасков объясняет им, что такое Цельсий.
— Градусник — не газета, — сказал председатель.
— Не газета, товарищ председатель, — согласился рассыльный.
Он не просто соглашался, он говорил убежденно.
— Хотя и у газеты есть свои градусы, — сказал председатель.
— Есть, товарищ председатель.
— Газета должна поддерживать определенную температуру.
— Должна, товарищ председатель. Если у кого грамоты хватает.
Гоца Герасков думал о той колонке, в которой Астрономическая обсерватория дает сводку погоды по стране. Для всего, разумеется, нужно соображение, грамотность, главное же — чтоб все было ясно и наглядно. Теперь, к примеру, каждый будет знать, что значат семнадцать градусов для села Черказки.
Председатель же думал не об этой колонке, а о других вещах — ведь председатель никогда не думает так же, как рассыльный.
Вот так, за разговором, они вдруг услышали на улице шум.
— Что там такое? — спросил председатель.
Гоца Герасков уже выглядывал в окно.
— Козы, товарищ, председатель! Возвращаются с пастбища.
Они вышли на улицу и увидели черказских коз. С полным выменем, они, толкаясь, брели по улице. За ними шел пастух в ноговицах из козлиной шкуры.
— Как козы? — спросил председатель.
— Отлично, товарищ председатель, — сказал пастух, — сейчас запущу их в загон, пусть переваривают.
Председатель посмотрел на градусник — цветной столбик поднялся до двадцати градусов.
— Смотри, в тень веди! — сказал он пастуху. — Пусть в тени стоят, а то двадцать градусов уже, солнечный удар их хватит, если на солнце оставишь.
— В тень, в тень! — сказал пастух.
— Всем разъяснять приходится, — обернулся председатель к Гоце Гераскову. — А то оставит на солнце, и их всех солнечный удар хватит. Шутка ли — двадцать градусов!
— Непременно хватит, товарищ председатель, — сказал Гоца Герасков. — Вол — тот бы выдержал, у него голова здоровая, крепкая, его солнце так легко не проймет. А у козы что за голова — с мой кулак. Оглянуться не успеешь, как ее удар хватил.
— А чего эти в корчме окна позакрывали? — спросил председатель. — Разве можно при двадцати градусах окна закрытыми держать?
И он энергично зашагал к корчме, сопровождаемый рассыльным.
— Что вы окна не откроете? — спросил он корчмаря. — Двадцать градусов.
— Когда ж это двадцать стало? — удивился корчмарь и стал суетливо открывать окна.
— Так вот и стало, — сказал председатель, — Градусник не суетится, как мы. Он свое дело знает.
Гоца Герасков сказал, что когда он был в армии, то как только в казарме становилось восемнадцать градусов, так сразу переставали топить печку.
— Восемнадцать градусов — это солдатская температура, — сказал председатель. — А у нас уже двадцать.
Гоца Герасков продолжал вспоминать, что когда градусник показывал восемнадцать, они выносили его на улицу, зарывали в снег, и он опускался до ноля. Тогда его вносили обратно в помещение и набивали печь дровами, потому что все любили тепло. Но не успевал огонь в печке разгореться, как градусник (пройдоха этакий) снова показывал восемнадцать, они снова зарывали его в снег, снова вносили в казарму, и столбик снова лез вверх.
— Никак то есть невозможно было его обмануть, — заключил рассыльный.
— Да, тут уж без обману, — сказал председатель.
— Никакого обману, товарищ председатель. Человек, глядишь, иной раз тебя и обманет, а градусник — ни в жисть. Меряет он, значит, как ему положено, и хоть ты тут человек, хоть ты тут коза, он знай свое меряет. Вот оно дело-то какое!
Но председатель уже не слушал его, а, повернувшись, энергично зашагал в сторону школы, не спуская глаз с ее закрытых окон.
— Отчего вы не откроете окна? — спросил председатель одного из учителей. — Двадцать градусов.
Учитель как раз рассказывал детям об агрегатных состояниях и о том, что под воздействием тепла все твердые тела расширяются. Для доказательства он нагревал кольцо, и надо было проверить, пройдет ли в него после этого шарик.
Шарик не прошел.
Учитель открыл окна.
— Вот и весна пришла, — сказал он детям.
— Пришла, пришла, — сказал председатель, — Градусник это дело давно уже отметил — еще когда козы с пастбища возвращались.
На всякий случай он подошел к загонам. Козы лежали в тени и спокойно жевали жвачку. Пастух снял свои ноговицы и сушил их на солнце.
Председатель и рассыльный пошли дальше по селу и остановились у реки. Хорошо было бы перейти и на другой берег, но не было моста. Мост унесло, когда в верховьях таял снег. Река билась о берега, вода уносила стога сена и крушила все на своем пути.
— Надо спрямить реку, — сказал председатель. — И берега спрямить, и дно выровнять. Гляди, как крутит, двадцать метров — и поворот. Зачем реке столько поворотов?
— Да это старая река, товарищ председатель, — сказал Гоца Герасков.
— Знаю, что старая!
— С турецких времен осталась, товарищ председатель!
Потом они прошли мимо церкви и увидели, что окна там закрыты ставнями. Служка убирал граблями двор, и председатель подумал было, не сказать ли и ему, чтоб он открыл окна. Двадцать градусов, как же можно держать окна закрытыми!
— Святые, верно, взопрели в церкви, — сказал Гоца Герасков.
Председатель, поколебавшись, пошел дальше.
Не дело атеиста — проветривать церкви.
Обойдя село, председатель и Гоца Герасков пошли обратно в совет. И еще издали, сквозь дрожащее марево, увидели, что градусник спокойно висит себе под громкоговорителем. Гремела маршевая музыка, началась дневная передача. Председатель, улыбаясь, смотрел на цветной столбик.
К большому удивлению председателя и всего села Черказки градусник показывал двадцать два градуса! Он обманул их, мошенник!
(Вот какой рассказ я написал в промежутках между дрессировкой прописного Д, созерцанием соседского неба и разговорами о лягушке из Перловской реки — студент Иван Врачев, вероятно, уже начал делать с ней опыты. «Раньше ты писал романтичнее», — сказала жена. «Боюсь, — сказал я ей, — что сочинение рассказов превратит меня в романтично настроенного человека. А романтично настроенный человек может встретить на своем пути заколдованную лягушку». «Я бы не хотела, чтобы ты настраивался романтически», — сказала жена.)
*
Мальчик полюбовался своим отражением в оконном стекле и стал пускать мыльные пузыри. Пену взбивал его отец, Иван Алеков, наборщик Государственного полиграфического комбината. Он взял мыло для бритья — оно дает хорошую мыльную пену, и пузыри из нее получаются величиной с футбольный мяч.
— А этот вышел розовый, — сказал мальчик.
— Его солнце осветило, — сказал Иван Алеков. — Сам розовый, а по краям фиолетовый. Смотри — лопнул.
— Я другой сделаю, — сказал мальчик.
Он опустил трубочку в миску и стал дуть, а Иван Алеков продолжал работать кисточкой и сбрасывать с нее пену. Миска наполнилась доверху.
— Смотри, куда поднялся! — крикнул мальчик.
Мыльный пузырь покачивался в воздухе, и, подхваченный ветром, подымался все выше. Он пролетел над гаражом и лопнул.
— Бум! — воскликнул мальчик.
Из окна вылетел следующий пузырь. Ветер унес его к соседям — к тому самому механику, который сбивал ржавчину с велосипедной рамы.
— Бум! — воскликнул мальчик.
Пузырь ткнулся в балкон и лопнул.
Два следующих слиплись, образовав цифру 8, и заколыхались над двором. Они были слишком тяжелые, и ветер не мог поднять их вверх. Они покачались, покачались и, подумав, упали на коляску с младенцем. Младенец замахал ручками и очень удивился, когда пузыри исчезли. Мальчик в окне пришел в восторг и захлопал в ладоши.
Следующий пузырь неподвижно повис в воздухе.
— Когда я выздоровлю, я выйду во двор, — сказал мальчик.
— Конечно, — улыбнулся ему Иван Алеков.
— Ты будешь пускать пузыри, а я буду стоять внизу и дуть на них, чтобы они не падали на землю.
Бум!
Но трубочка — вот она, пена на подоконнике, сейчас мы сделаем следующий. Пузырь оторвался и легко поплыл над двором.
— Конечно, — сказал Иван Алеков.
— И пойдем в зоопарк, — сказал мальчик.
Бум!
— Как в прошлом году.
— И ты меня посадишь в тележку, и я покатаюсь. В разноцветную такую тележку с пони.
Следующий пузырь упал отвесно вниз, ему помешал взлететь хвост из пены.
— Как в прошлом году, — сказал Иван Алеков.
— Только я теперь два раза прокачусь!
Пузырь упал на землю.
Миска у нас полна пены. Вот сейчас два пузыря сразу оторвались от трубочки и полетели наперегонки над нашим двором… Но почему, стоит нам что-нибудь задумать, и пузыри тотчас лопаются! Может быть, потому, что они мыльные пузыри?
— А вот я ему наподдам! — крикнул мужчина со двора.
Мальчик выглянул и увидел под окном пятерых мужчин.
— Дядя! Дядя! — закричал он обрадованно.
Мужчина побежал и пнул мыльный пузырь.
— Го-ол! — крикнул он.
— Заходите! — позвал их из окна Иван Алеков.
Это были наборщики из полиграфического комбината. Каждое воскресенье они заходили перед обедом к Ивану Алекову и шли вместе посидеть в наш ресторан «Дикие петухи». Когда они зашли к мальчику, тот, что играл мыльным пузырем в футбол, спросил его, знает ли он, как делать зайчонка. Мальчик не знал, и тогда наборщик сложил ладони и сделал на стене зайчонка. Тень пошевелила ушами, умыла мордочку, прислушалась, хвостик у зайца задрожал, и он пустился бежать по стене.
— Гав! Гав! — крикнул наборщик.
— Почему он бежит? — спросил мальчик.
— Собаки испугался.
— А где он спрячется?
— Под столом.
Тень зайчонка пробежала по стене и спряталась под столом.
— Папа, — сказал мальчик. — Я хочу зайчика!
— Хорошо, сынок, — сказал Иван Алеков.
— На рынке есть кролики, — сказал один из наборщиков. — Если сейчас пойти, можно сразу купить.
— Отчего ж не пойти!
— Пойдем, рынок-то в двух шагах. Принесем кролика, а потом уж — в «Диких петухов». А ящичек у тебя найдется?
— Ящики есть, — сказал Иван Алеков. — В подвале полно ящиков, еще с прошлого года.
— Посадим его в ящик, и будешь его кормить морковкой. И капусту он ест.
— Капусту купим на рынке.
— Зачем ее покупать? Подойдем туда, где ее разгружают, там капустных листьев знаешь сколько валяется. Дайте мне только сумку побольше, я ее доверху листьями набью.
— Я буду его дрессировать, — сказал мальчик.
— Кролик — очень хорошее животное, — сказал наборщик, который пнул мыльный пузырь. — Бывают кролики по пять килограммов.
— Это великаны.
— Я хочу маленького крольчонка, — сказал мальчик. — Чтоб у него от страха шерстка вставала дыбом.
Наборщики обещали купить маленького крольчонка, чтоб у него от страха шерстка вставала дыбом, и вышли. Мальчик улыбнулся им вслед и заглянул под стол. Зайчика, которого сделал наборщик, там не было. Вместо него сидела старая кошка и умывала лапой морду. Потом кошка потянулась и, облизнувшись, замурлыкала. Мальчик догадался, что ей хочется спать. Кошки всегда сами на себя нагоняют сон, рассказывают себе что-нибудь и под свой рассказ засыпают.
— Это ты съела зайчика! — погрозил ей мальчик пальцем и стал снова пускать мыльные пузыри.
Он пустил только два, один за другим, и отложил трубочку. Троянская война вернулась во двор и, сбившись в кучку, стояла у гаража. Иван Флоров, механик авторемонтного завода на станции Искыр, сел в «москвича», и ребята стали его толкать. Машина лениво качнулась, выползла из гаража и покатилась по двору, выбрасывая тучи дыма. Три мушкетера испугались, как бы их не задавили, и, подхватив младенца и коляску, исчезли со двора.
Троянский конь двигался медленно, с грозным урчанием, то застревал на месте, то вдруг, окутавшись дымом, делал рывок вперед, и время от времени сигналил клаксоном. Но как ни старалась вся Троянская война, мотор так и не завелся, машина еще раз споткнулась и стала, словно кто намазал шины клеем.
Иван Флоров вылез из машины, подумал, подумал и сказал:
— Верно, зажигание барахлит.
— А ты бы позвал дядю Ивана Шулева, — сказал мальчик из окна.
— Я ему звонил, — сказал Иван Флоров. — Или его дома нет, или спит.
Иван Шулев был лучший в доме техник, и о нем говорили, что родись он раньше, он бы изобрел автомобиль. Но мы знаем, что никто не рождается по собственному желанию и что, если изобретать уже нечего, можно хорошо изучить то, что изобрели до нас. А сам Иван Шулев много чего изучил, видел египетскую пирамиду (между прочим, он единственный в нашем доме видел египетскую пирамиду) и как-то рассказал мальчику из окна, что видел багдадского халифа Гарун аль Рашида и двух фараонов.
Троянская война побежала к двери Ивана Шулева и так долго звонила, что разбудила его, объяснила, в чем дело, и он спустился во двор, чтобы помочь Ивану Флорову оживить «москвича».
— Зажигание, видно, — сказал Иван Флоров.
— Посмотрим, — сказал Иван Шулев.
— Я звонил, — сказал Иван Флоров. — Подумал, что тебя дома нет или ты спишь.
— Я спал, — сказал Иван Шулев. — Вчера я допоздна читал книгу о болгарской национальной кухне. Великая вещь — наша национальная кухня. А у тебя нигде не закоротило? Но женщины ничего не понимают в этом деле, в кулинарном, только зря продукты переводят. Знаешь, например, как готовить молодого барашка с овощами и грибами? Великая вещь, говорю тебе, только надо непременно в глиняном горшке, от него аромат особый… у тебя мотор захлебнулся, бензина много налил… и так с незапамятных времен готовили. А прерыватель у тебя как?
— Прерыватель в порядке, я смотрел, — сказал Иван Флоров.
— За этими машинами глаз да глаз нужен, — сказал Иван Шулев. — Одно дело «роллс-ройс», другое дело эта машина. Я в натуре «роллс-ройс» видел в Вене — великая вещь…
Все во дворе знали, что он видел в Вене «роллс-ройс» два года назад и что эта машина произвела на него неизгладимое впечатление.
Человек, повидавший египетскую пирамиду, багдадского халифа, двух фараонов и «роллс-ройс» в натуре, засучил рукава и наклонился над мотором, чтобы найти повреждение.
— Ремонта требует, — сказал Иван Шулев.
— Что? — спросил Иван Флоров.
— Надо найти, что, — сказал Иван Шулев. — Сейчас найдем.
— Дядя Иван, — окликнул его мальчик из окна. — Мне сейчас принесут кролика с рынка.
— Вот и хорошо, малыш, — сказал Иван Шулев. — Тушеный кролик — вкусная штука!
— Живого кролика! — сказал мальчик. — Я его научу страху.
— Да он с рожденья пуганый, — засмеялся Иван Шулев. — Кролика хоть зажарь, у него все равно вид испуганный.
— Видно, страх у него в крови, — сказал Иван Флоров.
— В крови-то в крови, но ведь его раньше чем тушить, надо в воде с уксусом вымочить. Сутки он должен так полежать, а уж тогда его можно тушить. В этой книге, которую я вчера читал, про болгарскую национальную кухню…
Он, однако, не мог закончить свою мысль, потому что все услышали доносящийся с улицы какой-то странный шум и, спрашивая друг друга: «Что такое? Что случилось?» — кинулись на улицу. Один только мальчик остался сидеть у окна, выдул мыльный пузырь, тот пересек по диагонали двор и ткнулся в гараж.
— Быстро, сынок! — вбежала в комнату его мама.
Она взяла мальчика на руки, мальчик обхватил ее шею и почувствовал, как они, точно подхваченные вихрем, перенеслись в другую комнату, окно которой выходило на улицу. Мать посадила мальчика на стул и широко распахнула окно, так чтобы вся улица была ему видна.
*
Но вы, может быть, не знаете нашей улицы?
Улица у нас центральная. Посередине тянутся кусты роз, с двух сторон ее охраняют два ряда тополей, высоко поднявших свои копья. По ней ходит троллейбус № 1, по ней гуляют дети из детского сада, держа друг другу за халатики, по ней катаются на роликах, особенно вечером, когда движение стихает, по ней Девятого сентября проходят танки и орудия, возвращаясь с военного парада, и идут на демонстрацию рабочие колонны из северного района Софии; по ней прошли однажды слоны немецкого цирка «Буш», белый верблюд и дикий бык с колокольчиком на шее, по ней проезжают электрокары с углем, и на ней же Ицо и другие ребята со двора выучились кататься на велосипеде. У регулировщиков здесь много работы, особенно днем, когда сильнее движение. По нашей улице ходят автобусы к станции Искыр, и Иван Флоров ездит на автобусе на работу, а Иван Алеков ездит на работу троллейбусом и потом идет пешком по Орлову мосту. Иван Николчов вообще ходит на работу пешком, потому что Болгарский народный банк от нас близко. На нашей улице, как и на всякой другой, есть магазины, а по праздникам на домах вывешивают по три флага — трехцветный, красный и голубой. По праздникам в ресторане «Дикие петухи» играет оркестр, и люди с нашей улицы говорят, что в праздники у ресторана весь день — рабочий. Иван Алеков в такие дни обычно задерживается на работе, потому что выходят специальные выпуски газет. Первого мая улица заполняется воздушными шарами, а когда проходят физкультурники, Иван Флоров идет с колонной «Славии», а колонна «Славии» несет портрет Юрия Гагарина, почетного члена общества. Иногда мимо нас бредет стриженая женщина, закутанная в одеяло. Она идет по середине улицы, и автомобили и троллейбусы останавливаются, давая ей дорогу. Эта женщина тронулась умом во время бомбежки, и когда она проходит по улице, всем становится не по себе… Осенью на тротуарах жарят каштаны и делают воздушную кукурузу, а когда начинаются дожди, троллейбусы рассыпают синие искры. Но я думаю, что все это встречается на любой улице, хотя, если говорить начистоту, наша улица лучше всех, и мы верим Ивану Шулеву — он видел много улиц, во многих странах, видел фараонов и самого Гарун аль Рашида, — что улиц лучше нашей ему нигде не попадалось.
А вот сейчас какой-то необычный шум вызвал всех на улицу.
По нашей улице с грохотом двигался эскорт мотоциклистов в милицейской форме, на красных мотоциклах. Они парализовали все движение. За ними медленно ползла огромная машина на нескольких осях. Машина тянула за собой складной фургон, закрытый полотном, и занимала всю улицу. Такого автопоезда никто никогда не видел, и все с любопытством глазели на него с тротуаров. А он двигался с такой торжественностью, как будто по улице ехал президент; да и эскорт мотоциклистов придавал процессии торжественность.
И вдруг раздались крики:
— Кит! Кит!
— Какой кит?
— Кит Голиаф!
Вот, наконец, и кит Голиаф на нашей улице! Дети пришли в восторг, стали кидать в воздух шапки и бросились к автопоезду. Милиционеры сидели, строго выпрямившись, на своих мотоциклах и смотрели вперед.
Когда процессия проходила мимо нас, дверца автопоезда открылась, и оттуда, улыбаясь до ушей, соскочил — кто бы вы думали?
Соскочил мой брат Иван Глигоров, служащий базы Болгарских государственных цирков. Я уверен, что вся улица в эту минуту чуть не лопнула от зависти. Он махнул мне шапкой, пробился сквозь толпу и пошел к дому. Автопоезд, рыча, полз по улице, а вся Троянская война бежала следом, надеясь хоть в щелку увидеть океанское чудище, которое взгромоздили на моторизованного гиганта и отправили путешествовать по суше. Впервые в истории кит покинул океан и пустился в путь по континенту, чтобы жители континента увидели, откуда они произошли, если они верят в данную теорию происхождения мира.
Мой брат, Иван Глигоров, только начал мне рассказывать, как прошла поездка с китом — он сопровождал кита во время его турне, — когда в комнату вошел Иван Барабанов.
— Громадное какое чудище! — сказал Иван Барабанов.
— Громадное, — сказал мой брат. — В океане росло.
— А как он размножается? — спросил Иван Барабанов.
— Как всякая живая тварь, — сказал брат.
— Ух, киты как начнут любиться, в океане, верно, буря подымается, — предположил Иван Барабанов. — А правда, что киты — млекопитающие?
— Правда, — сказал брат. — Они детенышей молоком вскармливают.
— Ух ты! — удивился Иван Барабанов.
В эту минуту к нам вошел Иван Шулев.
— Вот кита я еще не видел, — сказал он и спросил моего брата: — А ты знаешь, как он размножается?
— Как всякая живая тварь, — сказал брат.
— Представляю себе, что делается, когда они начинают любиться, — засмеялся Иван Шулев. — Весь океан кипит. Буря — только держись.
— Наверное, — вмешался Иван Барабанов.
— А правда, что они детенышей молоком вскармливают?
— Ну да, кит ведь млекопитающее.
— Смотри-ка, — удивился Иван Шулев. — Значит, и соски́ у них есть.
— Конечно, есть.
— А как делают, чтобы он не протухал? — спросил Иван Барабанов.
— Как вытащат его из океана, чуть присаливают, — объяснил мой брат, — столько, сколько нужно, формалина добавляют, сколько нужно, а потом, может, еще досаливают, если потребуется, потому что иначе он протухнет.
— Рецепт есть для этого дела, — сказал Иван Шулев. — Если сделать все по рецепту, как огурчик будет. А если не по рецепту действовать, так и кильки не приготовишь.
— Ты думаешь, женщины все по рецептам готовят?
— Не готовят они по рецептам, потому и переводят зря продукты, — сказал Иван Шулев. — А кита приготовили так, чтоб он мог все континенты объехать.
— Он потом в Азию поедет, — сказал мой брат.
После того, как все усвоили, что у китов бывает любовь и что они вскармливают детенышей молоком, мой брат, Иван Глигоров, рассказал нам, как поймали кита Голиафа, гарпуном поймали — китов ведь ловят гарпуном, как его подтащили к берегу, как кому-то пришло в голову показать его на континенте, как на заводе была заказана специальная автомашина, как… и т. д.
Между тем наши наборщики прошли Львиный мост и вышли на столичный кооперативный рынок, с северной его стороны, где продается птица и кролики. Кролики сидели в больших клетках, расставленных на асфальте, и каждый продавец расхваливал свой товар, но наши наборщики сразу направились к прилавку, где вело торговлю кролиководческое общество Софии.
Перед прилавком толпились покупатели, конечно больше дети, а продавец по одному вытаскивал кроликов из клеток и рекламировал товар.
— Кто хотел лилового? — спрашивал он. — Вы хотели лилового?
— Нет, нет! — кричали из толпы.
— Казанского голубого не хотите? А белого великана? Кто хотел белого великана?
— Мы хотим хорошего кролика, — сказал Иван Алеков. — Выбери нам самого лучшего кролика.
— Если на пух, так ангорского или белого пухового? — сказал продавец.
— Нет, не на пух. Нам красивого.
— Смотрите сами, — сказал продавец. — Вот бельгийский великан, белый великан, шиншилла, французский серебристый, тюленевый, шампань. Если на развод, возьмите казанского голубого. Отличная порода. Самая плодовитая порода. Каждый день размножается. Или шиншиллу? Или какую другую? Болгария выращивает полмиллиона кроликов всех пород. Трудно сказать, какие лучше, это вопрос вкуса. Все кролики отличные.
— Ого, — сказал Иван Алеков. — Много-то как, полмиллиона кроликов.
— Это мало, — сказал продавец, поднимая ве́нца. — Знаете, как во Франции развито кролиководство? А Советский Союз — там больше двухсот миллионов кроликов. На третьем месте Бельгия, а мы в хвосте.
— Зато у нас есть зайцы, — сказал один из наборщиков.
— И зайцев нет, — сказал продавец. — В других странах не продохнешь от зайцев. Куда ни плюнь, в зайца попадешь. Совет министров разрешил «Главмясу» закупить за границей две тысячи элитных животных. И издано постановление о кролиководческих обществах, которые должны объединить кролиководов всей страны. Вы хотели белого великана?.. Берите на здоровье и берегите его от кошек.
— А нам какого взять? — спросил Иван Алеков. — Я и не знал, что кроликов так много.
— Возьмем серого, — предложил тот наборщик, который пнул во дворе мыльный пузырь. — Кролик должен быть серый. Вот этого, например.
Он показал на кролика, сидящего в клетке. Уши его, длинные и лохматые, лежали на спине. Он шевелил губами и смотрел на наших глазами на выкате.
— Вот этого, серого, — сказал Иван Алеков. — Который один в клетке.
— Этого? — удивился продавец. — Этот вам не подойдет.
— Почему не подойдет? Мы заплатим сколько надо.
— Он каннибал, — сказал продавец. — Зачем мне вас обманывать, чтоб вы меня потом ругали. Он жрет детенышей. Два приплода сожрал.
— Ух ты! — удивились наши и, подталкивая друг друга, наклонились все вместе над клеткой кролика-каннибала. — Гляди-ка! Жрет их, говоришь?
— Я оглянуться не успел, как он у меня два приплода сожрал.
— Нет, такого не возьмем. Какого же нам тогда взять?
— Лучше всего шиншиллу, — сказал один из наборщиков. — И имя придумывать не надо. Мальчонка будет рад. Шиншиллу.
— Который Шиншилла? — спросил Иван Алеков.
— Вот Шиншилла.
Кролик задрыгал ногами в воздухе.
— Хороший кролик. И имя красивое. Шиншилла!
Они взяли кролика и пошли к горам капусты, чтобы набить сумку капустными листьями.
— Кролиководство-то посложней будет, чем типографская техника, — сказал один из наборщиков.
— В наше время на все наука нужна, — сказал Иван Алеков. — Даже чтоб кроликов разводить.
Часом позже они уже сидели в ресторане «Дикие петухи» и рассказывали знакомым с соседних столиков, как они ходили на рынок покупать кролика, а сын Ивана Алекова, посадив Шиншиллу на подоконник, где были набросаны капустные листья, взялся учить ее страху. Троянская война прекратила сражение во дворе и прогнала троянок, потому что они не хотели реветь. Мальчишки собрались под окном и, точно в кукольном театре, смотрели, задрав голову, на Шиншиллу. Кролик прыгал туда-сюда по подоконнику и время от времени шевелил ушами. Вдруг петух, погруженный во мрак чьей-то ванной, закукарекал в надежде на то, что тьме когда-нибудь придет конец. Прислушиваясь к кукареканью, кролик насторожился и наставил уши.
Но это был не страх, а любопытство.
Ведь Шиншилла знала все шумы города и четыре месяца провела на кооперативном рынке, в той его стороне, где продается птица и кролики, так что она часто слышала петушиное пение, доносившееся из клеток.
— Гав! Гав! — сказал мальчик.
Шиншилла посмотрела на него своим выпуклым глазом и принялась жевать капустный лист.
— Тяф! Тяф! — кричали дети со двора.
Шиншилла спокойно ела капусту, не обращая внимания на ребят со двора.
— Не так легко будет ей научиться страху, — сказал мальчик в окне. — Вон, верхняя губа у нее рассеченная, значит, она уже когда-нибудь в жизни дрожала от страха.
Раздвоенная верхняя губа была у Шиншиллы от рождения, это была одна из ее наследственных черт, так же, как и уши, которые стали длинными еще во времена ее прадедов, когда кролики как-то раз расшалились и вымокли до нитки, а Мишка Косолапый развесил их на веревке сушиться, прихватив за уши прищепками. Верно, у Шиншиллы уши стали еще длинней, потому что четыре месяца продавец поднимал ее за уши и показывал покупателям, но никто не хотел купить Шиншиллу, а все норовили взять бельгийских великанов, у которых длинная шерсть.
Хотя кролик ведь не овца, чтоб его стричь, и ничего глупее стриженого кролика и не придумаешь.
Быть трусливым кролику не стыдно, это соответствует его природе.
А вот быть стриженым кролику или зайцу стыдно. Лучше всего это чувствуют зайцы, живущие на воле, — они предпочитают скорее умереть, чем быть остриженными.
Но мы отвлеклись, а заниматься этим вопросом нам сейчас некогда, потому что в эту самую минуту из-под стола вылезла кошка и, распушив хвост, вспрыгнула на диван. Шиншилла пискнула и попятилась, потом сжалась, а верхняя губа у нее приподнялась и задергалась. Потом она забила лапами, часто и сильно, а глаза у нее выкатились еще сильнее. Мальчик увидел, как шерстка у нее на спине встает дыбом.
Он был озадачен. И пока он гадал, чего испугался кролик, он увидел, как мимо него метнулась кошка. Мальчик толкнул ее, она пролетела мимо сжавшейся взъерошенной Шиншиллы и, смешно раскорячив лапы, стала падать во двор к ребятам. Троянская война подняла щиты, чтобы защитить себя от нападения, а когда кошка упала на землю, кинулась к ней. Но кошка ловко юркнула у армии между ног и припустила по двору, в сторону гаража. В одно мгновенье она вскарабкалась по стене, и преследователи увидели ее спину и задранный хвост уже на крыше. Там она села на черепицы и стала лапой умывать мордочку.
Шиншилла опустила уши на спину и принялась за следующий капустный лист. Она слышала смех, доносившийся из-за развешанного во дворе белья, но это не меняло ее настроения, потому что кролики и без того всегда улыбаются.
*
По другую сторону висевшего на веревке белья сидели старики моего дома. Перебивая друг друга, точно дети, они обсуждали, как в церковь святого Георгия Победоносца во время последнего богослужения, когда там было полно народу, зашли какие-то молодые парни и девчонки с транзисторами; видно, они где-то веселились вместе и решили позабавиться еще, выкинуть какой-нибудь смешной номер; вот и придумали войти в церковь, а транзисторы их гремели и играли твисты и чачи. Мало этого, некоторые из них стали кричать: «Даешь «Левского!» — и другие вещи, которые никак не пристало произносить в церкви во время богослужения. Священник разгневался и спросил, кто они и чего им нужно, а они сказали, что они святая Петка Самарджийская и что им ничего не нужно. Священник произнес речь, назвал их хулиганами и дикарями, а когда он кончил, парни зааплодировали. Священник повернулся к ним спиной и прочел «Отче наш», а когда он кончил «Отче наш», парни пришли в восторг и снова зааплодировали. Священник с трудом выгнал их из церкви, тогда они сели на ступеньки паперти, пустили транзисторы на полную мощность и продолжали вопить: «Даешь «Левского!» Вот какое было происшествие, и старики очень оживленно его комментировали, дополняя и перебивая друг друга и предлагая каждый свое объяснение, а потом кто-то вспомнил, что Иван Барабанов тоже болеет за «Левского» и что, наверно, он знает этих ребят и надо его спросить. Потом они рассказали несколько анекдотов, совершенно пресных, и долго над ними смеялись, потому что старый человек довольствуется и пресным анекдотом. Но Иван Цеков сказал, что знает один очень хороший анекдот еще со времен Балканской войны, когда он служил в 44-м кавалерийском полку и они продвигались в сторону Драмы. Все стали смеяться его анекдоту и подталкивать друг друга, а один сказал, что, верно, дело было в Сахаре. Когда они насмеялись вдоволь, один из стариков сказал: «Глядите, как бы нас эти анекдоты не испортили». «Испортят они нас, — сказал Иван Цеков, — а там, глядишь, и мы взяли по транзистору да и пошли к святому Георгию Победоносцу играть чачу!» «А вот однажды, — сказал другой старик, вытерев слезы, — один человек сел в поезд. Вошел в купе, а там уже сидят трое. Нет, кажется, двое уже сидели в купе. Или двое, или трое их было, но я, верно, забыл этот анекдот… Забыл», — признался старик. «Хороший анекдот, — сказал третий старик, — я в прошлом году в «Диких петухах» слыхал, да никак не вспомню. Очень хороший анекдот, смешной. Не зря говорят, надо их записывать…» Они помолчали и снова принялись комментировать происшествие в церкви святого Георгия Победоносца, и снова повторили, как молодежь ворвалась в церковь, как транзисторы играли твисты и чачи, а парни кричали: «Даешь «Левского!» И откуда только им пришла в голову Петка Самарджийская?.. Ох, уж эта молодежь! Случись такое в старые времена, все бы в ад попали.
Новые-то времена лучше!
*
Получив необходимые сведения о ките Голиафа, Иван Барабанов вернулся в свою комнату и решил поспать. Телефон молчал. Барабанов бросил на него лишь беглый взгляд, потому что стал уже остывать к этому достижению техники. Он прилег на диван, и, размышляя о ките, заснул.
Разбудил его звон. Первым делом он посмотрел в угол. Нет, телефон молчал. Зазвенело в кухне, упала, наверно, какая-нибудь крышка или сковородка; он с неприязнью подумал, что это жирное животное с припарками готовит себе обед.
От выпирающей из дивана пружины болела спина. Иван Барабанов решил размяться, пойти пообедать к «Диким петухам» и снова вернуться домой, потому что ему могут позвонить по телефону. Многие уходили на прогулку в горы, сейчас они уже возвращаются, один за другим, и кто-нибудь может позвонить.
Иван Барабанов увидел на нашей улице много людей с рюкзаками, с удочками, со свернутыми в трубку одеялами; кожа у всех покраснела от солнца. Рыболовы шли гордые, в их ведерках плескалось по нескольку искырских уклеек, величиной со спичку. Иван Барабанов сел у широкого окна, чтобы наблюдать за улицей, и пока ел, смотрел на юные парочки по ту сторону стекла. Он смотрел, как разлетаются колокольчиками девичьи юбки и манят, влекут, зовут. У некоторых юбки были совсем узкие, и это тоже было красиво, и коротенькие юбочки тоже были хороши, потому что открывали коленки; он сидел за толстым стеклом «Диких петухов», отделенный от разноцветных колокольчиков девичьих юбок, и ему стало грустно. Он не мог понять, отчего напала на него эта грусть — то ли от одиночества, то ли от того, что когда он причесывается по утрам, все больше волос остается на гребешке. (Сущий ад — чувствовать, что стареешь.)
Он вышел на улицу и увидел перед телефонной будкой длинную очередь. Люди даже в очереди стоят, чтобы позвонить по телефону. Сотни телефонов, наверно, звонят сейчас во всех домах нашей улицы и всего города, погруженного в жаркое летнее марево. Только его телефон молчит, притаившись в углу. Он увидел руку девушки, опускавшую монету, красивую белую руку, какой он давно не касался. Когда кабина освободилась, он вошел в нее, и на него пахнуло ароматом женских духов. Он было заколебался, но потом бросил монету и набрал номер собственного телефона. В трубке послышались гудки — они доносились, как сигналы спутника из космоса, которые он столько раз слышал по радио.
Иван Барабанов оставил трубку болтаться на шнуре и кинулся домой. Никогда еще он так быстро не взбегал по лестнице. Руки его ходили ходуном, пока он отпирал, и первое, что он увидел, когда открыл дверь, было круглое лицо хозяйки; она стояла в испуге и тут же начала ему объяснять, что телефон звонит, но она не решается войти в комнату и узнать, кто его спрашивает.
— Да пожалуйста, пожалуйста! — любезно отвечал ей Иван Барабанов, пока, улыбаясь до ушей, бежал по комнате к телефону.
Телефон заполнял звоном всю комнату. Аппарат ожил и посылал в воздух свои мелодичные импульсы. Иван Барабанов снял трубку и, повернувшись к хозяйке, со счастливым лицом крикнул: «Алло!»
— Может, девушка, — сказала хозяйка и прикрыла дверь.
«Деликатная и воспитанная женщина», — подумал Иван Барабанов.
— Кто-то оставил трубку висеть на шнуре, — говорил голос в трубке.
— Наверно, не работает, — сказал другой голос, женский.
— Дай попробую, — сказал первый голос.
— Сначала положи трубку, — сказал женский голос.
Что-то щелкнуло.
Иван Барабанов подержал еще трубку около уха и медленно опустил ее на вилку. Телефон скалился белыми цифрами диска. Дразнит он его или смеется над тем, что он один?
Он прошелся взад и вперед по комнате. Откуда-то из глубины дома доносилось гортанное кукареканье баскервильской собаки, слышен был шум Троянской войны во дворе и время от времени подавал голос клаксон.
Он открыл окно и увидел внизу «москвич». Иван Шулев и Иван Флоров разбирали мотор. Рядом с машиной лежало запасное колесо. Он подумал, что если б он понимал в автомобилях, он тут же бы спустился во двор и работал бы наравне с другими, чтобы «москвич» стал на колеса. Но он работал чертежником в архитектурной мастерской и умел только чертить.
Тогда ему вдруг пришло в голову, что он может накачивать шины, он сколько угодно шин набил бы воздухом, лишь бы это могло пригодиться Ивану Флорову.
Он оставил окно открытым и пошел во двор к механикам, намереваясь спросить их: «А не надо ли подкачать какую шину?»
*
Если самолет гудит в небе, призывая всех: «Покупайте в ЦУМе», мы можем закрыть окна и не впускать шум. Если солнце спустится низко и заглянет в комнату, мы можем задернуть занавески и укрыться от его любопытства. Если паркет скрипит как раз там, у буфета, мы не будем на него ступать, мы обойдем это место и буфет не будем открывать. В комнате должны царить тишина и прохлада, чтобы младенец мог как следует выспаться…
Но эта муха — откуда она взялась, как могла проникнуть в комнату эта ужасная муха, я ведь сказала, чтоб окно приоткрыть только чуть-чуть и не подымать тюлевую занавеску, потому что мухи боятся тюля, и она бы не влетела.
Я и не поднимала тюль, это, наверно, ветер его приподнял, и муха влетела.
Принеси щетку для паутины, сейчас мы ее достанем, вон она куда села, на потолок!
Щеткой ничего не выйдет, она летает, не подпускает к себе. Злая стала от жары, так она и даст убить себя щеткой. А где твой шарф, тот длинный, шлепни ее шарфом, сразу прикончишь.
Нет, нет, шарфом не получится, видишь, куда она забралась, в абажур забилась, негодяйка!
Ну-ка, зажги свет, сожжем ей лапки.
Снова полетела.
Ох, до чего же нахальная муха, разбудит малыша! Смотри, как кружит.
Так переговаривались Три мушкетера, взбудораженные присутствием мухи. А муха кружила по комнате, пикировала на младенца, который спал, сжав кулачки, и раз сумела сесть на его носишко, на самый кончик, потому что мухи всегда ищут для приземления какую-нибудь вершину, чтобы потом прогуляться по гребню и ощупать своей поганой мордой всю окрестную территорию.
Подлетела б она только к окну, ударилась бы о стекло, тут бы мы ее и прикончили.
Пока она билась бы о стекло, мы б ее и прикончили.
Да вот, не летит к окну, хитрая она и злая от жары.
От жары они становятся злыми, как собаки.
Даже злей, чем собака, эта нахальная муха, и грязная до ужаса.
Кто знает, на каких грязных помойках она сидела!
Не гони ее туда, где малыш, зачем ты ее все в ту сторону гонишь?
Разве я стала бы ее туда гнать, сама летит, проклятая!
Шарфом ее, шарфом, брось щетку!
Стой, стой!
Ах, гадина!..
Наконец, муха со свернутой шеей упала на ковер. Младенец все так же сжимал кулачки и сосал во сне. Младенцы сосут и во сне, поэтому они так быстро растут.
*
А мы с сыном, дочкой и с моим братом Иваном Глигоровым шли на цирковую базу, посмотреть на львов. Мой брат работает на этой базе и ухаживает за львами и медведями. Или, как он говорит, служит «львиным поваром».
Жена сказала, чтобы по дороге я тренировал сына на букву Д. Надо было находить слова, которые начинаются на эту букву и повторять их по дороге, чтобы мальчик их запомнил.
— Дивдядово начинается на Д, — сказал мой брат Иван Глигоров.
— Дикарь начинается на Д, — сказал сын.
— Что ты выдумываешь какие-то нелепые слова, — сказал я сыну, — вспомни какое-нибудь другое слово, поприятней.
— Дракон, — сказал мальчик.
— Как ты не можешь вспомнить что-нибудь хорошее, — выбранил я его. — Ну, например, «добрый день». И красиво, и приятно.
— Дождик, — сказала моя дочка.
— Дурак, — сказал сын. — Дурак тоже начинается на Д.
— Где ты слышишь такие слова? — спросил я.
— Дома, — сказал мальчик.
— Дети все слышат, — сказал брат.
— Дыня, — сказала дочка.
— Дырка, — сказал сын. — Тоже начинается на Д.
— Хорошо! Еще придумай!
— Дивдядово, — сказал мальчик и улыбнулся.
— Ладно, Дивдядово. А еще?
— Дивдядово, — сказал мальчик. — Очень хорошее это слово — Дивдядово!
— Дивдядово, — сказала девочка.
— Да ладно, далось тебе Дивдядово, неужели других слов, кроме Дивдядово, нет?
— Есть, папа, другие, но Дивдядово очень хорошее слово. Дивдядово! Очень хорошее слово!
— Но учительница не станет тебя спрашивать про одно только Дивдядово. А ты, кстати, знаешь, где село Дивдядово? Не знаешь. Оно находится в другом слове, которое тоже начинается на Д. В Добрудже оно находится. Ну, придумай еще какое-нибудь слово.
— «Дикие петухи», — сказал мальчик.
— Это же ресторан. Как ты это объяснишь? Ты можешь сказать «дикий петух», но петух не начинается на Д.
— «Дикая собака Динго», — сказал мальчик. — Динго начинается на Д.
— Все ты придумываешь бог знает что!
— Начинается на Д, — повторил мальчик. — И длинный начинается на Д. А у нас в классе Васко длинный. И дылда начинается на Д. Васко поэтому дылдой и зовут. А если хочешь знать, дразниться тоже начинается на Д.
Мы шли по мосту за вокзалом. Под нами маневрировал паровоз. Дети просунули носы сквозь перила и смотрели, как труба дышит у них под ногами и выбрасывает тучи пара и дыма. Паровоз дал задний ход и стал толкать перед собой вагоны.
— А вон там живут трамваи, — сказал я дочке.
— Они там спят? — спросила она.
— Они здесь спят, и здесь их лечат, когда они больны, и здесь они умываются. Трамваи тоже умываются.
— А едят они тоже здесь? — спросила дочка.
— Вот глупая! — вмешался сын. — Это депо. Депо тоже начинается на Д. Но Дивдядово лучше всего.
— Я не глупая, — сказала дочка. — Папа, скажи ему.
— Ты дама из Амстердама, — сказал сын.
— Дикий петух, — сказала дочка. — Я не дама.
— Дама, — сказал сын. — Дама-мадама.
— Сейчас я вас нашлепаю, — пригрозил я. — Что вы дурачитесь.
И я запретил им упражняться дальше на букву Д.
Когда мы прошли мост и стали спускаться вниз, мы увидели вдали хребет Стара-Планины. Синеватым венцом он подпирал небо, чтобы оно не упало на город. Город становился все ниже, дома — все меньше, и постепенно они почти сливались с полями. Города никогда не начинаются внезапно и вызывающе. Дома их растут понемногу, пока не вымахивают в высоченные громады центра. Если смотреть на города издали, они похожи на курганы.
Стара-Планина тоже уходит вверх с необычайной легкостью, постепенно выбираясь из утонувших в дыму равнин, подтягивая к подножию своему холмы, там и сям укрепленные скалами, пока не вздымается до обнаженных склонов своих вершин, рождающих грозы, окутанных тучами и тайнами. Города, вероятно, стараются быть похожими на Стара-Планину.
— Как увижу Стара-Планину, всегда на душе хорошо становится, — сказал я брату.
— А я, как ее увижу, — сказал он, — сразу вспоминаю маму и село Черказки. Оттуда все лето виден снег на горах.
— Гомер, который воспел Олимп, считал Хемус[20] самой высокой вершиной в мире.
— А наши горы и есть самые высокие и самые громадные, — сказал брат. — Нигде больше таких прекрасных гор нет. Когда мы гастролировали с китом Голиафом, я всякие горы видел, но таких красивых, как Стара-Планина, нигде нет. Стара-Планина — все равно что кит, который вылез на сушу.
Иван Николчов, служащий банка, наверно, сказал бы, что наша Стара-Планина — это банк, в котором хранятся легенды. Иван Флоров, механик, сказал бы, что на Стара-Планине молнии ходят по земле. Зинка не усомнилась бы в том, что у Стара-Планины есть душа. Иван Шулев сказал бы свою любимую фразу: «Великая вещь Стара-Планина». Гомер сказал бы, что это самые высокие горы в мире.
А я соглашусь со всеми, потому что все, что сказано о Стара-Планине, — правда.
Трамвай выходил из города, окидывал взглядом пустые поля и возвращался обратно. Мы прошли еще немного и подошли к цирковой базе, где мой брат служил львиным поваром. База со своими фургонами и временными пристройками для животных была похожа на военный лагерь. Несколько лошадей дремали у коновязи, ожидая, когда придет время кормить львов. Мальчик нес два ведра с молоком, и мой брат сказал ему, что доктор распорядился дать старой медведице только полведра, и спросил, покормил ли он львов в три часа, как они договаривались. Мальчик с ведрами сказал, что львов в три часа покормили, но он не видел, съели они все мясо или нет.
— Сейчас посмотрим, — сказал брат и повел нас в пристройку с клетками.
Дети крепко сжимали мне руки, и у меня вспотели ладони.
Вначале мы увидели сковороду и сердце (лошадиное, — сказал брат), которое жарилось на сковороде. Брат оказал, что они научились есть лошадиные сердца у собственников кита Голиафа, пока участвовали в турне; там был один Франсуа, так он только конину и ел.
— А вот это Серенгети, — сказал брат.
В клетке лежал лев и смотрел поверх наших голов. Он не моргал, не шевелился, а просто лежал, подняв свою львиную голову, и никто бы не угадал, что мелет эта большая мельница и чем она полна там, за большим косматым лбом. Около него вертелась и терлась боками о железную решетку львица, то и дело приседавшая так, точно готова была броситься на нас. Она держалась беспокойно, нервничала и, видимо, своей нервностью раздражала Серенгети. Раз она подошла к нему вплотную и тронула его мордой, верно, хотела что-то ему сказать, а он рассердился, что ему мешают предаваться размышлениям, и двинул ее лапой. Львица извернулась и отскочила назад, в другую половину клетки, но тут же снова принялась метаться из конца в конец, посматривая на нас своими желтыми глазами. Видно, не только в человечьих домах женщины — ипохондрики.
— Дядя, а где живет лев? — спросил мой сын.
— В джунглях, — сказал мой брат Иван Глигоров. — В джунглях полно львов и тропических животных. Этот лев из Серенгети, есть такая область, потому его и зовут Серенгети. Серенгети — царь манежа, а не только царь зверей.
Царь, лишенный трона, продолжал смотреть поверх наших голов.
— А капризный, как женщина, — сказал брат. — Вот, не съел свою порцию.
У лап Серенгети виднелось красное конское бедро.
— А вот этот — самый старый, — сказал брат, подводя нас к другой клетке. — Его зовут Джунгли. Джунгли тоже начинается на Д. Ему, наверно, сто лет, он еле двигается, еле смотрит, и в цирке с ним делают больше всего номеров. Ему б только дремать, как кошке, по двадцать четыре часа в сутки спит.
Джунгли лежал, опустив свою тяжелую голову на лапы. Видно, устал столько лет держать эту тяжелую голову прямо. Годы и работа в цирке могут заставить склониться даже львиную голову.
Брат потрепал его по шее и вырвал из его гривы несколько волосков.
— Возьмите эти волоски. Они львиные. Все будут вам завидовать, когда узнают, что у вас есть волосы из львиной гривы. Это талисман.
Дети сжали львиные волосы в кулачках и улыбнулись Джунгли, но Джунгли не смотрел на них, а продолжал спать, слегка приподняв одну бровь.
— Лев, так же, как и кит, млекопитающее, — сказал брат, пока мы шли к клеткам с медведями.
Млекопитающие остались у нас за спиной, но дети все еще оборачивались, чтобы взглянуть на страшную голову Серенгети, а дочка спросила меня, живой ли это лев.
— Живой, — сказал я.
— А почему он не дышит? — спросила дочка.
— Он дышит, — сказал брат, — только через нос.
Теперь детям стало ясно, что млекопитающие львы дышат через нос, и мы остановились около медведей. Они сидели или лежали в своих клетках и были похожи на прописную букву Д.
Потом мы вышли, чтобы пойти посмотреть на лошадей.
— Дядя, — сказал мой сын, — можно нам еще раз посмотреть на Серенгети?
— Конечно, малыш!
И мы снова вернулись к Серенгети. Он все так же смотрел поверх наших голов, медленно двигая жерновами мозга, и грива облаком окружала его громадную голову. Конское бедро лежало нетронутое у его лап. Львица сновала по клетке, но не смела к нему приблизиться, а он грезил, и взгляд его был устремлен словно в иной мир. У львов, вероятно, нет нервов.
Мы снова вышли на улицу, и дети остановились, чтобы рассмотреть волосы из львиной гривы, которые они сжимали в кулачках, и мой сын снова стал оборачиваться назад, к клетке царя джунглей.
— Дядя, а можно еще раз посмотреть на льва? — спросил он.
И мы еще раз вернулись, чтобы посмотреть на царственную голову Серенгети. Так стоит, не склоняясь, и лев в государственном гербе Болгарии, укрыв за своим высоким челом и гнев и силу. Так и Стара-Планина стоит величественно и прямо, как этот Серенгети, устремив взгляд в синеву над облаками… Львы у нас есть даже на монетах.
*
— Лучше «роллс-ройса» не бывает, — сказал Иван Шулев. — Это царь автомобилей. Я в Вене видел «роллс-ройс» в натуре. Он катит по улице, как лев, среди других машин, и все шоферы его боятся, норовят держаться от него подальше.
— Еще заденешь его, — сказал Иван Флоров, механик с авторемонтного завода на станции Искыр, — потом не расплатишься!
Иван Барабанов накачивал запасную шину.
— Царское качество, — сказал Иван Шулев. — Пятнадцать лет можно не открывать мотор. А то что это за мотор, если в нем каждый день надо копаться.
— Как же не копаться, когда он портится, — сказал Иван Флоров.
— Все-таки ты поосторожней, — посоветовал ему Иван Шулев. — Ты все разворошил, а дело-то в реле. Контакты надо было почистить. Говорят, что у «роллс-ройса» нет реле.
— Не может быть, чтоб не было реле, — сказал Иван Флоров. — Нет таких машин.
— В переносном смысле, — сказал Иван Шулев.
— А я не променяю своего «москвича» на «роллс-ройс», хоть он и царь автомобилей. И на «рено» не променяю. Я два раза обошел экватор на этом «москвиче». «Москвич» — это машина будущего.
— Да «рено» — это разве машина, — сморщился Иван Шулев. — Над «рено» на дорогах все смеются. Это не машина, хоть она с виду и ладная. У меня ведь была такая машина, я ее продал, чтобы купить дачу в Драгалевцах. А насчет того, что «москвич» машина будущего — кто его знает. Где-то я читал, что для рыбы будущее всегда мокрое.
Все у нас во дворе знают, что с тех пор, как семейство Шулевых продало «рено», чтобы купить дачу в Драгалевцах, Иван Шулев — уже не Иван Шулев; что-то в нем сломалось, потому что дачу ведь не поставишь на колеса и не поедешь на ней, куда захочется. Но он притерпелся к потере, время притупило боль, и теперь, принимаясь иногда ругать «рено», он думал, что сумеет его возненавидеть. Ничего из этого не получалось, да что поделаешь — человеку не дано управлять своей судьбой, особенно такому человеку, как Иван Шулев, который не может принадлежать ни автомобилю, ни даче, ни своей жене, а принадлежит всем, кто живет в моем доме, на моей улице, всему моему городу и даже, если хотите, всему человечеству. Вероятно, ради какого-то равновесия земле нужны и такие люди, которые до конца жизни остаются большими детьми и, чем больше стареют, тем более детскими кажутся нам их поступки и суждения.
Мы наконец вернулись с базы, после того как пять раз возвращались к льву Серенгети, и теперь вся Троянская война разглядывала волосы из львиной гривы. Мальчик в окне гладил по спинке свою Шиншиллу, и мой сын отнес ему два волоска из львиной гривы, а в обмен получил целую горсть кроличьего пуха.
— В джунглях Серенгети, — сказал Иван Шулев, — звери и газели живут так же естественно и просто, как мы живем в этом доме. Был один фильм о Серенгети, так у меня голова кругом пошла, когда я его посмотрел. Великая вещь — джунгли!
— Я слышал, что устраивают переписи животных, — сказал Иван Барабанов и перестал накачивать запасную шину, чтобы вытереть пот со лба.
— Конечно, устраивают, — сказал Иван Шулев. — У нас тоже переписывают диких животных. Мы, например, всегда знаем, сколько у нас серн в горах, сколько волков, сколько зайцев.
— Ну уж, — сказал Иван Барабанов. — Что-то мне не верится, чтоб даже про зайцев знали.
— Тебе не верится, но так оно и есть, — сказал Иван Шулев. — Особые приемы разработаны, как их переписывать. Человек все, что ему нужно, придумал.
— Только лягушки не переписаны, — сказал из окна Иван Врачев, студент.
Он поставил на подоконник свой аквариум с лягушкой.
— Лягушки не входят в номенклатуру, — сказал Иван Шулев. — Кто это станет заниматься такой ничтожной тварью, она никакого хозяйственного значения не имеет.
— В Сорбонне есть памятник лягушке, — сказал Иван Врачев. — Там работал великий…
Он не успел договорить, потому что в небе раздался страшный грохот. Все посмотрели наверх и почувствовали, как воздух дрогнул от еще одного взрыва. Словно натянутое над головами синее небо лопнуло и посыпалось во двор. И еще один взрыв раздался, зазвенело расколовшееся небо, и послышались голоса и крики людей.
Толстые стекла ресторана «Дикие петухи» лежали разбитые на земле. Посыпались стекла и из нескольких окон. Весь дом сразу ожил, из окон выглядывали люди, аквариум Ивана Врачева упал с подоконника в комнату и разбился. Шиншилла стояла на задних лапах, и уши ее торчали прямо вверх.
— Что это, землетрясение? — спрашивали люди.
— Смотрите-ка, машина заработала, — спохватился Иван Флоров.
«Москвич» тихонько, как оса, жужжал перед гаражом.
— Вот это да, — сказал Иван Шулев. — Верно, от сотрясения.
— Может, бомбу бросили?
Жители моего дома столпились на балконах, некоторые вышли во двор, тревожные голоса и шум доносились из соседних дворов и с улицы, в комнатах заревели младенцы, а Три мушкетера свесились с балкона и спрашивали, не началась ли война.
Старики прервали обсуждение события в церкви святого Георгия Победоносца и вышли из-за сохнущего белья. Все смотрели на пустое небо и ждали, что взрыв повторится. Но небо было спокойно, пусто, и только в дали был виден маленький самолетик, который тянул на хвосте полотняную рекламу.
И тогда кто-то из «Диких петухов» сказал, что пролетели сверхзвуковые самолеты. Эти машины летят вперед благодаря мощным взрывам, и при этом раздается именно такой грохот. Если самолеты проходят низко, говорил человек из «Диких петухов», то рушатся легкие постройки.
— А у нас разве есть уже такие самолеты? — спросил Иван Барабанов.
— Раз пролетели, значит, есть, — сказал Иван Шулев.
Старики опять стали толковать о том, какая страшная штука война, и Иван Цеков из 44-го кавалерийского полка рассказал, что однажды, когда они двигались по пустому шоссе по направлению к Драме, из колючих кустов на дорогу вышло много детей. Они все плакали и просили хлеба, солдаты дали им, сколько у них было, но из кустов все выходили и выходили дети, словно там открыли какой шлюз, и не было им конца, и солдатам уже нечего было им дать, а они все выскакивали из кустов, и их стало так много, что каждый солдат посадил к себе на лошадь по трое-четверо ребятишек. Потом выяснилось, что это были греческие дети из одного большого района, матери оставили их в кустах дожидаться армии, а они разбрелись по холмам, выкапывая корешки для еды.
Пока Иван Цеков рассказывал, Иван Николчов сказал своей жене, чтобы она пустила сынишку во двор и велосипед тоже разрешила бы ему взять.
— О, Ицо, — бросилась к нему Троянская война, — Весь день ждем твой велосипед. Тебя дома лупили?
Ицо, шмыгнув носом, сказал, что не лупили, и спросил, что сегодня было на дворе. Ребята рассказали ему, что Иван Барабанов убил мышь, что француженка из французского посольства отобрала у них собачку и что по улице проехал кит Голиаф.
— А у меня есть Шиншилла, — сказал мальчик из окна.
А мой сын похвастался, что он ходил на цирковую базу и видел льва Серенгети — «самого страшного льва» — и что он знает одно очень хорошее слово, которое начинается на букву Д, — Дивдядово!
— Теперь уж ты нас покатаешь, — сказал Иван Барабанов, пока запасной баллон укладывали в багажник. — К «Аистову гнезду» нас доставишь, даже и не думай отвертеться.
Барабанов поднялся к себе наверх, чтобы переодеться, и не успел он закрыть дверь, как зазвонил телефон. Он остановился посередине комнаты и слушал, как нервно ударяет по звонку молоточек. Он подошел, но трубку не взял. Аппарат казался ему блестящим, ожившим, нежным, а белые цифры диска улыбались ему. Это была уже не та свирепо оскалившаяся коробка; она звала его, манила, влекла, как звали и манили его девичьи юбки сквозь стекло «Диких петухов».
— Это я, я! — обрадованно закричал в трубку Иван Барабанов.
В этот миг он готов был рассказать все, о чем бы его ни спросили, готов был раздать себя всему миру, если бы только придумал, как это сделать, но в трубке что-то щелкало и трещало, пока не прорезался наконец мужской голос.
Звонил его соквартирант, Иван Милев, полировщик мебельной фабрики «Родопы». Он с самого утра ушел в родильный дом и ждал там, пока выпишут его младенца. Теперь он просил, чтобы Иван Флоров, если может, приехал за ними на машине.
— Сию секунду, сию секунду! — завопил Иван Барабанов в трубку. — Мы накачали все шины, мотор работает, мы тут же примчимся. Подожди минутку, я сейчас крикну Ивану в окно.
Он высунулся из окна, позвал Ивана Флорова и кричал так громко, что весь дом узнал, что надо поехать в родильный дом за младенцем Ивана Милева.
Иван Барабанов поцеловал трубку, положил ее, поцеловал в передней хозяйку, ту самую толстуху, и через три ступеньки побежал вниз.
Дети проводили Троянского коня до улицы, он выпустил синий дым и, набирая скорость, начал свой третий пробег вокруг экватора.
— Шесть часов, — сказал Иван Николчов своей жене.
— Шесть часов, — сказали Три мушкетера.
— Уже шесть часов, — сказали старики.
— Шесть часов, — сказал мой дом.
Пора было снимать белье с веревок.
Над моим домом летел звон колоколов церкви Александра Невского. Каждый вечер, в шесть часов, София слышит сначала голоса малых колоколов, и они звучат, как эхо конских копыт, словно дробный их перезвон доносится с далеких дорог болгарской истории. В их легкое звучанье вплетаются раскаты средних колоколов. Не отдается ли в них грохот колес тех орудий, что катились по каменистым тропам Шипкинского перевала? Так гремели и обкованные пушки генерала Гурко по булыжнику софийских улиц. Они гудят долго и неотступно, звон набегает на звон, и вот внезапно в их гул вторгается гром больших колоколов, густой и торжественный. Звуки, звуки — они стекают с колокольни, и каждый вечер, в шесть часов, заливают мой дом, мою улицу, мой город.
В шесть часов, наверно, начинается и богослужение в этом храме, но никто в моем городе не слышит песнопений, обращенных к богу. Мы слушаем только колокола, и они все снова и снова, каждый вечер будут напоминать нам о болгарской истории.
Человечество знает множество памятников, чудесных и величественных, но молчаливых памятников. Наш памятник Освобождения увенчан колоколами, это поющий памятник. Солнце решает задержаться еще немного на золоте его куполов, туристы спешат запечатлеть на пленке последние вспышки солнечного блеска на этом символе, который София возвела и бережно хранит в самом своем сердце.
Мальчик в окне гладит свою Шиншиллу по спинке и смотрит на женщин во дворе. «Спокойной ночи!» — говорят женщины мальчику. Они снимают белье, тень моего дома удлиняется, чтобы слиться с тенями других домов. Двор меркнет, становится вдруг просторным и пустым, и веревки тоже болтаются пустые. А белье разнесут по квартирам, и вместе с ним в комнаты войдет чистый запах мыла и солнца.
Тихо переговариваясь, женщины одна за другой исчезают в подъездах со своими огромными белыми ворохами. Мальчик смотрит из окна, как небо постепенно сереет, как, клонясь влево, пролетает турбовинтовой самолет из Москвы, как мигают его бортовые огоньки. Мир за окном притих; постепенно его заполнит и темнота. Для мальчика этот длинный воскресный день был весь исполнен света, и он верил, что наступит и такой день, когда он спустится во двор, погрузится в его сияние, будет участвовать в войне и будет толкать машину дяди Ивана Флорова…
А Шиншилла будет сидеть на подоконнике, жевать капустные листья и смотреть на него своими испуганными глазами.
— Пора закрывать окно, — сказала мать, которая вернулась со двора с бельем. — На улице уже прохладно.
Мальчик еще раз увидел свое отражение в оконном стекле. Зубик за день так и не вырос.
*
Зинка вышла со своими роликовыми коньками на улицу. Там по асфальту гремели и скрежетали и другие ролики — гимназисты нашей улицы всегда выходят в это время. Пока Зинка пристегивала свои ролики, один мальчик споткнулся, хотел повернуть, но потерял равновесие и упал на тротуар.
Он поднялся, держась за колено.
— Ушибся? — спросила Зинка.
— Немножко, — сказал мальчик. — Хорошо, что брюки не порвал. Нет, не порвались. Они совсем новые, хорошо, что не порвались.
Брюки были совсем новые, от них едва уловимо пахло портняжной мастерской.
— Габардиновые, — сказал мальчик.
— Вам хорошо, — сказала Зинка. — Вы в брюках. А мы как упадем, так обдираем себе коленки.
— Если ты боишься, я тебя повезу, — сказал мальчик. — Хочешь вместе?
Он взял ее за руку и, поддерживая, медленно повез по асфальту. Зинка мечтательно улыбалась да и робела немножко, потому что ей все время казалось, будто вот-вот что-то случится. И это что-то было не на небе, не в горах — они исчезли в темноте, — а где-то здесь, на самой улице, настороженно притаившейся во тьме. Они с мальчиком катились вдвоем, и чем больше они увеличивали скорость, тем крепче Зинка сжимала руку мальчика в габардиновых брюках, и тем ближе, казалось ей, та минута, когда свершится чудо и даст ей неведомый аромат своей тайны.
Тогда и у Зинки будет своя тайна, как у всех Иванов моего дома, и у нее будет своя кладовая сокровищ, которая будет открываться, как только она скажет: «Сезам, откройся!» Так, как у всех в моем доме, как у всех в моем городе, как у всей моей Болгарии. Потому что ни человек, ни город, ни страна не могут жить без своих тайн и без своих милых сокровищ, которые, поверьте мне, я не отдал бы за все чудеса и небывальщину сказок «Тысячи и одной ночи».
Мой дом, даже когда он засыпает, до крыши полон великих чудес: в нем разыгрываются сражения Троянской войны, младенцы чмокают и растут не по дням, а по часам в своих пеленках, открываются сейфы Болгарского народного банка; чинно, как рыцари, стоят дрессированные прописные буквы; лев Серенгети, поднявшись на монетах на задние лапы, смотрит в темноту и видит утро; проходит огромный автопоезд кита Голиафа; муха кружит по комнате, за ней тянется надпись: «Покупайте в ЦУМе», а Три мушкетера хватают оружие Троянской войны и стоят на посту, охраняя от мухи младенца; раздается грохот сверхзвуковых самолетов, мыльные пузыри лопаются так, словно это трещат ракеты первомайского салюта; Шиншилле снится, что ее сжирает кошка, а кошке снится, что она сжирает Шиншиллу. И облачка летают по дому, перекатываются по дому волшебные облачка, а сам дом надевает роликовые коньки и легонько скользит на роликах, потом он звонит по телефону Ивана Барабанова другим домам на улице, те тоже надевают ролики и начинают скользить по асфальту. А гараж Ивана Флорова трогается с места, выезжает на четырех резиновых колесах на улицу и останавливается там, засмотревшись на это чудо из чудес.
Перевод Н. Глен.
Богомил Райнов ДОРОГИ В НИКУДА
Он бесшумно летел по дороге. Бесшумно и быстро, в сером свете вневременья. С обеих сторон проносились неясные, смутные тени — наверное, лес. А дорога, по которой он летел, врезалась в тени все глубже и глубже — зыбкая и серая, в сером свете вневременья.
Потом, не желая этого и почти этого не заметив, он свернул на другую дорогу. Лес исчез. Вдоль дороги тянулась река, неподвижная и темно-зеленая, глубокая и зловеще-зеленая, точно река утопленников. Он летел по дороге, и река летела ему навстречу, такая глубокая и такая близкая, что, казалось, в любую минуту дорога может слиться с рекой, нырнуть в нее.
А потом он снова свернул, на другую дорогу, бежавшую среди черных примолкших холмов. И потом еще на какую-то дорогу, и еще на одну, и на пятую, и на шестую, все одинаково безлюдные и зыбкие в сером свете вневременья. Он летел по этим дорогам и надеялся попасть в какой-нибудь город или село, хотя он знал, что не встретит ни города, ни села, потому что дороги эти, все до одной, вели в никуда.
Потом стемнело, неожиданно, разом. Наступило бесконечное мгновение мрака.
А потом появились за́мки.
Каким-то чудом он добрался во тьме до верха отвесных скал. Пропасть под ногами страшила своей неоглядной бездонностью, и страшна была темнота вокруг, исполненная опасности и черно-красного тумана. И тут он увидел вблизи старое строение, повисшее, как замок, над краем бездны. Надо было укрыться в этом замке, спрятаться меж древних каменных стен, и они оградили бы его от притягательной силы бездны. Он сделал в сторону замка несколько неверных шагов и только тогда понял, что замок рушится. Камни и целые куски стен бесшумно отваливались и бесшумно низвергались в пропасть. Здание рушилось бесшумно и медленно, как кусок сахара в стакане чаю. Огромные глыбы откалывались одна за другой и тонули во мраке бездны, пока на скале, как старческий зуб, не остался торчать один-единственный угол строения.
Он беспомощно огляделся и сквозь тревожный, красно-черный, точно дым пожарища, мрак увидел вокруг еще много утесов и много замков, вперивших в него слепой взгляд угасших окон. Но пока он думал, где ему лучше укрыться, он заметил, что все замки рушатся. Каменная кладка стен бесшумно обваливалась и бесшумно и медленно низвергалась в бездну, словно замки таяли и оседали в темные воды ночи. И замки, и утесы под ними, и утес у него под ногами — все рушилось медленно и необратимо. Ему оставалось лишь ждать последнего обвала. Мрак уже не был черно-красным. Мрак был черным, без единого проблеска — мрак бездны.
*
Бесконечное мгновение мрака незаметно посерело. Потом оно стало белым. Таким белым, что ему смутно захотелось понять, что значит это белое — рассвет или ничто.
В белом сиянии движутся три плотных белых пятна. Откуда-то очень издалека звучит низкий мужской голос, и слышны отдельные слова:
— …Глюкоза… кортансил… три по три…
«Врачи…» Он знает, что, если приподнять веки, он их увидит, но у него нет сил приподнять веки, и врачи его ничуть не интересуют. Ничто из того белого, что его окружает, его не интересует, потому что он поглощен тем, как плавно и легко он во что-то погружается. Это погружение приятно, и он тонет, пока снова не раздается голос, на этот раз почти над ухом и очень знакомый:
— Александров, вам нужно уединиться. Станьте в угол!
«Значит, еще не отмучился», — думает он, встает и бессильными свинцовыми шагами идет в угол.
— Не так! Повернитесь к стене. Я же сказал, что вам нужно уединиться.
Он покорно поворачивается спиной к классу и смотрит в кусок стены перед собой. Он хорошо изучил этот кусок. Он успел даже выцарапать ногтем на стене слова «Латынь — мертвый…» Остается добавить «язык», и фраза будет закончена. Хоть бы Колев когда-нибудь заметил, что́ он написал. Если что-нибудь на свете может взбесить это хладнокровное пресмыкающееся, то только эта фраза.
Он подходит к стене вплотную, почти утыкается в нее носом и осторожно начинает выцарапывать последнее слово. В жарко натопленной комнате душно. За его спиной усыпляюще монотонно гудит класс. Раньше, когда его ставили в угол на глазах у всего класса, он чувствовал себя униженным, словно его раздевали догола под нескромными взглядами одетых людей. Со временем он к этому привык, и класс тоже привык к тому, что он стоит в углу, и теперь все занимались своими делами.
Он нацарапал печатными, немного неровными буквами последнее слово и теперь проводит по нему ногтем еще раз, чтобы буквы были отчетливей. Он процарапывает черту за чертой, пока знакомый неприятный голос снова не окликает его:
— Александров, я вас поставил туда не для того, чтоб вы спали. Скажите мне, что это!
Он поворачивает голову к учителю и видит, что злой костлявый палец указывает на доску, где написано какое-то предложение.
— Вы что, оглохли? Я спрашиваю вас, что это такое! — повторяет Колев.
«Аблативус абсолютус», — хочет он ответить, но горло сжалось, и он не в силах произнести ни звука.
— Только что на парте вы были очень разговорчивы, а теперь вдруг онемели, — говорит Колев со своей кривой усмешкой, и рука его скользит к внутреннему карману.
«Аблативус абсолютус!» — пытается ответить Александров, но не произносит ни звука.
— Значит, будем молчать? — бормочет учитель, вытаскивая знакомый темно-зеленый блокнотик. — Вы, вероятно, знаете, что знак молчания поразительно напоминает цифру два…
«Аблативус абсолютус!» — пытается крикнуть Александров, но из горла его вырывается только неясный булькающий звук.
«Мне это снится, — мелькает у него в голове. — Это все тот же вечный кошмар». Он хочет оглядеться, чтобы понять, снится ему это или нет, но вокруг снова темно. «Надо зажечь лампу. Если на стуле висит гимназическая форма, значит, это не сон». Но у него нет сил встать и повернуть выключатель. «Я просто притаюсь в темноте и подожду, пока все пройдет», — решает он и хитро улыбается. Но именно в эту минуту темнота, в которой он прятался, редеет, и ничто больше не защищает его от опасностей, подстерегающих со всех сторон.
Снова вокруг серо. И снова серое становится белым. И среди этой мглистой белизны плывет более плотное белое пятно, склоняется над кроватью.
— Примите кортансил, — говорит голос, но это не голос Колева.
Он делает невероятное усилие, чтобы приподнять веки, берет три розовые таблетки и машинально глотает их.
— Запейте водичкой…
Но он не может больше заниматься глупостями, потому что он снова чувствует, как тонет, исчезает и растворяется в сгущающейся тьме.
В комнате действительно совсем темно. Но он знает, что там, за большим письменным столом, молча сидит человек, которому надо все объяснить как можно короче и убедительней.
— Я потому позволил себе прийти к вам, что положение дел таково… я должен вам сказать прежде всего, какие это дела… должен вам объяснить, потому что… совершенно необходимо рассказать человеку объективному…
Он чувствует, что, чем короче и точнее он старается говорить, тем хуже у него получается, слова путаются в мозгу, и он напрасно ищет их и пытается строить из них фразы, а они все рассыпаются, как кубики Анче, которые всегда обрушиваются как раз тогда, когда еще секунда — и башенка будет готова. Быть может, он мог бы мыслить яснее, если бы человек за столом зажег лампу. Но человек только молчит и молча ждет в темноте, и терпение его наверняка подходит к концу.
— Во всем виноват Стоев, — вдруг говорит Александров. — Стоев и его группа.
Главное сказано. Дальше будет легче.
— Наука не может развиваться, лишь повторяя пройденное. Во всем виноват Стоев и его группа. Мы топчемся на месте, вот так.
Он начинает топтаться перед письменным столом, думая в то же время, что эта иллюстрация, наверное, ни к чему, но он продолжает топтаться на ковре, пока не догадывается, что делает он это только оттого, что не находит нужных слов. Может быть, если бы человек по ту сторону стола зажег лампу, все сразу стало бы яснее, но человек молчит в темноте и, вероятно, со все возрастающим нетерпением следит за тем, как он топчется на ковре. Тогда Александров внезапно протягивает руку к настольной лампе и нажимает кнопку. Вспыхивает свет. Александров устремляет на человека взгляд, но никакого человека нет. Стул позади письменного стола пуст.
А в комнате действительно светло. Сестра вошла и щелкнула выключателем.
— Мне надо взять у вас кровь…
— Возьмите, если что-нибудь осталось, — бормочет он, пытаясь не опускать веки.
Сестра внимательно смотрит на него.
— Если вы плохо себя чувствуете, можно и завтра утром… Но кортансил на завтра не откладывайте. И ужин тоже.
Он встает и делает несколько шагов к столику у окна, чтобы успокоить сестру. И чтобы она ушла. Три розовые таблетки лежат на блюдечке. Он глотает их не запивая, зачерпывает ложкой кислое молоко, но, услышав, что дверь за его спиной закрылась, кладет полную ложку обратно.
В синем квадрате окна неясно темнеют деревья парка. Совершенно незнакомый парк в синем квадрате окна. Синева смутно беспокоит его, но не эта, а какая-то другая, и он должен вспомнить, что это была за синева, потому что это было что-то важное. А парк его мало интересует. Пусть он так и останется незнакомым. Как и узкая, бесконечно высокая комната. Как и все вокруг. Возьмите обратно свое кислое молоко. И оставьте мне кровь — ту, что у меня еще есть.
*
Все-таки они берут у тебя кровь, потому что, если уж они что решили, их не остановишь. И вот ты глупо стоишь посреди кабинета, на тебе пижама в синюю полоску, и ты смотришь, как тонкая струйка бурой крови стекает из-под иглы по твоей худой желтой руке. Твоя кровь. По твоей руке. Жалкая штука это чучело, обтянутое кожей, в котором бессмысленно циркулирует какая-то жидкость и которое бог знает что о себе воображает — по крайней мере до тех пор, пока жидкость циркулирует. Потом — конец и воображению и всему остальному.
— Не идет, — говорит сестра. — Помогите мне!
Ты сгибаешь и разгибаешь руку, и пробирка начинает наполняться быстрее.
— Достаточно. Держите ватку.
Ты прижимаешь ватку к руке и, шаркая тапочками по мозаике, идешь обратно в свою комнату. Белую, узкую и высокую комнату. Значительно более высокую, чем могила. При дневном свете парк в окне виден сейчас совершенно ясно, но это не имеет никакого значения, потому что парк тебя абсолютно не интересует. В сущности, тебя вообще ничего не интересует, и плохо только то, что ты вряд ли сумеешь заснуть после того, как ты проспал несколько суток подряд. Ничего, все-таки попытаемся.
Человек в полосатой пижаме вытягивается на кровати. Прямо перед ним прямоугольник окна. На улице серый, мертвый день. Человек видит неподвижное бледное небо и черные замерзшие ветви голых деревьев. Он прикрывает веки и лежит так некоторое время, но заснуть ему не удается. Надо использовать это время и подумать о чем-то важном, о чем-то, что осталось в его памяти синеватым сиянием и продолжает его смутно беспокоить. Но дверь открывается, по линолеуму движутся женские ноги, и около кровати вырастает врач.
— Как мы себя чувствуем?
Ему кажется, будто он знает ее давно, так же как все остальное, что его окружает, — комнату, окно, длинный коридор. Он знает ее давно, хотя видит в первый раз. Она смотрит на него очень черными глазами и ободряюще ему улыбается — у нее слегка подкрашенные губы и очень белые зубы.
— Хорошо, — неохотно отвечает он.
— Вы, кажется, спали, когда я вошла?
У нее приятная улыбка, от аккуратно причесанных черных волос и белого халата веет свежестью. «Профессиональный оптимизм», — думает Александров, а вслух говорит:
— Нет, не спал.
— Я спрашиваю, потому что это существенно.
— Я не спал.
— Хорошо, приподымите пижаму.
Он покорно открывает живот. Белые холодные руки ощупывают печень:
— Больно?
— Больно… Не очень…
— А здесь?
— Нет.
Он сам ощупывает свой живот, словно еще раз проверяя, где болит.
— Не ищите боль, — улыбаясь, говорит врач. — Пока вы ее не почувствуете, не ищите.
Он покорно опускает пижаму.
— Вы порядочно пожелтели, но это не должно вас смущать.
— Понятия не имею, насколько я пожелтел.
— Значит, вы даже не смотрелись в зеркало? Откуда такая апатия?
«Вам лучше знать. Вы же врач», — думает он, но ничего не говорит.
— Возьмите себя в руки! Умойтесь, побрейтесь. Вы еще молодой человек, нельзя так опускаться.
— Молодой. Где-то между сорока и пятьюдесятью.
— Конечно, молодой. А довели себя до того, что уже не кажетесь молодым.
— Сколько времени вы меня еще продержите?
— Давайте не будем торговаться. Как только мы вас подлечим, минуты лишней не станем держать.
— Да, но все-таки, приблизительно?
— Приблизительно месяц. Если все пойдет благополучно. А все пойдет благополучно, если вы будете нас слушаться.
Месяц — это ужасно долго. Но если этот месяц проспать, не так уж долго. Впрочем, это не имеет значения.
Только вышла врач, вошла санитарка.
— Подойдите к окну.
Он не знает, зачем ему подходить к окну, но послушно встает. Его палата на втором этаже. Внизу, на аллее, под самым окном стоят его девочки и, задрав головы, терпеливо ждут, пока он покажется. Он открывает окно, в лицо ударяет холодный воздух.
— Папа! Вон папа!
Он тоже хочет их окликнуть, но что-то застряло в горле, поэтому он только улыбается и машет рукой. Малышка закутана в розовый шарф, оставшийся от Сашки. Из-под розового шарфа видно круглое улыбающееся личико с очень большими голубыми глазами. Малышка обеими руками прижимает к себе пакет с лимонами. На Кате, старшей, серое зимнее пальтишко. Рукава уже обтрепались. Надо было купить ей новое, но теперь уж на следующую зиму.
— Папа, как ты себя чувствуешь? — спрашивает Катя.
— Хорошо, — с трудом кричит в ответ Александров.
— Ты скоро выздоровеешь? — спрашивает маленькая.
«Очень скоро», — хочет он ответить, но горло его сжалось, и он только улыбается.
— Что здесь происходит? — слышит он бас за своей спиной.
Александров собирается с силами и кричит в окно:
— Ну, до свиданья. Анче, слушайся сестру!
— Я буду слушаться…
— Мы завтра снова придем…
Человек в пижаме отодвигается и закрывает окно. Главный врач, стоя в дверях между палатным врачом и сестрой, смотрит на него с добродушным укором:
— Только встали и уже нарушаем порядок. Должен вам сказать, что при вашем состоянии простуда вам совершенно ни к чему. Ложитесь, посмотрим, как дела.
Александров послушно ложится и задирает пижаму, В палате вдруг становится невыносимо жарко и невыносимо душно от запаха карболки. Сухие пальцы шарят пониже грудной клетки, потом нажимают там, где больно. Халат врача издает легкий запах табака.
— Укройтесь.
Врач встает и выходит в сопровождении обеих женщин. «Мог бы по крайней мере сказать мне, что он нашел», — думает Александров. Сейчас ему это не безразлично. Вот уже пять минут. С той секунды, как он увидел детей.
Теперь он ясно видит синее пятно, которое застряло в его памяти и беспокоило его. Это было давно, вероятно несколько дней назад, в тот вечер, когда он вызвал по телефону своего приятеля, врача. От температуры все плыло перед глазами, но он все же сумел встать и вызвать врача.
— Придется отправить тебя в больницу, — сказал врач, осмотрев его.
— Ни за что.
— Я не имею права оставлять тебя дома. И для детей это опасно.
Доктор распорядился о чем-то по телефону.
— Одевайся. Машина скоро придет.
Александров начал машинально одеваться.
— Не наряжайся так. Не на свадьбу.
Он совсем и не наряжался, надевал то, что попадалось под руку. Откуда-то появилась санитарка и стала опрыскивать комнату лизолом. Дети притаились в другой комнате. Перед уходом он заглянул к ним. Они тихо плакали. Катя обняла малышку, закутанную в синее одеяло. Девочек едва было видно в полумраке, и только одеяло выделялось синим пятном в рассеянном свете, падавшем из окна.
— Катя, смотри за Анче. Деньги у меня в столе, в ящике.
Малышка смотрела большими заплаканными глазами, едва поблескивавшими в полумраке.
— Не плачьте. Я скоро вернусь.
Так он их и оставил — сидят, прижавшись друг к другу, в сумеречном свете, у окна, и так они стояли у него перед глазами, пока санитарная машина везла его по вечерним улицам. На него налетал яркий свет, потом накрывала тень, и снова его ослеплял свет, и снова окутывала тень, пока он не погрузился в бредовую тьму.
— Дети принесли вам лимоны…
Человек в пижаме открывает глаза. Санитарка кладет пакет с лимонами на ночной столик у окна и выходит.
Он встает, подходит к столику и берет пакет. От бледно-желтых плодов исходит легкий свежий аромат. Стараясь не заплакать, он неловко прижимает пакет к груди.
«Надо побриться. Я действительно совсем опустился».
Человек в пижаме идет в ванную, подходит к умывальнику. Из зеркала смотрит на него заросшее, почти чужое лицо, худое и желтое, с погасшими желтыми глазами.
«Надо взять себя в руки. Хотя бы ради детей надо взять себя в руки», — говорит он себе, кисточкой размазывая по щекам мыло и слезы.
Действительно, надо взять себя в руки. Ты ведь чуть не распростился с этой жизнью, и после тебя осталась бы полная неразбериха. И дети, одни, прижавшиеся друг к другу в темной комнате.
Теперь тебе дается отсрочка. Может быть, это последняя возможность навести наконец какой-то порядок в своих делах. Только бы отсрочка оказалась достаточно долгой, потому что все страшно запутано.
Ты всегда чувствовал, что все страшно запутано, но ты всегда надеялся, что, может быть, все само как-нибудь наладится. Раз все запуталось так, что дальше некуда, значит, оно должно начать распутываться. Ты все думал, что твои дела вот-вот сдвинутся с мертвой точки, ну не в этом году, так в следующем, и что вообще впереди еще много времени.
Хорошо, ты хоть сейчас понял: эти самые годы, что у тебя впереди, — не такая уж надежная штука. Надо все заранее привести в порядок, а подкинут тебе еще годков — тем лучше. Используй отсрочку так, как будто она последняя, а если она не последняя, что ж, поживем еще.
Он долго умывается, но лицо от холодной воды не розовеет, как обычно. Оно все такое же желтое, почти чужое из-за этой странной желтизны, хотя теперь, когда он побрился и умылся, оно выглядит более человеческим.
«Надо все перебрать, одно за другим, и прийти к какому-то решению», — думает больной. Но бритье утомило его, и он вытягивается на кровати, чтобы собраться с силами.
Его будит санитарка, которая разносит обед. Она убирает пакет с лимонами в тумбочку и ставит на столик тарелки.
«Суп из помидоров. Вареное мясо. Компот. Все, что я терпеть не могу. И все-таки надо есть. Раз ты решил принять отсрочку, надо есть». Чтобы было повеселее, он снова вытаскивает пакет с лимонами и начинает есть терпеливо и методично, стараясь думать не о еде, а о лимонах. Потом берет пакет, кладет его на кровать к стене и снова вытягивается.
«Вся штука в том, с чего начать. Все так сложно и запутано и так связано одно с другим, что надо хорошенько сообразить, с чего начать, а потом уж идти по плану».
Снова входит санитарка.
— Подойдите к окну, — говорит она, собирая посуду. — Там какой-то человек хочет вас видеть.
Человек этот — Васил. Он стоит внизу на аллее и, увидев Александрова, расплывается в подчеркнуто жизнерадостной улыбке.
— Здорово, Петр! Молодец, прекрасно выглядишь! — бодро кричит Васил, но Александров замечает, как сочувственно дрогнуло его лицо.
— Оденься, не стой так на холоде!
Александров берет с кровати халат и машинально закутывается, вздрагивая от холодного воздуха.
— Спасибо, что пришел, — говорит больной, и ему неловко, потому что на самом деле он ничуть не обрадовался. — Плохи мои дела.
— Глупости. Гепатит у тебя проходит легче, чем насморк!
Улыбка у Васила слишком старательная, в голосе какое-то неприятное возбуждение. Видно, снова пил, хотя это почти незаметно.
— Что нового? — спрашивает Александров, просто чтобы что-нибудь сказать.
— Новостей куча, но существенного ничего. Стоев по-прежнему бушует. Втихаря, разумеется. Опять нашел повод меня песочить…
Он рассказывает быстро и оживленно, довольный, что можно больше не говорить о болезни. Александров смотрит на него рассеянно и почти не слушает.
«Он мой ровесник, а все еще хорош собой. И, как всегда, подтянут и элегантен. Белоснежная рубашка и темный галстук с маленьким узлом, табачного цвета пыльник. И неизменно красивые жесты, и неизменная сигарета в руке. А все-таки и он поизносился, бедняга. Эти уверенные манеры — только часть игры. Начал как-то щуриться, словно пытается что-то вспомнить или у него щиплет глаза. И все переступает с ноги на ногу, будто ему трудно стоять на месте. Страшно износился, хотя умеет владеть собой. Впрочем, тоже не всегда. Я редко выхожу из себя — как он сам любит говорить — и только тогда, когда не следует».
— Короче говоря, масса приятных событий, — продолжает Васил. — Таких приятных, что больному и не расскажешь.
— Я не настолько болен, чтоб меня нужно было щадить.
— Знаю. И все-таки, раз уж так получилось, используй паузу, отдохни от всех этих неприятностей. Кстати, они даже твоей болезни не поверили…
— Как не поверили?
— Так, звонили сюда, проверяли, действительно ли ты лег в больницу. Решили, что ты прячешься, чтобы не голосовать за стоевского протеже. Милые люди, правда? Проверить не забыли, а нет чтоб догадаться послать кого-нибудь тебя навестить. Просто один лучше другого!
Александрова вдруг охватывает раздражение. Его злит и эта проверка и глупая привычка Васила так плоско острить. Ему кажется верхом остроумия говорить прямо противоположное тому, что он хочет сказать. «Приятные события», «милые люди». Пошлость. Как будто в человеческом языке и без того мало неясностей и двусмыслиц.
— Ну, иди, а то простудишься! — кричит Васил. — На днях я снова зайду.
«Идет куда-нибудь допивать, — думает Александров, закрывая окно. — Правда, пьет он умеренно, но это хуже всего. Те, что пьют умеренно, обычно пьют особенно регулярно. Лучше б уж заперся разок у себя дома и надрался бы до полусмерти. И эти его постоянные глупые потуги на остроумие…»
Александров испытывает что-то вроде отвращения к ироническому тону. Он возненавидел его еще со времен Колева, преподавателя латыни, который считал себя великим мастером иронии.
— Попробуйте освежить свою память, если вы вообще располагаете чем-нибудь подобным… — говорил Колев, когда Александров начинал запинаться.
И гимназист в припадке злобы окончательно забывал то, что успевал выучить только что, во время перемены.
— Я не помню…
— Ах, вы не помните. Но вообще-то вы это знаете, не так ли?
— Знаю.
— Да, разумеется. Для вас латынь все равно что родной язык. Не сомневаюсь, что вы даже с вашими домашними беседуете только на латинском. Все несчастье заключается в том, что стоит вам выйти к доске, и вы все забываете.
— Я забыл, — упорствовал Александров. — Знал, но забыл.
— Так и отметим, — кивал Колев, вытаскивая темно-зеленый блокнотик. — Забывчивость, как вам известно, я обозначаю цифрой два.
И Александров медленно возвращался на свою парту, чувствуя в желудке тяжесть, как перед рвотой, не столько от очередной двойки, сколько от этой пошлой иронии учителя, вдохновляемого хихиканьем двух классных подхалимов.
Больной садится в кровати, берет пакет с лимонами и некоторое время вдыхает их легкий свежий запах, такой неуверенный и робкий, но все же пробивающийся сквозь тяжелый дух карболки.
«Все-таки Васил это не Колев. Васил — твой единственный настоящий друг. Просто странно, что ты так к нему придираешься. Быть может, это именно потому, что он единственный твой друг».
Нет. Не потому. Только сейчас не хочется думать о действительных причинах. Среди всего того, о чем ему надо подумать, Васил отнюдь не на первом месте.
Он прислоняет пакет с лимонами к стене и ложится. Он чувствует, что страшно устал, как будто с утра уже прошло бесконечно много времени. На улице начинает смеркаться, и окно становится сиреневым. Больной закрывает глаза, чтобы сосредоточиться и решить, с чего ему начать, потому что надо обдумать очень многое, и все переплелось одно с другим, и все ужасно сложно.
Когда он снова открывает глаза, окно уже черно-синее. Издали, из глубины коридора, где начинаются общие палаты, доносится глухой шум. Наверное, разносят ужин. Кто знает, сколько часов его будут разносить. Если время будет ползти все так же медленно, месяц болезни превратится в настоящую пытку.
Можно что-нибудь почитать. Конечно же, здесь нашлись бы книги. Когда читаешь, отвлекаешься от своих мыслей и, главное, время проходит быстрее. При условии, что это занятие не противно тебе. Но оно тебе противно.
Самый близкий твой друг тебя раздражает. Самое любимое занятие опротивело. Словом, лучше не бывает — как сказал бы Васил со своим гнусным юмором.
Когда-то ты лежал по вечерам в комнате, которая днем служила приемной, на узком пружинном матраце, который днем выполнял роль дивана. В комнате темно, потому что пора спать и потому что надо экономить электричество. Но ты продолжал читать, подставляя книгу под узкий луч, падавший через чуть приоткрытую дверь кухни. Из кухни слышался стук швейной машинки — мать шила до поздней ночи, потому что на завтра обещала своим заказчицам примерку. Машинка стучала, а ты, держа книгу в узком луче света, всматривался в строчки, хотя глаза уже жгло от усталости.
— Петё, ты еще читаешь? — слышался из кухни мамин голос.
— Еще немножко. Только кончу страницу…
— Знаю я твои страницы — никогда не кончаются.
— Я тебе говорю, осталось совсем немножко.
И ты продолжал всматриваться в строчки, и только иногда, когда глаза начинало особенно жечь, ты переводил взгляд и, мигая, смотрел на неясную фигуру в углу. Это был твой сожитель — манекен без головы, которого мама использовала для примерок.
— Петё, ты еще не спишь?
— Еще минутку, честное слово!
Но мамины шлепанцы уже шаркали к двери.
— Ты не знаешь меры. Завтра я снова не смогу тебя поднять. И хоть бы ты к урокам читал!
Дверь закрывалась, и узкий луч со скрипом исчезал. Надо было бы купить карманный фонарик. Но это было дорогое удовольствие. Тебе оставалось только заснуть.
Ты читал и по вечерам, и во время занятий в классе, и за едой, и когда надо было готовить уроки. Читал все, что попадало под руку: романы, путевые заметки, биографии знаменитых людей, руководства по половому вопросу, книги по занимательной физике, астрономию для дам, беседы с учителем философии, азбуку коммунизма, пока не наткнулся в десятом классе на учебник психологии. Психология стала первой твоей любовью.
Санитарка вносит ужин. Человек в пижаме садится за ночной столик и начинает медленно есть, стараясь не думать о еде. Парк за окном уже совсем темный, проступают только силуэты черных деревьев. Направо, за больничной оградой, вдоль шоссе длинной шеренгой растянулись фонари, через короткие интервалы проблескивают автомобильные фары.
Санитарка снова приходит за пустыми тарелками.
— Когда будете ложиться, погасите свет. Спокойной ночи.
Значит, до утра его не будут трогать. Он может спать. И набираться сил, потому что ему предстоит решать важные вопросы. Он поворачивает выключатель. Спокойной ночи.
Больной лежит, закрыв глаза, потом открывает их и смотрит на окно. Окно, которое при свете было черным, сейчас густо-синее. На стене у окна появляется светлый ромбоид, скользит наверх к потолку и тает. Скоро появляется новый ромбоид, скользит по той же дорожке и тоже тает. «Отблески фар», — говорит себе человек в пижаме, как будто это может иметь хоть какое-то значение.
Он лежит в темноте и следит за движением светлых ромбоидов по темной стене. Потом неподалеку слышно пыхтение машины, стук колес по рельсам и унылый свист паровоза. «Окружная дорога», — думает больной, как будто это имеет какое-то значение. Вокруг, в палатах и в коридоре, тишина. Тишина больничной ночи, усталых сердец, измученных лихорадкой голов, тишина страха, усталости и смерти.
Тихо. Ромбоиды бесшумно ползут по стене и тают в темноте. Просто странно, какое ужасное одиночество можно испытывать в доме, где полно людей. Раньше в кухне бывала мама. Потом в ночи рядом с тобой лежала Сашка. А теперь нет никого. Только коричневый пакет с лимонами, прислоненный к стене. Есть люди, у которых и этого нет.
Издали, из-за ограды, слышны голоса и звуки аккордеона. Звуки приближаются и усиливаются. Мелодия давно заиграна, знакома, давно приелась. Больной приподымается и приникает лицом к оконному стеклу, словно если песня знакома, то и люди должны быть знакомы. Из-за высокой ограды ничего не видно, только яснее слышен аккордеон и молодые голоса, которые поют:
Мне снилось, что ты рядом в полночный час. Глаза твои целую и плачу — ах!«Совершенно идиотские слова. Откуда они выкапывают эти старые шлагеры?»
Больной снова ложится, но продолжает прислушиваться к песне, пока она не затихает вдали за черными деревьями.
Она затихает вдали, но все еще звучит в нем, все повторяется и рефрен и весь идиотский текст. Самое печальное, что эта дурацкая песня когда-то была для него чуть ли не символом. «Тебе действительно часто снилось, что Рина лежит рядом с тобой, разве что ты не плакал. Только этого тебе и не хватало — начать плакать».
Песня пришла не одна. В голове у него вдруг стало пестро и шумно, блестят гирлянды лампочек в саду у пивной, кружатся танцующие пары, а совсем близко в лицо глядят большие черные глаза Рины.
Собственно, ее звали Катерина. Собственно, она была не его девушкой, а его приятеля Буби. Собственно, вся история была не такой уж романтичной, несмотря на слащавый аккомпанемент шлагера.
Он и Буби были приятелями еще с гимназии. Буби, хоть и был сынком богатых родителей, казался ему неплохим парнем. Александров сумел даже затащить его однажды на собрание нелегального кружка, где гимназисты изучали вопросы ленинизма.
— Я думал, вы к революции готовитесь, а это те же уроки, — сказал ему Буби, когда они шли домой.
— Чтобы сделать революцию как следует, необходимы знания.
— Тогда делайте ее сами! По вопросу о баррикадах я «за», но что касается уроков, это уж извините!
Позже Буби, разумеется, распрощался и с идеей баррикад, удачно женился, был занят своими делами и перестал встречаться с Александровым. Но однажды он позвонил ему:
— Я по тебе соскучился. Давай вечером встретимся. В Венской кондитерской. Ровно в восемь.
Ты пошел приличия ради и потому, что тебе всегда было трудно кому-нибудь отказать. Если иначе нельзя, ты отказываешь, но обычно тебе это трудно сделать. Буби был с Катериной, и это делало встречу еще более тягостной, потому что все посматривали на ваш столик. Вообще Рина была из тех женщин, на которых мужчины оборачиваются на улицах. Красивое лицо, высокая грудь, бедра и прочее. Но ты был так необразован по этой части, что в первый раз даже не заметил того, из-за чего мужчины смотрели ей вслед. Ты заметил только ее лицо и большие глаза, и этих глаз было достаточно, чтобы тебя бросило в жар, потому что в них было больше чувственности, чем в изгибах ее тела.
Все вокруг смотрели на вас, и ты не знал, куда деваться, а Буби лопался от самодовольства. Все-таки он выудил из своей пустой башки какую-то идею и предложил перейти в местечко поукромней. Вы перебрались в отдельный кабинет «Максим-бара», и здесь ты хоть избавился от нахальных взглядов. Осталось только смущение от взглядов Рины. Рина смотрела на тебя с любопытством. Наверное, Буби наболтал ей о тебе массу глупостей — «идеалист, конспиратор» и прочее, — но она держалась просто, и тебе даже было странно, что такая красивая женщина может так просто держаться. Она несколько раз протанцевала с Буби и наконец спросила тебя: «А вы меня не пригласите?» — и ты, болван, только тогда догадался ее пригласить. Когда вы танцевали, она сказала тебе: «У меня такое чувство, будто вам со мной не особенно приятно», а ты ответил, словно оправдываясь: «На нас со всех сторон смотрят… то есть, я хотел сказать, на вас». Тогда она улыбнулась и сказала: «И вы смотрите на меня, а не на них. И не от чего будет смущаться». Ты машинально перевел взгляд на ее глаза, но эти глаза уже не смеялись, а смотрели серьезно и испытующе. «Так я смущаюсь еще больше», — признался ты, а Рина снова улыбнулась и ответила: «Привыкнете. Я чувствую, что мы будем друзьями». Это была обычная пустая болтовня, но ты принял ее всерьез и потом, когда шел домой, и даже на следующий день, все думал, станете ли вы с Риной друзьями, и страшно злился на Буби за то, что он отхватил женщину, которой вовсе не заслуживает, да еще и зовет тебя с собой — для ширмы.
Буби действительно использовал тебя для ширмы, и только этим можно было объяснить, что он о тебе вспомнил. Ты должен был оберегать его репутацию порядочного семьянина и сходить за приятеля Рины, а настоящим приятелем оставался он. Поэтому ты твердо решил, что, когда он позвонит тебе второй раз, ты его отошьешь, но он позвонил тебе на другой же день, и ты его не отшил. Так вы стали встречаться втроем через день, через два, а поздно вечером Буби один провожал Рину и, вероятно, водил ее в свою холостяцкую квартиру и развратничал там с ней, а ты возвращался один в свою комнату и мечтал о дружбе, которую Рина тебе обещала.
Потом Буби несколько дней тебе не звонил, и как-то вечером ты встретил Рину одну.
— Где Буби? — спросил ты с неясной надеждой.
— Поехал дней на десять в Вену. А почему ты спрашиваешь о Буби?
— Так… Подумал, не поссорились ли вы…
— И что, если мы поссорились?
— Ничего, — ответил ты, но почувствовал, как краска прилила к щекам.
— Ничего? Жалко. Значит, мне просто показалось.
Намек был достаточно ясен даже для такого болвана, как ты, но ты промолчал, решив, что она играет тобой.
— Значит, совсем ничего? — повторила Рина. — И ты даже не воспользуешься случаем и не пригласишь меня потанцевать?
— Не знаю, — сказал ты хрипло, чувствуя, что становишься совсем багровым. — Не знаю, могу ли я на это отважиться. Я страшно боюсь отказов.
— Вот не думала, что ты так робок. Рискни хоть разок!
Тогда ты совсем уж глупо выпалил:
— У меня в кармане пять левов.
Она рассмеялась:
— Ничего. У меня больше. Куда ты меня поведешь?
— Можно пойти на «Трек»…
Она подняла лицо к потемневшему, затянутому тучами небу и сдвинула брови:
— На «Трек»? В такой ветер? А почему бы и нет…
В пивной «Трек» действительно гулял ветер, но он был еще теплый, в саду раскачивались гирлянды ламп, вместе с ними по саду метались блики света и тени, и все казалось странным — эти летящие блики и тени, быстрые тучи на ночном небе, то усиливающиеся, то заглушаемые ветром звуки оркестра, терпкий вкус белого вина и то, что вы с Риной были только вдвоем.
Оркестр играл разные шлагеры, но чаще всего «Мне снилось, что ты рядом» — песенка тогда была в моде, и эта чушь превратилась для тебя в «вашу» песню, потому что вы много танцевали под нее, и твоя рука обнимала Рину не едва-едва, а по-настоящему, и Рина смотрела на тебя тоже по-настоящему, и за вашим столиком не было никого третьего, кто следил бы за вами насмешливым взглядом.
Вы ушли, только когда стали гасить лампы. Вы шли, обнявшись, навстречу осеннему ветру, и, пока вы шагали по темным аллеям или останавливались под смутными ореолами садовых фонарей, ты бессвязными словами пытался выразить то, что ты чувствовал в одиночестве, а Рина говорила только: «Знаю… Знаю», — и оттого, что она знала о твоих чувствах задолго до этого вечера, ваша любовь начинала казаться долгой и глубоко потаенной любовью, уже имеющей свою историю, любовью, начавшейся с того первого глупого вечера в Венской кондитерской.
— Я живу здесь… — сказала Рина, когда вы подошли к большому темному зданию на улице Обориште.
То, что она живет в этом богатом доме, снова тебя смутило, и ты только тогда сообразил, что ничего не знаешь о Рине.
Она посмотрела на тебя, улыбнулась, словно прочитав твои мысли, и сказала:
— Пойдем!
Вдали пробили часы. Значит, уже час. Если ты будешь перебирать все, что накопилось в памяти, пробьет и пять и десять. Чтоб им пусто было, этим старым шлагерам!
Больной поворачивается к стене, нащупывает рукой пакет с лимонами и пытается заснуть.
*
Когда туман высокой температуры рассеивается, ты устанавливаешь, что все хаотическое верчение вокруг тебя, в сущности, подчинено строгому расписанию. В четверть седьмого приносят градусник. Немного позже его забирают. Потом завтрак, уборка комнаты, прием лекарств, опять завтрак, палатный врач, главный врач, обед и так далее, в определенные часы и минуты, пока дежурная сестра не скажет: «Спокойной ночи!»
Собственно, это не так плохо, потому что создается ощущение, что ты вовсе не умираешь, а тебя лечат — методично, по строго продуманному плану. Поучительный пример для тебя — ты ведь так любишь порядок, а все еще не можешь привести в порядок собственные дела.
Здесь для всего есть установленное место и определенное название. Халат надо вешать на вешалку, а не бросать на кровать. Пакет с лимонами должен лежать в тумбочке, а не рядом с подушкой, как пыталась объяснить тебе утром санитарка. Твоя комната называется «Бокс № 5», фамилия сестры — Иванова, палатного врача — Стефанова, а главного врача — Пенчев. Когда узнаешь все это, твое пребывание здесь перестает казаться случайным происшествием, превращается в будничную реальность, и это, разумеется, успокаивает, несмотря на то что сегодня утром печень порядком давит.
Когда ровно в половине одиннадцатого входит врач, ты не дремлешь, ты сидишь в кровати умытый и гладко выбритый.
— Как мы себя чувствуем? Сегодня как будто лучше?
— Лучше.
Врач раздвигает двумя пальцами веки твоего правого глаза и вглядывается в белок. Потом начинает щупать печень.
— Вылечим вас. И чем лучше у вас будет настроение, тем быстрее мы вас вылечим. Эффективнее всего человек помогает себе сам.
Ты киваешь и смотришь на окно. Врач тоже смотрит в ту сторону. Сильный ветер раскачивает в парке голые ветви.
— Уже чувствуется весна. Сегодня ветер почти теплый. Погода страшно влияет на настроение больных. Впрочем, и на меня влияет, хоть я и не больная. А на вас?
— Погода? Боюсь, что уже много лет я ее не замечаю. Разве только когда очень холодно.
— Вот как? Неужели можно не замечать таких вещей, как весна, осень, зима?
Врач смотрит на тебя с легким удивлением и улыбается как ребенку.
— Я не хочу сказать, что я не различаю времен года, просто я не замечаю всех тех деталей, о которых дети пишут в домашних сочинениях.
Врач уступчиво кивает, хотя вряд ли она тебя поняла.
— Пусть так. Впрочем, погода может влиять на вас, даже если вы этого не замечаете.
— Возможно. Но и само настроение влияет на погоду.
— Как так?
— Я хочу сказать, что какое у тебя настроение, такой тебе кажется и погода. На улице может быть дождь, или метель, или, скажем, ветреная, осенняя ночь, а тебе это кажется сказкой…
— Вообще об этом можно написать целую книгу, — соглашается врач, которой уже слегка наскучило твое философствование.
Она не знает, что ты, по сути дела, пишешь эту книгу, вернее, когда-то начинал ее писать. Она будет называться или она называлась бы «Психология чувств», и, хотя книга не вышла и даже не закончена, ты видишь небольшого формата томик в черном переплете со скромными темно-синими буквами: «Психология чувств».
Врач идет к двери и на пороге сталкивается с сестрой, которая разносит лекарства. Ты глотаешь розовые таблетки, а сестра говорит тоном заговорщика:
— Подойдите к окну. Только не стойте на холоде.
Она выходит, а ты бросаешься к окну и видишь, что внизу на аллее стоят дети с покрасневшими носишками и слезящимися на ветру глазами и бог знает с каких пор ждут, когда ты покажешься.
Ты быстро открываешь окно. Ветер действительно стал теплее, не такой холодный и мертвящий, как вчера.
— Папа! — кричат девочки почти одновременно.
Малышка опять закутана в розовый шарф, оставшийся после Сашки, на Кате серое короткое и обтрепанное пальтишко.
— Зачем вы снова принесли лимоны? — спрашиваешь ты, чтобы тем временем справиться с собой. — Катенька, не покупайте больше лимонов, денег не так много.
— Наша учительница тоже болела гепатитом и говорит, что тебе надо есть много лимонов, — отвечает Катя.
— Папа, ты правда будешь целый месяц лежать? — спрашивает Анче.
— Глупости. Ничего не известно. Могут выписать и раньше.
Ты стоишь у окна, смотришь на девочек, и сердце сжимается оттого, что ты не можешь протянуть руку и погладить круглое личико Анче или обнять худенькие плечи Кати. Дети тоже смотрят на тебя с аллеи большими встревоженными глазами, и вы молчите, потому что трудно придумать, о чем разговаривать на таком расстоянии, пока ты наконец не говоришь:
— Ну, не стойте больше на ветру. Приходите, только когда тепло.
— Очень тепло, папа, ничего, что ветер, — говорит Анче.
— Анче, слушайся сестру. И не покупайте больше лимонов.
Ты машешь им рукой, и они идут, но младшая все оглядывается, и поэтому ты стоишь у окна, пока они не заворачивают за угол дома.
«Слушайся сестру». Глупости. Как будто это самое важное.
— А-а-а, придется окошко забить! — слышишь ты за спиной добродушный бас главного врача.
— Если вы все так и будете стоять на холоде и прижимать печень к подоконнику, мы перестанем вас лечить, — говорит палатный врач.
Больной закрывает окно, молча вытягивается на кровати и подымает пижаму.
Санитарка вносит пакет с лимонами.
— А, лимоны, это хорошо, — гудит врач. — Ешьте лимоны.
— Да он их не ест, — вмешивается санитарка. — Вчера ему принесли пакет, так и лежит.
— Ешьте лимоны… — повторяет врач, ощупывая печень.
Человек в пижаме ничего не отвечает. Как он может им это объяснить? Лимоны от детей для него все равно что букет цветов. Кто станет есть цветы?
Врач заканчивает осмотр и идет к двери, сопровождаемый двумя женщинами. «Сказал бы хоть, как он меня нашел», — думает больной. Он встает, достает из пакета лимон и после короткого колебания разрезает его. Потом он выжимает сок в стакан. Раз надо есть лимоны, он будет их есть. Главное — поправиться. Он выпивает сок залпом и морщится. Страшно неприятно. Если бы эти лимоны были не от детей, он наверняка выбросил бы их в корзину. Лимоны… Пища больных. Целебный плод… Он ненавидит лимоны еще со времен дяди Бориса.
Дядя Борис пролез в твою жизнь совершенно незаметно, ты и оглянуться не успел. Разумеется, на тебя ему было наплевать, он обхаживал твою маму. Этот Борис был двоюродный брат одной богатой заказчицы, которая, очевидно, и сыграла роль сводни. Так или иначе, дядя Борис стал таскаться в дом каждую субботу и водить твою маму по разным театрам и кино. Театрам и кино, которые заканчивались поздно ночью.
Ты к этому времени прочел уже достаточно книг, чтобы понимать, что за «дядя» этот тип. Есть на свете люди, которым ничего не стоит увести у тебя даже твою собственную мать. Ты, разумеется, платил ему той же монетой, сердито глядя на него и никогда не здороваясь.
— Боже, Петё, ты совершенно невыносим, — говорила после таких демонстраций мама.
— Какой есть. И я терпеть не могу твоего Бориса.
— Ну что тебе сделал дядя Борис?
— Никакой он мне не дядя.
— Ладно, но что он тебе сделал?
— Ничего не сделал. Просто я его не выношу. Если ты уж так хочешь знать, я тебя к нему ревную.
Мама смотрит на тебя, опешив, потом смеется своим мягким негромким смехом:
— И слова уже какие выучил… Эти книги совсем собьют тебя с толку.
Она умолкает, но ты, несмотря на ее смех, чувствуешь, как ты ее мучаешь, поэтому ты тоже больше ничего не говоришь, и дядя Борис продолжает появляться по вечерам. Книги, конечно, не сбили тебя с толку. Наоборот, они научили тебя по-взрослому понимать многие вещи, в том числе и то, что матери так или иначе нужен какой-нибудь «дядя Борис». Но от этого тебе не становится легче, и ты по-прежнему терпеть не можешь «нахала».
А дядя Борис постепенно становился все настырнее. Он стал приходить по два раза в неделю, терпеливо сидел в приемной, пока мать переодевалась за дверью, и с подчеркнутой доброжелательностью здоровался с тобой, хотя ты поворачивался к нему спиной. Однажды мама принесла пачку книг, которые он купил специально для тебя. У тебя было очень мало своих книг, все, что ты читал, ты брал в библиотеке, но ты все равно отказался их взять.
— Не упрямься, — уговаривала тебя мама. — Он ведь хочет доставить тебе удовольствие.
— Если он хочет доставить мне удовольствие, пускай не приходит.
И пачка так и осталась нераспакованной, мама только положила ее в шкаф, чтобы дядя Борис не видел, что ты ее даже не развязал.
В другой раз мама принесла огромный пакет лимонов, которые купил тебе дядя Борис. Ты лежал больной, поэтому мама вернулась домой очень рано, принесла лимоны и хотела приготовить тебе лимонад.
— Не трать зря время. Я не буду пить.
— Но Петё, ты же болен, от лимонов тебе сразу станет легче.
— Умру, а все равно пить не буду!
— Сынок, сынок, как ты меня мучаешь… — сказала мама, и ты видел, что она вот-вот заплачет.
Но ты заплакал раньше.
— Ты решила выйти за него замуж… Не думай, что я не понимаю. Только ты так и знай: если ты выйдешь за него замуж, я в тот же день убегу!
Ты плакал и злобно колотил подушку, а мама тоже расплакалась и кинулась тебя успокаивать и уговаривала тебя лечь и не раскрываться, потому что у тебя жар.
— Обещай мне, что ты не выйдешь за него замуж!
— Обещаю, только успокойся.
Ты успокоился в ее объятиях, даже заснул, а на другой день огромный пакет с лимонами куда-то исчез. Исчез и дядя Борис. Вернее, перестал приходить в дом. Он встречался с мамой где-то на стороне, и это была твоя маленькая победа, и тебе было приятно и б то же время стыдно, потому что ты добился этой победы с помощью шантажа.
Ты считал, что дядя Борис грабит тебя, но через много лет ты понял, что ты сам грабил свою мать, лишая ее единственного увлечения, единственной отрады в ее жизни, наполненной стуком машинки и заботами о тебе.
Ты понял это во время бомбежек, когда возвращался из казармы в отпуск, и все время, пока ты добирался до Софии, пересаживаясь с грузовика на грузовик или поджидая транспорта в снежной грязи на перекрестках, думал, как обрадуется мама, увидев тебя после стольких месяцев разлуки, и как ты победоносно вытащишь пакет с домашней колбасой, купленной у крестьян. А когда ты наконец добрался до вашей улицы и до вашего дома, ты увидел, что полдома нет. На месте маминой квартиры посреди искореженной арматуры зияла прокопченная дыра. Ты бегом взлетел по лестнице, словно хотел увидеть вблизи, так ли это все, как выглядит с улицы, но ваша квартира действительно исчезла, и на ее месте был только хаос бетонных глыб и почерневшего железа. И среди этого хаоса, там, в глубине, под треснувшей и нависшей бетонной плитой, лежала раздавленная швейная машина, странная и жуткая, превратившаяся из добродушного домашнего животного в искривленный и уже заржавевший скелет.
— Как раз над вами бомба-то разорвалась, — рассказывал сосед с нижнего этажа. — А твоя мать шила и не стала спускаться в убежище. Наверное, она даже не почувствовала смерти.
Ты стоял окаменев и бессмысленно всматривался в ржавый скелет машины.
— Куда вы ее перенесли?
— Куда ее было переносить? И переносить-то было нечего.
— Все-таки я должен был ее похоронить, — сказал ты сосредоточенно, хотя думал не об этом.
— Что бы ты хоронил? Нечего было хоронить. Почти ничего не осталось. А что осталось, пошло в общую могилу.
Ты не думал об этом. Старался не думать об этом. «Что осталось» — это не было твоей матерью. А ты хотел думать о маме, о той, о живой, но слышал только ее мягкий и тихий голос: «Сынок, как ты меня мучаешь».
Вот так обстоят дела с лимонами.
Человек в пижаме сидит на кровати у окна и задумчиво смотрит на улицу. Влажный ветер гонит по небу мягкие серые облака и дергает деревья за ветки, словно хочет тоже увести их с собой. Но деревья не хотят трогаться с места, они вырываются, и от этой возни весь парк выглядит хаосом качающихся ветвей и летящих облаков. В этом хаосе есть что-то веселое, что сулит перемену и весну, но Александров ненавидит хаос. Он вспоминает второй стих «Бытия», застрявший в голове с уроков закона божия:
«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и дух божий носился над водою».
Так было до человека. Пустота и беспорядок. И вся история человека есть борьба с этой пустотой и беспорядком, с враждебной неустроенностью и хаосом, есть поиски порядка и гармонии. Даже бог, которого человек создал по своему образу и подобию, был создан во имя порядка и гармонии. Даже самые страшные мгновения хаоса, до которых доходили люди — войны, междоусобицы и революции, — были лишь этапами борьбы за порядок.
Есть, разумеется, типы, которые любят говорить, будто в своем стремлении к гармонии человек только усугубляет беспорядок. Но это глупости. Хаос торжествовал не потому, что человек не в силах его преодолеть, а потому, что у хозяев было одно представление о порядке, а у рабов — другое. Но человек уже сумел во многих местах навести в своем доме порядок, и, когда хозяева исчезнут, этот порядок воцарится везде. Санитарка входит, осторожно ступая, чтобы не разлить полную до краев тарелку с супом.
— Не наливайте мне столько, — говорит человек в пижаме. — Все равно у меня нет аппетита.
— Будет аппетит, будет, — успокаивает его санитарка, пожилая женщина. — От кортансила всегда появляется аппетит.
Больной послушно принимается за суп, а рядом с первой тарелкой возникает мясо с пюре и компот. Санитарка выходит.
Человек в пижаме глотает горячий суп, стараясь не смотреть на другие тарелки. Когда видишь, сколько еще предстоит съесть, еда становится совершенно невыносимой. Лучше есть одно за одним и думать только об этом одном или о чем-нибудь совсем постороннем. Ешь суп и думай о борьбе человека с хаосом.
Разумеется, есть люди, которые просто влюблены в хаос. Но это потому, что они носят хаос в себе и хотят убежать от него, а поскольку убежать не могут, пытаются слить его с всеобщим хаосом вне их самих. Мила, например, несомненно, человек хаоса. Рина тоже во многих отношениях была человеком хаоса. А Сашка был человеком порядка, и это, может быть, больше всего привязывало тебя к ней. И Стоев — человек порядка, но это не привлекает тебя к нему, а отталкивает. Потому что порядок Стоева — это не порядок в твоем понимании. Но тяжелее всего твой собственный случай, потому что ты стремишься к гармонии, а даже мелкие твои личные дела в полном беспорядке.
Больной справляется с супом гораздо легче, чем он предполагал. Зато мясо вызывает у него отвращение. Он знает, что оно свежее, и все-таки не может освободиться от ощущения, что от этого кусочка мяса тянет гниением и смертью. Человек в пижаме решает пойти на компромисс и ест одно пюре. Потом почти с наслаждением выпивает компот. Видимо, лекарство все-таки вызывает аппетит. Вопрос только в том, сколько его надо проглотить, чтобы примириться и с мясом.
Может быть, пища вливает силы в твой усталый организм, а может быть, как думает врач, на тебя просто действует этот ветер кануна весны, но ты почти уверен, что все образуется, а разговор с врачом напомнил тебе, с чего ты должен начать. Ясно как белый день, что начинать надо с «Труда». Когда ты сядешь за «Труд», ты с легкостью выбросишь из головы конфликт между Василом и Стоевым, а пока ты не перестанешь заниматься этим конфликтом, нечего и думать наладить все остальное. «Труд» вернет тебе веру в самого себя и даст тебе известную сумму, которую ты отложишь для детей на случай, если с тобой что-нибудь стрясется. И надо, разумеется, поговорить с Катей о Миле. Катя уже большая девочка. Ей следовало бы понять, что Мила нужна нам всем, и принять Милу. Если же это не получится, вопрос все равно будет решен, хоть и по-другому. Вот так, в результате нескольких энергичных поступков, все станет на свои места. Но чтобы все стало на свои места, начать надо с «Труда».
Этот «Труд» ты пишешь уже пятнадцать лет, и он давным-давно был бы готов, если бы ты два раза не бросал работу. Первый раз ты оставил его под влиянием Стоева, в тот период, когда Стоев был для тебя провозвестником истины.
— Я слышал, вы что-то пишете… — словно между прочим сказал Стоев, когда ты пришел к нему домой.
— Да. Я давно готовлю работу «Психология чувств».
Стоев недоуменно вскинул свои редкие рыжеватые брови.
— Психология чувств? А почему не психология разума? О чувствах писали много, веками. Мне не надо объяснять вам, марксисту, на чем основывался этот повышенный интерес. Некоторым людям всегда было выгодно сводить духовный мир человека к чувствам. Пишите о разуме, Александров! Такие книги нам нужны.
В ту минуту эти слова подействовали на тебя почти как удар в лицо, потому что мысль о «Труде», о твоем труде была одной из самых дорогих тебе мыслей. Однако потом ты постепенно сумел убедить себя, что Стоев прав. Ты даже уговорил себя, будто тебе не подходит и сама тема, потому что ты человек порядка, то есть разума, а не стихии, не хаоса плохо контролируемых чувств. И ты переложил рукопись в нижний ящик стола, успокаивая себя тем, что, может быть, позже, когда-нибудь, когда ты будешь уже автором многих других книг…
Ты так и не стал автором многих книг. Или хотя бы одной. Но это «когда-нибудь» все же наступило, и ты снова вытащил свою рукопись. Многое за это время изменилось, и иные незыблемые истины Стоева казались тебе теперь слишком элементарными, чтобы быть верными. Ты потратил два дня, чтобы внимательно прочесть посеревшую от пыли рукопись. Ты начал читать, боясь полного разочарования, но чем дольше ты осматривал это незавершенное строение, тем более интересным оно тебе казалось. В рукописи было, разумеется, масса наивного и масса испокон веков известного, но было и множество маленьких открытий и наблюдений, и главная мысль держалась, в общем, прочно.
Ты начал снова, с самого начала, потому что надо было убрать все незрелое и включить кое-что, накопившееся и продуманное за эти годы. Из старых пропыленных страниц в течение долгих месяцев рождались новые, чистые страницы, и пачка этих новых страниц уже так выросла, что тебя все чаще прохватывала дрожь возбуждения при мысли о близком конце. Но конец этот так и не наступил.
Может быть, конец все-таки пришел бы, но ты никогда не умел отказываться от разных докладов, статей, от участия в дискуссиях. У тебя был принцип, что несправедливо отказывать другим в знаниях, которые ты сам получил от других. Великолепный принцип, но он превращал тебя в дежурного докладчика, а «Труд» продвигался едва-едва, по полстранички в день. Потом начались махинации Стоева, конфликты, неприятности. А потом заболела Сашка. «Труд» снова оказался в ящике. Ты всегда представляешь себе этот труд в виде красиво переплетенного черного томика с темно-синими буквами, но, в сущности, это пачка пожелтевших, исписанных от руки страниц, и первая совсем смялась и порвана в верхнем правом углу.
Теперь Сашки уже нет. И докладами ты уже не завален. Стоев и его друзья распространили слух, будто ты из тех людей, о которых не скажешь заранее, что они могут наговорить по данному вопросу, и теперь никто особенно не упрашивает тебя делать доклады. Вообще теперь вокруг тебя стало спокойнее, хотя и грустнее. Грустное спокойствие — подходящая атмосфера для работы.
Санитарка входит, чтобы унести грязную посуду.
— Ешьте лимоны, — говорит она. — Вы совсем не едите лимоны.
— Как-то не лезет, — оправдывается больной. — Я слышу детские голоса, дайте их детям. Возьмите оба пакета, и вопрос с лимонами будет решен наилучшим образом.
Санитарка пожимает плечами и уносит пакеты. Человек в пижаме вытягивается на кровати и закрывает глаза.
Конечно, «Труд» лежит в ящике стола незаконченный, но это не значит, что мы сидели сложа руки. У тебя три огромные папки, битком набитые статьями и докладами. Ты всегда аккуратно складывал в эти папки все написанное, быть может доказывая самому себе, что ты не сидишь сложа руки, хоть «Труд» и лежит без движения в ящике стола. Собственно, некоторые из этих докладов не так уж плохи. Ты даже отобрал лучшие из них и подготовил книгу, которая, вероятно, скоро будет печататься. Разумеется, по научной ценности эту книгу нечего и сравнивать с «Трудом», это скорее популяризация некоторых идей, но ты придаешь ей известное значение, потому что она покажет людям, каковы твои подлинные позиции. Это будет нечто вроде скромного итога и опровержения стоевских фальсификаций. Но это пустяки. Основным остается «Труд», и с него и надо начинать, если ты хочешь навести в своей жизни порядок.
За окном над голыми деревьями все так же проносятся влажные облака. Иногда вереница облаков редеет, и солнце бросает на землю длинный луч. Потом снова становится серо и мрачно, и снова солнце бросает луч, словно это испытывают прожектор.
Больница притихла — мертвый час, и из-за окна ясно доносится свист ветра в голых ветвях. Эта больница действительно спокойное место, и ничего в ней не случается, разве что кто-нибудь умрет. Человек в пижаме лежит и прислушивается к свисту ветра, пока не засыпает.
Будит его сестра, которая разносит градусники. Потом ужин. Потом ему дают лекарство. «Спокойной ночи».
В темной комнате окно выглядит густо-синим, а по стене ползут светлые ромбоиды далеких фар и тают в темноте потолка. Ты прожил одним днем больше. Одним пустым днем больше. Собственно, это не совсем так. То, что ты начинаешь уяснять себе положение дел, что перед тобой вырисовывается путь, по которому надо идти, чтобы все наладить, это уже немало. Собственно, это единственное, чего тебе до сих пор не хватало. Ясного пути. Разумеется, путь, по которому ты еще не пошел, — это и не так много, и, когда ты пойдешь по нему, ты столкнешься с массой трудностей, но важно ведь, что трудности эти преодолимы. Важно осознать, что дальше так продолжаться не может и что все надо изменить как можно скорее.
Ромбоиды возникают и ползут по стене к потолку через неравные промежутки времени. Вчерашнего аккордеона не слышно, но слышно, как свистит в голых ветвях ветер. Сильный предвесенний ветер, влажный и теплый, как тот, осенний, который в ту далекую ночь свистел в саду богатого дома.
К счастью, Катерина была только бедным приемышем в этом богатом доме. Состоятельная тетка приютила в чердачной комнате провинциальную родственницу на время, пока она училась в университете. Но тебе даже эта чердачная комната показалась сказочно роскошной со своей золоченой барочной мебелью и большим зеркалом в позолоченной раме, потемневшим и зеленоватым, как глубокая вода, в которой отразилось ваше первое объятие.
— Тебе надо идти, милый… — прошептала рано утром Рина, тронув тебя за плечо.
Ты не спал, но притворился, что спишь, чтобы полежать еще немного в темноте, обняв Рину и слушая, как ветер свистит в высоких деревьях за светлеющим уже окном, а где-то далеко гудят утренние поезда.
— Просыпайся, милый… тебе пора идти…
Ты неохотно встал и зажег свет. Платье и белье Рины были брошены на кресло у кровати, ее модные туфельки валялись на ковре, а твоя одежда очутилась на столе, и этот беспорядок еще раз убеждал тебя, что все происшедшее — реальность, а не фантазия из тех, которые ты сочинял, ворочаясь ночью на узкой кушетке или бессмысленно вглядываясь в смутные серые очертания манекена в углу.
Рина лежала и смотрела на тебя с сонной улыбкой, ее темные волосы разметались по подушке, а в больших черных глазах еще стояла ночь.
— Когда я тебя увижу? — спросил ты, целуя ее на прощанье.
— Позвони часа в три. В это время наши отдыхают.
«Она моя, — твердил ты себе как последний дурак, шагая по пустым и синеватым утренним улицам, а в спину тебя толкал все еще пьяный осенний ветер. — Она моя, только моя».
Она была не только твоя. Она принадлежала еще и Буби, о котором ты слишком быстро забыл.
Когда ты позвонил ей в тот день ровно в три, к телефону никто не подошел. Ты звонил целый час через каждые пять минут, пока не отозвался наконец незнакомый женский голос:
«Рины нет дома… Не могу вам сказать, когда она вернется».
Ты звонил и на следующий день, и еще на следующий, но или никто не подходил, или незнакомый холодный голос отвечал:
«Ее нет… Не знаю».
Пока наконец этот голос не произнес:
«Послушайте, господин, это не Ринин телефон, у Рины телефона нет. Перестаньте нас беспокоить».
А на следующий день позвонил Буби и пригласил тебя поужинать в «Болгарии». Можно было не спрашивать, придет ли в ресторан Рина, и ты решил пойти именно для того, чтобы увидеть Рину и покончить со всей этой историей.
Ужин был роскошный и прошел очень приятно. Для Буби и Рины, разумеется. Буби рассказывал о Вене, и, поскольку он говорил смешные вещи, Рина смеялась, может быть, немножко больше, чем следовало. Она обращалась с тобой точно так же, как раньше, то есть как до той ночи, и ты тоже стремился держаться, как обычно, в пределах возможного. Буби и Рина несколько раз уходили танцевать.
— А ты, Петр, меня не пригласишь? — под конец спросила она.
«Еще бы не пригласить, для того я и пришел», — подумал ты, но ничего не сказал и только повел ее со скучающим видом к площадке.
— То, что ты делаешь, страшно глупо, — сказал ты, когда вы оказались среди танцующих пар.
— Я делаю много глупостей. Какую из них ты имеешь в виду?
— То, что ты прячешься.
— Я не пряталась.
— Ты мне сказала, чтоб я позвонил в тот день часа в три. И я звонил не только в тот день, но и не знаю, сколько дней еще, пока твоя тетка на меня не рыкнула.
— Мне очень жаль, но я ничего не могла сделать. Меня не было в Софии.
Ты не поверил, но замолчал, потому что ее ответ оказался для тебя неожиданным. Она тоже не стала ничего добавлять, и вы некоторое время танцевали молча. Потом умолк оркестр, и ты уже повел Рину к столику, когда заиграли «вашу» песню.
— Давай еще это танго… — сказала Рина и посмотрела на тебя так, как в ту ночь.
— Ты играешь мной, — сказал ты сердито, когда вы уже снова танцевали.
— Жаль, если ты это так толкуешь. Говорю тебе, я уезжала из Софии.
«Жаль, что мы не вернулись за столик», — подумал ты, потому что чувствовал, как твоя решительность тает с каждым тактом мелодии.
— И пожалуйста, не дуйся, Буби все поймет.
— Ты заботишься о массе людей одновременно — о Буби, обо мне…
— Что касается тебя, я могу перестать о тебе заботиться, — сказала она внезапно изменившимся голосом. — Если ты воображаешь, что я буду тебя упрашивать… Я просто хотела покончить с этим недоразумением.
— Можешь быть уверена, что тебе это не удалось.
— Хорошо. Прекратим этот разговор.
— Разумеется. Что же еще нам остается, раз вернулся Буби…
— Проводи меня к столику, пожалуйста.
Ты молча поклонился и выполнил ее просьбу.
— Что ж это вы, посреди танго… — удивился Буби.
— Я безобразно танцую, — догадался ты ответить.
— В этой толкучке вряд ли кто-нибудь мог бы хорошо танцевать, — заметила Рина.
Этим все и кончилось.
Ночь ты провел без сна, анализируя создавшееся положение со всех сторон, и в конце концов пришел к выводу, что ты невероятный балда. Ты разыгрывал оскорбленное достоинство вместо того, чтобы попытаться понять, в чем же дело.
В промежутках между этими бесполезными размышлениями ты представлял себе, как в это самое время Буби в своей холостяцкой квартире развлекается с Риной, и эти картины были особенно мучительны, потому что ты знал, как Рина выглядит в такие минуты. А вдобавок ко всему в голове у тебя до безумия настойчиво звучала мелодия вашего незаконченного танго. Нелепые слова приобретали особое значение, превращались в какой-то вульгарный символ:
Мне снилось, что ты рядом…Собственно, только это тебе и оставалось — видеть ее во сне. При условии, что ты сумеешь заснуть.
А на другой день ровно в три ты почти неожиданно для самого себя позвонил Рине по телефону. На этот раз подошла сама Рина.
— Могу я увидеть тебя ненадолго?
— Да, только приходи сейчас же. Наши отдыхают. Пройди черным ходом.
В холодном свете осеннего дня позолоченная мебель уже не выглядела такой роскошной. Это была просто потрепанная, облупившаяся мебель, выставленная за ненужностью на чердак. И в Рине тоже не было и следа ее обычной импозантности. Она была в черной юбке и черном свитере, без всякой косметики и, очевидно, никак не прихорашивалась к твоему приходу. На столе лежали книги, на кровати были разбросаны учебники.
— Как мило, что ты позвонил, — сказала она, словно вы и не ссорились.
— Ты, конечно, знала, что я позвоню.
— Предполагала. Ты не такой уж плохой, каким хотел казаться вчера вечером. А самое лучшее, что ты пришел как раз вовремя. Для меня пробил час великих решений.
— И часто у тебя бывают такие часы?
— Два-три раза в год. Плохо только, что именно в эти часы особенно трудно что-нибудь решить… Да ты садись.
Ты сел в кресло у кровати, на котором на этот раз не было дамского белья, и посмотрел на разбросанные учебники.
— Дело касается этого? — спросил ты, показывая на учебники.
Она кивнула.
— Сколько ни думаю, я вижу только две возможности, и обе одинаково отвратительные: сдавать экзамены или выйти замуж.
— Буби уже женат, — напомнил ты.
— Буби не единственный мужчина на этом свете. И кроме того, женатый мужчина может легко превратиться в разведенного. Хотя Буби — это особый случай: он не в состоянии развестись со своим денежным мешком.
— Если хочешь знать мое мнение, выбирай экзамены, — сказал ты, чтобы уйти от темы «Буби».
— И я думаю, что это самое разумное. К сожалению, мы редко выбираем разумный путь… Ох, не знаю…
Она стояла у окна, опершись на подоконник, ее черная юбка и свитер почти сливались с темнотой, и только бледное, чуть озабоченное лицо сияло в полумраке. Она выглядела сейчас обыкновенной девушкой, очень красивой, но обыкновенной девушкой, не старающейся сойти за светскую даму.
— Я ничего не понимаю в твоей филологии. Но я могу найти товарища, который тебя подготовит.
— Спасибо. Я буду иметь это в виду, — ответила она.
Потом она посмотрела на тебя как-то рассеянно своими темными глазами и сказала:
— Ну не сиди же так. Обними меня.
Ты чувствовал под свитером ее теплое гладкое тело, и мысль о решительном объяснении отходила на задний план. Рина и без того была подавлена и озабочена, и не надо было сейчас ее мучить, и вообще следовало действовать терпеливо и осторожно, потому что ты не мог без этой женщины и надо было любой ценой, но завоевать ее навсегда.
Ты был уверен, что завоюешь ее, когда шагал под вечер домой, и даже представлял себе, как она идет рядом с тобой в скромном черном платье и как всегда будет идти рядом с тобой, и в работе, и в борьбе, и в жизни. Рина нуждалась в тебе, так же, как ты в ней, и она понимала это, и нужно было только проявить немного такта и терпения, чтобы оторвать ее от Буби.
«Звони мне всегда в это время, — сказала Рина. — Когда я смогу, я буду подходить».
И ты звонил ей всегда в это же время, в эти же проклятые три часа, но или никто не подходил, или Рина отвечала, что сегодня вы не сможете увидеться, что ей очень жаль, но ничего не поделаешь, что потом она тебе объяснит… Буби тоже перестал тебя приглашать. Как-то вечером ты случайно встретил его на улице.
— Что ты пропал? — спросил ты его как мог безразличнее.
— Почему пропал? — дружелюбно улыбнулся Буби.
— Не звонишь…
— Верно, не звоню, но причину ты знаешь лучше меня, — сказал Буби с той же дружелюбной улыбкой.
— Не понимаю.
— Понимаешь, понимаешь. Но дело в том, что и я понял. Не думай, что у твоего приятеля глаза открываются, только когда он считает деньги. В тот вечер, когда вы бросили танцевать, мне все стало ясно. В наше время не успеешь в Вену смотаться, как тебе тут же наставят рога.
— Здесь какая-то ошибка…
— Да. Это я допустил ошибку. Впрочем, не такую уж серьезную. Из всех своих друзей я выбрал самого скромного. Но нескромная женщина способна быстро испортить и самого скромного друга.
Тебе хотелось его ударить, не столько из-за слов, сколько из-за его насмешливого тона, но здесь, посреди улицы, это было бы слишком вульгарно.
— Не думай, что я на тебя сержусь. Ты оказал мне услугу и позволил себе взять некоторое вознаграждение, — добавил Буби со своей бесстыжей усмешкой. — Разреши мне только дать тебе один совет: не цепляйся за эту женщину. Она не про тебя. Рина — предмет роскоши, а предметы роскоши дорого стоят.
И, небрежно махнув на прощанье рукой, он пошел своей дорогой. «Наверно, спешит на свидание с ней, — подумал ты со злобой. — Нашел себе другую ширму». И словно чтобы убедиться в том, что Буби спешил на свидание именно с Риной, ты, сам не отдавая себе в этом отчета, пошел к ее дому.
Комната на чердаке, как и следовало ожидать, была заперта, свет не горел. Ты спустился на первый этаж и нажал кнопку большого латунного звонка. В худшем случае тебя могли выгнать. Но через минуту в дверях показалась Рина:
— А! Вот кого не ждала! Ты что — с ума сошел?
Впрочем, твое нахальное появление ее как будто не рассердило, может быть потому, что она успела порядочно выпить.
— Схожу, — сказал ты. — Но пока я не сошел с ума окончательно, я хочу поговорить с тобой две минуты.
— Бедняжка, опять тебе не везет, — улыбнулась Рина. — Тетка созвала всех гусынь из своего благотворительного общества на вермут, и я должна хозяйничать.
— Пойдем в твою комнату. Я тебя не задержу.
— Я же тебе сказала, что должна хозяйничать. И вермут чудесный…
— Рина, перестань кривляться и изображать из себя выпивоху. Я хочу поговорить с тобой две минуты.
— Милый ты мой! Если бы ты знал, до чего трудно выбирать между Вакхом и Венерой. Ладно, пусть будет Венера. Поднимайся наверх, вот тебе ключ. Я сейчас приду…
И снова было так, как не должно было быть. Вместо двухминутного разговора были долгие поцелуи с легким привкусом алкоголя и пылкие объятия, более пылкие, чем когда бы то ни было, отчего появлялась неприятная мысль о том, что причина этой пылкости не ты, а вермут.
— Тебе пора идти, милый, — сказала Рина на рассвете.
— Никуда я не пойду. Нам надо поговорить.
— Невозможный человек, — вздохнула она, но настаивать не стала, потому что у нее не было для этого сил после пьяного вечера и ночи без сна.
Рина заснула, и ты тоже заснул — нечто совершенно невероятное при твоем состоянии, а когда ты проснулся, было уже светло и Рина в скромном черном свитере сидела за столом и пила чай.
— Умойся там и садись завтракать, — сказала она, и слова эти прозвучали бы очень мило, будь они сказаны при других обстоятельствах.
Ты сделал, как она велела, и, только выпив чай, сказал:
— Вчера, по дороге сюда, я встретил Буби.
Она не выказала особого удивления:
— Ну и что?
— Ничего. Если не считать того, что у него вполне точные сведения о наших отношениях.
— Я знаю.
Лицо у нее было бледное и равнодушное.
— Видишь ли, Рина, я действительно тебя люблю, и я не могу тебе позволить и дальше играть мной.
— Я никогда тобой не играла. Это не входит в мои привычки.
— А твое постоянное вранье по телефону? А твой таинственный «отъезд» из Софии?
— Глупости. Не было никакого вранья и никаких тайн. Я действительно уезжала. И раз ты требуешь от меня всей правды, скажу тебе, что я уезжала с Буби. Он вернулся из Вены на следующий день после нашей встречи и увез меня в Чамкорию на дачу к одному своему приятелю… И если я тебе говорила, что не могу с тобой увидеться, значит, я действительно не могла, по той же самой причине: мое расписание зависит от расписания Буби…
— Буби, Буби…
Она улыбнулась, но улыбка получилась невеселая:
— Не понимаю, почему это тебя так раздражает. Если уж уточнять, я изменяю не тебе с Буби, а скорее уж Буби с тобой. Хотя все эти громкие слова об изменах…
— Но ты пойми, что я не могу делить тебя с Буби!
— А кто вообще давал вам право меня делить? — ответила Рина с некоторым раздражением. — Я не торт, чтоб можно было меня делить.
— Хорошо, ты сама себя делишь, а ты не должна этого делать.
— А почему бы нет? Чтобы не портить тебе настроение? Позволь мне жить так, как я сама считаю нужным.
Ее охватило такое же раздражение, как в тот вечер в ресторане, и дальнейший разговор ни к чему толковому привести не мог.
— Извини, если это кажется тебе нахальством, — сказал ты. — Я думал, что ты хоть немножко меня любишь, но я, видимо, ошибся.
— Не изображай оскорбленную кротость. Тебе это вовсе не идет. Если бы я не любила тебя «хоть немножко», ради чего я бы тебя сюда пускала? Ради денег? Или чтобы ты готовил меня к экзаменам?
— Ах да. Я забыл, что у Буби есть деньги…
— Напрасно забыл. Не забывай хотя бы, что, когда мы были с тобой на «Треке», я расплачивалась деньгами Буби…
— Ты становишься злой.
— Не я. Правда зла: одними светлыми чувствами не проживешь.
— Это еще не причина, чтобы продаваться. Ты ведь продаешься Буби, пойми это.
Она помолчала минуту. А потом сказала, уже не раздраженно, а скорее устало:
— Знаешь, ты становишься несколько обременительным. Слишком большой и торжественный шкаф для моей скромной комнатки.
— Хорошо, хорошо. Не пугайся. Сейчас я сам себя выставлю.
И ты натянул плащ и пошел к двери, а она не остановила тебя и даже не поглядела тебе вслед, а так и сидела, устало облокотившись на стол.
«Я должен переболеть эту любовь. Не знаю, сколько времени это будет продолжаться, но я должен ее переболеть», — твердил ты себе весь день.
Вначале болезнь протекала легче, чем ты ожидал, — быть может, помогало озлобление, с которым ты вспоминал ту последнюю Рину — усталую и бесстыдную, почти выгнавшую тебя из дома. Но через несколько дней, возвращаясь домой обедать, ты нашел в почтовом ящике записку, написанную крупными торопливыми буквами:
«Прости меня за грубость. У меня ужасно болела голова. Позвони мне в обычное время. Р.»
Записка ничуть тебя не обрадовала и даже не потешила твое мужское самолюбие. Ты увидел в ней лишь начало неизбежного длительного кризиса. Потому что ты уже решил больше ей не звонить и потому что ты знал, что устоишь, и потому что теперь, после этой записки, устоять было труднее.
«Только бы она больше меня не звала», — думал ты в долгие мучительные бессонные ночи, когда та идиотская мелодия лезла в голову вместе с десятками образов, образов Рины, каждый раз разных. Рины, танцующей с тобой, ее рука — в твоей, и Рины в постели Буби, Рины бледной и скромной в своем черном свитере и Рины элегантной, накрашенной, с вызывающим бюстом, притягивающим мужские взгляды, Рины твоей, Рины в твоих объятиях и Рины чужой, далекой, раздраженной и пресыщенной. «Только бы она больше не звала меня». Она не позвала, и ты был благодарен ей за это, потому что так тебе было легче перенести болезнь.
Когда ты снова ее встретил, успело пройти немало лет и многое изменилось, настолько изменилось, что тебе надо было встретить ее снова, чтобы понять — болезнь не прошла, а просто острая фаза перешла в хроническую.
Это было через год после Девятого сентября[21]. Ты спешил на какое-то заседание, и Катерина внезапно появилась перед тобой под цветущим каштаном, так внезапно, словно она была видением, а не живым существом. Она заметила тебя издали, слегка вскинула брови и тут же, радостно улыбаясь, пошла к тебе навстречу, элегантная, красивая и сияющая, точно обещание.
— Петр! Какая встреча…
— Да-а, — глупо промычал ты, не сразу опомнившись.
Она заметила твое смущение и, чтобы помочь, стала задавать тебе банальные вопросы, на которые ты с готовностью отвечал.
— Значит, научная работа… А я думала, что ты теперь важное начальство. Ну что ж, тем лучше. Ты ведь об этом и мечтал? А я окончательно бросила свою филологию…
— Видимо, выбрала второй вариант.
— Вот именно. Я вышла замуж за одного англичанина из миссии. Полгода назад. Он ужасно добрый и ужасно скучный. Ничего, говорят, Англия интересная страна. Через несколько недель мы уезжаем.
— Значит, и твоя мечта исполнилась.
— «Мечта», глупости. Надо же как-нибудь прожить эту жизнь.
Ты ничего не сказал, а она посмотрела на тебя и снова улыбнулась:
— А ты мой должник, помнишь?
— В каком смысле?
— В таком смысле, что одна девушка больше пяти лет назад просила тебя позвонить, а ты не позвонил. Девушка стала теперь замужней женщиной, но это не имеет значения.
Тогда ты первый раз посмотрел ей прямо в глаза, в упор, и сказал:
— Я ничего не забыл. Думаю даже, что я помню все лучше, чем ты. Ты была для меня тяжелой болезнью, и теперь я понимаю, что еще не выздоровел. Лучше не мучай меня. Давай говорить о чем-нибудь другом.
Она посмотрела на тебя удивленно, и по лицу ее прошла тень. Потом она опустила глаза:
— Я не знала, что до такой степени… Я никогда не хотела тебя мучать… И я тоже тебя любила…
— Да, да, я знаю. Давай говорить о чем-нибудь другом.
Но поскольку другие темы были уже исчерпаны, вы немного помолчали, пока ты не догадался протянуть ей руку и она не сжала твою руку, сначала неуверенно, а потом с каким-то нервным порывом, словно хотела притянуть тебя к себе, тут же, на бульваре, в зеленоватой тени цветущих каштанов.
«Может быть, все-таки надо было взять у нее адрес, — подумал ты, торопясь на свое заседание. — Может быть, таким способом я легче справился бы с болезнью». Но ты знал, что не избавишься от болезни ни этим, ни каким-либо другим способом и что единственный выход — снова привыкнуть к боли, потому что наступает момент, когда боль становится частью тебя самого, и тогда переносить ее, пожалуй, легче.
И вот уже много лет ты переносишь ее сравнительно легко. И может быть переносил бы еще легче, если бы следовал совету здешнего врача: «Не ищите боль. Когда вы ее не чувствуете, не ищите ее».
*
Дождь, сильный и серо-желтый, косыми струями падает с нависшего неба. Деревья в парке стали совсем черными, по аллеям шумно бежит вода. Человек в пижаме открыл окно и, перегнувшись через подоконник, смотрит на угол здания.
Уже больше десяти, а детей все нет. Только б они не вздумали приходить в этот дождь. Но если они придут, надо быть у окна, чтобы не заставлять их ждать под дождем.
— Вы становитесь совсем непослушным, — слышит он у себя за спиной голос врача.
Он вздрагивает и оборачивается. Потом быстро закрывает окно.
— Если вы будете все время простуживаться и часами прижимать свою печень к подоконнику, нам долго придется вас лечить.
— Дети могут прийти…
— Дети не придут. Заведующий распорядился вообще не пускать посетителей во двор. В конце концов, это инфекционная больница, а не санаторий.
Она раздражена — может быть, и ей за что-нибудь влетело, — но пытается скрыть свое раздражение.
— Ложитесь, я вас посмотрю.
Больной послушно вытягивается на кровати и задирает пижаму.
— Вы регулярно принимаете кортансил?
— Как часы.
— Спите?
«Сплю, но вижу старые сны», — думает он, но только кивает головой.
— Хорошо. И пожалуйста, не стойте больше у окна.
Врач выходит. Больной тут же встает и прижимается лицом к стеклу. Значит, дети не придут. Или, скорее, они пришли, а их не пустили. Как это жестоко, ни с чем отправить детей обратно в такой дождь.
Дверь снова открывается. Ну вот, теперь санитарка. Он с досадой оборачивается. Но женщина в белом халате — не санитарка.
— Мила!
— Мальчик мой! Что с тобой сделала эта отвратительная болезнь!..
Женщина бросается к нему и заключает его в свои нежные объятия.
— Осторожно, — говорит он, пытаясь высвободиться. — Эта отвратительная болезнь заразна.
— Не бойся. Ты ведь знаешь, меня никакая болезнь не берет.
Мила действительно не похожа на человека, которому угрожают какие-либо болезни. Она крупная, полная, у нее чистое белое лицо и темные глаза.
— Как ты сумела сюда проникнуть? — спрашивает человек в пижаме после второго объятия.
— Связи с младшим персоналом. А ты как сюда попал?
Он разводит руками.
— Милый мой мученик! — разнеженно выпевает Мила, обнимая его плечи своей полной рукой. — И все-то с ним что-нибудь случается.
— Я, наверное, ужасно выгляжу.
— Для меня ты самый красивый мужчина.
— Это я знаю, — усмехается он. — «Самый красивый», «твой мальчик» и прочее. Но это не мешает мне иметь ужасный вид.
— Когда человек болен, важно, как он себя чувствует, а не какой у него вид. Что говорит врач?
— Он молчит, — отвечает человек в пижаме.
И чтобы переменить разговор, спрашивает:
— Как ты узнала, что я здесь?
— Вчера ведь была суббота. Или ты совсем потерял представление о времени? Я приехала, зашла на минутку домой и сразу — к тебе. Открыла мне твоя старшая, Катя. «Папы нет», — и хотела сразу закрыть дверь. «А где он?» — спрашиваю. «В больнице», — говорит и захлопнула дверь. Не сказала даже, в какой больнице, мне пришлось узнавать у привратника.
Больной улыбнулся, но ничего не сказал.
— Нечего улыбаться. Ты бы лучше поговорил с девочкой. Насколько младшая добродушна, настолько Катя замкнута, строптива. Что я ей сделала? Я могу принести ей только пользу. Ты правда должен с ней поговорить. Не сейчас, конечно, а потом, когда выздоровеешь.
— Поговорю.
— Просто не понимаю, отчего она такая. Сашка не была такой. И ты тоже. Впрочем, с тобой случается. Особенно когда на тебя найдет…
Дверь открывается, и на пороге встает какая-то незнакомая сестра.
— Мы должны исчезать. Главный врач идет.
Мила обнимает больного и горячо целует его полными влажными губами. Потом идет к двери, но на пороге оборачивается и посылает ему воздушный поцелуй.
Что ж, она мила, как ее имя. И даже чуть больше, чем хотелось бы.
Главный врач входит в ту самую минуту, когда человек в пижаме снова собирается выглянуть в окно.
— Ложитесь, посмотрим вас…
Главный врач осматривает больного, но, по своему обыкновению, ничего не говорит.
— Желтизна не проходит? — спрашивает больной, когда врач начинает рассматривать его глаз.
— Пройдет…
Врач уходит, а человек в пижаме остается лежать, рассеянно раздумывая о своей желтухе, детях и Миле.
Мила была давней подругой его жены. «Родство антиподов», — как любила говорить Сашка. Заставая Милу в гостях у жены, он всегда ощущал какое-то легкое возбуждение, смешанное с неловкостью. Своей красивой улыбкой, темными глазами и чувственным телом Мила напоминала ему Катерину, хотя была выше и полнее Рины.
Когда хоронили Сашку, Мила подошла к нему вся в слезах и выразила свое сочувствие. Потом она исчезла. А год спустя неожиданно позвонила по телефону.
Это был скучный вечер, после целого дня утомительных заседаний и после нескольких тщетных попыток снова засесть за давно оставленную рукопись «Труда». Дети в другой комнате уже легли. По радио передавали какую-то невыносимо надоевшую оперу, и ты его выключил. В кабинете у тебя было тихо и почти темно — только настольная лампа бросала на разбросанные бумаги светлый круг. И этот мрак и тишина делали твое одиночество чуть ли не вещественным, так что ты вдруг почувствовал, что и жить тебе в тягость. Хорошо, что в подобные минуты, когда жить становится в тягость, обыкновенно что-то случается и отвлекает от черных мыслей. На этот раз зазвонил телефон.
— Это Петр? Здравствуйте, говорит Мила. Извините, что я так поздно звоню.
— Почему? Наоборот, — пробормотал ты, стараясь, чтоб голос не выдал твоего радостного удивления.
— Я приехала сегодня под вечер, потом была в театре, а сейчас вот иду из театра домой и вдруг решила узнать у вас, как дети.
— Дети в порядке, — ответил ты, не понимая, зачем ей понадобилось все это алиби. — Но вы нас совсем забыли…
— Я вас не забыла. Я даже очень часто думаю о вас, о детях… Просто я не знала, удобно ли мне вас беспокоить.
— Почему же неудобно? Зашли бы как-нибудь…
— С удовольствием. В любое время, когда вам это будет приятно.
— В любое время? Тогда приходите сейчас. Тем более, что вы еще не дошли до дома…
— А детей я не потревожу?
— Дети спят. Не беспокойтесь. Я вас жду.
«Так оно и лучше, — подумал ты, кладя трубку. — Пусть она с самого начала понимает, что пришла ко мне, а не к детям». И ему даже в голову не пришло, что она понимала это еще когда решила позвонить.
Ты так давно не видел в своем доме женщин, что когда Мила вошла, ты ощутил легкое головокружение. Она была в элегантном темном костюме, в котором казалась стройнее, чем была на самом деле, а лицо ее просто сияло от того, что она тебя видит.
— Вот сюда… пожалуйста… — сказал ты, вводя ее в свой кабинет, куда она раньше никогда не заходила.
Ты предложил ей свое единственное кресло, а она обернулась и так на тебя посмотрела, что ты тут же забыл все заранее приготовленные реплики, которые должны были подвести тебя к нужной теме, и неожиданно для самого себя обнял ее, и Мила тоже тебя обняла, так порывисто и бурно, что выронила сумку.
— Милый… Милый мой мальчик.
Ты стал ее милым мальчиком, хотя тебе явно перевалило за сорок, и она стала приезжать к тебе каждую субботу вечером и уходить на следующее утро, по возможности до того, как просыпались дети. Но это было очень невоспитанно — выставлять женщину из дому с утра пораньше, и ты постепенно постарался внушить детям, что тетя Мила будет раз в неделю приезжать в гости и что в этом нет ничего особенного. Тетя Мила тоже делала все, что могла, водила девочек по воскресеньям в кондитерскую и в кино, и младшая быстро к ней привязалась, но Катя продолжала держаться замкнуто, почти враждебно.
В свое время ты относился еще более враждебно к дяде Борису. Стало быть, теперь сердиться нечего — поделом тебе. Разница только в том, что твоя мать искренне любила дядю Бориса, а ты не совсем уверен, что так уж любишь тетю Милу.
Разумеется, ты ее любишь. Она для тебя необходимая отдушина в твоем одиночестве и окружающем тебя холоде. Но когда эту отдушину предоставляют тебе надолго, она начинает утомлять и раздражать тебя.
Если кто-то любит тебя больше, чем ты его, это тоже не слишком приятно. Особенно если этот «кто-то» похож на Милу. Она до того любвеобильна, что невозможно бывает выдержать. Водопад поцелуев, который ничем не остановить. И склонность к беспорядку, которая превращает твой рабочий кабинет в маленький кошмар — чулки и белье на письменном столе, выпачканные губной помадой окурки на чернильнице, раскиданные книги и этот плотский запах сиреневых духов и женского тела, который долго держится в комнате и после Милиного отъезда.
Она работает учительницей в провинции и каждую неделю едет поездом три часа в один конец и три часа в другой ради удовольствия тебя видеть. У нее нет других привязанностей, а к тебе, как она говорит, она относилась по-особому еще задолго до того вечера после театра. Ты для нее светило мудрости, и она любит тебя так, как, может быть, тебя любила только Сашка. Но это утомляет. Особенно если подумать о том, что, хотя Мила никогда не говорит о браке, брак неизбежен, со всеми вытекающими из него последствиями — беспорядком, перенесенным из кабинета на всю квартиру, постоянными гостьями, с которыми Мила будет удовлетворять свою страсть к пустой болтовне, надоедливыми ласками и заботами о том, чтобы ты не простудился и не переутомился, и все это двести раз на дню будет перемежаться «моим милым» и «моим милым мальчиком». Ужасно.
Тебе всегда казалось, что Мила немного похожа на Рину. В этом, может быть, есть что-то верное, но это сходство между пародией и оригиналом. У Катерины и в манерах, и во всем ее физическом облике была мера, которая здесь нарушена. У Милы все в изобилии, всего слишком много. Однако женщин не заказывают по каталогу. Мила такова, какова она есть, а тебе слишком много лет, чтобы искать другую подругу, даже если допустить, что ты мог бы освободиться от Милы, а это само по себе немыслимо.
Ты, разумеется, иногда говоришь ей, скажем, чтобы она не гасила окурки в чернильнице. Тогда она отвечает «прости меня, милый», искренне огорченная тем, что рассердила тебя. Что не мешает ей через полчаса повторить тот же номер.
Она начинает привыкать к твоим замечаниям по разным поводам. И ты должен привыкнуть к ее безалаберности. Иначе нельзя будет жить. Только Катя едва ли привыкнет. Мила действительно держится с Катей очень ласково, даже слишком ласково, но Катя воспринимает Милину любезность как подхалимство, как попытку ее подкупить. И она еще больше замыкается в себе. В сущности она совсем не строптива и не замкнута. Просто она привязана к матери. Она думает, что только она осталась верна умершей, а что папа и Анче оказались нестойкими и капитулировали перед любезностями этой чужой тетки, которая в своих интересах пытается занять место мамы.
В этом все дело. Вопрос о Миле — это вопрос о Кате. С Катей так или иначе придется поговорить. После чего Катя скажет «хорошо, папа». Но ничего хорошего не получится, она совсем замкнется в себе и постепенно действительно станет «строптивой». Деформируется характер. И виноват будешь ты.
Катя не права. Верность мертвым нельзя хранить за счет живых. Это даже и не верность, и Сашка сама не оправдала бы подобной верности, как бы тяжело ей ни было. Но если ты попытаешься объяснить это Кате, она подумает, что ты хитришь. И еще больше уйдет в себя. Так вы с Милой действительно превратите ее в замкнутого и «строптивого» человечка.
— Обед сегодня подзадержался, — говорит санитарка, входя в палату с тарелкой супа в руках. — На кухне была авария.
— Неважно, — бормочет человек в пижаме, вставая.
Как будто его интересует обед. Могли бы и вообще не приносить. Ерунда, что, мол, кортансил возбуждает аппетит.
Больной садится на кровать у окна и устало смотрит наружу, пока санитарка расставляет на столике тарелки. Дождь все такой же сильный, серо-желтый, и идет все так же косо, мягко шурша по затопленной, обесцвеченной морозами траве.
— Вот выльется весь, и наладится погодка-то, — ободряюще говорит санитарка и выходит.
Или наладится, или не наладится. Допустим, наладится. Но гораздо важней наладить кое-что другое. Человек в пижаме начинает есть, продолжая думать о том, что ему надо наладить. Так время проходит не без пользы и легче заталкивать в себя еду.
Твоя беда в том, что ты никак не можешь ухватить основное, а все отвлекаешься в сторону. Чувства детей, конечно, важный вопрос, но еще важнее обеспечить им хлеб насущный. Если с тобой что-нибудь случится, они останутся на улице. Поэтому ты должен сосредоточить свои усилия на «Труде», отложив второстепенные дела. Правда, готов к печати один твой сборник, но за него ты получишь не так много, и у тебя порядочно долгов. А когда ты получишь гонорар за «Труд», ты положишь деньги на книжки девочек и будешь спокоен хотя бы в этом отношении.
Тебе неприятно думать о «Труде» как о способе заработать деньги. Хотя «Труд» и зарос пылью в ящике письменного стола, уже многие годы он представляется тебе делом твоей жизни. Последняя надежда создать что-то такое, что останется после тебя. Соломинка, за которую цепляется утопающий. Но дети важнее, чем все «труды», и нечего щепетильно обходить вопрос о гонораре.
Больной от супа переходит к компоту, перескочив через второе. Он думает теперь о детях и представляет себе, как они приехали утром на трамвае под дождем, и бежали под дождем от остановки до больницы, и как Катя тащила Анче за руку, а та отставала, потому что шажки у нее еще маленькие и розовый шарф постоянно сползает ей на глаза. Дети стояли вместе с другими посетителями перед будкой привратника, надеясь, что запрет отменят, а потом снова пошли под дождем, на этот раз медленней, потому что им некуда спешить, кроме как в свою пустую и мрачную квартиру.
Ты даже не задумался о том, как же они живут вдвоем, одни в этой пустой квартире, а рассуждаешь о высоких материях.
И он вдруг видит их в этой квартире так, как он видел их в последний раз, прежде чем его привезли сюда, — обнялись в полутьме и тихо плачут. Гаснущий луч проходит в окно и падает на синее одеяло, которым закуталась Анче.
— У вас что-то болит? — спрашивает сестра, которая вошла в палату с лекарствами.
— Что у меня может болеть?
— Не знаю. Вы так сжали челюсти, как будто у вас что-то болит.
— Привычка, — говорит он. — Ничего у меня не болит.
Сестра кивает и выходит из комнаты.
Эта глупая привычка сжимать челюсти, когда делаешь что-нибудь, требующее усилия, пусть ты даже просто завязываешь бечевку, появилась у тебя еще в детстве. Плохо только, что вот уже несколько лет ты сжимаешь челюсти и когда никакой бечевки нет, сжимаешь их несознательно, словно вся жизнь превратилась для тебя в одно постоянное усилие.
Одно постоянное усилие. И постоянное напряжение. Ты одеваешься и спешишь куда-то, и сердце у тебя не на месте, словно ты куда-то опаздываешь. Ты идешь по улице и в нетерпении ускоряешь шаг, словно где-то тебя ждут. Ты говоришь себе: «Куда я бегу» — и идешь медленнее, но чуть позже ты снова ускоряешь шаг, проталкиваешься среди прохожих и спешишь, спешишь черт-те куда.
Ты притворяешься спокойным, и люди считают тебя спокойным, но в сущности ты живешь в постоянном страхе, что вот-вот что-то случится. Ты не знаешь, что именно случится и случится ли вообще, но на сердце у тебя все время лежит камнем этот беспричинный страх, и ты идешь по жизни, ощущая затылком нервный озноб, словно маньяк, который шагает по улице и думает о том, что на голову ему сейчас свалится черепица.
Разумеется, если смотреть со стороны, это смешно, хотя падающие черепицы для тебя не такая уж редкость. Когда однажды утром тебе вручили повестку в суд по жилищному делу, ты решил, что это какое-нибудь ерундовое недоразумение, но это недоразумение тянулось около года, со слушанием дела, осмотрами, обжалованиями и волокитой, и все крутилось вокруг этого твоего проклятого кабинета, на который ты имел законное право. Когда сосед пригрозил тебе, что у тебя отключат воду, потому что ты поливаешь клумбочку, на которой дети посадили цветы, ты подумал, что это пустые разговоры. Но воду у тебя действительно отключили, и тебе пришлось целый месяц ходить каждый день объясняться и просить, и таскать ведрами воду из подвала. Тебе объясняли, что ты нарушил инструкцию, но инструкция относилась к садам и огородам, а не к клумбочке с пятью цветками, которые вяли и которые тебе было жалко, потому что их посадили дети.
Потом однажды утром к тебе пришли с проверкой, и сделано это было, чтобы застукать у тебя Милу, и это, разумеется, не тронуло ни тебя, ни Милу, но доставило маленькую радость тому самому соседу, который был автором «сигнала». Потом Анче заболела скарлатиной. Потом Катю толкнула машина, к счастью, обошлось без серьезных последствий. Потом пришли к тебе делать опись из-за какой-то задолженности, о которой ты совсем забыл. Все это, разумеется, неприятности мелкие и неизбежные, но их достаточно, чтобы постоянно ощущать затылком нервный озноб.
Васил видит во всех этих происшествиях руку Стоева, делая исключение лишь для скарлатины и случая с машиной. Васил стал до того мнителен, что в один прекрасный день припишет Стоеву и скарлатину. Беда Васила в том, что он словно загипнотизирован Стоевым и не видит, что на свете есть и другие стоевы, скажем в масштабе данного квартала.
Стоев, естественно, делает то, что в его силах, но он действует в своей области. Он оклеветал тебя, будто ты в своих лекциях протаскиваешь порочные идеи, и на твои лекции пришли с проверкой, но поскольку порочных идей в наличии не оказалось, Стоев удовлетворился обвинением, что ты слишком часто отвлекаешься, а ты, в сущности, просто отвечал на те вопросы, которые тебе задавали студенты.
Стоев использовал и твои семинарские занятия со студентами, чтобы приписать тебе разные ереси, а когда и это ему не удалось, заставил преподавателя психологии обвинить тебя в том, что ты залезаешь в его область. Ты действительно туда залезал, но это получалось потому, что студенты задавали тебе такие вопросы, и потому, что психология, как и всякая наука, не может быть собственностью кого бы то ни было, и потому, что, если ты всю жизнь занимался этой наукой, ты имеешь право сказать о ней хоть что-то, даже если ты ее не преподаешь.
В сущности, в том, что ты ее не преподаешь, виноват все тот же Стоев, который помешал тебе занять вакантное место и выдвинул кандидатуру другого человека. Стоева бесит, что студенты любят твои лекции и не ходят на его, но если бы это было единственной причиной его ненависти к тебе, все обстояло бы слишком просто.
Плохо то, что ты можешь бороться только против тех махинаций Стоева, которые тебе известны, а он делает самую крупную ставку на те, которых ты не знаешь. «Бушует втихаря», — как говорит Васил. Он шлет доносы, бросает тут и там какие-то словечки, фабрикует правдоподобную клевету. Поэтому даже когда ты прав, все равно оказывается, что ты неправ. «Ну, конечно, публично он всегда проводит правильную линию. Но таким способом он лишь прикрывается», — говорит Стоев там, где нужно, и в виде доказательства приводит твои частные высказывания, которых ты, естественно, никогда не делал. А ты удивляешься, почему на тебя смотрят с подозрением, почему тебя не приглашают делать доклады, почему кое-кто, даже встретив тебя на улице, отводит глаза.
В сущности, Стоев — это самый большой и самый твердый орех, и если ты постоянно повторяешь себе, что надо начать с «Труда», то это потому, что тебе не хочется начинать со Стоева. Но даже если ты начнешь с «Труда», ты тут же упрешься в Стоева, потому что Стоев своими махинациями мешает тебе закончить этот труд и потому, что, даже если ты его закончишь, Стоев даст о нем отрицательный отзыв и постарается тебя разгромить.
Стало быть, черепицы падают на тебя одна за другой, и хотя ни одна из них не смертельна, число их достаточно, чтобы поддерживать в тебе этот глупый страх перед неизвестностью. Впервые ты испытал страх много лет назад, но то был другой страх, в твоей жизни еще не существовало ни Стоева, ни стоевых. Существовали полиция и ротатор.
Ротатор был установлен в вашем подвале. Коста приносил готовые восковки, и вы вдвоем печатали, а потом он уносил листовки, а ты сжигал все отходы. Так продолжалось, пока Косту не арестовали.
Когда ты узнал об аресте Косты, ты даже удивился, что и ты не арестован. Если бы это произошло сразу, ты, наверно, так и не испытал бы этого тягучего страха. Но тебя не арестовали ни на следующий, ни на последующий день. И ты каждый день ждал этого, и каждое утро, когда звонил молочник, в тревоге вскакивал с постели и лихорадочно вспоминал ответы, которые ты придумал. Но за тобой не приходили.
Ты десятки и десятки раз переживал этот арест, избиение, перекрестный допрос. Ты раньше уже видел Гешева[22] и знал, что допрашивать тебя будет Гешев, и потому ясно представлял себе весь допрос:
— Имя и профессия?
— Петр Александров. Студент.
— Ты хочешь сказать: заговорщик.
— Студент.
— Политические убеждения?
— Я не занимаюсь политикой.
— Смотри-ка! Интересно. А БОНСС?[23]
— Я не член БОНССа.
— Смотри-ка! И в БОНССе не состоит! Да это же вполне порядочный человек! Вы его ко мне по ошибке привели!
Гешев любит юмор и понимает его так же, как учитель латинского. Даже еще грубее, и вот он встает и подходит к тебе:
— Извините за недоразумение, господин Александров!
И закатывает тебе первую оплеуху. Эта оплеуха не производит на тебя впечатления. Ты приготовился к более страшным вещам.
— А теперь начнем сначала…
Ты представляешь себе этот допрос до мельчайших подробностей, потому что уже знаешь, как выглядит Гешев, и потому что товарищи рассказывали тебе о многих подобных допросах. Ты видишь полутемный кабинет и человека с холодным злым лицом, который смотрит на тебя из-за большого письменного стола, и агентов, притаившихся в темных углах, и настольную лампу, направленную прямо тебе в глаза.
— Давно вы знакомы с Костой Радевым?
— Три года.
— Как вы познакомились?
— Не помню. Мы учимся на одном курсе.
— Была ли у вас какая-нибудь общая работа?
— Нет. Мы вместе готовились к экзаменам.
Человек, сидящий за письменным столом, поднимается медленно, словно он глубоко задумался. Потом он подходит и неожиданно закатывает тебе вторую оплеуху.
— А ротатор?
— Какой ротатор?
Вместо ответа — третья пощечина.
— Теперь вспомнил?
Ты молчишь.
— Приведите Радева!
Может быть, Коста и заговорил. Парень он крепкий, но иногда и крепкие ребята начинают говорить. Есть люди, крепкие на вид, но когда их бьют, они не выдерживают. Но если даже Коста что-нибудь сказал, ты будешь все отрицать. Важно отрицать все с начала до конца. Каковы бы ни были мучения, ты должен представить их себе в виде туннеля, по которому тебе предстоит пройти. В виде длинного туннеля, полного боли и ужаса, но в конце которого все-таки светлеет выход. Надо собраться, сжать зубы и пройти его, как бы ни было больно, каким бы длинным ни был этот туннель. Это единственный выход, если он есть вообще. А если выхода нет… Если нет, значит, нет, вот и все. Людей расстреливают в таких туннелях без выхода, а они поют.
Самое мучительное было то, что полицейские, которые должны были тебя арестовать, все не шли. Значит, Коста молчал, но они могли добраться до тебя и с помощью косвенных улик, даже если бы Коста ничего им не сказал. Ты зарыл ротатор глубоко в кучу угля, унес из дома всю нелегальную литературу и вообще подготовился, как мог, но полицейские все не шли, и ты напрасно вздрагивал каждое утро от звонка молочника и напрасно целыми днями обдумывал, как ты будешь отвечать на перекрестном допросе.
Это тягостное ожидание, эти страхи продолжались почти месяц. Наконец, однажды утром, вскоре после звонка молочника, раздался еще один звонок, и ты увидел в дверях полицейского.
— Вот повестка. Распишись!
На повестке было написано «для дачи показаний», но на опыте своих товарищей ты хорошо знал, что это за показания. Вызывали на этот самый день. На пять часов.
— Кто это приходил? — обеспокоенно спросила мама.
Матери всегда чувствуют, когда происходит что-то тревожное.
— Повестку принесли. Вызывают в полицию, дать какие-то показания…
— Что же делать? — испуганно вскрикнула мама. — Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не лез в эти дела!
Мать обыкновенно сочувствовала тебе, но только потому, что у тебя были такие же убеждения, как у твоего отца. Сама она никогда не могла понять, какой смысл в «этих делах», если и власть, и полиция, и оружие — в руках других.
— Сколько раз я тебе говорила!
— Ну ладно, говорила… Я тоже многое тебе говорил, но ты не хочешь меня понять. И потом, меня вызывают только дать какие-то показания…
Но когда ты пошел давать эти показания, ты приготовился к куда более серьезному. Ты приготовился пройти по туннелю, и в тот момент, когда, показав караульному повестку, ты стал подниматься по лестнице, ты почувствовал, что ты действительно собрался, что ты тверд, как камень, несмотря на свою обычную нерешительность, и что ты сумеешь, крепко сжав зубы, пройти туннель до конца.
Как ты и ожидал, тебя ввели к Гешеву. Он сидел за письменным столом, но стол был меньше и ниже, чем ты себе представлял. В углу дремал всего один агент. Настольная лампа не горела. Закопченная люстра цедила сквозь осенний сумрак тусклый свет. Гешев поднял голову, и ты увидел желтое усталое лицо.
— Петр Александров?
— Да.
— Что это за история с вашим рефератом?
— Что? — переспросил ты, не веря своим ушам.
— Я спрашиваю вас о вашем реферате, вы что, глухой?
— Да из студенческого общества мне поручили сделать доклад на тему «Дуализм и монизм»…
— Бросьте эти ученые слова. Мы люди простые. Скажите мне на человеческом языке, какова была идея вашего реферата!
— Я рассматривал дуалистические и монистические учения в философии и указал на преимущества монистического взгляда…
— А точнее?..
— Это все.
— Нет, не все, — с легким раздражением сказал Гешев. — В своем реферате вы рекламировали «современный материализм». Как я вам сказал, мы люди простые, но не настолько, чтобы не знать, что «современный материализм» и коммунизм — одно и то же.
— Я не имел в виду коммунизм, потому что коммунизм это политическое учение, а…
— …А вы не занимаетесь политикой, — закончил Гешев. — Как видите, эту песню мы знаем наизусть.
Он встал, обошел вокруг стола и, подойдя к тебе, поднял руку. Ты подавил дрожь, но рука мягко легла на твое плечо, что по сути дела было еще неприятнее, чем ожидаемая затрещина.
— Послушай-ка, парень! — фамильярно сказал Гешев, глядя тебе прямо в глаза. — Ты сочиняешь рефераты про разные дуализмы и прочее. Значит, надо полагать, котелок у тебя варит. А коли так, попробуй понять то, что я тебе скажу человеческим языком: ты коммунист, и мы это знаем. Ваш профессор разрешил твой реферат, вероятно, не читая, и тем тебя спас. Но если ты попадешь сюда второй раз, тебе уже не спастись. А если ты не откажешься от коммунизма, гарантирую тебе, что ты попадешь сюда снова. Все рано или поздно проходят через Гешева. А времена сейчас такие, что коли попадешь, так уж не выйдешь… Тебе ясно, что я имею в виду?
— Ясно.
— В таком случае намотай себе это на ус. Два раза я не предупреждаю. А теперь ступай в коридор и напиши показания.
Ты все время думал про себя, что это лишь иезуитское предисловие к настоящему допросу, но когда человек с усталым желтым лицом сказал тебе «ступай в коридор», ты наконец поверил, что «показания» — это действительно только показания.
Когда через час ты вышел из мрачного здания у моста, у тебя было такое чувство, словно ты впервые по-настоящему видишь мир — и эту вереницу желтых фонарей, и синий мрак, и весело бегущих детей, и человеческую толчею, и освещенные звенящие трамваи, и среди всего этого ты волен шагать куда душе угодно. И потом ты вдруг увидел другой мир, душный и тесный, стиснутый холодными стенами карцера, и из мрака этого мира-ловушки выплыло отекшее изуродованное лицо Косты:
— Ты видишь, Петр, я выдержал.
Двумя днями позже к тебе пришел один товарищ, которого ты знал по БОНССу.
— У тебя оставлен ротатор.
— Да.
— Надо снова приниматься за работу.
— Давай.
Человек в пижаме смотрит невидящим взглядом в окно, на льющийся без передышки дождь, на черную массу деревьев в парке, на нависшее серо-лиловое небо. Далеко по коридору слышно, как открываются и закрываются двери. Сейчас зайдет сестра, которая раздает градусники. Потом она снова придет, чтобы градусник взять. Потом принесут ужин, потом лекарства, размеренно, аккуратно, по часам, словно для того, чтобы скрыть, что, в сущности, ничего не происходит — только дождь идет и время ползет.
— Тридцать семь и четыре… Почему? — спрашивает сестра, забирая градусник.
— Я тоже не знаю, — говорит больной, точно оправдываясь.
— Вам вредно постоянно стоять у окна. Больше отдыхайте.
— Да я только это и делаю.
— Но вы должны лежать.
Он покорно ложится. Сестра идет к двери, но у порога останавливается и безо всякой связи с предыдущим говорит:
— У вас очень милые дети.
— Вы их видели сегодня? — спрашивает больной, подымая голову. — Я уверен, что они приходили.
— Не знаю, — говорит сестра нерешительно. — У проходной было много народу, но никого не пустили.
— Это уж от избытка усердия, — говорит человек в пижаме и снова опускает голову на подушку.
— Почему от избытка? Такой порядок.
— Я тоже за порядок. Беспорядок — ужасная штука. Но и порядок иногда раздражает.
— Только иногда, — улыбается сестра. — А беспорядок раздражает всегда.
Она выходит, и больной некоторое время думает над ее словами. Все это не совсем так. Сложнее.
Вот уже несколько лет, как все вокруг кажется тебе все более сложным. Всё. Даже мелочи. Стоит кому-нибудь сказать что-то, в общем несомненно правильное, как ты тут же начинаешь поворачивать это так и эдак и размышлять о том, что правильно-то это только в общем, а в деталях все обстоит иначе. Ты, разумеется, знаешь, что, если пытаться исчерпать все неисчислимые детали и частные случаи, никогда не придешь ни к какому выводу и будешь осужден на бездействие, но, несмотря на это, ты копаешься в деталях и частных случаях и видишь, что все намного сложнее, чем мы себе это представляем. Копаясь таким манером в мелочах, ты иногда доходишь до того, что спрашиваешь себя, скажем, действительно ли Стоев таков, каким он кажется Василу и его друзьям. У тебя даже бывают стычки с Василом из-за Стоева.
— Этот человек сделал карьеру на своей младенческой физиономии и приятном голоске, — говорит Васил. — Этакий девяностокилограммовый младенец, который говорит не «мама» и «папа», а плетет гладкие фразы своим медовым голоском. Как послушаешь его, так кажется, что он эти фразы продает на метры, словно магнитофонную ленту.
— Стоев берет не только добродушным лицом и приятным голосом, — возражаешь ты.
— Ну, конечно, не только, если ты имеешь в виду еще и цинизм и жестокость, которые скрываются за этим младенческим добродушием.
— У него есть и достоинства.
— Еще бы. Все таланты иезуита. Он понял, что спокойный тон действует вернее, чем раздраженный, поэтому он никогда не повышает голоса. Он знает, что объективность лучше, чем пристрастие, поэтому он скрывает свои пристрастия за ширмой доброжелательной объективности. Он пять фраз скажет в твою пользу, а шестой изничтожит тебя до основания. И изничтожит с таким бесстрастием, что окружающие могут подумать, будто он делает это не из корысти, а по принципиальным соображениям…
— У Стоева есть принципы.
— Расскажи это моей бабушке. Принципы важны для него постольку, поскольку из них можно извлечь личную выгоду.
— Стоев не корыстен. То есть я хочу сказать, что он не стремится к материальной выгоде.
— Да, если сводить материальную выгоду только к деньгам. Он, может быть, и не сребролюбив, но он корыстен. Ему нужны признания, власть. Подниматься все выше — вот его единственный принцип.
— Но ты не можешь назвать беспринципным человека, который в сущности никогда не отступал от своих принципов. Ты отлично знаешь, что Стоев ни на йоту не изменил своих старых взглядов, хотя теперь он иногда это тактично скрывает.
— Но тут ведь дело не в принципиальности, а в элементарности и ограниченности. Стоев не может пойти дальше примитивной схемы, потому что у него не хватает на это мозгов. Если ты называешь принципиальностью скудоумие… Принципиальный человек, даже сектант, никогда не будет подлецом. А Стоев подлец.
— Я знаю. Но когда он делает подлости, он убежден, что воюет за принципы. Он готов, чтобы тебя уничтожить, приписать тебе фразы, которых ты не произносил, или сочинить нужные ему факты, это мне хорошо известно. Но делает все эти подлости Стоев, полагая, что, подтасовывая мелочи, он помогает торжеству правды по большому счету. Стоев убежден, что, к примеру, ты и я — люди неустойчивые, а для него неустойчивый человек — это потенциальный враг, а между потенциальным и реальным врагом он различия не делает, для него это несущественные подробности…
— Ничего себе подробности!..
— Для него — да. Стоев…
— Ты до того увлекся, что чего доброго изобразишь Стоева борцом за чистоту партии…
— Не бойся, не изображу. Но сам себя он считает борцом.
— Меня не интересует, кем он себя считает. Меня интересует, что он делает. Я не разделяю твоей страсти к самоцельному психологическому анализу…
В подобных случаях ты умолкаешь. С Василом спорить о Стоеве бесполезно, как бесполезно объяснять быку, что красное пятно, которое его раздражает, всего лишь невинный кусок красной материи.
Ты, разумеется, вовсе не считаешь, что Стоев — невинное явление. Ты просто хочешь видеть людей и вещи такими, какие они есть, а не упрощать их, как это для удобства делает Васил. И если в этом отношении у тебя есть перед Василом какое-то преимущество, то дело тут не в знании психологии, а в том, что твой конфликт со Стоевым возник не на личной почве.
Когда-то, еще давно, когда ты получил по конкурсу доцентуру, ты застал на факультете две враждующие группы. На заседаниях факультетского совета, на двух концах длинного стола, один против другого, садились Васил и Стоев. Свет из окна слева падал прямо на лицо Васила, вычерчивая его красивый, немного резковатый профиль. На другом конце стола, в тени, сидел Стоев, небольшого роста, полный, с круглым и гладким младенческим лицом, с реденькими рыжеватыми волосами и с немигающими, вечно удивленными круглыми глазами почти без ресниц, как у птицы. Стоев сидел спокойно, положив перед собой на стол полные руки с короткими пальцами. Иногда, когда Васил с другого конца стола стрелял в него саркастическими репликами, Стоев мягко барабанил своими полными пальцами по столу, и это было единственным проявлением недовольства или нетерпения, которое можно было у него заметить. От Стоева всегда слегка пахло камфарой. То ли он растирался камфарным спиртом, то ли у него были больные уши, но от него всегда пахло камфарой, даже когда он менял костюм. Он носил летом серый костюм, а зимой — темно-синий, оба одинакового покроя — с большими лацканами и широкими манжетами на брюках, вообще видно было, что материю не пожалели. Говорили, что, в сущности, у Стоева не два, а шесть костюмов, но три сшиты из одной и той же серой материи а три — из одной и той же темно-синей.
В начале Стоев показался тебе добродушным и флегматичным человечком, подвергающимся непрестанным и часто необоснованным наскокам со стороны вспыльчивого и чересчур самоуверенного молодого красавца. Человечка эти наскоки не пугали, он отвечал спокойно и бывал так логичен, что от убедительных на первый взгляд обвинений ничего не оставалось. Иногда он выставлял встречные обвинения, не горячась и не употребляя грубых слов, озабоченный единственно порядком на факультете. При каждом удобном случае он подчеркивал свою непримиримость ко всякой ереси и идейным шатаниям. А Васил выступал против лицемерной принципиальности некоторых людей, ясно давая понять, кто эти люди, против опекунства в научной работе, против казарменной дисциплины и бездушных наказаний.
На каждом заседании совета, когда дело доходило до прений, присутствующие выжидательно поглядывали то на один, то на другой конец стола: какая из сторон первой кинется в атаку? Начинал обыкновенно Васил. Он говорил горячо, делал язвительные замечания, вызывавшие смех, часто бывал прав, но трудно было освободиться от впечатления, что в словах его есть какая-то предвзятость, что главная его цель — уязвить декана и его вдохновителя — Стоева.
Стоев никогда не пытался блеснуть остроумием и оригинальностью. Его высказывания точь-в-точь походили на его статьи и доклады. Можно было заранее поручиться, что в них не встретится ничего, что не было бы общеизвестно и общепринято. Но в глазах самого Стоева это отсутствие оригинальности было не недостатком, а источником спокойной гордости. «Оригинальнее всего еретики, — любил повторять он. — Истина всегда звучит банально».
Когда ты получил доцентуру, Васил по-товарищески помог тебе войти в курс дела, сориентироваться в ритуале программ, учебных планов и расписаний. Но Стоев, хотя и без василовской экспансивности, тоже держался доброжелательно. «Они борются за вас, — смеясь, сказал тебе один из ассистентов. — Они борются за каждого новичка». Если они действительно боролись за каждого новичка, похоже было, что Стоев более опытный борец, потому что его поддерживали многие преподаватели, а вокруг Васила группировалось только несколько человек, главным образом из молодежи.
Ты не собирался присоединяться ни к тем, ни к другим. Ты всегда считал, что главное — идти своей дорогой, не слишком тревожась о том, сколько у тебя спутников и кто они такие. И все-таки вначале тебе казалось, что твоим спутником скорее может быть Стоев, чем Васил. Стоев боролся за порядок, за чистоту партийной линии и держался как скромный боец, который воюет отнюдь не для того, чтобы самому блеснуть.
Таким скромником, почти аскетом показался он тебе и в тот первый раз, когда ты был у него дома. Стоев предложил тебе написать для журнала, который он редактировал, статью против фрейдизма. Ты согласился, но сказал, что у тебя недостаточно материала, и тогда Стоев обещал дать тебе материалы и пригласил тебя домой.
Он жил в просторной мансарде с оштукатуренными стенами, скошенным потолком и длинными рядами полок, на которых теснились сотни томов политической и философской литературы. В одном конце мансарды стояла простая железная кровать, застланная солдатским одеялом, в другом — обычный канцелярский стол, заваленный книгами. На столе горела настольная лампа с зеленым стеклянным абажуром, бросавшая неяркий отблеск на большой портрет Сталина, который висел на стене над письменным столом.
— Ну, как идут лекции? — спросил Стоев, садясь за стол и зябко потирая свои полные руки.
— Пока трудновато. Не могу еще установить контакт с аудиторией.
— Это не самое важное. Самое важное — правильно и ясно излагать предмет. Если студент пришел на лекцию, чтобы овладевать наукой, он сам установит с вами контакт. Если же нет — виноваты не вы. Я принципиально против практики тех наших коллег, которые, стремясь установить контакт, отвлекаются от предмета или ищут забавные примеры.
Он взял со стола тонкую серую папку и протянул тебе.
— Вот вам материалы для статьи. Думаю, что этого будет достаточно.
Ты раскрыл папку, но в ней лежали лишь вырезки из пяти-шести статей против фрейдизма.
— Мне хотелось познакомиться с некоторыми работами самих Фрейда и Адлера, — застенчиво сказал ты.
— Вы бы только зря потеряли время, — мягко возразил Стоев. — Я, конечно, не против добросовестных исследований, но в тех материалах, которые я вам даю, уже извлечено все основное, что характерно для фрейдизма. Наша цель — не излагать их позиции, а громить их.
Он встал, уперся своими полными руками в письменный стол, как он это делал на факультетском совете, когда брал слово, и коротко, ясно и четко изложил, как он представляет себе план твоей статьи.
Ты сидел и слушал этого человека, от которого исходил легкий запах камфары, запах чистоты и стерильности, а тот пристально и спокойно смотрел на тебя своими круглыми, немного удивленными глазами, словно ему было странно, что приходится объяснять такие элементарные вещи.
В сущности, тогда и ты не видел вокруг столько сложностей, как теперь, и ты с почтением смотрел на невысокого человечка, спокойно и уверенно стоявшего за письменным столом, в зеленом свете лампы, под большим строгим портретом.
— Я вполне с вами согласен, — сказал ты, когда Стоев замолчал. — Мне только думается, что чем детальнее мы познакомимся с каким-либо учением, тем обстоятельнее и убедительнее сумеем его раскритиковать.
— Теоретически это так. Но дело в том, что нам некогда заниматься частностями. Мы ведем борьбу и в этой борьбе различаем друзей и врагов по нескольким основным показателям, а не по разным деталям. Нет необходимости считать, сколько у змеи ядовитых зубов, чтобы решить, стоит ее давить или нет. Раздавите змею, Александров, вот ваша задача.
Ты выполнил поставленную перед тобой задачу, написав статью по стоевским материалам, Стоеву статья понравилась, и она была опубликована в его журнале, на видном месте.
— Поздравляю тебя, — сказал Васил, который со второго дня знакомства перешел на «ты». — Я тоже противник Фрейда, но должен тебе сказать, что половина твоих цитат переврана.
— Я не мог найти оригинальных работ.
— Потому что не искал. У меня, например, они есть.
— Откуда мне знать, что у тебя есть.
— Тебе и ни к чему. Жми по стоевскому методу. Так легче.
— Тебе, видно, просто не нравится, что статью мне заказал Стоев.
— Нет. Мне не нравится, что она написана по-стоевски.
— Мне кажется, ты преувеличиваешь. Ты, вероятно, уже причислил меня к группе Стоева. Но я не собираюсь участвовать в ваших сражениях.
— Почему? Потому что так удобнее? Но молчание — это тоже форма участия, Александров. Молчание — это соучастие.
Вы поругались, и, может быть, с этой ссоры и началась ваша дружба. Ты понял, что в основе конфликта между Василом и Стоевым — не только личное соперничество, но и более серьезные мотивы. В сущности, личная вражда между ними разгорелась гораздо позже.
Входит санитарка и вносит ужин.
— Здесь страшно душно. Надо открыть окно, — говорит она.
Она ставит тарелки на столик и смотрит на тебя.
— Вы вспотели. Лучше выйдите в коридор, а я проветрю.
Ты встаешь и, накинув халат, выходишь в коридор. Коридор пуст, потому что он ведет только к боксам. Но дальше, за стеклянной дверью, идет коридор общих палат, и там несколько мужчин в серых халатах разговаривают, а вокруг них носятся дети. Странно, что до сих пор тебе даже в голову не приходило выйти из палаты и заглянуть туда. Ты лежишь целыми днями один и разговариваешь с людьми, которых нет и которые только прошли по твоей жизни. А жизнь вокруг совершенно тебя не интересует. Такого с тобой никогда не случалось. Значит, ты действительно серьезно болен.
— Готово, — говорит санитарка, открывая дверь.
Ты входишь в палату и садишься к столику, у потемневшего окна. Кислое молоко и пирог с брынзой. «Вкусные вещи», — говоришь ты себе ободряюще, хотя есть совершенно не хочется. Вкусные вещи, особенно если во время ужина думать о чем-нибудь другом.
В сущности, личная вражда между Стоевым и Василом вспыхнула намного позже. И виновато было это капризное существо, Маргарита, или, скорее, Васил, а может быть, Стоев и сам был виноват.
Маргарита пришла на работу к ним в деканат секретаршей. Она была хороша собой, и некоторые ассистенты не прочь были с ней полюбезничать, но она отвечала всегда довольно сдержанно. Единственный человек, к которому Маргарита явно испытывала интерес, был Стоев. Самое странное, что постепенно и Стоев начал проявлять к Маргарите внимание, засиживаться в деканате и даже, что было уж совсем невероятно, говорить с ней на неслужебные темы, например, о погоде. И в конце концов однажды пронесся слух, что накануне Стоев вышел с факультета вместе с Маргаритой и отправился ее провожать.
Стоев никогда не позволял себе действовать необдуманно, по наитию. Поэтому всем стало ясно, что он решил жениться и что брак его с Маргаритой — вопрос только времени. И правда, они стали часто вместе уходить с работы, их видели в ресторанах, кино и вообще в таких местах, где Стоев раньше никогда не показывался. Эта дружба продолжалась довольно долго, сослуживцы к ней привыкли и даже стали недоумевать, почему же дело все еще не доходит до брака — ведь все знали, что Стоев ничего не любит откладывать в долгий ящик. И вдруг однажды вечером Маргарита вышла из университета не со Стоевым, а с Василом.
Новость эта на следующий же день разнеслась по факультету. Стоев старался не показывать виду, что он задет, но все это заметили. Маргарита стала все чаще уходить с факультета вместе с Василом, а вскоре они поженились.
— Васил увел красавицу у Стоева из-под носа, — ухмылялись некоторые.
— Васила красавица ничуть и не интересовала. Он это сделал, только чтобы унизить Стоева.
— Это вы слишком. Может, он ее любит.
Ты никогда, ни тогда, ни позже не спрашивал Васила, как именно было дело, но однажды он сам тебе сказал:
— Все думают, что я женился на Маргарите, чтобы насолить Стоеву. А я, в сущности, оказал ему услугу. Не легко жить с таким вздорным существом, как моя дражайшая супруга.
— И все-таки ты увел ее у шефа нарочно.
— Глупости. Влюбился, потому и увел. А он чего волынку тянул? Решил жениться, а потом холостяцкие страхи одолели. Как будто девушка годами будет ждать, пока он раскачается.
— Ты увел ее нарочно.
— Да не собирался я ее уводить. Это только Стоев все подстраивает заранее. Теперь вот он решил меня уничтожить.
Стоев действительно делал все возможное, чтобы скомпрометировать Васила. Вначале он остерегался открытых действий, вероятно, чтобы не подумали, что он задет историей с Маргаритой. Но когда эта история позаглохла, Стоев ринулся в атаку.
Стоев редко действовал в открытую. Это было не в его характере, да и зачем идти напролом, когда хватает друзей. То есть друзей-то у него как раз и не было. У него не было ни одного друга, но зато он повсюду располагал «своими людьми». Стоило Василу напечатать статью, как появлялась сокрушительная рецензия, обвинявшая его во всевозможных идейных грехах. На факультетском совете его критиковали за то, что он ослабил дисциплину, не следит за посещаемостью и щедро заверяет зачетки всем прогульщикам, удостоверяя их участие в семинарских занятиях. В министерство летели доносы о порочном характере его лекций. Ему дали выговор за то, что якобы с его благословения какой-то студент сделал принципиально неверный доклад.
— Он решил меня уничтожить, — повторял Васил, — но мы еще посмотрим кто кого. Скоро все его подлости всплывут на поверхность.
Оба противника подстерегали каждый шаг и каждое слово друг друга, советовались с друзьями, собирали сплетни и слухи. Это была борьба без пощады, на измор, но на Стоева она словно не оказывала никакого влияния — он оставался таким же спокойным и тихим, все с тем же младенчески гладким лицом и круглыми глазами без ресниц, похожими на птичьи. Зато Васил все заметнее выдыхался, нервы сдавали. Когда он сидел на конце стола и свет падал на него из окна, он часто моргал, словно у него щипало глаза, или застывал, бессмысленно уставясь в пространство, и в такие минуты лицо его выглядело усталым и отсутствующим.
Разумеется, Васил не выходил из игры, держался все так же уверенно, даже вызывающе, но в его резких движениях и ядовитых репликах чувствовалось нервное напряжение. Он начал после работы заглядывать в кафе, чтобы выпить рюмочку коньяку, но дело редко ограничивалось одной рюмочкой, и эти попытки рассеяться еще больше увеличивали усталость.
Да, он растрачивает себя, твой приятель, а вместе с ним и ты, и какая вам радость от того, что правда на вашей стороне, а не на стороне Стоева, если у вас не хватает сил выиграть сражение, и вы только растрачиваете себя. Какая вам радость, а?
*
— Возьмите градусник!
Комната выглядит сумеречной и зыбкой, потому что еще не совсем рассвело и потому что ты не до конца проснулся. Ты машинально берешь градусник, ложишься и поворачиваешься к стене, чтобы досмотреть прерванный сон. А снилась тебе Сашка, но чем сильнее ты хочешь ее увидеть, тем больше она расплывается, как будто ты смотришь на нее сквозь слезы, хотя поднять веки тебе мешают не слезы, а клейкий сон.
— Дайте градусник!
Голос доносится издалека, настолько издалека, что ты не уверен, действительно ли ты его слышал или тебе показалось, и на всякий случай ты продолжаешь лежать, с головой закутавшись одеялом.
— Вы что, опять уснули?.. Дайте градусник…
Ты высовываешь голову и подаешь градусник. Сестра смотрит на него бегло, потом более внимательно, потом стряхивает привычным жестом и ставит в баночку к другим градусникам.
«Сколько?» — собираешься ты спросить, но тебе так хочется спать, что ты ничего не спрашиваешь и только смотришь сквозь полуприкрытые веки, как сестра выходит из комнаты. Плохо то, что тебе больше не дадут спать. Скоро принесут завтрак, потом придут убирать, потом — лекарства, потом — второй завтрак, врач и прочее. Кроме того, сегодня, может быть, пустят детей, значит, тебе не мешало бы встать и побриться.
Ты встаешь, идешь в ванную и подходишь к зеркалу над умывальником. Когда-то, и не так давно, говорили, что ты красивый мужчина. Сейчас ты похож на старика. Больного старика. Лоб у тебя гармошкой, волосы седые, под глазами мешки, щеки ввалились. А ко всему еще эта желтизна, которая как яд расползлась в твоих зрачках и по коже и сделала твое лицо почти незнакомым, словно это лицо другого человека.
Бритье. Удивительно противная операция. Всю жизнь повторяешь ее раз в день и все не можешь с ней смириться. Иногда, разумеется, ты пытаешься не думать о бритье, но в таких случаях ты режешься.
В ванной страшно пахнет карболкой, гораздо сильнее, чем в палате. Здесь все воняет карболкой, и тебе кажется, что это запах смерти. Может быть, тот, кто лежал в этой палате перед тобой, умер недавно, в такое же хмурое утро, и они набросили на его лицо одеяло и вынесли его, а потом долго опрыскивали все карболкой, чтобы смыть следы смерти, не понимая, что запах карболки — это и есть запах смерти.
Ты открываешь окно, чтобы прогнать хотя бы ненадолго этот раздражающий сладковато-горький запах, но с улицы врывается ледяной ветер, и ты снова быстро закрываешь окно. Ветер сильный, он рвет голые ветки деревьев в парке, но это не позавчерашний ветер, теплый и влажный, а сухой и холодный ветрище, который сковывает все вокруг.
Пока ты моешься под обильной тепловатой струей, и потом, когда ты пьешь чай, и еще позже, когда ты ждешь, лежа в постели, пока санитарка покончит с уборкой, ты все возвращаешься к прерванному сну и к побледневшему образу Сашки, смутному и расплывшемуся, словно ты смотришь на него сквозь слезы.
Сашка была самой примерной слушательницей твоих лекций. Она всегда садилась в первом ряду, почти у самой кафедры, и смотрела тебе в рот, точно боялась упустить хоть слово. Она так внимательно слушала твои лекции и так сосредоточенно смотрела на тебя, что ты привык угадывать по ее лицу, хорошо ли ты сегодня читаешь или скучно, и иногда тебе казалось на минуту, что ты не читаешь лекции всему курсу, а просто разговариваешь с Сашкой, окруженной множеством неясных, а может быть, и нереальных молодых физиономий.
Однажды, в конце второго семестра, Сашка вышла за тобой из аудитории и остановила тебя в коридоре:
— Товарищ Александров, я хотела вас попросить…
— В чем дело?
— Я боюсь, как бы вам это не показалось нахальным, но это мой последний семестр, и просто решается моя судьба…
— Хорошо, хорошо. Но в чем же дело?
— Я хотела вас попросить, чтобы вы попросили… как глупо получается… чтобы вы попросили товарища Васила Пеева заверить мою зачетку. Я знаю, что я пропускала, но это было не по моей вине, и будет ужасно, если меня оставят еще на семестр…
— Дайте мне вашу зачетку.
Ты отнес зачетку Василу, и он, разумеется, тут же заверил ее и был даже слегка удивлен твоей адвокатской речью, потому что он и без того редко отказывал студентам.
Сашка ждала тебя у выхода, и ты подал ей зачетку, ощущая смутное удовольствие от того, что сделал доброе дело:
— Готово.
Девушка благодарно улыбнулась, а ты кивнул ей на прощанье и пошел своим обычным быстрым шагом, словно за тобой кто-то гнался. Но Сашка тоже пошла рядом с тобой, и ты замедлил шаг и посмотрел на нее, думая, что она хочет еще что-то тебе сказать.
— Я не испорчу вам репутацию, если пройду немного с вами? Мне в ту же сторону.
— О, репутацию!.. — сказал ты и небрежно махнул рукой.
И вы пошли рядом по Русскому бульвару и миновали то самое место, где ты когда-то в последний раз разговаривал с Риной, и ты шел молча, уйдя в свои мысли, пока Сашка не сказала:
— У вас слава ужасно серьезного человека.
— Одинокие люди всегда серьезны. Что еще им остается… — ответил ты.
— Что еще? Не быть такими одинокими, — засмеялась Сашка.
— Для этого нужно много свободного времени. И немного везения, — заметил ты и тоже попытался улыбнуться.
— А вам разве не везет?
— Может, и везет. Но как-то так, что я этого не замечаю.
Вы продолжали идти по бульвару, в зеленой тени каштанов, и разговаривали о везенье — лишь бы не молчать, а потом вы дошли до парка и остановились у пруда, засмотревшись на отражения деревьев в тихой воде. В эту минуту громкоговоритель пивной хрипло прокашлялся, словно прочищая горло, и вдруг, точно дразня тебя, зазвучала мелодия «Мне снилось, что ты рядом». И поскольку перед этим вы говорили о везенье, ты подумал, что если Сашка пошла с тобой, намереваясь пофлиртовать, то ей решительно не везет — в этот день все как будто нарочно напоминало тебе о Рине и заставляло грустить о прошлом.
Девушка, стоявшая рядом, посмотрела на тебя украдкой, словно пытаясь угадать твои мысли.
— Славная песенка, правда?
— Кому что нравится, — ответил ты суховато.
— Может быть, она напоминает вам о чем-то неприятном?
— Старые песни всегда о чем-то напоминают старым людям.
— Вы совсем не старый. Вы…
Сашка смущенно замолчала.
— Какой же я? — спросил ты без особого любопытства.
Она медленно подняла на тебя глаза, и на лице ее ты увидел волнение:
— Вы самый лучший человек… для меня…
Женщины всегда именно так тебя и ловили, предоставляя тебе самодовольно радоваться тому, что ты их покорил. И ты действительно их покорял, но после того как они делали все необходимое, чтобы никакая заминка не помешала нормальному ходу покорения. Так было с Риной, так было с Сашкой, так позже случилось и с Милой.
Ты догадался о хитростях Сашки тогда, когда вы давно уже были женаты:
— В сущности, почему ты дала свою зачетку мне, а не пошла сама к Василу?
— Я боялась, что он мне откажет.
— Глупости. Васил никому не отказывал.
— Ну а если ты догадался, зачем же ты спрашиваешь? — засмеялась Сашка.
На этом разговор закончился.
Тебе, вообще-то говоря, никогда особенно не везло в любви, но Сашка была исключением. Может быть, потому, что ваша любовь была любовью-дружбой? Это абсурдно, но ты был привязан к жене скорее как к другу, чем как к женщине. Сашка не отличалась особой женственностью. Лицо у нее было красивое, но казалось скорее лицом девочки, а не зрелой женщины. А фигура была такая, что Васил однажды сказал: «Твоя похожа на доску, но она хоть добрая, а моя — очаровательная гадюка». Когда ты в первый раз увидел ее с младенцем на руках, с вашей дочкой, тебе пришло в голову, что она этого младенца где-то украла… В сашкиной походке, в ее жестах и манере говорить была какая-то мальчишеская твердость и угловатость. И все-таки она была именно той женщиной, какая необходима мужчине вроде тебя.
Она работала учительницей и вела хозяйство, и позже заботилась о детях, и всегда находила время заниматься и твоими делами, обсуждать с тобой то, что тебя мучило, и давать тебе советы, которым ты, разумеется, редко следовал. Она никогда не навязывалась тебе и в то же время всегда присутствовала в твоей жизни, и это ее присутствие создавало у тебя ощущение надежности и порядка, потому что, если что-то приключалось, Сашка знала, как это исправить, и даже если не в силах была исправить, всегда была готова вместе с тобой терпеливо переносить все трудности.
Она так тебя понимала и так читала твои мысли, что, казалось, ты можешь разговаривать с ней, не произнося ни слова. Разумеется, в этом были и свои неудобства, потому что не всегда хочется, чтобы твои мысли читали. Когда родилась ваша первая дочка, Сашка спросила, как вы ее назовете, и ты, не задумываясь, сказал:
— Катерина.
— Почему Катерина?
— Так звали мою бабушку…
— Твоя бабушка, наверное, была красивая женщина…
Ты небрежно кивнул.
— И молодая…
— Все бабушки сначала бывают молодыми.
— Я хочу сказать, когда ты с ней познакомился.
Сашка очень смеялась над твоей бабушкой, но чтобы тебя не огорчать, согласилась назвать девочку Катериной, однако записала ее не Катериной, а Катей, и ты все равно оказался в дураках, потому что между Катей и Риной примерно столько же общего, сколько между Риной и Пенкой.
Иногда вы спорили или даже ссорились, например, когда решали вопрос, отдавать ли Катю в детский сад, потому что ты хотел, чтобы Сашка ушла с работы и сидела дома с девочкой, а она не согласилась, и Катя стала ходить в детский сад. Но эти ссоры тоже были ссорами друзей, деловитыми и короткими, без озлобления и без задних мыслей. Сашка была именно такой женщиной, какая была тебе нужна, но ты по глупости продолжал иногда мысленно возвращаться к Рине, а когда в гости приходила Мила, закидывала ногу на ногу и смеялась своим грудным смехом, в голове у тебя творилось черт-те что.
В сущности, ты по-настоящему понял, чем для тебя была Сашка, только когда Сашки не стало. Ты вернулся с кладбища в опустевший дом, совсем опустевший, поскольку детей ты отправил к родственникам, открыл гардероб, чтобы повесить свой черный костюм, и увидел сашкины платья, аккуратно развешанные, но уже не нужные, и на тебя пахнуло ее духом, духом чистоты и мыла, ее дыханием… а ее уже не было.
— Ну, как мы себя чувствуем? — спрашивает, входя, врач, и улыбается своей красивой белозубой улыбкой.
— Хорошо, — бормочет человек в пижаме и щурится от света.
— Вы как будто дремали…
— Нет, нет…
— Я спрашиваю потому, что это для нас существенно. Дайте я вас посмотрю.
Больной подымает пижаму, и пока его щупают, сонным взглядом смотрит в окно. Небо за окном высокое и бесцветное, и дует ледяной ветер, от которого деревья в парке пригибаются к земле, словно готовятся бежать.
— Зима вернулась, — говорит врач, перехватив взгляд больного. — Ничего, это уж в последний раз.
— Последний раз в этом году, — уточняет человек в пижаме. — Подумать только, сколько еще будет зим и сколько весен, когда нас уже не станет…
— Это что еще за мысли? — говорит врач, приподымая темные брови. — Перестаньте. Вы должны думать только о хорошем. Тогда вы скорее выздоровеете.
Больной кивает. Разумеется, совершенно верно. Ведь первую помощь человек оказывает себе сам.
— Вы, видимо, слишком много думаете и мучаете себя этими мыслями. Поэтому у вас поднимается температура. Не надо так. Отдыхайте. О серьезных вещах вы будете думать, когда мы вас выпишем.
Больной снова кивает. Врач ободряюще улыбается и выходит. Через мгновенье показывается санитарка:
— Вас хочет видеть ваш знакомый. Прямо не понимаю, как он вошел. Сегодня никого не пускают.
«Васил, — думает больной, вставая и надевая халат. — А детей, наверно, опять не пустят. Напрасно притащатся в такой холод».
Он открывает окно и высовывается. Внизу на аллее действительно стоит Васил. Он приветливо подымает руку и кричит, преодолевая ледяной ветер:
— Ну как, старик? Получше?
— Получше, — вяло улыбается человек в пижаме.
— Продолжай в том же духе! Я ж тебе сказал: ты справишься с этим гепатитом легче, чем с насморком. Только не высовывайся на холод. Отойди подальше. Я все равно тебя вижу.
Больной отодвигается от окна, потому что ветер действительно пронизывает.
— А у вас что нового? — спрашивает человек в пижаме.
— Ничего особенного, — отвечает Васил, отводя взгляд.
«Значит, что-то есть, — думает больной. — Васил всегда отводит глаза, когда пытается соврать».
— Если что случилось, не нужно от меня скрывать. Я ж тебе сказал — мне лучше, так что не старайся меня щадить.
— Чего ты добиваешься? Говорю тебе, ничего не случилось.
— Случилось. Напрасно скрываешь. Если ты мне не скажешь, это будет еще больше меня мучить.
— Отвергли твою книгу, — говорит Васил. — Опять Стоев и его дружки. Вечная история. Но ты не тревожься. Мы это дело так не оставим…
— А чем они мотивируют?
— Чем они могут мотивировать! Стоевские мотивировки: «неправильная постановка вопроса», «спорные места», «раздувание частных проблем за счет основных принципов» и прочее в том же духе. Стоевские приемы, иезуитская забота об авторе, которому, мол, окажут плохую услугу, если выпустят книгу в таком виде… Но ты не тревожься.
— Будь спокоен. Я не собираюсь тревожиться.
— Все образуется. Есть и другие инстанции. Ну, теперь закрывай, а то вон какой ветрище!
Васил моргает, словно пытается что-то вспомнить или у него щиплет глаза. Больной послушно закрывает окно и через стекло машет на прощанье рукой. Васил тоже машет рукой, улыбается и идет, слегка согнувшись под напором ветра.
Значит, Стоев сумел нанести тебе еще один удар. Следовало бы их считать, что-то много их набирается. Когда-то, после одного такого же поражения, Сашка сказала, лежа рядом с тобой в темноте:
— Ты, Петё, еще не овладел искусством жить.
— Искусством жить? Для меня это искусство выносить удары.
— Глупости. Это искусство избегать ударов.
— Иногда лучше вынести удар, чем его избежать. Избегают ударов обычно ценой компромиссов.
— Да, но если ты постоянно подставляешь себя под удары, тебя в конце концов уничтожат.
Ты тогда не согласился с ней. Ты редко с ней соглашался, разве что по житейским делам. Может быть, потому ты сейчас и чувствуешь себя почти уничтоженным.
— Твоя беда в том, что ты недостаточно силен, чтобы добиться своей цели, и недостаточно слаб, чтобы отступиться от нее.
Это, разумеется, верно. Но если взглянуть на дело философски, человек никогда не бывает силен достаточно. Значит, ты должен быть силен хотя бы настолько, чтобы не отступаться, пусть даже Стоев тебя уничтожит, или Рина уйдет из твоей жизни, или «Труд» останется лежать незаконченным в ящике стола.
В сущности, вот почему Васил действует на тебя угнетающе. Он постоянно говорит тебе о Стоеве. А если даже не говорит, постоянно напоминает о Стоеве. Васил ненавидит Стоева, но Стоев превратился для него в идею фикс, он постоянно несет в себе этого человека и не может от него избавиться, потому что Стоев проник в него самого, завладел им, вытеснил из его сознания все другое.
Самое страшное, что Стоев все больше проникает и в тебя. При каждом своем шаге ты спрашиваешь себя, как истолковал бы его Стоев, если бы он о нем узнал. Произнося какое-то слово, ты думаешь, как бы его вывернул Стоев, если б услышал. На каждой строчке своего «Труда» ты спохватываешься: в каких еще смертных грехах обвинит тебя Стоев, когда прочтет. Ты пытаешься закрыть на это глаза, но, в сущности, давно уже видишь, что засевший в твоей голове Стоев гибельно отражается на твоем «Труде». Не потому, что из-за Стоева ты идешь на компромиссы, а потому что ты так поглощен мыслью отразить все возможные нападки Стоева, что вместо того, чтобы разрабатывать самые идеи, бросаешь все силы на строительство мощных оборонительных укреплений. И эти мощные оборонительные укрепления воздвигаются для того, чтобы защитить жалкие крохи оригинальной мысли.
Впрочем, раз твоя книга отвергнута, «Труд» вообще превращается в фикцию. «Труд»… Ты действительно не в себе… Да ведь стоевы с помощью двух-трех легких подтасовок немедленно превратят этот труд в рупор идеализма, метафизики и мистицизма. Разве ты не видишь, как Стоев, выступая на редакционном совете, упершись своими полными ручками о стол, произносит кротким доброжелательным голосом: «Примат эмоционального над рациональным»… «Проповедь субъективизма»… «Фрейдизм, преподнесенный под соусом марксистской терминологии»…
«Труд»… Соломинка, за которую хватался утопающий. Да и та сломалась.
В сущности, все это не совсем так. Если бы ты так не заупрямился, ты бы мог отойти в сторонку, и тебя оставили бы в покое.
Глупости. Стоев никогда не удовлетворится тем, что ты просто отойдешь в сторону. Ведь он бы счел, что ты окопался и выжидаешь. Вот если бы ты пошел к Стоеву на поклон и примкнул к его группе, тогда тебя действительно оставили бы в покое. У тебя даже не стали бы требовать, чтобы ты особенно афишировал свой переход к Стоеву. Тебя просто оставили бы в покое. Свой человек, пусть себе отдыхает. Свой человек, пусть занимается своим делом.
Этого, разумеется, никогда не будет, но это единственный выход. Другие пути были, пока ты не вступил в игру. Но ты давно вступил в игру, и другого выхода теперь нет. А поскольку и этот единственный выход для тебя не существует, можешь сказать прямо, что положение безвыходно.
Ты не в состоянии ничего сделать, если ты не пойдешь к Стоеву на поклон, но если ты ему поклонишься, ты вообще потеряешь способность работать, потому что перестанешь уважать самого себя. Диалектика безвыходности. И еще в тебе говорит отвращение к тому, что когда-то было тебе близко, и именно поэтому кажется тебе теперь особенно отвратительным. Слова Стоева всегда напоминают тебе тот уродливый бюстик, который ты сунул в шкаф вместе с другими ненужными вещами и который по идее должен изображать Ленина. Позолота его напоминает по цвету латунный замок, на подбородке и носу краска облупилась, но это не самый большой его недостаток. Самый большой его недостаток то, что эта зализанная физиономия с мертвыми остекленевшими глазами, изготовленная каким-нибудь базарным ремесленником, не имеет ничего общего с лицом Ленина. Просто ужасно — любой бессовестный невежда изготовит своими бездарными руками какого-нибудь уродца и будет требовать от тебя уважения к этому уродцу, навесив на него святое имя. Этот бюстик, разумеется, не Ленин, но ты все-таки не можешь его выбросить, потому что он «представляет» Ленина, и ты вынужден держать его в шкафу среди ненужных вещей.
Тебе не следовало бы об этом думать. Не следовало бы непрерывно и сознательно бередить свои раны, но ты их бередишь, потому что все они всегда при тебе, всегда в тебе, в том числе и эта тягостная и мучительная язва, которая называется Стоев.
Все началось после твоего второго визита к Стоеву. На кафедре был объявлен конкурс на место доцента. Единственным кандидатом был Велев, и тебе было поручено написать рецензию на его научный труд. Через два дня после того, как ты представил рецензию, Стоев встретил тебя в коридоре и предложил зайти к нему домой, обсудить кое-какие вопросы.
Был вечер, и тебе показалось, что стоевская мансарда ничуть не изменилась, словно ты приходил сюда вчера, а не пять лет назад. Только на стене, на месте больше го портрета, выделялся светлый прямоугольник.
— Как видишь, снял, — спокойно сказал Стоев, заметив твой взгляд. — Снял, хотя я не люблю перемен.
— Повесь что-нибудь другое. Очень уж некрасивое пятно.
— Это означало бы еще одну перемену. Не люблю перемен.
Стоев предложил тебе сесть и сам уселся за письменный стол.
— Так вот, я хотел поговорить с тобой о твоей рецензии. Мне кажется, тебе следовало бы взять ее назад и несколько переработать.
«Я тоже не всегда люблю перемены»… — хотелось тебе сказать, но ты промолчал, потому что эта фраза показалась тебе слишком василовской.
— Ты должен переработать рецензию, — повторил Стоев. — Это поможет провести конкурс на более высоком уровне.
— Что, по-твоему, я должен изменить?
— Общую оценку и заключение.
— Ты хочешь сказать, что я должен вместо положительной оценки дать отрицательную?
Стоев кивнул.
— Именно. В работе Велева есть спорные места. А есть и явно ошибочные.
— Я отметил и то и другое.
Стоев снова кивнул:
— Верно. Но ты подчеркнул положительные стороны.
— Потому что они преобладают. И потому что они важнее. Исследовательская работа не может быть застрахована от ошибок. Тем более, что автор — человек молодой, начинающий…
— Нельзя решить, что преобладает — положительные моменты или слабости, если просто сопоставлять количество тех и других. И именно потому, что автор молод, мы должны предостеречь его от опасных увлечений.
— Я не вижу в его увлечениях ничего опасного. В работе Велева нет попытки ревизовать марксизм. Наоборот, работа эта весьма полезна и актуальна.
— Можешь не излагать мне свою рецензию, — кротко сказал Стоев. — Я ее уже читал. А прежде чем ее прочесть, я говорил с Велевым. Сообщил ему свои замечания. И он задумался. Вероятно, он согласится переработать свой труд и подать на конкурс в будущем году…
— Когда и твой воспитанник Савов закончит свою работу и будет с ним конкурировать…
Стоев мягко побарабанил своими короткими пальцами по столу, словно пробовал клавиши рояля:
— Я об этом не думал. Но если бы и так, что ты видишь в этом плохого? Место получит тот, кто его заслуживает.
— У меня создалось впечатление, что ты просто стремишься помешать Велеву.
— Ничуть. В сущности, мешаешь ему ты. Хлопаешь его по плечу и тем сбиваешь с толку. Посмотри еще раз, что ты написал, и увидишь, что я прав.
— Сколько бы я ни смотрел, не думаю, что я мог бы что-либо изменить. В конце концов у меня свои принципы.
Стоев взглянул на тебя своими удивленными немигающими глазами:
— По правде говоря, Александров, с некоторых пор я перестал понимать твои принципы. Что это у тебя за личные принципы, которые, очевидно, мне недоступны?
Мгновение ты колебался. Но потом решил, что тебе не остается ничего другого, как поднять забрало:
— Мои принципы — это те самые принципы, которые и ты исповедуешь публично…
— А если это так?..
— А если это так, остается только одно объяснение: мы, видимо, по-разному их толкуем.
— Например?
— Примеров сколько угодно. Ты на словах признаешь, что все подлежит изменению и развитию, но на практике не допускаешь никаких изменений и никакого развития. Ты говоришь, что процесс познания истины — это бесконечный процесс приближения к истине, но фактически ты уверен, что абсолютная истина заключена в папке с твоими лекциями…
— Ясно, — сухо прервал тебя Стоев. — Так я и думал: и ты поддался этой заразе.
— Если мысли Ленина — зараза…
— Не припутывай сюда Ленина. Для иных людей Ленин превратился в удобное средство маскировки. Зуд разрушения не дает им покоя. Мы сняли это, — Стоев показал на светлый прямоугольник у себя над головой, — зачем же останавливаться? Давайте крушить и другое, и третье, пока не перевернем все вверх дном.
— В сущности ты о ком говоришь? Обо мне или так, вообще?
— Я говорю вообще. А ты делай для себя выводы.
— Ты бы тоже мог сделать для себя некоторые выводы. Ленин развил Маркса.
— Именно, — спокойно кивнул Стоев. — Развил, но не извратил. А сейчас кое-кто полагает, что творческий марксизм — это значит делай все, что взбредет в голову, только не забудь повесить вывеску «марксизм».
— Ты снова начинаешь говорить вообще.
— А ты подумай над тем, как проявляется это «вообще» в некоторых частных случаях.
— Что ты хочешь этим сказать?
Стоев ничего не сказал, а перевел свой удивленный взгляд на окно, словно за темным стеклом вдруг появилось что-то чрезвычайно интересное.
— Что ты хочешь этим сказать? — повторил ты с раздражением.
Но Стоев продолжал удивленно и сосредоточенно смотреть на ночь за окном, будто он остался в комнате один, а ты со злостью глядел на его жирный, поросший рыжеватым пухом, упрямый загривок и с отвращением вдыхал легкий, едва уловимый запах камфары. Потом Стоев снова повернулся и уставился на тебя своими круглыми немигающими глазами:
— Не надейся услышать от меня что-нибудь такое, что ты мог бы завтра использовать против меня.
— Не беспокойся. Что бы ты ни сказал, за эти стены ничего не выйдет.
— Я и не беспокоюсь. И если меня все-таки что-то тревожит, то это только твое будущее, Александров. Ты готовишься стать профессором…
— А вместо этого могу перестать быть доцентом, не так ли?
Стоев покачал головой:
— Не в этом дело, хотя и это не исключено. Ты готовишься стать профессором, а между тем незаметно для себя превращаешься в ученика некоторых недостойных людей…
— А, ясно. Добрались до Васила.
Стоев замолчал. Только его полные пальцы мягко барабанили по столу.
— Я, разумеется, знаю, что ты с Василом на ножах, и это твое право. Но не забывай, что Васил честный человек.
Стоев поднимает на тебя свой неподвижный взгляд:
— Допускаю, что сам он считает себя честным. В каком-то смысле он может быть и в самом деле честен. Но встречаются честные люди, которые приносят массу вреда. Наша задача — не кокетничать своей честностью, а служить нашему общему делу.
— Ты, очевидно, считаешь, что нашему общему делу служат только те, кто всегда и во всем согласен с тобой…
— Не со мной, а с теми позициями, которые я защищаю.
— Да, конечно. Только кто дал тебе привилегию считать, что ты один стоишь на правильных позициях?
Стоев слегка повел своими пухлыми плечами, показывая, что не находит нужным отвечать на подобные вопросы.
— А я думал, что вас с Василом разделяют не столько принципы, сколько женщина, — сказал ты, хотя понимал, что говоришь это зря.
Короткие толстые пальцы застыли на крышке стола:
— Ошибаешься. Нас разделяют именно принципы. Та женщина была лишь бытовым инцидентом. Она не имеет отношения к делу. Как, впрочем, и Васил. Речь идет о тебе. Я не забыл, как хорошо ты работал в прошлом, и полагаю, что ты мог бы так же работать и в дальнейшем. Если ты сядешь и поработаешь над рецензией, я увижу, что ты склонен прислушиваться к моим дружеским советам.
Его слова звучали вполне доброжелательно. «Угрозы Стоева всегда звучат доброжелательно», — как говорит Васил. До этого дня ты занимался своим делом, не примыкая ни к одной из групп, и твоя дружба с Василом была просто личной дружбой. Но теперь тебе предъявили ультиматум, и надо было сделать выбор.
Ты, разумеется, не забрал свою рецензию и не изменил ее. Ты прочел ее на совете, подчеркивая каждое слово, а потом началось обсуждение. Стоев поднялся в темном углу зала, оперся своими полными руками о стол и устремил удивленный взгляд куда-то повыше твоего плеча. Он говорил коротко, логично и доброжелательно. Несколько человек его поддержали. Васил и еще двое возразили ему. Потом было голосование, и Велев провалился.
Однако, самое неприятное случилось позже. Ты повел изнурительную борьбу в защиту Велева, а Велев отказался от твоей защиты. Как человек более практичный, он понял, что со Стоевым лучше жить в мире, и согласился с его рекомендациями. Велев даже ходил к Стоеву советоваться, переработал свой труд и на следующий год был выбран доцентом при горячей поддержке самого Стоева, тем более, что Савов — протеже Стоева — еще не закончил к тому времени своей книги.
А ты так и не стал профессором. Мало этого — место, о котором ты столько лет мечтал и которое одно только вполне соответствовало твоей настоящей специальности, было отдано не тебе, а Велеву. Так Стоев сумел нанести тебе с помощью одного человека два удара сразу. «Мастер спорта», — как говорит Васил.
Больной сидит на постели у окна и рассеянно прислушивается к шуму, доносящемуся из коридора. Значит, начали разносить обед. Здесь все движется в установленном порядке. А у тебя все — хаос. И вся твоя жизнь хаос, несмотря на расписание лекций, которое висит на стенке над столом. Хаос, неразбериха, одно еще не закончено, другое уже рушится. Кран в ванной вечно течет и по ночам не дает тебе спать. Окно в кабинете плохо закрывается и из него постоянно дует. Кате давно пора купить новое пальто. Лежат неоплаченные счета — по ним обычно платила Сашка, а теперь тебя будут штрафовать. С Милой — затруднения. Сложности с детьми. Неприятности с деканом. Стоев. «Труд»… Хаос и неразбериха.
Когда ты заговариваешь об этом с Василом, он пожимает плечами:
— Что ты хочешь? Это жизнь. Это норма. Всегда что-то улаживаешь и всегда что-то остается неулаженным.
— Нет, это не жизнь. Жизнь должна быть не такой.
— А! Что должно быть и что не должно быть — это другой вопрос. Ты просто раб своей доцентской мании — все классифицировать и раскладывать по полочкам.
Мания. Желание навести в своей жизни хоть какой-то порядок в глазах Васила — мания. А день и ночь думать о Стоеве — это не мания.
Санитарка входит с тарелкой супа в руках.
— А, вы уже приготовились, — улыбается она, увидев, что больной сидит за столиком у окна. — Я ж вам говорила, что аппетит появится.
Человек в пижаме кивает и неохотно опускает ложку в горячий суп. Протертый суп с неприятным запахом картошки. Аппетит, как же. Санитарка ставит на столик второе и третье и выходит.
Снова мясо. Человек в пижаме отодвигает тарелку с мясом на другой конец стола. Ведь от него пахнет. Не испорченным, а мертвечиной. И находятся же люди, которые едят эту дохлятину. А на третье хоть бы дали компот вместо этого огромного ломтя желтого кекса.
Больной съедает суп и пол-желтого ломтя, а потом ложится и пытается выбросить из головы весь хаос неприятностей, чтобы заснуть. Он зябко закутывается одеялом, потом подтыкает его еще раз — более плотно, потом — еще раз, как будто, завернувшись в одеяло, он спрячется от хаоса. Но хаос сидит внутри него, больной не может его прогнать, и наконец забывается и засыпает вместе со своим хаосом.
Его будят — пора ставить градусник. Этот градусник так упорно суют по два раза в день, как будто от него может понизиться температура.
— Опять то же самое, — говорит сестра, глядя на градусник.
Ты не знаешь, что «то же самое», и не слишком этим интересуешься. Тебя гложет какое-то беспокойство. У тебя такое ощущение, как будто сейчас придут дети или может быть они уже пришли и их не пускают, или они стоят внизу на аллее и ждут, когда ты выглянешь. Едва сестра закрывает за собой дверь, ты подходишь к окну и вдруг действительно видишь детей, но не внизу на аллее, а прямо напротив окна, на больничной ограде.
Ты открываешь окно и только тогда слышишь, как девочки кричат: «Папа, папа!» Может быть, они зовут тебя уже давно, их лица раскраснелись от холода и возбуждения, но ты слышишь их только сейчас и машешь им рукой, и они тоже тебе машут, обрадованные и успокоенные твоим появлением. Анче сидит на заборе и весело болтает ножками, а Катя только выглядывает из-за ограды.
— Как вы сюда забрались? — спрашиваешь ты, как будто это самое важное.
— Здесь куча песку! — кричит Катя.
— Папа, мы и вчера приходили, но нас не пустили, — говорит малышка.
— Меня спрашивали по-болгарскому, — говорит Катя. — Я получила шестерку.
— Папа, радио перестало играть. Вчера играло, играло и замолчало, — жалуется Анче.
— Вот вернусь, и мы его починим. Ты только не шали.
— Я не шалю.
— Ну, идите, а то ветер очень холодный. Приходите только когда не так холодно.
Ты машешь рукой, чтобы дети уходили, но они отлично чувствуют себя на ограде, это настоящее приключение, и они ужасно горды, что сумели перехитрить привратника. Наконец, Катя подхватывает малышку, которая продолжает тебе махать. Ограда пустеет. Стоять у окна больше незачем.
Вот в чем главный вопрос. Не «Труд» и не Стоев, а дети. Из-за того, что твою книгу отвергли, дети останутся без гроша, если с тобой что-то случится. Васил, разумеется, сделает все, что сможет, но что может Васил? Книга, которую однажды не приняли, — это как человек, уволенный с взысканием. Она будет кочевать из издательства в издательство, валяться на редакторских столах, пока не погибнет окончательно. Велика важность. Если б только не дети.
Ты сидишь на кровати и думаешь обо всем этом, а окно постепенно темнеет, становится синим, потом темно-синим, потом — черным, и в голове у тебя тоже темно, и в темноте беспокойно шевелятся неясные видения хаоса. Потом приносят ужин, и ты немного отдыхаешь от утомительного напряжения, а потом сестра желает тебе спокойной ночи — что ж, прекрасное пожелание.
Ты лежишь в темноте, прямо против тебя окно, густо-синее, а по стене медленно, через неравные промежутки времени, ползут наверх и исчезают светлые отблески далеких фар.
Если бы Сашка сейчас была с тобой, ты мог бы поговорить с ней о разных вещах, как делал раньше, когда она лежала рядом и тихо и ровно дышала в темноте. Разумеется, ты едва ли послушался бы ее советов, потому что такой упрямец, как ты, редко кого-нибудь слушается, но все равно приятно знать, что думает о твоих делах другой человек, человек, который тебя любит.
Сашка любила тебя и, наверное, поэтому хотела того же, чего хотел и ты — чтобы ты вырвался из этой изнурительной и изматывающей междоусобицы и занялся своей психологией и «Трудом».
— И что вам дался этот Стоев? — спрашивала Сашка, когда дело очередной раз упиралось в Стоева. — У тебя свои взгляды, будь им верен, работай — что же еще!
— В том-то и дело, что Стоев не дает мне работать. Он извращает мои взгляды, он старается ославить меня как сомнительную личность, он повсюду…
— Но в этом виноваты ваши личные отношения, а не разница во взглядах. У людей могут быть разные точки зрения по каким-то вопросам и все-таки они могут жить как люди. Если ты проявишь большую терпимость к Стоеву, то и он будет терпимее к тебе.
— Детские рассуждения. Во-первых, я не могу проявить терпимость к вещам, с которыми я не согласен. И, во-вторых, как это ни неприятно, борьба не может ограничиваться только теорией. Люди так устроены, что не могут вести теоретические споры, а потом хлопать друг друга по плечу и ходить друг к другу в гости.
Сашка стояла на своем, но ты знал, что она не права, хотя было бы чудесно, если бы права была она. Сашкино добродушие имело под собой меньше почвы, чем твоя горечь, та горечь, которая начала накапливаться у тебя с юных лет, с первого твоего философского спора.
Первый спор и первая любовь. Любовь, разумеется, немножко сильно сказано. Это увлечение совсем не было похоже на другие твои увлечения, разве что имело такой же несчастный конец.
Ты и сейчас можешь себе представить, как ты прогуливаешься с учебником в руках по длинному коридору, длинному и строгому, точно коридор тюрьмы. Звонок звенит так пронзительно, словно в гимназии учатся глухонемые, но у тебя этот звонок вызывает сладостную и тревожную дрожь, потому что следующий урок — психология. Через минуту в глубине коридора появляется учительница с журналом под мышкой и вы шумно выстраиваетесь парами, как этого требуют правила. Она приближается, красивая и стройная, в черном халатике с белым воротничком, с пышными золотисто-каштановыми волосами, и чуть заметно улыбается в ответ на устремленные на нее взгляды. Дежурный открывает дверь, и учительница, кивнув вам, входит в класс, а вы идете за ней, и дылды с последних парт подталкивают друг друга, рассматривая ее стройные ноги.
Но ты был так в нее влюблен, что даже не осмеливался подумать о том, что она женщина. Может быть, она и не была так хороша собой, как казалось тебе и твоим товарищам, но это была единственная женщина, имевшая доступ в вашу гимназию-тюрьму, единственная женщина среди стольких хмурых мужчин и крикливых мальчишек. Разумеется, ты не был исключением. В нее были влюблены все гимназисты. И все-таки всем было ясно, что если у нее есть любимчик, то этот любимчик ты. Это было, быть может, не слишком педагогично с ее стороны, но это знали все.
Все началось с твоего реферата. Твоего первого «труда» — тетрадки, надписанной большими неровными буквами: «Мышление и познание». Учительница спросила, кто хочет написать реферат на эту тему, но весь класс притаился, потому что никто не хотел терять время на разные рефераты. Тогда ты единственный поднял руку. Учительница внимательно посмотрела на тебя, словно только сейчас тебя заметила, улыбнулась ободряюще и назначила срок.
Ты совершенно не представлял себе, что ты должен написать и как ты это напишешь. Ты просто поднял руку, почти не подумав, очарованный красивым белым лицом в ореоле золотых волос и уже смутно покоренный притягательной силой этой чудесной науки, психологии. Незадолго до того ты читал одну книгу о Бергсоне, и поскольку эта книга произвела на тебя сильное впечатление, ты попытался обосновать в своем реферате теорию интуитивного познания.
Подошел назначенный учительницей срок, и вот как-то раз, когда вы вошли в класс и шумно расселись по партам, она спросила:
— Александров, вы приготовили реферат?
— Приготовил, — сказал ты и встал.
— Тогда сегодня вместо урока мы послушаем, что написал ваш товарищ.
Она заставила тебя выйти к кафедре, и ты первый раз оказался лицом к лицу с классом, если не считать тех часов, что ты простоял в углу на уроках латинского. Поэтому ты чувствовал себя очень неловко, тем более, что учительница села, как гимназистка, на первую парту и не сводила с тебя глаз. Ты читал по тетрадке, стараясь быть спокойным, но щеки у тебя горели, а по спине неприятным ручейком стекал пот. Ты читал, стараясь сосредоточиться на излагаемых тобой мыслях, и постепенно тебе это удалось, и ты перестал стесняться того, что учительница на тебя смотрит и что ты показываешь свою эрудицию притихшему классу. Кончив, ты, почти совсем уже успокоившись, поднял голову и увидел, что теперь взволнована учительница, глаза ее блестят, а белое лицо слегка порозовело.
Она встала, подошла к кафедре и спросила, кто хочет высказаться, но все молчали, как чурбаны, потому что и слыхом не слыхали об интуиции Бергсона. Наконец один из подхалимов с первой парты все-таки поднял руку и произнес несколько туманных фраз, осторожно обходя конкретные проблемы. Он сел, довольный, что и на этот раз не упустил случая показать себя, и тогда заговорила учительница. Она говорила взволнованно, не жалея похвал, и сказала, что ей еще не приходилось слышать гимназических рефератов на таком высоком уровне, что этот реферат — зрелая и самостоятельная работа, что его следовало бы напечатать в журнале для учащихся, и разные другие похвальные слова.
До этого момента ты не задумывался над тем, каковы взгляды самой учительницы, совершенно не подозревал, что она бергсонианка, и только теперь понял это по ее похвалам и по ее теплому взгляду. Ласковые карие глаза смотрели на тебя как на друга, как на единомышленника, а ты, счастливый и смущенный, спрашивал себя: действительно ли ты бергсонианец, или ты бог знает кто.
— Ай да Петё, какой ты у нас умный! — сказал на перемене Аякс Старший, в знак восхищения стукнув тебя по стриженому затылку. — У этой клуши голова от тебя кругом пошла!
— А что я вам говорил? — подпевал ему Аякс Младший. — Настоящие люди — это двоечники, а вовсе не подхалимы и отличники!
Разумеется, голова у учительницы не пошла от тебя кругом, но все-таки с этих пор, объясняя урок, она всегда поглядывала на тебя, как будто обращалась главным образом к тебе и ждала твоего одобрения. Это было не слишком педагогично, но позже ты делал то же самое, когда читал на сашкином курсе.
— Каждую ночь она мне снится, — вздыхал на переменах Аякс Младший, который был совершенно не способен хранить свои тайны.
— Снится она тебе, — презрительно замечал Аякс Старший, — а любимчик-то у нее другой.
Ты знал, что этот «другой» — ты, и ты радовался и стыдился, и уроки психологии превращались для тебя в какую-то сладостную муку.
А через два года произошел конфликт. Поводом стал другой реферат. Вы уже проходили этику, и раз в конце урока учительница спросила:
— Кто хотел бы сделать реферат о христианской морали?
Она обращалась ко всему классу, но смотрела на тебя, а ты старался спрятаться от дружеского взгляда ее карих глаз, потому что прошло немало времени, и многое за это время изменилось, и много книг было прочитано, и ты уже знал, что ты вовсе не бергсонианец, а нечто совсем другое. Ты отводил глаза, класс по обыкновению молчал, и учительница, повременив немного, задала вопрос, которого ты ждал:
— Александров, ты бы не взялся?
Ты неуклюже встал и неловко улыбнулся:
— Я никак не могу.
— Что значит — не можешь? — спросила она, посмотрев на тебя с недоумением.
— Я хочу сказать, что не могу написать так, как вы бы хотели, — ответил ты, глядя на нее почти умоляюще.
Но теперь она избегала твоего взгляда.
— Напиши так, как ты сам хочешь, — сказала учительница, пожав плечами. — Я никогда не навязывала тебе своих взглядов.
— Тогда меня исключат.
— Почему тебя исключат? — подняла она брови, все еще не понимая, в чем дело. — И что ты, собственно, не принимаешь в христианской морали?
Ты снова посмотрел на нее умоляюще: «Не трогай меня, поручи этот глупый реферат кому-нибудь другому». Но она смотрела на тебя нетерпеливо и настойчиво, не обращая внимания на твою немую мольбу.
— Дело в том, что я вообще ничего не принимаю в христианской морали, — сказал ты наконец. — Это мораль лицемеров. Овечья шкура, под которой прячется волк.
В классе наступила мертвая тишина. Никто больше не точил карандаши, не шушукался, не возился. И в этой тишине ты вдруг почувствовал, что за тобой — весь класс, что весь класс с тобой, кроме двух подлиз-легионеров[24] с первой парты.
— Но как же так можно… Это самая чистая форма морали… Твое отношение совершенно произвольно…
— Мое отношение основано на фактах истории.
— И мое тоже, — пробурчал неожиданно сзади Аякс Старший.
— Тебя я не спрашиваю. Что ты вылезаешь? — оборвала его учительница.
— Потому что моего отца убили в 23-м году эти самые христиане… — ответил Аякс Старший.
— А моего убили на войне, после того как поп отслужил им молебен, — крикнул Аякс Младший.
— И моего отца убили, — отозвался кто-то с задней парты.
— А молитвы? — завопил маленький Косев, которого прозвали Косе-босе. — Зачем вы заставляете нас читать молитвы? Вы ведь против принуждения? Зачем вы тогда заставляете нас молиться?
— Зачем вы морочите нам голову этими глупостями из евангелия? — кричал кто-то еще. — Сговоритесь сначала с преподавателем физиологии, а потом уж толкуйте нам про непорочное зачатие.
Шум в классе все нарастал. Накопившиеся за много лет недовольство и горечь внезапно вырвались наружу. Несколько человек вскочили со своих мест и одновременно что-то кричали учительнице, а остальные подбадривали их бурными возгласами. Ты все так же стоял у своей парты, довольный тем, что класс тебя поддержал, и встревоженный страдальческим и испуганным выражением лица учительницы. Лицо у нее было такое, что сердце у тебя сжалось и ты ждал, что она вот-вот расплачется, как девчонка, но вместо этого она схватила лежавший на кафедре журнал и под нестихающие вопли выскочила из класса.
— Здорово мы ей выдали, — довольно проворчал Аякс Старший, когда возбуждение улеглось.
— Как же, выдали мы ей… — возразил Косе-босе. — Сами себя выдали — ей на съедение. Она нам теперь такое пропишет, что мы и до выпускных не дотянем…
— Ну и пусть. По крайней мере поставили ее на место, — сказал Аякс Младший. — Молодец, Петё. Хоть ты и любимчик, а дал ей по мозгам!
Учительница не стала вам ничего прописывать. Следующий раз она вошла в класс так, как будто ничего не случилось, и только по тому, как сухо она вела урок, ясно было, что все-таки что-то произошло. После звонка она подозвала тебя и целую перемену пыталась спасти твою душу, и это была самая длинная в твоей жизни перемена, потому что за твоей спиной не стоял класс и ты должен был один сражаться с человеком, который по-своему тебя любил.
— Я еще раз обо всем этом подумаю, — повторял ты, поскольку ее доводы были совершенно детскими и поскольку тебе не хотелось грубо отталкивать человека, который о тебе заботится.
Но ты знал, что думать обо всем этом больше нечего, потому что ты думал об этом уже достаточно, и убеждения твои сложились не под влиянием случайно прочитанной книжки. И вы разошлись, и это было окончательно, хоть она и преподавала еще у вас свою этику до самого конца года.
У тебя всегда получается так. Ты хочешь одного, а человек, которого ты любишь, хочет другого, и хотя ты надеешься, что вы встретились, чтобы быть вместе долго, может быть, всю жизнь, вы расходитесь в разные стороны, и в душе очередной раз оседает горечь.
*
Ночью выпал снег. Весь парк белый. Такой белый, что парк и белые стены комнаты слились воедино. Вчерашний резкий ветер утих. Ветви деревьев, опушенные снегом, неподвижны и хрупки, как белые кораллы на фоне серой белизны неба.
Вначале ты скорее чувствуешь белизну, чем видишь ее, и ты даже не совсем понимаешь, что такое это белое — комната и снег или ничто. Потом начинается — градусник, завтрак, уборка. Невозможно остаться наедине с собой даже в больничной палате. Непрестанно изводят тебя этим своим порядком.
Ты лежишь и пытаешься остаться наедине с собой, закутываешься одеялом так, чтобы быть наедине с собой, но вдруг тебе приходит в голову, что сегодня, наверное, прибегут дети, потому что погода мягкая и выпал снег. Дети любят снег.
Ты встаешь, хотя ты очень устал. Ты страшно устал от ничегонеделанья, но ты должен взять себя в руки и постараться выглядеть поприличнее, не ради врача или кого-нибудь еще, а ради детей.
Сегодня тебе особенно жалко детей, потому что ты понимаешь, что ничем не можешь им помочь, как вообще никому ничем не мог помочь в этом мире. Из зеркала на тебя смотрит почти незнакомое желтое лицо, бледное лицо с провалившимися погасшими глазами, с выражением жуткой беспомощности. Ты медленно намыливаешь кисточку. Щетина у тебя растет. Щетина растет и у мертвых.
И этот едкий противный запах карболки. Эта жизнь, пропахшая карболкой. Эта жизнь с запахом смерти.
Ты медленно намыливаешь щеки, почти не сознавая, что делаешь, и именно в эту минуту слышишь за окном два знакомых голоска: «папааа!», «папааа!» Ты открываешь окно ванной и, не стирая мыльной пены, высовываешься наружу. Дети действительно стоят внизу на аллее, но они смотрят на соседнее окно, а не на окно ванной, и поэтому твое появление для них — неожиданность.
— Вон папа! — кричит Катя, которая первая тебя увидела.
— Папа, ты бреешься? — спрашивает Анче. — Ты похож на деда Мороза.
Малышка смотрит на тебя красивыми голубыми глазами, и личико ее, под розовым сашкиным шарфом, кажется совсем маленьким.
— Я для вас брился, — говоришь ты, — чтоб когда вы придете, я был уже выбритый. Но вы меня опередили.
Катя улыбается своей чуть застенчивой улыбкой и молчит. Она совсем уже большая и выглядит еще выше в этом коротком пальтишке с обтрепанными рукавами.
«Хорош отец. Давно надо было купить ей новое пальто», — думаешь ты и только сейчас замечаешь, что Анче неловко обхватила своими ручонками большой пакет лимонов.
— Зачем вы опять купили лимоны? Я ж вам говорил, чтоб не покупали.
— Да, а учительница говорит, что чем больше ты будешь есть лимонов, тем скорее выздоровеешь. Мы потому и купили.
— Много понимает ваша учительница… — бормочешь ты.
Потом говоришь громко:
— Больше не покупайте. Денег и так не слишком много.
— Папа, ты разрешишь Кате взять меня в кино? — спрашивает Анче с подкупающей улыбкой.
— Разрешу, конечно. Ты только не шали.
— А Катя говорит, что не разрешишь.
— Ну, идите, а то простудитесь! — дипломатично прерываешь ты разговор, хотя тебе совсем не хочется, чтобы дети уходили.
Девочки послушно машут тебе руками, Катя подталкивает вперед Анче, и они идут, но Анче все останавливается и машет тебе, придерживая другой рукой тяжелый пакет, пока обе не оглядываются последний раз и не заворачивают за угол.
Ты закрываешь окно. Ты страшно устал от этого ничегонеделанья. Из зеркала смотрит на тебя померкшее лицо с засохшей на щеках мыльной пеной. Бриться уже не для кого. Только зря утомлять себя. Ты наскоро смываешь пену, вытираешься и снова ложишься.
— Вы спите?
Врач вошла незаметно и наклонилась к тебе со своей белозубой улыбкой.
— Задремал немножко, — бормочешь ты, как будто извиняешься.
Санитарка вносит пакет с лимонами.
— Положите его сюда, — говоришь ты, показывая на место рядом с подушкой.
— На постель нельзя. Мы их уберем в шкафчик, — ласково говорит санитарка, словно разговаривает с ребенком.
— Дайте сюда, — настаиваешь ты.
— Дайте ему эти лимоны, — говорит с легким раздражением и врач.
Санитарка пожимает плечами, кладет пакет рядом с подушкой и выходит.
— Когда лимоны приносят дети, это все равно что букет цветов, — улыбаешься ты виноватой улыбкой. — Поэтому я просил, чтоб их положили поближе. Ведь когда человек умирает, возле него кладут цветы…
— Оставьте эти мысли, — мягко возражает врач. — Мы же договорились, что не будем думать о таких вещах… Дайте я вас посмотрю.
Ты покорно задираешь пижаму.
— Больно?
— Немножко. Как всегда.
— Дайте я посмотрю.
«Что тут смотреть», — думаешь ты, неохотно оттягивая пижаму. Эта врачиха очень утомительна. «Обременительна», — как сказала бы Рина. Смотрит, смотрит. Как будто все и без осмотров не ясно. Все запутано, все распадается. Даже «Труд» — это просто иллюзия. Давно прошло время, когда ты мог написать этот «Труд». Теперь ты уже ничего не можешь. Ты слишком устал и слишком истрепан жизнью, чтобы что-то написать. Так он и будет пылиться в ящике, незаконченный, как вавилонская башня, как памятник бессилию. Какое это имеет значение? Ничто не имеет значения.
Врач говорит тебе что-то, но ты почти ее не слышишь. Пусть говорит. Ничто не имеет значения. Ничто, кроме детей, но ты не в силах хоть чем-нибудь им помочь.
Врач превращается в неясное белое пятно. Чуть более плотное белое пятно на фоне белой комнаты. Потом пятен становится два. Ты чувствуешь, как чья-то прохладная рука давит на твое теплое тело, и слышишь откуда-то издалека чей-то бас:
— Глюкозу… Теперь кортизон… три по три.
Глюкоза, глупости. Дело не в глюкозе, а в том, что надо все рассказать и объяснить какому-нибудь объективному человеку, такому человеку, который не замешан в этой истории и сможет все понять.
— Я потому позволил себе прийти к вам, что дело дошло до того… я хочу сказать, что все это должно наконец выйти на поверхность… я не знаю, точно ли я выражаюсь…
Ты выражаешься неточно, и в голове у тебя совершеннейшая путаница, и в то же время ты знаешь, что именно сейчас ты должен как можно более коротко и четко рассказать, как обстоит дело.
Может быть, в голове у тебя прояснится, если человек, который сидит за большим письменным столом, зажжет настольную лампу. Но человек молча сидит за столом, в комнате почти совсем темно, и ты напрасно пытаешься составить из слов какие-то фразы, а они рассыпаются у тебя в голове, точно кубики.
Ты должен зажечь лампу, и тогда все прояснится. Ты должен собраться с силами и зажечь ее, прежде чем человек за столом потеряет терпение. Но у тебя нет сил протянуть руку, и сумрак в комнате сгущается, и ты даже не можешь толком разглядеть, где ты, и не уверен, сидит ли еще кто-нибудь перед тобой или ты один.
— Александров, станьте в угол!
Ты устало встаешь и тащишься в угол, потому что место твое — там. Плохо, что в углу совсем темно. В этой гимназии вечно экономят электричество.
*
Он бесшумно летел по дороге. Бесшумно и быстро — в сером свете вневременья. С обеих сторон проносились неясные, смутные тени — наверное, лес. А дорога, по которой он летел, врезалась в тени все глубже и глубже — зыбкая и серая, в сером свете вневременья.
Потом, почти этого не заметив, он свернул на другую дорогу. Лес исчез. Вдоль дороги тянулась река, глубокая и зловеще-зеленая, точно река утопленников. Он летел по дороге, стараясь держаться подальше от реки, но дорога подходила к реке все ближе, и надо было быть начеку, потому что дорога в любую минуту могла слиться с рекой, нырнуть в нее.
А потом он снова свернул, на другую дорогу, бежавшую среди черных примолкших холмов. И потом еще на одну дорогу, и на четвертую, и на пятую, все одинаково безлюдные и зыбкие в сером свете вневременья. Он летел по этим дорогам и думал попасть в какой-нибудь город или село, хотя он знал, что не встретит ни города, ни села, потому что дороги эти, все до одной, вели в никуда.
Потом стемнело, неожиданно, разом.
А потом появились замки.
Он сумел добраться во тьме до каких-то отвесных скал. Пропасть под ногами страшила своей неоглядной бездонностью, а темнота вокруг была исполнена опасности и черно-красного тумана. И тут он увидел старое строение, повисшее как замок над краем бездны, и сделал в ту сторону несколько шагов, но понял, что замок рушится.
Здание рушилось бесшумно и медленно, как кусок сахара в стакане чая. Огромные глыбы откалывались одна за другой и тонули во мраке бездны, пока на скале, как старческий зуб, не остался торчать один-единственный угол строения.
Он беспомощно огляделся и сквозь тревожный, точно дым пожарища, мрак увидел вокруг еще много утесов и много замков, вперивших в него слепой взгляд угасших окон. Но пока он думал, где ему лучше укрыться, он заметил, что все замки рушатся. Каменная кладка стен бесшумно обваливалась и бесшумно низвергалась в бездну, словно замки таяли и оседали в темные воды ночи. И замки, и утесы под ними, и утес у него под ногами. Все рушилось медленно и необратимо. Оставалось лишь ждать последнего обвала. Мрак уже не был черно-красным. Мрак был черным, без единого проблеска.
Мрак бездны.
*
Две девочки пробежали, пригнувшись, мимо будки, довольные, что провели привратника, и завернули за угол здания.
— Вчера он нас не пустил, а сегодня мы его обманули. Правда, Катя? — сказала Анче.
— Ты лучше смотри, куда ступаешь. Все ноги промочила.
Снег уже совсем растаял, и аллея была усеяна лужами, гладкими и синими от синевы утреннего неба.
— Окно папиной комнаты открыто, — сказала Анче.
— Наверное, он бреется в ванной.
— И в ванной окно открыто.
Девочки дошли до своего обычного места и задрали головы. Из открытого окна теплой комнаты шел пар. Человек в белом халате, двигаясь в облаках пара, через длинную трубку опрыскивал стены.
— Папы нет, — сказала Анче и заплакала.
— Не плачь, — сказала Катя. — Папу перевели в другую комнату.
— Дяденька, а где папа? — крикнула малышка человеку в белом.
Но человек, наверное, не слышал, потому что он повернулся к девочкам спиной и продолжал работать. Дети остались ждать на аллее, не сводя встревоженных глаз с открытых окон. А за окном, в облаках пара, двигался человек в белом халате и опрыскивал стены.
Перевод Н. Глен.
Генчо Стоев ЦЕНА ЗОЛОТА
Пролог в девяти частях
1
Что можно купить на тысячу лир чистым золотом? На две тысячи? А за большой каменный дом посреди села? За множество котлов с сезамовым и ореховым маслом, за гектары виноградников и бочки вина?
Все это было у Хадживраневых из Перуштицы. Презренная райя[25], они пожелали снискать себе богатство и почести. Нашлось немного для подкваса, бог дал здоровье и удачу, и пошло. Сам Исмаил-ага Сулейман-оглу, первый человек турецкого села Устина, стал ездить к ним в гости. Он доводился правнуком золотому спахии[26] Алтын-спахилы Сулейману-оглу, прославленному султанскому рыцарю, что участвовал во взятии Будапешта, отуречивании Родоп и был пожалован землями в этом крае.
О большей чести Хадживраневы не могли и мечтать. Но только они добились желанного, как однажды, в апреле, сыновья их отказали аге в гостеприимстве, заделались бунтовщиками…
Учитель Петр Бонев их завлек. Не было у него ни кола, ни двора, как говорил Хаджи-Вране[27], а только острый язык да застарелая чахотка, оттого и легко было ему болтать об «общем деле», о «свободе и смерти». Чего ему терять? Чорбаджи Рангел Гичев, что женат был на старшей сестре Учителя и — бог и люди тому свидетели — немало денег потратил на учение своего смышленого и хилого шурина, жалел потом, что давал ему хлеб, а не отраву.
Все пошло от Учителя. И зачем он это сделал, когда (так поговаривали) и сам колебался?
2
Было то в страстную субботу, последний мирный день. Еще до света потянулись в горы верховые. Это Учитель с десятниками поехали осматривать родопские пещеры — годятся ли они для укрытий.
Там застал их рассвет. Одни среди сумерек горных ущелий, среди затаившейся ночной тишины, они слышали, как наперебой поют в селе тысячи петухов, видели, как золотые православные кресты новой церкви блестят над едва порозовевшей далью. Солнце было еще скрыто от глаз, только кресты искрились, словно это они излучали кроткий розовый свет, словно это они рождали утро.
— Слушайте и смотрите! — сказал Учитель, остановив коня. — Вдоволь наслушайтесь и насмотритесь! Только зачем мы назвали церковь именем Михаила-Архангела, а не Святого Рогле?
Рогле не был святым. Когда-то, когда отуречивали окрестные села, кузнец Рогле пошел в гайдуки и отстоял Перуштицу. Но и после продолжал гайдучить. Не пристало называть его святым.
Еще что-то чудно́е сказал Учитель, а потом отъехал в сторону, к Борун-роднику, напоить коня. Десятники медленно продолжали путь к пещерам. По дороге они то и дело останавливались, поджидали Учителя, но он так и не нагнал их. Когда они возвращались час спустя, Учитель все еще стоял у каменной колоды родника. Конь глядел на него недоуменно, а он, глубоко задумавшись, посвистывал, и из глаз его катились слезы.
Уже стало известно, что нашлись предатели, что многие села не подымутся, и еще прошлой ночью на севере, в горах за Филибелийской равниной, алели пожары. Они казались близкими пастушескими кострами: протянешь руки — пламенем обожжешь. Верно, из сел и хуторов были сложены эти костры, коли видны были так далеко, а перуштинцы не помнили такого с самых кирджалийских[28] времен.
Так и стоял Учитель. Переглянулись десятники, а Павле Хадживранев сказал:
— Эй, Учитель, если нет в тебе решимости…
— Все решено! — ответил Учитель.
— А давешние пожары?
— То горели турецкие села, Павле, о них ли тебе жалеть?
3
В ту же ночь с Родоп спустились трое помаков[29], вел их известный бродяга и сорвиголова Дели-Асан Байман-оглу. Они перевалили Власовицу, миновали крайние махалы[30], ко всему присматриваясь привычными к темноте глазами, и дошли до Тилевой кофейни, что на площади. Там их остановил повстанческий патруль. Осветили фонарем их лица и узнали.
Спросили Дели-Асана, зачем он пожаловал, уж не подряжаться ли снова в полевые сторожа? Потому как он часто, являясь в Перуштицу, говорил: «Я теперь ваш полевой сторож» — и сам назначал, какой будет плата и куда приносить ему в обед жареного цыпленка; жил с неделю-другую и уходил. За это время и с мужчинами дрался, и на женщин посягал, и скот уводил…
— Не-е-ет! — ответил он весело патрулю, остановившему его возле Тилевой кофейни. — Ха-ха-ха! Хороши у вас цыплята, да только кончились те времена, не тот нынче болгарин, так ведь? — Говорил он с ухмылкой, небрежно опустив руки на пистолеты, заткнутые за пояс, и все поворачивал свою большую медвежью голову — хотел разглядеть, кто стоит в темноте у него за спиной. — Полюбилась мне Перуштица, хотя сам я не очень-то был ей по нраву… Только трудненько вам придется без Дели-Асана, ой, трудненько! Кто теперь у вас проказить станет, а?
Снова спросили его, зачем пожаловал. Тогда он потребовал трех мулов, ракии и табака для Мемеда Тымрышлии, предводителя отуреченных родопских сел. Тымрышлия велел передать, что отправляется в Среднегорье — усмирять бунтовщиков, а Перуштицу обещает уберечь и от своих людей и от окрестных турок, только бы перуштинцы сидели смирно.
Покуда с ним толковали, вокруг собрался народ. Старики возвращались с заутрени, а молодым не спалось. В эту пасхальную ночь и Болгария должна была воскреснуть, как обещал Учитель. Кто с радостью, а кто со страхом — все ждали чуда. Вот тогда-то и увидели перед Тилевой кофейней патрульных с фонарем, а над ними, в свете фонаря, — огромные плечи Дели-Асана и его огромную медвежью голову. Решили, что он пойман и доставлен сюда, чтобы искупить свои грехи, но, подойдя поближе, услышали, как он перечисляет, что ему надобно… Словно воскрешение отменялось.
Некоторые уже прикидывали, где бы его подстеречь на обратном пути, но тут вперед протолкался Хаджи-Вране, поздоровался с разбойником за руку и сказал громко, чтобы все слышали:
— А ракия — от меня, Дели-Асан, бродяга ты этакий! Пейте да разумейте: перуштинцы зла не помнят… Анисовка! Так и скажешь Мемеду-аге из Тымрыша: «Дед Хаджия, скажешь, посылает три поклажи анисовой. Дед Хаджи-Вране…»
— Ха-ха-ха, — смеялся Дели-Асан. — Ты, дед Хаджия, прежде ничего мне не давал…
— Так ты ж сам себе брал, бездельник, — отвечал ему с вымученной горькой шутливостью Хаджия. Он впервые унизился до разговора с бродягой.
Со стороны было видно, как в светлом круге от фонаря они хлопали друг друга по плечу и как опустились руки, когда на свету появился изможденный, иисусов лик Учителя.
4
— Дед Хаджия, — сказал резко Учитель, — иди спать! А этого, — указал он своим людям на Дели-Асана, — вяжите!
В тот же миг пистолет разбойника сверкнул в воздухе, а дружки его, тоже с пистолетами в руках, прижались спинами к его спине.
— Учитель, — прорычал Дели-Асан, — Мемед-ага ждет нас за Власовицей с тысячью ятаганов. Если мы не вернемся…
Власовицу — один из холмов между селом и Родопами — нельзя было разглядеть в темноте безлунной ночи, но все мгновенно повернулись туда, где должен был возвышаться ее каменный гребень. И стали вглядываться.
— Вернетесь, как же не вернуться, — сказал Хаджи-Вране, все еще стоявший возле фонаря, спокойный и благодушный. — Учитель решил, что ты снова явился грабить… Такие нынче времена, приходится охранять село… Идем в дом, Дели-Асан, гостем будешь…
— Ха-ха-ха, — снова рассмеялся Дели-Асан. — Так уж и быть!
— Павле! — бросил Учитель в темноту.
В светлом пятне появился Павел Хадживранев.
— Отец, — сказал он почтительно и робко, — если ты тотчас не уйдешь, и тебя свяжем… Той же веревкой…
— Вязать ночных гостей! — во второй раз повелел иисусов и не совсем иисусов лик Учителя.
— А ну, кто осмелится! — снова зарычал Дели-Асан, и тусклый отблеск его пистолетов метнулся из стороны в сторону.
Патрульные не торопились.
— Я, — сказал Учитель, шагнул к разбойнику и положил руки на его запястья. — Сколько душ ты загубил, Дели-Асан?
— Ни одной, — ответил разбойник. Дула его пистолетов уперлись во впалую грудь Учителя — тому хватило бы одного толчка, не то что выстрела. — До убийства не доходило, Учитель. Все люди брешут.
— Убивал он! — выкрикнуло из темноты несколько голосов.
— Кого ж это я убил? Эй! — крикнул и Дели-Асан, стоя все так же, уперев дула пистолетов в грудь Учителя, однако не толкнул и не выстрелил. — Просто слава дурная. Не трожь меня, Учитель. Не бери греха на душу!
— Греха не будет, Дели-Асан.
Помак подался немного влево, потом вправо, грудь в грудь с Учителем, но не настолько, чтоб это можно было счесть за сопротивление.
— Ну и что с того, что свяжешь? — сказал он. — После развязать придется.
Никто не ожидал такого от грозного, неустрашимого разбойника — Дели-Асан дал себя связать! И даже, никак, с бранью швырнул пистолеты оземь.
Сейчас фонарь еще ярче осветил его руки — они и впрямь были связаны. И пусты. Потом свет скользнул вниз: там, на земле, действительно отливала синевой вороненая сталь и над ней, словно пороховой дым от последнего выстрела, вилось легкое облачко пыли. Нежной и золотистой была эта пыль.
— Учитель, — начал Дели-Асан, — слыхал я от стариков, будто была у нас когда-то одна вера… Как сейчас язык… То-то все тянуло меня в болгарские села… Все-то мне было слаще в них… Уж не кровь ли во мне говорила, Учитель?
5
Однако ж повели трех помаков в поле. Кроме патруля и собравшихся возле Тилевой кофейни, Учитель велел звать и других мужчин, чтоб было по одному от каждого двора.
Дели-Асан тяжело ступал в темноте, громадный, покорный, как вол. Дважды просил, чтоб остановились у придорожного боярышника и развязали ему порты. Дружки его тоже присаживались рядышком на корточки — что делал он, то и они.
— Здесь! — сказал Учитель, когда дошли до монастырской ореховой рощи. Всем захотелось курить, уселись, и пошел разговор о засушливой весне, о чахлых хлебах. Послышался тогда и голос Дели-Асана, тоненьким он стал, как у ребенка, полным страха и надежды.
— Насильничал я, а сам думал: коли не прирежут меня эти люди, стало быть, так им и надо… А теперь вижу — ошибался я. И потому хочу оставить вам свое золото…
— Ну, братья, — поднялся Учитель, — скоро начнет светать. Когда-то, когда Алтын-спахилы и муллы отуречивали здешние села, Перуштицей они поперхнулись… Рогле метил людей крестами — каждому на руке каленым железом… Все село так… Сами муллы не захотели обращать таких людей в веру аллаха. Прямо убивали… Кто погиб тогда — с честью погиб, кто остался — от тех мы пошли… Вот и я хочу отметить вас особым знаком…
— Пошлем к жене за золотом, — перебил его Дели-Асан, — чтобы до света человек был в горах…
— Учитель, что скажешь? — спросил Павел Хадживранев.
— Сначала я вас отмечу, — сказал Учитель. — Таким знаком вас отмечу, братья, — повысил он голос, но разбойник вскочил:
— Мемед-ага золота у вас потребует, Учитель! Он вчера говорил: много, мол, золота накопилось в Перуштице… Хоть один денек, Учитель…
— Таким знаком, — крикнул еще громче Учитель, — что водой смоешь, а он все равно детям и внукам перейдет… Кровью, кровью, братья…
Все вздрогнули, и прежде чем он указал на помаков, прежде чем сказал: «Их кровью!» — Дели-Асан взревел и, как был, связанный, бросился на четвереньках прочь от сидящих. И дружки его тоже.
Но недалеко они ушли, и, как сказал, вернувшись, Учитель, великое таинство свершилось в ту ночь в трех разных местах ореховой рощи, под единым куполом болгарского неба.
6
Воскресенье наступило тихое и радостное. О Тымрышлии не было ни слуху ни духу — кто знает, может, Дели-Асан решил их просто постращать?
Молодые мужчины и парни гарцевали на конях. Разгорячат коня у себя во дворе — и вылетают в распахнутые ворота. На площади церковный хор пел «Восстань, восстань, юнак[31] балканский!». Учитель взмахивал в такт руками и тоже пел. Дозорные, посланные далеко в поля и горы, не тревожили село никакими известиями.
Лишь один иноверец проскакал в сторону Перуштицы, скакал он открыто, без оружия, весь в серебряном шитье, и дозорные узнали его: то был Исмаил-ага Сулейман-оглу, владелец из Устины. Догадались, что едет он, по обыкновению, почтить праздник своего кунака Хаджи-Вране. Да и ничего плохого не сделал он никому в Перуштице.
Отстранились дозорные, дали дорогу, и ага подъехал к большим воротам Хаджии. Но там молодые не встретили его с почетом, как бывало. Ни сыновья, ни снохи не кинулись принять узду из его рук. Будто агу и не заметили.
Только старик ему обрадовался, спросил любезно, какой привел его счастливый случай, что нового в благословенном селе Устине, все ли живы-здоровы в Устин-сарае, пригласил подняться на галерею, приговаривал что-то, а сам прислушивался.
Потому что вместе с обычными мирными деревенскими звуками доносился до них цокот копыт, и какая-то дерзкая песня, и посвист, и пистолетная стрельба…
Ничего не вымолвил гость, ждал, что скажет хозяин, а тот крикнул сверху, чтобы принесли жареного барашка и вина. И белого вина и красного. Но слова не шли у него из горла. Наступило на галерее молчание, и еще явственней стали слышны тревожные звуки. Наконец Хаджия вздохнул:
— Такое заварили, Исмаил-ага, не знаю, как и расхлебаем…
— А что стряслось, дед Хаджия?
— Да вот, молодые, — произнес Хаджия.
— Что?
Но старик промолчал.
— Что же? — повторил ага.
— Отделяются…
— Отделяются? От кого?
— От кого?.. — задумался Хаджия. — От меня…
— От тебя? С какой стати?
Кое-как старик отговорился, слукавил — каждый, мол, хочет сам торговать и сам считать алтыны… Об Учителе не обмолвился. Да и о Дели-Асане тоже. Еще поели кунаки жареного барашка, еще поговорили о том о сем, и Исмаил-ага поднялся. Его бил озноб.
А село всю ночь праздновало свободу. До самого рассвета, когда очнулось, окруженное помаками и турками.
На всех вершинах окрестных холмов развевалось по красному стягу с полумесяцем. Исмаил-ага был здесь ни при чем, это рано или поздно должно было случиться. Еще с полуночи дозорные начали слать с полей и гор тревожные вести Учителю, и он приказал им отойти на укрепленные позиции, не смущая радости села, которой и без того суждено было быть недолгой.
Уже после, когда все мужчины, способные драться, были распределены по позициям, улицы и площадь разом опустели. Даже усердный Гуджо, горбатый съемщик Тилевой кофейни, не отпер в это утро дверей, не подмел и не опрыскал водой каменные плиты перед кофейней. Лишь когда Хаджи-Вране явился, по обыкновению, выпить утренний кофе и сердито постучал в окно своим посохом, что от гроба господня, кофейщик вышел и проделал все это у него на глазах.
Хаджи-Вране стоя дожидался, пока он кончит, а за это время один за другим подошли и остальные старейшины — те, что не уехали в Филибе. Словно сговорились…
— Христос воскресе, — приветствовали они Хаджию.
— Он-то воскрес, — отвечал им Вране. — Вот кабы и Дели-Асан мог воскреснуть вместе со своими поганцами… Получилась бы троица, точь-в-точь как в Священном писании… И мы б, озолотив, послали их к Тымрышлии… Да садитесь же, надо как-то спасать село!
7
Пока они совещались, никто их не потревожил. Все мужчины были на позициях. Выбрали трех столетних старцев, уже насытившихся жизнью, готовых идти к Тымрышлии. Они должны были сказать аге, если, конечно, доберутся до него живыми, будто Дели-Асан с дружками изнасиловали бабу, и потому молодые озлились… И еще должны были спросить, сколько золота он хочет, чтобы простить село и уберечь его от других. Велели посулить сначала тысячу лир, но можно было надбавить и до трех, ежели Тымрышлия за тысячу не согласится. Ветер раздувал его шатер на вершине Власовицы. Повязали старцам по белой тряпице на посохи и условились: как выйдут они из шатра, пусть столько раз поднимут посохи, сколько тысяч посулили.
При выходе из села старики обманули стражу, сказав, что это Учитель посылает их к Тымрышлии, и поплелись по каменистой тропе вверх, к шатру. Из села было видно, как белые тряпицы на их посохах подпрыгивают над редкой зеленой травой, как все ближе и ближе приближаются серые пятна их сермяг к красному стягу и желтому шатру.
Никто по ним оттуда не пальнул. Встретили их, остановили, и было видно, как посохи старцев тычут то в сторону села, то в сторону шатра. Один из помаков побежал наверх и спустя немного подал знак, чтобы старцы подымались дальше.
С утра до полудня Хаджи-Вране и старейшины сидели за столами перед Тилевой кофейней, откуда была видна вся Власовица, молча отхлебывали кофе и не отрываясь глядели вверх. Ждали, когда старики выйдут из шатра. А тем временем все подходили и подходили из равнинных сел турки, все стекались и стекались с гор голодные своры помаков. И возделанные поля и голые окрестные холмы — и Власовица и Вылковиште — густо обрастали молчаливыми темными фигурами башибузуков.
Учитель и десятники ждали с бойцами на редутах. Старейшины прихлебывали горький кофе в тенечке, на опрысканных и подметенных плитах кофейни, смотрели на желтый шатер и гадали, что там происходит, — две тысячи придется им отсчитать или три. Хаджи-Вране уже успел предложить, чтобы община заняла эти золотые у них, чорбаджий, и отдала их Тымрышлии, а потом, распределив долг по всем дворам — по два, по три, по пять золотых, в зависимости от достатка, — вернула деньги собственникам. Община — те же старейшины — немедля приняла предложение. Только бы уговор состоялся, только бы показались наверху посланцы…
Наконец сгорбленные серые фигуры вышли из шатра. Но они не подняли посохи сразу, как было уговорено. А когда начали, не остановились на трех… Семь раз поднялись к небу и опустились к земле посохи с белыми тряпицами.
Переглянулись старейшины и принялись вытаскивать платки, отирать взмокшие лбы. Тяжко, вслух вздохнул Хаджи-Вране. Семь тысяч золотых они все же могли бы собрать промеж собой, но как вернет их село? Когда? И за двадцать лет не вернуть… Завтра же сравняются они с остальными перуштинцами. С голытьбой! Будут спасены, но навек втоптаны в землю.
— Не дам! — крикнул внезапно Хаджи-Вране и поднялся. — Кто хочет, пусть дает, а я не дам!
— Постой, Вране, постой, дай подумать, — простонали другие, не отрывая глаз от ощетинившихся холмов. Старцы плелись потихоньку вниз. — Погоди, послушаем, что они скажут… Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь…
— Семь тысяч скажут, чего ждать? — ответил Хаджи-Вране. — Не дам!
— Чорбаджия, — робко взмолился горбатый Гуджо, который все вертелся возле старейшин, — кто другой нам поможет, как не первые люди села? Одна надежда на вас да на бога…
— Так, — ответил Хаджи-Вране, — на нас, значит, ваша надежда… А после станешь меня называть «чорбаджия»? В пасхальную ночь станешь мести для меня эти плиты? Станешь варить мне ароматный кофе?
— По гроб жизни, дед Хаджия.
— А сыновьям моим?
— Чего? — не понял кофейщик.
— Будешь, спрашиваю, сыновьям моим варить кофе? Будешь поджидать их от заутрени, подметать да прыскать водичкой перед их приходом?
— Точно так же, как поджидал тебя, чорбаджия…
— А если им нечем будет платить?
— И если платить будет нечем…
— Врешь, каналья! — крикнул Хаджия и замахнулся, словно хотел ударить. — Вре-ешь!
Гуджо скрылся в кофейне. По тропинкам Власовицы продолжали, ковыляя, спускаться к селу старики. Башибузуки расступились, давая им дорогу.
— Вране, — сказали другие старейшины. — Что-то ведь у нас останется. У тебя — виноградники, яхна[32] и бочки с вином…
— А за сезам чем я буду платить? А батракам что дам? Перестанут, говорю я вам, молоть жернова, и мои и ваши… И тогда такие, как этот горбун, глядишь, вытащат по пятьдесят лир, потому что все бедными прикидывались, не выручали село… Вот как вытащат, говорю вам, и купят нас вместе со всем нашим добром, со всеми нашими потрохами… Община у таких в счет долга от силы пять, а то и меньше золотых потребует, а у них по полсотни, а то и по сотне припрятано.
— У Гуджо нет, — сказали старейшины.
— У него, может, и нет, только все же найдутся такие, чье золото не на виду, как наше… потому что они где-то посередке — не с бедняками бедняки, не с богачами богачи…
— Найдутся и такие, слов нет.
— А вы знаете, кто они? Если не знаете, так узнаете, потому как на них будут батрачить ваши дети!
Старейшины примолкли, а Гуджо, поборов страх, — как видно, он все слышал — снова сказал:
— Не тревожься, дед Хаджия! Ведь вы с пустыми руками начали когда-то, ты и твоя бабка Хаджийка! А сейчас и добра у вас много, и рук в доме с избытком, еще больше наживете. Да и мы за вас бога будем молить, всем селом…
— Пш-шел, собака! — шугнул его дед Хаджия, но, увидев, что тот повернулся спиной, удержал его: — Постой… Постой… Я дам пятьсот и обратно не потребую, если ты дашь твоих пятьдесят…
— Дал бы, да нет их у меня, — пятясь, ответил Гуджо.
— Поклянись ребенком, что нету!
Единственный ребенок остался у Гуджо: кофейщиковы дети умирали, едва дожив до десяти. Живому было восемь. Гуджо побледнел.
— Поклянись, — настаивал Хаджия.
— Да ты что — господь или поп, чтоб я тебе клялся? — впервые огрызнулся Гуджо на человека богаче себя, ушел в дом и больше не показывался.
— Видали? — сказал Хаджия. — Кто-то из нас будет прислуживать вот этому… Да и кофейни не откроешь, двух много для села.
— Полно, Вране, — сказали другие. — Нужно ведь что-то решать.
— Вот и решайте, — ответил Хаджия. — А я уже решил. Не дам.
— Стало быть, смерти захотел. И себе, и сыновьям своим, и внукам…
8
Не сразу ответил Хаджия. Смотрел, как по извилистой тропе медленно приближаются посланцы, как подпрыгивают их посохи с белыми тряпицами, как убывает их путь, подобно песку в церковных песочных часах. Белые подпрыгивающие точки были точно песчинки времени и пути, и они все сыпались, сыпались.
— Не знаю, какой срок дал Тымрышлия, — сказал он наконец. — И что сумел сделать чорбаджия Рангел Гичев в Филибе, не знаю… Но если Азис-паша пошлет аскеров…[33] Паша может одним махом избавить нас и от Учителя и от Тымрышлии… И выкупа не потребует… Только благодарственное письмо султану, подписанное всем селом…
И снова замолчал Хаджи-Вране. И снова все вперили взгляды в белые песчинки, которые сыпались, сыпались. Никто не верил, что Азис-паша, или Решид-паша, или другой какой паша кинется их спасать, потому что в эти дни у пашей было дела по горло и во многие места вилайета[34] нужно было вести им аскеров, но никто не знал и другого — что предпочесть: стать равным с другими в смерти или равным с другими в бедности…
И, глядя вот так, не отрываясь, увидели старейшины сначала какие-то белые облачка дыма из-за придорожных скал. Потом послышался залп, и одновременно стало видно, как двое посланцев, качнувшись вперед, падают на жидкую траву. А третий, размахивая посохом, с белой тряпицей, указывает наверх, на желтый шатер. Сам Мемед-ага Тымрышлия вышел из шатра — огромный, встревоженный, — и помчались вниз его люди. Но залп повторился, третий старец, видно, хотел бежать к селу, но споткнулся, упал и больше уже не поднялся; Хаджи-Вране снова громко вздохнул, словно всхлипнул.
Странным было это убийство. Не мог Тымрышлия отказаться от семи тысяч золотых, не могли и повстанцы сделать такое — стреляли с Власовицы. Необъяснимость случившегося была более зловещей, чем сама тройная смерть.
— Господа прогневали, — сказал самый старый из старейшин. — Не следовало так…
— Что ж теперь? — спросили другие.
Мелкие дробные звуки посыпались под столы на подметенные плиты, желтые янтарные зерна, пощелкивая, запрыгали далеко в разные стороны. Разорвались чьи-то дорогие четки, но никто не бросился собирать их бусины.
— Та-а-ак-то… — вздохнул Хаджи-Вране и пошел прочь.
У него оставалась еще одна надежда — Исмаил-ага, владетель из села Устины. Но смутной и шаткой была эта надежда, ибо упустил он то время, когда следовало доказать аге свою преданность и попросить защиты. Как теперь до него доберешься? Тайком отправишься, все равно кто-нибудь подстрелит — или повстанцы, или башибузуки. С белым платком двинешься — сыновей опозоришь. Да и как знать, найдешь ли его. Не любил Исмаил-ага бранные дела и вряд ли был где-то поблизости. И все же, может, поручил он кому-нибудь из единоверцев позаботиться о старом кунаке. Только как разыскать этого защитника, когда тысячи остервенелых мусульман ворвутся в село и начнется резня.
Столь смутной была эта надежда, что недолго ею тешился Хаджи-Вране. Главным оставалось другое: он все еще не мог решить, что лучше — равенство в смерти или равенство в бедности, что бы он предпочел, окажись каким-то чудом вновь перед этим выбором…
А окрестные холмы все больше и больше ощетинивали гривы, играли каждым бугром, словно мускулами. Казалось, гигантские косматые чудовища подползали на животах к селу — уже начали спускаться вниз молчаливые орды.
9
Когда настали последние часы боя и выстрелы поредели, поредело и большое Хадживранево семейство. Но горести горестями, а богатство все еще было цело…
Глава первая
1
Бабка Гюрга — Хаджийка — и ее пятилетняя внучка Деянка сидели, притаившись в углу каменной церкви среди кулей с мукой. Сюда их привели мужчины, когда башибузуки овладели редутами и бой перенесся на улицы и в дома. Теперь на кулях лежали трупы. Муки были много, запасы на целый месяц, но за четверо суток обороны никому и в голову не пришло к ней притронуться. Людей мучила жажда — последний источник, тот, что в овраге за церковью, уже был во вражьих руках. Раненые умоляли дать им воды, дети с плачем просили хотя бы глоточек, но наконец все всё уразумели и утихли.
Из окон, заложенных мешками с песком, время от времени раздавались выстрелы. В живых осталось только несколько повстанцев, и они берегли заряды. Снаружи в стены церкви ударялись ядра, и святые на внутренних росписях оживали, взмахивали руками и во весь рост плашмя грохались о плиты.
Бабка Гюрга, оцепенев, глядела в сторону алтаря. Там, до того как обрушился кирпичный купол, лежали ее сыновья: Тодор, Насе и Павле — двое мертвых, третий раненый. Своды погребли их вместе с женами и детьми, которые пришли их оплакивать. Сейчас перед алтарем, над грудой битого кирпича, было светлее, чем в остальном храме. Только там был виден дым от карабинов, его клубы возносились сквозь отверстие в разрушенном куполе, словно души усопших.
Старая женщина осталась вдвоем с Деянкой, сироткой, дочерью Павле, но и та была при смерти. Девочка металась в бреду у нее на коленях, шевеля растрескавшимися от жажды губами, и душа ее тоже могла отлететь. Есть ли вода там, куда улетают души? Многое объяснял батюшка, но это упустил. Учитель Бонев, который сказал во время одной из своих воскресных бесед, что на эту пасху и Болгария воскреснет, тоже не упоминал о воде.
До вчерашнего дня тут же топтался и ее старик, Хаджи-Вране, делал заряды для бойцов, бранил тех, кто поднял молодых на бунт, и в первую голову — Учителя. Петушился, наскакивал, словно хотел клюнуть его своим длинным носом. Двое таких были уже расстреляны, ему прощали ради сыновей. Петушился, а вечером, как только стемнело, зарядил пистолеты, взял кувшин и пошел искать воду для внучки. Пошел и не вернулся. В оцепенении своем бабка Гюрга уже забыла о нем, но стоило ребенку застонать, как она устремляла взгляд к наружным дверям — поглядеть, не идет ли он с полным кувшином. А он все не шел, и там все стояли, охраняя вход, двое других стариков, которых она теперь не могла и признать. Окровавленные, покрытые пороховой копотью, они стояли по обе стороны входа, подняв ятаганы, словно два архангела, а порог перед ними был устлан телами, головами и фесками.
Молодых мужчин оставалось наперечет, и они словно обезумели: целовали друг друга, целовали близких, убивали их, а потом убивали и себя, говоря, что так они венчаются со свободой. А близкие не противились, некоторые даже просили обвенчать их тоже. И старуха, пожалуй, была рада, что сыновья ее погибли раньше — сил не было ни смотреть на это венчанье, ни поверить, что такое может быть. Потом, когда она снова открыла глаза, молодых мужчин уже не было, мало осталось и молодых женщин. А Деянка все стонала, просила пить. Бабка Гюрга взглянула на двери. Сейчас и стариков там не было.
Там уже были живые турки, и один из них, с белой бородой, в синем суконном мундире с золотыми пуговицами, с саблей на боку, приказывал живым выйти и говорил, что бояться им нечего — он сам, Решид-бей из Филибе, прощает их и берет под свое покровительство. И Тымрышлия будто бы прощает, никто не собирается им мстить…
Тогда из церкви во двор вереницей потянулись старухи, женщины и дети, а мужчины остались в церкви, потому что полегли все до единого. Пошла и бабка Гюрга с Деянкой на руках и, выходя из дверей, обернулась назад. Она увидела много людей, лежащих на кулях и на плитах, но из своих никого не углядела.
— Чабук, чабук (скорей, скорей)! — подгонял молодой тщедушный турок. — Воду дают!
Турок светился, как головешка, и плиты снаружи светились, и какие-то каменные ограды светились, и все горы за селом, с лесами и нависшими скалами, тоже светились; старуха пошатнулась и привалилась спиной к наружной стене, и свет струился, бушевал потоком в ее ушах, хотел увлечь за собой; он струился отовсюду — с небес, с гор — и пах зеленью. Снаружи стена была теплее, чем изнутри. Полегоньку поток стал убывать. Над селом тоже стлался дым.
Вылковиште и Власовица стояли все там же, где создал их бог, и все такие же, какими он их создал: каменистые, с редкой травой, безлюдные и мирные. Уже не было желтого шатра на вершине, не было стягов, не было и темных устрашающих мужских фигур с карабинами. То ли ушли эти люди, то ли спустились в село, но их не было видно ни наверху, ни около церкви. Верно, это они жгли и убивали. Те же, что сейчас сновали вокруг, выглядели не зло — не может быть, чтобы это они творили такое. Верно, паша привел их, чтобы прогнать башибузуков и спасти хотя бы то, что осталось от села. Лица у них были спокойные и добродушные.
2
Трупы были и во дворе церкви, а на припеке у ограды лежал желтый чахоточный Учитель; он лежал, как живой, верно, потому что голова его не была отрезана, как у других, и карманы не были вывернуты — цепочка от машинки, отмеряющей время, единственной в селе, блестела из-под расстегнутого сюртука; даже рукоять пистолета все еще была зажата в его ослабевшей руке.
— Ну как, теперь ты доволен, Учитель? — спросил его Хаджия намедни, в церкви, полной дыма и стенаний. — Доволен, что сжег село?
— Доволен, дед Хаджия, — ответил Учитель. — Самые лучшие сваи — обожженные, они не гниют в земле. Болгарии нужны такие сваи.
— Кто станет забивать сваи в пустынную, безлюдную землю, Учитель?
— Самые пустынные земли — это те, за которые никто не умирал, а самые населенные — те, за которые люди отдали свою жизнь. Священные это земли.
Словно с иконы слетали слова — мудрые, жестокие и глухие.
— Что знаешь ты о земле? Какой землей ты владел? В отрепье пришлось бы ходить, кабы не зять, что тебя выучил… — Зол был старик. За его спиной стояли раненые: Спас Гинов, который и теперь говорил, что никто из его рода не будет больше жить под турком, Кочо Честименский, приехавший из Филибе, чтобы умереть в Перуштице. Стояли они мрачные за спиной Хаджии, ждали, когда Учитель подаст глазами знак, чтобы заставить навеки умолкнуть дурные уста. И, не дождавшись, шли стрелять. — Что у тебя есть? Нет даже пса дворового!
— Верно, — отвечал Учитель, и лицо его пошло пятнами: желтыми, красными и черными. — Я не чорбаджия, ничего у меня нет. Потому и побратался я с общим делом, чтобы вывести вас на свободу…
— К общей плахе вывел ты нас.
— Для таких, как ты, — это честь. И за тысячу лир не купить тебе этого. Глядишь, после плахи доберешься вместе с народом и до гуслы[35].
— О какой гусле болтаешь, ты, голь перекатная?
— Обыкновенной, дед Хаджия! Из одного материала сделаны плаха и гусла, потому и ладят друг с другом.
— Вот как? Для того тебе, значит, народ потребовался? В песню тебе захотелось!.. Большая была дружина, а поют только об Индже-воеводе[36] — то бишь, об Учителе…
— Будь покоен. И обо мне петь не станут. Я ведь даже не знаменосец. Наш Индже-воевода по другим краям скачет… Но о ком бы ни пелось в песне, будет славить она подвиг болгар!
Еще что-то сказал Вране, но Учитель заорал: «Молчать, так тебя и разэтак!» — и странно это было, потому что никто до сих пор не слышал, чтоб он на кого-нибудь так орал, и выхватил пистолет; и старуха ждала не дыша, но он только произнес: «Сыновей своих благодари!» — и пошел к наружным дверям; потом обернулся и крикнул живым и мертвым: «Братья! Свершилось то, чего мы желали… Не быть больше рабству!» — и медленно вышел наружу; и никто в него не выстрелил, и в церкви все, кто мог, вскочили и стали смотреть из-за мешков с песком, а он во весь голос, как на свадьбе, закричал туркам: «Э-ге-гей! Кончилось ваше время!.. Отныне только месть будет родить наша земля! Ме-е-есть!» И тут никто в него не выстрелил, фески удивленно торчали над каменной оградой; и много времени так прошло, а он подошел к ближайшей феске и выстрелил в упор; тогда грянул выстрел из карабина, точно из пушки, и он, покачнувшись, рухнул, подобно тому как святые падали с церковной стены. И до сих пор все еще лежал нетронутый. Над ним в задумчивости стоял главный турок с золотыми пуговицами. Кто-то кричал: «Воды! Воды!» — но Учитель не поминал о воде.
3
Одежда ее вымокла, веселые капли щекотали кожу старых грудей, она облила водой и девочку, которая не в силах была сделать ни глотка, и в третий раз зачерпнула ковшом из бочки. И снова почувствовала ласку воды, на этот раз еще сильнее, еще глубже, и снова потянулась было, но кто-то локтем выплеснул воду, отнял ковш, и онбашия[37] толкнул ее в спину, чтобы она шла с церковного двора на площадь.
Там уже образовалась вереница старух, женщин и детей. Бабка Гюрга подошла к ним, и они двинулись по горящим улицам. И сквозь густую завесу дыма она увидела за чужими дворами два старых ореховых дерева на своем дворе, и темную черепицу, и светлые резные столбы галереи, но не могла разглядеть, дымятся они или нет… И низки прошлогоднего перца висели все там же — в дождь и снег стручки размякали, а потом снова высыхали на солнце. Лишь в углу под широкой стрехой обвалилась синяя штукатурка. Для пули — много, для ядра — мало. Из-под нее серели камни, краснела глина…
…Весь дом следовало делать с известкой и песком, но известку и песок пустили лишь на фундамент, а для стен она месила красную глину с соломой. Ногами месила, сама, потому что, как только привели мастеров, тут же из всех окрестных сел явились Враневы братья и другие родичи — проверить, что заготовил Вране для постройки, сколько денег уйдет на поденщиков и можно ли все это покрыть доходами с виноградников… Худая была у Вране родня, завистливая. Ничем не помогли, только помешали сделать дом с известью. В чем они его подозревали, никто не знал. Вране божился ей однажды вечером, что все промеж них чисто, и так оно и было. Ей ли этого не знать — ведь всю свою молодость она встречала и провожала солнце с мотыгой в руках. И родичам работу давали, и их кормили, и все одно угодить не могли… А столбы галереи уже потом резьбой покрывали — оттого и казались они теперь новей всего остального…
Она остановилась и взглянула из-под ладони. Меж столбов стоял кто-то высокий, в феске и зеленом кафтане; он очень походил на Исмаила-агу, самого знатного турка из тех, что когда-либо ступали на эту галерею. Точно так же в былые времена, стоя на галерее, наблюдал он сверху, как ее сыновья вываживают по двору его взмыленного рыжего скакуна, как затем поят его и как играет во дворе Деянка, темноглазая и в отца русоволосая. Бездетным был ага и от души радовался ее красивой внучке, но было это когда-то очень давно, когда ее сыновья были покорны: было это раньше, чем агу напугали в Хадживраневом доме, раньше, чем она увидела его униженным. Когда-то. Словно раньше, чем был построен сам дом…
Сейчас она не могла с уверенностью сказать, ага это или нет; она сонно брела вместе с другими, глядя в ту сторону, и ветви старых орехов постепенно заслонили от нее прошлое; там, под орехами, был колодец со студеной водой, плиты вокруг позеленели от влаги, колодезный ворот поскрипывал сладко-сладко; рядом, в каменной колоде, летом студили ракию и арбузы; а когда полное ведро, раскачиваясь, добиралось до верха, по его мокрым стенкам сбегала вода, и много капель пропадало понапрасну… Бабка повернула было к колодцу, но онбашия толкнул ее обратно в вереницу.
Село горело, и женщинам сказали, что роздых дадут им в поле. Вереница медленно тащилась по дымным улочкам и чем ближе подходила к околице, тем реже становился дым, потому что огонь снял жатву с окраинных улиц еще в первые дни. И уже чувствовался запах цветущего миндаля, вырядившегося, точно гулящая девка, в розовое, веселого и бесстыдного среди черных пепелищ; со дворов тянуло запахом вскопанной земли и гиацинтов…
В молодости она сажала много гиацинтов, потом они сами разрослись, превратившись в целую грядку перед домом, да и другие женщины сажали во дворах гиацинты, но сколько ни озиралась сейчас бабка Гюрга, гиацинтов нигде не приметила. Да и как станут цвести гиацинты в такие времена? И тут она сообразила, словно вспомнила что-то забытое: ведь гиацинты давно исчезли, она их никогда уже больше не увидит, да и никто, пожалуй, не увидит, — как же встретиться людям с цветами, когда и тем и другим пришел конец… Шаг за шагом все гуще становился запах жареного сезама. Он тянул бабку Гюргу к околице.
Там, где кончались дома, возле дороги, из земли торчала крыша, рухнувшая в глубокий подвал. Остались стоять только каменные столбы с обуглившимися стропилами. Из подвала шел тонкий парок с дорогим для Хадживраневых запахом. Когда-то это была их яхна. Сколько мехов с сезамовым и ореховым маслом ушло отсюда, чтобы, пропутешествовав до самого Эдирне, возвратиться звонкой монетой…
Но прошлое испарялось, и запах его остался далеко позади. Старуха брела следом за другими, прикрыв глаза, то и дело спотыкаясь и чуть не падая под тяжестью ребенка. Сейчас по обочинам сыпучей песчаной дороги, ведущей к Хадживраневым вязам, густо цвели белая вероника и желтые лютики, склоны вокруг были покрыты виноградниками. Виноградники давали хороший урожай и хорошее вино, которое тоже находило спрос в дальних краях, и здесь, среди виноградников, у вязов, были зачаты их первые барыши, яхна и ее первенец…
…Когда подходило время окапывать лозы, они с Вране трудились дотемна, старались заработать лишний грош. Оставшись вдвоем и закончив ряд, присаживались закусить остатками от обеда… В тот раз у них был только хлеб да репчатый лук. Вране устал, кусок не лез ему в горло, а она его упрашивала, потому что это был весь их ужин. Но он все отказывался. Тогда она оставила его и пошла за лозы — весь день она терпела, стыдясь стариков и деверя. И только-то поднялась, как увидела над собой Вране, щеки его впали, глаза блестели. Она сказала ему, чтоб он не приставал, хотела запустить в него комом земли, потому что небо над ними еще не совсем потемнело и как бы смотрело на нее, а Вране тихо рычал: «Чабуджак, мари (по-быстрому)…» Но не получилось «по-быстрому», как он ей обещал, и весь он был из кости и мускулов, и когда они наконец поднялись, повсюду уже лежала спокойная теплая тьма. И тогда он сказал: «Есть хочу», — и они съели весь хлеб и лук, и она смотрела на него в темноте и знала, что такого мужчину и такую женщину господь бог не обойдет своим благословением… Это было когда-то… Много она тогда работала и другим не давала спуску. Сладок был ей вкус хлеба и лука, сладко было сознавать, что еще одним грошом будет у них больше, что Вране станет хаджией, что именитых, богатых турок будут они принимать в своем доме. Хорош был когда-то лук, если отбить его для сочности кулаком и круто посолить. Хорошо было последними возвращаться с поля. И ни о чем другом не думала она сейчас, бредя по этой стократно топтанной ее ногами песчаной дороге, кроме как о тех своих железных черных грошах, которые уже никто не в состоянии был снова сделать желанными, еще не заработанными; никто, ни за какие блага на свете.
4
И, спотыкаясь, она стала всматриваться туда, за ложбину, влево от дороги, стараясь разглядеть сквозь пелену, застилавшую ее старческие усталые глаза, Хадживраневы вязы на винограднике. И все думала о грошах и мучительно старалась отогнать от себя одно слово: «алтыны»[38], «алтыны», которое мешалось, звенело в ушах, отнимало у грошей их сладость. «Алтыны!» — опять мелькнуло среди грошей, но на этот раз слово произнес кто-то другой. И тут бабку Гюргу пихнули, она чуть не упала, схватилась за чьи-то спины и в тот же миг услышала задыхающийся женский голос: «Нет у меня алтынов, говорят тебе, нет!»
И увидела, как какая-то молодуха и тщедушный молодой турок кружатся за придорожной канавой, ломая лозу за лозой. Турок вцепился женщине в ворот, но она, рослая, смуглая, вырывалась и вертела его вокруг себя. Он держался цепко, и так они вдвоем танцевали какую-то немую рученицу без музыки, и никто из них уже ничего не выкрикивал, и вереница тоже молчала, и слышно было, как трещит лоза у них под ногами, и тогда рослая молодуха наклонила голову и вцепилась зубами ему в руку, но он свободной рукой вытащил нож и всадил его ей в горло, повалился вместе с ней на землю, а когда поднялся, в руках его блестело монисто из крупных пендар. Молодуха вздрагивала и хрипела, взбрыкивала, лежа среди лоз, и прихлопывала руками по юбкам, словно отряхивала с них землю, а турок, высоко подняв монисто, улыбнулся веренице.
Тогда кто-то снова толкнул бабку Гюргу, она снова услышала чьи-то тихие, придушенные голоса, поминавшие алтыны и пендары, и снова увидела немую рученицу среди виноградных лоз, но на этот раз рученицу отплясывали в пяти-шести местах, по обе стороны дороги.
А вереница перестала существовать: одни женщины метались между рядами лоз, подобрав юбки, согнувшись под тяжестью детей, но началась пальба, и при каждом выстреле одна из них, споткнувшись, падала; другие, сбившись в кучу, беспомощно жались друг к другу, но турки по одной оттаскивали их за руки в сторону, и было очень тихо. Слишком часто за последние дни встречались женщины со смертью, смертью всего дорогого, чтобы встречать теперь свою воплями.
Но внезапно из тишины, перемешанной с топотом бегущих ног, хрипом и одиночными выстрелами, рядом с бабкой Гюргой всплыл крик, один-единственный и как будто знакомый. Словно кричала одна из ее невесток. Старуха не понимала, которая это из трех, не понимала, как могла она добраться сюда из-под обвалившегося купола, но голос молил и звал:
— Дитятко-о… О-о-о-о-о… Мамонька!..
Точно такой же вопль оглашал ее дом, когда рождались внуки. «Ди-тят-ко… О-о-о-о!..» — вопль повторился, пронзительный, дикий, возвещающий на этот раз не о жизни, а о смерти. Он вывел старуху из забытья, и она, как безумная, со всех ног бросилась на этот зов через лозы, через трупы женщин…
— Насевица-а-а, это ты, доченька? И-ду-у-у!.. — Потом ей почудилось, что голос доносится с другой стороны, что он изменился, и она повернула туда: — Павлевица-а-а, не бойся, невестушка-а-а! Иду-у-у!..
«Иду-у-у!..» — сливался ее голос с редкими выстрелами и приглушенными, кровавыми шумами тишины. Но внезапно она задохнулась, в глазах у нее потемнело, она сделала несколько неверных шагов, словно перепила в Повитухин день, выпустила ребенка, рухнула на колени и вонзила пальцы в мягкую, так недавно и так давно вскопанную землю.
От удара Деянка открыла глаза и тут же снова забылась. А старуха все повторяла осипшим голосом, глядя перед собой остановившимися остекленевшими глазами:
— Не бойся, невестушка, иду, не бойся…
5
— Таушан, таушан (заяц, заяц)! — крикнул кто-то. — У-лю-лю-ю!
Кто-то выстрелил, кто-то от души расхохотался, зверек прошмыгнул между виноградными кустами, замер на мгновение перед лежащим ребенком и кинулся в сторону, смешно подбрасывая зад.
— Улю-лю-лю! — крикнули все разом и повернули к селу.
Вокруг все стихло, обезлюдело. Над рядами лоз не торчало ни одной головы. Говор конвойных становился все глуше, удаляясь по дороге в село. Что-то грузное проплыло над дорогой, над межами, и спустя немного на ветви диких груш, на колья виноградника опустилась стая воронов. Крупные черные птицы прилетели беззвучно, неповоротливые, сытые, и теперь сидели, не шелохнувшись.
Бабка Гюрга, все еще стоя на коленях, почувствовала, что ее тронули за плечо. Она медленно повернула голову. Двое турок — пожилой, беззубый, с тонкими усиками, шнурами спускавшимися к подбородку, и все тот же молодой, тщедушный — молча смотрели на нее. Где-то за ними остановился третий, верхом.
— Не янаим, неня (что поделаешь, старуха), — произнес второй и пожал плечами. — Придется отдать.
И, встретив ее недоуменный взгляд, добавил:
— Алтыны, старуха, лиры, отдай добром и иди своей дорогой, осточертело убивать.
— Лиры, казым? — спросила старуха. Хадживраневым теперь не нужны были лиры, и она тотчас отдала бы все до единой, но они остались в селе, там, где клубился дым. — Дома, — сказала она, — в подвале, под бочками… Как войдете…
Турки переглянулись. Беззубый кивнул другому. Бабка смолкла, не договорив, и втянула голову в плечи, как старая черепаха; бросив беглый взгляд на Деянку, все еще лежавшую без сознания на рыхлой земле, она решила, что надо бы посмотреть и на небо, и в ту же минуту услыхала чей-то окрик, и еще больше съежилась, и увидела, что это кричал всадник, — впившись взглядом в ребенка, он поспешно пришпорил коня и подъехал ближе.
— Где все остальные, бабка Хаджийка? — спросил он, не спуская глаз с Деянки.
Это был красивый, темноглазый человек средних лет, в зеленом шелковом кафтане, сплошь расшитом серебром. Бабке снова показалось, что это Исмаил-ага, владетель из Устины, она вгляделась хорошенько и поняла, что это и впрямь он. Сколько жареной баранины и густого красного вина перетаскала она для него наверх, на галерею!.. Он, верно, был ровесником ее первенца, но выказывал уважение только старику, отвечал только на его селям и только с ним вел беседу. Иногда и с ней. Сыновьям же дозволялось лишь принять от него узду да выводить жеребца. Такой порядок был когда-то, неделю тому назад.
Ага продолжал смотреть на ребенка, задумавшись, словно забыв про свой вопрос, и это было когда-то его правом — спрашивать, не нуждаясь в ответе. И старуха не знала, тот ли он ага, что был до пасхи, или уже такой, как те двое…
…Была пасха, и впервые в этот божий праздник молодые поздравляли друг друга словами: «Болгария воскресе!» — а сыновья ее горячили коней на гумне, собирались скакать на площадь. Исмаил-ага приехал в гости, почтить праздник своего кунака. Ворота были распахнуты. Он осадил жеребца посреди двора и сам спрыгнул с седла. Из-за каменной ограды выглянули чьи-то чубатые головы. Тогда он впервые кивнул ее сыновьям. Они тоже кивнули, но не спешились, не бросились, как бывало, принять узду его коня. Он ждал, перекидывая поводья из руки в руку, и смотрел, как они кружат по гумну, а они яростно нахлестывали коней и бросали виноватые взгляды в сторону голов над оградой. Где-то пристреливали пистолеты, а церковный хор пел на площади: «Восстань, восстань, юнак балканский!» Мать видела из оконца горницы, как Исмаил-ага вытер рукавом взмокший лоб, и чуть не разрыдалась, трижды прокляв учителя Бонева за то, что он замутил головы молодым, и сама выбежала встречать гостя, а старик уже приглашал его на галерею. Исмаил-ага стал подниматься по деревянным ступеням, медленно, спотыкаясь. А когда он встал, чтобы ехать, лоб его все еще блестел от пота, и он отдал прощальное темане[39] всем ее сыновьям, а Павле поскакал впереди, чтобы доставить его живым в Устину, и было не ясно, кто райя, а кто господин, и на этот раз она дала волю слезам, и плакала в горнице, и молила бога простить ее давешние проклятия, и еще молила она бога, чтобы не лишил он село своей благодати… После она еще много раз кляла и брала свои проклятья обратно, пока душа и губы ее не онемели…
Сейчас устинский владетель не отрываясь глядел на Деянку. Богат был он, добр, всего у него было вдосталь, только детей не было, всегда он был ласков с девочкой, и почитали его как господина. Здесь, на винограднике, среди трупов, старуха могла ожидать от него или помощи, или мщения. И что бы ни пришло, оно пришло бы сполна, и все же ее землистая, морщинистая шея уже не втягивалась в плечи.
— Где они? — снова спросил ага. — Уцелели?
— Нет их, Исмаил-ага, только внучка и осталась, спаси ее! — взмолилась бабка, не поднимаясь с колен. — Дед Хаджия до последней минуты все о тебе поминал, на тебя надеялся… — Она лгала, протягивая к нему руки, как лгала в своей жизни многим торговцам, взбудораженная сейчас крохотной, тревожной надеждой, и вглядывалась в лицо турка, пытаясь понять, что он думает, не перемигивается ли с другими турками. И она подползла к тонким ногам жеребца, чтобы быть подальше от тех двоих и чтобы не обрушилось на нее что-нибудь сзади, из-за спины.
— Я не забыл старых друзей, — медленно и мрачно произнес всадник. — Когда Шабан-ага, мой брат, отправлялся с устинскими башибузуками в ваше село, наказал я ему защитить вас от смерти и разорения… Не знаю, что тут стряслось, ты сама мне скажешь, только дом ваш как стоял, так и стоит, я еду оттуда…
Он говорил через силу, как бы исполняя какой-то долг, скорее для себя, чем для старухи, и именно потому она ему поверила, и перестала вглядываться в его лицо, и уже не протягивала больше рук, и не думала, что бы ему сказать, да и всадник умолк, засмотревшись на смуглое детское личико в золотистом ореоле волос, засмотревшись на это странное сочетание, на эту редкостную красоту, которая его всегда поражала. Потом бабка услышала, как он грубо крикнул тем двоим, что все еще ждали в сторонке:
— Дефолун бурда бре (а ну, убирайтесь)!
Те переглянулись, нехотя отошли на десяток шагов и присели среди лоз, как шакалы. Вороны на ветках пошевелили крыльями, но не улетели. Она еще раз услышала, как Исмаил-ага крикнул туркам, чтобы они убирались, но те так и остались сидеть на корточках, и пожилой, с усиками-шнурами, вытащил кисет. Потом уже никто ни на кого не кричал, но и ей ничто не угрожало. Солнце слепило глаза, блестело на рыжих ногах жеребца: лоснящаяся кожа, обтягивающая сухожилия, подергивалась, и мухи перелетали там с места на место; солнце припекало ее старую голову, и хорошо было сидеть вот так, на земле, хорошо было и то, что дом остался цел — с галереей, с нарядными половиками и кошмами, — и она удивлялась, что мешает ей маленько прилечь на них, подремать, и почему кто-то ее тревожит.
— Бабка Хаджийка, — сказал ага на этот раз громче, — тебе надо встать. Я провожу вас до Устины. Вы останетесь в моем доме.
Медленно поднимаясь и беря ребенка, она услышала удар огнива о кремень. В десяти шагах, присев между лозами, двое турок высекали огонь, но смотрели не на труп, а на нее. И она быстро поднялась и пошла между рядами виноградных кустов к дороге, перешагивая через трупы в сукманах[40] и платках. Исмаил-ага тронул коня следом.
Глава вторая
1
Исмаил-ага слез с коня и шел теперь рядом со старухой, расспрашивая ее о том, что и как сталось с дедом Хаджией и его сыновьями. Жалел их. Столько пришлось претерпеть этим людям, что ага прощал им своеволие последних дней: «Жаль, ах, как жаль!»
Они уже миновали виноградники и начали спускаться вниз, к Устине. Перуштица дымилась где-то позади, под нависшими скалами Родоп, готовыми обрушиться на нее, если огня окажется недостаточно. Дорога к турецкому селу вилась между низкими голыми холмами и уходила дальше, через плоскую, как противень, равнину, в Филибе.
Исмаил-ага рассчитывал повстречать кого-нибудь из односельчан и поручить ему старуху с ребенком, но до сих пор им навстречу попались только верховой — военный гонец — да ватага цыган. Цыгане спешили к месту поживы, оглашая холмы гортанными криками. Скоро ага потерял надежду встретить своих: все устинцы, что могли ходить, давно ушли вместе с его братом в Перуштицу, и вряд ли кто-нибудь из них стал бы возвращаться так рано. Ему и самому хотелось быть сейчас в гяурском селе, собственными глазами видеть все, что творилось в этот страшный и неповторимый день, умерить пыл своего брата, потому что Шабан-ага был человеком необузданного нрава, вспыхивал, как сухая солома, — веселье ли его звало, ссора ли. Или, как сейчас, месть. Но прежде всего он должен был передать старуху с ребенком в надежные руки. Он мог бы спрятать их где-нибудь в укромном месте и забрать к вечеру, но окрестные низкие холмы не внушали ему доверия. Он знал, что и дальше за ними так же голо, те же редкие кусты и та же серо-желтая прошлогодняя трава, из-под которой едва начала пробиваться свежая зелень. Он продолжал идти рядом со старухой, расспрашивая ее теперь уже о невестках, и ощупывал глазами каждый куст терновника, каждый граб у дороги. «М-м… Значит, Павлевица тоже!..» — бросал он рассеянно время от времени, и старуха отвечала так же коротко: «Тоже, ага». — «Жаль, ах, как жаль!»
Только один раз он высказался более пространно:
— Когда я ехал к вам на праздник, по дороге мне встретился чорбаджи Рангел Гичев с пятью другими перуштинцами. Они спешили в Филибе, к паше — просить, чтобы тот послал аскеров, прежде чем грянут первые выстрелы. Деда Хаджии с ними не было…
— Не было, ага, — подтвердила старуха. — Он пошел к роднику…
— Жаль, ах, как жаль…
Вокруг было по-прежнему голо, виднелись только редкие кусты среди прошлогодней и молодой травы, навстречу никто не попадался, путь предстоял немалый, и Исмаил-ага пожелал нести ребенка. Он держал девочку, стараясь не прижимать ее к себе, чтобы не испачкать кафтан. Уздечка осталась висеть у него на руке и терлась о золотые косички. «Отец тоже был красив, но она еще красивее», — подумал Исмаил-ага и представил себе, как заблестит эта красота, когда ребенка вымоют и нарядят. Ему стало почему-то радостно и в то же время горько, и он спросил себя, которая из его пяти жен будет лучше заботиться о девочке?..
…Все они страдали от того, что у них не было детей, но ни одна не жаловалась, он же страдал семикратно — за каждую из них, за себя самого, а еще и оттого, что люди, пусть у него за спиной, часто судачили о его беде. И он стыдился открыто ходить по селу или ездить со своей бедой по полю, ибо знал, что ни богатая одежда, ни дорогой конь не спасут его, что все — мужчины и женщины — тут же видят его беду; и редко Исмаил-ага ходил в кофейню, и еще реже — к женам и проклинал ту ночь, когда он заплатил пьяным девкам в Гюльхане по одной лире… и мужской радостью всей своей жизни…
Он жил почти один в верхней, мужской, половине богатого и печального Устин-сарая. Имением управлял его брат. Хорошо еще, что до Филибе было рукой подать, хорошо еще, что в окрестных селах были у него кунаки и он мог ездить к ним, когда тоска брала за сердце. Он знал, что его приезд — праздник для гяурских домов, и сам чувствовал себя там превосходно, потому что беда оставалась за воротами. Он не знал, отчего так происходит, но в гостях у кунаков он был тем, чем уже не мог быть в Устине, — сидел с гордо поднятой головой, открыто и жадно наблюдал за чужими детьми, даже несколько раз позволил себе приласкать это золотоволосое темноглазое дитя — дитя, которое он нес сейчас на руках, не опасаясь, что может вызвать оскорбительное сочувствие.
2
Исмаил-ага продолжал идти рядом с бабкой Гюргой, чувствуя горечь и умиление, и не замечал, что старуха еле волочит ноги по белой сухой дорожной пыли, оставляя за собой неровные борозды. Ему хотелось отогнать горечь, отогнать все лишнее, и он упрекнул себя в том, что всю дорогу говорит только о мертвых. Этот день должен был стать праздником и для него, и для старухи, и для ребенка, ибо он, Исмаил-ага, спас их и отныне для всех троих начнется новая жизнь. Ему захотелось сказать что-нибудь подходящее к случаю, слова, которые, запомнились бы навсегда.
— Я не берусь судить вас за ваши грехи — небо рассудит, — нашел он наконец нужные слова. — Аллах послал меня вовремя, чтобы я мог сотворить добро вашему дому, где меня принимали как друга… Счастье выпало сироте… Спит… Пусть спит… Несколько лет тому назад, по дороге из Мекки, купил я пятьдесят аршин шелку, желтого, зеленого и пунцового… Шелк этот суждено носить твоей внучке, верно, на то воля аллаха…
…«Добро»… «Счастье»… — слова эти едва доходили до сознания старой женщины. Сейчас ничто не угрожало им — ни ей, ни Деянке. После стольких мытарств, стольких смертей ею овладела усталость, сон валил ее с ног, и она, шатаясь, шла по дороге. Ей не раз доводилось ходить пешком в турецкое село, но сейчас дорога казалась бесконечной. Далеко еще до этой Устины!.. «Далеко еще идти, Вране!..» — «Еще немного осталось, Гюрга, еще немного…» — «Может, скинем обувку, Вране, и идти станет легче, и подметки не будут зря снашиваться, новые как-никак, а дойдем до Устины, снова обуем…»
Исмаил-ага шел, сам не замечая, как прижимает ребенка к своему зеленому шелковому кафтану.
— Словно роза будет цвести в моем доме, — продолжал он задумчиво. — Все ее будут лелеять, ни забот, ни тревог, полный достаток… Вы, болгары, не умеете радоваться красоте. Одного и того же хотите и от красивой женщины и от ослицы — работы…
…А Гюрга шла сейчас с мужем… Дурная лихорадка затрясла Хри́стоса, Хри́стоску, самого меньшего, того, что после помер, и вот они с Вране несут его к устинскому ходже. Идут пешком, потому что не по нраву придутся устинцам гяуры на хорошей телеге, да еще запряженной хорошими лошадьми, а у них с Вране плохих уже нет. Да и не хотят они, на плохих-то. Вране тащит больного на спине, черные как смоль пряди прилипли ко лбу. «Грех берем на душу, Гюрга, ой, грех, будто у нас своего, болгарского попа нет!» — «Грех! — возражает она. — А что, мы виноваты что ли, что турецкий господь сильнее нашего! Ему Хри́стоса отряжу, прости меня господи, пусть обрезанным ходит, пусть его Магометом кличут, только бы хворь его отпустила!..» Вране помалкивает — не хочет препираться, и она знает, почему не хочет. Уж больно она зла на язык, и в работе зла, зла, как гадюка, да только точно такая ему и нужна, с нею он человеком стал, именитых турок в доме своем принимает… «Роза»… «Красота»… — долетало откуда-то издалека, но слова эти относились не к ней, и она шла пошатываясь.
Они добрались до Горок, местности, поросшей густым кустарником, буйно поднявшимся от корневищ старого вырубленного леса, когда Исмаил-ага вдруг смолк и остановился.
— Бабка Хаджийка! — крикнул он старухе в самое ухо. — Бабка Хаджийка!
Она удивилась — с чего это вдруг зовут ее «бабкой»? — и взглянула на идущего рядом. Тот был в феске и с ятаганом. И Деянка была у него в руках… Старуха кинулась к нему, выхватила девочку и пустилась бежать прочь от дороги, через кустарник. Турок стоял пораженный, он крикнул, чтобы она остановилась, но старуха продолжала продираться сквозь хлеставшие ее ветки. Тогда он привязал коня к придорожному грабу и бросился следом. Настиг ее. Старуха упала ничком и, не в силах подняться, поползла вперед, елозя локтями по сухой прошлогодней траве и белой веронике, по-прежнему прижимая к груди Деянку.
Исмаил-ага преградил ей дорогу и отнял ребенка; Деянка, ошеломленная падением, всхлипывала, не приходя в сознание. Лоб ее был исцарапан, и над правой бровкой, наливаясь, росла крупная капля крови. Ага вытащил кисет, вполголоса браня полоумную старуху, растер табак, присыпал им ранку и осторожно прижал пальцем. Деянка зашевелилась и, верно, оттого, что этот мужской запах был запахом ее родного дома, где столько мужчин-курильщиков любили ее и баловали, заплакала и потянулась ручонками к аге. Сердце турка радостно дрогнуло. Он надергал сухой травы и уложил на нее девочку, затем, взяв старуху за плечо двумя пальцами, помог ей подняться на колени.
3
И лишь тогда она произнесла:
— Прости меня, Исмаил-ага. Я тебя не признала.
— Анладым, анладым… — ответил ага. Выходит, все, что он говорил дорогой, было сказано в пустоту. — Понимаю, понимаю…
— Много людей зарезали ваши, Исмаил-ага, вот я и…
— Вы сами заварили кашу, бабка Хаджийка!
— Много людей… И не знаю, что станут говорить мне мои глаза дальше, не будет ли, вот как сейчас…
— Пустое болтаешь, бабка Хаджийка!
— Почему ж пустое, Исмаил-ага?
— Пустое, говорю! Что было, то прошло, и забудем об этом. Я в те дела не лез и не хочу, чтоб ребенка ими тревожили… Пусть растет, не зная забот… Слышишь, бабка Хаджийка!
В ответ старуха беззвучно пошевелила губами. Он повторил свой вопрос, желая покончить с этим раз и навсегда. Но, взглянув на нее, вдруг увидел, что губы ее дрожат, дрожит подбородок, голова, все ее большое исхудавшее тело. Бессмысленно было ждать сейчас ответа, но через день-другой он еще к этому вернется.
Исмаил-ага взглянул на дорогу — нет ли какой телеги. Он мог доставить их в Устину только на телеге. Дорога, рано начавшая пылить этой весной, была почти целиком скрыта зеленью: лишь кое-где, сквозь верхушки кустарника, она белела под раскаленным полуденным солнцем и была пустынна из конца в конец. Тогда Исмаил-ага внезапно решил, что это место как нельзя лучше подходит для отдыха. Пусть старуха с ребенком поспят, соберутся с силами. А он, сделав свое дело, к вечеру за ними вернется. И ага испытал острую радость оттого, что еще немного — и он уже будет один и поскачет обратно в гяурское село.
Он принес мех с водой, отвязав его от седла, и велел старухе хорониться в кустах, пока он не вернется с телегой. И не делать глупостей, а сидеть смирно, чтобы не заприметил их ненароком какой недобрый человек, — времена нынче такие, ни с кого потом и не взыщешь. И еще велел ага: если девочка очнется, ничего ей не рассказывать. Он повторил это трижды, строго, чтобы его хорошенько поняли, и тогда старуха, кивнув, неожиданно оживилась:
— Спроси про батюшку, Исмаил-ага… Не видел ли его кто, живой ли он? А коли живой, пусть отслужит панихиду в церкви и на винограднике. И попроси его, чтобы собрал всех наших в одну могилу и место запомнил… «Бабка Хаджийка тебя озолотит», — так ему и скажи…
— Ладно, спрошу, — ответил Исмаил-ага, чувствуя, как по телу его побежали мурашки, и спеша поскорее убраться.
Он стал торопливо продираться сквозь кусты, испытывая смутную тревогу, а что-то, столь же смутное и тревожное, тянуло его назад. Выбравшись на дорогу, он отвязал коня, вставил ногу в стремя, но так и застыл, держась за седельную луку, мрачный, в нерешительности. Потом оставил коня и снова вернулся к старухе.
— Чуть не забыл, — сказал он, кусая губы и глядя поверх кустов на темные дымные облака над селом. — Там сейчас рыщут, бабка Хаджийка… Надо бы спасти…
— Господь спасет их души! — ответила старуха. — В пасху ведь начали… А батюшка пусть похоронит и место запомнит.
— Попу придется платить, — сказал ага. — А там рыщут наши… Найдут алтыны…
— Чего? Алтыны?
— Алтыны.
4
Глаза их на миг встретились и снова разошлись.
— Им не найти, Исмаил-ага, — сказала старуха.
— Как бы вы их ни спрятали, бабка Хаджийка, все равно найдут, — ответил он. — Я оставил там человека стеречь, но не сегодня-завтра он уйдет. Тогда камень за камнем — все там разворотят, пядь за пядью — все перекопают. Кунаками были мы с твоим хозяином, грех оставлять чужим!
Глаза их снова на миг встретились, и прежде чем опять взглянуть на дымные облака, Исмаил-ага увидел, что челюсть старухи трясется, словно она что-то пережевывает.
— Где они зарыты, бабка Хаджийка? В подвале?
— В подвале, Исмаил-ага, — произнесла она глухо, стоя перед ним на коленях. — Там… — и осеклась.
Он не спросил: «Где «там»…», — понимая, что нелегко сейчас бабке, он слышал, как было зачато это богатство. Но ага был уверен, что старуха рассудит здраво. Он все глядел поверх кустов — ему не хотелось видеть ее такой и понапрасну терзаться. И он продолжал молча ждать.
— У восьмой бочки, — отозвался наконец снизу ее голос, — той, что с десятью обручами… Возьми их, ага, и мне дай немного, чтоб и у меня было… Всякое случается…
— Чему суждено было случиться, бабка Хаджийка, то уже случилось, — грустно произнес Исмаил-ага. Вместе с благодарностью в нем затеплилось и прежнее доброе чувство к старухе. Ему не хотелось вот так, тотчас, оставить ее и ускакать. Нехорошо будет, если она пожалеет, что сказала ему. Дымные облака, как заслонка, прикрывали село, тлеющее у подножия гор; ага знал, какой каравай там сейчас выпекается. — Мердивен дюня, — сказал он со вздохом, — тщета мирская! Но ты, бабка Хаджийка, ни о чем не тревожься, ведь я с вами.
— Мне для батюшки, — не подымаясь с травы, сказала старуха.
— Будь покойна, я сам позабочусь, — ответил ага, подавив внезапно возникшее желание рассказать, что случилось с перуштинскими священниками.
— Мне много не надо, Исмаил-ага, — настаивала старуха. — Ты уж не скупись.
Исмаил-ага взглянул на нее и оторопел: челюсть ее больше не тряслась, глаза уже не были мутными.
— Я не скуплюсь, — сказал он резко. Она не оценила его благородства. И он пожалел о своей доброте. — Я дам тебе. Что мы торгуемся, как цыгане?
— Я не торгуюсь, Исмаил-ага, — ответила быстро старуха. — Они мои! Хадживраневы никогда не были цыганами.
— Твоими и останутся, — сказал он, едва сдерживая гнев. — Перейдут к твоей внучке. Если я их найду.
— Поезжай, Исмаил-ага, найдешь.
5
Он уже нетерпеливо поглядывал вниз, на дорогу, но последние слова старухи заставили его обернуться и пристально взглянуть ей в лицо.
— Никто их оттуда не вырыл, когда все началось? Сколько вас народу было, кто-нибудь мог и…
— Наши мужчины не воры, Исмаил-ага, а когда все началось, никто не думал об алтынах, хотя каждый зарабатывал их своим горбом.
— Анладым, — произнес тихо, сквозь зубы ага. — Если б они умели думать, они не заварили бы этой дурацкой каши. Чего им недоставало?
«Чего им недоставало? — молча глянула на него снизу старуха. — Они не могли ругать тебя в лицо и посылать по матери!»
Исмаил-ага снова ощутил холодок и снова захотел поскорее убраться. И не мог. Ему было досадно, что он, ага, препирается с какой-то старой гяуркой, но он не двигался с места. Надо было уйти раньше. Никогда в жизни никто ему не перечил, и спор со старухой действовал на него, как неизведанный яд, как гашиш, когда он отведал его впервые. Он и тогда знал, что это яд, но ему хотелось еще…
— Мои сыновья не были дураками, Исмаил-ага, — сказала старуха. — Павле знал турецкий и греческий, мог читать и писать, в уме считал тысячи!.. И ты ведь заставлял его тебе подсчитывать…
— Кого хотел, того и заставлял, — ответил ага, разгневанный на самого себя за то, что остался. — Один для одного рожден, другой — для другого!
Старуха продолжала смотреть на него снизу вверх, и теперь во взгляде ее сквозило любопытство. На лбу Исмаила-аги опять набухла жила, вокруг нее опять роились капельки пота — как тогда, на пасху, когда никто не принял узду из его рук.
— Верно говоришь ты, ага, — сказала старуха. — Хаджия тоже спрашивал: «Ребятки, чего вам недостает? Чего вам еще надо?» А Павле ответил: «Ты слышал когда-нибудь, отец, чтобы был хоть один валия[41] — болгарин, хоть один кырагасы[42] — болгарин? Все — турки, все вплоть до курджиев[43]! Воображают, будто для того они и рождены!» Точно как ты сказал. В уме считал тысячи!..
— Анладым, анладым! — произнес ага, внимательно оглядывая старуху. Уж теперь-то он знал, что она собой представляет, да, только сейчас он рассмотрел ее по-настоящему! И не было в ней дрожи, ни подбородок, ни руки ее не тряслись, и она не упала перед ним на колени, а просто сидела на траве, выпрямившись, и глаза ее горели как угли… — Анладым… Но ты-то, бабка Хаджийка… ты-то с каких пор бунтаркой заделалась? Ведь ты с радостью принимала турок, я в вашем доме гостил, как у друзей… Стало быть, ты меня обманывала, а?
— Я тебя не обманывала, Исмаил-ага. С радостью принимала я турок. И молила детей своих быть смирными… а потом сама их благословила.
— Почему?
Она пожала плечами.
— Почему? — повторил он свой вопрос. В Устине никто не мог взять в толк, почему даже такие, как Хадживраневы, словно ополоумели. — Почему?
Старуха снова пожала плечами. Она и так слишком много сказала, а он ничего не понял. Лучше она будет смотреть снизу, как блестит от пота его лоб. Как тогда, на пасху! Словно светлое воскресение продолжается. Тогда сыновья ее горячили коней, как настоящие кырагасы, а ага перекидывал узду из руки в руку…
…Бабы испокон веку выходили замуж, копили гроши и рожали райю — кто детей удачливых, кто неудачливых. А Гюрга видела, что ее чрево не хуже, чем у турчанок, что и она может рожать пашей и беев… Воскресение продолжалось, и Хаджия не поехал с другими старейшинами к паше в Филибе, сыновья чуть было его не связали, и благословение было дано — возврата к прошлому уже не могло быть… Исмаил-ага все равно не простил бы ее сыновьям, да и она сама не перенесла бы позора — снова видеть их покорными… И это было важнее земли, золота, важнее самой жизни, потому что отныне только свобода давала всему цену. А бабка Хаджийка хорошо разбиралась в деньгах и в ценах. Она смотрела, как на лбу у аги пульсирует жила, смотрела на капельки пота — светлое воскресение продолжалось, ей любо было видеть агу таким и любо повторять про себя: «Дерьмо! Куча навоза!»
«Сука! Змея подколодная!» — повторял про себя Исмаил-ага и жалел, что не взял только ребенка, что спас жизнь старухе и повел ее в Устину. Что он будет там с ней делать? Ведь она будет настраивать девочку против него… «Избавиться от старухи, — сказал себе ага, — избавиться…»
6
Он огляделся. Девочка спала. Дорога по-прежнему была пуста, только пронесся столб пыли и соломенной трухи и за поворотом рассеялся по оврагу. Старуха глядела на него, она почти улыбалась ему, но глаза у нее были такие, что самому аллаху было бы угодно, чтоб они погасли. Рука его украдкой погладила перламутровую рукоять ятагана. «Надо наотмашь, по темени», — подумал он и, прежде чем вытащить клинок, прежде чем замахнуться, произнес слова, которые должны были стать последними между ним и старухой.
— Этот день останется для меня праздником, бабка Хаджийка, и ты не сможешь его омрачить. Дед Хаджия, если он смотрит на нас сверху, поймет, что я прав… Ради ребенка я это делаю… Стало быть, у восьмой бочки?..
— Не все там зарыто, Исмаил-ага, — произнесла виновато старуха. — Я обманула тебя.
— Меня? — переспросил Исмаил-ага.
— Тебя, Исмаил-ага. Мне почудилось, что и ты такой, как те, башибузуки… а теперь я вижу, что ошиблась. Я скажу тебе: большая часть под…
— Дура! — крикнул ага. — Стой! Замолчи! Исмаил-ага во сто крат богаче таких, как вы, я сделаю это дитя счастливым без гяурского золота… Пусть сгниют алтыны там, где зарыты, как гниют их хозяева… — Все в нем кричало: «На куски! На куски ее, суку! Прочь всякую жалость, не по темени, не разом, а по частям: раз — пальцы! раз — кисти! раз — руки! раз — ноги!.. Живьем, живь-е-ем!»
— Исмаил-ага! — тоже крикнула старуха и проворно, как молодая, вскочила. — Откуда тебе знать, сколько у нас золота? Ты его не считал! Большая-то часть — под каменной колодой, у колодца. Кунаками были вы с дедом Хаджией, твои алтыны… Грех оставлять чужим…
Исмаил-ага глядел на нее не шевелясь, только пальцы его барабанили по перламутровой рукояти ятагана.
— Поезжай, Исмаил-ага, — не отставала, просила бабка. — Спаси золото. Ты запомнил, где оно?
— Запомнил, — вздрогнув, произнес Исмаил-ага.
— Где?
— Под колодой, — покорно ответил он, и рука его соскользнула с рукояти. Теперь можно бежать к дороге — скорей остаться одному, стереть пот, умыть лицо, и главное — остаться одному.
Он мельком взглянул на девочку, круто повернулся и быстро пошел сквозь зеленую поросль, не дав никаких наставлений. Потом он побежал. Хотел остановиться, но не мог. И на бегу дал себе слово не тянуть со старухой, покончить все тотчас, как только вернется сюда вечером. А еще лучше — поручить это кому-нибудь из слуг.
— Торопись, Исмаил-ага! — кричала вслед ему старуха. — Спаси золото!
Она еще и еще раз крикнула ему вслед. И, только заслышав стук копыт пущенного галопом коня, завидев феску, что, подскакивая над верхушками кустов, удалялась в сторону дымного облака, она, довольная, рухнула на траву.
— Гадина! — сказала она на этот раз вслух. — Дерьмо!
Ее сыновья не были такими. Она, всю жизнь дрожавшая над каждым грошом, вдруг заплатила тысячи лир чистым золотом за это мимолетное удовольствие. Сыновья ее не были такими, а ага всегда был такой, только она раньше этого не знала.
— Дерьмо, — повторила она. — Дерьмо в феске! Хе-хе-хе-хе…
Ей было хорошо. Она с наслаждением сделала глоток из меха, потом еще и еще, пока не опорожнила его до половины. Тогда она налила немножко воды и в рог Деянке. Девочка поперхнулась, но она налила еще. И задумалась. Что дальше? Куда бежать? И, сидя вот так, погруженная в свои мысли, качнулась назад, потом вперед, повалилась на траву, устроилась поудобнее и больше не шевельнулась.
Глава третья
1
С Родоп дул ветерок, и дымные облака висели теперь в стороне от села, над равниной. Дома еще курились, но дым был легким, как из труб в мирные холодные предвесенние дни.
Тихо было на улочках, тихо во дворах, и стук копыт усталого жеребца одиноко отдавался в тишине. Ни собачьего лая, ни петушиного крика. Не сновали по двору молодухи, не плакали дети. Мужчины в неудобных позах лежали под заборами, в подворотнях, перевесившись через плетни.
Турецкие посты молча отдавали селям, так же молча из дома на перекрестке вышли трое помаков, держа на плечах узлы с чьим-то девичьим приданым. Только с дальнего конца села долетали крики и вместе с ними звон бубна. Видно, там хозяйничали цыгане.
Снова царили порядок и спокойствие. Исмаил-ага возблагодарил аллаха, умиротворившего село, и гнев отпустил его. Из-за оград лился запах миндаля, ветви его были густо усыпаны ранним цветом, и ага еще раз осознал мудрость аллаха, поспешившего послать эти цветы, чтобы показать людям, сколь неистребимы жизнь и красота, несмотря ни на что. Ему захотелось испросить у него хорошего весеннего дождя — год был засушливым, а хлеба слабыми, но он оставил это для последней молитвы. Тогда он все исполнит по обряду и будет ближе к аллаху.
Исмаил-ага издали увидел два старых ореха во дворе Хадживранева дома, и темную черепичную крышу — она не рухнула, — и резные столбы открытых сеней, все такие же светлые, не тронутые огнем. И он почувствовал, как забилось его сердце, и поскакал туда, и влетел в распахнутые ворота. Слуга Зекир оказался тут как тут и взял коня за узду.
— Приходили грабить? — спросил Исмаил-ага.
— Никто! Все знают, ага, что это твое! — ответил живо слуга. Ему осточертело сидеть в этом дворе, в то время как другие правоверные занимались полезным делом. — Только Шабан-ага наведывался, тебя разыскивал. Они сейчас Гашарову махалу чистят… У него часы с золотой цепью. Учителевы… Решид-паша сам велел ему взять… Говорят, юнак был этот учитель, а?
— Выводи жеребца, — сказал Исмаил-ага и передал поводья слуге. — По улице! — крикнул он немного погодя, увидев, что Зекир ведет коня по двору, и резко указал за ограду; слуга пошел к воротам, шагая как-то боком, одним плечом вперед, не спуская глаз со своего господина.
2
Исмаил-ага остался один. Он подошел к колоде и одну за другой внимательно оглядел позеленевшие плиты, устилавшие землю. В пазах между плитами мох был старый, многолетний, и только вокруг одной из плит, позади колоды, куда редко ступала нога и не выплескивали воду, он был редким, низким и неровным.
Аге не хотелось спешить. Ему казалось, что, начни он тотчас, торопливо, все получится не так, как надо, и воспоминания об этой минуте будут некрасивыми.
Он поднял лицо к уже очистившемуся небу, глубоко вдохнул воздух и прислушался. «Цок-цок, цок-цок…» — все тише стучали копыта коня. И Зекир был с ним. Они удалялись. Но удаляющиеся звуки напоминали о том, что слуга вернется. Исмаил-ага медленно присел на корточки возле колоды. С той же нарочитой медлительностью он стал ощупывать края плиты; так же медленно, морщась и думая, насколько все же неприятно и обременительно все это, вытащил нож, чтобы выковырять мох. И тут ему почудилось, что со стороны дома донесся чей-то голос.
Исмаил-ага подскочил к колодцу и с силой запустил ворот, запустил неумело, не придержав ладонью деревянный барабан. Ворот затрясся, ведро с грохотом полетело вниз, ударяясь о каменные стенки, и наконец всплеснуло где-то в мокрой темной глубине. Затем все стихло, и в этой тишине самым тихим был Исмаил-ага.
Он метнул взгляд на дом — там никого не было. Потом посмотрел на колоду — теперь он ее ненавидел. Никогда в жизни не приходилось ему делать что-то тайком, прислушиваясь к малейшему шороху, копать чужое золото и вскакивать вот так в испуге… Ал-лах!
Никогда в жизни ага не доставал сам воду, никогда, ни из одного колодца; а тут он уже медленно вертел ручку, веревка накручивалась со скрипом; полное ведро тянуло вниз огромной тяжестью, и что-то еще более тяжелое давило у него внутри — не то в животе, не то под сердцем — и тоже ворочалось; ага перестал вертеть ворот, ведро повисло на полпути, а он стоял, задыхаясь, обеими руками вцепившись в ручку, и снова оглядывал все, что было у него за спиной, на этот раз медленно, с трудом поворачивая голову в сторону сеней, сарая и конюшен.
Он никого не увидел, да никого здесь и быть не могло; а если бы даже кто и был, он не смог бы ему помешать; но никого не было, стояла полная тишина, и все же Исмаил-ага чувствовал, что кто-то за ним наблюдает. Может, это он сам следил за собой, сам себя подстерегал и вспугивал? И все оттого, что не привык он копать вот так… Таким бы делом впору заниматься Зекиру. Шабану-аге, только судьба выбрала его, а не их. Ему поручила бабка Хаджийка… Ведро тянуло книзу, ага до боли сжимал ручку ворота и пытался вызвать в памяти образ старухи: пусть она еще раз подтвердит, что сама отдает ему золото; он смутно представил себе, как она кивает, как шевелит губами, и скорее увидел, нежели услышал ее слова: «Торопись, Исмаил-ага, спаси золото!»
Он снова напряг силы, быстро завертел ручку ворота, и ведро взлетело до уровня глаз. Он вытащил его, вылил воду на дно колоды и выпрямился, чтобы передохнуть.
Странно устроен мир. Если один человек убьет другого и возьмет себе его золото, он может владеть им с гордостью. Оно становится трофеем. Так поступали его деды, так поступали конвойные на виноградниках, так действовал сейчас его брат. Но ежели ты по доброте пожалел кого-то, тогда взять у него золото — это все равно что украсть, пойти на бесчестье… Кажется, и в священных книгах так говорится… Тогда — убей, чтобы взять с легким сердцем, так что ли? Именно так! Так поступали правоверные мужи испокон веку и по сей день… А он? Может, он не истинный правоверный или не настоящий мужчина? Легче было бы ему копать под колодой, изруби он старуху на куски? И почему? Ведь она сама его послала…
Ему захотелось вытащить еще ведро воды, еще много, много ведер. Он вымылся и оставшуюся воду тоже вылил в колоду. Все равно надо будет поить коня.
Так он наполнил колоду до краев. Слуга, возвращавшийся с жеребцом, застыл, пораженный, у ворот. Он не верил своим глазам — его господин сам таскал воду! Было поздно снова отсылать Зекира, да и ни к чему. Исмаил-ага не собирался сейчас откапывать золото. Он сделает это позднее — тяжесть, давившая изнутри, обмякла.
Ага отошел в сторону, молча указал Зекиру на воду. Зекир так же молча подвел жеребца, похлопал его по шее и посвистел; животное наклонило голову, вытянуло толстые эбеновые губы, поцеловало поверхность и сладко приникло к воде.
— Зекир, — сказал Исмаил-ага. — Ты видел когда-нибудь, чтобы другое животное так пило? Даже человек так не может… — Он чувствовал потребность говорить. Говорить о красивых и чистых вещах. — Ключевая вода для коня — что нектар для бабочки… Он пьет, как она, и летит, как она…
Ага сказал и оглянулся. Зекир тоже озирался по сторонам. Они переглянулись. Звук повторился. Он был низкий, гортанный, какой-то звериный и шел из подвала. Слуга беспомощно пожал плечами.
3
Исмаил-ага подал знак Зекиру быть наготове, вытащил из-за пояса тонкоствольный, посеребренный пистолет и двинулся к подвалу. Окованная железом дверь была приоткрыта, он толкнул ее ногой, негромко вскрикнул: «О-о!» — и отпрянул. Что-то шевельнулось в холодной полутьме у его ног.
Кто-то сидел на спускавшихся вниз ступенях. Черкес в белой чалме. Старик. Сидел, а может быть, лежал, лежал, пытаясь подняться? Воняло вином и блевотиной. Может, это он следил за ним все это время? И обо всем догадался.
Слуга продолжал поить коня, но больше не свистел, а смотрел в сторону подвала.
— Хош гелдин, Исмаил-ага, добро пожаловать, — произнес вдруг хрипло черкес, и лицо его исказилось в улыбке, страдальческой и радушной. Опершись на локоть, он поднял было руку, то ли для темане, то ли чтоб поздороваться, но застонал и снова опустился на ступени.
Что-то очень знакомое было в его голосе, да и нос этот он видел… и это обращение смутно напоминало аге о каком-то доме, где он когда-то бывал, о гостеприимстве, которое ему где-то оказывали, о каких-то вкусных кушаньях, которыми этот человек его потчевал, хотя Исмаил-ага никогда не водил дружбы с черкесами.
— Все ли… живы-здоровы… в Устин-сарае? — прохрипел черкес — Что нового в благословенном селе Устине?.. Какой счастливый случай привел тебя сюда?
— Ал-лах! — произнес Исмаил-ага. — Ал-лах!
Его взметнул какой-то вихрь: в небеса ли он его вознес, увлек ли в преисподнюю, в селения ли мертвых, где клубятся предвечные темные страхи, не отдалив от кованых дверей подвала, от вымученной улыбки на лице черкеса.
— Ал-лах! — повторил Исмаил-ага. — Ал-лах! — сказал он третий раз, схватил ртом воздух и выдавил с трудом: — Это… это ты?..
— Я… — чуть слышно прохрипел старик. Сил у него больше не было. — Я…
Конечно же, это был он — но нет, невозможно! Ведь он умер, ведь все мужчины рода Хадживраневых умерли, а сам Хаджия умер у родника! Мертвецы не переодеваются, не хлещут вино…
— Чего тебе здесь надо? — спросил наконец Исмаил-ага и сам почувствовал, что сказал не так. — Как ты попал сюда, дед Хаджия? — поспешил он поправить свою оплошность.
— В Филибе, Исмаил-ага… Отвези меня в Филибе… — ответил старик.
Он приподнял голову с каменных ступеней. Чуть-чуть. Силы его ушли на то, чтобы почтить кунака приветом. И он приветствовал его, несмотря ни на что. Так, как делал это долгие годы, принимая агу в своем доме. Теперь хорошо бы немного отдохнуть, но нельзя терять время, смерть близка, ноги холодеют, и надо добиваться своего.
— Отвези меня в Филибе…
Исмаил-ага смотрел на него. Да, все-таки это он. Верно, хотел избежать общей гибели. Зачем? А видел ли Хаджия, как он сидит на корточках возле колоды? Достойная встреча достойных приятелей… Тяжесть внутри его снова заворочалась, в животе, под сердцем.
— К лекарю, Исмаил-ага, к доктору, — сказал старик. Все же он сумел как следует почтить кунака приветом; он был доволен — аги это ценят; но уже не было сыновей, невесток и внуков, не было Гюрги и сам он был близок к концу — не гоже, если весь род Хадживраневых погибнет вот так, зазря… Господи! — К лекарю, Исмаил-ага… Озолочу…
— Пьяных к лекарям не возят, — ответил ага и отвернулся. — Как ты мог в такой день так осрамиться, дед Хаджия?
Многого не мог понять ага в эти дни, но чтобы бросить семью, которую ты сам породил, мертвых сынов своих, тех, кому ты был нужен в последний час, сбежать одному, старому, навеки проклятому да еще и налакаться! Ал-лах!
Будь у него, Исмаила-аги, сыновья, он никогда бы их не покинул! Будь у него только трупы сыновей, он все равно остался бы с ними! До могилы. И в могиле. Что может быть достойнее для отца? Словно дороги ему стали эти чужие сыновья, эти бунтари, отца которых он повстречал в столь необычный час, трудный и скверный для них обоих…
Вонь снова ударила ему в лицо. Он отшатнулся, но она как бы растянулась и держала его на привязи. Конь перестал пить. По измазанной блевотиной черкеске ползла муха. И почему он в черкеске? Конь и слуга смотрели в его сторону: жеребец, изогнув длинную тонкую шею с маленькой умной головой, слуга — укрывшись за ним. В это мгновение Исмаил-ага услышал, как в горле Хаджии что-то заклокотало, как его снова вырвало; он едва успел крикнуть: «Зекир!» — и, схватившись за притолоку, сам изверг на грубые камни и известь все, что было у него внутри. Теперь там оставалась только давящая тяжесть.
4
…Он снова стал доставать воду и, вытащив ведро, тяжелое ведро, мокрое ведро, полное до краев этого чистейшего дара аллаха, увидел, что к нему бежит Зекир, торопясь что-то сказать. Ага махнул рукой: «Делай, что тебе велели!» Он велел перенести старика в дом и положить на кровать. Ага прополоскал рот, умылся, а Зекир все еще стоял у него за спиной.
— Он помирает, Исмаил-ага! — сказал наконец слуга. — Он ранен в живот…
— Что? — переспросил ага, оторопело глядя на Слугу, и пошел к подвалу.
И только тут он увидел, что старика рвало вином пополам с кровью. Кровавыми были его губы, и много крови — высохшей, свернувшейся и свежей — было на рубахе под черкеской.
— Как же это случилось, дед Хаджия? — спросил ласково ага, стряхивая с рук капли воды.
Хаджия лежал, облокотись на ступени, свесив голову. Дремал или кровь свою разглядывал? Он не слышал. Не ответил.
— Дед Хаджия! — крикнул ага.
На этот раз старик поднял голову.
— О-о-о! — протянул он удивленно. Он долго ждал агу в этом подвале, на него была вся надежда, он даже как будто видел во сне, что ага приходил недавно, как будто уже встречал его добрым словом… Но сейчас Исмаил-ага стоял перед ним наяву, весь в серебре, улыбаясь. И уже наяву старик должен был повторить приветствие. — Хош гелдин, Исмаил-ага, добро пожаловать, — снова захрипел старик, и снова поднес руку ко лбу для поклона, и снова покачнулся, ткнулся подбородком в ступеньку, и в таком положении продолжал: — Что нового… в благословенном селе Устине?.. Все ли живы-здоровы…
Но Исмаил-ага не ответил на приветствие. Он закрыл глаза, и ему хотелось, чтобы не было ничего того, что он видел и слышал. Жеребец лениво бил копытом по плите, «шшить-шшить!» — свистел его хвост, верно, его донимали мухи. Сытые вороны время от времени хлопали крыльями, стараясь удержаться на ветках. Пчелы жужжали в цветах миндаля и слив, где-то ни далеко ни близко грянул ружейный выстрел, затем долетел глухой вопль — может, в каком-то подвале убили кого-то. Успел ли тот гяур высказать туркам свое почтение? И снова пчелы, жеребец, вороны и еще кто-то, еще один человек дышит с ним рядом…
И только сейчас, впервые за много лет, постиг Исмаил-ага истинный смысл слов, сказанных стариком сегодня и много раз прежде, здесь и в любом другом месте, ему и всем другим именитым туркам… Сердце аги всегда жаждало хоть капли тепла, ради него приезжал он в дом кунака — не ради жареных барашков, не ради красного и белого вина. Сидя на галерее, он чувствовал, как сердце его отогревается, а уезжая, увозил с собой то, чего ему не доставало в Устине. Уезжал довольный и… обманутый.
Ледяным холодом веяло от любезных слов старика. В них были и необъяснимая сила, и падение — иначе не могли бы они прозвучать… Но кто-то, должно быть, вынудил эти уста выговорить такое? Ведь нет на свете человека, который сам хотел бы себя унизить. «Аллах, кто это содеял? Во имя чего, ал-лах? Ради твоих правоверных?».
— Как же это случилось, дед Хаджия? — спросил устало, печально и еще более ласково ага.
— К лекарю! — ответил старик. Он почтил гостя. Очередь была за агой, он должен был ему помочь. — В Филибе.
Глава четвертая
1
Сейчас ему нужен был только лекарь и больше ничего. Не поворачивался у него язык рассказывать, как все случилось, как после перестрелки он укрывался в овраге, так и не добравшись до родника; как затем увидел, что лежит рядом с убитым черкесом. Не поворачивался у него язык рассказывать, как и почему получилось так, что, переодевшись в одежду мертвеца, он пополз домой, а не в церковь, и как безумно, безбожно хотелось ему жить, как не должно было его золото погибнуть вместе с его родом — по грошам собирали они его, работая на винограднике, том, что у вязов, не было оно краденым. «Господи, это неправда, будто я его украл, будто оно было дедово — деда Вране, — будто он мне сказал, где оно зарыто, когда его укусила в роще гадюка; мы и вправду были только вдвоем, господи, но он ничего мне не сказал, и я вовсе не клялся, что покажу золото отцу и дядьям, чтобы те разделили его промеж себя по-братски; по грошам собирали его мы с Гюргой, мое оно, если и владел я чем безраздельно, так это золотом…» Ни разу не подводило оно Хаджи-Вране, ни разу не обмануло, ни разу не огорчило. Жена и дети не были ему так верны.
Снаружи светило солнце. На границе между тьмой и светом стоял Исмаил-ага. Половина Исмаила-аги. Эта серебряная, шелковая половина сияла, сияла и спрашивала, как это все случилось: где, когда, не из ружья ли он ранен?..
— Ты слышишь меня, дед Хаджия?
— Слышу, слышу, не глухой. Должно, из ружья, поблизости никого не было. — И всегда-то он ненавидел ружья — и те, что Насе привез к пасхе на мулах, и те, что позднее убивали его сыновей, одного за другим, и то ружье, что ранило его в овраге. Но были и священные ружья, даром что в турецких руках. Дело всевышнего, кому поручить возмездие. Из такого ружья убили Учителя, того, что задумал в песню попасть. «Учитель, — сказал он ему намедни в церкви, — когда мы тебя нанимали для школы, ты целовал руки старейшинам и мне, вот эту самую! Потому, что мы дали тебе на двести грошей больше, чем в Татарпазарджике, и потому, что таким, как ты, иначе не заработать себе на хлеб… Тысяча шестьсот грошей в год — ведь это алтыны! Мы хотели, чтобы наши внуки лучше нас умели торговать, а ты возгордился… Но если бы, Учитель, и стало по-твоему и прогнали бы турка, все равно тебе снова пришлось бы целовать руки чорбаджиям. Такие, как ты, — властелины на час, а жизнь остается жизнью, и под турецким флагом, и под болгарским…» — «Молчать, так тебя разэтак!» — крикнул тогда Учитель, но не пристрелил его, старика. А вышел из церкви, чтобы умереть. Только не такой смертью следовало бы ему умереть, эх, не такой! Такой смертью молодых не устрашишь, а только раззадоришь.
Светящаяся половина Исмаила-аги продолжала вопрошать: «Как? Как? Как?» — и старик удивился: он лучше помнил смерть Учителя, чем собственное ранение, да и нечего было помнить, кроме нескончаемой боли, что началась в овраге, без выстрела, — в тот миг, когда боль вонзилась в его поясницу, он ничего не слышал, хотя перед этим и шла перестрелка; просто появилась боль, тягучая боль, которая пришибленной змеей поползла к этому подвалу, чтобы скрыться в темной знакомой норе, боль неотвязная, тянувшаяся вдоль оград, где лежали трупы, через нечистоты и поваленные плетни; она затягивала пеленой все, мимо чего он полз, и сейчас старик знал только одно — он полз по тем местам, где болело: по узкой улочке, где боль усилилась, через двор, где боль поутихла, вдоль мертвого дома, где он сам замер от боли. Он помнил свой путь только по боли, только боль давала всему названия. Ему казалось, что она оставляет за собой след — как улитка на листьях, как пришибленная змея на дорожной пыли — и что по этому следу его можно найти. И не потому, что кровь и земля покажут, где он полз, а потому, что там густо наслоилась боль, которую почувствовал бы каждый, кто пошел бы тем же путем. И как объяснить сейчас, что́ это была за могучая, неведомая сила, которая привела его, несмотря ни на что, к подвалу? И разве мог он после четырех суток жажды, когда в животе у него словно были раскаленные угли, не подставить рот под струю вина? Но обо всем этом не расскажешь! Невозможно, да и не следует, силы на исходе, и нужно спешить…
Но светящаяся половина Исмаила-аги и не думала торопиться. Она смотрела на него одним светлым глазом, говорила что-то светлой половиной рта и, кажется, спрашивала, знает ли он, дед Хаджия, что сталось с бабкой Хаджийкой и внучкой.
— К лекарю! — ответил старик. Он знал, что могло с ними статься. Он еще тогда знал, что ничем не сможет им помочь, и не только тогда, а намного раньше, чуть ли не с рождения… Спасенья быть не могло. Если б была хоть капля надежды, он, верно, пополз бы обратно, в церковь… Не смерти боялся он, а бессмысленности, того, что все погибает понапрасну. В молодости он не боялся даже адского пекла, хотя тогда еще не знал, что в содеянном им нет греха. Он готов был вечно кипеть в смоле, лишь бы здесь, на земле, внуки деда Вране стали когда-нибудь Хадживраневыми, не беря на душу новых грехов и терзаний… Разве это не было жертвой! — Чего ты ждешь, Исмаил-ага?
Если этак вот ждать, кровь непрерывно будет литься в живот и он будет ею блевать, пока она не иссякнет. И тогда пропадет понапрасну золото, не пойдет больше в дело, не принесет ему больше радости… А он должен найти радость или хотя бы забвение, и он знает, где их искать… Много раз бывал он в Эдирне и Стамбуле и слышал от торгового люда, что человек с деньгами, если только пожелает, может провести там дивные ночи с особыми девками, не знающими, что значит трудиться в поте лица, созданными лишь для гульбы… «А я все берег, господи, для сыновей и внуков. Ни гроша не бросил на ветер. Потому что алтыны — они как пчелы, которым дай собирать мед и роиться, иначе погибнут. Все подсчитывал, чтобы хватило на всех троих, когда придет им время делиться, чтобы не исчезла сила золота, чтобы не начинать сыновьям все сызнова, как мне… Так моя молодость и прошла, а я все копил и копил…»
Он тогда копил, не забывая о том, что он упускает в Стамбуле, и сожалел об упущенном и не сожалел, потому что знал — все это только пустая прихоть, потому что дел у него было по горло и он никогда не был одинок… И лишь к старости, когда сыновья во всем его заступили, когда он к концу дня уже не валился от усталости, а Гюрга перешла спать к внукам, ему стали сниться эти девки, которых он никогда не видел, в самодивских[44] рубахах, с волосами до пят… И ему было стыдно, и он ждал, чтобы прошел годок-другой, усмирилась его кровь и все это кончилось… Позднее, в церкви, когда он терял одного за другим близких и задыхался от ненависти к тем, по чьей милости они оказались здесь, когда он думал о том, как нелепо умирать из-за чужой дурости, а жить тоже уже было незачем, он неожиданно вспомнил, что есть на этом свете еще кое-что, неизведанное, кощунственное и спасительное, что еще не погибло, что ждет его давным-давно…
— Чего ты медлишь, Исмаил-ага?
— Зекир! — крикнул тот. — Телегу!
Старик видел, как слуга бросился к воротам, и тяжесть в животе словно полегчала… Не было больше сыновей, невесток и внуков. И Гюрги тоже, конечно, нет в живых. Все его обманули. Будь иначе, он даже с пулей в животе приполз бы обратно, а не стремился б к золоту, к лекарю, в Филибе… Но к лекарю он до сих пор не добрался, и далеко было до Филибе, а до Стамбула — еще бесконечно дальше… Он слишком устал для такой дальней дороги, он был стар, да к тому же и ранен, и, может быть, больше всего ему нужна была хозяйка в доме, которая каждый вечер клала бы ему в ноги обернутый тряпицей горячий кирпич… Господи! В селах поди полным-полно овдовевших баб, а он так привык к дому и к детям… Там, на небесах, Гюрга поймет, что иначе нельзя, и Павле ему простит, только бы не иссякла Хадживранева кровь, запекшаяся на этих ступенях…
— Чего ты ждешь, Исмаил-ага?
— Телегу жду, дед Хаджия. Еще немного…
Старик вспомнил, как слуга бросился к воротам, и тяжесть в животе опять полегчала. Он знал, что от таких ран умирают, но его рана или не была смертельна, или господь бог его хранил, раз он не умер ни в овраге, ни здесь, хоть и заливал рану вином. «Крепкий я мужик, очень крепкий!» — решил старик, он всю жизнь считал себя крепким. И Гюрга была что надо, в свое время он говорил себе, что такая женщина и такой мужчина должны быть благословенны господом. И господь благословил их, но сыновья пожелали большего, и господь лишил их своей благодати, не взял обратно только золото и его, Вране, главу рода… «Господи, не знамение ли это?» Конечно, знамение, и не первое. Первое было тогда в роще, в образе змеи, второе — в овраге, в образе черкеса, а третье — здесь, в подвале, в образе Исмаила-аги… Кто послал его на помощь в этот час? Знамения, как у Авраама.
2
— Исмаил-ага, — сказал старик, — ведь ученые лекари поди лечат от таких ран.
— Еще бы! — ответил ага. — На то они и ученые.
— К французу какому отвези, ладно.
— Ладно, постараюсь к французу.
— Мне бы на солнышко, — сказал старик, уже не чувствуя боли, но медленно, словно во сне. — Озяб я в этом подвале… Нарочно холодным сделали. Для вина, чтоб летом было холодно, а зимой тепло.
Исмаил-ага повязал платок поверх кафтана, взял под мышки отяжелевшее тело Хаджии и поволок его во двор. Башмаки старика пересчитали ступени, прочертили борозду на песке и замерли возле грядки с гиацинтами. Земля там была мягкой, теплой, и ага опустил на нее Хаджию.
Тишина над селом сгустилась. Солнце еще светило, но уже клонилось к закату, дым над домами потемнел. Над стариком жужжа заметалась муха, и ага присел на корточки, чтобы отгонять ее платком.
— Исмаил-ага, — сказал Хаджия еще тише, — ну и крепкий же я… Люди еще подивятся… Много бед на меня свалилось, да только…
— Ты бы поспал, отдохнул, — сказал ага.
— Отдохну, — ответил старик.
— Нельзя без отдыха, — сказал ага.
— Всю жизнь я надрывался, — ответил с наслаждением Хаджия, потому что с наслаждением вспомнил о том тяжелом времени. Нужно было отдохнуть, ведь дел впереди было невпроворот… Ему хотелось построить церковь, не было сейчас ничего важнее церкви, только он не знал, где и какому святому. «Павлу… Павлу…»
— Исмаил-ага, осталось что-нибудь от нашей церкви?
— Полно, полно, отдыхай.
— Отдохну.
Гиацинты благоухали. Хаджия пощупал землю там, где лежала его правая рука, наткнулся на стебель, захотел его сорвать и не смог. Печально усмехнувшись, он погладил его ладонью. Гюрга сажала. Гюрга, еще молодухой.
Сколько лет наслаждался он, глядя с нижней галерейки, как она хлопочет по хозяйству — высокая, стройная, широкая в бедрах, белая и легкая, как цвет акации, — как плывет по двору, заполняя его собой, заполняя настолько, что и дом, и конюшни, и ореховые деревья — все выглядело рядом с ней каким-то приземистым. Любо было ему глядеть на жену и сознавать, что и вчера, и прошлый год, и позапрошлый, всегда она была такой, и завтра будет, и послезавтра, и на будущий год… и так до конца… И тогда он прикрывал веки, чтобы снова увидеть ее подле себя — такой, какой была она в тысячи прошедших ночей и какой будет в тысячи других, еще не прошедших… Но прикрывал он их легонько, чтобы видеть ее и наяву, потому что не видеть ее наяву означало бы чистый убыток. А он был хорошим торговцем и не привык нести убытки. По ночам он свечи жег, чтобы глядеть на нее. Гюрга привыкла, да и чего ей было стыдиться. Разве алтыны пересчитывают в темноте? Разве золото стыдится света? И вот так, сидя на галерее, прищурив глаза, он видел ее одновременно и во дворе под солнцем и ночью в горнице при свете свечи.
Она была красива, но не той красотой, чтоб отплясывать рядом с ней хоро. Очень уж она была рослая, да и сама избегала плясать, даже на свадьбах. Красота ее была для такого мужика, как он, никогда не тратившего время на гулянки; красота, здоровье и сила замешаны были в одно тесто, замешаны так, чтобы тесен им стал квашник, дом, угодья, семейство, чтобы поднималось тесто все выше и выше, непрерывно, даже когда оба они будут уже в могиле. Поднималось из колена в колено, во веки веков, во славу Хадживраневых из Перуштицы… Его было это тесто. Он искал его повсюду — в окрестных и дальних селах, не разевая рот на дома богачей, пока не увидел, как бродит оно в доме мельника в Куклене… Он сразу же понял, что иного ему и не надобно, и не ошибся — не понадобилось, хотя торговый люд и болтал о тех девках в Стамбуле, а он прислушивался к этой болтовне… «Не верь злым языкам, Гюрга, — сказал он, — мне и в голову не приходило с другой… Не было у меня от тебя тайн — ты знала даже, куда я золотые прячу… Не знала только, откуда взялись первые золотые, но и это ради твоего же спокойствия, чтобы не снились тебе дурные сны, чтоб не носила ты в себе страх и злобу, чтобы не внушила ты страха сыновьям нашим… Я не говорю, что они краденые, Гюрга, такого не было, клянусь тебе, только люди нынче злы и завистливы, рады сглазить человека, если он хоть чуточку слабее их, — сглазят, и он ходит потом, как зельем опоенный… Берег я тебя, хотел, чтобы ты была самой чистой, самой гордой в селе. Не тронутой молвой. И сыновья тоже… Тайны. Какие там тайны! Ты и сама знаешь, как мы все заработали, за грошем грош, на виноградниках у вязов, у Хадживраневых вязов. Ты сделала из меня человека, разве не так? Сколько раз ты учила меня уму-разуму, а я все молчал, слушался, даже когда не был согласен, потому что умной была ты бабой и от слов твоих всегда выходила польза…»
3
Рука его все еще ползала по грядке среди гиацинтов, ему хотелось еще раз их увидеть, но не было сил подняться, он только смог поднести руку к лицу и глубоко вдохнуть оставшийся на пальцах синий аромат. И потому ли, что приближался час заката и легкий горный ветерок, подгоняя дым к равнине, стирал его с неба и со дворов, не трогая синего аромата, потому ли, что небо и без того всегда было милостиво к старику, а теперь и Гюрга, которая сажала гиацинты, переселилась туда, наверх, весь небосвод внезапно стал сине-сиреневым, как гиацинт. Как гиацинт, от края до края. Сияющим и пушистым. И старику было приятно, что он видит все это, и горько, что видит один — некому было показать небосвод. Исмаил-ага был далеко, далеко от его души; он сидел, хмурый, рядом на корточках, отгоняя муху, и, слава богу, ни о чем больше не спрашивал. И не было рядом никого из тех, кому Хаджия хотел бы показать гиацинтовое небо, как не будет их и тогда, когда придет время передать кому-то золото.
«За что, Гюрга? — сказал он. — За что, Павле? За что вы так со мной обошлись, за что оставили меня одного? За то, что я собрал для вас богатство и взял на себя весь грех?» — «Нам нужны свобода и честь, отец!» — ответил Павле, целехонький, без единой раны, рослый и смуглолицый, как Вране, светлоглазый, как мать. — «У кого есть золото — тому и честь, сынок!» — «Тому честь лишь наполовину, отец, а нам нужна и другая половина!» — «Да ведь это не половины одного и того же, сынок, — хотел сказать Хаджия. — Это все равно что вино и причастие — то же, да не то же. Тот, кто всего себя посвятил одному, уже не может целиком посвятить себя другому, и если бы ты знал, на чем ты вскормлен, слово «честь» застряло бы у тебя в горле!» Но он и на этот раз промолчал, как молчал о своей тайне всю жизнь.
Если бы Гюрга и сыновья его знали то, что знал он, если бы мучили их по ночам страшные сны, как мучили его, если б носили они в душе своей страх и злобу и боялись дурного глаза — потому как глаза у людей всегда для тебя дурные, когда знаешь, что не могут они желать тебе добра, — они, быть может, его бы ненавидели. Но одновременно и почитали бы! И сбивались бы вокруг него в кучу, как табун в грозовую ночь, — спина к спине вокруг старого опытного жеребца, пусть самого свирепого, но и самого сильного, того, кто уничтожил бы зубами и копытами своих могучих соперников. Ибо знали бы они, что единственное в жизни истинно, в чем единственный источник силы, и боялись бы кротких, неотступно следящих глаз деревенской своры…
…Разве увлекли бы их тогда сладкие речи этого голодранца Учителя? Разве не услышали бы они в них воя голодных псов? Умны они были, поняли бы, что Учитель, придя к власти, будет во сто крат опаснее турецкого паши из Филибе, умны были, но, как младенцы, дали себя обмануть сначала собственному отцу, а потом Учителю. Не обмани их раньше отец, гроша бы ломаного не стоили бы сладкие речи Учителя… А теперь их нет, некому передать золото, некому показать небо.
Небо? Старик снова посмотрел ввысь, но уже ничего не увидел, кроме ворона, который медленно кружил над его головой, кроме руки Исмаила-аги, отгонявшей муху. Таким было сейчас его небо. Он даже не мог вспомнить, что ему в нем так нравилось.
— Исмаил-ага, что, твой слуга повезет меня в Филибе?
— Посмотрим, — встрепенулся Исмаил-ага. — Ты не тревожься.
— Я не тревожусь, но если я снова… Слугам доверять не следует… Здесь у меня кошель… Достань его, Исмаил-ага…
Он указал на карман штанов — скорее глазами, чем рукой.
Исмаил-ага медлил. Ему было сейчас не до денег. Старик вот-вот умрет. Везти его в Филибе незачем, и что с ним делать — непонятно. Кроме того, ага собирался сказать ему о бабке Хаджийке и внучке и все откладывал, ибо весть эта была бы кунаку и радостью и укором.
— Вытащи его, Исмаил-ага…
Штаны были в нечистотах, оттого что старик полз по улицам, но Исмаил-ага подчинился. Стараясь не глядеть, он сунул руку в карман и вытащил кожаный кошель. Кошель был увесистым и влажным. Верно, его вырыли из-под восьмой бочки, той, с десятью обручами.
— Пусть у тебя будет, Исмаил-ага, — сказал старик. — Пересчитай их, как перед аллахом. Он нам будет свидетелем. Ты заплатишь лекарю, потом сделаем подсчет.
4
Все это были пустые слова. Никуда не собирался везти ага своего умирающего кунака — ничего он на него не потратит, и не надо будет ничего подсчитывать. И так как старик не говорил, что делать с его золотом после смерти, кому его передать, а спрашивать об этом самому тоже было неудобно, оно так или иначе должно было достаться аге, и — аллах тому свидетель — другого выхода не было. Пожелай он только, и это золото станет его без кровопролития, без обмана, и все же оно будет связано со смертью. Со смертью, которая поджидала где-то поблизости вместе с воронами, сидящими на ветвях орехов, и которую только Хаджия еще не видел. А сколько других смертей видели эти монеты! Сколько могла порассказать каждая! О мирных смертях, с завещаниями, и о смертях от ножа, когда люди трепыхаются, как цыплята, все вокруг забрызгивая кровью…
Нередко размышлял Исмаил-ага о темных, запутанных путях светлого золота. Часто по ночам, когда он сидел, поджав ноги, на ковре и считал свое золото, а пламя свечи, тысячекратно умноженное, плясало, отражаясь в каждом золотом, он спрашивал себя: откуда, через какие руки дошла до него хотя бы вот эта старая, стертая монета, с буквами неизвестного ему государства, с ликом неизвестного ему правителя? Самые старинные монеты, впитавшие в себя за столетия несметное число горящих человеческих взглядов, были отполированы пальцами и содержали меньше всего медных примесей. Они вспыхивали редкими, но сильными и таинственными огоньками, рассеянными среди более слабых, — так ярких, сильных звезд на небе меньше, чем бледных и слабых, но они никогда не теряются среди них.
И нередко, склонясь над такой яркой, таинственно мерцающей звездой в центре какого-нибудь золотого созвездия, раскинувшегося на темном небе ковра, он видел историю этого золота. Видел, как убивают друг друга золотоискатели, напав на жилу, как умирают один за другим те, кому золото доставалось потом, — купцы, разбойники, солдаты, полководцы, побежденные более молодыми и более сильными купцами, разбойниками, солдатами и полководцами. Его прадед, Алтын-спахилы, «золотой спахия», рассказывал будто бы, каких знатных людей и в каких землях зарезал он, пока собирал свое богатство. Имя прадеда помнили, но точно так же, с той же гордостью и умилением поминали у них в роду и имя графа Андраши, сильного и доблестного рыцаря, зарубленного в честном бою под Будапештом… Словно кровь, благородство и золото двух родов слились в тот страшный час воедино, чтобы так, вместе, продолжать жить в Устине… Однако не все были графами, чтобы их помнили, и не все были рыцарями-спахиями, чтобы рассказывать о своих победах…
Хаджия улыбался, точно во сне, и из уголка его губ тоненькой струйкой стекала кровь. Приходилось ли ему размышлять о путях своего золота? Не оно ли помогает, ему сейчас не замечать смерти? Не оно ли мешает ему умереть, как подобает такому человеку, как он?
Исмаил-ага против воли держал в руках кошель и пристально его рассматривал. Он давно знал, что у золота особый вес, но только сейчас понял, что это значит. Кошель оттягивал руки, словно отрезанная человеческая голова. И он держал его на отлете, как бы боясь запачкаться кровью. Но, несмотря на это, не развязанный еще кошель будоражил его, издавая тихий, ласковый шелест, светлый шепчущий звон, звон этот проникал в пальцы, и кровь разносила его по жилам.
Глава пятая
1
На церковном дворе, там, где кончался настил из каменных плит и начиналась крапива, на припеке у ограды все еще лежал желтый, чахоточный Учитель. Он лежал как живой, голова его не была отрезана, но рукоять пистолета выскользнула из ослабевшей руки, а цепочка часов уже не блестела из-под расстегнутого сюртука. Кончилось время Учителя. Часы его, верно, отмеряли сейчас время кого-то из победителей.
Под тенью старой чинары, в десяти шагах от трупа, стоял стол и несколько стульев. Там, погруженный в свои мысли, сидел Решид-паша и вяло вел допрос; драгоман[45] время от времени пытался переводить; вмешивался и горбатый кофейщик Гуджо — его посадили на стул как представителя сожженного села, он сберег все свое добро и этим гордился, как и сознанием того, что его присутствие придает следствию законность; он сидел, то и дело повторяя, что все нити заговора ведут к Хаджи-Вране, но паша мог обойтись и без драгомана и без Гуджо и часто делал им знак, чтоб они замолчали. Тогда они сидели молча, а писарь старательно записывал каждое слово свидетелей.
Решид-паша спрашивал свидетелей, узнают ли они того, кто лежит там, в крапиве, что им про него известно, какие бунтарские слова они от него слышали, располагал ли он большими деньгами — московскими деньгами, — говорил ли, что, как только поднимут они восстание, так придут им на помощь чужеземные войска, и где, по их мнению, может быть спрятан его письменный завет или клеветническое письмо, адресованное иностранным консульствам в Филибе, — потому что в последнее время, говорят, он вечерами искал уединения и все что-то писал.
— Твоя правда, паша-эфенди, твоя правда… — отвечали две уцелевшие бабки, извлеченные из каких-то погребов, — твоя правда! — и непрерывно крестились.
— Мы не виноваты, паша-эфенди, — клялись те из чорбаджий, что успели вовремя увезти свои семьи в Устину. — Мы ничего не знаем, от нас все скрыли; а как только мы что-то заподозрили, так сразу и решили: надо спасаться в Устине, эти безумцы нас погубят… Мы не виноваты, паша-эфенди…
Никто еще толком не ответил на его вопросы, и Решид-паша, раздосадованный, взмахивал рукой и требовал: «Следующий!»
Какая-то девушка, белолицая красавица, с еще мокрыми волосами, — ее только что привели, схватив у какого-то колодца, где она мылась, — с кровоточащими следами от мужских зубов на лице, выслушала пашу спокойно и кротко, только немного рассеянно, — он даже удивился, откуда она берет силы, чтобы держаться на ногах, — она выслушала его спокойно, а потом вдруг задрала юбки и давай хлопать себя ладонями по исцарапанным ляжкам и кричать страшным голосом: «На, на и тебе, паша-эфенди… твой черед! На, на, на!..» Едва ее увели.
Ни одного мужчины-повстанца так и не смогли привести. Тогда Решид-паша приказал обыскать церковь и всех убитых. Он надеялся найти где-нибудь под плитой или у кого-нибудь за пазухой то, что Учитель писал все последние ночи. А Гуджо снова напомнил ему о Хаджи-Вране — неспроста-де старик исчез из церкви, да и сыновья его были главарями…
2
«…Я хочу вам, оставшимся в живых болгарам, и вашим внукам сказать несколько слов, чтоб не поминали вы меня лихом. Ибо много будет разных толков, а я не был дурным человеком. С погибшими я в свое время немало беседовал — и в школе, и в церкви, и в их домах. Они меня понимали. Не думаю, чтобы кто-нибудь из тех, кто меня понял, остался в живых. И вот я, сознавая, что тоже буду среди мертвых, решил сделать так, чтобы слово мое все равно до вас дошло.
Грамоте обучил меня наш славный учитель Христо Данов из Пловдива, когда мне было уже пятнадцать лет. Наняли его перуштинские богачи, и мой зять — Рангел Гичев — сказал мне: «Петр, я хочу, чтоб ты выучился и потом вел мои счета». Ибо наши односельчане уже ездили тогда торговать в далекие края, добирались до самого Стамбула, торговали вином, табаком и шелковичными коконами со всего края, а были неграмотны.
Поздней осенью во дворе церкви за несколько дней возвели постройку в две комнаты, — в той, что побольше, мы учились, а в той, что поменьше, жил учитель. Чтобы вышло подешевле, не стали штукатурить, а обмазали комнаты соломой пополам с глиной. Когда мы начали учиться, из стен полезли ростки пшеницы. Очень уж влажными были стены, да и осень дождливой. Учитель не разрешал вырывать стебли. «Пусть колосится, — говорил он, — на позор богачам!» А те, навещая нас и видя колосья, твердили: «Учитель, это добрая примета — урожайной будет школа!»
Учился я вместе с девяти-десятилетними ребятишками, и мне было стыдно входить в класс вместе с ними. Еще затемно, поднявшись ото сна, учитель заставал меня в большой комнате за растопкой печи, и он не гневался, а только радовался и показывал мне буквы и книги разные, пока не начинало светать и не приходили остальные. В ту же зиму он сделал меня своим помощником, ибо я к тому времени уже кое-чему научился, да и детей было много и он один не справлялся; к тому же я был старше их, и они меня слушались.
В те времена и взрослые мужчины и мальчики ходили с бритыми головами, только одна прядь висела сзади и заплеталась в косицу. И китайцы вроде бы носят такие косицы, и древние болгары носили, да и турки тоже, посему неизвестно, у кого мы переняли этот обычай. Но учитель Данов сказал, что в большей части болгарских городов и сел не признают косицы и считают их признаком туретчины. А так как школа наша болгарская, он запрещает входить в нее турчатам. И разогнал нас по домам, и мы с ревом ушли.
На другое утро дети стали приходить с отцами, и отцы пытались уговорить учителя, — раз уж он так настаивает, пусть сбреет косицы своим питомцам, чтоб не ревели, а волосы потом у них отрастут. «Так ведь у вас у самих есть бритвы, — отвечал учитель Данов. — Раз вы умеете брить целые головы, сумеете сбрить и по одной косице!» — «Нет, мы не можем, учитель, — говорили они, — будь добр, возьмись за это дело, ведь ты человек ученый!» — «Видишь, Петр! — сказал мне как-то учитель. — Многое может наш народ, а косицы сам себе сбрить не может! Много еще косиц ждут своей очереди».
Сначала он обрил мою голову, а после я, как помощник, тоже взял бритву, и за неделю-другую мы сбрили косицы всем ученикам — сто восемьдесят косиц ровным счетом. Спустя годы, когда я сам стал учителем, уже и пожилые болгары не носили косиц.
Я рассказал вам ату историю с косицами, потому что мне она приоткрыла судьбы народные, как явление святого духа было откровением для наивных наших христиан. Много я потом ездил по свету, учился и в Пловдиве и в Белграде, был в Бухаресте и Браиле, помогал Раковскому[46] и Дьякону[47], но все началось с бритья косиц.
Я нарочно опускаю сейчас свои злоключения — что было, то было, — многому научился я у моих односельчан, многому сам их научил. А зятевы счета я не пожелал вести. Он, впрочем, понял, что так именно и случится, и перестал посылать мне деньги на учение. И только потому, что от недоедания я сильно исхудал и началась у меня чахотка, решил я наняться учителем в село, где жизнь спокойная и сытная.
Но и в селе уже не было спокойствия. Все ждали каких-то событий. Греция освободилась. Сербия и Черногория — тоже. Очередь была за нами. Когда мой старый знакомый по легии[48] дьякон Левский впервые приехал ко мне в Перуштицу уговаривать людей создать комитет[49], они опередили его вопросом: «Скажи нам, Дьякон, когда начинать пляску, а то барабан у нас давно наготове!» И он, приехавший за одним, заговорил о другом: нельзя, мол, считать, что море по колено, дело наше требует времени и тщательной подготовки.
Вот в таких-то заботах и прошло мое здесь учительствование, и многое из того, что было задумано, я не смог довести до конца. Старался я спасти сказания и легенды, умиравшие от старости, приступал и бросал, приступал и бросал, а теперь уж оставил эту затею навсегда. Но поскольку в эти дни о Перуштице родятся новые легенды и древние будут преданы полному забвению вместе с именем старинного города Драговца, я хочу молвить о нем слово.
Расположен был Драговец южнее, на равнине, и развалины его, быть может, не дождутся будущих ученых людей. Не раз порывался я раскопать землю вокруг его стен, но так это мне и не удалось. А старики говорят, что в былые времена, когда город подвергся нападению, — а кто на него напал, уже забыто, — уцелевшие драговчане переселились к подножию гор, на то место, где сейчас Перуштица. И назвали новое поселение Перунштицей, — верно, по имени бога-громовержца Перуна, древнеславянского Зевса. Детьми ли Перуна или жертвами его были наши прадеды? С одним французом, путешественником, который задержался у нас на некоторое время и имел с собой разные приборы, определили мы, что Перуштица расположена на 29°9′ восточной долготы и 42°5′ северной широты.
Без науки нельзя, и, будь мы свободны, я занялся бы изучением вопроса: что помогло Алтын-спахилы Сулейману-оглу и муллам обратить в свою веру рупчосских горцев, населявших окрестности Тымрыша.
Обычно говорят, будто произошло это оттого, что не нашлось в горах своего Рогле, но я не раз задавал себе вопрос: «А почему не нашлось?» Обращаясь к памяти стариков, я не обнаружил воспоминаний о том, что в прошлом между нами и селами Рупчоса существовало дружеское общение. Одни распри — из-за общинных земель, лесов и пастбищ. Может, каменистая их земля, голодная их зависть к нам помогли туркам. Ведь, кроме сохранения жизни, вероотступничество сулило им привилегии и сытость. Не верится мне, чтобы люди могли покориться только из страха… Что бы мы ни говорили, большинство горцев — народ мужественный.
Мне хотелось собрать все песни, легенды и сказания равнин и гор, связанные с отуречиванием, раскопать минувшее до самых глубин, потому что те, кому предстоит строить нашу державу, должны многое знать и прежде всего должны понимать, что же подрывает корни народного единства.
Был я скромным человеком, но судьба моя сложилась так, что — добром или злом, — но будете вы меня поминать. И хочется мне, чтобы в такие минуты вы меня ясно видели. Если портрет мой не сохранится до поры, когда я буду приходить к вам из могилы, знайте, что видом своим я походил на нашего великого Раковского, такое же смуглое, испитое лицо, те же усы. Сходство это было природным, но я старался всячески его усилить, не считая это смешным. Потому что перестает быть смешным подражание скромное, благородное, вызванное безмерной любовью ко всему родному, воплотившемуся в этой титанической личности. За это подражание меня уже подстерегает где-то пуля. Только глаза у меня были обыкновенные и смотрели кротко, исключая минуты слабости и ярости. Не было у меня в глазницах вечно горящих, как у него, углей. Он был создан для того, чтобы вести за собой весь народ, а я — одно село. Я помню его командиром легии — в темно-зеленом плаще на красной суконной подкладке. Послы всей Европы, аккредитованные в Белграде, с ним раскланивались…
Этой весной я, можно сказать, перестал учительствовать. В школе мы с детьми больше разучивали песни о болгарах-юнаках. А в церкви, в которую я до недавнего времени, грешным делом, избегал ходить, стал я призывать к борьбе с помощью Луки и Матвея. Однако чужда была мне легкокрылая вера в успех восстания, многими уже овладевшая.
Дойдут, к примеру, до вас и воспоминания о Василе Сокольском-Докторе. Он и с гайдуками был связан, и в темнице томился, а под конец стал фельдшером в нашем селе. Здоровый, беззаботный, с вечной улыбкой на устах, наивный, как дитя, он готов был в любую минуту зажечься энтузиазмом. В добром его сердце таилась ненависть к одному лишь врагу, но была эта ненависть беспредельна… Он был среди первых моих помощников, вместе с Павлом Хадживраневым и Спасом Гиновым. Сколь радовал, столь же и пугал меня этот человек… Не знаю, где он сейчас и кто терзает его грудь — палачи в темнице или орлы в горах…
Так вот, в марте, когда Бенковский[50], переодетый богатым торговцем, спустился с гор к нам в село, мы, четверо, услышали из его уст, что и Пештера не поднимается, подобно многим другим селам… Ночь была дождливая, апостол[51] промок до нитки. Был он утомлен и смертельно печален. Да и я не мог сильно его подбодрить: сколько ружей было у нас — все никуда не годились. Сами турки нам их сбывали, чтобы купить себе современные винчестеры. Но, к великому моему изумлению, Бенковский остался очень доволен нашим усердием. Сказал, что никогда еще не было у нас столько ружей. И еще сказал, что не знает, как идут дела у других, но в нашем крае больше всего рассчитывает он на Перуштицу, равно как и на Панагюриште, Батак и Брацигово.
Пока он говорил, как дым, слетели с лица его усталость и печаль. Встал он посреди горницы, окинул нас орлиным своим взором, и улыбка его сказала нам, что главная сила, в сущности, придет из иных мест… Не посмел я спросить его при всех, откуда она придет, потому что прежде не заходило о ней разговора и, стало быть, хранил он ее в тайне. Сам я не видел такой силы, раз Перуштица со своим устаревшим, жалким оружием занимала среди других сел видное место. И нелегко было мне смотреть на апостола, который выглядел таким довольным при таком плачевном положении.
Но Бенковский продолжал расхаживать по комнате, глядя тем же орлиным взором, улыбаясь той же улыбкой, и говорил о сладости близкой победы и взмахивал при этом рукой, словно рубил саблей. Сокольский сиял от счастья и стучал кулаком по столу. Он не замечал, что делается со мной, как переглядываются Павле и Спас. Я думал поговорить с апостолом по дороге, но, когда наступило время прощаться, он пожелал, чтобы его проводил Сокольский. «Апостол, — сказал я, — лучше я пойду, я лучше знаю закоулки и тропы». Но он похлопал меня по плечу рукой, твердой, как камень, и сказал: «Ненастная нынче ночь, Учитель. Выйдешь — разболеешься. Ты для нас человек ценный, мы должны тебя поберечь». А улыбка его была веселой, загадочной и суровой.
И когда представители всех комитетов должны были собраться в Обориште, чтобы назначить день восстания и выбрать руководителей, от Перуштицы поехали Сокольский и Спас Гинов. Сокольского ждал сам апостол и облек его большим доверием — назначил начальником охраны. Без его разрешения никто не мог приблизиться к поляне, где шло собрание, и к самим апостолам. Сокольский первым подписался под решением дать Бенковскому неограниченные полномочия для руководства восстанием, как только оно вспыхнет.
Один вернулся Спас из Обориште. Сокольский остался при апостоле, в его распоряжении. Он прислал со Спасом письмо. Восторгом и счастьем дышало оно. «Дело сделано, — писал он мне, — судьба Больного (Турции) решена…»
Живые братья мои, я никого не виню. Я тоже хотел как можно скорее решить судьбу Больного. Пора было сбрить рабью косицу с головы нашего отечества. Я знал, что одними мудрствованиями свободы не завоюешь, что если в пятидесяти селах разом перестанут мудрствовать и свяжут самых мудрых, как безумцев, тогда огонь займется дружно, враг растеряется — где раньше тушить, и святое пламя перекинется в другие пятьдесят сел, и из пламени родится день свободы. Но где эти пятьдесят сел, готовых начать. Я знал себя, знал, что Бенковский не сможет меня заворожить, что на Обориште множество взглядов будет устремлено на меня, и потому, побоявшись сократить еще больше число огней, решил не ездить туда сам, а послал кого следовало.
Я давно свыкся с мыслью о виселице. Но иногда, когда я пытался представить себе, как все произойдет, мне случалось видеть вместо села нашего бескрайнее пепелище и слышать, как из-под земли несутся, сливаясь воедино, тысячи воплей: «Будь ты проклят, Учитель! Трижды проклят!» И я вскакивал с лавки и устремлялся к окну. Дома сверкали под солнцем: целехонькие, побеленные и подсиненные к пасхе, окутанные облаками весеннего цветения, полные жизни, богатства и надежд.
Только Ванка, жена моя, видела меня в таком испуге, но она была на сносях, и мне не хотелось усугублять ее тревоги; обдав голову холодной водой, я причесывался и шел к людям. А стоило мне оказаться среди людей, как снова ко мне возвращалась улыбка и я снова становился неколебим. Неколебим потому, что колеблющимся свобода не дается, — что тут ни придумывай, а повсюду на земле, так или иначе, за свободу приходится платить. Какой же ты учитель, если не знаешь этого? А улыбался я для того, чтобы не столь страшной казалась перуштинцам плата. Лишь тогда я понял, братья, что такой улыбкой улыбался и апостол Бенковский.
И каждый толковал мою улыбку по-своему: или видел в ней уверенность в наших собственных силах, или небесное предопределение победы, или какую-то большую тайну, о которой не следует спрашивать. О стариках и богачах я не говорю — с ними в эти дни я старался встречаться пореже.
Куда бы я ни шел, где бы ни появлялся, повсюду — на улицах, из-за оград — меня встречали и провожали прекрасные сияющие глаза и молчаливые улыбки соучастников. День за днем, постепенно начал я все больше укорять себя за колебания и маловерие. И стало мне казаться, будто действительно существует что-то, что уже решило исход восстания.
Иногда я спрашивал себя: «Уж не вознаграждают ли меня сейчас перуштинцы за мою любовь к народу плодами той веры, которую я долгие годы сеял в их душах?» Но нет, такого не могло быть — не могла быть в этом только моя заслуга, или одного только комитета, или одних десятников. Можете удивляться, живые братья, но в последние дни Павле Хадживранев и Спас Гинов — мужи разумные и прозорливые, сумевшие вовлечь в дело много родовитых семей, — хоть и тревожило их предстоящее кровопролитие, куда больше опасались того, как бы в селе не заметили этой их тревоги.
Как-то вечером, после того как уже свершилось страшное предательство и некоторые села восстали, дабы опередить аресты, увидели мы, как за Филибелийской равниной заалело зарево. Все село на него глядело, но ворчали только старики. И лишь под утро Павле спросил меня о пожарах. Я сказал ему, что это-де горели турецкие села, хотя оба мы прекрасно знали, что там, в Среднегорье, по ту сторону равнины, все села как есть болгарские. Он сделал вид, будто поверил, и больше об этом не заикнулся. И на душе у него словно полегчало.
А Спаса послал я в эти дни разузнать, что творится в ближайших болгарских селах, с которыми мы должны были действовать заодно. Отец его в свое время возил на продажу зерно местных турецких помещиков, и турки Спаса не трогали, он всюду сумел заглянуть. Раза два-три его останавливал турецкий патруль, но всегда находился заступник: «Эй, отпустите его, он свой человек! Спас-эфенди, как там у вас дела?»
Вернулся Спас озабоченный, а на вопросы наши: «Что ты видел?» — ответил: «Видел я, что нет на свете ничего сильнее огня и ножа… А в одном селе спросили меня болгары: будем ли мы умирать, как они, или в турецкую веру перейдем?» — «И что ж ты ответил?» — спросил Павле. — «То же, что и ты ответил бы, Павле… Или не верно я им сказал?» — «Верно, Спас».
Они обнялись, как братья, да и было промеж них что-то вроде свойства, потому что Хри́стос, меньшой Хадживранев сын, тот, что помер, был дружком Спаса, а Ягода, нареченная Хри́стоса, вошла в дом Гиновых, со Спасом обвенчалась.
Живые братья болгары, еще многое мог бы я вам поведать, да только кончаются наши патроны и не знаю, какое солнце озарит меня завтра — желтое или черное.
Так и умру, не узнав, что сталось с женой моей. Я потерял ее из виду в первый же день боя. Младенец вот-вот должен был появиться на белый свет, и я оставил Ванку с другими женщинами в одном доме. Дом каменный, добротный, не боится огня, но турки вскоре отрезали весь тот край села. Там среди женщин были и жены чорбаджий, и потому опасаюсь я, как бы заодно с ними не пощадили турки и мою Ванку, не отвезли бы ее живую в Устину, и тогда сын мой родится в турецком селе, покуда отец его со своими товарищами погибает в болгарском.
Грохочет Перун над нашей церковью Михаила Архангела. Хорошее имя дали мы церкви — приберет Архангел Михаил души наши, все до единой. И пусть. Никто не хочет сдаваться. Желали перуштинцы с честью бороться, и если надо — с честью умереть. Я сделал все, чтобы сбылось это их желание, чтоб делом подкрепили они свои слова. Не из ненависти потребовал я в тот вечер смерти Дели-Асана Баймана-оглу и его дружков. И спасибо им, что сами явились в нужную минуту. Потому что и без них уже решена была судьба Перуштицы и тымрышскими и устинскими башибузуками. Останься село покорным, упади оно на колени, моля о султанской милости, все равно уже надвигался Мамед-ага с тысячью помаков, и каждый из них знал, зачем он идет. Они шли и не остановились бы на полпути — слишком много золота накопилось в Перуштице. Иначе какая польза была бы им от вероотступничества?
Потому-то и вспомнил я тогда Рогле и отметил мужчин таким знаком, который, хоть и смывается водой, передается детям и внукам. А отмеченного таким знаком нельзя ни отуречить, ни усмирить, ни снова сделать рабом. Недаром был я у Раковского и Дьякона, недаром собирал легенды. Каким учителем был бы я, Петр Бонев, кабы не знал хоть немногим больше своих братьев? И ежели вы послушаетесь меня, то, поминая когда-нибудь всех тех, кто погиб за нашу свободу, помяните наравне со мной и Дели-Асана… Помяните и тех, кто убил чорбаджийских посланцев на Власовице, хотя я до сих пор не могу взять в толк, кто они были и для чего это сделали.
А говорить обо мне будут разное — и хорошее и дурное, и ежели жена моя, Ванка, чудом уцелеет вместе с ребенком, всегда найдутся хулители, изверги и подлецы, которые скажут, что с легкостью принес я в жертву целое село, потому что близкие мои были вне опасности. И другую хулу могут излить на меня, но вы, живые братья, как только они меня помянут, вызовите мысленно мой образ. Да и сам я с готовностью буду являться, ибо привык я всегда быть среди людей. А увидев меня снова и поразмыслив, как и для чего я жил, вы сами решите, что в словах обо мне — истина, а что — ложь. Если же вы будете призывать меня почаще, я, учитель Петр Бонев, еще много передам вам драгоценных знаний…»
Глава шестая
1
Кошель по-прежнему издавал тихий, ласковый шелест, светлый, шепчущий звон. Этот звон по-прежнему проникал в пальцы Исмаила-аги, а кровь по-прежнему разносила его по жилам.
Но вот из-за соседних дворов стал нарастать цокот копыт. Верно, это был Зекир с телегой. Только почему-то не слышно было стука колес, вместо них Исмаил-ага уловил тихий гортанный говор и шлепанье босых ног, бегущих за лошадью. Золотой звон исчез из его крови. Кошель все еще оттягивал руку, еще более нежеланный, еще более нечистый, чем раньше, и ага не знал, куда его девать.
Говор смолк у ворот, и огромного роста всадник заполнил собой их просвет, наклонив голову, стараясь не задеть черепичный навес над воротами.
Он был в грубой одежде из домотканого сукна, какую носят все горцы, только не серой, а выкрашенной в черный цвет, на голове его была простая белая чалма, не слишком чистая, как у большинства правоверных. Это был или молодой парень, но с мощным, непомерно развитым торсом, или стареющий бравый мужчина с лицом мальчишки, румяным как яблоко, и светло-русой жидкой бороденкой. Он властно восседал в седле, подпоясанный широким поясом, из которого торчало множество перламутровых рукоятей пистолетов и ножей; справа и слева у него висело по ятагану, а за спиной — длинноствольное ружье.
Оружия этого хватило бы по меньшей мере на двоих, и Исмаил-ага впервые видел такое диво. Он медленно поднялся с гиацинтовой грядки, чтобы указать непрошеному гостю путь от ворот, и только тогда увидел слепящий золотой блеск стремян у ног конника. Золотом, золотыми бляхами были украшены и поводья и кожаный пояс.
«Ал-лах, — пронеслось в голове Исмаила-аги, — неужто это он?» Теперь конник уже казался ему величественным. Словно он видел перед собой далекого предка — Алтын-спахилы. Такая же сбруя, оставшаяся как память о былых временах, висела сейчас в доме его брата — истлевшие, ставшие ломкими от времени ремни. Поговаривали, что только один-единственный человек во всей великой державе — потомок старинного славянского рода, силой обращенного самим Алтын-спахилы в мусульманскую веру, хозяин чабанов, отар и каменистых круч — продолжал употреблять такой убор. Но у этой сбруи кожа была гибкая, черная, и золото на ней сверкало еще ярче. «Он! Тымрышлия!» — воскликнул про себя Исмаил-ага.
— Живей! — обернувшись назад, крикнул по-болгарски Тымрышлия.
Человек десять помаков ворвались друг за дружкой во двор, с опаской обегая конский круп. На козьих тропах их родных гор это животное встречалось редко, и они боялись его. Помаки были босы, одеты в такую же грубую одежду из домотканого сукна, только ветхую и серую. Медные бляхи на их старых кожаных поясах отливали всеми цветами — от красного до зеленого.
Тымрышлия обвел рукой дом, конюшни и двор и только тогда заметил Исмаила-агу, стоявшего молча посреди цветника. Глаза их встретились. Он открыл было рот, но тотчас закрыл его, не издав ни звука. Исмаил-ага почувствовал, что и он понял, с каким человеком ему предстоит иметь дело.
— Кто это? — произнес отчетливо по-болгарски Тымрышлия, не спуская с него глаз.
— Кто ты? — крикнул один из пеших, двинулся было к Исмаилу-аге, но остановился на полдороге. — Кто ты и откуда?!
— Я — Бен Исмаил-ага Ибрахим-бей Мирза Алтын-спахилы Сулейман-оглу, — гордо произнес Исмаил-ага и спросил по-турецки: — Сиз ким синиз? Бурда насыл иш вар? (Кто вы? И чего вам здесь надо?)
Пеший удивленно повернул голову, ожидая дальнейших приказаний. Но Тымрышлия молча восседал на коне, нахмурив светлые брови, немного подавшись вперед, словно желая лучше рассмотреть человека, стоящего посреди цветника.
— Не понимаю, — сказал он по-болгарски. — Кто ты такой?
Исмаил-ага мрачно усмехнулся.
Помаки не водили дружбы с турками. Они покидали свои отары, только отправляясь на кровавую поживу, — стало быть, опять-таки к болгарам. Откуда им было знать турецкий? Но для рода Тымрышлии это незнание было прихотью и политикой… Ибо ученые сановные головы в Филибе и Стамбуле видели ценность Тымрышлиев именно в этом. Там считали, что ни один пришлый правитель не может иметь в горах того веса и той власти — во славу султана, — как сильный, сломленный, а затем обласканный местный владетель, близкий и понятный помацкому сброду. И Тымрышлии держались за эту близость к чабанам, которая придавала им большую цену, чем близость к благородным османским владетелям из равнинных сел. А может, им мешали унизительные воспоминания, может, они боялись потерять самостоятельность и вес и не получить взамен настоящее, полное равенство с турками.
— Уходи! — сказал Тымрышлия, все так же подавшись вперед, глядя на Исмаила-агу. — У нас тут дело.
«Ого!» — сказал себе Исмаил-ага. Ни разу ни один из рода Тымрышлиев со времен приобщения их к аллаху не откликнулся на многочисленные приглашения погостить в Устине и ни разу не пригласил в Тымрыш кого-либо из рода Сулейманов. Только приветы и пожелания здоровья и хорошего урожая, пыльные и потные, доставлялись иногда случайными путниками — к одним и другим. А отчужденность, вместо того чтобы уменьшаться, росла. И если потомки Алтын-спахилы хотели, чтобы жизнь в их крае текла спокойно, подчиняясь издавна заведенному порядку и обычаям, обрезанные Тымрышлии, души которых не переставали кровоточить, только и ждали какой-нибудь смуты. И первыми являлись туда, где начинался бунт. Ибо бальзамом была для них чужая кровь и чужое золото, ибо тем доказывали они свою преданность Порте и тешили себя той неслыханной наглостью по отношению к истинно правоверным, которая словно говорила: «Ладно, знаем, кто вы такие, но что вы сможете нам сделать, если мы плюнем сейчас вам в рожу!»
2
Так оно и шло, только сегодня Мемед-ага встретил не кого-нибудь — сам Исмаил-ага Ибрахим-бей Мирза Алтын-спахилы Сулейман-оглу, стоя посреди гиацинтовой грядки, громко и гордо повторил свое имя, и строгий его голос означал: «Я ношу имя того, кому правнуки одного недорезанного гяурского бана[52] обязаны жизнью, новой верой и своею властью!» Он снова спросил по-турецки, кто они и чего им здесь надо, и, договорив, остался стоять с поднятой головой, словно вопросы его вовсе еще не кончились. Он знал, каким видят его сейчас синие глаза всадника, знал, что тот не сможет снова ответить: «Не понимаю», — немые вопросы впивались в него, и Исмаил-ага с наслаждением наблюдал за его растерянностью.
Это было старое, острое чувство наслаждения — старое и острое, как та вражда, которая не стерлась единоверием, а, наоборот, возросла и сейчас, подстегнутая дерзостью горца, сладостно шумела, набухая в висках, и была упоительна, как любовь. Исмаил-ага мог задать вопрос и по-болгарски, но Мемеду-аге положено было понимать по-турецки и по-турецки же отвечать. И, опершись ладонью на эфес того самого фамильного ятагана, страх перед которым должен был передаваться у Тымрышлиев из рода в род, Исмаил-ага спросил в третий раз:
— Бурда насыл иш вар?
— Начинай! — приказал неожиданно конник своим людям, словно ничего не слышал, и снова указал рукой на дом, конюшни и двор. — Живо!
Земля заходила под ногами Исмаила-аги вместе со всем, что на ней было. Пошатнувшись, он зажмурил глаза, а когда их открыл, с удивлением увидел, что все на прежних местах и ничто не обрушилось. И все же мир уже не был прежним. Конник теперь не стоял в воротах, а собирался спешиться у крыльца. И не глядел в его сторону.
— Стой! — крикнул неуверенно Исмаил-ага. Крикнул по-болгарски и повторил свой окрик еще раз для пеших, рассыпавшихся по двору: — Кто вы такие? Что вам надо?! — Он кричал, хотя земля под ногами его потеряла устойчивость и роду Сулеймана уже не суждено было взять верх над Тымрышлиями. Видно, победа их никогда не была полной.
Хаджи-Вране глядел в небо, и неизвестно было, понимает ли он, что мир изменился.
— Что вам здесь надо?! — кричал Исмаил-ага, — Почему вы молчите?! — И знал, что для Тымрышлии слова его звучат так: «Мемед-ага, прошу тебя, не забывай, кто стоит перед тобой, не оскорбляй больше. Я уступил, насколько мог. Уступи и ты. Уезжай восвояси!»
— Исмаил-ага Сулейман-оглу? Я не ослышался?
— Нет, не ослышался, — сквозь зубы произнес Исмаил-ага.
— Исмаил-ага! — громко и внушительно изрекла румяная мальчишеская голова с высоты огромного туловища, взгромоздившегося на лошадь. Тымрышлия был доволен, он снова видел, кто стоит перед ним, и его ясные, полные любопытства синие глаза впились в лицо турка, — Как мне повезло, а? Гм… А мы ищем здесь главарей.
— Каких главарей?
— Гяурских.
— Здесь нет гяурских главарей.
— Очень хорошо, — сказал Тымрышлия. — Мы и хотим посмотреть, так ли это.
— Нечего вам смотреть, я уже видел.
— Когда?
— Только что.
— Хорошо смотрел?
— Хорошо.
— Везде?
— Везде.
— Выходит, ты знал, Исмаил-ага, — ухмыльнулось румяное лицо, — знал, что в селе скрываются бунтовщики? Раз ты все обыскал…
Кровь хлынула в голову Исмаилу-аге, и на миг он онемел.
— А это кто? — указал Мемед-ага на Хаджи-Вране.
— Хозяин дома, — с трудом выдавил Исмаил-ага, едва слыша свой глухой голос сквозь тревожный шум крови в висках, — дед Хаджи-Вране, старейшина села, мой старый кунак, свой человек…
— А в руке у тебя что?
— Это? Это? — Исмаил-ага изумленно глядел на кошель. — Это золото деда Хаджии… будем считать… он вверяет его мне… — Всадник ухмылялся. Исмаил-ага смолк. Изумление и смущение его перешли в бешеную ярость. И он сам услышал, как кричит по-турецки: — Бу безим иш!.. Кач бурда! (Это мое дело, убирайтесь!) — и замолчал, а потом тихо добавил по-болгарски: — Уходите. По-хорошему прошу. Вам нечего здесь делать. Уходите.
— Раз по-хорошему, уйдем, — сказал Мемед-ага. — Тымрышлии уважают просьбы друзей. — И он махнул пешим, чтоб они шли со двора. Помаки один за другим стали сбегаться к воротам, снова стараясь держаться подальше от конского крупа. — Только мы, Исмаил-ага, прежде всего слуги аллаха, падишаха и империи — пусть цветет и ширится их слава!
— Пусть цветет и ширится их слава, — повторил следом за ним Исмаил-ага.
— Плохо то, что некоторые правоверные, чересчур уповая на прежние заслуги, не страшатся протягивать руку гяурам. И потому я буду где-нибудь поблизости. Не обижайся, Исмаил-ага. Такие нынче времена. Если бы все мы выполняли свой долг, не было бы бунта. И еще хочу сказать: старшего сына Хаджи-Вране — Павле — не нашли среди убитых. В церкви нет его трупа… Может, он ожил?.. Берегись, Исмаил-ага, не впутывайся дальше в это дело!
Пешие уже ждали за воротами. Мемед-ага произнес последние слова тихо, ласково и угрожающе, глядя в землю. Потом он вздыбил коня, под цокот копыт круто развернул его грудью к воротам, пригнулся, чтобы не задеть черепицу навеса, и исчез, не пожелав, как это принято, на прощанье ничего доброго, не взглянув больше в глаза Исмаилу-аге.
Долго стоял ага посреди гиацинтовой грядки, долго стоял, повернувшись лицом к воротам, все еще не в силах до конца постигнуть все сказанное. Страшная несправедливость, смертельная обида язвила душу, расползалась по двору, затмевала прошлое и будущее — обида, одетая в грубое домотканое сукно, украшенная золотыми бляхами.
А Хаджия, лежа на мягкой, теплой земле, все так же упрямо смотрел в небо; струйка крови, стекавшая из уголка губ, погустевшая, набухшая, исчезала где-то за смуглым ухом, поросшим старческими космами.
3
Он словно бы шептал что-то, словно бы звал его, и Исмаил-ага обрадовался, что должен сейчас заняться кунаком. Так было легче прогнать и обиду, и мысль о том, что никогда ему не выпадет случай достойно отомстить Мемеду-аге, и предчувствие каких-то новых бед, которые как будто подстерегали его где-то поблизости. Очень хорошо, что он должен был сейчас заняться стариком.
Он снова присел на корточки, держа тяжелый кошель перед открытыми глазами Хаджи-Вране, и снова принялся отгонять мух. Теперь их был целый рой.
— Павле сначала, я тебя обманул, кызым, — заговорил вдруг возбужденно Хаджи-Вране, следя глазами за рукой, защищавшей его лицо. — А уж после — Учитель… Я… я… должен был сказать тебе, кызым…
Исмаил-ага отпрянул, но старик, продолжая искать глазами его руку, повернул голову и уставился на агу долгим взглядом — неясно было, узнает он его или нет, потом он криво улыбнулся и снова стал смотреть в небо.
— Ну что, будем считать, Исмаил-ага? — спросил он наконец.
— Давай, дед Хаджия, — ответил Исмаил-ага.
— Надо было мне их оскоромить, Исмаил-ага, — вздохнул старик.
— Что оскоромить?
— Сыновей!
— Зачем?
— Чтоб не парили в облаках, чтоб… — И он, сжав зубы, тихо застонал. — Человек создан… месить грязь на этой земле…
— Болит? — спросил Исмаил-ага.
— Болит… Когда приедет телега, Исмаил-ага?
— Еще немного…
— Зря я оберегал их, так и остались они младенцами… а лучше б жили оскоромленными, в вечном страхе… Страх, Исмаил-ага, он, как грамота, заставляет человека видеть дальше, чем другие… Силы дает… Какая б ни была власть… турецкая ль, болгарская… Да что уж теперь… Достань-ка кошель…
— Достал, — ответил Исмаил-ага, удивляясь той легкости, с какой сейчас говорил старик.
— Начинай, Исмаил-ага… Перед аллахом… Подожди: а ты не слыхал, кто убил стариков, тех, что мы послали к Мемеду-аге… на Власовицу? Не слыхал, а?
— Нет, не слыхал… Зачем вы их туда посылали? К этому…
— Да так… Начинай, Исмаил-ага!
Исмаил-ага подставил ладонь под кошель, и часть золота безрадостно вылилась в пригоршню. Знакомый трепетный звон на этот раз не проник сквозь кожу, и кровь не погнала его по жилам.
— Начинай, — сказал притихший старик.
Первая монета глухо упала на землю, вторая, холодно звякнув, легла на нее. Сначала Исмаил-ага считал вслух каждую, потом предоставил это самому звону, только отсчитывал десятки: «Двадцать, тридцать…» Прикрыв глаза, Хаджи-Вране тяжело дышал, точно повторяя десятки в уме. Солнце садилось, и в лучах заката звон становился все сочнее и ярче. «…Сорок, пятьдесят…» — считал Исмаил-ага.
— Постой! — открыл глаза старик. — Это минц[53].
Исмаил-ага наклонился.
— Минц! — ответил он удивленно.
— Из Австро-Венгрии… Приезжал тут один на узунджовскую ярмарку… Скупал, скупал… Тахин, орехи… Повозка была у него особая — четверка лошадей, рессоры, а внутри вся бархатом обита, коляской называют… С ним была одна сербка… И денег — минцы, минцы… Целый караван телег за ним потянулся… Продолжай, Исмаил-ага!
— Шестьдесят, семьдесят… — считал Исмаил-ага, — восемьдесят…
Старик вслушивался. Среди лир попадалось немало наполеондоров, упало еще пять минцев и один дукат — семьдесят второй звон. Каждый раз, когда падала редкая монета, старик вздрагивал, а когда золото зазвенело семьдесят второй раз, забеспокоился и попытался приподняться на локтях…
— Этот дукат, Исмаил-ага… этот дук-к-кат, — начал он хрипло, но внезапно рванулся вперед, в горле у него заклокотало, его снова вырвало, старик удивленно огляделся, очень удивленно и устало, локти его разъехались, чалма соскользнула с головы, голый затылок впечатался в мягкую землю, тело дернулось, потом вытянулось и замерло.
— Мердивен дюня (тщета мирская)! — сказал задумчиво Исмаил-ага, уронив еще две-три монеты из недосчитанных золотых. Потом, спохватившись, наскоро сгреб золото и ссыпал обратно в кошель, быстро спустился в подвал и зарыл его у восьмой бочки, той, что с десятью обручами. Утоптав землю, он открыл кран, чтобы натекло немного вина и не видно было, что здесь недавно копали. Он делал это наспех. Золото дали ему перед аллахом только на сохранение, и он страшился его… Оно напоминало ему, зачем он вернулся сюда из Горок, напоминало об угрозе Мемеда-аги и страшных словах старика, жалевшего, что не оскоромил сыновей. И ему не нужно было этого золота, у него своего было достаточно. Его мутило…
Поджидая Зекира, он закрыл глаза умершему, стараясь не нагибаться близко к телу, вынес из горницы ковер и покрыл его, затем вытащил из колодца воды и долго мылся, став так, чтобы не видеть ни мертвеца, ни каменной колоды.
4
Скоро он услышал зов войскового муэдзина, упал на колени и стал отвешивать обрядные поклоны. Ритмично склоняя лоб к земле и выпрямляясь, он, однако же, так и не сумел ни на миг приобщиться к самому богу, не сумел вспомнить, за что он хотел его поблагодарить и о чем попросить. Только в конце он произнес:
— Аллах, я ничего не взял, ты мне свидетель…
Когда пришла телега, он хотел было воротить ее, но тотчас вспомнил, что она ему еще понадобится, и крикнул вознице, чтобы тот ехал в Горки. Сам он собирался догнать ее по дороге. Он не представлял, как они со старухой будут смотреть друг другу в глаза, но знал твердо, что должен взять ее вместе с ребенком в Устину. И что наступит день, когда он привезет ее сюда, в Перуштицу, чтобы она увидела свое богатство нетронутым и окончательно ему поверила. Сейчас ему не хотелось думать, почему он должен поступить именно так, его мутило, да и не хотелось вспоминать о своем последнем решении — там, в зарослях кустарника на месте вырубки.
Он велел Зекиру вырыть могилу для Хаджии в том самом цветнике с гиацинтами, где старик отдыхал сейчас под теплым ковром. Когда наступило время опускать тело, Зекир обмыл мертвому лицо и руки, почистил одежду, и Исмаил-ага в последний раз взглянул на своего кунака.
Лицо у него было землистое, совсем усохшее, щеки за эти дни ввалились, и нос — длинный, заостренный, широкий у переносицы — стал еще больше походить на крепкий клюв дятла, бесцветные губы были напряженно сжаты, словно старик все еще пытался встать и продолжить свой безумный путь. «Как-то я буду выглядеть?» — подумал Исмаил-ага и с грустью представил себе, как медленно, трудно, мучительно будет он умирать, каким обмякшим и расслабленным будет его тело после смерти. И Зекир тоже будет обмякшим, и Шабан-ага — его брат, хотя Зекир умрет легче, а Шабан-ага будет противиться смерти… А Тымрышлия? Исмаил-ага не мог представить себе его мертвым. Этот ласковый и угрожающий голос, эти синие глаза, сверлящие землю в то время, как уста говорят, эти веки, тяжело опущенные, точно надгробные плиты, все это тоже говорило о смерти, но не о смерти самого Мемеда-аги. Исмаил-ага прислушался, огляделся и снова увидел черных воронов и сумрак между ветвями орехов. Его тревожили предчувствия, он поручил слуге закончить погребение и остаться еще дня на два, а сам направился к жеребцу.
Прежде чем сесть в седло, он бросил прощальный взгляд на покойника. Сейчас вид напряженных губ и нос, похожий на клюв, его приободрили, они как бы говорили: «К чему столько размышлять? На свете нет ничего страшного, даже смерть не страшна». И они напомнили ему другое, похожее лицо, давно им виденное и забытое, или и вовсе не виденное, но непременно существовавшее, и он подумал, что, верно, во времена Алтын-спахилы и у них в роду умирали так.
Глава седьмая
1
Это была поляна, а на ней — невиданное чудо: рядышком цвели и чемерица, и вероника, и богородская трава, тут же зрела земляника, зрела — не могла дозреть, но главное, здесь была богородская трава, потому что, ежели молодица знает, что ей делать с этой травкой летом, весной под сердцем у нее шевельнется ребенок, а ведь нужно рожать, ой как нужно, господи, столько рожать, что и не управишься. Где же эта богородская трава, куда подевалась?
Тут за ней погналась свора псов, она бежала по широкому бескрайнему и пустому полю — нигде ни души, никто не придет на помощь. Все псы были черными, все, кроме одного — с белой головой, пес этот не лаял, а бежал следом за остальными и жалобно выл. Она швыряла в них камнями, но камни были легкие и падали, не долетев, а псы все приближались и приближались, и камни не причиняли им вреда, псы хотели разорвать ее на куски, нет, не разорвать — не псы то были, упыри, — а только кровь у нее из горла высосать и перескочить через ее труп, чтоб она тоже упырем оборотилась. Тогда она перекрестилась и снова швырнула камень, нет, не камень, а топор — она увидела это лишь в тот миг, когда топор падал, и упал он на белую голову того пса, что жалобно выл. Пес заскулил: «За что ты меня убила, бабка Хаджийка? Я не хотел тебе зла, я и других просил, чтобы тебя не трогали. За что ты меня убила?». И тогда она пошла к нему, а черные псы притихли, расступились и глядели на нее с укоризной. Потом псов осталось только два, один весь черный, а другой — с рассеченной белой головой, и черный сказал: «За что ты его убила? Это был самый паршивый пес, что я теперь буду без него делать?» — «Почему самый паршивый? — спросила она. — Ведь он не кусался!» — «А хорошие псы всегда кусаются, — сказал черный пес — Это был самый плохой пес, и теперь хозяин не будет знать, какой я хороший!» А Гюрга уже гладила белую, глубоко рассеченную голову пса. Кровь из нее не текла, и она принялась заполнять рану землей и потом поплевала, чтобы пригладить сверху. «Не замазывай рану землей, — попросил пес — Ведь земля черная, и голова моя никогда не станет прежней, у меня будет черная метина через лоб, промеж глаз». И Гюрга увидела, какой страшной становится эта метина, но продолжала замазывать и сказала: «Что же мне делать, если только ты у меня и остался?» — «Почему только я?» — спросил пес — «Турки убили всех моих сыновей: и Тодора, и Насе, и Павле…» — «Нет, одного турки не убили». — «Кого? Кто это?» — закричала она. — «Я не знаю, — ответил пес — Ты ведь мать, разве ты не чуешь, кто это может быть?»
Она и впрямь была матерью, и казалось, еще немножко, и она догадается, кто из сыновей ее остался в живых. Что-то уже шевелилось у нее в голове, но никак не шло наружу, а ей, чтобы догадаться, необходимо было видеть это что-то. Может, ей нужно было взять топор и пробить в голове дыру, но она боялась зарубить ненароком само что-то, а оно уже задыхалось внутри, как дитя, которое никак не может родиться, и по-прежнему пусто было в поле… или в доме… или в церкви… Но вот наконец кто-то показался вдали, он спешил к ней с протянутыми руками. Бежал бегом. Ребенок то был или мужчина? Тодор, Насе, Павле или кто из ее близких? «Мама, ты меня не узнаешь? — сказал он и остановился. — Неужто забыла?» Это был Хри́стос, Хри́стоска, не большой и не маленький, одного его не убили турки, потому как он сам помер, когда она была молодая и когда еще было рабство. «Хри́стос, — сказала Гюрга, — откуда ты, сынок?» — «Ниоткуда, мама, — ответил он. — Я все хотел прийти, но не мог, уж больно далеко до села. Снизу дорога короче, и теперь ты сама пришла ко мне. Только ты забыла, как меня зовут, — я Магомет. Ты ведь хотела отписать меня турецкому богу». — «Господи, прости его, — сказала она. — Трех сыновей — святых мучеников — я тебе отдала, трех невесток и столько же внуков, ты прости его, господи, ради братьев его!» — «Мама, знаешь, и я хочу обвенчаться, как братья». — «Что ты, сынок, разве ж сейчас время венчаться, и где ты возьмешь невесту?» — «Как раз сейчас и время, мама. Ты помнишь Ягоду? Когда я был жив, мы вместе учились у учителя Бонева, у нее еще были русые косы до пят, как у самодивы…»
«Где ты, Ягода?» — крикнул он, обнявшись с Честименским. «Здесь я», — ответила Ягода. Она забилась с детишками в угол и покрыла их с головой холстиной, чтобы они не глядели на убитых. Шестерых покрыла холстиной, а седьмой был спрятан во чреве ее. «Давай обвенчаемся, Ягода, — сказал Хри́стос, — я тоже клятву давал. Ну, прощай!» — Он вытащил нож, пронзил ее и, быстро откинув холстину, снова замахнулся… и еще и еще… Напрасно Гюрга пыталась его оттащить, напрасно рвала на себе волосы, напрасно вопила, что это не его дети, что они уже убиты другим…
2
— Не тронь, не тронь, они не твои, — повторила она, приподнявшись на локтях, вся взмокшая, хотя уже смутно понимала, что все кончилось. А раз все кончилось, нет здесь ни детишек, ни Ягоды, ни Хри́стоса. Главное, нет Хри́стоса. Ей так недоставало его. Мир без него опустел.
Она почувствовала жажду и снова припала к меху.
Солнце село, и теперь вместо него с гиацинтового неба холодно сияло лишь розовое облачко, вобравшее в себя весь свет, еще струящийся из-за темных гор. Зябко поежившись, старуха оглядела полянку, кусты, девочку, которая все еще спала, и увидела, что они не одни. Неподалеку на земле лежала собака. Она была маленькая, а может еще щенок, пастушечьей породы. Серая, с белыми пятнами, с наполовину белой головой. Собака лежала, уткнувшись мордой в лапы, и смотрела ей прямо в глаза.
Это не был пес с рассеченной головой. Верно, после смерти хозяев собака скиталась по полям, стосковалась по людям — по своим людям, — нюх подсказал ей, что здесь болгары, и она пришла к ним, как к своим. Собака глядела на старуху доверчиво, готовая подойти ближе, если ее покличут. И приласкаться. Гюрга не стала ее гнать.
Прежде она часто думала о Хри́стосе, особенно когда отдавали Ягоду за Спаса Гинова. Тогда она много плакала, а однажды ей даже приснилось, какую она устроила им свадьбу, Хри́стосу и Ягоде. Хри́стос умер подростком, и в детские его годы не он, а она, мать, следила, как растет эта девочка с нижнего края села, потому что опытный глаз рано распознает, каким цветком распустится почка и какую завязь даст цветок. Она то и дело, как бы невзначай, спрашивала Хри́стоса о Ягодке и так до тех пор, пока и он не стал на нее засматриваться. Бывает, является миру такое чудо, как Ягода, и господь не смотрит, чей дом оно озарит. Ягода была дочерью пастуха, но все знали, что это ошибка и что настанет день, когда эта ошибка будет исправлена. Хадживраневы могли это сделать или Гиновы. Потому что для того, чтоб ее исправить, нужны были и немалое состояние и добрые парни, а только эти два рода были богаты и тем и другим. Хри́стос и Спас подрастали вместе. Ровесниками были.
Оба эти рода не гнались за приданым, когда женили своих сыновей. Гнались за здоровьем, умом и красотой, чтобы добро пошло потомкам впрок. Перуштица знала семьи и побогаче, но болезни, разврат и пьянство губили их. Все уходило в карманы лекарей, потаскух да кабатчиков. Что может удержать молодого торговца, наполнившего в Стамбуле кошель свой золотом, от столичных соблазнов, если не зовет его домой самый сильный соблазн. Известное дело, есть на то господь и священники, чтобы заботиться о душах, имуществе и чадах, но вернее — дайте нам Ягодку, и мы будем спокойны и за одно, и за другое, и за третье. А приданое — пусть враг за ним гонится! И спасибо деду Хаджии за то, что слова поперек не сказал. И прости ему, господи, все грехи, ежели согрешил он перед кем. И Ягодке прости, и Спасу просей, господи…
— Псина, — сказала она собаке, продолжавшей смотреть ей в глаза, — кто тебя послал ко мне? Почему Хри́стос явился ко мне в такой день? Хри́стос, Хри́стос, если и остался б ты жить, сынок, так все равно — лишь до этого дня… Ты бы мог этак ножом… как мне привиделось? Спас, тот вот смог, на моих глазах… Забыла я с ним поклон тебе передать…
Она попыталась еще раз призвать к себе Хри́стоса — сначала в образе младенца, потом школьником, когда он на экзамене, в день святых Кирилла и Мефодия, всем доказал, что знает больше других детей; но что он знал, на какие вопросы учителя отвечал, старуха не могла сейчас вспомнить. И она снова увидела его с ножом: «Где ты, Ягода? Давай обвенчаемся, Ягода!..»
3
— Где ты, Ягода? — крикнул Спас. Он уже отбросил в сторону пустой патронташ и ружье, уже обнялся на прощанье с Честименским. Стоял, черный от дыма, как угольщик.
— Здесь я, — ответила Ягода из угла, где сидела и бабка Гюрга. Она покрыла ребятишек холстиной, чтоб они не глядели на убитых, шестерых покрыла холстиной, а седьмой был спрятан во чреве ее. Медленно поднялась она над холстиной и молча взглянула на мужа.
— Хорошая ты жена, Ягода, — сказал он, — умница! — и присел возле нее. — Знаешь, я тоже клятву давал вместе с другими… Сядь же!
Она покачала молча головой и осталась стоять. Снаружи турки все еще стреляли, но уже близко слышны были их крики. И топот. Кочо снова начал обшаривать патронташи убитых.
— Помнишь, мы здесь венчались с тобой, Ягода?
— Все помню, Спас.
— Спасибо отцу, что обвенчал нас молодыми. Успели пожить.
— Спасибо.
— Сладостно было мне с тобой, Ягода, но еще сладостней — в эти пасхальные дни. Обвенчаемся еще раз, Ягода?
— Как скажешь, Спас, раз нельзя иначе…
— Никак нельзя. Я не хочу быть отцом рабов. Не удалось нам завершить великое дело, так хоть память оставим о нем великую.
— Венчай, Спас, — сказала Ягода, посмотрела в сторону бабки Гюрги, поклонилась ей легонько, перекрестилась, поцеловала руку с ножом и зажмурилась. — Сначала меня.
И Спас, зажмурив глаза, замахнулся вслепую, но угодил точно куда следовало, и Ягода упала к его ногам.
Потом Спас сдернул холстину, постоял с минуту, посмотрел и, снова зажмурившись, занес руку — раз… другой… Те ребятишки, что постарше, повскакали с мест, но он воротил их к матери, собрал всех в кучу. Только один мальчуган укрылся за кулем с мукой и сухарями.
Бабка Гюрга знала, что никому и ничем не остановить Спаса. Сотни глаз следили за ним, но не с укором, не так, как следят за безумием. Кочо, стоявший в растерянности среди трупов, уже тоже вытаскивал нож. Иван Тилев с молодой женой Божией опередил его, Гого Мишев на прощанье приласкал Спасию.
И не слышно было воплей, не слышно стонов — только мольбы. Девушки и вдовы молили, чтоб их тоже кто-нибудь убил.
— Спас, а нас неужто ты оставишь, — глухо спросила старшая сестра его Люляна. — Меня и Велику.
Велика, дочь ее, недавно обрученная, тоже взмолилась.
Молила его и другая сестра — Николина — с дочерью Сыботкой. Молили другие женщины.
— Прощай, сестра, — и Спас взмахнул ножом, — и ты, племянница… И тебе, Николина, сестричка, и тебе, Сыботка, — на тебе от дяди!
Оставались чужие девушки и молодицы. Спас растерялся. На чужих рука не поднималась. Но кто-то выругался в алтаре, кто-то взревел. Может, турки уже ворвались туда. Как перед господом богом взмолились девушки:
— Спас, и меня, заклинаю тебя!
— Заклинаю, и меня!
И снова собрался с силами Спас. С ножа его текла кровь, а из синих глаз — слезы.
— Получай!..
— И ты! Хоть и мала еще, и тебя обвенчаю!
И страшно было, и не поверить было в такое венчанье, и старуха, пожалуй, была рада, что сыновья ее погибли раньше. И она перестала глядеть. Теперь она не могла припомнить, когда же пронзил Спас ножом самого себя. А Деянка все всхлипывала, просила пить.
4
Розовое облачко посерело и выросло. Холод пронизывал. Старуха снова поежилась. Она давно не спала в поле и позабыла, что весенние ночи такие холодные. Нужно было на что-то решаться. Девочка могла простыть.
Внезапно собака вскочила и ощетинилась. Что-то прошуршало в стороне от них, в кустах. Собака подошла к старухе и прижалась к ее ногам — пуганая была. Старуха поднялась.
Справа, поверх кустарника, задевая ветки, кралась белая чалма. «Исмаил-ага!» — мгновенно вспомнила старуха устинского владетеля и все, что произошло в этот страшный день, и прокляла свою седую голову — как могла она позабыть? Но над этой чалмой не было фески, а над ухом, на белой материи, темнело алое пятно, очень похожее на кровь, и какой-то другой человек шел следом за первым и сказал ему по-болгарски:
— Не было бы турок на дороге.
— Перейти все равно надо, — ответил раненый. — К ночи мы должны быть в Филибе, в консульстве.
Они прошли, и после стольких дней засухи крупные слезы потекли по щекам старухи. «Родимые, — подумала она, — родимые! Где сейчас ваши матери? И куда вы еще спешите?»
Она постояла, пока они, выбрав минуту полного безлюдья, быстро пересекли белую дорогу, никем, кроме нее, не замеченные. Всего три-четыре шага по дорожной пыли до ближайших кустов, но эти шаги показались ей очень знакомыми, словно она где-то их видела, совсем недавно, особенно шаги раненого, он ступал до боли знакомо — легко, немного косолапя, — но листва тут же поглотила и людей, и их шаги, и походку раненого, и мысль о том, что, быть может, она его знает.
Старуха вытерла лицо, потом вдруг решила, что ей тоже нужно спешить, и огляделась, прикидывая, каким путем короче до Филибе.
Глава восьмая
1
Оказавшись за воротами Хадживранева дома, Исмаил-ага увидел телегу — она заворачивала за угол в глубине улицы. Между тем прошло немало времени, и Исмаил-ага рассчитывал, что она давно выехала из села и катит сейчас по дороге в Горки, так что ему не придется долго ждать, когда он, перегнав ее, верхом доберется до вырубки. Исмаил-ага пустил жеребца рысью, чтобы спросить у возчика, где он застрял, но неподалеку от перекрестка ему наперерез выскочили из какого-то двора трое горцев. Расставив руки, они трусливо пятились перед жеребцом, но не сходили с дороги и наконец заставили его остановиться.
Это произошло так неожиданно, что Исмаил-ага не успел их отогнать. Оторопев от неожиданности, он мотался в седле из стороны в сторону, пока жеребец не успокоился, и только тогда удивленно спросил:
— Что вам надо? Что случилось?
Все трое указали глазами на двор: оттуда, с высоты своего коня, дружески кивал ему Мемед-ага.
— Прости, Исмаил-ага, — сказал он, — интересы империи требуют. Подъезжай, не бойся!
— Здесь нет никого, кого бы я мог бояться, — вспыхнув гневом, ответил Исмаил-ага. — Что тебе надо? Говори!
— Мы должны тебя обыскать.
— Зачем?
— Мы будем обыскивать каждого, кто выйдет из того дома… Павле Хадживранев жив… Мы только что обыскали возчика…
— Это твое ремесло… обыскивать пеших и конных… на большой дороге… — произнес, задыхаясь, Исмаил-ага, — но остановить мою телегу… Ты дал маху, Мемед-ага… и пожалеешь…
— Всем нам свойственно ошибаться, на то мы и люди, но я никогда не стану жалеть, что усердно служу аллаху и падишаху!
— Чего надо тебе… — Исмаил-ага не сказал «паршивому шакалу» или «жалкому ублюдку», он замолчал, вытер лоб и начал снова: — Чего надо тебе… усердному слуге аллаха и падишаха? Чего тебе надо от человека, который носит имя Алтын-спахилы Сулейман-оглу?
— Я уже сказал — обыскать тебя.
— Зачем?
— И это сказал я, Исмаил-ага.
— Может, повторишь?
— Ради друзей я на все готов, — ответил, мрачно улыбаясь, Мемед-ага, снова сверля взглядом землю. — Если Павле Хадживранев и вправду ожил, ему потребуются деньги — для бегства и подкупов. Ни гроша не должно уплыть из того дома… А мы видели, как ты держал кошель…
— Мемед-ага!
— Мы это видели!
— До сих пор никто не говорил так со мной… Ты сам замолчишь, или?..
— Я кончил. А ты сам сойдешь с коня, или?..
— Иди, сними меня, Мемед-ага…
— Стащите его, — сказал Мемед-ага своим людям, не поднимая глаз, — помогите ему, он мой приятель…
Трое пеших бросились к Исмаилу-аге, и тогда посеребренный пистолет с торчащей из пояса рукоятью, на которой покоилась рука Исмаила-аги, изверг гром и пламя на голову одного из них. Тот повалился на месте, а другие замерли, открыв рты и выпучив глаза, ожидая своей очереди.
А конь Мемед-аги уже взметнулся над оградой, превратившись в черную дугу над черными, колючими, переплетенными ветками изгороди, с припавшим к ней черным туловищем и двумя синими, улыбающимися от ярости глазами, вспыхнувшими над развевающейся гривой. Через секунду дуга должна была сбить Исмаила-агу, но он встретил ее еще в воздухе. Дважды грянул посеребренный пистолет, дважды перевернулся его барабан — перевернулся в воздухе и Мемед-ага, а конь без седока легко опустился по эту сторону ограды, но споткнулся на первом же шаге, упал и больше не смог подняться. И не было видно, где его хозяин. Исмаил-ага повернул жеребца к самому плетню, ему хотелось посмотреть, как корчится Мемед-ага, и выстрелить еще раз. Слишком быстро все произошло, он не успел насладиться.
И в тот момент, когда он наклонился, заглядывая за плетень, куда должен был упасть Мемед-ага, что-то со страшной силой рвануло его за руку, что-то вырвало его из седла; падая, он вцепился в могучие плечи в черной домотканой одежде и ужаснулся, увидев совсем близко ясные, синие, улыбающиеся от ярости глаза, в которые он только что стрелял.
— Зе-ки-ир! — взревел Исмаил-ага. — Зе-е-ки-и-ир! — успел он повторить, прежде чем ему зажали рот широкой, как лепешка, ладонью.
Потом его куда-то понесли, точно так, как детей, больных рожей или лихоманкой, уносит в страшных снах какое-то чудище или сам Азраил — архангел правоверных.
2
Все было отнято: и пистолет, и ятаган, и нож; множество рук ощупали его со всех сторон, чтобы найти золото, которым его подкупили гяуры, или письмо от ожившего Павла Хадживранева к друзьям в другие села.
Он не угрожал, не протестовал, не смеялся, а только ждал, когда все это кончится, чтобы вырваться отсюда к брату и собрать устинских молодцов. Вырваться из этой конюшни, куда его затащили силой, куда непрестанно входили все новые и новые помаки, куда втолкнули и прибежавшего на помощь Зекира.
— Перед бунтом Учитель и Хадживранев сын истребляли здесь моих людей, убили Дели-Асана Байман-оглу, — говорил возбужденно Мемед-ага, — а сейчас за это взялись их устинские приятели… И конь мой погиб ни за что! Стащите с него портки, — приказал он, — ищите на теле. Эй, Бичо Пехливан! Поди сюда!
В конюшню ввалился молодой помак в белой вязаной шапчонке, его толстые розовые губы улыбались, а широкие плечи вздулись буграми наподобие бычьего загривка. Шапчонка была сдвинута на затылок.
— Хватит глазеть в окна, — ласково пожурил его Мемед-ага, — не видишь разве, что мы не справляемся? Он все еще в портках!
— Как скажешь, Мемед-ага, — произнес Бичо Пехливан.
— Недоуздок с тобой?
— Куда же я без недоуздка, Мемед-ага. Сам знаешь…
— Какой еще недоуздок, — выдохнул, обливаясь потом, Исмаил-ага и отшатнулся. Это были его первые слова и первое движение с той минуты, как его внесли в конюшню.
Бичо Пехливан вытащил из-за пояса старый, лоснящийся от грязи пеньковый недоуздок.
— Вот он, видишь? Такими ослиц привязывают, — медленно, старательно объяснял Тымрышлия. — Мой Бичо, Исмаил-ага, всегда при себе его носит. Без него ни шагу. Привычка — чабан, в горах вырос, один, без бабы… Сам понимаешь… Не бойся, с тобой он не станет… Предателя полагалось бы посадить на кол, да я не султан, чтобы судить так строго. Хочу только, чтоб тебя обыскали хорошенько и чтоб ты не брыкался.
— Не знаю, смогу ли… — произнес лукаво Бичо Пехливан, почесывая в затылке, — сегодня весь день привязывал…
— А-а-а, этого ты только снаружи обыщешь… Не все тебе золото со дна выуживать! Это тебе не анатолийский дервиш мулла Тахир, у которого ты всегда мог найти махмудию[54], как бы далеко он ее с вечера ни запрятывал! Здесь перед тобой Исмаил-ага Ибрахим-бей Мирза Алтын-спахилы Сулейман-оглу, понимаешь?
— Понимаю, — ответил Бичо Пехливан.
— Это человек знатный. Наденьте на него недоуздок, чтобы не брыкался, пока его будут обыскивать. А ты нарежь прутьев от сливы. Потому как и наказанье он получит, за моего коня.
Зекир, слуга, стоял ни жив ни мертв подле Мемед-аги. Мемед-ага смолк и стал подкидывать на ладони браслетку из мелкого жемчуга, время от времени посматривая себе под ноги — выбирая среди навозной жижи место посуше. Его как будто не интересовало, что будет дальше.
А в это время возле ясель уже шла отчаянная борьба, слышалось тяжелое, прерывистое дыхание. Там пытались накинуть на Исмаила-агу недоуздок, притянуть его поближе к привинченному над стойлом железному кольцу и стащить с него штаны. Исмаил-ага вцепился в пояс одного из помаков, вертелся вокруг него и хотел только одного — выхватить торчавшую оттуда рукоять ножа. Рукоять была здоровенная, — верно, и нож здоровенный.
— А-а-а-а-а! — взревел внезапно Исмаил-ага. На него накинули недоуздок и быстро тянули продетую в кольцо веревку; шея его росла, удлинялась, пригибала его лицом к яслям, истертым именно в этом месте другими, длинными или короткими, грубыми шеями ослиц и коров.
Кольцо уже было в пяди от его глаз. Это было старое кованое кольцо, отполированное многолетним непрерывным трением веревок, и было видно, куда ударял молот цыгана, когда оно было еще раскаленным.
Из всего солнечного, богатого мира, в котором Исмаил-ага жил господином, сейчас ему предназначалось только это кольцо для привязи, и он хорошо его видел, стоя согнувшись, со связанными за спиной руками. В Устине был один молодой женоподобный певец, Бюльбюль Мюмюн, которого местные богачи звали иной раз гулять, петь и заниматься любовью… Даже Мюмюн сошел бы с ума от недоуздка и кольца. Кольцо для привязи, выкованное цыганом, — вместо прекрасного мира, которым он владел. И замена происходила сейчас по воле побежденного, покоренного горца. Этого слуги. Предателя, которого славные деды Исмаила-аги выковали ятаганами на горячей, кровавой плахе своей особой мастерской… «А-а-а-а-а-а!..» — Исмаил-ага попытался призвать аллаха или взреветь от гнева, но из его стиснутой, вытянутой шеи вылетели только неясные гортанные звуки.
— Послушай, Исмаил-ага, — шагнул к нему Тымрышлия, — сейчас с тебя стянут портки, но ты не бойся. Прутья тонкие. Они не причинят тебе вреда. И пороть тебя будет не кто-нибудь, а Бичо Пехливан. Мулла Тахир, этот святой человек, очень уважал Бичо. Уважь и ты. Во имя аллаха и падишаха… Ай-ай-ай, какой ты у нас гладенький и чистенький!.. Имей в виду, если лягнешь Бичо, я разрешу ему делать с тобой все, что он пожелает…
— Ты не можешь меня унизить, Мемед-ага, ты ничем не можешь унизить того, кто носит имя Алтын-спахилы, — со стоном, невнятно выдавил Исмаил-ага, вытянув шею над яслями, и хотел было пнуть Тымрышлию, но вовремя сдержался и надолго смолк. Ибо понял, что и движения и стоны человека, привязанного к яслям, перестают быть человеческими движениями и стонами.
3
Дорога на Горки уже не была пустынна. Конные и пешие тянулись в Устину и Кричим. Возвращались телеги, груженные коваными сундуками с девичьим приданым, медными ведрами, прицепленными на грядки.
Исмаил-ага ехал медленно — седло причиняло ему боль. Он издали увидел пустую телегу, посланную за старухой и ребенком. Она могла проехать нужное место, но догнать ее он был не в силах. Зекир трясся за ним на муле, который им попался за околицей, хромом и пугливом. Да будь мул здоровым, все равно на нем в погоню не пустишься.
Они продолжали ехать, не обмолвившись ни единым словом ни о телеге, ни о том, что случилось. Исмаил-ага не знал, смогут ли они теперь вообще глядеть друг на друга и разговаривать.
Он потрогал заткнутый за пояс ятаган: все было на месте, даже пистолет, из которого он застрелил пешего помака и коня Тымрышлии. Словно ничего не произошло. Но это произошло, и это не было сном и было непоправимо, и так это обернулось для него, что, когда помаки уехали, бросив его на Зекира, он уже и не думал ехать на поиски брата, не думал созывать устинцев для мщения. Никто из своих не должен был знать, но один уже все знал, все видел — с начала и до конца…
Они двигались молча, издали следя за телегой. Исмаил-ага хорошо понимал, что Зекир не может не оглядывать его сейчас сзади, не может не видеть его оголенным и взнузданным. И поэтому то, что случилось, для них обоих, в сущности, продолжается и вряд ли когда-либо кончится.
— Зекир, — сказал он, не оборачиваясь, — нам надо ехать через холм, чтобы перехватить телегу у поворота.
Холм был пологим и, двинувшись прямиком, они действительно намного сократили бы путь. Исмаил-ага неторопливо свернул с дороги и поехал по поросшему травой склону, но не услышал за собой топота копыт. Он придержал коня. До него долетали разные звуки, но все они шли издали, с дороги. Поблизости все молчало. Вот всхрапнул мул, но тоже на дороге.
— Зекир, — произнес Исмаил-ага, обернувшись. Слуга остановил мула внизу, на белой пыльной обочине, и не собирался следовать за хозяином.
— Не могу, Исмаил-ага.
— Почему?
— Там, наверху, ты меня убьешь, Исмаил-ага, — ответил Зекир.
— Еще что! — произнес Исмаил-ага.
— Убьешь… а я служил тебе верой и правдой, никогда ничего дурного не сделал, да и не сделаю. Но когда такой человек, как ты, страдает, Зекиру недолго и пропасть, Исмаил-ага. Неровен час, попадусь тебе под руку…
— Давай, давай, поезжай, — сказал Исмаил-ага, кусая губы и оглядываясь вокруг. Какой-то всадник, едва различимый вдали, приближался со стороны Перуштицы. Не может быть, чтобы Зекир был прав, нет, не может быть. Случается, разные мысли мелькают в голове человека, а когда там темно, то и мысли подобны летучим мышам, но все-таки Зекир не прав. Всем смертным суждено умереть, рано или поздно это случится и с Зекиром, но не сейчас же. Не здесь. Еще чего!.. Исмаил-ага вздрогнул. — Поехали, — повторил он, кивнув на холм.
— Нет, — покачал головой Зекир.
— Так теперь и будет, Зекир?
— Нет, Исмаил-ага. Никогда. В первый и последний раз. Зекир выбрал другую дорогу. Он не поедет с тобой в Устину.
— Ты бросаешь меня?
— Так лучше, Исмаил-ага…
Далекий всадник ехал медленно. Бока его лошади чудовищно вздулись, — верно, это висели набитые добычей переметные сумы. Исмаил-ага потер рукой подбородок, потом лоб.
— Я… не только потому, что так случилось, и не потому, что ты меня убьешь, — снова начал Зекир, словно стараясь успокоить агу. — Я сегодня чужое добро стерег, и вчера, и позавчера все там сидел, а другие, такие, как я, даже хуже, за эти дни людьми стали…
— Когда ты решил это, Зекир?
— Не знаю, — ответил слуга. — Не знаю когда, но все это время я знал, что упускаю свое счастье.
— Какое же это счастье, Зекир?
— Для тебя, может, и нет, Исмаил-ага, потому что у тебя все есть, а для меня — счастье.
— Даже если это и так, поздно уже, Зекир, кончилась пожива.
— Легкая пожива, может, и кончилась, Исмаил-ага, но времена еще смутные. Глядишь, и война начнется… Когда я сегодня искал телегу, двое консулов из Филибе ругались с пашой возле церкви…
— Как знаешь, Зекир, — вздохнул Исмаил-ага. — Только сейчас у меня при себе и десяти лир не наберется. Все деньги, что тебе причитаются, дома. За восемь лет службы…
— За восемь с половиной, Исмаил-ага…
— Да, за восемь с половиной. Я откладывал тебе на землю, на жену. Поедем, хоть деньги возьмешь.
— Нет, — покачал головой Зекир.
— Неужели боишься? Ведь если бы я решил, я мог бы и здесь, на дороге…
— Не такой ты человек, чтобы убивать на дороге, Исмаил-ага. А сейчас, ежели ты доволен моей долголетней службой, дай мне те лиры, что при тебе, дай и пистолет свой… Остальные деньги пусть лежат в твоем сундуке. Целей будут…
— Мой пистолет?
— Да, твой. Тебе, небось, жалко, Исмаил-ага? Таких, с барабаном, я и в Филибе не видел. Такой пистолет пяти стоит, потому-то я и попросил…
4
Отдавая лиры и пистолет, Исмаил-ага расспрашивал Зекира, сколько ему лет, собирается ли он жениться, и сам удивлялся, что никогда до сих пор ему и в голову не приходило поговорить вот так со слугой. Особенно удивляло агу, что Зекир говорит умно и складно. И видит далеко вперед, не хуже, чем он сам. Но тут же Исмаилу-аге стало страшно — как бы Зекир не стал разбойником, потому что перед ним стоял уже совсем другой, незнакомый ему человек, предоставленный самому себе, полный внутренней смуты, опьяненный неизвестностью.
И поэтому Исмаил-ага посоветовал ему поскорее купить жену, поскорее обзавестись детьми и привезти детей к нему в гости в Устину. Сказал, что одарит каждого, пришпорил жеребца, махнул на прощанье рукой и поскакал через холм, чтобы опередить телегу. Когда с вершины он обернулся назад — взглянуть, в какую сторону подался его бывший слуга, Зекир все еще стоял посреди дороги, на том самом месте, где он его оставил.
А когда он, спустившись с холма, выехал за поворот дороги, телега уже приближалась. Ее окружала толпа цыган с зурнами и барабанами. Цыганята вели за телегой скотину. Из кустов, оправляя шальвары, вышла цыганка.
Исмаил-ага натянул поводья и будто поплыл вместе с конем по противоположному склону, над молодой зеленью кустарника, в зарослях которого он оставил старуху с ребенком. Он безжалостно пинал коня в живот — его вдруг охватила страшная тревога, ему казалось, что он опоздал, что без него здесь случилось что-то непоправимое.
Он придержал коня в том месте, где трава была примята, снова пришпорил его и, проскакав слишком далеко, снова вернулся; привстал на стременах, озираясь вокруг, потом круто поворотил коня и пересек густые заросли кустарника вдоль и поперек, все так же стоя в стременах и крича:
— Бабка Хаджийка-а-а! Бабка Хаджийка-а-а!
Зурны и барабан на дороге смолкли.
Глава девятая
1
К вечеру устинцы прочесали Горки, их окрестности, захватили еще шире — но все напрасно.
Во время утренней молитвы Исмаил-ага опять не стал благодарить аллаха за воцарение мира и порядка.
Он не знал, где старуха и ее внучка, живы ли они и очень ли он виноват перед ними.
Да и не только перед ними, а и перед стариком, перед его сыновьями, перед всеми, перед всем миром…
Нет, не перед всем миром, потому что и перед ним, Исмаилом-агой, тоже многие были виновны, начиная со славного предка Алтын-спахилы Сулеймана-оглу и кончая Мемедом-агой Тымрышлией. Но сейчас важнее было думать о судьбе старухи и ее внучки. Эта забота вытесняла другую, от которой можно было сойти с ума.
2
Он никого не пускал к себе, на верхний этаж Устин-сарая, сидел на ковре, скрестив ноги, и вспоминал о том, как самодовольно предрекал по дороге в Устину шелковое будущее Хаджиевой внучке; как старуха выхватила у него девочку из рук и как продолжала потом ползти на локтях; вспоминал, как раз и навсегда запретил ей говорить об убитой родне и как тотчас после этого она наказала собрать их трупы и зарыть в одной могиле; как он хотел разрубить ее на куски, а она щедро подарила ему все свое золото, вспоминал, как он ковырял ножом возле колоды, как услышал ласковое и страшное приветствие: «Хош гелдин, все ли живы-здоровы в Устин-сарае?..» Он вспомнил, как, морщась от зловония, он осознал, что до сих пор нигде и никогда его не принимали с открытой душой, и как все же от души исповедовался перед ним старик, — что, мол, следовало вовремя оскоромить сыновей, и как за все это время он ни разу не спросил себя, будут ли его ждать в Горках — да и почему, собственно, его должны были ждать? Обо всем этом вспоминал Исмаил-ага, и ему было обидно, что он оказался таким, и в то же время он не знал, мог ли он вести себя по-иному. Во всем, что произошло, было что-то неправильное, какая-то ошибка, что-то недостойное аги. Он поступал как можно благороднее, на его месте и Зекир, и Шабан-ага, и любой другой правоверный поступил бы хуже, но это только усиливало смуту в его душе.
3
Исмаил-ага все сидел на ковре, и ему хотелось подсыпать в кальян того ядовитого белого порошка, приносящего забвение, который он запретил себе употреблять. Но он боялся долгих дней безволия и отупения, которые наступили бы как раз тогда, когда он начал верить, что старуха жива и скитается где-то с ребенком, что перед его воротами вот-вот застучит копытами взмыленный конь и кто-нибудь из верных ему людей, которых он, потеряв надежду, все же послал на поиски в лагери беженцев, в уцелевшие города и села, принесет ему долгожданную весть. Может быть, его ждет дорога. Он уже был уверен, что старуха сама оставила Горки. И не только потому, что не нашли ее трупа и следов крови, не только потому, что никому не могло прийти в голову забрать ее в гарем, а просто — любой на ее месте бросился бы бежать куда глаза глядят.
Бросился бы бежать от того самого Исмаила-аги, которого устинский владетель видел сейчас со стороны, видел, какой он чистый, ясный, светлый, как часто печалит его тщета всего земного. Он верил в доброту, в благородство, в мудрость этого человека, и тем горше было ему на него смотреть.
— А-а-а-а! — тихо стонал Исмаил-ага, до боли сжимая веки и встряхивая головой. — Мердивен дюня! Мердивен!
4
Тишина в Устин-сарае была полной и давней. Даже на женской половине уже много лет как не пели, не кричали, не таскали из ревности друг дружку за волосы. Голоса долетали только из дома брата, из-за ограды, разделявшей широкий, словно поле, отцовский двор. Это были возбужденные мужские голоса, рассекаемые мягкими, звучными ударами пальцев по туго натянутой коже.
Когда к вечеру эти голоса стихли, над двором взвился тонкий, протяжный вопль Бюльбюль Мюмюна — то ли песня, то ли рыдание. Пиршество у брата не могло закончиться без Бюльбюль Мюмюна, этого красивого молодого певца, грациозного и чувственного, как ханыма[55].
«Сабах езандыды, аман, фильбеден калктым…» — пел Мюмюн песню, сочиненную филибейскими добровольцами. И, слушая его издали, Исмаил-ага спросил себя, похож ли он голосом, лицом, осанкой на певца. Нет, ни в чем они не были схожи, и одним из отличий было то, что того никогда не привязывали к стойлу.
…После утренней молитвы — ох! — я Филибе покинул, с белой рукояткой нож за кушак задвинул. И пошел на ловлю, ох! — в Перуштицу!Слушал Исмаил-ага и все время видел кольцо над яслями, и слова песни как бы текли сквозь это кольцо. «До каких же пор, аллах? Уж в этом-то нет моей вины! — ударил он ладонью по ковру и тряхнул головой. — Неужели я должен за все платить? Разве я так устроил государство?»
Чубук его погас, Исмаил-ага попытался разжечь его снова, и когда вдохнул наконец сладостный дым, в душе его наступило горькое успокоение. Он продолжал посасывать мундштук, грустно улыбаясь, прислушиваясь к голосам и чуть недоумевая: долгие годы из-за своей мужской беды не ходил он на эти пиршества, но именно сегодня, в день самых больших своих терзаний, он перестал завидовать брату и его гостям. Впервые в своей неудавшейся жизни он испытывал жалость к тем, кто собрался у брата, и ко всем другим правоверным мужам, потому что именно сегодня, поняв многое в себе, он много узнал и о них. А там, за оградой, ни о чем не подозревали.
Укокошу всех мужчин, — ох! — чтобы без печали девочек десятилетних — ох! — обращать в турчанок! Я пошел на ловлю, ох! — в Перуштицу!5
Слушал их Исмаил-ага и словно видел их всех, как сидят они рядом, бородатые и безбородые. Гадал о том, кто из них взял себе в ханымы десятилетнюю девочку. И внезапно, со страхом и удивлением, вспомнил о Деянке.
Деянке было пять лет, он хотел ее удочерить, и в чьи бы руки она ни попала, ее могли взять только в дочери. Но не от этой мысли вздрогнул ага, а оттого, что все это время в своих мыслях он видел только старуху. Он забыл про ребенка. Разве он больше не хотел взять девочку к себе?
И только тогда понял Исмаил-ага, что давно уже простился с надеждой слышать подле себя ее смех. И послал он людей не для того, чтобы вернуть девочку. Его мужская беда, заставившая его обратить взгляд на внучку кунака, куда-то испарилась, вытесненная новой бедой куда более тяжкой, не только мужской и не только его личной. Он понял: прежде всего ему нужна старуха, именно ее хочет он найти, чтобы показать ей, какой он человек, чтобы разглядеть в ее дерзких глазах прежнее свое достоинство.
И он снова увидел, как она сидит на траве, среди вероники и одуванчиков, прямая, с двумя горящими углями в запавших глазницах. Сейчас она ему нравилась…
…Старуха продолжала сидеть на траве, среди цветов, и в то же время на его ковре, когда песни, доносившиеся из-за ограды, умолкли и к нему в комнату проник протяжный зов муэдзина. Наступило время вечерней молитвы, и ага стал на колени, лицом к аллаху.
И опять ему не удалось возвыситься и приобщиться к небу. Он клал поклоны, ритмично склонялся, нахмурив брови, и не мог отделаться от мысли, что точно так же, в эту самую минуту, тому же самому богу кладут поклоны и те, что собрались за оградой… и Мемед-ага Тымрышлия, и Бичо Пехливан в своем лагере под Перуштицей.
Глава десятая
1
Рассветало, когда Исмаил-ага в сопровождении двух верных людей въехал в Филибе. Пар валил из конских ноздрей, поднимался от потных спин. Ночью пришла весть, что старуху видели в городе. Говорили, будто там полно беженцев. Люди побираются. Свирепствует тиф. Старуха тащила за руку ребенка, а под мышкой несла мех с водой…
Никогда еще Исмаил-ага не въезжал куда-либо так рано. Он вздрагивал от утреннего холодка, бодрый, полный счастливых предчувствий, и размышлял, что он станет делать со старухой. Они задержат ее, добром или силой, и он выскажет ей все, что накопилось у него на душе: про алтыны, которых он не взял, про то, что девочку он оставляет ей, что он не повезет их в Устину, а подыщет им христианский кров здесь же в городе, у какого-нибудь торговца-грека. Он пообещает и впредь во всем помогать ей и скажет еще много, много всякого, пока не прочтет благодарность в ее светлых дерзких глазах.
Мальчишки-подмастерья отпирали лавки и мастерские, поднимали железные ставни, опрыскивали и подметали плиты у порогов. Водовозы, нахлестывая лошадей, запряженных в тяжелые мокрые бочки, гнали их к городской площади. Из ворот запустелых дворов, из-под старых навесов то здесь, то там выползали озябшие, пугливые тени стариков, старух и детей. Беженцы! Исмаил-ага заставил жеребца убавить шаг. Ему хотелось каждому заглянуть в лицо. Слуги дремали, поникнув в седлах. Они не ложились много ночей подряд и к тому же знали, где можно встретить старуху.
А он все вглядывался, и не из-за ребенка. С мыслью о девочке он простился. Ему необходимо было вернуть себе веру в свое благородство: пристроив старуху здесь и убив одного человека там, в горах, он хотел очутиться снова, если б это было возможно, в том тихом мире красивых мыслей, мудрости и кротости, который казался ему прежде отзвуком его души. Ибо, если он не походил на прочих правоверных, именно эти вещи придавали ему цену и в собственных глазах и в глазах людей. Он знал, что и после этого многие вопросы останутся без ответа, но над ними он будет размышлять, когда сердце его снова станет чистым и легким, когда душа его снова будет покойна, возвышенна и достойна тех мудрых книг, к которым он будет обращаться.
Ни одна из старух не была похожа на бабку Хаджийку. Из лавок уже выходили покупатели, из мастерских медников доносился дробный металлический перезвон. С грохотом подскакивая по булыжнику, мчались обратно водовозы, оседлав порожние бочки. Утренний холодок исчез. Над городскими холмами поднялось солнце.
2
Ему показали бабку только к полудню, когда он остановил жеребца у крытого рынка, собираясь освежиться шербетом. В толпе он не сразу ее узнал.
Он видел, как шагах в двадцати-тридцати от него остановилась какая-то старая женщина, как затем она повернула назад и исчезла в одной из боковых улочек. Она тащила за руку девочку с овальным смуглым личиком и золотисто-желтыми косичками.
Он крикнул: «За мной!» — яростно пришпорил коня и тотчас натянул поводья, но конь поднялся на дыбы — впереди послышались вопли, невозможно было скакать в густой перепуганной толпе. Ага снова натянул поводья, но на этот раз легонько приподнялся на стременах и закричал, чтоб сторонились. Скоро он выехал из толпы, и, поскакав, увидел старуху и ребенка, они торопливо шли по узкому кривому переулку.
Он пустил коня следом. Стук подков о каменную мостовую еще больше их напугал, и они снова куда-то нырнули.
Увидев их в третий раз, он, прежде чем поскакать, крикнул:
— Бабка Хаджийка! Это я, Исмаил-ага, не бойся! Это я, Исмаил-ага!
Но старуха продолжала бежать, с развевающимся подолом, пригнув свое крупное костлявое тело, волоча за руку ребенка, и Исмаил-ага на этот раз понял, что она не может иначе. Где ей знать, зачем он ее разыскивает, зачем преследует, что хочет ей сказать. А она должна его выслушать и тогда уж решить сама, как ей жить дальше.
— Тутун! — крикнул он своим людям. — Держите их!
Тяжелые копыта сотрясали темную, сырую улочку, со скрежетом скользили по древним истертым плитам, а старуха продолжала бежать, подавшись всем телом вперед, издали высматривая какие-нибудь ворота или дыру в заборе.
3
Но ворот не было. Часто попадались двери. Двери городских домов, плотно прижавшихся друг к другу по обе стороны мощеной мостовой. Первая дверь была на засове. И вторая тоже. А может и нет, потому что старуха лишь толкала их ладонью, не останавливаясь. Она делала это без всякой надежды: если б она и вошла куда, те, сзади, увидели бы и бросились следом. И она все бежала и бежала, не смея остановиться, и искала, где бы спастись; вдруг ей показалось, что ближайшая лошадь упала и больше не поднялась, — может, и седок расшибся, — но старуха не оглянулась, а все бежала и бежала. «Убей его! Убей! Убей!» — молила она кого-то — бога, божью матерь или дьявола. И мольбы эти были короткими, каждая — длиной в один шаг, длиной в один выдох.
Она чуть не налетела на стену. Переулок кончился, влившись в другую улочку, а вместе они образовывали букву — ту, что сын ее Тодор ставил в начале своей подписи. Старуха свернула влево. «Убей его! Убей!» — повторяла она, глядя, куда бы скрыться, и все еще слыша цокот копыт: ее пока не видели. «Убей! Убей!» — но скоро и они свернут сюда; и тут, после стольких глухих стен, она увидела маленький дворик с самшитами и ирисами, шмыгнула внутрь и кинулась на землю, за кусты.
Прижимаясь к земле, прижимая и девочку, она слышала, как тяжелые копыта вылетели из-за угла, как остановились в нерешительности, как поскакали дальше, мимо ее двора, и как снова остановились и принялись нетерпеливо топтаться на месте.
Девочка лежала, покорно уткнувшись личиком в землю. Старуха была ей благодарна. Она почувствовала, как по шее ее ползут муравьи, и, стараясь не шевелиться, говорила себе, что они славные, работящие букашки, а сейчас пора самая рабочая и виноградари возвращаются домой затемно. Только бы муравьи не наползли на девочку, пока те не уедут совсем.
Но турки не уехали. Она услышала, как они повернули обратно, как медленно приближается стук подков, как барабанят в какие-то двери. Она поняла, что будут обыскивать все подряд, все, пока не войдут в ее дворик; приподняв голову, она выглянула из-за самшитов и первое, что увидела, были испуганные лица за стеклами галерей, нависших над улочкой, на той стороне. Лица, а может быть тени, потому что они тотчас исчезли. Какой-то мужчина остался, он махал ей рукой за стеклом, и что-то говорил беззвучно, и показывал, чтобы она бежала вправо, но женская рука отстранила его и задернула занавеску.
Старуха встала и пошла. Но прежде чем снова броситься бежать, она посмотрела, где стоят лошади, — их было две, только две, и без седоков. Верно, турки обыскивали дома. Но где третий? Неужели и вправду расшибся? Она хотела было снова повернуть к рынку — туда, откуда началась погоня и где можно было исчезнуть в толпе, и в тот же миг увидела третьего. Оставленный в засаде за углом, он сидел, развалившись в седле, глаза его были прикрыты, а голова сонно покачивалась.
Старуха тихо скользнула мимо и, не сворачивая к базару, пошла по правой стороне улочки, но далеко позади снова раздался крик аги: «Ту-ту-ун!» — и она бросилась вперед, преследуемая цокотом копыт, дальним и близким. Она бежала, и теперь улица казалась ей знакомой, как будто где-то здесь ее ждал знакомый приют, где она когда-то уже укрывалась. Что это? Дом друзей? Распахнутые ворота? Чьи-то руки, что втащат ее и спрячут?
И вот она увидела ворота в конце улицы — знакомые ворота караван-сарая, где они не раз останавливались с Вране на своей расписной телеге и куда сейчас, по слухам, сносили больных тифом беженцев.
Кто-то крикнул ей: «Нельзя! Нельзя!» — но копыта зацокали за ее спиной, и она, перекрестившись, свернула в ворота караван-сарая, мимо остолбеневшего стражника.
И конные и стражник остались снаружи. Кто-то обрушился на стражника с руганью, тот оправдывался, потом кто-то кого-то начал бить, слышалась тихая брань, стоны и глухие удары по мягкому. Старуха перевела дух и обернулась. Стражник лежал на земле с окровавленным лицом. Исмаил-ага пинал его ногами.
Это ее не касалось. Посреди двора белела большая яма с известью. Со стороны конюшен приближались четыре тени, они что-то волокли.
— Бабка Хаджийка! — крикнул, задыхаясь, из-за ограды Исмаил-ага. — Выходи! Здесь мор! Чума!
4
Тени приближались, и то, что они волокли, оказалось человеком — босым, в потурах и безрукавке. Его волокли, зацепив железными крюками за связанные лодыжки, а голова его подпрыгивала. У него были длинные усы.
Тени остановились возле ямы, отцепили крюки и, обойдя человека, долго тыкали его крюками в грудь и голову, пока не перевернули и не свалили в яму. Голова его долго покачивалась, словно он говорил: «Не хочу, не хочу!..» Потом тени снова побрели обратно, в конюшни, иссушенные, согбенные болезнью. Крюки, волочась следом, скребли землю. Может, завтра на этих крюках поволокут их самих?
— Бабка Хаджийка, — снова крикнул Исмаил-ага. — Здесь страшно, здесь все умрут!
Она опустила мех посреди двора, за ямой, и села. Стараясь быть подальше от дома, откуда долетали стоны, подальше от конюшен, откуда снова вышли тени с крюками, подальше от ворот, где ее подстерегало самое большое зло. На этот раз в яму бросили труп девушки.
— Грех тебе на душу! — снова крикнул Исмаил-ага. — Эта девочка должна жить. Редко людям дается такая красота. Выходи, или я пошлю цыган, чтобы ее отобрали!
Тогда старуха повернула голову к воротам и попыталась тоже крикнуть, но слова ее прозвучали тихо и кротко, как совет:
— Нам она дана, Исмаил-ага, нашей и останется. Все вы у нас отняли, но красоту и честь я тебе не отдам. Если пошлешь цыган, я — в яму!..
— Постой! — крикнул ага и воздел руки к небу. — Твоей она и останется! Вы пойдете куда хотите! Аллах мне свидетель… Для другого я здесь… Я хотел сказать, что ничего я не тронул в вашем доме, что…
Но она не слушала его. Она сидела на мехе с водой, прижав к себе Деянку. Ни к чему было больше кричать. Все было сказано. Если бы ага был искренен, он просто оставил бы ее в покое. Тогда она сама ушла бы отсюда. Она не слышала, что он сказал после, слышала только, как он замолчал и как галоп его коня затих далеко на мостовой.
Слуги его остались за оградой, а она продолжала сидеть на мехе.
5
На следующий день, когда Деянка заплакала и попросила хлебца, в воротах появилась турчанка и принялась приманивать девочку лепешками.
Но старуха прижала к себе русую головенку и не позволила внучке глядеть на ворота, потому что турчанка все не уходила. Старухе было тяжко слушать этот непрерывающийся сдавленный плач, и порой она готова была отпустить девочку. Но колебания длились лишь миг-другой, а затем она еще крепче прижимала головенку к себе.
Но старое тело быстро слабело, сон одолевал ее, давным-давно что-то пищало и шумело в ушах; она не помнила, сколько уже прошло дней и ночей, и начала бояться, что цыгане могут ее подстеречь или вдруг сама она пошлет ребенка за лепешкой. Старуха не доверяла себе еще и потому, что ей слышались и мерещились разные небылицы. То сыновья горячили коней на просторном дворе караван-сарая, то Исмаил-ага кричал от ворот: «Я хотел тебе сказать, бабка Хаджийка, я хотел сказать, что сыновья твои не были дураками!..»
— Слышишь, бабка Хаджийка! — и вправду кричал от ворот похудевший, обросший бородой Исмаил-ага.
Он все время пытался ей помочь, с тех пор как нашел ее с девочкой на винограднике и до последней минуты, но его старания только ухудшали дело. Теперь он понял, в чем его ошибка, и хотел только исповедаться старухе, хотел снять с души своей бремя и уйти из их жизни, предоставить их самим себе… Но и на этот раз он потерпел неудачу. Его вина росла день ото дня, час от часу. Что бы он ни предпринимал ради их же добра — вина росла, и в конце концов он довел их до гибели; он не знал, как мало сейчас от него требуется, сердце его разрывалось от горя, но в нем закипал и гнев, потому что другая на месте бабки поняла бы его и не стала сеять в его душе все новые и новые, все более непривычные тревоги.
Получалось так, что все самое красивое и самое чистое, что ага хотел спасти для своей души с помощью старухи, именно оно возвращало его от ворот караван-сарая к страшным словам у гиацинтовой грядки: «Надо было их оскоромить, чтоб они остались в живых». Сейчас, из-за бессмысленного упорства старухи, эта безумная, страшная и мудрая мысль казалась — пусть лишь на какие-то мгновения — единственно правильной. Но согласиться с ней — значило вернуться ко всему тому, что уже осудила его душа. Как легко мог бы он спасти бабку Хаджийку, если б она была похожа на его кунака! И каким отчаивающим было бы сейчас для него это сходство! Он хотел спасти ее такой, как она есть, и в то же время все, что отличало ее от Хаджии, приводило его в отчаяние. Исмаил-ага с болью и гневом продолжал кричать от ворот караван-сарая, громко провозглашая одну из истин, которая досталась ему ценой многих мучительных часов, истину, которой угрожало упорство старухи:
— Умными парнями были твои сыновья, бабка Хаджийка-а! Чисты-ми-и!
Его слышали люди из соседних домов. Они привыкли видеть его у ворот и часто выглядывали в окна — посмотреть, что сталось со старухой. В конце концов молва о старухе и ребенке — самоубийцах, видно, разошлась по всему большому городу, потому что у ворот, за спиной Исмаила-аги, стали часто останавливаться фаэтоны европейских консулов и газетчиков. Они переговаривались на разных языках, тихо и оживленно, и, случалось, спрашивали Исмаила-агу, что происходит. Спрашивали, хотя видно было, что они все знают. И записывали в блокноты его слова. Записывали вместе со всеми именами и титулами его старинного знатного рода. И любезно спрашивали, не согласится ли он выступить перед какой-то международной комиссией, которая проводит расследование и так же, как и он, хочет помочь несчастным. Он быстро соглашался, но, в свою очередь, горячо просил их помочь ему сейчас, объяснить старухе, что так нельзя, вызвать ее со двора.
Некоторые оставались вместе с ним, другие спешили к телеграфу, чтобы передать через горы, моря и океаны в свои далекие редакции самый потрясающий факт о гордом, до сих пор неизвестном миру народе. Они сообщали по телеграфу и о селе, откуда была родом старуха, и о церкви в том селе, и о всеобщем венчании в этой церкви — венчании со свободой. «Мы сталкиваемся здесь с таким патриотическим чувством, которого не выказывала до сих пор ни одна свободная цивилизованная нация…» — передавали газетчики. «Если мы хотим сегодня ради завтрашнего дня обеспечить себе друзей и прочные позиции в сердце Балкан, наши правительства должны считаться с этим новоявленным народом, с его справедливой борьбой…», «Существует предположение, что Россия не останется безучастной».
— Слав-ны-ми парнями были твои сы-но-вья! — продолжал кричать от ворот Исмаил-ага. — Чистыми! Умными!
— Маман, экутэ муа![56] — попытался помочь какой-то француз.
— Мэдэ! — повысил было голос англичанин.
— Мать!
— Ма-мо-оо!
Последний крик донесся из коляски русского консула, которая подъезжала к воротам чаще других, хотя из коляски ни разу никто не выходил. За ней по пятам всегда следовал фаэтон — не консульский и не прессы — с беспечно улыбающимися молодыми людьми, которые не выпускали из поля зрения консула и его спутника. Спутник был суровый, светлоглазый мужчина, со смуглым, бескровным лицом и подсохшей раной у виска. Он был изысканно одет, как и подобает дипломату, но беспечным и зорким молодым людям из другого фаэтона словно бы ужасно хотелось, чтобы он хоть на мгновение вышел из коляски, пользующейся дипломатической неприкосновенностью, и ступил на мощенный плитами тротуар… При всей своей беспечности эти молодые люди выглядели весьма проворными.
Еще не успел замереть зов, донесшийся из коляски русского консула, как все — и агенты тайной полиции, и Исмаил-ага, и бабка Хаджийка — повернулись на этот крик. Мужчина с засохшей раной весь напрягся, словно готовясь соскочить на мостовую, и в то же время пальцами впился в козлы; он зажмурился и закусил губу — как делают многие, когда язык подведет их неожиданно и непоправимо, а консул, улыбаясь, словно ничего не случилось, тихо и настойчиво тянул его за рукав, предлагая ему сесть на место.
Старуха чуть было не кинулась к коляске. Ей показалось, что это он, и она доверилась бы этому крику, этому сходству, доверилась бы своему сердцу, если бы сама не видела его мертвым, не оплакала его в церкви, где святые падали плашмя со стен на каменные плиты, а клубы дыма, как души усопших, возносились на небеса. Она доверилась бы, не устояла, если бы не мерещились ей уже до того всякие небылицы про ее сыновей и если бы после турчанки с лепешками она не убедилась, что ага способен на любое коварство. Теперь она не доверяла самой себе, и тут ее осенила хитрая мысль: она оглядела людей, собравшихся за оградой, посмотрела на разбитые окна караван-сарая, откуда долетали стоны, и подумала: «Туда!»
Там она укроется от всех искушений. Что-то как будто шепнуло ей церковным голосом: «Грех, грех!» — но она постаралась думать о другом: как они сажали когда-то и окапывали виноградные лозы у вязов, как целыми ночами в горнице горела свеча, зажженная молодым, буйным Вране, как все было дозволено ему, Вране, потому что не было у него дурных помыслов, как у некоторых других торговцев; как она рожала парня за парнем — болгарских пашей и беев, — как только Хри́стос не сумел им стать, потому что рано умер от болезни; как она своим опытным оком выбрала и ценой всего накопленного купила самый редкий, самый дорогой товар на свете… Только двое — она и внучка — остались из Хадживраневых, но самое драгоценное сопутствовало им всюду, даже здесь, в караван-сарае: оно было настолько нетленно, что, верно, останется и после них, и уже никто не, сможет ее согнуть — ее, мать таких сыновей; даже стоны не возбуждали в ней больше страха, напротив — они звали ее, как спасение; а Исмаил-ага был просто дерьмо.
Если бы ее видели сейчас сыновья, они остались бы довольны. «Я не обману вас, родимые, — сказала она, — не предам вас!» Старуха встала, подняла мех с водой, перекрестилась, перекрестила Деянку и потащила ее вверх по ветхой скрипучей лестнице.
Кто-то неистово завопил у ворот, она услышала, но не обернулась, хотя ей захотелось обернуться и показать ему дулю. Она продолжала подниматься, прямая, строгая и святая, потому что на нее смотрели ее сыновья. Она не знала, что на нее смотрит весь мир.
Эпилог
Множество людей скончалось на глазах у старухи.
Здесь умер и один молодой рыжеволосый главарь из помацких выселков над Тымрышем. В лихорадке, в бреду он поминал имя Мемеда-аги. Однажды, незадолго до смерти, он рассказал, как вместе со своими людьми убил на Власовице трех старцев — посланцев перуштинских богачей к Тымрышлии. Когда велись переговоры, рыжий был там в желтом шатре на вершине. Столковались пощадить Перуштицу за семь тысяч лир откупа. Все главари были довольны, но, когда старцы двинулись в обратный путь, чтобы передать весть о спасении, Мемед-ага сказал: «Семь тысяч в руки нам отсчитают, а остальные сами возьмем, когда захватим село!» Тогда молодой главарь вышел из шатра, со своими людьми обогнал старцев на спуске с холма и убил их. Чтоб не отнесли они вниз, в село, обманной вести. После ему пришлось скрываться от гнева Мемеда-аги, он долго скитался и наконец попал в караван-сарай. «Мой дед, — говорил он, — часто повторял, что во времена Алтын-спахилы мы поддались и сменили веру только потому, что искали более мелкого брода… Через поток… А потом вовсе потеряли дорогу. Но пусть люди знают, — пытался он приподнять голову, — и пусть помнят, что не все мы такие, как Мемед-ага…» Так закончил главарь, подняв дрожащий восковой палец, словно заклиная: «Пусть помнят!..»
Был здесь и маленький, растаявший, как свеча, человечек, который бредил песнями. Крупный пот каплями выступал у него на лбу и шее, он корчился в судорогах и все пел в полузабытьи тоненьким, хрипловатым голоском. Его бред был самым страшным. Но он не умер. Перестал бредить, начал разговаривать с людьми, а через несколько дней вытащил из торбы гуслу. До самого вечера настраивал, задумчиво пощипывая струны кончиками пальцев, а потом потянул смычком и начал:
Спрашивал султан, расспрашивал: — Арапы черные, гаджали[57], кто приведет ко мне проклятого бунтовщика-учителя, перуштинца страшного? Арапы черные ответили, арапы и гаджали: — Султан, владетель наш, помилуй нас, не посылай к нему — ведь ведает отродье это самодивское любые заклинанья хитрые, и знает травы отворотные, и повернет нас супротив тебя!Здесь, в этом караван-сарае, среди этих людей умерла бабка Гюрга, а за ней и Деянка — последний побег большого богатого рода Хадживраневых из Перуштицы.
А Исмаил-ага заперся в мужской половине Устин-сарая. Он заново все передумывал, взвешивал свою вину, а подчас, вспоминая бабку Хаджийку, стонал от ярости. Осенью он неожиданно решил покинуть Устину. Продал Шабану-аге свою долю поместья и уехал далеко на юг вместе с пятью женами и новой своей бедой, не только мужской и не только своей.
Он уехал, так и не убив никого в горах, потому что мысль о расплате показалась ему вдруг мелкой и смешной. Не это было главным. Он уехал, так и не забрав золота, зарытого у восьмой бочки, той, что с десятью обручами, и под плитой у каменной колоды. Не до золота было ему.
А через год он вернулся, но ненадолго — повидаться с братом и поискать, не ожил ли в болгарском селе кто-нибудь, достойный владеть тайной клада. Не хотелось ему тащить ее до могилы.
Она, как слепень, мешала ему спокойно сосредоточиться на последней и, может быть, самой важной истине, которая готова была вот-вот родиться из всего пережитого.
Ежели ты правоверный и к тому же ага, всегда ли ты порождаешь предательство и обман, всегда ли наступает час, когда ты становишься убийцей, даже если ты благороднее и справедливее других?
Вскоре затем началась Освободительная война.
Перевод Т. Колевой.
Дико Фучеджиев ЖИЗНЬ, ЭТА КРАТКАЯ ИЛЛЮЗИЯ…
— Вот он! — сказал рыжий и мотнул головой.
— Где?
— В углу террасы, у балюстрады. С девушкой…
— Ага… Вижу. Красивая девчонка.
— Наверное, какая-нибудь перелетная птичка. Из тех, что шляются по курортам и ловят «сазанов».
Двое мужчин поднялись по ступенькам и стояли на террасе. Воздушно-легкое здание ресторана, пол террасы, расписанный квадратами, дома, пляж, море — все выглядело слепяще-белым под августовским солнцем. Голова рыжего пылала огнем. Бесцветное небо мягко стонало и расплавленными, дрожащими волнами изливалось на город и море. В сущности, стонала зеленая вода моря. Самым странным было то, что, несмотря на оглушающее, палящее безветрие, вода колыхалась. Зеленая, покрытая белыми гребнями, бегущими от горизонта к берегу и назад, к горизонту, которого она никогда не могла достичь, — она стонала. Пронзительно кричали чайки, они камнем падали вниз и тотчас же взмывали ввысь, точно напуганные ядовитым, светло-зеленым цветом воды. В этой яркой зелени таилась угроза, вернее, угроза и беспокойство как бы излучались водой и властвовали надо всем, включая песчаную полоску пляжа, пустынную и безлюдную в этот послеобеденный час.
— Присядем? — спросил второй, моложавый, но смуглый, как цыган, с тонкими смолисто-черными усиками.
Не дожидаясь ответа, он шагнул вперед и сел за столик недалеко от парапета, наискосок от «перелетной птички».
— Свинство! — ругнулся рыжий и примостился рядом, у локтя своего приятеля. — Из-за этого волнения и моря больше не понюхаешь.
— А ведь он совсем мальчишка, — сказал смуглый. — Вчера он показался мне старше.
— Темно было.
— Совсем юнец. Просто беленький пай-мальчик.
— Это неважно. Знаешь, его зовут Солнышко.
— Солнышко? Наверное, из-за цвета волос. Они выглядят совсем светлыми.
— Это уж от солнца. Выгорели, — усмехнулся рыжий. — А так он русый.
Под нависающим фасадом ресторана томился официант в белой куртке, белой рубашке с пристегнутым крахмальным воротничком и галстуком бабочкой. Изнывая от жары, он поглядывал на столики, за которыми сидели редкие посетители. Его вопросительный взгляд остановился на пришедших.
Рыжий поманил его пальцем.
— Две рюмки мастики со льдом, — заказал он, не взглянув на поданный ему прейскурант, — и салат.
Официант черкнул в блокноте карандашом и хотел уйти.
— А вон тому парню — бутылку Карловского марочного и какую-нибудь закуску.
— Какому парню? — спросил официант, не разгибая спины.
— Тому, что возле балюстрады… с девушкой.
— Ах, Солнышку, — улыбнулся кельнер. — Только, позвольте заметить, Нико вряд ли будет пить вино в такую жару. Впрочем, как прикажете.
Профессиональная улыбка застыла на молодом красивом лице официанта. Не впервые незнакомые посетители заказывали что-нибудь для Солнышка. Какие только люди не прошли через эту террасу, и все они обращали внимание на Нико. Но официант не сказал этим двум, что юноша, как правило, отказывался от угощения; это не в его интересах, да и по опыту он знал, что лучше не противиться желаниям клиентов, какими бы странными они ни казались.
— Тогда подайте ему двойную порцию мастики. Со льдом. И закуску, — заказал рыжий, немного подумав.
Официант почтительно поклонился и, не переставая улыбаться, пошел выполнять заказ.
Рука девушки лежала на белой скатерти, усталая, похожая на сломанное крыло. Нико перебирал тонкие, длинные пальцы этой руки, гладил ногти, блестевшие перламутром с тем удивительным сочетанием бледно-синего, бледно-розового и бледно-зеленого оттенков, которое улавливается только опытным глазом. Рука девушки была почти белой, еще не успевшей загореть. Хотя она лежала в его ладони, Нико не ощущал никакой тяжести, рука казалась чем-то бесплотным, эфирным, как опрокинутое над белым песком небо, чьи волны плыли совсем близко от него, но никак не могли его коснуться. Юноша не мог заставить себя выпустить длинные пальцы девушки. Его рука мелко дрожала, подергивалась, словно от нервного тика, и нужно было немалое усилие, чтобы сдержать эту нервную дрожь. Это казалось ему смешным и странным, он смеялся. Девушка тоже смеялась и не убирала руки, лежащей, как сломанное крыло. Однако эта кажущаяся вялость не мешала ей чрезвычайно остро ощущать приятную твердость пальцев Нико. Это ей нравилось, она не хотела и не могла отнять свою руку. Пусть лежит так, тихая и усталая, но живая больше, чем когда бы то ни было.
Эта встреча чем-то резко отличалась от других, когда, бывало, они сидели с Нико рядом, шли или бежали, взявшись за руки. А может быть, все было так же, но тогда она чувствовала что-то другое. Девушка приезжала сюда каждое лето с родителями и всегда останавливалась в домике Нико. В этом году она окончила гимназию и впервые приехала одна. Ее родители должны были прибыть через неделю. За все эти годы она привыкла к руке Нико, к его огрубевшим пальцам, ласковее и нежнее которых она ничего не знала. Ее рука лежала в его ладони с той огромной доверчивостью, которая порождается детской и юношеской близостью и которую ничто не может поколебать. Она сознавала, что это его прикосновение другое, не похожее на прежнее, хотя и выглядит таким же, но это ее не пугало. Только чуть тревожило, как всякое новое, неизведанное чувство. Они сознавали это оба, и легкая тревога словно еще больше притягивала пальцы одного к пальцам другого.
Они любили сидеть на этой террасе возле ограды, особенно когда здесь было безлюдно. Внизу, под крутым спуском, было море, а возле него — дома с посеревшими от времени деревянными стенами, старые и похожие друг на друга, с решетками на узких оконцах и ставнями, которые никогда не закрывались. Да, дома не закрывали глаз, смотревших на море, на его тихую красоту и страшную ярость. Им хотелось видеть все, потому-то они и столпились на самом берегу.
Оба любили сидеть на песке, опустив ноги в воду, или на скалах, где их обдавали соленые брызги, или в скудной тени дикого орешника и колючих кустарников — во многих местах, где никто из них и не подумал бы сидеть один. Но когда они были вдвоем, они в любом месте могли сидеть бесконечно долго.
— Смотри-ка, твой нос опять уже облупился, — сказал Нико, играя ее пальцами.
— Каждый год кожа слезает, — сказала девушка.
— Надо наклеить кусочек бумаги. Иначе будет все время лупиться и болеть.
Девушка посмотрела на него. Нико улыбался.
— Как же… Жди!
— Верно говорю — бумажку… От этого ты не подурнеешь.
Девушка невольно дотронулась до носа. Их взгляды встретились. Она покраснела, и оба рассмеялись.
— Никакой бумажки! Пройдет и так.
— Нет. Вот откроют писчебумажный магазин, я куплю клею. Сделаю так, что будет незаметно, и ты останешься такой же красавицей.
— Не хочу, — сказала девушка.
— Захочешь. Жаль ведь твой славный носик. Лучше даже приклеить бумажку сапожным клеем, крепче будет. Возьму у Яни-сапожника.
Девушка вырвала руку.
— Ты перестанешь?
— Если ты настаиваешь… Не понимаешь, когда тебе желают добра.
Нико улыбался краешками губ, девушка пристально смотрела на него и молчала, глаза ее потемнели.
— Ладно, не буду, — сказал он. — Положи руку на стол.
Она положила руку и снова почувствовала прикосновение его пальцев. Но сейчас она смотрела на его шею, выступавшую над вырезом тельняшки. Матросская тельняшка — в синих и белых полосах, ослепительно чистых, а шея — коричнево-черная.
— У тебя красивые пальцы, — сказал Нико. — Тонкие и длинные.
Она в первый раз заметила золотистые волоски, выступавшие из-под тельняшки. Они блестели на фоне темной кожи, словно кованые золотые нити. Она видела их впервые и не могла оторвать от них взгляда.
— Такие пальцы бывают у музыкантов, — сказал Нико.
Она молча продолжала смотреть на кудрявые золотистые нити, выступавшие из-под тельняшки.
Нико поднял голову — все это время он разглядывал ее пальцы — и удивленно спросил:
— Ты меня слышишь?
Девушка покраснела, поняв, как ей трудно отвести взгляд от этой темной шеи.
— Слышу, — тихо сказала она.
— Почему же тогда молчишь?
— Я не поняла тебя.
— Я говорил о твоих пальцах.
Она опять взглянула на полукруг загара. Кожа была темной, но тоже блестела, как золотая. Девушка снова покраснела и с усилием отвела глаза.
— Я играю на скрипке.
— Вот как? Я не знал.
— Сюда я ее не беру.
— Почему?
— Специально. Увлекусь игрой и не увижу моря, — улыбнулась она.
— Очень бы хотелось послушать, как ты играешь.
— Когда-нибудь услышишь, — задумчиво сказала девушка.
Нико взглянул на нее и снова склонил голову к ее пальцам. Неожиданно он испытал желание прикоснуться губами к этим пальцам, к перламутру ногтей. Он даже сделал неуловимое движение, такое легкое, что никто, кроме него, не мог бы его заметить. Но девушка молчала. Он подумал, что она угадала его желание, почувствовала этот неуловимый порыв и поэтому теперь смотрит на него пристально и удивленно. Ему даже показалось, что ее пальцы чуть дрогнули в его руке и снова замерли. Он хотел поцеловать их, но не мог и не знал, как это сделать. Рыбаки, среди которых он вырос, не целовали руки женщинам. Ему стало неловко, он понимал, что не только неумение останавливает его. Теперь он уже не смел поднять голову, потому что тогда встретился бы с ее глазами.
Девушка внимательно смотрела на его голову. Каждый волосок его длинных русых кудрей блестел, и все сливалось в чудное сияние, какое-то нереальное и чуждое осязаемому и привычному миру, шумевшему вокруг. Она думала, откуда взялась эта светло-русая голова здесь, на берегу моря, где люди рождаются смуглыми или становятся смуглыми под солнцем и солеными ветрами. Эти русые пряди, наверное, очень мягкие, как волосы ребенка, как детская рука. А может быть, они и не такие мягкие? Это легко можно бы было проверить, но коснуться их у нее не хватало смелости.
— Эй, русоголовый! — позвала девушка. Ей казалось, что он совсем забыл о ней, а видел и помнил только ее руку.
Он посмотрел на нее спокойно. Нет, она ничего не заметила.
— Не пора ли тебе поспать? — спросил он, глядя на нее с улыбкой.
— Ты на скандинава похож.
— Разве? Не обижай меня.
— На скандинава — какого-нибудь шведа или норвежца, даже на финна. Смотрю на тебя и удивляюсь, откуда здесь взялась такая порода. А чем я тебя обижаю?
— Все они размазни. Я видел тут шведов, они ездят сюда уже два-три года. Какие-то мягкотелые, так и кажется, что они растают под нашим солнцем. Даже в воде не тонут.
— Но в тех странах большинство мужчин — рыбаки, — сказала девушка.
— Те, что приезжают к нам, не похожи на рыбаков. Барышни в штанах, пижоны.
Его волосы были светлыми, соломенно-русыми. А кудрявые волоски над майкой сияли темным блеском старого золота. Она сразу уловила эту разницу. Потом отвела взгляд к зеленому морю и сказала:
— Я буду учиться играть на скрипке в консерватории.
— Вот как?
Неизвестно почему, он удивился. Эти слова были совсем не к месту здесь, на террасе, над светло-зеленым морем, у балюстрады, на которой останется след ее руки, и этот след не смогут стереть никакие дожди, никакие ветры, никакая жара, от которой все вокруг словно таяло и дрожащими волнами текло к морю.
— Что тут удивительного? — посмотрела на него девушка.
— Ничего, — улыбнулся он и почувствовал себя почему-то стесненно. — Просто у меня это в голове как-то не укладывается. А это вполне понятно… С такими длинными пальцами, конечно… Я просто задумался. — Помолчав, он добавил: — А я стану рыбаком.
Ей показалось, что его голос прозвучал как-то уныло, бесплотно. Она осторожно освободила свою руку и положила поверх его руки.
— Ты ведь и сейчас рыбак?
— И сейчас, но хочу изучать ихтиологию.
— Ихтиологию?
— Да, — его рука кротко лежала под ее ладонью. Неожиданно уныние прошло. — Это удивительная наука. О рыбах, о море, обо всем, что в нем есть. Ты ведь еще не видела моря.
— Как не видела? Я же в нем купаюсь!
— Это не то, — усмехнулся юноша. — Море там, за горизонтом, где синяя вода, и не видишь ничего, кроме этой синей воды. Туда и рыбачьи баркасы заходят редко. Я видел его с военного катера, там, далеко… А здесь — игрушки.
Он помолчал с задумчивым видом и неожиданно спросил:
— Что же будет со скрипкой?
Они не заметили официанта, который, улыбаясь, стоял возле их столика. Они увидели рюмку, прозрачную и запотевшую, и тарелочку с тонко нарезанными помидорами.
Нико поднял голову.
— Что это такое?
Официант улыбался молча и доверительно, глядя на блестящий поднос, на который стекали капли воды. Затем, едва заметно кивнув в сторону двух мужчин, сказал:
— Они вон посылают.
Нико проследил за его взглядом. Двое мужчин улыбнулись и, подняв бокалы, вежливо кивнули головой. Кто рюмка стояла на столе. Он тоже им кивнул. Ему показалось, что он их где-то уже видел. Где он их видел?
— Я их не знаю, — сказал он, повернувшись к девушке, и пожал плечами.
Девушка сидела лицом к незнакомцам. Она смотрела на них пристально и беспокойно. Официант стоял возле их столика и улыбался. Нико еще не сказал ему, что делать. Поступок этих мужчин был необычным, хоть и не таким уж редким. Нико должен был что-то сказать.
— Отнеси все это на их стол, — сказал он официанту. — Я провожу Эмилию и приду к ним.
— Прошу тебя, не связывайся с этими людьми, — сказала девушка, стиснув ему руку.
Она не сводила с них глаз все время, пока они разговаривали с кельнером, передававшим ответ Нико. Мужчины улыбнулись и кивком поблагодарили его.
— Почему? — рассмеялся Нико.
— Они мне не нравятся.
— Не нравятся? Люди как люди. Видно, хотят попросить о какой-нибудь мелкой услуге.
— Для этого имеется бюро по найму квартир, — сказала девушка.
— Тут, видно, дело не в квартире. Мало ли что может понадобиться человеку, когда он в чужих краях.
— И все-таки они мне не нравятся.
— Я поговорю с ними и приду. Так и скажи матери. Тебе уже хочется спать? — спросил Нико, пожимая ее руку.
— Ладно, только не задерживайся.
Они медленно прошли по раскаленной террасе. Девушка больше не смотрела на столик незнакомцев. Она держала руку Нико, пока тот на ходу переговаривался с сидевшими за столиками друзьями, и крепко сжимала его загрубевшую ладонь, словно боялась, что если выпустит ее, то никогда больше не ощутит ее неповторимой нежности.
Нико проводил ее до выхода из ресторана.
— Я скоро приду, — сказал он, — А ты поспи. Вечером мы идем на танцы.
Девушка осторожно отпустила его руку и пошла по улице. Нико смотрел ей вслед, пока она не растаяла в изнуряющей белизне мостовой между старыми деревянными домами. По прямой улочке сползала лава тающего неба, плотная и дрожащая, и фигура девушки все больше и больше теряла очертания, пока не исчезла совсем.
Нико повернулся и пошел к террасе.
— Малышка шествует, как королева, — сказал мужчина с усиками. — Везет этому русому сопляку.
Нетронутые бокалы стояли на столе. Пришельцы решили дождаться Нико и чокнуться с ним.
— Да, к таким парням девчонки липнут как мухи. Видишь, — кивнул рыжий на другие столики, — здесь его все знают. Перелетные птички любят романтику — морских волков, лодки, лунные ночи… Не жизнь, а малина у этих приморских парней.
— Морские волки! — презрительно сказал другой. И без того отвисшие углы его большого рта опустились еще ниже. — Молокосос… Птенец желторотый…
— Может, и так… А видишь, что получается, — сказал рыжий. Он барабанил пальцами по столу и смотрел на море.
— Вижу, — вздохнул смуглый. — В сравнении с этой девчонкой обе наши выглядят старухами.
Подумав немного, он добавил:
— Да, мы дали маху. Имея машину, можно было подцепить что-нибудь пошикарнее. И как это мы нарвались на таких крокодилов? Откуда они взялись на наши головы?
У него был вид глубоко огорченного, обманутого человека. Рыжий обернулся. Он иронически улыбался.
— Не скули, — сказал он. — Ты же сам их притащил. Но дело сделано. За три дня, что у нас остались, трудно найти других. К тому же эти без претензий, а с такими девчонками можно беды нажить.
— Ты прав, — просопел собеседник. — Верно, ничего не поделаешь.
Он схватил бокал, но тотчас же отдернул руку, словно обжегся.
— Сколько же можно ждать этого сосунка?
— Спокойно, — усмехнулся рыжий. — Такие дела надо делать без нервов. Вот он идет…
Нико пересек террасу и остановился перед незнакомцами.
— Прошу меня извинить, — улыбнулся он.
Рыжий вскочил и поправил стул, хотя тот стоял на месте.
— Прошу, садитесь! Какие там извинения. Это мы должны просить прощения за то, что побеспокоили девушку.
— Ничего, ей все равно пора домой.
— Кельнер! — крикнул рыжий. — Льду и еще одну рюмку.
Он сел на место, вздохнул и сказал, улыбаясь:
— Ну вот. Раз уж мы почти знакомы, то разрешите представиться. Велико Романов и Росен Пештерский, — он указал на усатого, который приподнялся со стула и слегка поклонился. — Артисты.
Официант поставил на стол лед и удалился. Рыжий положил в каждый бокал по кусочку и поднял свой.
— Будем здоровы! За приятное знакомство!
Они чокнулись. Нико отпил немного и запил огненный глоток водой. Он не мог сказать им, что не любит мастику и что сейчас у него вообще нет желания пить. Рыжий был очень любезен, а перед чрезмерной любезностью Нико всегда чувствовал себя неловким и совершенно беспомощным. На грубость можно ответить грубостью: причины твоего поведения лежат в поведении других. Любезность же обезоруживала его.
Он собирался спросить, в каком театре они играют, когда увидел руки смуглого. Они не были похожи на руки артиста. Они были грубые, с корявыми массивными ногтями, с покрытой черными точками кожей. Это скорее руки, делающие физическую работу. Тяжелые, невыразительные руки. Все в этом человеке было тяжелым и невыразительным, даже его большие черные глаза, которые могли бы казаться красивыми, если бы не их бычий взгляд. Крупные выступающие скулы и опущенные углы губ, подчеркнутых усиками.
Вопрос о театре, в котором они играют, было первое, что пришло в голову Нико, но теперь он промолчал. Подозрение, что его обманули, словно сковало его мысли и еще больше усилило неловкость. Черт его знает, чересчур уж любезны эти люди, а сверх всего говорят такое, чему трудно поверить. И нельзя проверить, правда это или нет! В сущности, это его мало интересует. Это имеет значение только сейчас, в данный момент, когда он сидит за их столиком.
— Мы здесь в первый раз, — сказал рыжий и улыбнулся. — Вы понимаете, никого не знаем. Приехали на машине, на «вартбурге». Путешествуем. Иное дело, когда есть знакомые. Вы понимаете?
Нико смотрел на руки смуглого. Что ж тут понимать? Может, этот человек, правда, артист, а его руки огрубели от возни с машиной. Но все-таки эти массивные ногти…
Рыжий говорил отрывисто, как бы с трудом подбирая слова. И в его улыбке сквозили скрытое смущение и неловкость, будто он извинялся за что-то. За что — неизвестно. Кто их знает, что это за люди. Чудаки какие-то…
— Верно. Человек должен иметь знакомых, — сказал Нико после того, как рыжий замолчал.
«Нет, они не артисты. Этот не может пяти слов связно сказать».
— Это точно, — отозвался смуглый, и усики на углах его рта зашевелились. — Мы были на пляже вчера, когда вы вытащили тех мальчишек. Еще немного — и они утонули бы, — закончил он.
— Волны, — сказал Нико и взглянул на море. Он почувствовал, что краснеет, а по груди у него ползли капельки пота.
— При чем тут волны? — махнул рукой смуглый. — Просто щенки… К тому же, как только люди видят, что кто-то тонет, сразу в сторону. Или глазеют. Мало кто хочет рисковать своей шкурой. Будем здоровы!
Нико тоже поднял бокал, хотя ему совсем не хотелось пить. Опять запил мастику глотком воды. И пить не хотелось, а пил. И не сиделось, а он все сидел. Сидел, словно загипнотизированный своей неловкостью, порожденной словами этих мужчин, их жестами, взглядами и улыбками. Казалось, весь воздух вокруг их стола был напоен этой неловкостью, а он не мог разорвать эту сеть, невидимую и бесплотную. Не мог встать и уйти. Эти люди ничем его не обидели. Они даже не просили его ни о чем. Просто хотели познакомиться, так как никого здесь не знают.
«Почему шкурой? Человек рискует жизнью. А жизнь — не шкура. Все было бы иначе, если б жизнь человека заключалась только в шкуре».
Рыжий был прозорлив. Он чувствовал, что разговор не клеится. Он ждал, что парень будет форсить, как и подобает морскому волку. Эти ребята с побережья все как один считают себя морскими волками и с простыми смертными, сухопутными жителями держатся высокомерно и даже нахально. Они много позволяют себе — внимание курортников избаловало их, всегда в них кто-нибудь нуждается. Походка у этих парней вызывающая, женщин они оглядывают взглядами знатоков. Женщины согласны на многое за одну прогулку по лунной дорожке в каком-нибудь старом корыте в сотне метров от берега. В сущности, их избаловали именно женщины. И дело не только в прогулках на лодке — это все же до некоторой степени романтично. Часто они идут на все за связку бычков или скумбрии, за пойманную в прибрежных скалах кефаль.
Рыжий был человек тертый, он понял, что разговор надо прекратить. Иначе этот толстокожий бегемот, который думает, что ему море по колено, испортит все дело. К чему было заводить треп о спасенных мальчишках?
— Мы хотим сегодня вечером пригласить вас в нашу компанию, — сказал рыжий. — Мы придем сюда. Выпьем, поговорим. А то сейчас и мастика в горло не идет.
Он усмехнулся виновато, словно это по его вине мастика не шла в горло.
«Зачем я им нужен? Почему не говорят сразу?»
— А чем я могу быть вам полезен? — спросил Нико. Он был рад, что через минуту покинет эту террасу.
Смуглый отнял бокал от губ, собираясь ответить, но второй опередил его:
— Не беспокойтесь, нам ничего не надо. Просто приглашаем вас составить нам компанию. Посидим, выпьем.
— Хорошо. Приду, если что-нибудь не помешает, — сказал Нико.
— Если вы захотите, вам ничто не помешает, — располагающе улыбнулся рыжий.
Нико попрощался и пошел к выходу. «Компания?» — подумал он и усмехнулся. Хороша компания! Особенно для Эмилии, которая их не выносит. В сущности, рыжий казался Нико симпатичным малым, хотя легче было смотреть на обоих как на одно и то же лицо, как на одного человека. Они не были похожи друг на друга ни внешностью, ни поведением, но все же в них было что-то, что их роднило. В чем заключалось это «что-то»? Может, оно связано с той неловкостью, какую он испытал, как только сел к ним за столик… Да что там раздумывать, пусть идут ко всем чертям! До вечера еще много времени.
— Ты просто трус! — запальчиво сказал усатый, выливая в рот остаток из рюмки Нико.
— Почему? — усмехнулся рыжий. Очевидно, горячность приятеля ничуть не обеспокоила его.
— Потому, что нечего с ним вилять. Тоже мне персона!
— Ты настоящий бегемот, — усмехнулся рыжий. — Такие вещи делаются не так, как ты думаешь. Знаешь ведь — тише едешь, дальше будешь.
— Знаю, — ответил смуглый и пьяно покрутил своей массивной головой. — Знаю — тише едешь, не скоро приедешь. Жизнь — краткая иллюзия…
— Когда ты напиваешься, тебя тянет на философию, — сказал рыжий. Он смотрел на своего приятеля, все так же усмехаясь, с ласковым пренебрежением, как смотрят на шаловливых детей. — Именно поэтому и не надо спешить.
— Наоборот, поэтому-то и надо спешить. Надо из нее все выжать.
— Из кого?
— Из жизни, — удивленно взглянул на него черный.
— Довольно, — устало ответил рыжий. — Вечером продолжим.
Оба приятеля поднялись. Терраса опустела. Кельнер проводил их недоброжелательным взглядом и начал убирать со стола.
Смуглый был уже изрядно пьян. Стакан совершенно исчезал в его лапищах. Опершись локтями на стол, он держал его с видом закоренелого пьяницы, привыкшего согревать питье в холодную погоду, и отхлебывал редко, но большими глотками, и рассеянно смотрел на пары, двигающиеся под лампионами дансинга.
— Обманул нас этот парень, шеф, — проворчал он, облизывая губы. Углы его рта опустились совсем низко.
— Потерпи, придет, — беззаботно усмехнулся рыжий.
Две женщины, сидевшие за их столиком, рассмеялись. Обе были неопределенного возраста, где-то между тридцатью и сорока, не совсем свежие, но и не очень увядшие.
— Может, откажетесь, а? Мы больше на настаиваем, — сказала одна из них. Она сидела, опираясь на угол стола, и ее большие груди натягивали белую блузку с глубоким вырезом.
Брюнет заглянул в вырез и недоверчиво спросил:
— Почему?
— Очень уж вы затрудняете себя, — сказала женщина. Ее подруга, худая и загорелая, отчего казалась еще суше, фыркнула, но, поймав свирепый взгляд смуглого, тотчас снова стала серьезной.
— Это уж наше дело, — пробормотал он.
— Нет, — невозмутимо возразила полная, — Это дело того, кто его делает.
— Это одно и то же.
Полная серьезно смотрела на него сквозь прищуренные ресницы. Потом сказала:
— Так бывает, когда человек сам не может справиться.
— А хочешь, я тебе тоже скажу одну мудрость? — злобно спросил брюнет.
— Почему бы и нет? Я ведь много раз слушала твои мудрости, — пренебрежительно усмехнулась женщина.
Смуглый сжал губы, и его усики хищно сомкнулись.
— Твое счастье, что мы в ресторане, — сказал он.
— Знаю я тебя, — с тем же пренебрежением ответила женщина и отвернулась. — Но твой героизм — дело нехитрое.
— Да замолчите вы! — крикнул рыжий. — Мы здесь не для того, чтобы ругаться.
— Видали, какой грубиян, — сказала женщина. — Почему я должна молчать?
— Он грубиян, а ты репей, — заметил рыжий.
— Я не репей. Я просто хочу отведать рыбы, а двое мужчин не могут ее достать.
— Милка, перебарщиваешь, — вмешалась худая.
— Хорошо, молчу.
— Вот он. Идет! — воскликнул рыжий. — Скорее, дайте стул.
Он вскочил и бросился ко входу на террасу. Обе женщины повернулись ему вслед. Смуглый, пристально уставившись в свой стакан, процедил:
— Шан-тра-па!
— Да, но ты перед ним лебезишь, — сказала полная.
Смуглый стукнул стаканом по столу и сунул руки в карманы. Худая обняла подругу и, со страхом глядя на мужчину, сказала досадливо:
— Милка, прошу тебя…
Рыжий подвел Нико и девушку к столику, представил их остальным. Пришедшие уселись на краешке стульев.
— Мы ненадолго, — улыбнулся Нико, отклоняя настойчивые приглашения пересесть к центру стола. Девушка, стиснув губы, украдкой поглядывала на двух женщин.
— А-а-а, у нас такие номера не проходят, милок, — пьяно засмеялся брюнет. — Мы тебя пригласили, а ты нас обижаешь.
— Прошу тебя, не привязывайся, — надавил рыжий на его плечо. Он энергично расставлял стаканы. — Выпил человек, — пояснил он виновато.
— Что верно, то верно, — сказал смуглый. — Но это не значит, что я не могу обижаться.
— Поэтому ты и обижаешься, — заметила полная женщина.
— Бросьте болтать, — махнул рукой рыжий и поднял стакан. — Выпьем за приятное знакомство, за хороших людей!
— За них я душу отдам! — рявкнул брюнет.
Все рассмеялись. Нико опорожнил свой стакан, а девушка едва пригубила вино.
В этот момент музыка смолкла, и один из оркестра объявил:
— Для Нико и его прекрасной дамы оркестр исполнит «Рамону».
По террасе пронеслись возгласы и аплодисменты. Эмилия покраснела и поставила свой стакан на стол, словно пойманная на месте преступления.
Оркестр заиграл, Нико поднялся и пригласил ее.
— Пойдем.
— Мне стыдно, — ответила девушка и покраснела еще больше. — К чему это?
— Ничего, — улыбнулся Нико, подбадривая ее взглядом. — Мне тоже неловко, но не надо их обижать. Это хорошие ребята.
Девушка пошла перед ним, не зная, куда деть руки. Когда они закружились на круглой площадке, под лампионами снова раздались аплодисменты.
— Этому мальчишке такая честь! — сказала худая. Несомненно, ей самой очень хотелось удостоиться подобной чести.
— Мальчишка? — усмехнулась толстуха. — Мальчишка, а видишь, как к нему подлизываются наши благородные мужчины. И все же я сильно сомневаюсь, что нам удастся попробовать рыбы.
Вспомнив о рыбе, она мечтательно вздохнула. Очень уж ей хотелось ее отведать…
— Попробуешь! Еще и подавишься! — сказал усатый. — Ты когда-нибудь давилась рыбьей костью?
— Уверена, это не хуже, чем разговаривать с тобой, когда ты напиваешься, — не осталась в долгу женщина.
— Это зависит… — начал брюнет, отхлебнув из стакана, — зависит, от какой рыбы кость.
Женщина промолчала и принялась обмахиваться платком. В вырезе ее платья блестели капельки пота. Нико и девушка вернулись к столику.
— Вот видите, напрасно вы стеснялись, — сказал рыжий, дружески глядя на девушку. — Получилось очень хорошо.
— Не теряйте времени, товарищ, — вмешался смуглый. — Жизнь, эта краткая иллюзия…
Девушка взглянула на него испуганно и враждебно.
— Для меня жизнь не иллюзия, — холодно ответила она.
— В этом ваша ошибка, и вы будете горько сожалеть. Именно иллюзия. Не успеешь оглянуться — тебя уж нет. Спросите нас, стариков…
— Не такой уж вы старик, — усмехнулась девушка. — Вам не больше тридцати пяти.
— К сожалению, дело не в годах, — вздохнул смуглый.
— Действительно, не в них…
Смуглый взглянул на Эмилию, но его приятель ударил его по колену, и он не сказал ничего.
За столиком наступило неловкое молчание, но оркестр заиграл снова, и все оживились. Толстуха ожесточенно обмахивалась платком.
«Наверное, ей нелегко», — подумал Нико, разглядывая женщину. Затем спросил:
— Вам нравится наш город?
Женщина улыбнулась ему благодарно и на миг перестала обмахиваться.
— Чудесный, — сказала она. — Но я страдаю от жары…
— Это не от жары, — вмешался смуглый.
— Не только от нее… — Толстуха бросила на смуглого злобный взгляд. — И от людей.
— Что поделаешь, лето, — рассмеялся Нико. — Все изнываем.
Ему было жаль женщину, которую смуглый все время пытался уязвить. Ее партнер был злобен и неделикатен.
— Здесь, конечно, хорошо, — заговорила худая. — Только одна беда: мы так и не попробовали рыбки. Словно бы и рядом с ней.
— Такой сезон, — сказал Нико. — В это время она не ловится.
— Не ловится, — возразила толстуха, — а позавчера один пронес три большие рыбины.
— Наверное, гарпуном бил? — взглянул на нее Нико.
— Не знаю. Видала, что нес. Вот такие, — растопырила она свои округлые руки.
— Сейчас и гарпуном не получится. Волнение мешает, — улыбнулся Нико.
— Какое это волнение! — пренебрежительно сказал смуглый.
Нико озадаченно посмотрел на него. Он хотел было рассказать об «этом волнении» и еще кое о чем, но Эмилия радостно воскликнула:
— О Васил!
К столику приблизился молодой рослый мужчина в морской тельняшке и фуражке. Он остановился возле девушки. Его загорелое, обветренное лицо сияло. Окинув незнакомцев, сидящих за столом, беглым взглядом, он положил руку на плечо Нико.
— Отпусти Эмилию потанцевать со мной. С тобой она умрет от скуки.
Девушка сразу же вскочила и доверчиво взяла моряка за его огромную руку. Нико откинул голову назад и сказал улыбаясь:
— Танцуйте. Как видишь, отпускать ее и не нужно.
— Веселитесь, молодые товарищи! — торжественно сказал смуглый и поднял стакан. — Сейчас ваше время.
Васил остановился колеблясь. Он хотел что-то сказать, но девушка нетерпеливо потянула его за руку.
— Пойдем…
Смуглый проследил взглядом за парой, пока она не скрылась среди танцующих, и сказал:
— Ну… Волнение, говорите… В океане волны достигают двенадцати метров. — А это что — игрушки!
Женщины рассмеялись, и худая, прикрывая ладонью крупные, торчащие изо рта зубы, сказала:
— О господи… Смотри, Милка, а ведь он симпатяга.
— В этом-то всё мое несчастье, — отозвался смуглый и продолжал: — Признаться, не думал, что вы, моряки, боитесь таких пустяков.
Нико молчал и улыбался. Что можно объяснить такому — он уже явно пьян. Это видно хотя бы по тому, как старательно стремится он выговаривать каждую букву, что, однако, удается ему с трудом. Про себя он думал: «Вроде бы уже перестали дурака валять. И зачем была вся их дипломатия?»
— Так, значит… — продолжал смуглый. — Что касается нас, еще понятно: мы море видим раз в год. А вот чего боитесь вы — не ясно.
— Дело не в боязни, — сухо сказал Нико. Ему было неловко, в душе он ругал Васила, что тот долго не возвращается.
— Нет, видно, страшно…
— Перестань, прошу тебя, — сказал рыжий, нажимая на плечо друга. Затем он пересел так, что Нико очутился между ними. Женщины смотрели на танцующих. На лице худой была написана нескрываемая зависть, она шептала что-то на ухо подруге, не отрывая взгляда от дансинга.
— А все-таки нельзя ли достать хоть немного рыбы? — почти умоляюще сказал рыжий, дружески наклоняясь к Нико. — Для наших дам…
— Через несколько дней, когда море утихнет, — сказал Нико.
— Мы здесь только до послезавтра…
— Что же делать? — пожал плечами Нико, смущенно улыбаясь. Ему было очень неловко, что отказывать пришлось именно рыжему. Тот был трезв. Второй словно потерял интерес к разговору, отпивал вино и блуждающим взглядом обводил столики.
— Может, вы все же придумаете что-нибудь, — настаивал рыжий. — Мы ничего не понимаем в этих делах. Поэтому-то и обратились именно к вам. Нам сказали: «В такую погоду только Солнышко может что-то сделать». Понимаете, не хочется уезжать, не отведав рыбы. Мы-то ладно, а вот женщины…
У Нико было такое ощущение, будто он запутывается в какой-то крепкой и липкой паутине, из которой так просто не вырвешься. И чего так наседают эти бабы? Ведь ясно, что они этим двум чужие, просто курортные знакомые. Не умрут они без рыбы!
Тихое упорство рыжего раздражало Нико. Он понимал, что единственный способ избавиться от этих двоих — ссора. Но затеять ее он не мог. Не мог подняться со стула и уйти — сразу было бы со всем покончено.
— Я понимаю вас, — со смущенной улыбкой говорил он. — Но при таком волнении нельзя ловить рыбу ни сетью, ни на удочку. Не голыми же руками?
Рыжий в упор взглянул на него и выбросил свой последний козырь:
— У нас есть взрывчатка. Годится?
— Какая взрывчатка? — вздрогнул Нико.
— Обыкновенная, из карьера. Я слышал, что рыбу можно оглушить взрывом.
Паутина становилась все более липкой и крепкой.
— Взрывчаткой запрещено. К тому же здесь пограничная зона.
— Знаю, — невозмутимо сказал рыжий. — Если бы было легко, мы бы вас не просили.
Риск был ничтожен, но Нико не хотелось сдаваться. С взрывчаткой — минутное дело. Опасно только волнение. Кефаль можно бы глушить в скалах, но там сейчас сущий ад. А потом, с какой стати? Приезжают какие-то люди: слыхом о них не слыхал, видом их не видал, и начинают — рыба да рыба. Какие-то бестолковые, ни то ни се… Они ему просто неприятны. Особенно смуглый — есть в нем что-то отталкивающее… Вообще вся эта история началась как-то до странности нелепо, это заставляло его быть начеку.
— Я не волшебник, — сказал Нико. — Сожалею, но ничего не могу поделать.
Рыжий задумчиво забарабанил пальцами по столу.
— Я был о вас, морских волках, лучшего мнения, — неожиданно ввязался второй, глядя в сторону.
— А знаете, как я интересуюсь вашим мнением? — вскипел Нико.
— Ради бога, оставьте его, он пьян, — быстро сказал рыжий и набросился на приятеля. — Знай смотри в свой стакан!
— Не люблю, когда передо мной форсят, — сказал смуглый.
— Это кто же форсит? — Сжав кулаки, Нико приподнялся со стула.
— Оставьте его! — рыжий обхватил Нико, удерживая на стуле.
Смуглый был очень пьян.
— Все вы форсите! Все вы морские волки и еще не знаю кто, а при волнении в четверть балла боитесь нос высунуть в море. Знаем мы таких!
— Я бы показал вам, какие мы, да не стоит, — сказал Нико и опустился на стул.
Не надо терять самообладания. А то этот пьяный герой будет выглядеть бледно.
Васил, провожавший девушку к столу, остановился возле них и подозрительно всех оглядел.
— Да тут, кажется, скандалом пахнет? — спросил он и впился взглядом в смуглого.
— Да нет! — махнул рукой Нико. — Беседуем тут с товарищами.
— У нас нет причин скандалить, — через силу рассмеялся рыжий. — Мы же только что познакомились.
Смуглый, сжав стакан в кулаке, тупо глядел перед собой. Его скулы побелели от напряжения. Нико встал и слегка поклонился.
— Благодарю за компанию. До свидания.
— Всего хорошего, — сказал смуглый. — Я не отказываюсь от своих слов.
— Это ваше дело, — усмехнулся Нико.
— Что произошло? — спросил Васил, когда они отошли.
— Ничего…
— А все-таки?
Нико засмеялся с облегчением.
— Рыбы хотят. Будто я развожу ее в подвале. А тот, с усиками, просто нализался.
— Я тебе говорила, что они мне не нравятся и чтобы ты с ними не связывался, — заговорила девушка.
— Я и не думал связываться.
Нико смеялся, но все еще не мог успокоиться. Он крепко сжал ладонь девушки, чтобы не было заметно, как дрожит его рука.
— Сказал бы мне, я б ему мозги вправил, — проворчал Васил.
— Брось, — снова засмеялся Нико. — Пьяный человек, что с него взять.
— А ты им не поддашься? — в упор взглянул на него Васил.
— Только этого не хватало…
— Твоя дипломатическая миссия не имела успеха. Даром только взрывчатку доставали, — сказал смуглый.
Он поднял стакан на уровень глаз и сквозь него насмешливо посмотрел на приятеля.
— Это еще неизвестно, — уныло возразил рыжий.
— Оптимист. Жить будешь долго.
— Не получится, — возразил рыжий, — раз такие, как ты, отравляют мне жизнь.
— Ха! Опять я виноват… — Смуглый насмешливо развел руками и повернулся к женщинам. — Видали?..
— Ты ни в чем не виноват, — успокоила его толстуха.
— Ясно, не виноват.
Рыжий криво усмехнулся.
— Совсем не ясно. Виноват… Тысячу раз я тебя просил не вмешиваться, когда ты пьян. Ты не умеешь устраивать такие дела.
— Видели, как ты умеешь…
— Еще увидите, — упрямо сказал рыжий.
Второй насмешливо взглянул на него, но только покачал головой. Все замолчали и повернули головы к танцующим с таким видом, словно до смерти надоели друг другу. Под цветными гирляндами в медленном ритме блюза, оживленно разговаривая, покачивались пары. Чей-то смех взлетел над звуками оркестра и угас.
— Ишь ты, живут же люди, — удивленно сказал смуглый и поднял стакан, не отводя взгляда от дансинга.
Ему никто не ответил.
Вода бросалась на берег длинной, бесконечно длинной белой гривой. Песок гневно вспыхивал, встречая волну, быстро проглатывал ее, но через миг он должен был встретить следующую. Странно выглядел этот яростный поединок под безветренным, словно размякшим от зноя небом.
Девушка лежала лицом к морю. Белый пенистый след, исчезавший последним, касался ее подбородка. При каждом броске вода заливала ее руки, и между длинными пальцами девушки вперед и назад метались овальные, светло-розовые скорлупки мелких ракушек.
— Они поют, ты слышишь? — Она приблизила пригоршню раковинок к его уху.
— Ничего не слышу, — сказал Нико и подвинулся поближе к ней. Рев белых грив заглушал ее голос.
— Ракушки поют между пальцев…
— Это у тебя в ушах звенит… Ты фантазерка! — прокричал Нико. Он все понимал по движению губ и боялся, что она не расслышит.
— А ты сухарь, — сказала девушка и вскочила. — Пойдем в воду.
Нико поднялся и встал рядом. Они стояли друг против друга. К их телам прилип мокрый песок. Голова девушки была на уровне его шеи. Они молча и с вызовом смотрели друг на друга.
— Нельзя, — сказал Нико. Он смотрел ей в глаза как завороженный и не мог оторваться. Когда она наклонялась, чтобы услышать песню ракушек, к ее щеке и уху тоже прилипали песчинки.
— Боишься? — улыбнулась она.
— Боюсь.
Девушка знала, что Нико боится не за себя. Он плавал как рыба.
— Но я ведь хорошо плаваю.
— Знаю. Но незачем забираться далеко.
— Трус! — крикнула девушка и побежала вдоль берега.
Песок загорался и угасал в следах ее ног, а пена, облизав тонкие щиколотки, снова уползала в море. Нико усмехнулся и пустился вдогонку, не торопясь ее настичь.
Так они бежали долго. Девушка услышала за спиной его дыхание, вскрикнула и бросилась в белую пену. Тело Нико, натянутое как струна, описало дугу и настигло ее. На мгновение два тела слились в объятиях волны. Девушка сделала тщетное усилие освободиться. Ее влажные и испуганные глаза встретились с его глазами. Нико встал в воде на колени, взял ее на руки и поцеловал. Девушка ощутила только соленый вкус воды и испуганно притихла.
Нико вынес ее на берег и положил на горячий песок. Она легла, не отводя от него взгляда, и так лежала, смущенная и безмолвная.
— Ну что, трус я? — тихо спросил Нико, еще задыхаясь от бега.
— Да… — ответила девушка и впервые улыбнулась.
Он смотрел на ее тело, тело девушки, которая только начала созревать, на юную плоть, свежую и зовущую, покрытую блестящими каплями воды. Она следила за его взглядом и молчала.
— Пора идти, — сказал Нико.
— Я не хочу.
— Захочешь.
Он медленно наклонился, и его губы коснулись ее плеча. Она не вздрогнула, только взглядом провожала каждое его движение. Он снова наклонился, на этот раз к ее губам. Она сделала чуть заметное движение, но не отстранилась. Только закрыла глаза. И снова ощутила на губах соленый вкус моря.
Когда она открыла глаза, Нико лежал рядом, опершись на локоть. Другой рукой он поправлял прилипшие к ее лбу влажные волосы. Она подняла голову и поцеловала его руку.
— Дядя Анастас будет меня ждать, — сказал Нико, глядя на нее и улыбаясь.
— Сейчас встану, — проговорила девушка.
Она полежала еще немного с закрытыми глазами и медленно поднялась. За камнями они оделись и пошли.
— Мне хотелось еще полежать у воды, — сказала она, положив руку в его горячую ладонь.
— И мне. У нас еще будет время.
— Да? Потому я и встала.
— Время наше.
— Не только время. Все!
— Все.
Они шли молча. Рука девушки спокойно лежала в его ладони. Может быть, поэтому они молчали.
Дома начинались вблизи узкой дуги раскаленного песка. За ними нанизывались следы, они таяли, не успев слиться.
Облитые зноем, с нагретыми деревянными стенами дома отдыхали, бросая косые тени. Люди тоже отдыхали. Узкие улочки с раскаленной мостовой, посеревшие и безлюдные, устало дышали в ожидании вечернего бриза.
Перед одним домом с низкими оконцами Нико усмехнулся и остановился.
— Зайдем на минутку.
Они поднялись на три каменные ступеньки. Нико открыл дверь и сказал тихо:
— Здравствуйте, Яни.
Сапожник в изрезанном кожаном фартуке, вздрогнув, поднял голову от столика. Он взглянул на вошедших и улыбнулся. Оба были босые.
— Будь здоров, Солнышко. Хочешь, чтобы я тебя подковал?
Нико посмотрел на свои ноги.
— Я пришел по другому делу. У тебя есть хороший клей?
— Есть, — удивленно ответил сапожник.
— У девушки лупится нос. Надо приклеить бумажку.
Сапожник щелкнул пальцами и рассмеялся, посмотрев на девушку.
— Легко тебе жить, Нико. Все шуточки, — сказал он.
Девушка покраснела и попыталась вырваться, но Нико крепко держал ее за руку.
— Пусти! — тихо, но решительно сказала она.
— Брось, не сердись, — махнул рукой сапожник. — Нико как птичка божья, сердце у него доброе.
— Это верно, Яни, только никто этого не признает. Заказчики есть?
— Летом все ходят босиком, как вы, — засмеялся сапожник. — Пробавляюсь только порванными ремешками. И рыба не ловится.
— Не ловится, — сказал Нико и повернулся к девушке: — Пошли?
— Раз дело сделали, можно, — усмехнулась она.
Когда вышли на улицу, девушка сказала:
— Я тебе отплачу.
— Не сомневаюсь, — усмехнулся Нико и еще крепче стиснул ее руку.
Вдруг он сделал едва уловимое движение повернуть назад, но передумал. Это походило бы на бегство. А нужно бежать? И почему?
На противоположной стороне узкой улочки стояли двое мужчин. Они рассеянно разглядывали витрину небольшого магазинчика и лениво перебрасывались словами. Нико подумал, что они очутились здесь не случайно, и эта мысль смутила его.
Он хотел только поздороваться и пройти мимо. Но мужчины дружески улыбнулись, и смуглый спросил:
— Как с нашим дельцем?
— Все еще никак, — беззаботно рассмеялся Нико.
— Вы говорите «еще»… — вмешался рыжий. — Значит, есть надежда?
— Надежда всегда есть, — ответил Нико.
— Подождем, — сказал смуглый. — Мы здесь, и мы ждем. А если вчера я вас обидел, прошу меня извинить. Хватил лишнего.
— Вы меня не обидели, — махнул рукой Нико. — Будьте спокойны.
— Я спокоен. Только не хочу в вас разочаровываться.
— Ну, это ваше дело.
— Не только мое.
Когда они немного отошли, девушка вскипела:
— Какие нахалы! Почему ты их не осадишь?
— Оставь, — засмеялся Нико. — Видишь, он извинился. Не ожидал от него.
— И все-таки они нахалы!
Нико шел смущенный. Он знал, что мужчины смотрят ему вслед, и не смел обернуться. Сворачивая в переулок, он незаметно оглянулся. Те двое действительно стояли на том же месте и смотрели им вслед.
Он хотел не думать о них, но не мог. Они казались ему жалкими, и все же, сам того не желая, он испытывал сожаление. Наверное, они потратили много времени и усилий, чтобы эта встреча выглядела случайной. С другой стороны, он никак не мог освободиться от неприязненного чувства к этим двоим. Их назойливость уже перешла границы вежливой настойчивости. Эмилия права — это чистое нахальство.
Показался двор государственного рыбозавода, и Нико перестал думать о неприятной встрече. Перед растянутыми сетями он заметил Анастаса, внимательно проверявшего их.
— Добрый день, дядя Анастас, — попривествовал его Нико.
— А, здравствуйте, молодежь, — отозвался моряк.
Он снял свою черную фуражку и поздоровался с ними за руку.
— Эта дивчина, наверное, Эмилия? — сказал Анастас, разглядывая девушку. Его лицо просветлело.
— Да, это я, — улыбнулась Эмилия.
Во взгляде этого пожилого человека с грубым, загорелым лицом и белой бородой было что-то очень приятное и располагающее.
— Ты ведь видишь ее каждый год, — сказал Нико.
— Вижу. Но ты не знаешь, как быстро меняются люди в вашем возрасте. И все-таки я ее не забыл.
Пока старик болтал с девушкой, Нико осмотрел сети. Анастас их чинил, белые нитки были видны издалека. Сети готовили к наступающему сезону.
— Знаешь, зачем я тебя позвал? — спросил Анастас, с улыбкой разглядывая парня.
— Наверно, тебе нужны люди для починки сетей.
— Это верно наполовину. Просто хотелось повидаться с тобой. В последнее время ты сюда носа не кажешь.
— Дела, — улыбнулся Нико.
— Вижу, — сказал Анастас, бросая взгляд на девушку. — Я спрашиваю у Васила: где это запропастился Нико? Совсем нас забыл. Готовится в студенты. «И я его не видел, — говорит. — Наверно, читает парень». Ясно, я ему не поверил. Чего читать, экзамены кончились.
Рыбак сел на каменную ступеньку перед деревянным бараком. Зажег сигарету, но закашлялся и бросил ее.
— Сколько раз ты зарекался не курить и все не можешь удержаться, — заметил Нико. — Тебе вредно.
Он вдруг заметил, как Анастас постарел. Вот так с одеждой: носишь ее носишь, не замечая, как она ветшает. Старый рыбак сидел на ступеньке и казался совсем маленьким. Пока он кашлял, его лицо сделалось темно-коричневым, а мягкая и морщинистая кожа тряслась.
— Зарекался, но не могу, — сказал он, задыхаясь. Затем несколько раз глубоко вздохнул и засмеялся.
— Это ведь как и мой ревматизм, ни с ним, ни с курением не могу расстаться.
— А люди тебе нужны? — спросил Нико.
— Если бы знал, что Эмилия тут, я бы тебя не позвал, — взглянул рыбак на девушку.
— Не имеет значения.
— Найди еще несколько человек. Работы не так много, но надо закончить к сроку. Наши все занялись домашними делами, лов начнется — будет некогда.
— Ладно, дядя Анастас, все сделаю.
— Добро… Утихнет море, поедем втроем за рыбой.
Отойдя от рыбака, девушка сказала:
— Он очень похож на моего отца.
— Скажешь тоже, — рассмеялся Нико. — Ничего общего.
— Нет, похож. Может быть, глазами, хотя отец моложе. Он так на меня смотрел.
— А я едва помню своего отца, — сказал Нико и, немного погодя, добавил: — А теперь домой. Тебе нужно немножко поспать.
Нагретые солнцем камни жгли подошвы, но они этого не замечали. До дома шли долго: по дороге открывалось много нового, не виданного и не открытого до этого неприятно знойного и в то же время прекрасного августовского дня.
— Пойдем, — сказала девушка.
— Еще десять минут, — Нико посмотрел на часы.
— Мне не хочется здесь оставаться.
— И мне. Но Басил велел подождать его до девяти.
Они сели за столик, за которым сидели всегда. Переполненная терраса гудела, как улей. Непрерывный шум морского прибоя под их ногами не мог заглушить гомона людей. Нико часто посматривал на часы: ему тоже не сиделось здесь. Люди под разноцветными лампионами смеялись, кричали, переговаривались, а оркестр играл без отдыха.
Оба испытывали одно и то же чувство — досаду. И оба, каждый в отдельности, не сговариваясь, стремились к уединению, к тишине и молчанию. Им хотелось быть вдали от людей, безразлично где, но только одним. Это стремление еще больше усиливалось со вчерашнего дня, когда они бежали по влажному песку, который то загорался, то потухал в следах девушки.
— Добрый вечер.
Нико вздрогнул и обернулся. Тяжелое предчувствие не обмануло его — сзади стояли те двое. Смуглый опять был пьян и смотрел на Нико с глуповатой улыбкой. Рыжий выглядел немного виновато — так по крайней мере показалось Нико.
— Вы разве еще не уехали? — удивленно спросил он.
— Наша машина испортилась. Только сегодня к вечеру ее исправили, — все с тем же виноватым видом объяснил рыжий.
— Жаль, — сказал Нико. — Бывает.
Он действительно сожалел, что машина поломалась. Иначе они бы ему больше не надоедали.
Девушка, не ответив на приветствие, некоторое время враждебно разглядывала их, а потом повернулась к ним спиной, глядя в темноту, где гремело море.
— Ну, что вы нам скажете? — спросил смуглый с той же тупой ухмылкой.
— К сожалению, ничего, — пожал плечами Нико.
Смуглый икнул, пошатнулся и проговорил:
— А я, как это ни неприятно, должен сказать вам в присутствии дамы, что вы просто трус! Да!
Нико побледнел и медленно выпрямился. Он схватил мужчину за руку выше локтя и толкнул его назад, не обращая внимания на увещевания девушки.
— Эй, Солнышко, что случилось? — закричали с соседних столиков.
— Ничего. Все в порядке, — небрежно ответил он.
Сжав руку смуглого, он прошипел:
— Хочешь драться здесь, перед людьми?
Рыжий просовывал между ними руки, бормотал что-то, но Нико не слышал его.
— Нет, — ответил смуглый со своей глуповатой улыбкой. — Хотим только немножко рыбки.
В этой улыбке и тоне было что-то детское, подкупающее.
Обезоруженный Нико отпустил его и засмеялся.
— Ничего другого. Только немножко рыбки, — повторил смуглый.
Нико подумал мгновение и сказал еле слышно:
— Ладно. Завтра в девять часов утра вы будете ждать меня у поворота к виноградникам. Знаете?
— Знаем, — быстро ответил рыжий.
— Захватите взрывчатку. Но смотрите — точно в девять. В десять у меня есть дело.
— Ровно в девять мы будем там.
Мужчины удалились.
— Это же ни на что не похоже! — воскликнула девушка. — Надо было просто прогнать этих нахалов.
— Всякие есть люди, — сказал Нико и взял ее за руку. — Ты не тревожься.
— Ты ведь им отказал?
— Конечно. И они завтра уезжают.
Ему не хотелось говорить ей о своем обещании, волновать ее. В сущности, все дело продлится не больше получаса. Но он знал, что не только ей — никому он не скажет об этом. Не мог и сам объяснить почему. Он испытывал какой-то неясный страх, ругал себя, что не смог устоять перед шантажом. Никто не должен знать, что его вынудили согласиться. А с такими типами он расплатится, швырнув им рыбу в лицо.
— Пойдем, Васил не придет.
Девять часов минуло. Они сошли с террасы, и немного погодя шум и огни остались позади. Перед ними раскинулась ночь, глубокая, безлунная летняя ночь. Сияние звезд смягчало тьму, оно возникло сразу же, как только они вышли из ресторана.
Они шли по высокому и обрывистому берегу. Нико обнял плечи девушки и вел ее, угадывая капризные повороты тропинки — он ходил по ней тысячу раз. Моря не было видно, оно только чувствовалось. Из темной, невидимой бездны доносились прохлада и монотонный рев, десятикратно усиленный эхом гротов, вырубленных водой в скалах.
— Берег обрушится, — сказала девушка.
Нико еще крепче обнял ее.
— Нет, он только подрагивает.
— А если обвалится?
— Мы отскочим, — усмехнулся Нико.
— Если у нас хватит времени…
— А раз не хватит, то он и не обвалится.
Легкий прохладный ветер словно не дул, а вытекал из темноты, которая начиналась в нескольких шагах от них. Тело девушки под его рукой было теплым и доверчивым. Нико шагал медленно, охваченный какой-то незнакомой, неиспытанной легкостью. Он чувствовал себя мужественным и сильным, он был готов спорить с ветром и с морем, с бескрайней ночью и тусклым небом — со всем, от чего пришлось бы защищать прильнувшую к нему девушку. Он думал, что, если до сих пор он притворялся мужчиной, с этой ночи он должен им стать. Это нужно не для удовлетворения собственного честолюбия, а для женщины, исполненной бесконечного доверия к его руке, ко всему его существу.
Так они шли долго и безмолвно. Потом спустились вниз. Перед ними простиралась узкая полоска песка, за которой чернело море. Тут было тише. Гроты остались позади.
Отойдя от воды, Нико сказал:
— Посидим здесь.
Он встал на колени и ощупал землю, хотя и знал здесь каждую пядь. Сухая трава прошелестела под его руками. Он разостлал свою куртку, и девушка нерешительно села. И сразу же нащупала его руку.
— Не бойся. Здесь хорошо, — сказал Нико.
— Я боюсь темноты.
Ее рука вздрагивала в его ладони. Рука была сухая и горячая.
— Я ведь с тобой, — сказал Нико.
— Привыкну. Но темнота всегда меня пугает.
— А меня пугает одиночество.
— Потому что ты никогда не бываешь один. Вокруг тебя всегда люди.
— Наверно. По-другому я и не мог бы жить. Так мне кажется.
Он привлек ее к себе. Ощутил на своей шее ее теплое дыхание… Охватив ладонями ее голову, он начал ее целовать. Целовал долго, задыхаясь, не слыша моря, не чувствовал легкого бриза, ночь словно провалилась куда-то. Существовала только девушка рядом с ним, трепещущая и доверчивая. И нежное прикосновение ее губ к его шее и груди.
Неожиданно девушка рассмеялась. Нико поискал в темноте ее глаза. Их не было видно, но он чувствовал, что они тоже ищут его взгляда и они не могут не встретиться.
— А я уже не боюсь, — сказала она.
— Я с тобой.
— И вот тот огонек с нами. Красный… Почему он красный? У маяков белый огонь.
— Этот означает опасность.
— Для вас?
— Нет. Для кораблей. Там скалы.
Нико вслушивался в шум моря. Неожиданно он вспомнил об утре, которое приближалось. Он старался понять, усиливается шум волн или ослабевает. Волны прибоя не были видны, они набегали как будто спокойнее и скорее шипели, чем гудели. Даже это шипение вроде стало тише. Волнение ослабевало. К утру, может быть, совсем утихнет.
— Тебе не кажется, что стало тише? — спросила девушка.
Она положила голову ему на грудь. Словно вслушивалась в удары его сердца.
Нико засмеялся и спросил:
— Где?
— Как где? Вокруг.
— Вокруг — да. Я подумал, что ты говоришь о моей груди.
— Нет. В твоей груди гремит, как море там, возле гротов.
— Ты не боишься?
— Ничуть. Мне хорошо, когда я слушаю, как бьется твое сердце.
Девушка поцеловала его в грудь, а он зарыл лицо в ее волосы, мягкие, душистые. И смотрел поверх ее головы вдаль, на неподвижный и немигающий красный огонек, и вслушивался в шум моря, заполнивший всю ночь. Ему казалось, что шум становится все глуше.
— Волнение как будто стихает, — сказала девушка.
Он обрадовался, что они чувствуют одинаково.
Затем он осторожно положил ее на спину и наклонился над ней. Голова девушки лежала на его руке. Ему хотелось увидеть ее глаза, и ему казалось, что он видит мелкие зеленые точечки вокруг ее зрачков… Девушка тоже смотрела на него и тихо улыбалась. Потом неожиданно вздрогнула.
— Что ты видишь? — спросил Нико.
— Твои глаза. Они стали темно-синими.
Нико рассмеялся.
— Выдумываешь. Ничего ты не можешь видеть.
— Неправда. В твоем левом глазу есть маленькое темное пятнышко.
— Хитришь. Ты его раньше видела много раз.
— И сейчас вижу…
Он наклонился и поцеловал ее в лоб. Лоб был удивительно гладкий и немного прохладный.
— А другое что-нибудь видишь?
— Да. — Девушка попыталась приподняться, но он удержал ее. — Звезду.
— Только одну? Их ведь тысячи.
— Эта наша. Она движется.
Нико посмотрел на небо.
— Фантазируешь.
— Смотри сам. Она сейчас проходит между передними лапами Большой Медведицы.
Нико увидел летящую звезду и лег рядом с девушкой.
— Правда, — сказал он. — Она не кажется тебе беспомощной?
Он сказал первое, что пришло ему в голову. Маленькая звездочка плыла медленно, словно с трудом пробиваясь между другими звездами, спокойно и уверенно стоящими на своих местах. Она была похожа на заблудившегося ребенка.
— Нет, — возразила девушка. — Она не беспомощная. Это единственная живая звезда.
— Потому что она наша?
— В ней частица нас.
Они лежали рядом и смотрели на маленькую звездочку, которая плыла прямо, чужая среди своих сестер, верная избранному пути.
— Это странно и необыкновенно, — сказал Нико.
— Потому что мы не привыкли.
— Может быть. И потому что она очень далеко от нас.
— Исчезла, — сказала девушка и вздохнула.
Нико снова прильнул лицом к ее волосам. Их мягкость его опьяняла. Он тронул ее руку у локтя. Кожа была прохладная.
— Хочешь, пойдем домой?
Она словно пробудилась ото сна. Притянула его к себе и начала жадно целовать. Затем слегка оттолкнула его голову и засмеялась.
— Теперь мы квиты. Можно идти.
Они снова поднялись на высокий берег и пошли вдоль обрыва. Ночь как будто стала светлее, хотя до рассвета было еще далеко. Нико прислушивался к морю. Он снова решил, что гул стихает, но тряхнул головой, словно стараясь отогнать неприятное чувство. «К чертям, — подумал он. — Какое мне до этого дело?» И сказал:
— Знаешь, откуда мы возвращаемся?
Девушка прижалась к нему.
— Из самого чудесного путешествия.
— А может быть, не возвращаемся. Может быть, путешествие только начинается?
— Верно. Только начинается.
— И будет продолжаться долго.
— Бесконечно. Оно никогда не кончится.
Впереди показались огни городка. Ночь оживилась. Только море в гротах гудело по-прежнему гневно и угрожающе. Но они молча шли рядом и ничего не слышали. Потому что были одни, а вне их не было ничего, кроме бескрайней и тихой дружеской ночи.
— Ну вот. Ветер стих, наверно, и волнение прекратилось, — сказал смуглый и коротко засмеялся. — А мы боялись.
«Этот тип или не знает, что такое волнение, или прикидывается дурачком», — подумал Нико.
Рыжий молчал, и Нико не сказал ничего, только бросил быстрый взгляд на море. Отсюда оно выглядело синим, безбрежно синим зеркалом, по которому ползли ослепительно белые гребни. Зайчики, белые пушистые зайчики гнались друг за другом по зеркалу. Не было видно ни гребней, ни впадин. Лишь обманчивые зайчики, которые не могли ввести в заблуждение только тех, кто привык к ним с первого дня своей жизни.
Солнце стояло еще низко, но уже припекало. Выгоревшая трава, уже отряхнувшаяся от росы, шелестела и скрипела под ногами Нико. Он шел впереди, те двое сразу за ним. Свои выгоревшие хлопчатобумажные штаны он подтянул и подвязал у щиколоток. Сухая трава кололась, но он не чувствовал ее, не слышал ее злобного шелеста. Внизу, в скалах, море ревело, бросалось остервенело, отступало и снова наскакивало. Это был постоянный, ровный, глухой гул, он заполнял все между водой, землей и небом, не оставляя места никаким другим звукам и даже чайкам не давал возможности пожаловаться друг другу. Было что-то апокалипсическое в этом неистовом рокотании, которое царило над водой и над землей и усиливало у Нико чувство одиночества. Те двое для него не существовали.
Залив был пуст. На горизонте виднелось судно, державшее курс на север. Лодки стояли у причала и на песке, одинокие и безлюдные. Виноградники отступали все дальше назад. Ранний виноград уже созрел, и между покрытыми ржавчиной кустами виднелись люди. Но и оттуда не доносилось ни звука.
Одиночество угнетало Нико, и он ускорил шаги. Покончить бы скорей с этой историей, как ему надоели эти двое! В сущности, все будет сделано за пятнадцать минут. Он вел их на место, где и при спокойном море немногие решались войти в воду. Там отвесный берег, и огромные, беспорядочно набросанные камни смыкались, образуя не особенно большой колодец. Глубина там была четыре-пять метров. Это место так и называли «Казан». Но туда всегда заплывала крупная кефаль, было полно всякой мелочи.
Нико торопился из-за Эмилии. Она будет ждать его: он обещал повести ее в одно небольшое село, расположенное севернее по берегу. Эмилия так и не узнала, что он уступил настояниям этих двух. Зачем ее тревожить? Она бы все равно не поняла, почему он согласился.
И не только Эмилия: никто не знал об этом. Его бы просто не пустили, а Васил наверняка устроил бы скандал этой паре. Он поскандалил бы и в тот вечер, если бы Нико не успокоил его. Нико знал, что нет ничего крепче моряцкой солидарности, когда решался вопрос, выходить или нет в бурное море. Это была не столько солидарность, сколько средство самозащиты от всех, кто не знал моря и считал, что для людей, живущих возле него, «море по колено».
Стояло полное безветрие, и гул доносился снизу, словно из-под земли. Мелкий кустарник и чертополох, как и трава, сгорели на солнце, и в их тощей тени порхали измученные сухопутные птицы, с утра забившиеся сюда на дневку. Они даже не пугались людей и лишь прижимались к земле, будто она могла их защитить.
Наконец они добрались до места.
— Здесь! — крикнул Нико, потому что спутники не слышали его. Снизу долетал звенящий гул, словно вода билась в огромной пещере.
Мужчины заглянули вниз с обрыва и в тот же миг отпрянули, облитые солеными брызгами.
Расположенные полукругом скалы закрывали этот котел, но вода перелетала через них, прокрадывалась между ними, клокотала под ними, и «Казан» дышал бурно, захлебывался и пыхтел. Он был похож на бурлящую бело-зеленую пасть, и двое пришельцев даже не захотели заглянуть в нее во второй раз.
— Может, лучше отказаться, а? — смущенно сказал рыжий.
— Что, ваша отвага осталась за ресторанным столиком? — усмехнулся Нико.
По правде говоря, в глубине души и он испытывал смущение. Его пугала не эта бурлящая вода, он знал ее очень хорошо, так как с детства жил возле нее. Его смущало одиночество, которое все осязательнее становилось здесь, у самого моря, где каждый звук, едва возникнув, сразу же угасал. И странная тишина в этом неистовом реве.
Но Нико не привык отступать. Он был еще слишком молод. Эти олухи задели его самолюбие. Смущало его и то, что он смотрел на них именно так, а не как на людей, с которыми он не одинок.
Рыжий не провоцировал его, когда предложил отказаться от всей этой затеи. Он был и в самом деле сильно напуган, чтобы позволить себе такую безответственную шутку. Он просто оторопел, хоть и не ему предстояло лезть в воду. Второй стоял со стиснутыми, обвисшими в углах губами и молчал.
— Давайте взрывчатку, — сказал Нико и сел в нескольких шагах от обрыва.
Смуглый положил сверток на сухую траву. Он не сел, как и тот, рыжий.
Нико развернул бумагу. В ней оказались две толовые шашки, капсюль и короткий кусок бикфордова шнура.
Он осмотрел их и сказал смуглому:
— Ну-ка, приготовь заряд.
Он хотел казаться серьезным, но усмехался. Смуглый понял иронию, но нашел в себе силы рассмеяться.
— Э-э, я не разбираюсь в этой механике.
— Да что тут разбираться? Шнур вставляется в капсюль, а потом в шашку. Дело простое. Ну, начинайте.
Смуглый продолжал улыбаться, но как будто через силу. Это было видно по его глазам, которые становились все мрачнее, и по углам рта, опустившимся еще ниже.
— Нет, — сказал он категорически. — Я могу водить машину. Могу отвезти вас куда хотите, а в бомбах я ничего не понимаю.
— Я был о вас лучшего мнения, — сказал Нико. — Да вы даже не умеете держаться, как артисты.
— Это другое дело.
— Нет, не другое. Вы вели себя так, будто все знаете про рыбу, особенно, как ее ловить… Я думал, что вы принесете заряд в готовом виде и броситесь за мной в этот ад ее вытаскивать. А вам, я вижу, нравится чужими руками жар загребать.
— Если хотите, можем вернуться, — сказал смуглый, и в его померкших глазах появился иронический блеск.
— Нет, такого удовольствия я вам не доставлю, — усмехнулся Нико… — И речи быть не может…
Он вправил шнур в капсюль и закусил бледно-розовый патрончик. Смял его зубами, чтобы надежнее зажать шнур. При этом он смотрел на смуглого, который невольно отступал назад.
— Вы не принесли клещи, — сказал Нико, не сводя со смуглого взгляда. — Ладно, и зубы сгодятся.
Все прошло. Его теперь забавляла игра с этим ресторанным героем. Он забыл и думать о трех лошадиных силах, которые дремали в патроне и легко могли разметать его голову в разные стороны.
Нико был доволен, что наконец-то сбил фасон с этого труса, который три дня издевался над ним и играл на его самолюбии. Издевался так хитро и вызывающе, что его можно было действительно принять за артиста, несмотря на его грубые руки. Простой шофер не мог бы делать этого с такой настойчивостью и изощренностью. Он хорошо знал, на что надо бить.
Второй был порядочнее, несмотря на свой вид — рыжие волосы и веснушчатое лицо. Он по крайней мере не издевался.
Нико ощупал брюки. Он забыл взять пояс. Без него трудно собирать рыбу. Придется бросать ее на берег, а это нелегко при таком волнении.
Смуглый только сейчас понял, что Нико нарочно надел длинные брюки, нарочно подвязал штанины у щиколоток. Брюки должны сыграть роль мешка.
Он сунул руку в карман и вытащил оттуда длинную пластмассовую трубку.
— Годится? — спросил он.
Нико взял ее и продел вместо пояса.
— Еще как. Вы догадливый человек.
— Это самое незначительное из моих положительных качеств, — усмехнулся смуглый.
— Оно и видно, — сказал Нико серьезно.
— А шнур не короток? — спросил рыжий. Он молча наблюдал за приготовлениями заряда. На его лице застыла маска страха и смущения.
Нико заметил это и дружелюбно подмигнул ему.
— Нет, не короток. Взорвется как раз у самого дна. Дайте огонька.
Смуглый услужливо щелкнул зажигалкой, но Нико отстранил его руку.
— Так не годится. Зажгите сигарету.
Он поднес сигарету к обрезу шнура, и на конце брызнуло синеватое пламя. Он еще раз ощупал веревку, которой к шашкам был привязан продолговатый камень, и швырнул пакет в воду.
Взрыв тупо грохнул и угас, заглушенный монотонным ревом моря. Вода извергла пенный гейзер, и пока он падал вниз, Нико, опережая его, ринулся в бездну.
— Знает малый свое дело, — сказал смуглый и восхищенно прищелкнул языком.
Второй смотрел вниз, в бело-зеленую воду, которая ревела и клокотала под его ногами. Смущение не сходило с его лица. Он не сказал ничего.
Смуглый насмешливо взглянул на него и засмеялся.
— Эй, эй, чего повесил нос! Спокойно, через десять минут все будет кончено.
— Не надо бы браться за это дело.
— Почему?
— Почему… Из-за тех двух гусынь из парня всю душу вымотали. И с какой стати? Кто мы ему?..
— Ну уж… душу! Ничего ему не сделается. Пускай малость поработает, хватит целыми днями разгуливать с перелетной птичкой.
Рыжий молчал. Нахмурив брови, он пристально смотрел в воду.
— Эй, артисты, держите! — крикнул Нико.
Он размахнулся, и на жухлую береговую траву шлепнулась большая кефаль. Смуглый алчно схватил ее и начал перекидывать с руки на руку, словно впервые в жизни видел рыбу.
— Еще бы несколько штук, и баста, — сказал он.
Второй безучастно взглянул на рыбину. Теперь он считал всю эту историю глупой, ему было стыдно перед пареньком, который мелькал внизу, в клокочущей бездне. Он решил даже крикнуть Нико, чтобы вылезал, но сообразил, что тот его не услышит. И этой рыбины достаточно, а можно было и вообще обойтись без нее.
Но Нико ничего не знал об этом. Он швырнул на обрыв еще одну рыбину, которая плавала на поверхности. Вода бросала его, он не мог хорошенько размахнуться, и лишь при второй попытке рыбина оказалась на берегу.
Потом он снова нырнул и сквозь слой взбаламученной воды, смешанной с песком, увидел дно. На нем лежало с десяток рыб, оглушенных взрывом. Его обрадовал не столько богатый улов, сколько возможность заткнуть глотку тем двум. Себе он не возьмет ни одной штуки.
Пластмассовая трубочка оказалась кстати. Он опускался до самого дна и засовывал рыбу в штаны, выныривал на секунду, чтобы глотнуть воздуха, и снова нырял на дно. Он уже набрал достаточно, но всегда в таких случаях его охватывала какая-то охотничья страсть, и он не мог остановиться. Некоторые из рыбин были оглушены меньше, они очнулись, и он ощущал их своим телом, как ощущал воду моря, которая всегда дружески обнимала его со всех сторон и в которой он сам чувствовал себя как рыба. Вода была теплая, она обливала его грудь, руки, лицо, как теплое солнце там, наверху, под побелевшим августовским небом. Он легко скользил возле самого дна, переворачивался в воде и фыркал от удовольствия. Тут ничего не было слышно, только солнечный свет, пронизавший водную толщу, качался в лучистой люльке песчаного дна.
Рыжий смотрел в воду и облегченно вздыхал каждый раз, когда голова парня выскакивала из кипящей пены, бушующей у его ног. Ему трудно было представить, что человек может так долго оставаться под водой.
— Этот парень прямо водолаз, — довольно пробормотал смуглый, сжимая по рыбине в каждой руке.
Второй не сказал ничего. Он молчал.
Нико не заметил, когда оказался в опасной близости к отвесной щербатой скале берега. Он вынырнул, шумно глотнув воздуха, и почти в тот же миг ощутил в воде, будто какой-то острый молот ударил его в правый висок. Перед этим он почувствовал острую боль в колене, но эта боль была не самая страшная. Ему показалось, будто что-то раскололо его череп.
Он услышал треск, и перед глазами все слилось в белый цвет пены.
Отчаянным усилием, ошеломленный и плохо соображающий, он оттолкнулся от каменной стены и с ужасом почувствовал, что его тело книзу от поясницы вдруг сделалось страшно тяжелым и тянет его на дно. «Рыба», — сообразил он, и его пальцы судорожно впились в пластмассовую трубку. Он попытался развязать ее, но это ему не удалось: от воды узел стал каменным. Тогда он напрягся, чтобы разорвать его, но тотчас же понял, что это ему не по силам.
Его голова сразу отяжелела, все вокруг окрасилось в красный цвет. Из последних сил удерживаясь на воде, он увидел на берегу двух мужчин, которые неизвестно почему тоже стали красными.
— Подайте что-нибудь! — срывающимся голосом крикнул Нико.
Те двое не слышали, что он крикнул, но увидели кровь. Они засуетились. Вокруг, на сотни метров, было пусто, под руками не было ничего. Да если бы даже и было, они не увидели бы.
— Тонет! — плаксивым голосом проскулил рыжий и, порывшись в карманах, неизвестно зачем вынул носовой платок и отбросил его.
— Эй, артисты, подайте что-нибудь! — успел вторично крикнуть Нико, прежде чем вода снова бросила его на острые зубья каменной стены.
Смуглый выпустил рыбу и бросился бежать к виноградникам.
Второй, бесцельно, с плачем, метался вдоль обрыва и звал на помощь.
Нико понял, что остался один. Один под синим небом, один в воде, в которой он никогда не чувствовал себя одиноким, один в нескольких сотнях метров от тысяч людей, среди которых тоже никогда не был одиноким. Среди них были Эмилия, Васил, дядя Анастас, его мать, все рыбаки и моряки, которые окружали его и прогоняли одиночество: курортники, которые уважали и любили его, потому что он был молод и по-юношески безрассудно смел. Он понял, что умрет в одиночестве у этой враждебной, зазубренной скалы, под этим холодным и враждебным небом. Одиночество вдруг сразу овладело им и сковало те последние силы, которые еще у него оставались.
Вода снова набросилась на него. Он пытался ухватиться за шероховатости утеса, но они ломали ему ногти, ранили пальцы и ускользали из-под руки.
Оцепенелость прошла, осталось лишь бессилие, оно было заодно с одиночеством. Он не ощущал никакой боли. Боли не было, были только бессилие и одиночество. Тяжесть книзу от поясницы сковывала его движения и тянула на дно.
Вот скала выскользнула из его окровавленных пальцев, и рыба, превратившаяся в непосильное бремя, потянула его ко дну. Но он снова вынырнул, задыхаясь, со страшной мыслью, что во второй раз уже не сможет вынырнуть. Однако он ошибся. Он выныривал еще два раза, и все над ним и вокруг него было окрашено в ужасный ярко-красный цвет. Затем неистовый шум исчез, ослепительная молния прорезала красноту, среди которой он очутился, и наступила непроглядная тьма.
К берегу бежали люди, это была целая толпа. Она растянулась на сотни метров, топтала скрипящую траву, колючки, низкие, засохшие кусты. Не было слышно ничего, кроме учащенного дыхания, пыхтения и хрипа.
Четверо первых быстро увеличивали расстояние между собой и теми, кто за ними следовал. Они раздевались на бегу, сбрасывали рубашки и майки и швыряли их на траву. Впереди бежал Васил.
Не останавливаясь, все четверо с разбегу бросились в пенистую, бело-зеленую воду.
Когда через несколько секунд они вытащили его, люди все еще продолжали подбегать. Рыба билась в штанах у юноши, но четверо не обращали на нее внимания.
Люди не помнили, сколько времени продолжалась борьба за угасшую жизнь Нико, и только поняв, что он мертв, они положили его на землю. Они стояли, потрясенные и молчаливые. Они жили у моря, но ни одна преждевременная смерть не потрясала их так, как эта. Они не могли примириться с ней и, наверно, не примирятся никогда.
Толпа зашумела, расступилась, и в опустевший круг возле юноши вошел Анастас, запыхавшийся, с побагровевшим от напряжения лицом, в сдвинувшейся набок морской фуражке. Он тяжело дышал и часто раскрывал рот, борясь с удушьем.
— Дядя Анастас, — сказал Васил, бесцельно водя руками по мокрым штанам, облепившим его бедра. — Угасло наше Солнышко, кончилось…
Только при этих словах люди словно поняли, наконец, что случилось, и заплакали. Плечи Анастаса тряслись, все его огромное тело вздрагивало, но из уст не вырвалось ни звука.
Тогда одна пожилая женщина, повязанная черным платком, подошла к ногам юноши и развязала штанины. Потом она встала на колени и приподняла голову Нико, словно хотела дать ему грудь. Рыба высыпалась на сухую траву. Одна крупная кефаль вдруг очнулась, сделала несколько скачков и плюхнулась в воду, но люди не видели ничего: ни эту рыбину, ни других, мертвых, которые остались лежать у ног юноши.
Перевод Н. Сатарова.
СПРАВКИ ОБ АВТОРАХ
ГЕОРГИЙ МИШЕВ
Родился в 1935 г. в с. Йоглав Ловечского округа. Окончил Софийский университет. Был на журналистской работе, в настоящее время редактор в издательстве «Народна младеж». В 1958 г. издал свою первую книгу «Голубоглазый рыбак».
Г. Мишеву принадлежат также сборники рассказов «Осымские рассказы», «Мальчишка», «Два мальчика и Олимп», «Адамиты», «Хорошо одетые мужчины» и повесть «Матриархат».
ИВАЙЛО ПЕТРОВ
Родился в 1923 г. в с. Бдинци близ Толбухина. Учился на юридическом факультете Софийского университета. Принимал участие в Отечественной войне в рядах Болгарской народной армии. Работал редактором Софийского радио, редактором в издательстве «Български писател». В настоящее время — сотрудник редколлегии журнала «Пламък».
Первую книгу — сборник рассказов «Крещение» — издал в 1953 г.
И. Петров — автор повестей «Нонкина любовь», «Если нет берегов», «Авария», «Лучший гражданин республики», «Перед тем, как мне родиться», романа «Мертвая зыбь», сборников рассказов «На чужой земле», «Маленькие иллюзии», «Зеленая шапка».
Повесть «Нонкина любовь» вышла тремя изданиями на русском языке, переводилась на другие языки народов СССР.
ЙОРДАН РАДИЧКОВ
Родился в 1929 г. в с. Калиманица Михайловградского округа. Учился сначала в родном селе, затем в Берковице, Сотрудничал в различных газетах, был редактором студии художественных фильмов. Входит в состав редколлегии газеты «Литературен фронт».
Первую книгу — сборник рассказов «Сердце бьется для людей» — издал в 1959 г. Его перу принадлежат также сборники рассказов и повестей «Простые руки», «Опрокинутое небо», «Жаркий полдень», «Горный цветок», «Свирепое настроение», «Водолей», «Козлиная борода», своеобразная книга путевых заметок о Советском Союзе — «Неосвещенные дворы», книги для детей «Пестрый коврик», «Мы воробышки», пьеса «Суматоха».
На русском языке издавался сборник Й. Радичкова «Опрокинутое небо».
БОГОМИЛ РАЙНОВ
Родился в 1919 г. в Софии. Окончил философский факультет Софийского университета. Преподавал эстетику и историю искусств в Художественной академии, работал советником по культуре в посольстве НРБ в Париже. В настоящее время — главный редактор газеты «Литературен фронт» и заместитель председателя Союза болгарских писателей.
Б. Райнов — автор поэтических сборников «Стихи», «Любовный календарь», «Стихи о пятилетке», сборников рассказов «Человек на углу», «Дождливый вечер», повестей «Так умираем только мы», «Дороги в никуда», романов приключенческого жанра «Человек возвращается из прошлого», «Господин Никто», «Нет ничего лучше плохой погоды», «Бразильский роман», пьесы «Амазонка».
ГЕНЧО СТОЕВ
Родился в 1925 г. в г. Харманли. Окончил философский факультет Софийского университета. Участвовал в антифашистской борьбе, работал журналистом; в настоящее время работает в издательстве «Български писател».
Написал ряд рассказов, роман «Скверный день», историческую повесть «Цена золота», получившую высокую оценку болгарской критики.
ДИКО ФУЧЕДЖИЕВ
Родился в 1928 г. в с. Граматиково близ Бургаса. Окончил юридический факультет Софийского университета. Занимается журналистикой. Работал в молодежных организациях РМС и ДСНМ, в Сценарной комиссии киностудии, в издательстве «Народна младеж», избирался секретарем Союза болгарских писателей.
В 1961 г. издал повесть «Волчьи сны».
Д. Фучеджиев выпустил также сборник рассказов «Весенний сок», повесть «Небо Велеки», сборник повестей «Путешествие во гневе».
В 1966 г. в переводе на русский язык вышел сборник повестей Фучеджиева «Небо Велеки».
М. ТАРАСОВА
Примечания
1
Кмет — в старой Болгарии сельский староста. — Здесь и далее примечания переводчиков.
(обратно)2
Сали Яшар — тележный мастер, герой рассказа Й. Йовкова «Песня колес».
(обратно)3
Бо́не Крайненец — герой рассказа болгарского писателя Елина Пелина.
(обратно)4
Поту́ри — штаны из домотканой шерстяной ткани.
(обратно)5
Антери́я — крестьянская верхняя одежда на ватной подкладке.
(обратно)6
Ямурлу́к — бурка из грубого сукна.
(обратно)7
Царву́ли — крестьянская обувь из сыромятной кожи.
(обратно)8
Ба́ница — слоеный пирог с брынзой.
(обратно)9
Каракача́ны — малочисленное племя балканских горцев, пасших овец в горах.
(обратно)10
Бай — почтительное обращение к старшему по возрасту мужчине.
(обратно)11
Пенда́ра — большая золотая монета, служащая украшением.
(обратно)12
Пристану́ша (нар.) — девушка, ушедшая к жениху и вышедшая замуж без согласия родителей.
(обратно)13
«Под игом» — роман классика болгарской литературы И. Вазова. Боримечка — один из персонажей романа, дословно «побори-медведя».
(обратно)14
Имена древнеболгарских царей.
(обратно)15
Че́рга — домотканое шерстяное одеяло.
(обратно)16
Дружбаш — член «дружбы», низовой ячейки Земледельческого народного союза.
(обратно)17
Дика́ня — примитивное приспособление для молотьбы лошадьми или волами: сколоченные доски, усеянные острыми кремнями.
(обратно)18
Имеется в виду сентябрь 1923 года, когда в Болгарии вспыхнуло антифашистское вооруженное восстание.
(обратно)19
Гайдук — повстанец, участник национально-освободительного движения против турецких поработителей.
(обратно)20
Хемус — древнее название Стара-Планины.
(обратно)21
Имеется в виду 9 сентября 1944 года — день освобождения страны от фашизма.
(обратно)22
Гешев — начальник отдела Софийской полиции.
(обратно)23
БОНСС — Болгарский общенародный студенческий союз.
(обратно)24
Легионеры — члены молодежной фашистской организации.
(обратно)25
Райя (дословно: стадо) — христианское население Турецкой империи.
(обратно)26
Спахия — конный воин, награжденный за службу султану землями; турецкий феодал.
(обратно)27
Хаджи(я) — паломник; мусульманин, посетивший Мекку или христианин, побывавший в Иерусалиме.
(обратно)28
Кирджалии — беглые турецкие солдаты и разбойники, которые в конце XVIII века нападали на болгарские села, грабили, убивали, жгли.
(обратно)29
Помак — болгарин-магометанин.
(обратно)30
Махала — квартал, часть села, отдельное поселение.
(обратно)31
Юнак — герой, богатырь, молодец.
(обратно)32
Яхна — помещение, где изготовляют халву.
(обратно)33
Аскер — солдат, войско.
(обратно)34
Вилайет — административно-территориальная единица в Турции.
(обратно)35
Гусла — народный музыкальный смычковый инструмент с одной или двумя струнами.
(обратно)36
Индже-воевода — легендарный защитник народа от турок-кирджалий.
(обратно)37
Онбашия — полицейский начальник в провинциальном городке; десятник, ефрейтор.
(обратно)38
Алтын — золотая монета.
(обратно)39
Темане — приветствие у мусульман — поклон, при котором прикладывают руку ко лбу и губам.
(обратно)40
Сукман — женское платье без рукавов из грубого домотканого сукна.
(обратно)41
Валия — губернатор.
(обратно)42
Кырагасы — начальник полевой стражи.
(обратно)43
Курджия — сторож.
(обратно)44
Самодива — лесная фея.
(обратно)45
Драгоман — переводчик.
(обратно)46
Раковский Георгий (1821—1867) — выдающийся деятель болгарского народно-освободительного движения.
(обратно)47
Дьякон (Васил Левский, 1837—1873) — великий болгарский революционер-демократ, один из крупнейших организаторов народно-освободительной борьбы.
(обратно)48
Легия — организованный Раковским в 1862 году в Белграде добровольческий отряд, который должен был, по мысли Раковского, стать ядром будущей народно-освободительной армии.
(обратно)49
Комитет — тайный революционный комитет; такие комитеты создавались в болгарских селах и городах в 70-е годы для подготовки вооруженного восстания.
(обратно)50
Бенковский Георгий (1841—1876) — выдающийся революционер, один из руководителей Апрельского восстания.
(обратно)51
Апостол — так называли в эпоху национально-освободительного движения в Болгарии пропагандистов-организаторов этого движения.
(обратно)52
Бан — правитель, владетель на Балканах в средние века.
(обратно)53
Минц — старая австрийская золотая монета (нем.).
(обратно)54
Махмудия — турецкая золотая монета времен султана Махмуда II.
(обратно)55
Ханыма — имеется в виду молодая замужняя турчанка.
(обратно)56
Мама, послушайте (франц.).
(обратно)57
Гаджали — турецкий крестьянин.
(обратно)

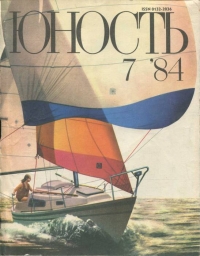



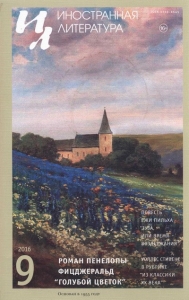

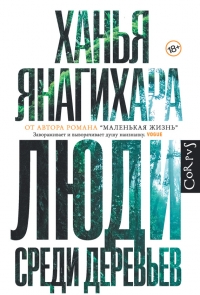
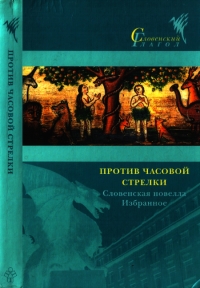
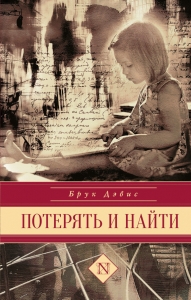

Комментарии к книге «Новеллы и повести. Том 2», Георгий Мишев
Всего 0 комментариев