Жужа Д Очень страшно и немного стыдно
Мистер Дом
Home, Sweet Home.
Мистер Одли проснулся от резкой боли в животе, вскрикнул и сел в кровати. Неприятное ощущение вспыхнуло и ушло, но Одли долго не решался пошевелиться, чтобы оно не вернулось. Сидел неподвижно, потом все же прилег, прислушиваясь к тому, что происходит у него внутри. Мистеру Одли в прошлом апреле исполнилось пятьдесят девять лет, он все еще был вполне интересным мужчиной – крупный, вальяжный, с плотной волной волос, граненым носом и чувственным ртом. Овал лица уже подпортили небольшие брыли, но рост и развернутая грудь, безусловно, говорили о породе.
Он осторожно повернулся со спины на бок, чтобы видеть окно – там, в паутине деревьев, небо протыкали иглы парламентских башен. Еще не рассвело, значит, нет и шести, решил мистер Одли, а завтрак Балтон подаст только в восемь. Хотелось бы еще поспать. Он подтянул одеяло до самого носа, закрыл глаза и постарался думать о чем-то приятном – вспомнил детство и отдых с матерью на Корфу, где несколько лет подряд семья снимала огромную виллу и вся пенинсула была в их полном распоряжении.
Воспоминания о Греции всегда помогали ему успокоиться. Там он был абсолютно счастливым мальчиком. Помнил сад, где к воде сбегали каменные ступени, и рощу припудренных олив в мелких серебристых листьях. Растянутые под ними сетки и редкой красоты лиловые амариллисы, которые распускались в конце лета, а через неделю исчезали, не оставляя после себя даже травы. И, конечно же, звонкое бирюзовое море.
На самом острие мыса, перед домом, где к небу тянулись пинии, на солнце грелись три гладкоствольные пушки. Они вросли в свои постаменты, словно мидии в камни, и маленький Одли играл с ними, представляя себя морским офицером. Стоял с подветренной стороны и кричал, срывая голос:
– Ба-та-рея, шаржируй…
– По команде… без кар-ту-за… за-ря-жай!
– Бань пу-шку!
– По ма-чте фор-вар-да!
– Наво-дить в подошву мачты!
– Один сна-ряд…
– Ого-о-онь!
Приставив ладонь ко лбу, наблюдал, как один за другим уходят ко дну корабли неприятеля, потом нырял в воду, пытаясь спасти затонувшие вражеские сокровища, плавал до дрожи, до синих губ и икоты, а потом, обхватив чугун тонкими руками, грелся на раскаленном пушечном боку..
Семья никогда не покидала территории своей виллы, и только по дороге из порта и обратно Одли успевал разглядеть бедные домики греков с каменными давильнями для оливок, игрушечные беленые церкви и грязные рынки.
Мать он помнил молодой статной женщиной с высокой грудью и пухлыми руками.
Ее запах, улыбка, мягкая манера двигаться – все это осталось с ним, но вот голос ее он забыл, и никак не вспоминалось то ласкательное имя, которым она его называла. Будучи мальчиком нежным, он все хотел обнять ее, или погладить, но боялся, угадывая в этом желании что-то нездоровое, и потому стыдился.
Последним летом в Греции она вдруг превратилась в большую пузатую бабу, и ему сообщили, что скоро у него появится братик или сестричка. Был организован срочный переезд в Лондон, а потом случилось страшное: перед родами его увезли к тетке в Аскот, а по возвращении мать и новорожденную девочку уже похоронили. Вечерами сквозь слезы он слышал, как слуги ругали нерешительного доктора, а толстая горничная Бетти все повторяла: “Он, дурак, все лысину свою чесал, а мы кровь тазами таскали”. Маленькому Одли казалось, что мама и неизвестная девочка захлебнулись в этой откуда-то взявшейся крови.
Сам он детей решил не заводить. Ходил пару раз в женихах, но так ни на что и не решился.
И вот уже много лет после смерти отца жил один в огромном доме по улице Лорд-Норт, недалеко от Вестминстерского аббатства, за церковью Святого Иоанна. Дом принадлежал семье с 1849 года, тогда его приобрел предок по материнской линии, и сейчас имело смысл его продать – слишком дорого выходило обслуживание, но мистер Одли никогда бы на это не пошел, не видел никакого другого места в Лондоне, где все было бы таким родным. Он всей душой любил этот дом, здесь каждая вещь, звук и даже запах были связаны с кем-то из рода Одли или Дрейков. Иногда неделями из него не выходил, перебирал фотографии, старые документы, листал расходные книги или разбирал библиотеку, собранную не одним поколением. Здесь до сих пор невидимо жили все те, что окружали его с раннего детства. Дом заменил ему ушедших родителей. Одли привык к нему так, что волновался, даже если двигали мебель, чтобы почистить ковры или отциклевать полы. Как улитка, живущая в раковине и присоединенная к ней мышцей, он всем телом прирос к этому старому, большому дому.
Думая обо всем этом, Одли почти задремал, как вдруг в нем опять что-то шевельнулось, напомнило о недавней боли. Он открыл глаза и больше спать уже не мог. Осторожно спустился в кухню, попытался приготовить себе горячего шоколада – вчера в “Таймс” он прочитал статью о том, что содержащиеся в шоколаде химические вещества способствуют выработке в организме гормонов счастья и что с его помощью можно поднимать настроение и даже снимать боль. Статья была написана убедительно, пестрела формулами, терминами на латыни, из которых Одли узнал только кофеин.
На звон посуды проснулся Балтон, вышел из своей комнаты с сеткой на голове, хлопая заспанными глазами. И, как ни уговаривал его мистер Одли, опять лечь отказался, а наоборот, накинув халат, поднялся на второй этаж, разжег в библиотеке камин и, вернувшись, принялся хлопотать на кухне сам, бубнил, что все равно уже хотел вставать, и выпроводил Одли наверх.
Несколько дней все шло без каких-либо изменений, но однажды за обедом, когда Одли ткнул ложку в свой любимый рисовый пудинг, сильный рвотный спазм сжал его желудок, содержимое с силой рвануло наверх, хлынуло в горло, и он, зажимая салфеткой рот, едва добежал до гостевого туалета. В раковину выплеснулся весь обед, причем такими крупными кусками, словно у мистера Одли отсутствовали зубы, хотя, как ему казалось, он всегда все тщательно пережевывал. Спазмы повторялись, движение массы вверх по пищеводу вызвало новый приступ, но, выталкивая из себя содержимое, желудок не останавливался, а все скручивался, словно его стискивали железной пятерней. Во рту мистера Одли стало невыносимо горько от желчи. Балтон принес слабосоленой воды, Одли, передергиваясь, пил ее большими глотками, а желудок вновь выталкивал жидкость с остатками еды наружу. Когда, кроме воды, из него уже ничего не выходило, Одли перестал пить, но дойти сумел только до дивана в библиотеке. Балтон помог ему перебраться в спальню, уложил в кровать, принес грелку с горячей водой и позвонил доктору. Желудок мистера Одли долго еще ныл от тех конвульсий, словно был растянут и отбит.
Доктор попросил до конца дня ничего не есть, а весь следующий день пить только рисовый отвар. Если рвоты больше не будет, посидеть с неделю на сдержанной диете, последить за стулом, ежедневно измерять температуру, звонить ему, если что-то пойдет не так, а когда к мистеру Одли вернутся силы, зайти в клинику и сдать анализы.
Из кладовки притащили старые напольные весы для муки – Одли взвесился и обнаружил, что за прошедшие после ежегодного осмотра пять месяцев он потерял девять с половиной фунтов. То-то он замечал, что ремень застегивается на нем на две дырки раньше прежнего, но думал, что это признак хорошего метаболизма и, как следствие, – отличного здоровья.
Все последующие дни мистер Одли спал плохо. Может быть, оттого что мало двигался и часто дремал днем, но ночи превратились в одно сплошное мучение. Он вертелся с боку на бок, то накрывался, то скидывал с себя одеяло и к концу недели понял, что, несмотря на то что желудок больше не болит и во рту нет неприятного вкуса желчи, несмотря на строгую диету – он ел теперь только куриную грудку, белую рыбу на пару, овощи, запеченные в духовом шкафу, и протертые супы, отказался от кофе и сигар, – в целом он нездоров. В нем завелась гадкая неведомая болезнь.
В понедельник Балтон принес от доктора направления, несколько дней пришлось потратить на анализы, а в пятницу мистер Одли уже сидел во врачебном кабинете, сверкая глазами, под которыми появились темные круги от недосыпа. Его знобило от слабости, и он, сдерживая нетерпение, зарывался подбородком в шарф и ждал, когда доктор прочтет чужие каракули и успокоит его.
Наконец доктор закончил, стыдливо поджал нижнюю губу и посмотрел на мистера Одли:
– Паниковать не стоит. Но, судя по всем признакам, у вас тениаринхоз.
– Простите?
– В вашей крови замечены незначительные отклонения от нормы: умеренная лейкопения, неустойчивая эозинофилия… Общая слабость, анемия, – доктор замолчал, чтобы набрать в себя воздуха для окончания фразы. – Все это подтверждает наличие у вас паразитического червя, так называемого гельминта. – Помолчал и добавил: – Извините.
– Что вы сказали?
– Я говорю, что у вас тениаринхоз, возбудителем которого является бычий цепень. Бы-чий це-пень.
Доктор, пряча глаза, полез в стол и начал шарить там руками.
– Объясните мне толком, как это могло случиться? – мистер Одли недовольно сморщился.
– Индивидуум заражается тениаринхозом при употреблении в пищу зараженного мяса, – скороговоркой опять начал доктор, его голос был похож на звук, синтезированный компьютером. – При попадании личинки в пищеварительный тракт паразит выворачивает свой протосколекс и с помощью присосок прикрепляется к слизистой оболочке. Тут же начинается процесс стробиляции, результатом чего становится формирование члеников стробилы.
Мистеру Одли на минуту показалось, что доктор вовсе не человек, а усталая машина с шевелящимися губами.
– Вы можете объяснять понятнее? – мистер Одли нетерпеливо постучал ребром ладони по столу.
Доктор кивнул и сказал нарочито громко, растягивая слова:
– В верх-нем от-деле вашей тон-кой киш-ки па-ра-зитирует гель-минт.
Мистер Одли помолчал, попробовал переварить эту новость, внимательно рассматривая свои руки, сложенные замком.
– И что же делать?
– Лечение тениаринхоза долгое время считалось задачей довольно непростой. Поскольку все применяемые раньше препараты обладали повышенной токсичностью, вызывали нарушение функций различных органов, но теперь, к счастью, появилась новая методика – гельминта можно убить электромагнитным излучением. Сия процедура вызывает непременную гибель паразита и гарантирует совершенную безболезненность и безопасность для больного.
Мистер Одли отвернулся к окну – слова “убить” и “гибель” вызвали у него неприятные чувства. Неужели нельзя было выразиться иначе? Доктор перестал возить руками в столе. Одли повернулся к нему.
– И сколько, вы думаете, это уже продолжается?
– Да судя по всему, уже несколько лет.
– Господи.
– Пожалуйста, не волнуйтесь. Хотя внутри у вас половозрелая особь, но, слава богу, мы не обнаружили подвижность его члеников.
В этой фразе доктора прозвучало здоровое превосходство, и мистер Одли поспешил его перебить.
– Когда вы готовы сделать это электромагнитное… Как это?
– Излучение. Я вас направлю к специалисту.
– А нельзя ли это сделать прямо сейчас?
– Нет. Сейчас нельзя. Для этого нужно в другую клинику. Да и там очередь на аппарат. Но вы можете быть спокойны: никакой особой нужды торопиться нет.
– Как это? Я вас не понимаю. Он же может отложить там яйца или что там они делают.
– Нет, нет. Яйца гельминта не способны развиваться в организме человека. Для роста и образования финны, то есть личинки, необходим промежуточный хозяин – крупный рогатый скот.
– Но это же вредно, в конце концов!
– Уверяю вас, несколько дней ничего не решают. Да, он потребляет какое-то количество пищевых веществ, создавая их дефицит в вашем рационе. Это потребует восстановления. Выделяет кое-какую гадость, но это не смертельно. Отдыхайте побольше, ешьте за двоих, – тут доктор позволил себе даже улыбнуться, – а к концу недели мы его укокошим.
Одли опять неприятно резануло слух это “укокошим”, но он не стал ничего говорить, а просто терпеливо ждал, когда принтер выплюнет распечатанное направление.
– Действительно, не волнуйтесь. Никаким образом ваш гельминт не размножится. Помните: вы являетесь для него конечным хозяином.
По дороге домой Одли все думал про этого Гельминта. Живет один. Уже довольно долго. Потомство не производит. И даже его имя – Гельминт – звучит как Гермит – Hermit, отшельник.
За ужином он чувствовал, что кормит не только себя. От этих мыслей ему становилось не по себе, хотелось плакать, и все крутилась последняя фраза доктора – про конечного хозяина. Одли пытался разгадать, что доктор действительно имел в виду, когда смотрел на него с каким-то едким прищуром и не торопил избавиться от непрошеного гостя. Какой я ему хозяин? Я для него просто дом.
Ночью Одли снилось, что он плывет по безбрежному пространству воды, а в его теле, как в ковчеге у Ноя, копошатся разные твари. Он их единственный спаситель, и для такой важной миссии выбрали именно его, не кого-то другого. Несмотря на то что сон был странным, послевкусие от него осталось в целом приятным, и Одли начал день в хорошем расположении духа. Плотно, с аппетитом поел, переоделся и вышел на прогулку в Сент-Джеймс-парк.
Что плохого в том, что какая-то живая тварь пользуется им? Что он делит хлеб свой насущный с другим божьим созданием? Это и болезнью-то назвать нельзя. А между прочим, может, благодаря Гельминту он не растолстел, как все его сверстники. И если бы не Гельминт, ходить ему грузным и обрюзгшим, перебирать толстыми ногами, натирая их друг о друга, страдать одышкой, храпеть во сне и с трудом шнуровать собственные ботинки. Размышляя таким образом, Одли ощутил, что в нем пробуждается к Гельминту чувство настороженной нежности.
Одли пересек парк, завернул на Джереми-стрит, вошел в книжный магазин, отыскал там книгу про паразитов, живущих в организме человека, открыл ее и стоя прочитал несколько страниц. Внимательно рассмотрел рисунки и фотографии. Решил книгу все же приобрести и через десять минут вышел на улицу довольный, с пакетом в руке. В основном человек страдает от испражнений Гельминта, а во всем остальном присутствие его в теле не так уж и страшно. Летального исхода от этого не предвидится. Подумаешь, небольшое недомогание. А вот Гельминта как раз собираются убить. От этой мысли Одли опять стало не по себе. Он уже поднял руку, останавливая такси, но, когда машина затормозила перед ним, махнул удивленному водителю, чтобы тот ехал дальше, и пошел через парк пешком. Скорее всего, когда Одли сидит, Гельминт там согнут или пережат, ему, скорее всего, куда удобнее, если хозяин выпрямлен и идет пешком.
Как только Одли повернул в сторону парковых ворот, на небе, словно в благодарность, развели занавес туч, и на людей полилась золотая река солнца. День превратился в настоящий, весенний. Тут и там в толпе заулыбались люди, и Одли показалось, что Гельминт осторожно поглаживает его. Он почувствовал что-то щекотно-приятное в животе: в книге было описано что-то подобное, и называлось это “танец гельминта”.
После обеда мистер Одли сел посмотреть фильм и во время весьма банального конца разрыдался, как викторианская девица.
Скоро он сам себе напоминал беременную женщину, много ел, ходил с большой осторожностью, часто ловил себя на том, что поглаживает живот и разговаривает с тем, кто внутри. И когда однажды обронил купюру в пять фунтов, то не решился за нею нагнуться, а просто пошел дальше, а дома заказал специальное приспособление для стариков, чтобы доставать вещи с пола и надевать носки, не нагибаясь.
Теперь мистер Одли жил, постоянно прислушиваясь к своему телу. Его отношение к Гельминту поменялось, а в голову пришла счастливая идея. Он позвонил доктору и напросился к нему на прием.
– А можно ли его удалить из меня, – Одли помялся, – не убивая.
Доктор даже не сразу его понял.
– Что вы имеете в виду?
– Есть ли какие-нибудь методы? Чтобы не излучением, чтобы он – ну, тот, что внутри – остался жить. Чтобы извлечь его из меня живым.
– Ну что вы такое говорите. Подумайте сами. Ну, даже если мы его и вытащим живого, куда мы его денем? А? Он же так и так умрет. Что это за буддизм такой неслыханный?
– Но почему из нас двоих должен умереть именно он?
Эти слова доктору совсем не понравились, и он тут же направил Одли на прием к психиатру.
Психиатр оказался дерганым человеком средних лет с тиком нижнего века и такой же подвижной психикой. На его малюсенькой лысой голове лицо выглядело карандашным наброском, столько там было всяких линий. Кожа вокруг равнодушных глаз заламывалась в глубокие складки, под безвольным подбородком болталось что-то вроде зоба – этакая говорящая рептилия. Он начал с нудного выяснения, почему из предложенных мест мистер Одли выбрал именно это кресло, а не диван и не стул у окна. Одли не понимал, какое это имеет отношение к его проблеме, сделался раздраженным и все остальное слушал уже невнимательно. Во-первых, психиатр не понравился ему внешне, а уж когда тот сослался на использование методов гештальт-терапии, то и вовсе потерял доверие нового пациента: Одли на дух не переносил ничего немецкого. Остаток сеанса он обращался к доктору пренебрежительно – теряя контроль над ситуацией, психиатр краснел, потел, выглядел все более непрезентабельно, и мистер Одли сделал для себя вывод, что больше на прием не пойдет. И это его решение бесповоротно.
Прочитав несколько пацифистских статей, мистер Одли принял решение не торопиться с жестокой процедурой убийства и разрешил Гельминту пожить еще чуть-чуть. Он позвонил доктору и перенес унизительную для себя казнь на неделю, а пока решил побаловать приговоренного и по возможности скрасить его последние деньки. Он стал еще более щепетильно выбирать качество потребляемой еды: ходил в лучшие рестораны, вместо того чтобы сидеть, всегда старался прилечь и завел себе привычку перед сном выпивать чашку теплого молока. Словно Гельминт, живущий у него внутри, был котенком или щенком. Ему казалось, что молоко должны любить все твари без исключения. И, судя по тому, что никаких приступов более не повторялось, а, наоборот, легкие щекотные поглаживания внутри участились, Гельминту все это, несомненно, нравилось.
Эта реакция со стороны проживающего внутри него жильца так растрогала Одли, что, покупая новый домашний халат, вместо своих инициалов он заказал вышить на нем идиому Ноте, Sweet Ноте. Эта шутка позабавила его самого, и, если бы Гельминт мог читать, он бы, несомненно, ее оценил.
Всю последнюю перед процедурой неделю мистер Одли старался не смотреть фильмов с трагическим концом и остерегался таких, где было даже незначительное насилие. Обычно выбирал комедии или мюзиклы. Несколько раз начинал было знакомить Гельминта с изобразительным искусством, но современное оказалось явлением довольно кровожадным, а старина пестрила библейскими сюжетами, – он прекратил и это. Предпочел живописи литературу и, чтобы подопечный все понял, заказал ему подборку лучшей детской классики. Красивые шесть томов в кожаных переплетах встали на каминной полке, и он взял за правило не менее часа читать Гельминту вслух перед сном. Книги для детей удивили мистера Одли ничуть не меньше живописи – они были душераздирающе страшны. Там все пытались друг друга съесть или заколдовать, красивых королевских отпрысков превращали на многие годы в чудищ, рыцари безостановочно дрались, красавицы травили друг друга, колдуньи, пытаясь затащить хоть кого-нибудь в печь, оказывались там сами, звери говорили на человечьих языках и страдали не меньше. Одли понял, что читать все это беззащитному существу, которому до смерти оставалось всего ничего, по крайней мере неприлично.
Нельзя сказать, что нахождение Гельминта внутри мистера Одли совсем не сказывалось на здоровье, – иногда у него кружилась голова, проявлялась общая слабость, аппетит то ненормально повышался, то, наоборот, совершенно отсутствовал, случались рассеянные боли в животе. Постоянно звонил доктор и упрекал его в слабости, хотя это была скорее чувствительность. Вскоре, совсем измаявшись от размышлений, он нашел сговорчивого хирурга и настоял на том, чтобы тот извлек Гельминта, не убивая, так как несчастный совсем не виноват, что его сожрали в младенчестве. Семейный же врач оказался этим страшно недоволен, опять говорил про здравый смысл и про то, что доброе сердце не может нанести зло своему же физическому телу, но убедить Одли не сумел и в конце концов попросил прислать подписанное письмо об отказе от процедуры с применением высокочастотного электромагнитного излучения.
Операцию назначили на утро. Гельминта должны были вырезать с небольшим фрагментом кишки мистера Одли, к которому тот был прикреплен. Извлечение прошло вполне благополучно, и уже на следующий день Одли отправился домой, а вместе с ним больницу покинул и Гельминт в банке со специальным раствором.
Дома удалось рассмотреть его как следует.
Гельминт был похож на мятый портняжный метр. Грязно-кремовый, к хвосту разделенный на квадратные сектора. Ничем особо не примечательный, плоский и вялый – почти жалкий. Одли даже разочаровался – он ожидал увидеть нечто более активное. Но чувство жалости тут же трансформировалось в чувство ответственности. В связи с этим Одли развел вокруг подопечного бурную деятельность – заказал у стеклодува аквариум в виде стеклянного змеевика, повторяющего форму человеческой кишки. Его заполнили раствором, близким по составу той самой жидкости, которая заполняла внутренности Одли, – и даже место сконструировали, куда Гельминт должен был присосаться. Получившийся агрегат, похожий на нечто среднее между музыкальным инструментом и самогонным аппаратом, упаковали в большую подогреваемую емкость и поместили во внушительных размеров кукольный дом, обитый внутри красным бархатом с подсветкой. Разместили сооружение в кабинете мистера Одли, чтобы, распахнув игрушечные стены с колоннами и фронтоном, он мог в любой момент видеть, как там тихо переливается жидкость и чуть заметно колышется Гельминт.
Мистер Одли был очень доволен происходящим. Нанял аспиранта факультета биологии следить за всем этим хозяйством – за качеством раствора, питанием, температурой, – а по вечерам, дождавшись, когда все разойдутся, включал радиоприемник на канале “Радио Классика”, усаживался рядом в кресло и часами наблюдал за своим подопечным.
Прочитав от корки до корки купленную книгу, мистер Одли теперь знал, что Гельминт при правильном уходе может прожить лет двадцать и вырасти в крупную особь.
Однажды, когда аспирант опоздал на двадцать минут, мистер Одли устроил ему выволочку – говорил об этике взаимоотношений, о чувстве вины, которое, по его мнению, должно усугубляться тем, что его подопечный полностью от него зависит. Корил за невежественную забывчивость, называл его неблагодарным и бесчувственным, и, когда наконец аспирант, оправдываясь, вяло пробубнил что-то вроде: нельзя же так, это же в конце концов просто червь, – мистер Одли разразился тирадой.
– Червь? Да что вы такое говорите?! Че-е-ервь. И говорите-то как-то особенно неприятно! Вы же в науке работаете. Ученым себя считаете. Все эти так вами называемые червяки поумнее вас будут. Вот знаете ли вы, что некоторые из них, – он говорил, размахивая руками, – вылупляясь в голове рыбы, выедают ту часть мозга, которая заведует пузырем, и рыба больше не в состоянии опуститься вниз – так и плавает, торчит из воды, ходит кругами, а утонуть не может. И что, спросите вы как никудышный ученый. А то, что так ее быстрее съест птица и в свою очередь распространит с испражнениями ее личинки. И после этого вы мне говорите, что они ничего не понимают. Да бросьте, ей-богу. Если вы считаете эти действия бессмысленными, то тогда мы с вами от этих самых, как вы же сами выражаетесь, червей недалеко отошли. Что мы сами делаем такого отличимого от действий так называемого червя, кроме того, что пытаемся выдавить собственную сперму в любую самку, которую нам удастся уломать?
Мистер Одли так надулся и покраснел во время этого монолога, что до смерти напугал Балтона, который поднялся к нему с приглашением на ланч. Аспирант стал молчаливее и точнее – похоже, он понял, что от него хотят, или же просто боялся мистера Одли. Но было неважно, отчего он переменился, главное, что теперь он выполняет свои обязанности качественно, и то, что аспирант иногда так странно смотрит, так это его личное дело. Мистеру Одли абсолютно наплевать, о чем думает про себя этот студент или кто он там еще, – главное, чтобы Гельминту было хорошо и сохранно.
И только все нормализовалось, вылилось в заведенные правила, как однажды, вернувшись с прогулки чуть раньше обычного, Одли застал аспиранта и Балтона у входа в свой кабинет – они выразительно шептались и замолчали, как только он появился. Одли тогда ничего не сказал, не подал виду, но определенные подозрения у него возникли. Что это за тайные переговоры? Что за секреты за его спиной? Может быть, это заговор против него? Но зачем? И только позже он понял, что заговор этот мог быть совсем не против него, а против Гельминта. Конечно, Балтон ревнует Одли к новому компаньону, и, конечно же, в его интересах сделать все, чтобы Гельминт исчез. А аспирант легко может ему в этом помочь. И сделать это необычайно просто – либо отключить обогрев, либо не заменить вовремя раствор или устроить какую другую каверзу, да так, что никто никогда не разберется.
Мистер Одли вызвал аспиранта в библиотеку на разговор и прозрачно намекнул, чтобы тот не думал, что все сойдет ему с рук. Ведь если что-нибудь случится с Гельминтом – отвечать он будет своею собственной головой.
На это аспирант кивнул, снял халат, сказал, что он больше работать не намерен, повернулся и вышел вон из комнаты. Мистер Одли даже растерялся. Он считал, что то, чем они занимались, необходимо им всем и такое пренебрежительное отношение к делу непозволительно. Но вскоре расстройство сменилось уверенностью, что, значит, человек был не настолько предан делу, то есть недостаточно надежен, и нечего о нем жалеть. Он тут же позвонил в университет королевы Мэри, и скоро аспиранта заменил человек со стажем. Новый биолог был вдвое старше, имел изувеченное кислотой лицо – но Одли навел справки и узнал, что эта порча никаким образом не связана с его неопытностью или неаккуратностью. Это произошло много лет назад по нелепой случайности. Одна из работниц заподозрила своего любовника в измене, украла со склада серную кислоту, вошла, опьяненная местью, в мужскую туалетную комнату, окликнула неверного – и плеснула ему кислотой в лицо. Но вендетты не вышло – облитым оказался совсем другой человек. Любовник остался цел и невредим, а биолог, и без того не пользующийся успехом у женщин, стал объектом для них совершенно непривлекательным. Половина его лица была словно вымазана овсянкой. А еще у него была идиотская привычка тонко сипеть оперные арии, но под строгим взглядом мистера Одли биолог научился быстро замолкать и только недовольно цокал языком, когда из него рвался очередной шедевр. В остальном это был человек степенный и в высшей степени надежный.
Несколько недель пролетели тихо и спокойно, пока однажды не произошло следующее. После ланча мистер Одли листал у камина журнал Лондонской библиотеки, когда из кабинета раздалось нытье биолога, отдаленно напоминающее романс Неморино из “Любовного напитка”. Одли любил эту наспех написанную оперу. Он отложил чтение и подумал о том, что давно уже не был в театре и стоит туда, пожалуй, сходить.
Однажды, кажется на “Травиате”, через проход от него сидел человек, по всей видимости, слепой, с собакой-поводырем. То есть человек сидел в кресле, а собака – у самых его ног. Очень тихо сидела. А потом воспитанно прилегла, положив голову на вытянутые вперед лапы. И почему бы Одли не посетить какую-нибудь премьеру с Гельминтом? Конечно, нужно будет заказать для этого походный аквариум, и это встанет в круглую сумму, но наслаждение, которое ждет их обоих, несомненно, окупит все затраты. Размышляя таким образом, мистер Одли решил уже было позвонить стеклодуву, но никак не мог вспомнить номера, так что Одли сморил послеобеденный сон, который прервался через час – осторожным стуком в дверь. Сначала он не понял, что стук настоящий, – так органично тот вплелся в сновидение, что Одли какое-то время действительно казалось, будто судья в зеленой мантии и лиловом парике стучит молоточком по кафедре, – и только когда стук повторился в третий раз, мистер Одли проснулся.
Стучал биолог, потом долго извинялся и сообщил, что с Гельминтом не все в порядке: он вял, не реагирует на тепло, и биолог серьезно опасается за его здоровье. Мистер Одли вскочил с кресла и, забыв про домашние туфли, босиком побежал к кукольному дому. Гельминт действительно показался ему каким-то безжизненно-серым, но, может быть, ему это просто показалось? Иногда, когда аспирант менял лампы в подсветке, тело Гельминта изменяло свой оригинальный цвет.
– Что же делать? – в отчаянии закричал мистер Одли и впервые посмотрел на биолога снизу вверх. – Может, позвонить ветеринару?
– Кому? – глаза биолога сверкнули недоверием. – Какому ветеринару? Они за это не возьмутся.
Мистер Одли торопливо закивал – он уже и сам понял, что сказал глупость, и ему было неприятно выглядеть перед биологом таким безнадежным дилетантом.
– Но вы же можете предположить, в чем именно проблема? То есть назвать мне причину его недомогания? Вас же учили. Вы же должны знать!
– Невозможно воспроизвести среду, – начал биолог и так безнадежно развел руками, что мистер Одли застонал, схватившись за голову.
На крик в комнату вошел Балтон со стаканом на подносе, а в воздухе разлился запах валерьянки. Залпом проглотив лекарство, Одли подумал, что Балтон как-то уж слишком быстро среагировал на его крики. Может быть, они сговорились. Конечно, он не видел, как они это сделали, но кто знает.
Биолог тронул пальцем стекло.
– Видите, он уже не так крепко присосан, а это верный знак того, что ему не по себе.
Одли надел очки и внимательно уставился на Гельминта. Он не очень-то понял, что именно изменилось: тот все так же болтался за стеклом вялой макарониной, но биолог – специалист и должен знать лучше. Раз говорит, что Гельминту плохо, – значит, плохо. И ведь ни “скорую” не вызвать, ни врачей. Боже ты мой! И все это оттого, что Одли вынул его из себя, поступил как самый настоящий эгоист и теперь только и может, что стоять здесь дурак дураком и наблюдать, как несчастный погибает. Погибает незаслуженно, мучительно – у него на глазах. Что же делать?
– Господи, что делать? – прорычал он, на что биолог только пожал плечами.
Тогда мистер Одли подбежал к камину, вцепился в полку из черного с прожилками мрамора и в отчаянии затряс ее, будто захотел выдернуть. Пальцы его превратились в белые клешни, а лицо покраснело. Вид его был страшен: глазные яблоки в паутине капилляров вращались, нижняя губа некрасиво оттопырилась, открывая неровный ряд нижних зубов, на висках вспухли вены. Казалось, в него ударило молнией – он дрожал от блуждающего по телу электричества и выл гортанным звуком. Биолог, наблюдая за ним с нескрываемым ужасом, отошел подальше, а Балтон, наоборот, подался вперед, держа поднос с пустым стаканом и домашние туфли с монограммой “СО”. Но Одли и не думал обуваться.
– Я знаю! Знаю, знаю! – наконец прохрипел он, оторвался от камина, плотоядно улыбнулся и поднял вверх указательный палец. – Я должен его спасти! Я должен его проглотить! Вот и все.
– Что? – у Балтона по подносу пополз стакан, сорвался вниз и бесшумно упал на ковер, потом туда же приземлился и поднос – со звоном разбившегося стакана.
Балтон и биолог переглянулись, Одли заметил их взгляды, и ему тут же стало ясно, что они в заговоре и Гельминта нужно спасать, а значит, срочно привести в исполнение только что придуманный план. Дрожащими руками он прикрыл двери кукольного дома.
– Уходите! Быстро уходите отсюда! – Одли махнул рукой на дверь.
Биолог кивнул и вышел. По тому, как он побледнел, Одли понял, что выкрикнул это слишком громко. Балтон нагнулся, чтобы собрать осколки, но Одли не стал ждать, когда он закончит, заподозрив в этом стратегическую хитрость, схватил Балтона одной рукой за шиворот, другой – за пояс брюк, грубо вышвырнул из комнаты и закрыл дверь, а ключ в замке повернул на несколько оборотов. Биолог, скорее всего, сразу ушел, а Балтон продолжал стучаться и повторять что-то тревожным голосом. Но что он говорил, Одли не слышал, а метался по комнате от окна к окну, закрывая тяжелые ставни. Ему казалось, что сейчас самое главное – забаррикадироваться. Тогда ему никто не помешает исполнить задуманное. Он должен это сделать, и тогда все вернется на круги своя, наступит спокойствие, жизнь снова потечет гладко, как и прежде. Тогда будут не нужны все эти аспиранты и биологи – а все, что будет нужно, это только заботиться о себе, вернее, о них двоих, потому что они опять будут одним целым и никто не посмеет их разлучить.
Он увидел свое отражение в зеркале: волосы в беспорядке, желчная улыбка на губах, взгляд безумный, недобрый – ну и что? Какое дело ему до того, что там у него снаружи, ведь главное сейчас – что у него внутри. А внутри у него – комфортабельный дом. И все, что остается сделать, – это вернуть туда жильца.
Одли распахнул стены кукольного дома, и тут в дверь забарабанили куда сильнее, чем это делал Балтон. Раздались голоса, слышно было, как они задавали вопросы, потом начали кричать – но это все было уже неважно, за дверью таилась опасность, и нужно просто все очень быстро проделать. Он подкатил библиотечную лестницу, взобрался на нее, Руки от волнения слушались плохо, и Одли никак не мог дотянуться до аквариумной крышки. В дверь начали колотить тяжелым. Наконец крышка поддалась, и Одли опустил в раствор руку, но, сужаясь, стеклянная емкость не давала продвинуться глубже. Одли старался так и эдак. Одновременно от очередного удара дверь не выдержала и распахнулась. В кабинет вбежали какие-то люди. Один из них, скаля желтые зубы, подскочил к Одли. Тот начал отбиваться ногами. Он все еще пытался дотянуться до Гельминта рукой. Ему удалось немного продержаться и как следует лягнуть желтозубого, но тот, падая, с силой толкнул лестницу. Завиток перил ударил в змеевик и разбил его на миллионы мелких осколков. Жидкость хлынула на пол. Мистер Одли, потеряв равновесие, рухнул на обломки стекла, его схватили, а он продолжал брыкаться и реветь. Желтозубый всадил в шею Одли шприц, и в глазах у него потемнело.
В приемном покое цикадой трещит неоновая лампа. Мистер Одли сидит на стуле, опершись локтем на шаткий стол, и недовольно озирается. Вид у него совсем неважный: порезана щека, шейный платок съехал набок, и без того тонкий нос еще заострился. Он то и дело облизывает потрескавшиеся губы. Глаза его бегают так, словно он не может вспомнить что-то очень важное.
В комнату входит молодой доктор с большой головой на хрупкой шее, кивает Одли, усаживается за стол, вынимает из папки длинный формуляр, долго не может расписать ручку, трясет ею перед носом, потом неожиданным басом говорит:
– Назовите мне ваше имя, ваше полное имя.
Мистер Одли все еще продолжает оглядываться по сторонам, словно ничего не слышал. Доктор терпеливо ждет, но вопроса не повторяет. Наконец Одли понял, он внимательно смотрит доктору в глаза.
– Мое имя – Дом. – Он чуть медлит, словно боится ошибиться, но тут же повторяет уверенно. – Мистер Дом.
Примите наши искренние извинения
Какой неприятный писк. Что это? Нудный, гадкий. Как звук сверла у дантиста, свистит микроскопическая дрель, вкручивает жало в мозг. В самую его сердцевину. С трудом открываю глаза. Звук ползет из-под ног, стучит мелкой дрожью. Тяну на себя простыню.
Так. Это рация. Который час? Семь. Уже семь! Проспала. Ужас. Второй раз за неделю. Так дело не пойдет. Что со мной? Система дала сбой. Так. Успокойся. Ничего страшного. Если потороплюсь – успею.
Босые ноги липнут к плитке в ванной. Почему здесь такой холод? Так, теперь оксидон. Пора заказать еще. Маленькая розовая таблетка выскальзывает из рук. Черт! Прекрати, наконец, так трястись. Вот она, на коврике. Здесь некуда закатиться. Нужно было растолочь ее вчера – сейчас в спешке так неудобно. Не торопись. Помельче. Где обрезок соломинки? Так. Здесь. Не торопись, еще есть несколько минут. Какая милая розовая дорожка. Одной ноздрей, другой. Немного дрожат руки, но это пройдет. Тошнит – это нормально. Так. Зубы. Почистить зубы. Вот щетка и крошечный тюбик пасты. Не торопись. Успеешь, а нет – придумаешь что-нибудь. Быстро в душ. Струя бьет холодом в ладони, но быстро теплеет. Ненавижу утром холод. Не могу его терпеть. Совсем. Вытираюсь. Крем, где этот чертов крем? Все в порядке. Не нервничай. Сейчас подействует таблетка. Немного трясутся руки, но это пройдет. Тошнит – так и должно быть. Дезодорант. Проспала. Ужас. Почему не сработал будильник? Так. Причесаться. Крем-пудра. Убрать круги под глазами. Румяна. Есть. Хорошо бы иметь тушь. Так, докрашусь в офисе. Быстрее. Все свое в сумку. Поправить постель. Чтобы все на месте. Быстрее. Уже десять минут восьмого. Главное – ничего не забыть. Какое же бледное лицо. Просто как лепнина на потолке. Одевайся быстро, но не суетись. Завтра нужно сдать костюм в чистку. Так. Цепочку с ключом – на шею. Вроде все. Застегнуть сумку. Очки. Так. Зеркало. В очках – почти нормально. Выпиваю залпом бутылку воды. Хватаю сумку и выхожу в коридор.
К лифтам лучше не идти – безопаснее спуститься по пожарной лестнице. Так больше шансов никого не встретить. Сильно кружится голова, срочно нужно поесть, но сначала занести сумку и накрасить глаза.
В кладовке пора навести порядок. Кто свалил сюда ящики с рекламными листовками? Так. Где у нас забытое? В столе. Тюбики, коробочки, склянки. Есть и тушь. Отлично! Еще беру карандаш для век, на всякий случай.
Новенькая на ресепшен меня не видит, стоит спиной, раскладывает почту. Сегодня она особенно старается – вчера утром я застала ее спящей на рабочем месте, в то время как напротив стоял клиент и ждал, когда она проснется. Высокий брюнет в кашемировом пальто, со свежей стрижкой молча ждал, опустив руки, не делая ничего, чтобы ее разбудить. На мои шаги обернулся, оглядел меня с ног до головы зелеными глазами и прижал к губам палец. Тогда я ушла к себе и набрала ресепшен, новенькая ответила хриплым голосом.
– Доброе утро, чем могу вам помочь?
Я положила трубку, пусть думает, что ошиблись номером, – главное, что проснулась. Но вечером пришлось с ней поговорить – понимаю, это конец дня, вас сменят через полчаса, но спать на рабочем месте непростительно.
Поэтому сегодня старается. Проскакиваю в кабинет никем не замеченной. Так. К зеркалу. Здесь при дневном свете тушь оказывается темно-синей. Ну, это и неважно. Мигает кнопка автоответчика. Что-то уже произошло. Кто-то меня разыскивал.
И что с мобильным телефоном? Почему не сработал будильник? Так. Он разрядился. Непростительная оплошность. Хорошо, что со мной была рация. Это не должно повториться. Как же меня тошнит. Нужно выпить еще воды. И быстро пойти поесть. Но сначала проверить, кто меня искал. Видимо, что-то произошло. Без сомнений. Значит, утро начнется с моей обычной фразы. Ее я повторяю тысячу раз в день. Если меня разбудить среди ночи, я скажу именно ее: “Примите наши искренние извинения”.
Номер четыреста двадцатый, мужчина в мятом пиджаке сидит, вжавшись в угол дивана, так что ноги едва касаются пола. Он беспокойно одергивает рукава рубашки волосатыми, дрожащими пальцами. Для начала его нужно расслабить. Я улыбаюсь, без вызова – улыбкой матери, поддерживающей детей во время испытания или соревнования, улыбкой, которая не означает ни превосходства, ни подобострастия, а, скорее, дружескую заинтересованность старшего по возрасту человека. Предлагаю рассказать все с самого начала. Мол, что могло случиться с ним здесь, в нашем замечательном отеле, где обычно безопасно и комфортно. У него дефект речи, его трудно понять. Он начинает разговор на повышенных тонах, все время сбиваясь на свою высокую должность в компании, что означает только одно: он возглавляет небольшой отдел, состоящий из нескольких человек, и даже эта позиция досталась ему нелегко. Он громко ругается, коверкая слова, так и не переходя к сути дела. Я терпеливо слушаю со всей доброжелательностью, на которую способна в такую рань, но он не успокаивается, под подбородком у него надувается зоб, а под ним вверх и вниз ходит кадык.
– Не волнуйтесь и объясните, пожалуйста, что же у вас произошло.
– У меня плопала сенная вессь, – шепелявит он, звуки сплетаются в один длинный шелест.
– Так.
– У меня уклали субы.
– Что? Извините.
– Субы. Мои субы. Я осавил их, – он вертит головой, но никак не может припомнить, где он их действительно оставил.
– Может, они в ванной?
– Посему в ванной? Нес. Я осавил их гсе-со сесь. Сумаю, на сумбоске. Са, сосно, сесь, на пликловасной сумбоске, а сегосня их сесь нес.
На тумбочке действительно ничего нет, кроме телефона и записной книжки.
– А вы искали где-нибудь еще?
– Са, искал. Но их в комнасе нес. Сумаю, они их саблали.
– Извините, кто они?
– Ну, эси, васы.
– Извините?
– Лабосаюсие в оселе.
– Я уверена, что просто нужно внимательнее поискать. Если вы разрешите, я сейчас вызову горничную, и она постарается вам помочь.
– Не ухосисе, я хосу, собы вы лисьно за всем плослесили.
– Если вас это успокоит, я ей помогу.
Я вызываю самую хорошенькую горничную утренней смены. Когда она наконец приходит, мужчина все еще ворчит, но уже мягче, и я жалею, что у персонала недостаточно короткие форменные платья.
– Пожалуйста, постарайтесь найти в комнате зубы этого господина.
Горничная на минуту застывает, оценивая фразу, но, что удивлена, виду не подает. Молодец – нужно это запомнить и обязательно позже похвалить.
Мужчина встает, стягивает с себя пиджак, поворачивается к нам спиной, вешает его на спинку стула, и я, пользуясь моментом, стучу пальцем по своим зубам, а потом делаю движение рукой, будто вынимаю челюсть и кладу в сторону, помогая горничной понять, что происходит. Она кивает и принимается за поиски. Начинаю ей помогать.
– Я все же проверю в ванной на всякий случай, иногда память нас подводит.
В ванной все перевернуто вверх дном. Полотенца свалены на пол мокрой кучей. Что, интересно, он здесь делал? Перетряхиваю их по одному, с них течет вода, но ничего не выпадает, складываю в пакет для грязного белья. Тщательно осматриваю пол, столешницу вокруг раковины, там почему-то рассыпан молотый кофе, убираю фен в шкаф, заглядываю во все шкафчики, проверяю в коробке с салфетками. Мусорная корзина, слава тебе господи, пуста. В слив раковины зубы не проскочили бы, там есть сетка. Проверяю на всякий случай и под весами. Пусто. Скорее всего, зубы выпали в унитаз. Выхожу и выключаю за собой свет.
Теперь мужчина в кресле, а горничная, стоя на четвереньках, шарит под кроватью. Ему явно приятно на это смотреть. Если бы не его дикция, я бы подумала, что и зубов никаких не было. Проверяю чашки, блюдца, заглядываю в чайник и в ведерко со льдом. Горничная разбирает кровать. На подоконнике за двойными шторами тоже ничего нет.
– Скажите, а когда в последний раз вы их видели?
Горничная отворачивается, сдерживая смех.
– Всела после усина.
– А где вы ужинали?
– Сесь.
– Вы заказывали еду в номер?
– Ну конесно. Сколее всего, именно тогса и уклали. Korea пливолокли ссол, тогса, навелное, и плихвасили их с собой.
– Я уверена, что их никто не украл, и мы непременно их найдем, и, пожалуйста, если вас это не затруднит, не могли бы вы проверить ваш чемодан. На всякий случай, мало ли что.
– Босе мой, – он поднимается, выжимая из себя стон.
– Я опрошу всех горничных. Всех, кто входил в вашу комнату, и дам вам знать.
Он безнадежно кивнул, и я увожу за собой горничную. За дверью прикладываю палец к губам, чтобы девушка не рассмеялась, и та бежит вниз по лестнице, зажав рукой рот.
На кухне аромат корицы перебивает резкий запах мыла. Почему они моют полы утром, а не вечером? Тогда бы эта химия уже выветрилась, и было бы куда приятнее. Но это не мое дело: кухня – чужая территория. Оттуда, улыбаясь, выходит шеф-повар в белой куртке и колпаке. У него нет правого резца – и кажется, что он болен. Я не люблю, когда что-то не так с зубами. Хорошо, что он никогда не покидает кухни и его не видят постояльцы. За ним появляется менеджер, останавливается в проеме двери. Ресторанная кухня – как внутренности механического кита: ребра, кишки, сухожилия. Я не люблю кухни. Мне почти всегда неприятно думать о еде. От этого меня еще больше тошнит. От запахов. Хочется скорее уйти, потому говорю скороговоркой.
– Кто вчера увозил посуду из сто семнадцатой?
– Новенький.
– Пригласите его, пожалуйста, ко мне.
– Вы уже завтракали?
– Нет.
– Давайте мы вас покормим?
– Нет, спасибо.
Шеф строит гримасу незаслуженной обиды.
– Ну хорошо, хорошо. Просто у нас, как всегда, аврал, но мне будет приятно, если мне принесут кофе в кабинет. Хорошо?
– Может быть, круассанов?
– Нет, спасибо, я скоро спущусь к вам поесть.
– Вы еще похудели.
– Ну, если хотите, занесите и круассанов.
Бегу к себе. Мне нельзя опоздать – иначе я пропущу посыльного. На бегу набираю горничным:
– Проверьте, кто пылесосил в сто семнадцатом и каким пылесосом, перетряхните фильтр и свяжитесь с вечерней горничной. Там, в номере, пустые мусорные корзины – мне нужна информация, кто и когда выносил мусор.
В кабинете, на столе, пачка конвертов, стянутая резинкой, – принесли почту. За окном пролетает птица. Ветки метут блеклое небо. Опять весна. Самое гадкое время года. Цвет небытия не черный, он темно-коричневый, как эти влажные комья. Не люблю свежевскопанную землю – всем рано или поздно придется туда лечь. А многие уже там.
Я вскрикиваю, у меня это происходит само-собой, когда страшно.
Тут же раздается осторожный стук.
– Да!
В кабинет сначала просовывается голова, потом руки с подносом, а за ними и весь юноша – крутолобый и серьезный.
– У вас все в порядке?
Видимо, он слышал крик. Неправильно. И это не посыльный.
– Да, да, в порядке, – у меня колотится сердце. – Я просто ударилась. Об угол стола.
Он ставит передо мной поднос – на нем кофе и корзинка с круассанами.
– Меня просили к вам зайти по поводу какой-то пропажи.
– Да, да. Это вы вчера доставили ужин в сто семнадцатый?
– Я.
– А кто забрал стол с посудой?
– Тоже я.
– Не видели ли вы там среди мусора, например, зубов?
Парень морщит лоб, думает, что его проверяют, что это своеобразный тест. Молчит, явно не знает, как ответить. В этот момент в дверь опять стучат. Входит посыльный в мотоциклетном костюме и шлеме. Наконец-то. Стоит у стены и ждет, когда я закончу дела с юношей из кухни. Точно муляж или манекен. Интересно, как он выглядит под всей этой шелухой? Все пять лет это один и тот же человек или разные? Кажется, что один и тот же.
– Дело в том, – я тороплюсь объяснить мальчику с кухни, – у нашего клиента из сто семнадцатого номера пропали зубы. То есть зубные протезы.
Есть вероятность, что он оставил их на столе, на котором ему привозили ужин. Найдите мусор и переберите его.
Запищала рация.
– Не волнуйтесь, просто будьте внимательны.
Парень меня не слушает, он постоянно косится на мотоциклиста.
– От этого зависит репутация нашего отеля. Вы свободны. И возьмите с собой круассаны, поешьте.
Крутолобый кивает, хватает корзинку и исчезает, словно его здесь и не было. Голоса из рации почти не слышно из-за помех и свиста. Что говорят – непонятно, похоже, с ресепшен.
Как только за крутолобым закрывается дверь, мотоциклист молча снимает с шеи цепочку с ключом и передает мне вместе с металлической коробкой для школьных завтраков. Коробка закрыта на замок. Я снимаю с себя свой ключ и отдаю в обмен на коробку мотоциклиста, на которой Бэтмен скрестил руки на мускулистой груди и расставил ноги. Достаю похожую коробку с глупой фотографией красной розы, смотрю в полированное стекло шлема, вижу там себя, часть офиса с окном и даже розу. Мотоциклист бросает коробку в наплечную сумку и выходит. Я прячу Бэтмена в сумку с эмблемой ВВС США. Я купила эту сумку по интернету – пять лет назад, когда мотоциклист приехал ко мне в первый раз. Это очень удобная сумка, легкая, прочная и легко моется.
Иду к ресепшен. Там спокойно. Новенькая дежурная озабоченно крутит в руках тяжелый степлер.
– Все в порядке? – вижу, что она волнуется.
– Да. То есть нет.
Она шепчет мне на ухо, ей, видимо, так легче.
– Пришли двое. Попросили показать комнату. Когда я им дала ключи от сто второго, они сказали, что посмотрят сами. И чтобы им не мешали. Сказали, что хотят использовать нашу гостиницу для своей свадьбы. И им нужно осмотреть номер. Чтобы рекомендовать гостям. И мы бы, говорят, здесь устроились на свой медовый месяц. И так еще на меня посмотрели, – она сводит брови и широко открывает глаза. – Мне сразу как-то неудобно сделалось. Нам же постоянно, на всех тренингах, и вы, – она запинается, – желание клиента – закон. Тем более в нашей гостинице. Где останавливаются люди рекс-сеп-табельные, – она проговаривает слово “респектабельные” по частям и все равно путается. – Ну, я дала. Мужчина так уверенно спрашивал, – она какое-то время молчит. Кусает верхнюю губу.
– И?
– И с ним была женщина. И они там уже минут, наверное, сорок пять или около того. А теперь позвонили из сто третьего и говорят, что за стеной шумят. То есть там стучит об стену кровать. Мне не следовало давать им ключи. Теперь понятно для чего.
– Не волнуйтесь, вы сделали все верно. Иногда такое случается.
– Что? Теперь туда идти? – Она всхлипывает, у нее трясутся руки.
– Нет. Просто, когда они вернут вам ключи, распорядитесь поменять там белье, сменить полотенца и помыть посуду.
– А вдруг они не вернут?
– Вернут. И еще. Предупредите горничных посмотреть внимательно везде – не оставили ли они чего после себя. И не волнуйтесь, звоните мне, если вам понадобится помощь.
Она постукивает ручкой по зубам. Я вспомнила, как сложно было приучиться самой этого не делать. В детстве у меня была такая же привычка. Нынче у меня совсем другие привычки. Нужно будет как-нибудь деликатно ей об этом сказать. Но не сейчас – сейчас она и так слишком нервничает из-за этого сто второго.
Юбка болтается на талии. Нужно пойти поесть. И сделать это именно сейчас – пока в ресторане еще пусто, не так пахнет едой и не слышно, как ножи скрипят по тарелкам.
Официант приносит мне картофельное пюре и зелень.
– Жаль, что вы не едите мяса. Сегодня у нас необыкновенная баранина – просто тает во рту. С луковым муссом, маринованными грецкими орехами и перепелиными яйцами.
– Действительно жаль, что я не ем мяса, – звучит это все крайне аппетитно. Надеюсь, среди наших клиентов желающих будет предостаточно.
Официант кивает, желает мне приятного аппетита и спешит обратно на кухню. Нужно похвалить шефа за интересное меню, но напомнить, что дорогие блюда совсем не предназначены для сотрудников отеля. Без исключений.
Ковыряю картошку. Нужно, нужно, нужно есть. Удивительно, что никто не звонит. Удалось съесть одну треть. Больше не получается.
Возвращаюсь к себе, проверяю списки необходимых закупок на следующую неделю.
Минут через двадцать звонит дежурная:
– Извините. С вами хочет поговорить клиент из четыреста второй – мне он отказался рассказать, в чем дело.
– Хорошо, переведите звонок. – Я здороваюсь, а сама в этот момент проверяю, кто обитает в четыреста втором. Номер зарезервирован на четыре дня, до вечера пятницы, – то есть, скорее всего, бизнес. Резервировала компания. Номер – один из наших лучших, значит, позиция высокая. И имя красивое – Фрэнсис Финли.
– Произошла кража.
Голос приятный. Господи, да что это такое сегодня. Опять кража. Надеюсь, что не зубы. И не другие части тела.
– Пожалуйста, не волнуйтесь. Сейчас я к вам поднимусь.
Пока шла – узнала, кто у него убирал. Если бы нелегалы – волновалась бы, могут сбежать, прихватив что-нибудь дорогое, но тут все чисто, горничные обе у нас давно, к ним претензий никогда не было. Стучу в дверь. Гостиная просторная, на стене – офорты Пиранези. Лампы с черными абажурами на консолях, темный гранит, ваза с фруктами. Один из лучших номеров. Двойные двери открыты в просторную спальню. Там тоже полный порядок.
Мужчина сидит на диване. В строгом костюме, галстуке, ботинки из ателье Джона Лобба. Зелеными глазами смотрит. А, это тот самый, который вчера не дал мне разбудить новенькую на ресепшен. Какой он красивый. Волнуюсь. Всячески стараюсь не подать виду. Какое все же правильное у него лицо. Но сегодня он не улыбается. Предлагает присесть. Сажусь в кресло, на самый краешек. Между нами кофейный стол.
– Здравствуйте, меня зовут Фрэнсис Финли. Произошел невероятный инцидент, – он складывает руки с длинными пальцами лодочкой.
Я слушаю, стараюсь не отвлекаться ни на пальцы, ни на глаза.
– Прошедшей ночью здесь, – он показывает на ровную стену без каких-либо признаков дверных проемов, – открылась дверь, тихо вошел ваш ночной портье, подошел к моей кровати, взял все мои таблетки и удалился.
Я выдерживаю паузу, надеюсь, что он рассмеется, но мистер Финли серьезно смотрит мне в глаза.
Ну пожалуйста, сейчас ты должен рассмеяться. И все закончится хорошо. Ты можешь даже пригласить меня на кофе. И я, пожалуй, пойду, только не будь таким серьезным. И больше не показывай на сплошную стену, где ночью появилась и исчезла дверь.
– Тот самый, который работает у вас по ночам.
У нас по ночам действительно стоит огромный парень. Как только случилось несколько ограблений гостиниц, по ночам теперь работают только мужчины.
– Вошел через дверь и украл, – он опять показывает на стену.
Я внимательно смотрю на него. Тяну время. Надеюсь на розыгрыш. Но он остается совершенно серьезным.
– Примите наши искренние извинения. Я вернусь через три минуты. Хорошо? – Обстоятельства с кражей требуют присутствия двух свидетелей, главное, чтобы не заметил, что я испугалась. – Подождите здесь, и я сейчас же вернусь.
Осторожно поднимаюсь с кресла. Представляю, как он не дает мне уйти. Как объясняет, что ему нужен был всего лишь повод меня увидеть. Как он не спал всю эту ночь, потому что вчера… Так, стоп. Вот она до чего доводит, эта проклятая весна. Он не двигается с места.
Возвращаюсь с двумя мужиками – с дневным администратором и вторым портье. Зеленоглазый сидит там, где я его оставила, – по крайней мере, не буйный.
– Я не хочу скандала. Я просто хочу, чтобы мне вернули мои таблетки. Я знаю, у вашей гостиницы хорошая репутация. Пусть он просто мне их вернет – и я готов это дело замять.
Опять пищит рация, и я стараюсь говорить очень быстро:
– Прошу вас повторить свидетелям суть дела. А я выясню, где сейчас находится ночной портье.
Выхожу в коридор. Заворачиваю за угол и наконец отвечаю на писк рации. На ресепшен скандал. Там травма. Бегу туда. Но по дороге прошу найти все контактные телефоны зеленоглазого и перезвонить мне. Добегаю до холла, крики слышны даже там.
Несколько человек ждут заселения, женщина в халате кричит и держится за голову. Нужно как можно быстрее увести ее отсюда.
– Что случилось? – Я подхожу к ней очень близко и сразу же иду в сторону ее комнаты, ей невольно приходится идти со мной, чтобы рассказать о том, что произошло. Делаю знак горничной, чтобы шла за нами.
В комнате женщина, все еще перебирая пальцами затылок, грузно падает в кресло, я плотно закрываю дверь в коридор и усаживаюсь перед ней. Горничная вытряхивает из ведерка лед в белую льняную салфетку, ловко ее сворачивает и подает женщине.
Та прикладывает ее ко лбу. Горничная уходит за новой порцией льда. Опять та же. Молодец. Абсолютно правильно себя ведет. Нужно запомнить и уговорить шефа поднять ей зарплату. Важно, что она не паникует и не волнуется. Итак, сначала идет наша обычная фраза:
– В первую очередь примите наши искренние извинения.
– Да уж. Устроили здесь, – толстые пальцы, шевелясь на салфетке, прижимают лед к голове. – Черт знает что. Просто безобразие.
Возвращается горничная со льдом, тихо сообщает, что вызвала техника. Он заскочит на склад за нужным инструментом – и сюда. Молодец. Я благодарно киваю ей и поворачиваюсь к пострадавшей.
– Сейчас я позвоню врачу.
– Да ради бога, не нужно мне вашего врача! У меня масса дел, я не могу здесь сидеть и ждать его! Я и так уже потеряла с вами уйму времени! Никуда я не пойду!
– А что, собственно, случилось?
Женщина демонстративно садится на диван, закрывает глаза, изобразив на лице страдание.
– Я уже все рассказала, – она недовольно отворачивается к окну.
– Насадка душа под напором воды отвалилась и задела голову, – горничная произносит это шепотом, на что женщина возмущенно вскакивает, придерживая пятерней компресс.
– Ничего себе “задела” – со всей силы шарахнула! – она взмахивает свободной рукой, развязывается пояс халата, и под ним она почему-то оказывается одетой. Она быстро запахивает полы и крепко держит их на животе.
– Тихо, тихо. Вы уверены, что вам не нужен врач?
– А что мне скажет ваш врач? – пострадавшая шумно дышит носом. – Что он мне скажет? Я уже выезжаю, хватит с меня, – она опять садится на диван и вытягивает вперед полные ноги. – Развели тут бардак!
– Пожалуйста, не кричите, – я наливаю воды и протягиваю ей стакан. Она выпивает его залпом. – Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
– Вы сделаете! – она не верит ни одному моему слову. – А может, у меня сотрясение мозга?
– Нужно обязательно вызвать врача.
– Не нужно. У вас, уверена, и врачи такие же. Да и ждать мне не с руки! Мне нужно в аэропорт успеть.
– Не волнуйтесь, мы…
– И, как вы понимаете, я не собираюсь оплачивать номер.
Она берет в руки телефон и куда-то звонит.
Приходит техник, я выхожу с ним в коридор.
– Посмотрите, что с головкой душа.
К нам подходит горничная.
– Она врет, – говорит она совсем тихо. – Она все врет.
– Я знаю.
– Мы позавчера чистили душевые лейки во всех номерах. Ее открутить нужно суметь. Тут инструмент нужен, – техник почесал в голове. – И силища.
– Я знаю.
Подбегает наш посыльный, он передает мне распечатку с ресепшен – там информация про зеленоглазого. Номера телефонов и адрес. Звоню. Хорошо, что это не телефон компании, а номер его матери. Объясняю ей, что произошло, она просит не вызывать врачей и полицию, она сама за ним приедет. У нее очень уютный голос. Теплый и доброжелательный. Обещаю ничего никому не говорить.
Раздается крик толстухи, она тоже по телефону грозится кому-то всех здесь засудить.
– Позвоните мистеру Холдену, он на нее управу найдет, – техник указательным пальцем касается своего лба. – Вот у нее с чем проблема, а не с душем. Там, на лейках, такая резьба глубокая – нужно вертеть и вертеть, прежде чем упадет. Да и без инструмента сложно. Все она врет. Просто платить не хочет.
– Я знаю. Но нам нельзя потерять лицо. Нужно, чтобы она ушла. Лучше мы потеряем эти деньги. Она к нам не вернется, а вот постоянных клиентов нам лучше не тревожить. Вон она какая громкая. Нужно ее успокоить.
– Может быть, она пыталась настроить направление струи и действительно ее крутила. А та возьми и… – горничная не успевает договорить, как сантехник почти кричит:
– Да как же без инструмента! Я бы не смог. Не то что. Сложно это, – он упрямо мотает головой из стороны в сторону.
– Тихо. Прошу вас!
Я слышу, что толстуха больше не говорит по телефону. Иду к ней. Она сидит надувшись, держится пухлыми пальцами за лацканы халата.
– Вы, наверное, пытались ее повернуть, – мягко начинаю я.
– Ничего я не пыталась повернуть – я пыталась помыться!
– Сейчас уже такого не случится. Мы приносим свои извинения.
– Распустились совсем!
– А вы можете отдохнуть и выписаться позже. Я предупрежу дежурную на ресепшен.
– А еще дорогой отель! Развели тут!
– Извините.
Наконец выходим и какое-то время идем втроем – я, горничная и сантехник.
– Она даже лед все время в разных местах держала, – горничная расстроена, и сантехнику, вижу, тоже неприятно. – Она точно врет! Она платить не хочет. Неужели вы не видите?
– На этой работе нет места эмоциям. Они нам стоят репутации, а значит, денег. Вместо эмоций есть инструкция, протокол, порядок действий. И все.
Отрицательные эмоции недопустимы. Иначе невозможно. Иначе сойдешь с ума или по меньшей мере станешь мизантропом. А это не про зарабатывание денег вообще. Вы правда думаете, что мы каждого клиента рады видеть? Тем не менее мы улыбаемся всем. Главное – хорошо выполнять свою работу. И вы очень правильно себя вели во время случившегося.
– Ненавижу таких.
– Не принимайте это близко к сердцу.
– У нас таких пруд пруди, – техник руками очертил невидимый круг. – Чего только не проделывают! Я как вижу, что кто-то выскочил драму разыгрывать в холл, где людей побольше, так сразу знаю, что передо мной клоун. Некоторые такие концерты закатывают! Профессионалам учиться и учиться. – Его перебила рация. – Пойду прикручу этой дуре душ – и на третий. Там человек не может войти в номер, говорит, карточка не срабатывает, и у меня еще номера три со вчерашнего висят. Всем привет.
– А мне белье нужно прачкам отдать – они ждут.
На ресепшен все еще несколько приезжих. Не хочу отвлекать дежурных – пишу на листе бумаги и кладу так, чтобы они видели: “Проживающую в пятьсот десятом занести в черный список и отменить оплату”.
– Звонили из четыреста восьмого. Просили зайти.
– Иду.
В дверях человек высокого роста приглашает войти в его номер. Круглое лицо, надутый нос в огромных порах. Он постоянно его трет, и он уже совсем красный. Может, кокаин – но это не мое дело.
– У меня что-то с унитазом.
Проходим с ним в ванную комнату. Унитаз полон воды. Смотрю на часы. В это время весь обслуживающий персонал занят – это для всех самое напряженное время: часы между тем, как одни клиенты съехали, а другие еще не заселились. Снимаю пиджак, беру в шкафу под раковиной вантуз и начинаю качать. Стоять на каблуках неудобно, вантуз с короткой ручкой. Встаю на колени. Качаю. Мужчина сидит на краю ванной и ждет. Мог бы и сам это сделать – но он сидит и смотрит. Сил у меня не так много, а он вон какой огромный, но я стараюсь. Наконец пробка пробита, все в порядке. Встаю. Хромаю. Затекла нога. Смываю унитаз несколько раз водой – все прекрасно протекает. Мою руки, вытираю одноразовой салфеткой.
В кабинете меня ждут отчетные документы вчерашней смены. Смотрю на часы – скоро мне будет звонить мистер Холден: он звонит всегда в одно и то же время. Он владелец этой гостиницы. Я у него работаю вот уже семь лет. Он мною доволен. Он меня достаточно проверил за эти годы и теперь наконец может заниматься тем, о чем мечтал всю жизнь, – путешествовать. Он мне доверяет. Я веду все его дела. Как говорит он сам: я не его правая рука, я просто он сам. Странно, что он запаздывает. На этот случай я должна написать ему вечером письмо о том, что в отеле все в порядке. Значит, он позвонит завтра.
Опять берусь за документы. Скоро конец рабочего дня. Скоро закончится все это. И тогда начнется моя настоящая жизнь.
Она приехала тогда, когда уже совсем стемнело. Ухоженная женщина лет шестидесяти, не больше. Такие же зеленые глаза. Благодарит за то, что я выполнила свое обещание, не вызвала ни врачей, ни полицию.
– Я его забираю. Он славный, славный мальчик. Он просто другой. Он всегда был другим. Никогда не считала это болезнью. Никогда. Просто ему иногда нужно пить лекарство. И тогда он совсем в порядке. А иначе у него начинаются видения. Но, уверяю вас, это не опасно. Мы приучили его к лекарствам, и, если их нет, ему сложно. Но мы рядом, чтобы ему помочь.
Она говорит “мы”. Мы – это, наверное, семья. Семья, которая его любит. Семья, которая принимает его таким, какой он есть.
– Фрэнсис хорошо образован и очень добр. Не судите его. Он просто по-иному мыслит. Поэтому он такой. Его даже взяли работать. Он им очень нужен – поэтому они сказали, что готовы закрывать глаза. Они его пытаются принять таким, какой он есть. Но не все. Я стараюсь не переживать за него. Что плохого в том, что человек иной? Мне непонятно, когда этого не понимают другие. Это странно. Я знаю, что вряд ли у него будет своя семья. Но он удивительный. Правда удивительный. Мы все по сравнению с ним грубы и ненормальны.
Она помолчала, но совсем без грусти.
– Я привезла ему лекарство. Сейчас он уже в порядке.
– Тогда, может быть, он останется?
– Нет, мы поедем домой. Я уже говорила с его компанией, я все уладила. Я рада, что он сможет побыть дома, – он очень любит наш дом.
Она встает, чтобы уйти. Я провожаю ее до лифта, но дальше не иду. Я не хочу им мешать. Возвращаюсь к себе. Раскладываю по папкам бухгалтерские отчеты. Звонит телефон, это Холден. Рассказываю ему про дела. Он прерывает меня на середине:
– Ты когда-нибудь была маленькой девочкой? Или ты уже не помнишь?
– Не помню.
– Напрасно.
Молчу.
– Ну хорошо. Тогда до завтра.
– До завтра.
Отключаюсь. В том-то и дело, что помню. Слишком хорошо помню. Мне исполнилось пять. За руку меня держит старшая сестра. Я стою и смотрю исподлобья на мать.
– Папа придет?
– Папы нет. Папа умер.
– Я знаю.
Выдергиваю ладонь из кулака сестры, разворачиваюсь и спокойно ухожу в свою комнату.
– Бесчувственная. – Это мать говорит обо мне.
На следующий вечер я опять стою на кухне и смотрю на мать.
– Где папа?
– Его нет.
– Где он?
– Он умер.
– Что это значит?
– Его душа покинула тело.
– А где это тело?
– Закопали.
– Закопали? Куда?
– В землю.
– Так, значит, оно просто в земле?
– Да.
– Тогда его нужно откопать.
– Что?
– Откопать и принести сюда. И положить здесь. Пусть он будет с нами. Я тогда смогу с ним разговаривать и его гладить. И он опять будет с нами.
– Но это невозможно.
– Ты должна его откопать. Откопать и принести сюда. Зачем он там лежит в этой земле? Пусть он будет здесь. С нами. Так будет хорошо. Как ты не понимаешь? Почему ты его отдала? Отдала закопать в землю.
– Потому что все так делают.
– Ну и пусть все так делают! А мы не будем! Он должен быть здесь, с нами! Поняла? Ты поняла?
Дальше я срываюсь на крик, захлебываюсь слезами, продолжаю кричать все это в воздух, закинув голову назад, скривив рот.
– Ты отдала его в землю? Зачем? Зачем? Заче-е-е-е-ем?
С этого дня мне все время снилась эта земля. Земля, где лежит он. Страшная земля. Я слишком хорошо все это помню. Это повторялось много-много месяцев. Один и тот же диалог. Каждый день. И она не выдержала. Моя мать. Она продержалась столько, сколько могла. И в конце концов, конечно же, не выдержала. Сердце. Но это случилось позже. Я хотела спасти одного и затолкала в могилу другого.
Наконец день закончился. Проверяю, какие номера свободны. Блокирую пятьсот тридцать первый. Система просит заполнить поле “Причина”. Пишу “Нерабочее состояние унитаза”. Система гостиницы предусматривает блокировку номеров, чтобы администраторы не могли заселить в неисправный номер клиентов по ошибке, поэтому блокированные номера никогда не появляются как готовые для размещения. Это гарантия, что моя комната будет пустовать до утра, пока не заступит на работу техник. Он получает список номеров с неисправностями. Каждый вечер я проделываю одно и то же. Ищу свободный номер и блокирую его под предлогом той или иной неисправности. Подозрений это никаких не вызывает, гостиница – большой дом, который постоянно требует мелкого ремонта, и каждый божий день по той или иной причине блокируются номера – одним больше, одним меньше. Если свободных номеров нет, использую комнаты, уже заблокированные по тем или иным причинам, – только проверяю, чтобы там не отключили воду или отопление. Я проделываю это уже пять лет. Пять гребаных лет.
Пятьсот тридцать первый прямо у пожарной лестницы. Беру свою сумку – иду туда. На пороге снимаю туфли. Жаль, что не разрешено носить обувь на плоской подошве. Прохожу в ванную, раздеваюсь. Действительно, еще похудела. Когда вдыхаю, сильно видны ребра. Надо больше есть. Сложно, но иначе никак. Вот это ручное полотенце я завтра утром запихаю в унитаз. Не очень глубоко, но чтобы его не было видно. Только бы не забыть. Это будет причиной блокировки номера. Пристраиваю костюм на вешалку, чищу его щеткой. Готовлю все необходимое на утро. Проверяю замок, закрываю дверь еще и на цепочку. Ставлю будильник телефона на семь утра. Достаю со дна сумки металлическую коробку для завтраков с Бэтменом на крышке, открываю ключом, что висит на шее, вынимаю жгут. Протираю спиртом место укола. Перематываю предплечье, несколько раз сжимаю в кулак пальцы и разжимаю. Посреди уродливого синяка выгибается бугорок вены. Оттуда же, из Бэтмена, достаю шприц, снимаю с него колпачок, легко давлю на поршень – на самом острие иглы вырастает малюсенький шарик, – ввожу иглу в вену и толчками выдавливаю содержимое шприца в кровь. Бросаю пустой шприц в коробку, ложусь и закрываю глаза.
Тело наполняется светом. Сначала ничего не происходит, просто уходит раздражение. Потом появляется скачущая рябь и постепенно слипается в движущиеся пятна.
Появляются озеро и кусты. Каждый куст – идеальный шар из глянцевой листвы и зрелых бутонов. Над ними вьются крупнокрылые бабочки. Все так многоцветно, что не сразу замечаю во всем этом странность. Приглядываюсь внимательнее – небо в облаках там, где должна быть вода, а вода – в небе, и в ней искажаются бабочки. Почему небо не проливается вниз, а облака не летят вверх? Мне нужно торопиться – меня ждут. Мама, папа, сестра. Мне нельзя терять время. Нужно только понять, куда идти.
Останавливаюсь у заросшей виноградом беседки. Заглядываю внутрь. В ней мужчина, но не отец. Вижу голову. Он читает, но что – не разобрать, обложки не видно. Неслышно шевелит губами. Приподнимаюсь на цыпочки и вижу шрифт – готический, острый, книга на немецком языке, похоже, детская. По краю страницы цветочная вязь. Тонкий стебель вьюна оплетает заглавные буквы, цепляется за них усами-пружинками, бутоны открывают розовые пасти. Человек старается читать дальше, покачиваясь взад-вперед в ритме слов. Похож на священика, у которого на проповеди наверняка спят мужчины и балуются дети. Палец его ползет под строчкой, чтобы по ошибке не перескочить на другую.
Только собираюсь идти дальше, как один из цветков приподнимает головку над страницей, и, покачиваясь, к пальцу читающего мужчины вытягивается зеленый ус. Вот он единожды обернулся вокруг, выпустил листок и тут же прижался к следующему. Новый росток схватился за руку, быстро потянулся, сплелся с соседями и замкнул запястье плотным кольцом. Все увеличиваясь в размерах, качаясь из стороны в сторону, из книги поднимаются новые плети, затягиваются на локтях, прорастают сквозь одежды, наливаются соком, проворными языками обвивают пуговицы, прорастают сквозь петли, добираются до шеи, оплетают и ее. Голос мужчины слабеет, слышно, как он дышит, а потом хрипит. Лицо его краснеет, надувается, он хватает губами воздух, дергает руками, но они плотно примотаны к подлокотникам кресла, человек пытается кричать, зеленая лавина врывается в его рот, и крик умирает, захлебнувшись. На висках вздуваются вены, и в кресле уже трясется зеленый кокон. Вьюны тянут дрожащие побеги в мою сторону, и я бегу по глиняной дороге дальше. Я не могу помочь, меня ждет семья. И ждет уже давно.
За поворотом налетаю на собаку. Немецкая овчарка. Из открытой пасти болтается язык, собака смотрит на меня, наклонив голову набок. Отворачивается и зевает, у нее алое нёбо в черных пятнах. Крутит ушами вправо-влево, оборачивается – там по дорожке кто-то идет нам навстречу. Мама! Это она. Наконец-то! Бегу к ней. Она совсем еще юная. Вижу, как толстые чулки смялись под коленками гармошкой. Пальто развевается на ветру, хлопает полами. Она идет ко мне. Мама, мамочка! Мне многое нужно тебе рассказать. Мама! Она улыбается, она меня видит. Под пальто красивое платье и тонкий ремень с перламутровой пряжкой. Длинный шарф, на концах кисти. Такая же кисть на берете, прыгает, как головка с иголкой по виниловой пластинке. Она уже так близко. И тут все меняется – мамы нет. На меня идет пустая одежда.
Свет из окна слепит глаза. Опять проспала? Кошмар, это уже не смешно. Через несколько минут здесь может появиться техник. Придется обойтись без душа. Зубы. Главное – почистить зубы. Спокойно, спокойно. Не суетись. Нужно умыться. Все будет как всегда. Где оксидон? Ложки должны быть там, где чашки. Розовая таблетка давиться не хочет. Да что же это такое. Так, давай, любимая, давай. Розовая пыль между двух ложек. Только не рассыпь. Обрезок соломинки ползет по ней, как пылесос, – во рту горький привкус. Чуть немеет гортань. Так, отряхни нос. Сейчас все будет хорошо. Дрожат руки, но это пройдет. Тошнит – так и должно быть. Дезодорант. Волосы. Маскируем круги под глазами. Пудра. Румяна. Где тушь? Здесь, где ей еще быть. Быстрее. Поправь постель. И чтобы все на месте. Быстрее. Уже пятнадцать минут восьмого. Главное – ничего не забыть. Опять лицо белое-белое – мечта любой японки. Одевайся быстро, но не торопясь. Так. Вроде все. Застегнуть сумку. Очки. Так. Зеркало. В очках – почти нормально. Выпиваю залпом воду. Подхожу к дверям, снимаю цепочку. В последний момент вспоминаю про ежедневник. Лежит на подоконнике. Завтра проследить за тем, чтобы не разбрасывать вещи. Все в сумку, ничего не оставлять в комнате. Ничего. Кружится голова. Лишь бы не упасть. В последний момент цепляюсь за занавеску – несколько петель срываются с крючков, но она еще висит, перекосившись. Слава богу, что не упала гардина. Дверь за мной жужжит и открывается, в комнату входит долговязый парень с ящиком инструментов в руках и в комбинезоне с вышитым на рукаве названием нашего отеля.
– Ой! Извините, я думал, тут никого! – дверь за ним хлопает, и он словно по команде ставит свой ящик на пол.
– Здравствуйте. Заходите, заходите, я вас, собственно, и жду. Кроме унитаза, здесь еще вот занавеску сдернули. Постарайтесь все сделать как можно быстрее и сразу, как только закончите, дайте знать горничной – у нас сегодня заказ от постоянного клиента именно на эту комнату.
Все в порядке, долговязый не удивился.
Он скрывается в ванной, я беру свою сумку, проверяю, все ли на месте и не оставила ли я чего. И выхожу в коридор.
Пожарная лестница. Там кто-то разговаривает. Тогда пойду через другой коридор. В офисе холодно. Нужно сказать, чтобы проверили температурный режим. Видимо, похолодало. Как долго я не была на улице? В кабинете тоже довольно прохладно – поднимаю на термостате температуру. Стучат. Патрульные полицейские.
– Приехали узнать, все ли в отеле в порядке.
– Все в порядке. Спасибо.
– Говорят, у вас тут был псих.
– О чем вы?
– Рассказали, что вчера один из постояльцев, – полицейский не может подобрать слово и крутит пальцем у виска.
– Да что вы. Нет. Я сама с ним разговаривала. Просто человек переработал. Устал.
– Почему вы не позвонили нам? Не вызвали медиков? А если бы он что-то устроил?
– Не было никакой необходимости. Ему просто нужны были таблетки.
– Он еще здесь?
– Нет, – я вдруг страшно пожалела о том, что его здесь нет. – За ним заехала его мать. – И что нет его матери с такими же зелеными глазами. – Я же говорю вам, ничего страшного. – Интересно, кто им доложил. Может быть, консьерж. Или носильщик. – Спасибо. Не было ничего опасного. Человек просто устал. Так что все уже в порядке.
– Больше он ничего не выкинул?
– Он вообще ничего не выкидывал. Просто человек не выпил вовремя таблетки.
Они топчутся, но уходить не хотят.
– И что теперь?
– Извините, – опять использую свое любимое слово.
– Может быть, еще что-то нужно? А то кто знает, сколько еще психов понаехало.
– Нет, не нужно! Спасибо вам большое. Хотите кофе? Я могу в баре вам сделать.
В баре еще никого нет. Бармен придет во второй половине дня, но у меня есть ключи. Включать огромный аппарат не хочу. Достаю банку со свежемолотым кофе, она стоит специально для случайных гостей, включаю чайник, достаю чашки и шоколадное печенье. Чайник уже клокочет, выдыхает паром и отключается. Заливаю кофе кипятком. Процеживаю. Включаю негромко музыку, разливаю по чашкам кофе.
Опять рация. Извиняюсь, ухожу.
В общем офисе собралась вся дневная смена. Все запинаются о ящик у стены. В нем свалены забытые зарядки от телефонов, их никто не хочет забирать – легче купить новые.
– Их бы продать, – говорю я вслух, глядя на коробки зарядок.
– На улицу пойти, что ли?
– Нет, в сети. Хотите, попробую? – один из администраторов выходит вперед.
– Хочу. Спасибо.
Всё еще не начали по-настоящему работать – болтают кто о чем.
– Почему почти все оставляют эти несчастные зарядки?
– Почему? Не все. Оставляют еще и урны с прахом, и грудных младенцев.
– Да, но почетное первое место все же держат зарядки. Потом одежда, в основном пижамы, белье.
– А эти бесконечные мягкие игрушки – я не понимаю, зачем ездить куда-то с мишкой или зайцем? Или еще с кем. Очень странно.
– Может, кто-то боится спать один?
– Я не знаю.
– Понятно еще, когда находишь книгу, или зубную щетку, или сумку, в конце концов.
– А вот я помню, пара молодоженов как-то уехала, оставив в шкафу свадебное платье.
– А помните хомяка прошлым летом? Оставил какой-то, между прочим, вице-президент компании.
– Может, хомяк – это его талисман?
– А коробка с реквизитом фокусника?
– А сегодня – вот, полюбуйтесь!
Беру в руки бумажный пакет. В нем банка. В банке что-то шевелится. Клубок из листьев, прутьев и чего-то еще.
– Ящерица?
– Нет. Это сухопутная саламандра.
– Вы зафиксировали находку в журнале потерянных вещей?
– А может, связаться по контактным телефонам?
– Нет, просто сдайте в комнату хранения. Хотя, пожалуй, оставьте здесь – она же живая. И позаботьтесь о ней.
– Может, сразу отослать хозяину и деньги за пересылку с карточки снять? И хранить не нужно?
– Во-первых, большинство номеров в нашем отеле финансируется компаниями, которые не обязаны оплачивать забывчивость работников, а потом, всегда нужно учитывать классический случай, когда, к примеру, жена ничего не знает о путешествии мужа.
Смеются. Рабочий день для них еще не начался. Но мне, к сожалению, с ними смеяться не полагается. Мне нужно поддерживать статус. Так меня учил мистер Холден. Так удается держать дисциплину. Ухожу.
Рация. Спешу к стойке администратора.
Грузный мужчина двумя руками держится за стойку и, почти не используя согласные, доказывает, что он здесь живет. Работающая в первую смену администратор никак не может найти его фамилии среди наших постояльцев. Он топает ногами, настаивая, что именно здесь он остановился, и тот факт, что ему не верят, очень его обижает. Он так настойчиво трясет стойку ресепшен, что, не останови я его сейчас, он ее выломает.
– Мы поможем вам быстрее, если вы не будете шуметь, – говорю я.
Мужчина затихает и, часто моргая, смотрит на меня – на нового персонажа.
– Если вы дадите мне вашу кредитную карту, я постараюсь найти вас в системе.
– В системе его нет. Я проверяла, – администратор говорит это тихо, не поднимая на мужчину головы.
– Понятно, – я так же тихо ей отвечаю. К мужчине обращаюсь громче: – Пожалуйста, присаживайтесь, и мы постараемся вам помочь.
Мужчина падает в кресло, я приношу ему воды.
– Позвоните в “Кимберли”, “Бентли” и “Дилон”, проверьте, не живет ли он там.
– А что, мы обязаны? Может быть, просто полицию?
– Нет, не обязаны, но это ведь не сложно сделать, правда?
– Может быть, он нигде не живет.
– Я уверена, что он просто перепутал отель.
В первом же отеле – “Кимберли” – находят его фамилию. Он у них постоянный посетитель – сам из ЮАР, но прилетает сюда довольно часто. Сегодня утром ему сообщили о рождении ребенка.
Из бара поднимаются полицейские. Я оборачиваюсь к счастливому отцу, но он уже спит, подперев щеку ладонью.
– Вы не могли бы доставить его в отель? Это совсем недалеко. В “Кимберли”. У него сегодня родилась дочь. Он не совсем трезв, но это неважно. Пожалуйста. Только я сама его разбужу.
Я провожаю его до машины – он даже не понимает, что это полиция, по-моему, он думает, что его везут в другой корпус.
Возвращаюсь на ресепшен.
– Все сегодняшние выписались?
Администратор достает из стола списки и кладет передо мной:
– Пока не все. Номер двести шестнадцатый – еще нет.
– Позвоните туда.
– Я звонила.
На часах семнадцать минут первого.
– И что?
– Не отвечает.
– Позвоните еще.
Девушка нагибается и, щурясь, набирает номер.
– Да, зубы нашлись. Среди грязных скатертей. Новичок вчера часа три перебирал ресторанный мусор.
Спускаюсь в бар – убрать со стола чашки. Приятно, что полицейские поставили их в мойку. Убираю чашки в посудомоечную машину, кладу на стол новые салфетки, выравниваю стулья. Часы показывают двенадцать двадцать пять. Проверяю срок годности на бутылке молока в холодильнике. Еще годится.
– У вас есть приличное вино?
По голосу слышно, что тип недоволен. Сразу понимаю, что это за тип. Развязный и упрямый.
– Смотря что вы считаете приличным.
– Ну, например, Omellaia Masseto. Например, две тысячи четвертого года.
Да. Отличное вино. Винтаж. Особенно девяносто седьмой, девятый. И да, пожалуй, две тысячи четвертый. Ну хорошо. Про вино он знает. Поворачиваюсь.
– Вы замужем?
– Да.
– Но на вас нет кольца.
– Не ношу.
– Почему?
– Боюсь потерять.
Про ‘ ‘боюсь потерять” все сразу верят. Поэтому я всегда пользуюсь этой легендой. Мне никак нельзя отвлекаться на таких типов. Мне нужно работать. Чтобы заработать на мою ночную, настоящую жизнь. Достаю вино, открываю, наливаю ему бокал – ставлю на стойку. Он сразу отпивает глоток.
– А я вот развелся.
Они все так говорят – у них у всех получается, что они разводятся перед командировками.
– Просто раз, и все. Брился как-то в ванной, а она меня спросила: ты куда это на ночь глядя? Спросила не просто так, а как будто ей что-то известно, как будто она знает что-то такое, чего я не знаю. И смотрит так, будто прячет улыбку. Неприятно так смотрит. То ли смеется, то ли нет. Непонятно. То ли веселится, то ли играет. Да вы знаете, как женщины умеют так смотреть. Знаете? Вот этого я не выдержал. Этого вопроса не выдержал. Она дамокловым мечом всю жизнь надо мной висела! Просто вот здесь, – он подержал над головой ладонь. – Мне даже изменять ей было сложно. Она словно всегда меня видела, подсматривала откуда-то сверху. Просто куда ни идешь – она тоже здесь. И в этот вечер я не выдержал! – Ему явно нужно выговориться. – Вы могли бы жить, если бы за вами все время наблюдали? Смогли?
Я пожимаю плечами. Не удивляюсь, не радуюсь, не разочаровываюсь. Я просто продолжаю наводить порядок в баре.
– Вот так я и ушел. Трое детей. Тринадцать лет вместе. Тринадцать.
Я киваю, чтобы закончить разговор. Ничего не нужно объяснять. Сколько я слышала таких историй.
– Женщинам хорошо, никакой ответственности. Они не работают, – он помолчал. – Ну, или работают, как вы. Но это же несерьезно. Ну что вот у вас здесь, в баре, – открыл-налил, открыл-налил – никакой ответственности. Разлил, вытер, помыл, запер, сдал и ушел. Знаю я эти работы.
Он пьянеет и начинает злиться.
– Вы нас только ограничиваете. Сначала, когда мы влюбляемся, вы отвлекаете нас от дела. Потом, когда уже не влюблен, вы отвлекаете нас от всей жизни.
Он размахивает руками и чуть не опрокидывает бокал. Вино в нем перекатывается из стороны в сторону, оставляя на стекле маслянистый след.
– Вы в принципе делаете все, чтобы превратить мужчину из человека опять в животное. – Сердито стряхивает что-то с рукава. Поправляет галстук. – А все оттого, что вы, бабы, заставляете нас с самого начала играть в игру, о которой мы ничего не знаем, – ни гребаных правил, ни количества участников, ни даже размера призового фонда. Ни выиграть невозможно, ни выйти из игры. А мы на это ведемся, потому что в момент начала всей этой галиматьи мы уже не люди. Получается замкнутый круг. А нам на самом деле не нужно на все это обращать внимание. Нужно сразу объяснить: в эти игры играть не буду, и животным становиться – тоже. Даже не рассчитывайте. И вообще, нужно всем прекратить лгать. Говорить ровно то, что имеешь в виду в этот самый момент.
Он неожиданно встает. Подходит ко мне очень близко, одной рукой цепляясь за барную стойку.
– Ебаться будем?
Хлопок пощечины в пустом зале – как звук выстрела. Хорошо, что он держался за стойку, иначе обязательно бы упал. Его щека белеет, а потом так же быстро становится пунцовой. Он кивает, разворачивается и уходит. У самых дверей на стол швыряет деньги.
То, что сейчас случилось, – продолжение полосы моих провалов. Видимо, совсем сдали нервы. Как я могла такое себе позволить? Одно его слово – и все полетит к чертям собачьим. Теперь может быть что угодно. Иск в суд. Письмо. Пост в интернете. Что угодно. Мне нужно было просто вызвать охрану. А сейчас – если он захочет, он может с легкостью разрушить все то, что я выстраивала много лет. Недопустимое поведение. Глубокий вдох – выдох, вдох – выдох, вдох – выдох. Все будет так, как должно быть. Вдох, вдох, вдох, – выдох, выдох, выдох.
Запираю бар, ухожу к себе. На стойке сообщают, что в двести шестнадцатом трубку так никто и не берет. Дежурная теперь барабанит пальцами по стопке буклетов. Название отеля написано тонкой вязью и плохо читается на сером фоне. Не забыть в следующий раз заменить шрифт на другой или поменять цвет. Делаю пометку у себя в календаре.
– Какая заполняемость сегодня – резерв есть?
– Есть.
– Тогда просто наберите еще пару раз в течение получаса и свяжитесь со мной.
Смотрю на часы и заворачиваю в офис. Дверь широко открыта. Значит, кто-то меня там ждет. Так и есть. Знакомое лицо. Это администратор отеля через дорогу. Такое ощущение, что если он сегодня и спал, то совсем мало и в одежде – такой он мятый, а под глазами темные круги. На мое приветствие отмахивается.
– У нас вчера произошел несчастный случай. А мы только два дня назад уволили юриста.
– Так.
– В нашем бассейне утонул ребенок. Мать отошла на пять минут, оставив мальчика одного, а когда вернулась, было уже поздно. Похоже, что он потерял сознание и упал в воду. Первую помощь ему пытались оказать работники отеля, но, наверное, было слишком поздно – ребенок погиб. Матери в этот момент рядом не оказалось. А детей одних в этом возрасте оставлять в бассейне запрещено.
Он вытирает пальцами подбородок.
– Так что, как конкретно это произошло, будет выяснено в ходе следствия.
Закрывает глаза и пальцами сильно на них давит. На это неприятно смотреть, кажется, что они вот-вот лопнут и потекут.
– Конечно, мы надеемся на данные с камер видеонаблюдения, – он замолкает и мелко дергается.
Наливаю ему воды. Слышно, как о стекло стучат его зубы.
– У нас ведь даже есть жилеты безопасности. Все требования. По логике вещей, виновата в случившемся мать. Но полицейские и следователи пока весьма осторожны. Они намекнули мне на то, что не уверены, насколько правильно ребенку оказывали первую помощь. То есть они могут все списать на нас. На отель. Говорили даже о временном закрытии. А моя главная задача – продолжать работать в прежнем режиме. У нас в это время отличная заполняемость. Если я допущу даже временное закрытие, мне придется искать другую работу. – Он вздыхает и ставит стакан на стопку бумаги. – В общем, нам нужен опытный юрист. Мне говорили, у вас именно такой.
Я всегда считала, что нужно производить потомство и тут же умирать. Потому что, если потом с этим потомством что-то случается, начинается ад. Настоящий, вселенский ужас.
– А как мать ребенка?
– Она в состоянии шока.
– У нас есть успокоительные средства. И хороший врач.
– Спасибо, у нас это все тоже есть, мы только не вовремя уволили юриста.
– Она все еще в отеле?
– Да. Она не хочет съезжать. Ей оказывают психологическую помощь. Доктора опасаются, что после потери сына она может покончить с собой. Говорит, пока не поймет, как это произошло, никуда не поедет. Вызвали родственников. Теперь ждем. Они, я думаю, помогут. Она не верит, что он просто упал. Она хочет знать. А причину его смерти назовут только по результатам вскрытия тела и судмедэкспертизы.
Я переписываю ему координаты нашего юриста. Могла бы просто дать карточку – но ему сейчас хочется участия. Он уходит медленно, чуть сгорбившись. Провожаю его глазами. Там, где начинается шейный отдел позвоночника, у него появилась шишка, и в осанке – что-то от старика.
Звоню по поводу двести шестнадцатого.
– Все еще не отвечает? Что с ключом? Проверяли? Сейчас буду, пригласите также плотника с дополнительным ключом.
Возле двери уже возятся. Наконец открывают. Видно, что в коридоре на полу в беспорядке валяются мужские вещи.
– Никому пока не заходить. Пригласите еще портье.
В коридоре остаются ждать горничная и один из менеджеров.
Вхожу в номер. Дверь в спальню закрыта. На всякий случай стучу. В кровати под одеялом кто-то лежит, на обращение не откликается. Осторожно откидываю одеяло. Мужчина лежит на боку – головой в подушку, перекрещенные руки вытянул перед собой так, что кисти свисают с матраса. Словно тянет руки вперед, чтобы их связали. Кожа светло-серого цвета. Он мертв. Даже уже не теплый.
Я набираю полицейским. Они не должны были далеко уехать. Два вызова в день – такого у нас еще не было. Запираю дверь. Отсылаю горничную. Оставляю менеджера у дверей. Посылаю на склад портье. Для таких случаев у нас есть специальная кровать – какую ставят для детей или для дополнительных гостей. Она на колесах, неширокая, довольно глубокая, у этой кровати двойное дно. В ней можно из комнаты, не привлекая внимания, вывезти все что угодно, не только труп. Конечно, после того как полиция разрешит. А то, что кровать везут трое, мало кто сочтет странным. Кровать выкатывают через запасной выход, где ее уже забирает специальная служба. Так мы не пугаем своих постояльцев. Вот и самим понадобился юрист.
Сегодня я в сто тридцать седьмом. Двигаю стул к стене. Туда, где наверху – решетка кондиционера. Отверткой выворачиваю три шурупа по углам. На четвертом она криво повисает. Так. Отлично. Для техника это поправить – дело двух минут. И объясняет, почему номер на ночь был заблокирован. Оставляю сообщение техникам о сломанном кондиционере.
Готовлю лед. Достаю из Бэтмена жгут. Перетягиваю над локтем. Можно, конечно, и без этого, но я уже привыкла – я делаю каждый день одно и то же и не собираюсь это менять. Стучу по шприцу ногтем, выпускаю из него воздух до появления капельки. Протираю сгиб локтя. Втыкаю шприц в вену, ввожу жидкость. Протираю место укола, потом прикладываю лед. Уж очень большой синяк. Конечно, я никогда не хожу в одежде с коротким рукавом, у меня вообще нет никакой одежды, кроме моей униформы. У меня есть три комплекта гостиничных костюмов: блузку я меняю каждый день, а юбку и пиджак – два раза в неделю. Всё чистят и гладят здесь, в отеле. Мне ничего, кроме вещей из голубой сумки ВВС США, не принадлежит. Ничего. Так, теперь быстро лечь. Сейчас я наконец начну жить. Жить по-настоящему. Закрываю глаза.
Я должна их найти. Дом, заросший диким виноградом. С трудом нахожу входную дверь. За ней тянется коридор. Заглядываю в комнаты. Вот столовая, там за длинным столом сидит мужчина в белом костюме. Перед ним стоит тарелка со спагетти. Мужчина вилкой цепляет макаронную петлю и, уткнув вилку в ложку, начинает накручивать. На вилке растет макаронный клубок, она крутится и крутится – клубок растет и растет, а макароны все не заканчиваются. В тарелке почти не убывает, а моток на вилке уже с грейпфрут. Человек продолжает крутить. Устал, но крутит. Смотрю на вилку, потом на руку, которая эту вилку держит, и вижу, как вся его рука закручивается от пальцев до самого плеча. Наконец в тарелке – пусто, а на вилке – огромный клубок. Человек сидит над пустой тарелкой, уставившись на скрученную руку. У него синее лицо и маленькие глазки.
Иду по коридору дальше, в следующей комнате толстяк встает с кровати. В комнате темно, с трудом различим его силуэт. Он вскидывает вверх руки – вытягивается, потом обмякает. Подходит к окну, шарит по стене, находит шнур, тянет вниз, поднимает тяжелую штору. Комнату заливает лунный свет, проходит сквозь толстяка, как через огромное сито. На стене за ним – тень в горох. Дырявый оборачивается ко мне.
– Я астронавт, я как дуршлаг пробит ионами. Вы думаете, это не больно? Меня забыли на орбите, и я пробыл там три срока вместо одного. Я этого так не оставлю.
Еще одна комната, в ней балкон с чугунной оградой. Пол завален сухими листьями. Упираясь руками в ограждение, спиной ко мне стоит женщина в белье, черная застежка лифчика перечеркивает спину. Трусы розовые в цветок, детские. Ей холодно – у нее гусиная кожа. Женщина ежится, поворачивается ко мне и говорит фиолетовыми губами:
– Осень.
– Идите в дом. Здесь теплее, – слышу себя со стороны.
Она кивает, но не уходит.
– Я здесь сторожу осень. Если я уйду, ее пропустят. Пропустят осень.
Слова подхватывает ветер и уносит вместе с мной, через балкон, к дому в шесть этажей, в венах труб и в маленьких окнах. Краска на фасаде совсем свежая, не везде просохла, а в самом низу человек, стоя на коленях, докрашивает последний угол. Сколько он трудился – неизвестно. Думаю, очень долго, скоро он будет свободен и несчастлив. Лечу дальше, за домом земля обрывается в пропасть – и слышно, как внизу плещется вода. У самого края мужчина развел в стороны руки. Похож на отца. Подлетаю ближе.
– Папа! – кричу я, но он уже прыгает вниз.
Тело медленно всплывает спиной вверх. Нет, это не его затылок. И вообще он весь сделан из бумаги, плоский, рисованный персонаж из мультфильма. Вода качает его неровный силуэт.
Разворачиваюсь и попадаю в толпу. Люди собрались вокруг лежащей на земле девушки. У нее мокрое, бледное лицо, волосы волнами. Упала, и некрасиво задралось платье. Под ним – полосатые трусы, и все уставились на эти трусы. Платье никто не поправляет – стоят и пялятся. Отворачиваюсь и отхожу. Впереди дерево, но листьев на нем нет. Только крепкие ветки. Если перевернуть картинку – ничего не изменится. Ветки – это корни в небе. А для всех живущих под землей – кроны именно там. Там все будет ужасно. Ровно так, как ты не хочешь. Задираю голову наверх. Лишь бы не видеть эту землю. Но и небо плоское.
Захожу в церковь. В проходе между рядами скамеек стоит наполовину открытый гроб, там, в цветах, – лицо. Алебастровое. На губах – улыбка. Вдоль стен стоят люди. Большинство – парами и даже с детьми. Глаза всех устремлены на гроб. Все так напряженно всматриваются в лицо умершего, словно ждут его пробуждения. Но при этом никто к нему не бежит, за плечо не трясет, в ухо не кричит, не теребит руку. Душно, пахнет канифолью, выхожу на улицу – там все погрузилось в ночь. Ночь – это когда небо темнее земли.
Вдали проявляются огни дома. Четыре оранжевых квадрата. Таких знакомых. Быстрее туда. Я приближаюсь, они растут, и вот уже видно в одном из них накрытый стол – за ним отец, мама, сестра. Отец что-то рассказывает, сестра смеется, а мама машет ему: мол, брось ты. Скорее к ним. Бегу изо всех сил. Но, как ни стараюсь, все на одном месте. А дальше окна становятся все меньше и меньше, а расстояние между нами увеличивается. Бежать тяжело – трава все выше и выше. Путается, волнуется, перекатывается волнами, хотя нет никакого ветра. Среди травы стоит большая эмалированная ванна. В ней голая женщина. Она пытается выбраться, но поскальзывается и бьется о край затылком. Ванна, хотя и белая, все равно темнее луны. Женщина в ванне – это я. Мне холодно. Вода течет по лицу. Болит коленка и голова. Глубоко вздыхаю, вода заливается мне в нос и рот. Я кашляю и просыпаюсь.
Что это? Я действительно в ванне. Из душа на меня льется вода. Ничего не понимаю. Кто-то поднимает меня, подхватывает за подмышки. Вытаскивает, ставит на пол и накидывает халат. Так теплее. Подходит та самая милая горничная с полотенцем, вытирает мне волосы, берет под правую руку, а тот, кто был сзади, – под левую. Теперь я вижу, второй – это долговязый техник. Они ведут меня к кровати, укладывают. Какой, интересно, это номер? Да не все ли теперь равно?
– Принеси из ресторана что-нибудь поесть, – у горничной хриплый голос. Раньше я этого не замечала.
Техник уходит.
– В сто тридцать седьмом, в моей сумке, есть пузырек. В нем розовые таблетки. Принесите их, пожалуйста. Мне сейчас нужно выпить две.
Горничная уходит и скоро возвращается. Подает мне стакан, смотрит тревожно. Хочу у нее спросить, как я оказалась здесь и что случилось, но не решаюсь. Она смущена и напугана. Интересно чем? Лучше спросить сейчас, пока мы с ней вдвоем.
– Что произошло?
Она начинает плакать.
– Говорите.
– Позвонил один из постояльцев. Из бара.
– Когда?
– Часа полтора назад.
– И?
– Он проходил мимо и услышал, как кто-то поет. И зашел. Потому что пели странно.
– И что?
– Там пели вы.
– Я?
– Вы.
– Я только пела? Или…
– Да, вы просто ходили и пели. И были… Без всего, – она густо краснеет.
– Я была без одежды?
– Да, – она кивает. – Но мы быстро отвели вас в номер.
– Мистер Холден знает?
– Знает. Ему позвонил дежурный администратор.
– Понятно.
Значит, об этом знают все.
– Мистер Холден просил вас позвонить, когда вы придете в себя.
– Спасибо. Я в порядке. Теперь. Идите, у вас, я думаю, много работы.
Но она не уходит.
– Могу я вам чем-нибудь помочь?
– Нет. Спасибо. Вы уже помогли.
Она кивает и идет к дверям.
– Извините!
Она оборачивается.
– Это было очень страшно?
– Что?
– Ну, все это зрелище.
Она отвечает не сразу.
– Вам нужно отдохнуть.
– Да. Спасибо.
Долговязый заносит молоко, хлеб и тоже уходит.
От таблеток становится легче. Звоню Холдену.
– Как ты? – он очень вежлив.
– Извини меня, Ирвин, – я впервые называю его по имени. – Давай обойдемся без формальных вопросов. Могу я тебя попросить об одном? Не держи на меня зла. Я не могу тебе ничего объяснить. Я знаю, что увольнение неизбежно, и просто говорю тебе – спасибо.
– Может, ты просто возьмешь отпуск, отлежишься дома, и мы потом поговорим? Я могу дать тебе недели две.
– Нет.
– Почему?
– У меня нет дома.
– Я почему-то так и подумал. Сколько лет ты живешь в отеле?
– Пять.
– Давай мы положим тебя в клинику.
– Зачем?
– Чтобы ты перестала это делать.
– Я не хочу.
– Ясно. Куда ты пойдешь?
– Не волнуйся за меня.
– Это значит “я не знаю”?
– Это ровно то и значит, что не волнуйся, это не твое дело.
– Ну зачем ты хамишь?
– Иначе ты не отстанешь, я очень хорошо тебя знаю.
– Я тоже думал, что хорошо тебя знаю.
– Ирвин, мы же договорились.
– Зарплату за месяц перевести как обычно?
– Не нужно. Мне приходилось кое-что выводить из строя, пусть это будет возмещением.
– Для чего? Чтобы блокировать номера?
– Ты всегда был умным.
– Деньги переведу. И все же предлагаю тебе дождаться меня. Может быть, мы что-нибудь придумаем.
– Я уже все в своей жизни придумала и ничего не буду менять. Можно, я возьму один свой костюм?
– Можно. Можешь взять все, сколько их там твоих, – таких худых, думаю, больше не найдется. Когда ты последний раз выходила из отеля?
– Три года назад. Примерно.
– Три года?
– Три года, Ирвин.
После этого я вешаю трубку, потому что я сказала все, что хотела, а после этого начнутся только вопросы. А мне они ни к чему.
На станции объясняют, что это часа три на автобусе – недалеко. Чаевых, оставленных наглым типом из бара, как раз хватит на билет в один конец.
В автобусе утыкаюсь виском в холодное стекло. Мимо мажется городской пейзаж. У кого-то звонит телефон. Эта мелодия была у меня когда-то давно. С нее начался тот самый разговор с сестрой.
– Это я. Скажи мне, только прошу тебя, не ври. Ты знала, что я тебе не родная? – Голос сестры был чужим. Высокий и злой.
– Знала.
– И как давно?
– Мне было лет восемь. Да, точно, восемь.
– Они тебе рассказали?
– Нет, я подслушала разговор.
– Почему ты мне ничего не сказала?
– Сначала я не поверила.
– А потом?
– А потом боялась. Они же не рассказывали. Значит, тебе знать не полагалось.
– Не полагалось?
– Ну чего ты на меня-то злишься. Я тоже расстроилась, когда узнала.
– Расстроилась. Почему?
– Ну не знаю.
– Решила, что я теперь тебе не родная, да?
– Нет. Просто странно.
– Что странно? Наверное, решила, какая-то проститутка под забором родила и в вашу семью подкинула? Да?
– При чем тут проститутка?
– А кто еще? Кто еще детей своих бросает? Скажи, кто?
– Никакая не проститутка. Там была большая семья из деревни.
– Из деревни?
– У них уже было семь девочек. Представляешь, семь. И, когда жена опять забеременела, они надеялись, будет мальчик. И действительно родился мальчик. И девочка. Двойня, понимаешь? А у наших родителей тогда не получалось вообще никаких детей. В общем, договорились и забрали девочку прямо из больницы. Ее муж так ничего и не узнал. Заплатили – все молчали.
– А ты откуда это все знаешь?
– Это мне уже позже рассказали.
– Кто?
– Мама.
– Да врете вы всё. А тебя откуда взяли, если у них не получалось?
– А потом получилось. Причем очень быстро.
Она начала скулить в трубку, и мне пришлось ее одернуть:
– Лучше бы я была не родная. Мне все равно.
– Тебе легко говорить. Ну вот объясни мне, почему все знали, кроме меня?
– Папа был против. А после того как его не стало, мама боялась.
– Чего?
– Не знаю. Все ее уговаривали, а она боялась.
– Боялась? – Сестра опять замолчала, а потом заговорила строго. – Ну ладно. Нужно как-то дальше жить.
– Что значит – как-то? Что изменил ось-то? – Я не знала, как ее успокоить.
– Знаешь, многое. Так не поступают.
– Ты их благодарить должна. Неизвестно еще, что было бы, если б не они. А потом, если ты хочешь, можно в эту деревню поехать. Если хочешь их всех увидеть. И брата.
– Может, ты еще прикажешь мне туда переехать?
– Нет. Совсем нет. Просто, может, тебе интересно?
– Ни фига мне не интересно на этих деревенских смотреть, что своими детьми торгуют.
Она бросила трубку. После этого разговора у сестры все пошло наперекосяк. Началась наркота, а потом она просто вышла в окно.
Почему так все случилось? Была семья, а потом вдруг – раз, вытянули спицу, и все посыпалось. Сначала папа, потом мама, а за ними сестра. И не осталось ничего, за что можно держаться.
Улица в платанах. В пятнистых стволах. Сколько же здесь звуков. И запахов. Бесконечное море запахов. Осень всё высушила, зима заморозила, а весна возвращает. Номер дома вбит в камень бронзовой татуировкой. От ворот к крыльцу дорожка, вокруг нее кусты полосатой хосты. У дверей фонари и цветы в горшках. Ставлю сумку на землю, нажимаю на кнопку звонка. Долго не отвечают, но потом знакомый женский голос, то ли утвердительно, то ли вопросительно:
– Да.
– Извините. Вам это покажется странным. Мы говорили с вами в гостинице. Там, где останавливался ваш сын Фрэнсис. Фрэнсис Финли.
– Да.
– Я там работаю. Вернее, работала. Кажется, у меня проблемы. Не знаю. – Перевожу дыхание. – Извините, что приехала сюда. Но мне некуда идти. Та жизнь, которая у меня была, – ее больше нет. Я есть ровно то, что я есть. У меня нет никаких убеждений, нет семьи и дома. Я променяла все это на свободу. Но оказалось, это лишь умение искажать действительность доступными средствами. Я не знаю, во что верю и зачем живу. Не знаю, что мне делать дальше: все, с кем я могла бы поговорить, – их нет. Вы первый человек в моей жизни, способный жить рядом с иным человеком без попыток его изменить.
Замолкаю. Жду. На том конце ничего не происходит – просто тишина. Меня не прогоняют, но и не впускают. Смотрю на гальку под ногами, потом на дорогу – утро сегодня морозное, по земле ползут туманные клочья: небо ночью прилегло на землю, а теперь неохотно встает с насиженного места. Хочу позвонить еще раз, но не решаюсь, забрасываю сумку на плечо, чтобы уйти, и тут в домофоне что-то щелкает раз, другой, ворота вздрагивают – и медленно открываются.
Номер с видом на озеро
Жизнь прекрасна. И мне плевать, что это неправда.
Вдруг хватились – глаженых наволочек в шкафу больше не было. Старшая горничная побежала в прачечную. Постояльцы из зеленой комнаты так долго провозились с багажом, что задержали всех, и на уборку к приезду новой гостьи почти не осталось времени. В помощь уборщицам была послана пучеглазая бухгалтерша, в номере долго гремел пылесос, передвигали мебель, над кроватью парусами взлетали простыни. Из сада принесли нарциссов, разложили на столе свежие газеты, меню ужина, на прикроватные тумбочки поставили бутылки с минеральной водой. Успели.
В столовой закончили накрывать к обеду, когда в прихожей прозвенел звонок. Дверь открыл дантист – он только что вернулся с прогулки и еще не успел раздеться. На крыльце стояла высокая худая женщина в черных очках, с чемоданом в одной руке и мобильным телефоном в другой. Очки подчеркивали ее бледность, длинные рыжие волосы были собраны на затылке в узел, он растрепался в дороге и одна прядь упала на плечо золотым эполетом.
– Здесь нет сигнала, – сказал дантист, указывая пальцем на ее телефон, и жестом пригласил женщину внутрь. – Поэтому здесь так хорошо. Здравствуйте.
Она кивнула в ответ, убрала телефон в карман, несколько раз шаркнула туфлями по жесткому ковру и шагнула в дом.
Обед начали вовремя, говорили о море информации, что выливается ежедневно на каждого, и только далекие от цивилизации места дают человеку возможность перевести дух и подумать о смыслах. Потом расспрашивали вновь прибывшую, добились немногого – неохотного объяснения, что она писательница и приехала сюда, чтобы закончить роман. Родом она из России, вот почему у нее такие высокие скулы. Пишет она от руки, в тетрадках, романы у нее большей частью печальные, а семью она не заводит – не терпит разочарований.
За столом их было шестеро. Хозяйка отеля, она же и управляющая, смешливая женщина, разменявшая шестой десяток, обожала гостей и долгие разговоры о сущности вещей. Была она еще вполне привлекательной и только иногда, во время еды, горбилась, наклонялась к тарелке, у нее исчезала шея, полная грудь поднималась к подбородку, загривок по-старушечьи круглел. Она лет десять как разведена, но не унывала, а приучила себя смотреть на жизнь с оптимизмом. Рядом с хозяйкой сидел ее сын – субтильный бледный подросток с высоким лбом, тенями под глазами и недоразвитой челюстью. В разговоре мать упомянула, что сын любит оперу и совсем недавно заставил ее поехать в Лондон на премьеру генделевского “Ринальдо”, но в это мало кто поверил. На вид парню было лет пятнадцать, хотя на деле он был старше, уже закончил школу, занятия себе не нашел, жил здесь, в отеле, и никто никогда не видел, чтобы он чем-нибудь занимался. Когда говорили о нем – сидел не поднимая глаз, словно не слышал.
Кроме писательницы и дантиста, в отеле гостила еще одна пара: крупная блондинка из Гамбурга, владелица сети химчисток, и ее молчаливый супруг, которого она называла Ади.
К десерту разговоры за столом совсем поскучнели. Немка терзала дантиста вопросами о разнице между ревматоидным и инфекционным артритами, а хозяйка объясняла Ади причину популярности ислама в Западной Европе, особенно в Германии. Не дождавшись десерта, рыжая, сославшись на усталость, ушла к себе и пробыла в номере до самого ужина. На аперитив выйти отказалась, объяснила это тем, что недавно перенесла грипп, до сих пор принимает антибиотики и совсем не пьет.
Стены в ее комнате были выкрашены в цвет теплого шартреза, такого цвета бывают еще неспелые груши. На дверях висела табличка с неизвестным словом Ichrachan, комната была просторной и окнами выходила на озеро Лох-Эйв. Письменный стол придвинули к самому окну, и в перерывах между работой рыжеволосая могла любоваться садом, водой и цепью покатых гор.
Весенние дни в графстве Аргайлшир радовали коротким теплом, но вечером вялое солнце скрывали облака, и озеро превращалось в лужу расплавленного олова. Воздух наполнялся металлом, покрывал все голубой пылью – и дальние островки на воде, и валуны, поросшие мхом, и даже шапки нарциссов, цветущих слишком поздно этой шотландской сырой весной.
Через пару дней рыжую уже не ждали на аперитив в библиотеке, начинали без нее, и она спускалась позже, к самому ужину. Ей перестали задавать вопросы – все равно от прямых ответов она уходила – и скоро пришли к заключению, что она странная, задается, ее снобизм нельзя списать на замкнутость и, если бы не худоба, она могла бы сойти за красавицу.
Большую часть времени рыжая работала у себя в комнате, хотя специально для нее на террасу выставили стол со стульями. Выходила она гулять только перед ужином. Повсюду вдоль дорожек цвел белый алуссум, наполняя воздух медом, на клумбах у центрального входа распустились азалии, на газонах цвели фиалки, маргаритки и дикий шиповник. Всюду были проложены прогулочные тропинки – и вокруг озера, и вдоль изгиба реки с каменным мостом, и через поляну с растущим посередине плакучим вязом. За поляной начиналась рябиновая роща, а за ней пряталось заросшее кладбище в четыре могилы.
Рыжеволосая часто отдыхала у одной из них, на скамейке из поседевшего дерева. Здесь росли самые крупные нарциссы, их колокольчики отчаянно тряс ветер, словно звал на помощь прислугу. Могила была двойной, в ней были похоронены мужчина и женщина, с общей датой рождения и смерти, умершие в тридцать лет. На надгробном камне была эпитафия: “Здесь все, что нам нужно”.
Посидев у могилы, обычно шла дальше – туда, где стеной стояли мшистые сосны, сплетенные корнями. Идти было сложно, приходилось перешагивать через чешуйчатые узлы. У дальнего луга прогулка заканчивалась – у дороги, что начиналась за лесом, вот уже несколько дней висела табличка: “Осторожно. Стреляют. Идет охота”.
Она спала с открытыми окнами, ей снились удивительные сны – про королевство живых лотосов, куда ее относит синий журавль, а император всего Сиама кормит ее медовыми ягодами и увозит в плетеной пироге в жаркий город с базарами и белозубым народом.
После таких снов просыпаться было приятно, по телу еще долго гуляло любовное электричество. Рыжая принимала ванну, ей казалось, что вода пахнет водорослями и йодом, за окном качаются зеленые волны, а цветы утесника – желтые блики в травяном океане.
Тихо и спокойно прошли почти две недели. Началось все с грозы. Озеро всю ночь сверкало мятой фольгой, в небе кривлялись молнии, ветер швырялся всем, что попадалось под руку, и только к утру все стихло.
Завтрак прошел без происшествий, дантист рассказывал про свою красавицу дочь, а когда хозяйка, в шутку, назвала ее “нашей невестой”, захохотал, отводя глаза от бледного юноши. Хозяйка поджала губы и больше принципиально на дантиста не смотрела. Подросток никак не отреагировал – мать так часто упоминала о его слабом здоровье, что, казалось, сил его организма не хватает даже на собственное мнение.
Когда принесли кофе, она все же обернулась к обидевшему ее соседу.
– Скажите, это ваша сумка с клюшками для гольфа стоит у стены в прихожей? – Хозяйка приподняла одну бровь.
– Да, моя.
– Ну и совершенно напрасно вы ее туда вынесли. Вы что, не слышали, что было ночью?
– Я слышал дождь. Но, думаю, скоро все подсохнет.
– Как бы не так. Лужи будут повсюду дня два как минимум. Здесь в почве очень много глины. Поэтому здесь так спокойно.
– Что вы имеете в виду?
– Глина забирает из нас негативную энергию, а наполняет накопленной энергией солнца, воды и космоса. И не говорите, что вы этого не знали.
Дантист пожал плечами, а хозяйка продолжала:
– Так что сегодня в гольф нельзя, да и гулять по парку можно только в резиновых сапогах. И еще, видимо, где-то на провода повалило дерево. Телефоны молчат. Но электричество есть. И это большой плюс.
– Что? Вы не знаете, как быстро починят телефонную линию? – Рыжая словно проснулась.
Даже равнодушный ко всему подросток поднял на нее глаза.
– Не знаю. Обычно не более часа, долго мы без связи не сидим. Так что до обеда все точно восстановят. А вам что, нужно позвонить?
– Да, мне нужно сделать важный звонок. И обязательно сегодня.
– До обеда все наладят. Провода здесь рвутся довольно часто. – Хозяйка опять обратилась к дантисту: – Скажите, когда здесь наконец закопают всё под землю, чтобы не рвалось и не портило нам восхитительных пейзажей? – Дантист считался знатоком этого края, сам жил неподалеку и отдыхать приезжал на Лох-Эйв.
– Раньше закопают нас. – Дантист засмеялся, показывая прокуренные зубы.
– Господи, ну что вы такое говорите.
– То есть позвонить невозможно? – Рыжеволосая хмурилась и что-то просчитывала в голове.
– Пока нет. Но вы не волнуйтесь. Я уверяю вас, – скоро все восстановят. – Хозяйка встала и одернула на бедрах тесное платье. – А чтобы не скучать, я распоряжусь, чтобы в гостиную подали сыра и вина, – и всех милости прошу.
Гостиная была уютной, несмотря на внушительные размеры, – терракотовые стены наполняли пространство теплом, в торцах, друг напротив друга, зевали мраморные камины, в высокие окна были видны сад, тающие у горизонта горы и небо, после грозы набирающее синеву. Во всех вселилась тихая грусть, которую, полагалось, развеет вино. Даже рыжая согласилась посидеть со всеми, но не оттого, что неприятности сближают, – ей просто казалось, что здесь она узнает быстрее о том, что связь наладили.
Заговорили о воспитании. Хозяйка рассказывала про жизнь с сыном, все время говорила «мы» и, когда договорилась до того, что они никак не могут выбрать то, чем хотят заниматься, дантист взмолился:
– Да пусть ваш сын занимается, чем захочет, в конце концов. Это же его собственная жизнь и его собственный выбор!
– Но он хочет – химией!
– И что?
– Ну какой из него химик? Что, я его не знаю? Я вас умоляю! Ну какой он химик!
– Вы действительно думаете, что все родители знают, как жить? Считаете, что мы сами живем точно так, как хотели бы? То есть, по-вашему, человеческие особи, достигшие определенного возраста, автоматически начинают все знать и понимать?
Ади захихикал, и жена строго на него посмотрела. В Гамбурге их ждали две дочери. Дантист с сожалением глянул на пару и продолжал:
– Ужасно, когда родители считают, что дети должны воплотить их собственные мечты. Это рано или поздно приведет к взрыву. Или к гибели. – На это хозяйка поджала губы, посмотрела на часы и ушла, скрывая возмущение.
До обеда связь так и не восстановили. Дантист уехал на свой машине попытать счастья в гольф-клуб и решил остаться там до ужина. Без него обед прошел тихо, но рыжая решила больше не ждать, а отправиться куда-нибудь, где есть работающий телефон. Спросила у хозяйки, куда для этого можно поехать, но та опять отговорила ее. Мол, такое у них случается, но всегда исправляют очень быстро. Машина отеля, к сожалению, в ремонте, а пешком в ближайшую деревню все же далеко. Вот-вот все починят, и совершенно не нужно волноваться. Можно было бы, конечно, вызвать такси, но опять-таки для этого нужен телефон. Какой-то заколдованный круг.
Но и через два часа ничего не наладили. Хозяйка пыталась уговорить ее подождать до завтра, но рыжая решительно собралась идти. Хозяйка, чувствуя свою вину, предложила сына в качестве провожатого. Он нехотя согласился – вернее, просто кивнул и пошел взять кое-что из одежды. У выхода хозяйка заставила их надеть резиновые сапоги:
– После такого светопреставления везде непролазная грязь.
До паба “Корона и роза” шли часа полтора. Там рыжеволосая наконец поговорила с редактором, тот был не строг, и сдачу рукописи перенесли еще на две недели. Она повеселела и заказала себе полпинты местного эля. Сын хозяйки тоже куда-то звонил, и она впервые увидела, как он смеется. Народу в пабе было на удивление много, по углам пьяно переругивались.
Обратно вышли уже в сумерках. По пути им попался только старик с седой собакой. После рапсового поля вошли в темный лес, где от сырости все поросло мхом: земля, камни, стволы и даже тонкие ветки ракитника. Тропинка свернула к ручью, в нем по черным валунам пузырилась вода цвета чая, а вдоль берегов блестели кусты жирной болотной травы. Птицы замолкли, под ногами мялась плотная губка мха, скрипела хвоя, и вдруг издалека раздался свист, потом топот, хруст веток и сиплый крик: “Стоять!” Потом кричали вразнобой, зло, неприятно. Рыжеволосая обернулась – к ним бежали пятеро молодых людей в охотничьих костюмах, с ружьями. Она успела только подумать, что это ради них перекрыта дорога в луга, как один из них громко выругался, оглушительно грохнуло, и фонтаном взметнулись земля, листья и щепки веток, а потом грохнуло еще раз у самых ее ног. Дальше все смоталось в клубок из выкриков, ругательств, стрельбы и страха, обычного человеческого страха.
– Раздевайтесь! Оба! – Только это можно было понять из визга на неразборчивом диалекте, вперемешку с дурным хохотом. – Быстро!
Они швырнули ее провожатого на землю, он вскочил и даже замахнулся детскими кулаками, но его ударили еще раз. Когда же подняли руку на рыжую, он торопливо начал раздеваться.
– Быстрее, ты чего смотришь! – заорал самый крупный.
– Что вы делаете? – бессмысленно кричала она сорванным голосом. – Прекратите немедленно!
Сын хозяйки опять попытался ввязаться в драку, но после очередного пинка упал на колени и закрыл руками голову. Кто-то опять выстрелил.
– Снимай одежду, сука! – криком зашелся крупный и грязно выругался.
Толкнули в спину, она упала и порезалась то ли камнем, то ли стеклом. Сын хозяйки вскакивал, но его опять били, и дальше она только слышала его крик: “Гады, гады, гады!” – и видела, как полетела в сторону его куртка.
– Оставьте нас в покое! Что вам нужно?
– Мы знаем, чем вы тут собирались заняться! Раздевайся, сука.
Ткнули лицом в мох. Заломили за спину руки, завязали чем-то – видимо, шарфом. Она отбивалась ногами, руками, сильно двинула одного локтем. Пыталась ударить кого-нибудь головой, но не получилось. Кричать было бесполезно, убежать – невозможно: их было больше, и они были сильнее. Перевернули на спину, ноги держали так – не вырваться, натянули на голову свитер. Истошно закричал сын хозяйки. Наверное, его убьют. И ее тоже. Содрали юбку. Разорвали колготки и трусы.
– Делай, что тебе говорят! – Опять грохнул выстрел. – Ноги ей раздвиньте, плохо видно! А ты трогай! Понял? Что, зассали? Вы же для этого здесь прятались? А теперь что? Будем девственников корчить! Давай, блин. – Она почувствовала холодные руки, дрожащие пальцы. – Опускайся ниже, мудак!
Он двигал по ней деревянными руками. Видимо, его опять ударили – ткнулся лицом в ее плечо. Угрозы и брань прерывались смехом, нехорошим, диким. Кто-то больно схватил ее за шею, не давая двигаться.
– Соси грудь.
Несколько раз над ними оглушительно грохнуло, обдавая брызгами щепок. Она перестала сопротивляться. Кто-то губами прижался к ее твердому от холода соску. Потом раздвинули ноги, больно вцепившись в щиколотки. Опять пинки, вопли и ругань. Она пыталась изогнуться и вырваться. Парни заржали. Кто-то засвистел. “Давай, давай, давай!” Худое тело подростка больно возилось по ней вверх и вниз, как только он останавливался, его били, он плакал и шептал ей в самое ухо: “Не могу, не могу, не могу, – продолжая двигаться, ударил подбородком в висок, – гады, гады, гады”. Ее голова больно билась обо что-то, то ли камень, то ли корягу. Через растянутый свитер было видно небо и его ухо, оно то пропадало, то опять появлялось. Потом он привстал, закричал и обмяк. Сначала она подумала, что его убили, потом опять грохнуло, затрещало ветками, но голоса и смех удалялись. Уходят, уходят, уходят. Вот их почти не слышно, и наконец совсем тихо. Ее охватил ужас, вдруг на ней лежит труп, но он зашевелился. Жив. С трудом встал, развязал ей руки и помог подняться. Отряхнул узкую грудь. Подобрал с земли брюки и долго пытался попасть в штанину ногой. Она боялась, что унесли ее одежду, но все валялось там, где было брошено. Он подал ей юбку и, натягивая футболку, отвернулся, пока она вытирала колготками липкие ноги, мылась в ручье и одевалась. Отряхнула свою и его куртки, выдрала палки и листья из волос, скрутила их в тугой узел, села на землю и застыла. Он сел рядом, на нее не смотрел, минут через двадцать махнул рукой, показывая направление.
У самого отеля, когда показалось темное, разозленное озеро, она остановила его:
– Ты как?
– Нормально, – хрипло сказал он и откашлялся. – Но я не могу рассказать об этом матери.
– Мы должны пойти в полицию.
– Пожалуйста, не нужно. Все будут надо мной смеяться. Я струсил.
– Для начала нужно успокоиться. Позвоним в полицию завтра.
Он кивнул, вытирая слезы.
– Да, да, мы сделаем это вместе. Вы сможете их опознать?
Рыжая пожала плечами и вспомнила: на одном была шапка с белой меткой на лбу, но сколько парней такие носят?
В отеле все было точно так, как перед их уходом, словно никто за это время не сдвинулся с места. Гости сидели там же, пахло глинтвейном, парафином и горящим деревом. Им навстречу выскочила хозяйка.
– Господи, что это вы так долго?
– Я упала. Неловко запнулась о корень.
– Вывих?
– Нет, просто ушиб. И еще замерзла.
– Тогда быстро к огню, – она схватила рыжую за руки, повела к камину и усадила в кресло. – Вам нужно срочно согреться. Носы красные, руки ледяные. – Она указала сыну на диван.
Дантист разлил глинтвейн.
– Жизнь – штука настолько омерзительная, – он передал им бокалы, – что принимать ее такой, какая она есть, можно только будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это единственное, что работает. Поверьте, проверил на себе! – Он поднял свой бокал, смешно оттопырив толстые пальцы. – Считайте, что это тост.
К удивлению всех, рыжеволосая выпила.
– Не только. Можно еще обратиться к богу. Пришел в церковь, помолился – и все встало на свои места. – Хозяйка уселась на диван к сыну, закинула ногу на ногу. – Вот вы, например. Да, вы. Вы ведь протестант?
– Нет. – Дантист тоже сделал большой глоток вина и громко выдохнул: – Я иудаист.
Такого ответа хозяйка не ожидала, ей понадобилось время его осмыслить.
– Я мало что понимаю в иудаизме, никак не могу ухватить суть. – Она пожала плечами и оглядела присутствующих.
Дантист улыбнулся, вытянул из-под рубашки цепочку и поцеловал маленькую шестиконечную звезду. Хозяйка не увидела его жеста и продолжила серьезно:
– Как бы вы, например, описали разницу между тем, как верует иудей и христианин? Вот во что верит иудей?
– Мне легче объяснить, во что он не верит. – Дантист поднял кулак и стал один за другим разгибать пальцы: – Иудаист не верит в Люцифера, всяких там бесов и иную нечисть. Не верит в рай и ад – в том смысле, в котором верят в них христиане. А также не верит ни в спасение, ни в необходимость спасения.
Пока он говорил, хозяйка следила за всеми – так учительница смотрит за нерадивыми учениками, не отвлекаются ли они.
– Конечно же, мы не верим, что чья-то смерть может искупить чужие грехи, – продолжал он, – а также не верим в первородный грех. – Шумно отпил из бокала и поставил его на консоль к бюсту Вольтера, похожего на добрую старуху. – Считаем невозможным очеловечивание всевышнего, – он уставился на хозяйку, ожидая реакции. Она не выказала ни протеста, ни одобрения, просто встала и подлила ему еще вина. Дантист сложил на животе руки и подытожил: – То есть мы не согласны ни с чем из того, во что верите вы.
– А вот Иисус в Нагорной проповеди, – хозяйка приготовилась к подробному монологу, но так и осталась стоять с открытым ртом.
– Иисус ничем не отличается от прочих своих современников, – перебил ее дантист, – обычный себе человек, нет в нем божественности, нет пророчеств в его высказываниях, нет мессианства в действиях.
– Так во что же вы верите, позвольте спросить? – Она выглядела расстроенной и потерянной одновременно.
– В единого бога.
Она растерянно кивнула, а дантист, не давая ей возможности вступить, продолжал:
– Мы верим, что человек должен исполнить волю всевышнего так, как она изложена в Торе. Верим в скорый исход истории и в приход мессии. Ну, и также мы верим в то, что будут воскрешены те, чьи жизни, в понимании наших законов, имели наибольший смысл.
Она сморщила лоб и спросила:
– А правда, что евреи считают себя избранным народом?
– Мы знаем, что у бога к евреям особые требования. Вот во что мы верим.
В гостиной повисла тишина, немцы старались ни на кого не смотреть. Молчание нарушил сын хозяйки:
– А ведь вы хитрите, доктор.
Все с удивлением повернулись к нему. Дантист выглядел обескураженным.
– Тогда поправьте меня, раз считаете нужным, молодой человек.
– Я вообще-то думал, что мы тут собрались выпить, а не обсуждать догматы веры. Но если вы настаиваете…
– Настаиваю! – Дантист рассмеялся и опять взял бокал.
– Хотя вера для меня есть нечто сугубо личное, – подросток поднял голову, но посмотрел сначала не на дантиста, которому предназначалась эта фраза, а на рыжеволосую, – и к тому же понятно, что у меня меньше опыта, чем у вас, и знаний, полагаю, тоже. Потому я и говорю, что вы хитрите, а не заблуждаетесь.
Где-то хлопнула дверь, но никто не обратил на это внимания. Все следили за разговором.
– Продолжайте.
– Я указал вам на ваше лукавство и, как джентльмен, должен объясниться. – На слове “джентльмен”, произнесенном так серьезно, многие улыбнулись. – Вот вы говорите, что не верите в сатану. Но тем не менее верите в дурное в человеке. То дурное, которое разъединяет вас с богом, а значит, является враждебной силой, или как угодно можете это называть, не суть. А по поводу ада, позвольте заметить, христиане тоже не верят в кипящие котлы и сковороды. – Он говорил взволнованно, хотя к вину так и не притронулся. – Вы сказали, что вы не верите в спасение, а как же тогда фраза “Израиль будет избавлен лишь в заслугу тшувы”? Или вы не считаете тшуву раскаянием и возвращением? Не верите в первородный грех, но признаете грех праматери Евы? Вы не согласны с очеловечиванием бога, но наделяете человека божественной душой? И в заключение – если вы не хотите рекламировать вашу веру, зачем рассказываете нам о ней? А про скорый конец истории вообще не очень понятно.
– Хочу вам заметить, молодой человек, что все ваши претензии ко мне…
Хозяйка прищурила глаза, готовясь защитить сына.
– …абсолютно правомочны.
Ее прищур сменился улыбкой, она победно оглядела гостей. Дантист выдержал паузу.
– Дело совсем не в искажении, молодой человек, а в упрощении моего объяснения, – он оскалил желтые зубы и вставил в них сигарету. – Возвращаясь к дьяволу – все же это выделенная единица зла, а вот целиком состоящего из зла существа у нас как раз и нет. А что касается тшувы, – он достал зажигалку, и хозяйка замахала руками, изображая запрет; дантист кивнул и, не вынимая изо рта сигареты, продолжил: – Это же исправление себя, а не спасение за счет другого. Мы своими поступками должны достичь бессмертия, а не тем, что кто-то там за нас погиб.
На это “кто-то там” хозяйка поморщилась, а немцы переглянулись.
– Грех Ханны никоим образом не отразился на ее потомках. А ваше замечание по поводу того, что я сейчас здесь вам рассказываю про нашу веру и тем самым пропагандирую ее, – так это ваша матушка меня спросила. Мы никого к себе не зовем, но и секрета из этого не делаем. А в заключение добавлю, что нужно нам еще всю жизнь учиться, и вам молодой человек, и мне. И будет нам тогда счастие.
– С вашими объяснениями вряд ли что-либо прояснилось, но, несомненно, стало интереснее. – Подросток покивал и отвернулся к окну, его азарт опять сменился равнодушием.
– А я считаю, что ад – это невозможность прочувствовать бога в себе, и наказанием за это является возвращение сюда. В эту, как вы сказали, омерзительную жизнь. – Ади сказал это и покраснел.
– А что такое, как вы думаете, жизнь? – не унималась хозяйка и, желая вовлечь в дискуссию новых участников, обратилась к немке. Та подхватила эту тему как спасительную, так как больше всего боялась еврейской темы, боялась, что она может выйти за пределы религиозного различия – и в конце концов вернется к их немецкой идее вины.
– Я думаю, что жизнь – это то, про что мы можем сказать, что оно живое.
– Интересное замечание, – опять оживился дантист. – Вы, наверное, говорите о существовании самого важного, что дано нам богом, – о механизме божественного распознавания.
Немка покраснела, а муж похлопал ее по колену.
Дантист подождал какое-то время, не выскажется ли кто-нибудь еще, и заговорил:
– Что такое жизнь – более или менее понятно. Жизнь есть наивысшая форма существования материи. А вот что такое материя и смерть – совершенно непонятно.
– То есть вы пьянством отгораживаетесь от формы? Интересно!
– Выпивая часто и много, действительно форму можно и потерять. – Эта фраза дантиста всех рассмешила. – Нет, конечно! – Дантист опять схватил бокал, развел руки широко в стороны; хозяйка внимательно проследила, не разольет ли он вино на ковер. – Нельзя существовать и отгородиться от формы существования одновременно.
– И что же за форма такая, интересно? – сказала она игриво.
– Одно мы знаем: форма сложная. Очень сложная, – дантист вновь взмахнул руками, изобразив нечто неопределенное, видимо, саму жизнь.
– Может быть, жизнь – это способность к самовоспроизводству? – Немка с надеждой уставилась на дантиста.
– Но бесплодный организм не перестает быть живым.
Хельга опять густо покраснела.
– Я думаю, фрау говорит о жизни, а не об отдельном организме. – Подросток не хотел уступать.
– Ну тогда, может быть, жизнь определяется наличием генетической информации?
– Умершее тоже является носителем генетической информации.
– Тогда давайте сначала найдем различие между живым и мертвым. – Радостный тон хозяйки предполагал, что здесь с минуты на минуту они отыщут истину. – Как там нас учили, в школе: смерть – это прекращение биологических и химических процессов.
– Способность умереть как общее свойство всего живого – наиболее точный определитель жизни? А что, интересно! – Дантист азартно потер ладони. – Если принять на веру, что жизнь – это особый процесс, то как отличить ее от других процессов, которые мы не назовем жизнью? Формой?
– Ну вот. Мы опять уткнулись в форму.
Все опять рассмеялись, а Ади постучал вилкой по бокалу.
– Вы забыли про главное отличие.
Все смотрели на него так, словно заговорил глухонемой, демонстрирующий чудесное исцеление.
– Вы забыли про чик-чик-чик. – Немец в воздухе сделал движение двумя пальцами, изображая ножницы. – Вот что еще разъединяет эти две веры.
– Что это за “чик-чик-чик”? – Хельга повернулась к мужу.
Хозяйка смеялась до слез, вытирала их пальцами, подняв вверх редкие брови. Кроме жены, Ади поняли все. Только она не поняла это птичье “чик-чик-чик”.
Ночью у рыжей поднялась температура, и, когда она не вышла к завтраку, к ней заглянула хозяйка. Вся эта простуда из-за бессмысленной прогулки, но какое счастье, что у них есть дантист, какой-никакой, а доктор, и сейчас она его пришлет.
Дантист посмотрел горло, распорядился принести парацетамол, принять, если температура еще подскочит, велел каждый час пить ромашковый чай, полоскать нос и горло раствором соли и пока из постели не вставать. Скоро с термосом кипятка и чаем пришел сын хозяйки. Виновато постоял рядом, составил все на прикроватную тумбочку и ушел. Он же принес ей и обед. Сел рядом, рассказал что-то из детства, перед тем как уйти – извинился. Зашел после ужина – принес плед.
Про то, что случилось в лесу, решили никому не говорить. Вернее, решил он, а она согласилась. Больше они о том не вспоминали. Говорили о многом, ей нравилось его слушать, и, когда через два дня она вышла на завтрак, он виделся ей совсем другим.
Следующей ночью он пришел, сбивчиво говорил что-то про детство, целовал мокрыми губами и убежал, хлопнув дверью. Так началась эта странная связь.
Он приходил каждую ночь, после близости они тихо говорили про оперу, литературу и про то, как странно устроена жизнь. Однажды даже опоздали на завтрак. Кажется, никто не обратил на это внимания.
Приехала еще одна пара из Манчестера – муж, страстный футбольный болельщик, и хохотушка жена. Дантист по обыкновению шутил, потом сообщил всем, что приезжает его дочь. Сын хозяйки посмотрел на рыжеволосую с грустью.
И опять была ночь, он ушел под утро, а она долго не могла заснуть, разглядывала лепную розетку вокруг люстры, размышляя о том, как приятна его детская зависимость и как легко у нее в руках оказались все права на этого юношу.
А через день она увидела их в саду. Милая девушка с глазами дантиста – пожалуй, даже хорошенькая, – сидела на шаткой скамейке, а он стоял рядом и что-то говорил, размахивая руками. Девушка широко улыбалась – на щеках у нее то появлялись, то исчезали ямочки.
Пришлось вернуться в дом – не хотелось заметить в его глазах неловкость или испуг.
За обедом юную пару посадили вместе. Рыжеволосая делала вид, что рада за них, а потом плакала в номере и, стыдясь красных глаз, не пошла на ужин. Попросила, чтобы еду принесли в номер, ждала, что он придет позже и у них будет возможность поговорить. Он объяснит ей, что, ухаживая за юной барышней, он лишь отводит внимание любопытных от них самих. А потом они просто поболтают. Мило, весело и ни о чем. Она причесалась, переоделась в любимую блузку, даже решила хвалить дочку дантиста и подтвердить, что они великолепно смотрятся вместе и могут составить чудесную пару. Рассуждать об этом она будет легко и всячески его поощрять. Ужин с кухни принесла старшая горничная; переставляя тарелки с тележки на стол, рассказала, что хозяйского сына и свою дочь дантист увез ужинать в город.
Ночью она просыпалась от каждого шороха. Под утро он все же зашел.
– Очень милая девушка, – начала она. – Хорошенькая и, по-моему, добрая.
– Да. Очень. Я, знаешь, когда с ней говорю, у меня голос так по-идиотски дрожит. Просто дурак дураком. А она – да, она такая волшебная, каких не бывает! Ну, я пойду.
– Не останешься?
– Нет.
– Почему?
– Не могу.
Он вышел, а она плакала, зажимая подушкой рот.
За завтраком рыжеволосая объявила о своем отъезде. Надеясь, что хозяйский сын попытается ее отговорить, что не потерпит ее отсутствия, откажется отвозить на станцию. Но он к ней больше не зашел. Она сначала злилась на него, потом на себя, а к вечеру стала себя жалеть. Собиралась в ужасном настроении.
Утром хозяйка распорядилась насчет машины. Рыжеволосая рассчиталась. И уже у самого выхода, в коридоре наткнулась на Ади.
– Я вас понимаю. Я понимаю, почему вы уезжаете. Спасибо вам.
– Спасибо за что?
– Если бы вы остались, мне было бы сложно и дальше все скрывать.
Она кивнула, не понимая, о чем он говорит.
– А правда, что в России, когда она еще была Советским Союзом, именем моей жены называли комплект мебели?
– Правда. Но их так назвали совсем не русские. Их делали в Восточной Германии. А у нас уже продавали с этим именем.
– Да, да. Я понимаю.
Непонятно было, чего он хотел.
– А они были красивые? Эти мебельные гарнитуры?
– Тогда, наверное, они считались красивыми.
– А сейчас?
– Ну, я не знаю. Вы можете посмотреть на них в интернете.
Он опять мелко закивал, взял в руки ее ладони и повторил то, с чего начал:
– Вы необыкновенная женщина. Вы правильно делаете, что уезжаете. Иначе я сошел бы с ума.
Он хотел сказать что-то еще, но только махнул рукой и недовольно пошел по лестнице наверх.
Через час она была на станции. Уже сидя в вагоне, прислонившись виском к холодному стеклу, она увидела на станционной площади сына хозяйки, выходящего с почты. Он неуклюже нес большой сверток, газеты, свернутые в рулон, и письма. Остановился, пошарил в карманах, перекладывая все из одной руки в другую, по-мальчишечьи неловко согнувшись, выронил газеты, поднял и уронил опять.
Его нагнала компания друзей, рослых, громких, и он, смеясь, пожал руку каждому Поезд тронулся. Спины на мгновенье заслонили его. Она даже привстала, чтобы увидеть его в последний раз, – глаза, тени под ними, высокий лоб.
Двое из компании повернулись на звук отходящего поезда, на одном из них была шапка с белой меткой на лбу, но тут все заслонило здание вокзала, и они исчезли из вида.
Померанский шпиц
– А почему у вас на той картине с трубкой написано, что это не трубка?
ОбывательТьфу, опять провалился в сливную решетку! Никак не могу привыкнуть к этой чертовой железяке у порога. В парижском доме такого не было. Зачем мы вообще переехали сюда, в эту мокрую и скучную Бельгию? Жоржетта визжит как резаная, хотя ничего, в общем, страшного, лучше бы помогла мне выпутаться. Переполошилась, а толку никакого. Она вообще слишком эмоциональна. Ну все, успокоилась, открыла дверь, зная мое нетерпение, пропустила вперед и осталась собирать почту.
В доме невыносимо воняет. От мерзкого запаха краски и уайт-спирита тошнит и голова кругом. Его слышно далеко на улице, а здесь он и вовсе нестерпим.
В столовой у мольберта стоят Рене и плотный господин, прокопченный теми дрянными сигарами, которые в прошлую пятницу кто-то оставил в мастерской в банке из-под соли Cerebos. Проскакиваю мимо – на кухне стоит приготовленная для меня вода. Быстро пью и бегу в сад. Слышу, как свистит Рене, делаю вид, что не замечаю, иначе придется стоять в этой вони или еще хуже – показывать всякие глупости.
Присел возле клетки с птицами. Идиотические создания. Голубой волнистый попугайчик дерет на себе перья, и они валятся на дно клетки, а оттуда их за прутья вышвыривает его желтая жена – абсолютная дура. Пара чечеток прыгают с ветки на ветку, как заводные, а за ними с трудом поспевает старая пеночка, у кормушки дерутся пестрый королек и чиж. Сожрать бы всех, да не достанешь!
Жоржетта с шумом открывает окно столовой, оно выходит как раз на клетку, и мне приходится бежать от вони в глубь сада, к самой мастерской. Раз у Рене в гостях человек, значит, работать он сегодня уже не будет, а будет показывать что-нибудь из готового. Если у Копченого своя галерея, значит, потащат чего-нибудь с чердака, а если нет – будут обсуждать то, что стоит на мольберте. Хорошо, что Жоржетта открыла окно, скоро можно будет поваляться в спальне и не задохнуться.
Рене высунулся в кухонное окно и стряхивает с ладони крошки, потом приветливо машет мне. В белой рубашке и галстуке он похож на банковского служащего. Его методичность и неспешность меня успокаивают. От него, правда, всегда несет этой жуткой краской, но зато он никогда не визжит и не пугается. Не то что Жоржетта. Еще она возомнила, будто я обожаю, когда меня таскают на руках, и все время норовит меня схватить, а мне вовсе это не нравится.
С грецкого ореха, что растет за забором у соседей справа, истерически орет голубь: гу-гух-гу, гу-гух-гу, гу-гух-гу! Рене их обожает. К сожалению, отсюда голубя не видно, но понятно, что он толстый, и страшно хочется его погонять. Я скребу когтями забор, но лаять не буду. Рене это не любит, а я не хочу его волновать.
Дверь в мастерскую зачем-то подперли стулом. Копаюсь в земле. Где-то недалеко спит мышь. Рыть лень, все равно не успею, убежит. С кухни потянуло кофе. Значит, убрали краски и будут разговаривать. Не могут же они пить кофе на столе, где банки с растворителем и лаком. Бегу к окну. Да, краской пахнет меньше. У кофе тоже запах гадкий, но все лучше, чем краска. И еще, когда пахнет кофе и есть чужие, значит, от Жоржетты может перепасть кусок кекса, сахара или галеты.
В тесной столовой ложусь специально перед камином, у ведра с углем, – знаю, что так они обратят на меня внимание быстрее, обязательно скажут какую-нибудь банальность про черный уголь и белого шпица. А дальше уже проще, нужно подойти к Жоржетте или гостю, и потрогать лапой ногу, и сделать глаза, будто тебя хотят ударить камнем. Этому меня в детстве научили братья.
Ага, хвастаемся. Поверх незаконченной работы поставили эту, как ее… Рене написал ее несколько месяцев назад. Мы ею гордимся. Весь холст занимает огромный человечий глаз. Только вместо радужки – небо в белых облаках.
Копченый стоит обалдевший. Рассматривает ее, как будто перед ним что-то опасное. Боится. Не предполагает, что органы чувств лишь отражают внешность вещей, но не передают их скрытой сущности. А уловить смысл бытия помогает несоединимое.
Рене волнуется, у него от этого краснеет шея. Хотя чего волноваться, он уже столько раз это проходил. Интересно, что это за тип? Не думаю, что он из тех, кто понимает, что разгадка тайны живописи может родиться лишь из сближения двух более или менее удаленных друг от друга реальностей.
– Да, я понимаю. Это у вас как сон. – Копченый произнес это таким сиплым голосом, будто у него в горле заноза. – О снах много у господина Фрейда. Да. – Гость явно не в теме. – Так это вы свои сны изображаете? У меня вот тоже кузина рисует. Но она все больше реальный мир.
О чем это он? Где сон, а где реальный мир? Где реальный мир, а где наши представления о нем? Ничего, видимо, не понимает. Кретин.
Молчат. Рене трет руками лоб. Да, дружище, ты сегодня попал. Это тебе не друзья-художнички, которые собственные имена путают, но уж в искусстве понимают. Так что это не сон и не явь, Копченый.
Рене мотает головой и опускает руки. Словно сдается. Нет, Копченый, это не сны.
– Может, я не понимаю? Объясните. – Копченый насаживает на нос пенсне, и глаза его расплываются двумя грязными лужами.
Рене морщит лоб и трет пальцами переносицу, будто пенсне Копченого мешает и ему.
Копченый, да не может он тебе точнее объяснить, прокуренная твоя голова. Потому что суть – тоже вещь ускользающая и способна ко всевозможным видоизменениям. Прими просто все на веру и даже не пытайся найти этой мысли полочку в своем примитивном сознании. Прими это как ощущение. Но и это тебе, дружище, сделать будет довольно сложно. Неужели в твоей голове так никогда не бывает – когда возникает нечто эфемерное, еще не мысль или картинка, что-то между, что никак нельзя обозначить словами, и все будет приблизительно или неточно. И от этой вот неточности кажется, что создание – это плод спирита твоего, а не результат твоих логических измышлений.
– Не понимаю, что вы хотели этой картиной сказать. – Копченый упрямо качает головой и не смотрит на Рене, а значит, даже не хочет его понять.
Рене сейчас пойдет за книгой. Я вскакиваю, бегу быстрее него к столу в гостиной. Рене действительно идет за книгой. Берет ее со стола и подмигивает мне. Копченый удивленно следит за мной через стеклянные двери в столовой. Лицо его отсюда искажается наплывами стекла в двери, и, кажется, фрагменты его головы двигаются отдельно. Тоже ведь реальность, но какая?
Жоржетта тоже подняла брови, мол, ты-то куда, будто я не понимаю, какой цитатой Рене может ответить. Она, конечно, мила, но многого ей тоже не дано. Грозит мне пальчиком. Лучше опять сбегать в сад, вдруг жирный голубь перелетел к нам.
В саду заметно похолодало, удлинились тени, голубя даже не слышно. У соседей слева вспыхивает окно в садовом домике. Поднимается ветер – тянет торфом, гарью и меловой побелкой. Уличный фонарь освещает оставленное вчера в траве кресло. Мокрая трава неприятно дерет по животу. Жую пырей, писаю на забор, опять нюхаю там, где пахло мышью, но сейчас ее там нет. Становится совсем холодно – бегу домой.
Рене с гостем пьют кофе, а Жоржетта читает вслух.
– …полное подчинение материи духу, что материя превращается в символ, посредством которого дух раскрывает себя. – Она вздыхает и аккуратно закрывает книгу. – Сэмюэл Тейлор Колридж.
Теперь у гостя будет еще больше вопросов. Бедный Рене. Вырыл ты себе яму, сам того не желая. Ну посмотри на это заплывшее лицо, на маленькие, подпертые щеками глазки! А? Ей-богу!
Жоржетта улыбается Копченому и просит Рене показать, над чем он работал сегодня. Рене кивает, встает и снимает глаз с мольберта – под ним новое, незаконченное.
Стена. Окно. Коричневые статичные занавески. За окном – пейзаж. Кроны деревьев вдалеке. На переднем плане – луг. Справа – тонкое дерево, вокруг – кусты. На заднем плане – дорога. Часть этого пейзажа – холст, стоящий на треноге перед окном. Небо не такое, как сейчас, а радостное, летнее. Пейзаж – легкий, воздушный, а интерьер сдержанный, сухой.
Значит, сейчас речь пойдет про внутреннее и внешнее. Я зеваю, Жоржетта смотрит на меня строго. Берет нож. Я прячусь под стол. Но она просто нарезает лимонный кекс. Кладет гостю добавку. Скребу Жоржетте ногу – понятно, что с Копченым номер не пройдет, этот все равно ничего не даст. Жоржетта не обращает на меня внимания. Поднимаюсь на задние лапы, кладу голову ей на колени. Она отламывает мне маленький кусочек кекса, так, чтобы не увидел Рене.
– Как интересно, Рене, мы как раз вчера обсуждали это с друзьями.
Ей так хочется помочь мужу, но, к сожалению, ее уму это не под силу. Смешная, с ямочками на щеках Жоржетта.
Да, вчера приезжали Луи с Большой Ирен, Поль Нуже, Марсель в новых очках, Камиль и брат Рене – Поль.
Рене фотографировал, а остальные, лежа на земле, изображали звезду. На них косились прохожие и показывали пальцами дети. Луи кричал всем, что они и сами не рады такому их использованию, но, к сожалению, поделать ничего не могут, потому что Рене – гений и они собрались здесь, чтобы быть его музами. Одна старушка в серой шляпке перекрестилась. А Луи все орал, что они создают иной мир и свидетели этого должны только радоваться. Потом вся компания встала на фоне каменной стены, и каждый делал вид, что отгрызает от нее по куску. Было шумно, прохожие переходили на другую сторону дороги, а Рене веселился больше всех. Ей-богу, когда Рене фотографирует, он становится безумным, отпускает на волю детство. Всегда такой сдержанный, он превращается в хулигана, способного на дерзость. А вот рисование – это серьезно, это кропотливое изображение логических построений, в которых нет ни одной случайной детали, какими бы безумными на первый взгляд они ни казались.
К вечеру все вернулись домой. Там Рене позировал сам: взял в руки трость, лицо спрятал, поставил на колени холст, а голову накрыл одеялом. Попросил снять его с закрытыми глазами. А потом – в котелке. Ему казалось, что в нем он становится невидимым. Обезличенным, человеком из толпы. Никем.
Дальше снимали двойной портрет, Рене сидел за Жоржеттой, изображая ее тень. Потом пили кофе и спорили о теме раздвоения. Когда совсем стемнело, стали придумывать, как назвать уже написанные работы, потому что названия картин не содержат объяснений, а картины в свою очередь не иллюстрируют своих названий.
Заголовок не должен учить – только завораживать и удивлять.
Поль залез на стул и кричал, что заголовки выбираются им таким образом, чтобы помешать зрителю поставить картины в успокоительную область, куда в противном случае завел бы его машинальный ход мысли, преуменьшив истинный масштаб полотна.
Les titres sont choisis de telle façon gu’ils empêchent aussi de situer mes tableaux dans une région rassurante…[1]
Я тоже считаю, что разногласие между названием и картиной способствует волшебному удивлению, которое Рене считает главным предназначением искусства.
Так они дурачились вчера до полуночи, потом вынесли в сад стулья, Жоржетта притащила маски и всех заставила их надеть. Я путался – узнавал запах, но не узнавал лицо, и всех это очень веселило. Два раза чуть не поранился о юкку. Кто догадался эту гадость посадить у самого дома – неизвестно. Совсем уже в темноте, когда я умирал как хотел спать, они орали что-то, прославляющее Босха, про волшебный реализм Бельгии и что этот самый реализм, как разновидность европейского романтизма, имеет свои национальные особенности. Лучше бы спать шли, ей-богу.
– Объясни это проще! – кричал Марсель и нагибался, близоруко шаря в траве руками – его новые очки постоянно сваливались.
– Короче говоря, берется голубка и засовывается в задницу начальника вокзала! – кричал на него Поль.
А Рене показывал неприличное рукой.
– Гислен, прекрати! – Жоржетта так называла Рене, когда хотела ему насолить. Он ненавидит свое второе имя.
– Это не я сказал! – не унимался Поль.
– Тем более нечего повторять чужую чушь!
– Это, между прочим, сказал Пикассо про сюрреализм!
– И что? Почему мы должны повторять его чушь? – кричал Марсель.
– Не должны! – орали они хором.
– Пикассо раздражает сюрреализм! – Поль замахал над головой шляпой.
– То есть его раздражает знание абсолютной мысли, – подытожил Марсель – он всегда говорит очень красиво. И точно. – Мы, – продолжил он, – мифопоэтическое направление, восходящее к искусству великого Иеронимуса! Вы вспомните, как он легко переводил сложнейшие алхимические, астрологические, фольклорные символы на язык художественных образов! Даже его бесконечные фоны-пейзажи есть символ высшей духовности, к которой стремится грешное человечество.
Потом хором цитировали Метерлинка:
– Символ – это сила природы, разум же человека не может противостоять ее законам. Если нет символа, нет произведения искусства!
А сейчас Рене ждет реакции Копченого. Тот в свою очередь ждет объяснений от Рене. Рене морщится, но молчит. Он считает это невозможным – объяснять свои работы. Опять вмешивается Жоржетта:
– Перед окном, которое мы видим изнутри комнаты, Рене поместил картину, изображающую как раз ту часть ландшафта, которую она закрывает. Таким образом, дерево на картине заслоняет дерево, стоящее за ним. Для зрителя дерево находится одновременно внутри комнаты на картине и снаружи в реальном пейзаже.
– Вот как, оказывается! А я и не заметил. – Копченый встает, делает шаг к мольберту и наклоняется к нему плотным корпусом. Пиджак на спине идет складками, тоже морщится в непонимании. – Действительно, тут еще картинка перед окном. Как смешно!
Рене молчит. Он не находит в этом ничего веселого.
Копченый ждет, а Рене продолжает молчать.
Ну почему же он молчит? Почему он не скажет, что именно так мы видим мир. Мы видим его вне нас и в то же самое время видим наше представление о нем внутри себя. И что таким образом мы иногда помещаем в прошлое то, что происходит в настоящем. И, значит, время и пространство освобождаются от того тривиального смысла, которым их наделяет обыденное сознание!
– Интересно! – Кажется, что Копченый водит по холсту носом. – Действительно, вы посмотрите! Возле окна картина, на которой изображена та же часть пейзажа. Какой вы шутник! Как вам такое в голову идет?
Копченый загородил собой холст, и мне, чтобы видеть хоть что-нибудь, пришлось встать слева от него. Хорошая работа. Молодец, Рене. Смотришь на нее, и правда приходит это волшебное ощущение – острая радость расшифрованного смысла. И главное, что это расшифровка не сюжета и не содержания, а таких тонких нюансов восприятия мира, которые до сих пор, казалось, ты совсем не замечал. А через это к тебе приближается понимание общей мировой концепции.
Вокруг смеются – оказывается, все давно смотрят на меня. Вот, ей-богу, слабоумные. Даже Жоржетта, думаю, не понимает Рене до конца. А я понимаю, я вот сейчас могу поклясться, что это одна из его самых сильных работ. Уверен, что Рене повторит ее еще не раз. И готов биться об заклад на что угодно, что висеть ей в лучших музеях мира. А вы смейтесь, смейтесь, дураки.
Бегу в коридор, чтобы никого не смущать.
– Ну, уж если быть честным до конца, – Копченый говорит это извинительным тоном, – на мой вкус, ваши картины, господин Магритт, как бы это так выразиться, немного того, холодноваты. Предметы с дохлятинкой. Все вроде то. Но нет в них жизни. Они как чучела всего живого. Даже когда Жоржетту пишете – она получается манекеном.
Вот идиот! Не приходит тебе в твою прокуренную башку, что он специально этой холодностью изображения подчеркивает отстраненный взгляд на вещи. Быстрый, поверхностный. Ведь не пытается же Рене передать их физическую сущность, а вся идея в том, каким смыслом наполнит их смотрящий. И чем сильнее столкновение этих сущностей, тем большим смыслом вынуждены их наградить, идиот! Ну, куда тебе!
– Вот, я видел, другие художники…
Да что там твои другие художники! Пытаются просто исказить предметы. Они у них то разжижаются, то каменеют, смешиваются и растворяются друг в друге. А Рене жонглирует ими, как они есть, обычными, не теряющими своей изначальной формы. И только само сочетание этих предметов заставляет задуматься. Этот на первый взгляд сухой стиль усиливает узнавание, погружает зрителя в метафорический оргазм, вызванный тайной сутью вещей. Кретин!
– Какая ваша цель, так сказать? – Слышно, как Копченый самодовольно ухмыляется своему вопросу.
Цель Рене – заставить зрителя думать. Из-за этого его работы напоминают уравнения, но решить которые невозможно, так как ответ на них – это сама суть бытия. Рене постоянно кричит об обманчивости видимого, о его скрытой тайне, которую обычно не замечают. Призывает нас сделать шаг навстречу этой тайне. Сталкивает нас самих с физических рельсов, по которым так спокойно и уютно ехать на низкой скорости.
– Прекрати! Хватит! – Это Рене кричит мне. Наверное, я рычал от злости. – Выведи его отсюда! – Это он уже Жоржетте.
Какая несправедливость: гнать нужно Копченого, а не меня.
В спальне полумрак. В левом углу красный шкаф, а в правом – черная лакированная ширма. На камине стучат часы.
Никакой Рене не Бог! Не могу простить ему того, что я не первый и не последний шпиц в его доме. Того, что, когда настанет время, меня заменят такой же копией. Еще одним белым шпицем, ну или черным. И дело тут даже не во мне. А в том, что это единственное, что противоречит его большой идее. Он заменит меня подделкой, а все его искусство говорит о неважности формы и тайны сути. Рене, чего же тогда стоит вся эта твоя хваленая философия и вся твоя живопись?
– Он не пишет ни фантазий, ни сновидений. – Из столовой доносится голос Жоржетты. Она устала.
– Но я читал, ваши картины называли снами.
– Нет, картины Рене если и сны, то не усыпляющие, а пробуждающие.
– Вас послушать, все такое таинственное.
– Да. Потому что без тайны – ни мир, ни идея невозможны!
– А разве вы, как и доктор Фрейд, не занимаетесь толкованием снов?
Вот идиот. Метод, который использует Фрейд, направлен прежде всего на выявление болезненных расстройств психики. На это же нацелено и толкование произведений искусства, предложенное Фрейдом. То есть все сводится к частному, лечебному фактору. А Искусство, как его понимает Рене, неподвластно психоанализу. Это всегда тайна.
– И ваши картины невозможно интерпретировать с помощью психоанализа?
Нельзя! Вот такие, как он, решили, что “Красная модель” – пример комплекса кастрации. Ужасно видеть, какому глумлению может подвергнуться человек, сделавший один невинный рисунок. Возможно, сам психоанализ – лучший объект для психоаналитика!
Квартира слишком мала, чтобы спрятаться куда-нибудь от этой глупости; как только у Рене хватает мужества все это терпеть?!
– А вот почему у вас на той картине с трубкой написано, что это не трубка?
Потому что никто не может осмелиться утверждать, что это трубка. Лучше бы Рене дал ему в зубы.
– Ну ясно же видно, что это трубка. – Копченый уперто настаивает на своем.
– Тогда насыпьте в нее табак и попробуйте раскурить.
Грохнул стул – видимо, Жоржетта, прокричав это, вскочила с места.
– Но это же невозможно!
Он и пишет, что это не трубка! Образы постоянно лгут. Вот они и вас обманули.
– Но, а если бы вам заказали нарисовать что-либо…
– Моему мужу никогда не приходилось получать заказы на конкретные картины! Каждый раз он заказывает их себе сам!
Гремят тарелки. Жоржетта собирает посуду. Нужно покрутиться там, может, что и осталось.
В столовой пауза. Рене стоит, отвернувшись к окну, – он всегда смотрит на птиц, когда хочет успокоиться, – а Копченый сидит, скрестив на груди короткие руки. Жоржетта мечется между кухней и столовой.
Пойми ты, прокуренный дурень, его живопись ничего не скрывает. Она вызывает ощущение волшебства, и, конечно, когда человек видит одну из его картин, он задается вопросом: что это значит? А это ничего не значит, потому что волшебство само по себе ничего не значит: оно непознаваемо!
– А вот, кстати, о комплексах, скажите, – Копченый извинительно прогибает шею. Рене щурится, это первый признак того, что ему это все надоело. – А правда, что ваша мать покончила с собой, бросившись в реку?
Рене молчит. Из кухни тихо выходит Жоржетта, закрывая ладонью рот. У нее округлились глаза и сморщился лоб.
– Когда вам было четырнадцать.
В доме наступает абсолютная тишина, только часы в страхе шепчут, заикаясь: тик-к-ки-так, тик-к-ки-так, тик-к-ки-так.
– И что ее нашли семнадцать дней спустя? – Копченый еле шевелит толстыми губами. – И что тело было практически полностью обнаженным и только голова опутана подолом ночной рубашки?
Рене ребром ладони бьет по столешнице. Жоржетта вскрикивает, а Копченый продолжает громким речитативом.
– И что ваши женские изображения с лицом, закрытым платком или полотном, как у мертвых, свидетельствуют о бессознательном отождествлении модели с покойной матерью?!
Жоржетта плачет, ее лицо покрывается красными пятнами. Она бежит в ванную и, запнувшись о невысокий порожек, воет еще громче.
Рене снимает работу с мольберта и ставит на пол, отвернув изображением к стене. Потом, одернув жилет, выходит в сад, но закрывает за собой дверь перед самым моим носом. Копченый вскакивает и, подхватив с крючка шляпу, боком протискивается к входной двери.
Хорошо хоть, не закрыли окно. Сижу у дверей в сад. Нюхаю щель. Так ближе к Рене. Прислушиваюсь, Рене сначала ходит туда-сюда по траве, с силой рвет ее ботинками, потом слышно, как звенит стекло двери в мастерскую.
В каком же невыразимом одиночестве он существует среди этой глухоты, от которой один только прок – возможность услышать молчание этого мира. Бедный, бедный Рене, черт бы подрал весь этот странный мир. Я готов забыть свои обиды, и плевать, что меня заменят копией, как уже четырех до меня. Плевать. Только выпусти меня в сад. Очень хочется отлить.
Из ванной выходит Жоржетта, с мокрыми щеками и красным носом, ей это не идет. Садится на стул, как будто собралась позировать. Возвращается Рене. Закрывает проход. Черт, опять невозможно выйти.
– Рене, – Жоржетта вздыхает, вытирает с подбородка слезы. – Почему ты мне об этом не говорил? – Она произносит это не своим, писклявым голосом.
– Рррр… Га-а-ав, га-а-ав, – отвечает Рене.
Кваидан[2]
Японская поговорка
Только во имя любви можно дойти до Канды и обратно.
Прощаясь с миром, садилось солнце.
С остановки ушел пустым последний рейсовый автобус. Соломенные крыши домов, спускаясь по склону к реке, одна за другой погружались в тень. Храм на горе Хаттоджи провожал солнце дольше всех, от него открывался вид на всю деревню – на ползущую вниз дорогу, на большой дом, последний в строю других, и подъезжающий к нему белый “ниссан лорел”.
Водитель в белых перчатках вынес к дверям чемодан, кланяясь, получил деньги, придерживая фуражку с кокардой. Сел за руль, “ниссан” развернулся, брызгая галькой, и оставил на пороге высокую женщину с длинными волосами цвета гари́[3].
Трещали цикады, из тесного пруда за пристройкой с велосипедами им гортанно вторили лягушки. Вниз, в ущелье, убегали делянки рисовых полей, а на стриженых чайных кустах болталась плотная паутина, будто через них пробирались в чем-то ватном и ободрались по дороге. Роса на колосьях риса так блестела, что женщина закрыла глаза, пока шар солнца не провалился за гору.
Она выбрала комнату на восемь татами, где в токономе[4] под простым рисунком стояла ветка дикого гладиолуса. Из мебели здесь были только низкий столик, задвинутый в самый угол, деревянная ширма и узкое зеркало на ножках, покрытое чехлом.
С уходом солнца цикады с лягушками запели громче. Темп им задавали бегущий мимо ручей и шумный вентилятор.
Загремела сёдзи – это пришла хозяйка, Мару-а-сан. Объяснила, что, где и как, отправила гостью умыться, сама достала футон, застелила его простыней, затолкала подушку в наволочку, развесила на ширме полотенца, написала на салфетке номер своего телефона и уехала.
Оставшись опять одна, женщина тут же легла – она не привыкла сидеть на полу. Подушка, набитая гречневой шелухой, хрустела, и, чтобы отвлечься, женщина принялась считать иероглифы на фусуме разделяющей комнаты. Трудно было поверить, что рваные мазки, похожие на орнамент, складываются в предложения.
Проснулась она от шума – к цикадам и лягушкам присоединились вороны. Часы показывали одиннадцать минут пятого. Женщина встала, потянулась – от жесткого затекла спина, – прислушалась и вдруг в окне заметила движение. Подошла к самому стеклу. В предрассветных сумерках по полю двигался человек – невысокий мужчина, весь в белом, с мотыгой на плече. Даже волосы у него были белые. Сначала он шел дорогой вдоль канавы, потом повернул к дому, словно направился ей навстречу. Женщине стало страшно: что это он задумал? Войдет, и что тогда? Но мужчина остановился, бросил мотыгу, размотал повязку на штанах и начал спокойно справлять малую нужду.
Она задохнулась от стыда, а он, наоборот, поднял лицо. Женщина села на пол и взмолилась, чтобы белый ее не заметил и не решил, что за ним следят. Было неловко, словно ее, а не его застали за чем-то стыдным. Мужчина тем временем закончил, прошел до чайных кустов и уже у самого дома свернул вниз. Теперь он шел быстро, то и дело наклонялся, отодвигая деревянные задвижки, и квадраты рисовых грядок один за другим наполнялись водой и вспыхивали лунным светом. Казалось, мужчина исполнял особый ритуал, шаг за шагом подсвечивая мир.
Скоро сквозь тонкие облака просочилось солнце. На смену лягушкам и цикадам пришли кузнечики – обыкновенный шум деревенского лета.
Велосипеды оказались заржавевшими и тяжелыми, она попыталась вывезти один из пристройки, но только поцарапала руку, запачкалась и пошла гулять пешком.
В деревне царило полное запустение. Часть домов были заколочены, а вывеска единственного рёкана предупреждала о том, что они не принимают постояльцев. Кафе на пересечении главных дорог, увешанное флагами реклам, работало только по выходным. Ветер гонял по пустой стоянке для машин газету, словно на земле исчезли все люди. Площадки для пикников утопали в траве, столешницы затянулись мхом, скамейки покосились, пруд у мельницы зарос плотной ряской – такую не пробьешь и камнем. Она решила бросить туда что-нибудь тяжелое, но не нашла вокруг ничего подходящего. Застывший день на мгновение оживило гудение пчел вокруг цветущего жасмина, но через несколько шагов все опять сделалось неподвижным.
Она поднялась выше – в храме тоже было пусто. У самого входа лежала гора щебня, сквозь которую лезла полынь. Дальше, по заросшему бамбуком склону, были вырыты земляные ступени, со стороны леса затянутые сеткой от кабанов; за подъемом начиналась тропинка, виляющая между истертых плит-надгробий. Бамбук сменился рослыми кедрами, и вскоре женщина опять уперлась в склон.
От жары и влаги тело стало липким, кусались мошки. Внезапно где-то у самых ног затрещало сухо, но звонко, будто кто-то затряс погремушкой из тыквы. Над одной из ступенек, укрепленных бревном, поднялся полосатый вибрирующий хвост, а потом – змеиная голова. Женщина остановилась.
Ничего себе, гремучая змея – бросок, и укусит. И никто не поможет. Но страшно от этой мысли не было. Ну, давай кусай, может быть, это выход. Все уже позади и ничего не изменишь. Но змея не двигалась, а только трясла хвостом, и женщина поняла, что змея боится, хотела бы укусить – давно бы укусила. Сейчас она уползет, и можно будет идти дальше. Но змея не двигалась, давая понять, что путь закрыт. Женщина кивнула, развернулась и пошла обратно.
В доме было не так жарко, а сетки не пропускали летучую живность. Она выпила холодного чая, вымылась, натерла укусы мошек солью. На полу, около ирори, лежала книга отзывов с наклеенной на обложку открыткой, поздравляющей всех с Новым годом, – снег, накрывший альпийскую деревушку, переливался алмазной радугой. В такое лето зима казалась утопией. Женщина открыла альбом – писали в основном на английском.
Август
Хаттоджи Фурусато. Лето. Стрекозы. Колыбельные лягушек. Соломенная тяжелая крыша, как свод мира. Удивительная мозаика зеленого. Нефритовое маркетри. Рисовые кусты, как узор на обоях. Мы одни в пустом доме. Лаковые на ощупь татами.
МТ17 августа
Была здесь тринадцать лет назад с родителями, еще ребенком. Сейчас с женихом. Маруа-сан постарела. (Хотя я, наверное, тоже. Ха-ха-ха.)
КанакоДальше писали фломастером, на тонкой бумаге буквы расплылись.
Здесь можно не следить за временем. Велосипеды старые, кататься непросто – но очень здорово. Нас встречали Маруа-сан и Момо-чан (ее симпатичная кошечка!).
Ниже была нарисована Момо-чан, которая больше походила на медведя с человеческим лицом.
“To be, or not to be” лихо перечеркивало следующую страницу, и под фразой красовались инициалы автора записи, а не автора строки. Дальше две страницы были исписаны по-итальянски. Жаль, что она не могла прочитать, – было любопытно, о чем так долго писал человек.
Вопрос в том, почему все-таки заблокирована тропинка к верхнему храму? Кто знает???
Гилберт. ВеликобританияЗдесь безвременье и абсолютное ощущение дома. Жаль, что здесь у нас всего одна ночь. Обязательно вернемся.
Руфь М. и Кэйт У.После двух страниц детских рисунков, не значащих ничего, шло несколько записей, сделанных в несколько заходов.
Да. Тишина здесь удивительная. Только лучше бы я не играла в эту проклятую игру “Проект-зеро”. Этот дом точно такой же, как в игре, а я здесь совсем одна. И мне здесь ночевать! И все же уехать отсюда невозможно. Сейчас только 18:40 – вся ночь впереди. Мысли путаются. Я знаю, однажды я приеду сюда не одна, а с ним. И сейчас я сбежала сюда от страха, потому что я там встретила его. А здесь мне нужно найти себя. Когда-нибудь мы прочитаем это вдвоем.
Не знаю, как я проведу ночь??? 20:16 Аааааа.
Мне кажется, я одна на всей этой планете. Дождь очень мелкий, как пыль, или это туман?
В земляной прихожей две лягушки. Ночь прошла спокойно, несмотря на все скрипы и стуки. Кто-то тут явно ходил. Может, привидение?
В этой деревне осталось всего восемь семей. В общей сложности тридцать человек. Плюс этот самурай.
Теперь поняла, в чем странность, – вижу, дождь, а абсолютно тихо. Это потому, что солома на крыше. А по нашей металлической в Австралии – стучит.
Дому 120 лет, деревне – 1200!!!
Я думаю, я его люблю!
Рисунок большого красного сердца был затерт пальцем – казалось, что сердце парит в розовом тумане. Следующая страница перечеркнута и сильно помята, на ней крупно – единственный вопрос:
Почему многие тропы здесь ведут в тупики? Кто их делал и зачем?
На следующей странице печатными буквами писал явно мужчина.
Второй раз останавливаюсь в этом доме – тогда, пятнадцать лет назад, все было так же, только я теперь другой. Я теперь в среднем возрасте. Куда-то подевались все мечты? Не захотели ждать пятнадцать лет?
Женщина усмехнулась и мягко провела рукой по голове. Казалась, она себя успокаивала.
Астарожно, змеи, привидеиии и еще самураи.
Судя по ошибкам, писал ребенок, хотя почерк крепкий и устоявшийся. Может быть, просто безграмотный человек.
А дальше печатными буквами почти с машинописной четкостью:
17-18 октября
Весь день за нами ходила белая собака шиба-кен – не приближалась и не уходила. На следующий день мы ее не видели. Кто-нибудь знает, чья она? А вчера проснулся оттого, что черная бабочка села на нос. Испугались. Оба. Разлетелись. Вот так встреча!
Йохан. Бельгия. БрюссельКак часто сюда возвращаются люди.
Япония изменилась за двенадцать лет, а Хаттоджи осталась такой же. Маруа-сан постарела, как и я. Прочитала про лягушек – зимой их нет! Мы – последние, которые живут здесь в этом году, – завтра наступает следующий! Всем счастья в Новом году!
Юки и БраенНесколько страниц вырвано, и запись начиналась с половины:
…ись моему решению. Когда луна исчезнет и солнце взойдет – нас здесь уже не будет. Никто не прочитает более восьми слов моего послания. Потому – пишу. Это прекрасное место для самоубийства, то есть для того, чтобы покончить с этим всем. Я лично предпочитаю этот чистый стиль ухода – замерзание. Не шучу! Именно так я хочу закончить! А до того хочу счастья и наслаждений.
Она отложила журнал. Вышла на кухню. Поставила на плиту старый эмалированный чайник. На холодильнике – подшивка инструкций с подробным объяснением, чем и как пользоваться в доме, на японском и английском, и деревянный поднос в хлебных крошках. На столе, в коробочке, сложенной из бумаги для оригами, – ручка и несколько карандашей.
Засвистел чайник – она поискала заварку, не нашла, но увидела записку от Маруа-сан, что чай в холодильнике. Действительно, в пустом холодильнике стоял большой бумажный пакет. Чай был странный – наломанные тонкие прутья, – но на вкус оказался приятным, напоминал гречневый. За окном стемнело, в стекло бился огромный пепельный мотылек. Пум-пум-пум, пум-пум-пум. Мохнатые лапки скользили по стеклу, тряслось чешуйчатое тельце. Женщина поморщилась, села за стол подальше от окна и опять открыла журнал. После страницы, где кто-то раскрасил цифры года, украсил их вензелями и птичками, на несколько страниц растянулись детские рисунки. Головастые принцессы, домики с деревьями, похожими на зеленые взрывы, большеглазые герои аниме и совсем неузнаваемые создания. Она было заскучала, но тут со следующей страницы красным фломастером завопило:
Кончилось все пиво. До ближайшего бара – километры. И нечего смеяться!7/
Ниже, после непонятной завитушки, – то ли схемы, то ли кто-то пытался расписать ручку, – тот же почерк продолжил:
Поход в темноту закончился ничем! Но когда Келли упала – было приятно наблюдать и даже зашевелилось внутри!
Дальше той же ручкой продолжил другой почерк:
Дружище, будь точнее – не внутри, а в штанах.
После чего бисерно, по-девичьи приписано:
Интересно, Алан, чего ты обкурился?
Скорее всего, последнее принадлежало руке самой Келли, которая куда-то падала, но в конце концов осталась жива. Следующие две страницы были склеены. А за ними ровным почерком четко обозначено:
Спасибо за:
атмосферу спокойствия
хороший и большой холодильник
за красивые пейзажи
за мама-сан
и за электрообогреватели
после недели в Токио очень расслабляет
мы оставили рулон розовой туалетной бумаги,
если кого интересует
После сообщения о щедрости шел рисунок дома напротив, за двумя рисовыми грядками, сделанный явно с натуры. Видно было, что рисовальщик был бесталанный, но располагал временем. Вместо равномерно разбегающихся делянок риса – белые пятна. Дата под рисунком расплылась в бывшем водяном пятне, но все же определяла начало января – значит, вместо зелени повсюду лежал снег. После этого в каждом сообщении начались жалобы на мороз.
19 декабря
Спасибо. Когда приехали, в доме было очень холодно, но быстро спасли обогреватели.
Спасибо Маруа-сан.
Если вы приедете сюда зимой – идите к замерзшему пруду, там подо льдом так красиво сверкают рыбы.
21 декабря
Красивый огромный дом! Как жаль, что я здесь одна! Больше никого. Холодно, и некому меня согреть. Нет ни друга, ни любовника, ни даже чужого! Ха-ха.
24 декабря
Мое первое белое Рождество! Никогда не видела снега!!! Всем счастья и счастливого Рождества, люди!
Мириам из Сиднея
Следующие страницы были все в кандзи и детских рисунках – похоже, в Японии начались школьные каникулы.
Женщина вспомнила школу, и ей стало неприятно. Там нужно было приспосабливаться к другим, теряя себя.
29 декабря
Мороз. Мы замерзшие два австралийца, которые уехали из сорокоградусной домашней жары. Но белые одеяла снега, укрывшие всю деревню поутру, заслуживают того, чтобы пострадать ночью.
Магия! Кстати, мы тоже ночью видели привидение. Наверное, это тот самый.
Дальше опять склеилось.
До рассвета вчерашний мужчина проходил опять. Она стояла у окна и смотрела на него, и ей показалось, что он тоже ее увидел. Но маршрут не изменил – развернулся у кустов и пошел по рисовым полям вниз. Она же, не прячась, стояла, пока он не скрылся из виду, вернее, не он, а его соломенная шляпа.
Днем она спустилась в лощину, туда, где по камням бежала перламутровая река. Дети, спасаясь от жары, играли в воде, швыряли плоскую гальку. По отмели стайками носились тени небольших рыбешек, тычась в прибрежную траву.
Над рекой в небольшом кисатэне днем можно было перекусить.
Официантка вместе с меню принесла маленький бамбуковый веер.
– Скажите, а вы слышали что-нибудь про привидения? Здесь, в этих краях?
Официантка испуганно замахала на нее – обрывая вопрос, записала заказ и засеменила на кухню. К женщине повернулся человек с бледным лицом, сидевший за соседним столом. Судя по акценту, немец.
– Вы смотрели знаменитый фильм Кобаяси? Там первый кваидан называется “Черные волосы”. – Мужчина замолчал, и не дождавшись ответа, продолжил.
Она слушала.
– История о молодом самурае, который бросил свою любимую, но бедную жену, чтобы выгодно жениться на другой. История довольно обычная. Новая жена оказалась особой злой и эгоистичной. Требовала, чтобы муж ее постоянно развлекал, отрабатывая, так сказать, новое социальное положение. И он чем дальше, тем чаще вспоминал первую жену и скоро понял, что она ему дороже всех других женщин. И много лет уже прошло, а все равно любит он только ее. Мучился он, мучился и в конце концов решил вернуться. Долго искал ту самую деревню. Нашел обветшалый дом. Понял, что пришел слишком поздно, но внутрь все же зашел. И там, к своему удивлению, увидел любимую. Она была все так же прекрасна и так же добра. Ждала его. И приняла в свои объятия.
Человек с бледным лицом замолчал, посмотрел на реку, на небо и продолжил:
– Утром проснулся самурай в этом заброшенном доме и обнаружил, что рядом с ним лежит полуистлевший труп.
– Какой ужас.
– Вы не верите в оборотней?
– Нет.
К дому она вернулась через рощу голубого бамбука. Седой налет на стволах походил на изморозь.
В эту ночь ей снились цветные сны. Что-то зеленое на красном фоне, одинаковое по тону, цвета спорили между собой, картинка мельтешила, и больно было смотреть. Она даже проснулась. Еще не рассвело, пятна из сна плясали в голове. Симультация – вспомнилось из институтских лекций. Что-то подобное было, когда она задремала в первый же день путешествия в шинконсэне[5] и поезд проходил через мост – мелькали металлические конструкции, перекрывая горячее солнце, и в голове вспыхивало то оранжевым, то синим. Теперь был алый с зеленым. Зеленый пришел от рисовых делянок, они были повсюду, вокруг домов, на склонах, у самых рельсов. Но этот алый? Как было там в лекциях? Красный тест-объект на сером фоне выделяет из него зеленый – и наоборот, зеленый тест-объект даст серому красный оттенок.
Когда она поднялась, мужчина уже шел к дому и смотрел на нее. Она не спряталась, а он перед самым поворотом остановился. На вид ему было лет сорок, но волосы его были совсем седые. Он стоял и смотрел, будто силился что-то вспомнить, она не двигалась и только чуть шевельнула рукой, прощаясь, и, словно включенный этим жестом, он ожил, отвернулся и опять пошел вниз по полям.
Вечером она долго читала и заснула позже, чем обычно. Проснулась, когда седой уже стоял у дома и смотрел на нее сквозь стекло. Она не удивилась, не спряталась и даже не накрылась. Лежать и смотреть на него снизу вверх было все же неудобно, тогда она встала, одернула ночную рубашку, убрала со лба волосы, шагнула к окну и поняла, что он стоит уже внутри комнаты. Как бесшумны тонкие перегородки-фусумы – она не слышала ни звука. Мужчина смотрел на нее так же, как вчера, – внимательно припоминая. Сделал несколько шагов навстречу, провел ладонью по груди и коснулся губами лица. Она не почувствовала даже его дыхания. Провел пальцами по затылку и крепко обхватил шею. Сильно запахло воском, его язык зашевелился в ней длинным жалом. Он так сильно прижался к ней, что невозможно было двинуться и сильно ныло внизу живота. Горячая волна пошла от головы вниз и там внутри разорвалась взрывом огромной мощности. Его волны разнесли по телу великое наслаждение. Когда она наконец затихла, мужчина положил ее на футон и вышел из дома.
Спала она сутки без сновидений. Когда проснулась, ее не покидало ощущение вселенской радости и очищения, будто она выбросила из себя что-то старое и ненужное. На футоне под животом было влажно. Она поменяла простыню. Про мужчину она помнила мало, только глаза и еще, как выжженное клеймо, черный ровный крест на шее, чуть ниже уха.
В этот же день в дом заселилась корейская семья с маленькой девочкой, у которой бинтом был перевязан наискосок глаз.
Женщина собрала вещи, она переезжала в Хиросиму. Перед тем как сесть в такси, обернулась – девочка стояла на пороге, упираясь костлявыми руками в дверную раму Маленькое игрушечное распятье. Женщина помахала ей рукой, и девочка улыбнулась. Зубы девочки были красными от крови.
Огромная гостиница, совсем недалеко от порта, смотрела окнами на залив и считалась одной из лучших. На кровати лежал буклет, на его обложке ухоженные женские руки держат лепесток орхидеи. В буклете говорилось о большом комплексе бань на семнадцатом этаже. Предлагали скидку: вместе с масляным массажем тела, чисткой лица и двумя видами масок – всего двадцать восемь тысяч йен.
После бань и массажа женщине не захотелось сушить волосы. Переодеваться тоже было лень, и она решила дойти до номера так.
В холле, перед лифтом, в одинаковых полосатых пижамах жались друг к другу два корейца. Короткие штаны и стеснение на лицах делали их похожими на детей. Она подошла ближе и поняла их волнение. За ними, на стене висел плакат – на нем перечеркнутые крестом изображения пижамы и халата. И теперь мы втроем стояли как иллюстрация того, что делать категорически запрещено. Друг на друга смотреть было неловко, хотелось исчезнуть или уничтожить запрещающую надпись, а лифт все не приходил. Шаги в коридоре пугали, скорее бы в номер, забраться под одеяло и почувствовать себя в безопасности. Наконец пришел лифт, трое, затаив дыхание, ждали развязки. И она наступила. Двери открылись, и там, в темном зеркальном пространстве, удесятеренные отражением, стояли, прижавшись друг к другу, человек пятнадцать с фотоаппаратами и осветительными приборами. Они уставились на троицу и плакат за ними. Никто не двинулся с места, никто не произнес ни слова. И, только когда двери закрылись, женщина расхохоталась и смеялась, пока не пришел другой лифт.
Утром в холле стояло с десяток неподвижных фигур в черных костюмах. Водитель такси рассказал, что в отеле остановился премьер-министр, который тоже прилетел вчера.
Маленькая корейская девочка сидела на полу, раскачивала языком передний зуб и ждала, когда мать приготовит рис. Отец спал: им пришлось ехать от Мито на машине, и по дороге они несколько раз заблудились.
Девочке было скучно, и она дотянулась до альбома, который лежал на полу открытым. Высунув язык, долго раздирала склеенные страницы пальцем. Наконец ей это удалось. Внимательно посмотрела на незнакомые буквы, повернув голову так, чтобы здоровым глазом видеть и ту, и другую страницу. Не нашла интересных картинок и потеряла к альбому всякий интерес. Пересела к окну и, раздраженная ожиданием, начала раскачивать зуб все быстрее и быстрее. Она с силой давила на него языком, пока во рту не хрустнуло и крови стало еще больше. Девочка ойкнула, скривилась, выплюнула зуб на ладонь и побежала показать матери.
На раскрытую страницу альбома с пола тяжело взобрался толстый мотылек и пополз по расплывшимся буквам.
…самурай, хотя одет, как обыкновенный крестьянин или монах. Но, видимо, в светской жизни они могли одеваться именно так. Похоже, что жил он в XVIII веке. Узнать его очень легко. На шее у него – черный крест. Если кто-то его еще видел, интересно…
Свидание. Лондон
– Тебя уже окружают вещи, которые кто-то выбросит после твоей смерти. Как ты не понимаешь, что время уходит. Сколько можно ждать? Пора действовать. Мне кажется, вы друг другу подойдете. Он как раз то, что тебе нужно.
За окном – кусок дома с лепниной: голубка распустила крылья над терновым гнездом. Говорят, в этом доме – масонский клуб.
– Господи!
– Ну чего ты?
– Страшно.
– Чего?
– Как-то страшно.
Пришла, встретились,
– Чего страшного-то? поговорили и разошлись.
– Но я же его не знаю.
– Ну и что?
– Неловко.
– Чего неловко-то?
– Ну просто. Незнакомый человек.
– А у тебя знакомый такой есть, чтобы на всю жизнь?
Я представляю себе человека, который часто сидит в читальном зале напротив, его большое лицо и пухлые пальцы в веснушках. Он всегда смотрит на меня с надеждой, и с той же надеждой он смотрит на каждую женщину в нашей библиотеке.
– Нет.
– Ну и вот. Значит, как ни крути, придется встречаться с незнакомым. Но только тебе незнакомым. Он знакомый моих знакомых, и они за него поручились. Я его видела, он вполне в твоем стиле.
Я вдыхаю и киваю одновременно. Подруга разбирает грязное белье, то появляется, то исчезает за кухонным столом.
– Ты уже чувствуешь себя в Лондоне как дома?
– Нет.
– Почему? – она на секунду останавливается и смотрит на меня строго. Потом вспоминает. – Да, Лондон же такой господин – он не торопится познакомиться. Его нужно сначала узнать. Ну, скоро узнаешь. И еще, – она улыбается, хочет приободрить, ее улыбка скрывает жалость. – Брось эти свои штучки.
– Штучки?
– Ты знаешь. Ну не любят этого мужчины! Поняла? Как только они замечают что-то такое.
– Замечают что?
– Ну, если в женщине что-то не то.
– Ты можешь говорить яснее?
– Ну, если в женщине возможна некая нестабильность, они бегут. Поняла?
– Что я, по-твоему, того? Ку-ку?
– Ну ты же художник!
– И?
– Ну, у тебя бывает.
Я отворачиваюсь – по стене двигается ее тень. Тень похожа на многорукого Шиву.
– И еще это, не стекленей – как ты умеешь.
– Что?
– Ну, как сейчас: я говорю, а ты стоишь как памятник. Слышишь? Они все ищут себе нормального человека в пару. Поняла? Все.
За мной хлопает дверь. Волосы путаются, липнут к губам, плотнее запахиваюсь, ветер лезет в рукава, и чайка кричит. Все-таки остров. В соседнем доме открыли ресторан после ремонта, выставили два стола на улицу – за каждым симметрично сидят два лысых мужика в плетеных креслах и читают. Один – журнал Vogue, другой – приложение к нему, всё о косметических средствах. Читают – серьезно, внимательно, как биржевые новости.
Девушка навстречу мне несет на вытянутых руках зонт, брезгливо, словно дохлую крысу за хвост. Сворачиваю у магазина детских товаров “Маленькие вонючки” налево. На Бейкер-стрит наступаю на зубную щетку. Что это она здесь делает? Не новая в упаковке, выпавшая у кого-то из пакета с покупками, а явно использованная, но не старая, вымазанная в пасте. Думаю, ее выбросили из окна со словами: “Катись отсюда, и чтобы ноги твоей здесь больше не было!” Мужчины не любят громкие разборки. Они вообще никакие разборки не любят. И он, конечно же, ушел.
Мне всегда трудно рассчитать время. Вернее, рассчитать его точно. Я никогда не знаю, сколько мне понадобится минут. Поэтому сегодня решила выехать пораньше. И правильно. На станции копаюсь в поисках мелочи. Потом вдруг свист, похожий на ультразвук. Чем ниже спускаюсь, тем он громче. Свистят песенку Cause ту heart belongs to daddy. Но очень пронзительно. Зажимаю уши руками и хочу попросить немедленно прекратить. Мне не нужна звуковая татуировка. Так неприятно, что хочется кричать. Но тут же, за поворотом, я натыкаюсь на того, кто это делает. Это рыхлый мужчина в грязном свитере. У него провалены и склеены веки. Он высоко задрал подбородок и раскладной палкой придерживает коробку с мелочью. Лицо обиженного младенца с ямочками на оплывших щеках и вытянутыми в трубочку губами. Слепой. Опять долго шарю в сумке, пока прохожие толкают меня в разные стороны. Выбираюсь из метро на улицу, а здесь – льет.
Во время дождя люди всегда идут быстро. Даже если они под зонтом и совсем не мокнут, они все равно торопятся. И если на них плащи, и капюшоны, и даже непромокаемая обувь. Даже в сапогах Wellington – все равно бегут.
На переходе жду, когда загорится зеленый. Через дорогу – Selfridges, видно, как женщины в никабах перебирают плечики с чем-то ярким. Наверное, у них под этим черным тоже что-то игривое. А муж ждет их, сидит на двух сдвинутых банкетках, зло говорит по телефону и ковыряет пальцем велюровую обивку.
В окне маленькой химчистки на Дорсет-стрит, низко склонившись над машинкой, работает портной. Маленький сухой старичок с желтой кожей. Круглые очки висят на кончике носа, прозрачная ладонь придерживает ткань. Над ним так низко висит кронштейн с вычищенной одеждой, что разогнуться нет никакой возможности. Редкие волосы, словно тонкие карандашные штрихи, зачесаны назад.
У меня есть время – можно посмотреть на цветы. Я люблю цветочные магазины. Люблю пряный запах мульчи и сироп королевских лилий. Мне нравится смотреть, как составляют букеты, как секатором режут стебли. Рядом со мной рассматривает ценник бородатая женщина. В ответ на мой взгляд она улыбается, смотрит на меня с кротостью. Ей нравятся мои удивление и стеснение. Чтобы не показалось, что я ухожу из-за нее, покупаю горшок травы “Детские слезы”.
Все равно приехала рано. В кафе тесно. Пахнет горелым молоком. Шумно. Осторожно устраиваюсь у окна, зонт ставлю в угол. Я люблю сидеть внутри, но чтобы это внутри было близко к снаружи. Люблю смотреть на людей. На этой узкой улице они особенно близко. Иногда их одежды задевают мое стекло, но они меня не замечают.
Напротив шляпная мастерская с магазином, на темно-зеленом золотом написано – James Lock & Со. В витрине – всевозможные головные уборы, за ними – обложки журналов. Grazia, Daced, Vogue, Elle, GQ, Style, Wonderland. На них – красивые люди в шляпах.
Вот черная обложка Esquire, там на огромном циферблате со следами ржавчины сидит молодой человек в трилби. Стрелки показывают пять пятнадцать. Как же так? У нас же встреча в три, каким образом сейчас пять пятнадцать? И чего я решила, что пришла рано? Или я действительно пришла рано и уже так долго здесь сижу? Как же я не заметила, что прошло уже больше двух часов? И что же, это значит, ко мне на встречу никто не пришел? А что я делала так долго? Просто сидела, и вот так мгновенно пронеслись два часа? Странно. Значит, он в конце концов не пришел? И что я тогда здесь сижу? Тогда мне нужно возвращаться.
Беру зонт из угла, встаю и вижу часы на стене в кафе – они показывают два двадцать две. Что за путаница. Я опять смотрю на витрину – там все еще пять пятнадцать, а внутри в кафе – два часа двадцать две минуты. В Болгарии это считается удачей, когда время на часах выстраивается в одинаковые цифры. При чем тут Болгария?
Ко мне подходит официантка, она смотрит на меня встревоженно. Видимо, у меня странный вид. Я спрашиваю, который час, – сама смотрю на настенные часы. Она молча показывает на эти же часы. Тогда я показываю на витрину. Она не понимает.
– А там уже пять пятнадцать, – показываю я на часы с обложки Esquire.
– Что вы имеете в виду? – она почти расстроена.
– Каким часам верить? – я говорю это и улыбаюсь, чтобы все было очень дружелюбно.
Видно, как она пытается меня понять, но не может. И еще ясно, что ей страшно. Почему сейчас ей может быть страшно? Что я такого спрашиваю? Так. Я в кафе. Пытаюсь узнать время. У меня здесь назначена встреча на три. И вот тут на стене часы показывают два двадцать две. Уже, кстати, два двадцать три. Так. Это же обложка журнала. А не настоящие часы. Вот это да. Извинись перед официанткой и сядь.
– Извините меня. Можно мне зеленого чая?
– Можно. Мятного или сенчу? – В ее голосе слышно сомнение.
– Сенчу, пожалуйста, – я опять улыбаюсь, но она не улыбается мне в ответ. Просто кивает и идет на кухню.
Опять устраиваюсь у окна. Так. Зонт. Ставлю в угол. Там уже лужа от него. Итак, я здесь всего около десяти минут. Как мне могло показаться, что прошло два часа? Не нужно об этом думать – ну, показалось и показалось. И что? С кем не бывает. Все в порядке. Просто нужно сосредоточиться. Сосредоточиться на чем? На том, что делаешь. А что я делаю? Я жду. Я жду человека – незнакомого мне человека, который захотел со мной встретиться. Чтобы что? Стоп. Опять. Не думай. Пойдет как пойдет, и все будет хорошо. Главное, нужно быть естественной и нормальной. Нормальной. Просто смотри на предметы – вот солонка и вот салфетки. Просто салфетки. А вот…
Официантка ставит передо мной чай.
– Спасибо.
Просто чай. Большая чашка – в ней притоплен пакет с заваркой, от него тянется нитка с этикеткой на конце – нитка примотана к ручке. Зеленый чай не должен завариваться долго. Нужно вытащить пакет. Отмотала нитку, подняла пакет. Куда бы его деть? С него капает. Держу его над чашкой. Чай капает в чашку. Куда деть пакет? Кладу на салфетку. По рыхлой бумаге расплывается желтое пятно. Становится неопрятно. Чистый такой стол, а рядом с чашкой – салфетка, где на мокром пятне лежит что-то грязное. Беру салфетку, иду к ящику для мусора и выбрасываю. Возвращаюсь на место. Но на столе осталось влажное пятно – некрасиво. Возвращаюсь за салфетками. Набираю их побольше. Вижу, как за мной наблюдает официантка. Зачем-то машу ей рукой. Она опять испугана. Зачем я ей помахала? Непонятно. Просто по-дружески. Как бы давая понять, что все в порядке. Вытираю салфеткой стол, сминаю ее в комок.
– Вы что-то хотели? – официантка, оттого что я помахала, решила, что я ее зову.
– Нет.
У нее в глазах изумление.
– Вернее, да.
– Что?
Я молчу, потому что “да” я сказала, чтобы она не подумала, что я помахала ей рукой просто так.
– Мне нужны салфетки.
Салфетки всегда пригодятся. Она какое-то время стоит, не реагируя, а потом все же уходит. Я отпиваю из кружки чай. Он совсем остыл. На столешнице рядом со мной лежит куча. Куча из салфеток. Их много. Ах вот оно что. Вот почему она не уходила. Я же сама притащила их сюда. Сейчас официантка принесет еще, и это будет совсем глупо. Так, нужно эти салфетки убрать. Куда? Например в карман. Аккуратно сворачиваю их и засовываю в карман – но видно, как они оттуда торчат. Запихиваю поглубже. Не хочется их мять, потому что мятые салфетки теряют всякий смысл. И тут вижу официантку – она стоит рядом с порцией новых в руках и внимательно наблюдает за тем, что я делаю. В ее глазах безнадежность.
Глупо. Глупо все получилось. Не нужно было запихивать их в карман. Хорошо, что у меня свидание не с официанткой – а то она уже давно поняла, что я того. Но это “того” никому не мешает. Правда? Я же никого этим… А официантку? Боже. Так, успокойся. Пей свой чай и смотри в окно. Дождь закончился. Смотри на людей. Молодой человек стоит напротив, прислонившись плечом к углу шляпной витрины. И смотрит на меня. Глаза хитрые, прищуренные. Смотрит – изучает. Это он. Это точно он. В вельветовых брюках цвета песка.
Он, наверное, стоит там уже давно. И давно меня изучает. А я тут с официанткой. Интересно, заметил он что-нибудь или нет. Он топчется, переносит вес тела с ноги на ногу. У него новые ботинки. Видимо, жмут. Это точно он. На ботинках блик – в них солнце. И еще там красивая строчка. И вот они повернулись вправо и пошли – ботинки из хорошей, дорогой кожи. Ушли. Значит, это не он. Вернее всего, это не он. Есть вероятность, конечно, что это все же был он и что он просто не подошел. Или это все-таки не тот человек. И к тому же еще нет трех. А у нас встреча в три.
Вот сейчас мне нужно быть внимательнее. И стараться, как сказала подруга, не стекленеть.
Два старых человека неясного пола в мешковатых штанах и мужских рубахах в мелкую клетку идут, держась за руки. Видно, что они счастливы. А я? Счастливая я или нет?
Потянуло холодом – в кафе вошла женщина с татуированным пером на предплечье. Над пером маленькая ручка – это спит младенец на ее руках. За ними вбегает ребенок постарше, замирает перед аппаратом с напитками и нажимает сразу на все кнопки. Женщина какое-то время стоит в проходе и громко по телефону объясняет кому-то про шоколад. Шоколад. Говорят, для некоторых шоколад – наркотик. Я видела лица этих людей у витрин шоколадных лавок. Моя подруга, помню, удивлялась, как у нас может долго лежать шоколад. Она всегда съедала его, как только он появлялся в доме. Она не понимала, как можно не съесть шоколад сразу. Как можно около него ходить, дышать, жить.
– Неужели у тебя рука не тянется?
– Не тянется.
– Совсем?
– Совсем.
– Странная ты.
Это “странная ты” – частое словосочетание в моей жизни. Странная ты. А мне казались странными те, кто съедает весь шоколад сразу.
Женщина с детьми садится рядом. Ее провожает взглядом тип с крашеными волосами, вернее, ее задницу. Она, заметив это, вздыхает и смотрит на него с сожалением. Потом, отведя телефон в сторону, заговорщицки наклоняется ко мне.
– Все, абсолютно все мужчины провожают глазами женские жопы. И молодые, и старые. А старые провожают еще и мужские.
Пока я думаю, что на это ответить, она отворачивается. Как тяжело долго сидеть на жестком стуле – тело начинает ныть от боли. Как сильно нас тянет к себе земля. Если хочешь проверить на себе силу притяжения, ложись на каменный пол лицом вниз, и через несколько секунд почувствуешь себя абсолютно раздавленным. Но здесь этого делать не нужно. Официантка сойдет с ума. Не ложись. Шучу. Я веселю себя сама. Это норма или нет? Или лучше не смеяться над собственными шутками? Сознание пытается развеселить душу. Да. Точно. Но многие считают, что присутствие души – большой вопрос. Что ее вовсе нет. И еще никто ничего не знает про сознание. Так, туда лучше не думать.
Мать с наколкой задевает локтем мою чашку, но та, к счастью, не падает.
– Fuck, – произносит она губами. – Sorry, – говорит она вслух.
Время остановилось. И никуда больше не движется. Нет, не так. Если бы оно не двигалось, я бы не двигалась тоже, и никто бы не двигался, и ничего бы не происходило. Оно движется, но только не туда. Если, допустим, недавно оно двигалось слева направо, то сейчас оно движется сверху вниз или по касательной. Движется, но не там, где его отмеряют часы. Вот оттого в их измерении оно стоит. То есть в моем. В моем измерении. Как на журнальной картинке. Так, не нужно про картинку. И так уже испугала официантку. Нужно думать о чем-то нормальном. Или лучше наблюдать за нормальными людьми. И постепенно войти в их ритм. Принять их условия игры.
Вот прямо перед витриной за столик на улице усаживаются двое. Оба с черными, жесткими волосами, коротко подстриженными. У того, что моложе, длинная редкая борода. Он берет в руки листы бумаги размера А4 и читает. Тексты распечатаны из интернета. Шевелит губами. Будто запоминает. Подносит бумагу очень близко к глазам, видит плохо, но очков не носит. Читает внимательно, не пропуская ничего, водит по строчкам пальцем. Прочитав, возвращает все старшему, безбородому. Тот аккуратно складывает бумаги пополам, засовывает в сумку, что лежит у него на коленях, застегивает на ней замок и кладет руки сверху. Бородатый начинает говорить, жестикулируя, изображая руками каждое слово, как глухонемой. Наклоняется к соседу, чтобы тот его услышал. Безбородый слушает и грызет ногти. Однозначно отвечает, прикрывая рот тонкими пальцами. Потом опять говорит бородатый, а безбородый чешет пальцами шею.
Смеясь, проходят две школьницы в синих одинаковых платьях и нитяных кофтах поверх. Мужчины замолкают. Им приносят кофе. Потом безбородый, наклоняясь к столу, шепчет что-то бородатому, продолжает чесаться. Бородач кивает, взмахивает руками и сбивает бумажный стаканчик. Кофе выливается на светлые штаны соседа. Безбородый вскакивает, трясет ногами, жидкость не стряхивается, течет по брюкам. Молодой виновато смотрит на старшего, тот зло сплевывает под стол, вкладывает под пепельницу купюру и уходит. Бородатый сидит расстроенный, потом поворачивается и смотрит на меня. Смотрит так, будто меня знает. А вдруг это он? Тот, кого я должна встретить в три. И для него наша встреча – прикрытие какого-то дела, которое они задумали с безбородым. Молодой будто пришел на встречу ко мне, а сам до этого изучал какие-то секретные документы. Может быть, они состоят в тайной организации и что-то затевают. Точно. А бумаги эти – планы или инструкции. И старший – явно руководитель, а этот с жидкой бородкой будет исполнять. Потому и нервничает. Потому и кофе разлил. А планы эти так внимательно рассматривает, чтобы запомнить точно, а потом выполнить, и от этого зависит многое, может, даже его жизнь. А я подставное лицо. И как мне теперь быть? Изображать, что я ничего не знаю, или сразу вывести их на чистую воду? Объяснить, что, мол, так и так, меня не проведешь, что я сразу все поняла и теперь либо он должен мне все выложить, или я так не играю. Пока я размышляла, бородатый ушел. И раскрывать тайные замыслы секретной организации – некому. А может, нужно было проследить за ним? Попытаться предотвратить то, что они затевают? Или рассказать кому-нибудь? Например официальному лицу.
Оборачиваюсь к стойке. Там официантка говорит что-то парню за кассой. Она ловит мой взгляд с испугом. Нет. Не нужно ничего предпринимать, и ничего не нужно никому говорить.
Нужно успокоиться. Вокруг так много информации об опасности, что мне всюду мерещатся заговоры. Нужно расслабиться. Наблюдать за нормальными. А где? Где они, эти нормальные? Где? Вот у дверей встал парень с выгоревшими на солнце волосами. Ходит туда-сюда, задрав сморщенный нос к солнцу, как крот. У него насморк – он то и дело достает белый комок салфетки, прижимает его к носу и возит снизу вверх. Так неприятно болеть весной. Не чувствовать все эти запахи. Бедный. Парень косится на меня. Наблюдает. Симпатичный.
Это он, точно он. Главное – не волноваться. Сейчас будет правильным расплатиться. Чтобы он не подумал, что я тут сижу и жду, чтобы за меня заплатил он. Это будет невежливо. И тогда можно будет выйти ему навстречу – тут ему даже сесть негде. Так. Где моя сумка? В ней должен быть кошелек. Вот мой зонт. Так… А где сумка? Я была с сумкой? С сумкой. Так. Сумки нет. Чем же я заплачу за чай? Ой, сейчас будет совсем неприятно. Этого официантка просто не поймет. Так. Вот она, слава богу, сумка здесь. Тяжелая какая. Так, чем она забита? Конечно, там же “Детские слезы” в горшке. А еще перчатки и блокнот, ручка и несколько карандашей. Связка ключей, футляр для очков, книжка рассказов Капоте, кругляш гальки с надписью always, жестяная коробочка с помадкой, буклет магазина аксессуаров для дома – сунули на улице, и пока не удалось найти мусорного ящика, чтобы выбросить. Письмо, которое нужно не забыть занести на почту. Обязательно. Не забыть. Сегодня – последний день. Что я ищу? Деньги. То есть кошелек. Так не найдешь. Нужно все вещи выложить. Куда бы? Кошусь на уличного парня – но к нему уже пришла девушка и повисла на его правом плече. Личико у нее хорошенькое, и улыбка такая славная. Узкие туфли в горох и ноги в синяках. Откуда у нее синяки? Часто бьется ногами о мебель. А на мебели от этого трясутся эти самые аксессуары для интерьера, которые изображены в каталоге, что лежит в моей сумке. Девушка такая живая. А может быть, она балерина и педагоги бьют ее по ногам? Говорят, в балете до сих пор так. Нет, у нее нет балетной выворотности и осанки. Наоборот, легкая сутулость. Интересно.
Встаю со стула, на мое место сразу садится ребенок, который отошел от аппаратов с напитками. Теперь непонятно, где разложить вещи. Так. Можно здесь на полу. Наклоняюсь. Выкладываю аккуратно все друг за другом. В длинную линию. Конечно, по закону подлости кошелек обнаруживается последним. Мальчик сверху, со стула, наблюдает за мной. Смотрит на длинную цепочку моих вещей, лежащих вдоль стены. Ну и пусть смотрит. Он же занял мое место! Я оглядываюсь. Отсюда, с пола, все в кафе выглядит совершенно по-другому. Будто наизнанку. Под столами на крючках висят разнокалиберные сумки. Рядом с ними ноги их владельцев. Сидеть на корточках неудобно, я встаю на колени. Пол грязнее, чем я думала, – весь в разводах, а потолок далеко-далеко над маленькими головами. Мальчик сползает со стула и становится рядом со мной. Малыша мать тоже снимает с рук и кладет рядом с братом на пол. Младенец, лежа на животе, сильно тянет голову вверх, пытаясь все рассмотреть, вертит одутловатым лицом. Брат показывает ему язык и начинает бегать кругами вокруг, не отрывая от него взгляда. Младенец тужится, краснеет и начинает тоже дергать ногами, изображая бег, – старший хохочет и останавливается. Младенец тоже замирает. Брат стоит, хитро улыбаясь, потом снова бежит по кругу, а малыш изображает бегущего. Так двигаются собаки во сне. Потом младенец отвлекается на раздавленное печенье, начинает клевать его, как голубь. Мать с наколкой все это видит, но ничего не предпринимает. Снизу она кажется непропорционально огромной. Когда закидываешь голову наверх – непременно приоткрывается рот, это неудивительно – чистая физиология. Вот что интересно: почему женщины всегда открывают рот, когда красят ресницы?
Потолок тоже в пятнах – то ли протечка, то ли так зашпаклевали трещины. Пол в разводах – соответствуют ли пятна на потолке пятнам на полу? Лицо вверх, лицо вниз. Лицо вверх, лицо вниз. Каждый раз, когда вверх, – рот чуть приоткрывается. Только нужно закидывать действительно сильно.
Сейчас сверху на меня смотрит не только маленький мальчик, но и официантка и еще какие-то люди. Официантка протягивает мне блюдце с чеком. А за ней вытянул голову дядька в белой рубашке с закатанными по локоть рукавами.
– Вы что, это все продаете? – Он смеется, и я вижу, как у него над ремнем трясется живот.
– Нет, – я заталкиваю свои вещи обратно в сумку. Кроме кошелька. Встаю. Смотрю на официантку. Мне кажется, она вот-вот заплачет или засмеется – непонятно. – Я просто искала деньги. Не знаю, как у вас, но у меня, пока все вещи не достанешь, ничего никогда не найдешь. А у вас?
Мужчина с закатанными по локоть рукавами тут самый главный.
– С вами все в порядке? – он смотрит мне в глаза.
Официантка выглядывает из-за его плеча. Она явно меня боится. Мужчина не боится, в его руках власть. Это чувствуется по взгляду.
– Она просто уступила место моему сыну, – у женщины с наколкой на плече сейчас очень громкий голос. Она наконец перестала говорить по телефону. Пьет что-то из высокого стакана – над губой блестит белая пенка.
Лучше бы она вытерла эту пенку – с пенкой на губе ей трудно верить. К ее мнению никто не прислушается. Неправильно это, когда еда на лице.
Видно, что они все не приняли в расчет фразу женщины с пером. Она действительно не выглядит как кто-то, кому можно доверять на все сто. Но она очень мило пытается мне помочь. Я ей благодарно киваю. Ее сынок опять бежит к аппарату с напитками. Я сажусь на свой бывший стул.
– Можно мне еще чаю? – вижу, как это все не нравится официантке. – Извините, вы правы, мне пора. Я должна идти. Спасибо.
Выхожу на улицу, но уйти не могу. Я же должна дождаться человека. Столик у витрины уже заняли. Стою около самых дверей в кафе. Стоять здесь как-то странно. Делаю вид, что у меня расшнуровались ботинки, – медленно перезавязываю их заново. Асфальт вокруг покрывается черным горохом, и в этом угадывается четкий ритм. Это пошел дождь, хорошо, что я с зонтом, теперь дождь еще и слышно, – по натянутой надо мной ткани бегут сотни крохотных ног. Толпа человечков мечется по моему зонту – туда-сюда, туда-сюда. Проходящий мимо мужчина задевает мой зонт шляпой – “извините!”. Но человечков с него не сбивает – все так же топают, топ-топ-топ-топ-топ. Опять удар по зонту, но уже другим зонтом – не черным, как у меня, а цветным, раздутым, самодовольным. Здесь очень узко, картинки мелькают совсем близко: лысина, пальцы заправляющие за ухо прядь волос, руки в кольцах шарят в поисках замка на сумке, уши, огромные уши, и маленькие глаза в очках, и длинная челка. Отворачиваюсь в сторону – в соседнем ресторане повар в белой шапочке достает широкий нож и начинает медленно нарезать огурец соломкой, складывает в контейнер, тщательно вытирает нож, убирает, моет доску и уходит в глубь кухни. Рядом со мной останавливаются полицейские с кургузой собакой. Объясняют мужчине, как пройти, очерчивают в воздухе воображаемый маршрут, собака широко зевает. Два молодых клерка торопятся к пабу.
– Ты уже давно не живешь.
– Что ты имеешь в виду?
– Полюбуйся на свою ладонь и тут же поймешь, что ты робот.
Думаю, мы все уже давно роботы. Опять толчок – я мешаю идущим по узкому проходу людям. Вернее, это зонт мешает, он своими спицами за всех цепляется. Норовит кого-нибудь удержать. Складываю его. Лицо покрывает холодными поцелуями дождь. Когда же придет этот человек. Надеюсь, он меня сам узнает. Должны же ему были меня как-то описать. Наверное же, сказали примерный рост, я не знаю, вес. Что у нее волосы цвета темного янтаря – нет, скорее всего, сказали, что просто рыжая. Не знаю, но как-то же они позаботились о том, что мы встретимся, а не пройдем мимо друг друга. Он же, думаю, как-то должен был подстраховаться. Или он тоже как я – пошел, а потом уже задумался, как же я ее узнаю. Нет, нет. Все должно получиться само собой – увидели и все поняли. Он и она. А если не поняли, то, значит, и не суждено. Что там ученые на эту тему говорят? Решение принимается в первые несколько секунд, все это феромоны. От волнения мелко дрожат колени. Я сейчас как клоп на винограднике – сижу и вибрирую, а где-то далеко-далеко на какой-то совсем другой лозе сидит другой клоп, и, когда наконец мои вибрации дойдут до него, он очнется и побежит ко мне навстречу. И чем сильнее вибрации, тем больше у меня шансов. Интересно, если я сейчас начну издавать громкие звуки или открывать и закрывать зонт, это привлечет наконец того, кого я здесь жду?
Как приятно стоять, не открывая глаз. Дождь уже перестал быть прохладным, просто в лицо чем-то тычут, но не больно, а приятно – мокрые волосы облепили голову. Вода забирается за шиворот, стекает струйкой по позвоночнику и щекочет. Кто-то берет меня за руку. Открываю глаза.
– Вы простудитесь, – говорит мне женщина с сильным акцентом. У нее напудренное морщинистое лицо, складки, словно трещины, не округлые, а рваные. – У вас все в порядке? Я врач.
Вокруг нее несколько человек – из кафе. У них взволнованные лица.
– Может, позвонить? – Это уже говорит официантка. Она держит в руках телефон – протягивает его менеджеру. Тот жмурится от воды, но телефон берет.
Все совсем неправильно. Совсем. Они не так меня поняли. Я же просто не хотела мешать. Что они решили? А сейчас придет этот человек – и тогда все станет совсем неправильно. Чего они от меня хотят? Нужно бежать.
– Куда же вы? Здесь ее зонт.
Бегу и не понимаю, вода в глазах – это дождь или слезы. Видимо, у меня ничего не получится. Совсем. Машу руками. Пытаюсь остановить машину. В глаза словно вставили стекла в наплывах. Моргаю. Уверена, у меня давно потекла тушь.
В кэбе сухо и тепло. На стекле за спиной водителя объявление – “Здравствуйте, меня зовут Гэйл. Я ваш водитель. Мне пятьдесят три года. Я прохожу сложную трансформацию в своей жизни – смену пола. Прошу, отнеситесь к этому с пониманием, если необходимо, я отвечу на любые ваши вопросы. Насмешки и высокомерное отношение заставят меня страдать. Спасибо за понимание”. Я смотрю на Гэйла – у него в ушах качаются огромные серьги с синими стеклами, огромные ухоженные руки в браслетах.
– Скажите, где вы купили такой красивый лак для ногтей, Гэйл?
Когда я расплачиваюсь, он улыбается мне алыми губами, одергивая юбку.
– Ты вся промокла. И оставила дома телефон.
– Да?
– Да.
– Мне было страшно. И я стала волноваться. И вот, ничего не получилось.
– Я понимаю.
– Он не пришел.
– Знаю.
– Откуда?
– Он обзвонился на твой забытый телефон, а потом перезвонил мне. У него что-то там с собакой, приступ. Он в больнице. С ней. Говорит, может, это ревность.
– Ревность?
– Ну да.
– Ко мне? Но я могу ей объяснить…
– Я же говорила, что вы похожи.
– Да?
– Без сомнения.
– И что теперь?
– Завтра он тебя ждет там же. Кстати…
– Да?
– Ты еще не полюбила Лондон?
Шеимус
После гольф-клуба, где над вывеской ветер зло трепал разноцветные флаги, я проворонила нужный поворот. Дома встречались все реже, по скошенным полям, в квадратах проволочных изгородей, ходили лишь вороны да чайки. Заливы сменялись заливами, и в них отвесными стенами обрывались скалы. В оврагах трава была еще зеленой, но ближе к воде топорщилась пегим собачьим загривком, вгрызалась в дюны, пересыпанная песком. Отцвел утесник, и теперь его кусты больше походили на камни, выложенные вдоль дорог.
Нужно было разворачиваться, возвращаться в деревню и спрашивать дорогу. Но не успела я даже притормозить, как увидела большую толпу. Для такой безлюдной местности это было неожиданно – люди стояли вдоль дороги, у подножия уходящего вверх холма. В самом центре склона, спиной ко всем, стоял высокий широкоплечий человек. Он то свистел, то гортанно кричал. В траве, далеко над ним, сбились в кучу овцы, а вокруг них сновали собаки, то укладывались в траву ждать, то лаяли, гнали зигзагами, между деревянных тумб. Когда наконец овечий поток влился в последние ворота, люди начали аплодировать, а хозяин, дождавшись собак, ушел, ни разу к толпе не повернувшись. Я видела только профиль – щеку рассекал глубокий шрам.
Мне объяснили, что я заехала слишком далеко, но что к гостинице можно вернуться, срезав угол. Казалось, этой заросшей проселочной дороге не будет конца. Я включила радио. Мужской голос тянул слова, цепляя их друг за друга.
Гадал ли я, чтоб в оный день священный Была потребна крепкая броня От нежных стрел? Что скорбь страстного дня С тех пор в душе пребудет неизменной? Был рад стрелок! Открыл чрез ясный взгляд Я к сердцу дверь – беспечен, безоружен… Ах! Ныне слезы лью из этих врат. Но честь ли богу – влить мне в жилы яд, Когда, казалось, панцирь был не нужен? — Вам – под фатой таить железо лат?Наступила пауза, и слышно было неровное дыхание чтеца. Боже мой, все то же – любовные страдания, неудовлетворенные желания. Ничего нового. У всех одно и то же. Но меня это больше не интересует. Все. Хватит. Никаких желаний, а следовательно, и никаких страданий. Точка. Теперь на повестке дня – спокойная жизнь одиночки. Расчет только на себя.
Мысли перебил женский писклявый речитатив. Дублин. Литфестиваль. Молодые поэты. Голос был таким резким, что радио пришлось выключить. Не буду, не буду, не буду. И про все эти нежности больше не буду. Буду наконец независимой… вам-под-фа-той-та-ить-же-ле-зо-лат.
Скоро потянулись высокий, заросший мхом забор, сторожевые башни и дом привратника. Ворота открылись автоматически, дорога через парк заняла еще минуты две, и только после этого я увидела сам отель.
Путеводители не врали, Эшфордский замок был действительно огромным. На протяжении столетий он обрастал пристройками и вымахал до размеров городского квартала. Бесформенный, из темного камня, истерзанный дождем и ветром, но все еще надежно хранящий знаки ведьм в своих каминных трубах.
После парадного подъезда и холла с низкорослыми рыцарями в доспехах шла длинная анфилада гостиных. В них размещались регистратура, библиотека, бар и заставленный громоздкой мебелью парадный зал для приемов в донжоне. Вся эта внушительных размеров роскошь отчаянно нуждалась в ремонте, а от затхлого запаха ковров не под силу было избавиться, сколько ни проветривай.
Навстречу мне вышел плотный администратор в ливрее. Он грустно попросил заполнить анкету – действительно, страдание здесь выглядело куда уместнее дружелюбия. Меня поселили на втором этаже. Два узких окна, затертых по углам, смотрели на фонтан, криво бьющий в небо пенной водой.
Единственной отремонтированной частью всего замка был салон красоты с примыкавшими к нему бассейном, сауной и тренажерным залом. Туда я и отправилась.
– Конгали, – представилась массажистка и протянула мне мягкую ладошку. Волосы у нее были так аккуратно собраны на затылке, словно их собирали по волоску, пухлые губки сияли блеском, а глаза, темные, широко раскрытые, смотрели на мир с удивлением. Она светилась здоровьем, на щеках матово переливался румянец, а белки глаз были голубыми, как у младенцев.
“Кон-га-ли”, – повторила я про себя. Имя каталось во рту сладким ландрином.
Опять пришлось что-то заполнить.
– Что это у вас?
– Это? След от обручального кольца.
– Как шрам. И как долго вы его носили?
– Двадцать один год.
– А теперь – нет?
– Теперь нет. А вы? Замужем? – Я легла на кушетку. Она замолчала, покрутила носиком, и между бровей у нее появилась складка.
– Нет.
– Что, не хотите?
– Да нет.
– А что?
– Нет мужчин. Ну то есть достойных нет. У нас здесь народу вообще немного. – Она пальчиком описала в воздухе круг, и я не поняла, говорила она про замок, про соседний город или про всю Ирландию.
– А вы пробовали искать пару по интернету? Сейчас многие так делают. И вполне себе работает.
– Да. Я знаю. Я даже регистрировалась.
– И что?
– Теперь встречаюсь. – Она замолчала, соображая. – Он доктор. – Опять пауза. – Хороший человек.
– И? – я поторопила ее, но тут же подумала, что не имею на это права.
– У него два мальчика. Два сына.
Наверное, сложность – это его дети. Она, скорее всего, не знает, справится или нет. Ответственности боится.
– Вас пугают взаимоотношения с чужими детьми?
– Нет. Это даже хорошо, что у него есть дети. Своих иметь я не хочу, а у него уже есть.
Она попросила меня подвинуться повыше и подложила под колени валик. От нее пахло лимоном и сливочной помадкой. Поправляя на мне плед, она по-детски закусила кончик языка. С ней рядом было на удивление спокойно, как бывает иногда с нянечками и библиотекаршами.
– Так что же не так?
– Я не знаю. Он очень хороший человек и настроен серьезно.
– Но вас что-то не устраивает?
– Да, – сказала она решительно. – Я люблю другого человека. – И продолжила быстро, чтобы я не успела перебить: – Он необыкновенный такой. Ну, невозможно объяснить, какой он. Таких я никогда не встречала. И знаете что? У нас даже были отношения. Вернее, они почти начались, но не получилось. Потому что он все же очень странный. Для меня. Да. Он очень странный.
– Странный?
– Да нет, не в том смысле, что не в себе или буйный, нет. Просто он больше всего на свете любит быть один – и это он ни на что не променяет. То есть ты никогда не сможешь им по-настоящему обладать. Тебе будет все время доставаться то, что осталось от этих его часов размышлений. Он здесь работает швейцаром. Его зовут Шеймус.
Швейцар, который любит размышлять. Интересно.
– По чем таком он все время думает?
– Он не говорит об этом.
Мы помолчали; слышно было, как пошел дождь. Бедная девочка. Швейцар-философ, как бы не так.
– Он вообще мало говорит. Ходит по горам. То сам, то с собаками. И дома молчит. А без него – невозможно. Думаю, мне нужно переезжать в город. Хорошо бы в Дублин или на худой конец в Голуэй. Но сидеть здесь одной, в этой дыре, и смотреть на овец – невозможно. Я пыталась его приручить, но у меня не получилось. И тогда я ушла.
– И он отпустил?
– Ну конечно. Он держать никого не будет. – Она покусала губы. – Я бы вам его показала, но сегодня не его смена. Жаль, что вы его не видели. Когда вы уезжаете?
– Послезавтра. А вам действительно хорошо бы переехать куда-нибудь в большой город. Вы же молодая, красивая. Ну что здесь? Сидеть и сохнуть по швейцару? Велика честь. А молчит он, может, оттого, что ему просто сказать нечего. Вы об этом не думали? Может, он просто глупый, этот ваш швейцар? И потом, будь он умным – работал бы он швейцаром? Женщины, влюбляясь, придумывают себе образ и его же любят. И это никакого отношения к реальности не имеет. Мы все склонны обманываться. Тем более когда вокруг мало достойных.
Она закивала, но было непонятно, согласна она или нет.
– Что вас здесь держит? Ничего.
– Ничего, – повторила она.
– Я думаю, что доктор – тоже не ваш вариант. Вряд ли вы его полюбите.
– Вряд ли.
– Так что уезжайте в большой город, найдите себе здорового парня без фантазий, и заживете себе прекрасно. Потом будете вспоминать со смехом про швейцара этого. Как его там зовут? Если вообще имя его запомните.
На следующий день, после завтрака, как только проявилось неясное солнце, я пошла на прогулку. Упрямо забиралась все выше и выше. Странные здесь были горы. Верхушки – как осиные гнезда, серые, чешуйчатые. И так до самого горизонта. Идти было сложно, пористый базальт, расщепленный на пластины, хрустел под ногами, ломался, как черепица на старой крыше. Из-под ног разбегались трещины, и в них, глубоко, можно было разглядеть следы хилой бледно-лиловой растительности.
Сначала у солнца хватало сил пробиваться сквозь марево облаков, но выше туман уплотнился, ветер нагнал туч, и начался дождь. Через час он разошелся, и ломкие камни сделались скользкими. Деревня, которую предсказывала карта, все не появлялась, и нужно было вернуться, но я уже не понимала куда, трещины с каждым шагом становились все внушительнее, туман густел. Я остановилась. Вокруг меня дышало холодным, мокрым ветром большое, молочное ничто.
Один неосмотрительный шаг – и я скачусь вниз, обдирая кожу, разбивая кости о камни. Зачем я поперлась сюда одна? Что и кому я хотела доказать? Какая глупая ода одиночеству. Боялась зависимости? Радуйся теперь – ты ни от кого не зависишь. Только от своих ног, рук, туловища и головы. От умения цепляться, от силы мышц и их выносливости. Вот сорвешься, и никто тебе не поможет, – вот она, твоя независимость. Бежишь от желаний? Скоро у тебя их не будет. А если не сорвешься и не рассеется этот чертов туман, тебе придется ночевать здесь, на этой лысой горе, которую так жестко чешет ветер.
Страх начал было рисовать передо мной картины ночных врагов, но не очень в этом преуспел, так как было абсолютно непонятно, кто сможет напасть на меня здесь, в этом безлюдном месте. Но глупость продолжала буравить мозг. Туман был настолько тугим, что казалось, его можно глотать. Открыть рот и откусывать влажные куски. Может, просто проесть в нем дорогу? Ага. Выпей, крошка, море, если боишься утонуть. А что? Может, он вкусный? Сладкий? Нет, скорее всего, он соленый, как океан, который за ним скрывается. А вот и неправда: осадки всегда пресные, по вкусу он должен напоминать снег или в лучшем случае молочное желе.
Сейчас бы крепкого друга рядом. И все бы превратилось в любопытное приключение. Нет. Мне же никто не нужен. Я же приехала сюда освободиться от желаний. И вот опять. Мне бы, мне бы. Ей-богу. Нужно взять себя в руки. Успокоиться. Что я там помню из аутотренинга. Нужно представить, что я здесь не одна. Что за мной идут люди. Много людей. Они внимательно следят, чтобы ничего не случилось. Бояться нечего. Нужно просто найти выход. Они ждут.
Уже легче. Вот у меня чашка горячего чая в руке, я снимаю с блюдца серебряную ложку и отправляю куски тумана себе в рот. Проедаю нору, по которой уйду с этой лысой горы. А сзади за мной внимательно наблюдают зрители. И ничего не страшно. Если что – спасут. Я всем нужна. Всем. Да. А мне? Стоп. Мне никто не нужен.
Я отдохнула и даже немного повеселела. И, словно чуя, что я его не боюсь, туман начал уходить. Вокруг проявляли фотографию в огромной небесной кювете. Во все стороны развернулось никелированное небо над гнездами гор, а справа, внизу, вдоль линии прибоя, показалась долгожданная лента шоссе. Значит, нужно туда, где дорога, где люди, где можно поймать машину. Спуск крутой, но буду идти зигзагом.
Склон, снизу казавшийся мягким, заросшим, на деле оказался каменистым и скользким. За колючки держаться было невозможно, и приходилось цепляться за траву. Все вокруг резалось и кололось, ноги скользили по камням и проваливались в болотистые ямы.
Я промокла до самых внутренностей, ободрала ладони, коленки, подвернула ногу, а вниз продвинулась совсем чуть-чуть. И вот, когда наступило отчаянье, мой спуск пересекла тропинка. За ней кустарник выглядел совсем непролазным, и я пошла по ней – она не может закончиться тупиком, протоптанная людьми, она должна куда-то вести.
Сразу стало неважно, сколько времени займет моя прогулка – она все равно закончится, и, если опять придет туман или настанет ночь, по ней я всегда смогу идти вперед, и она не приведет меня в пропасть, нет же тропинок, протоптанных самоубийцами. Надеюсь, что нет. Так проще – здесь не было ветра, а дождь я уже не замечала, как не замечала ни воды в ботинках, ни прилипшей к телу одежды.
В воздух добавили сумеречную синьку, а впереди вырастали всё новые повороты, как скучные театральные кулисы. Мысли, покрутившись хороводом, улетели прочь. Я больше не думала ни о чем, я шла, механически выставляя вперед ноги. От голода кружилась голова, и мертвый мобильник глупо оттягивал карман.
Наконец, за очередным поворотом появились несколько белых домов, рассыпанных вокруг островерхой церкви. Дорога вильнула к изгороди, заросшей подбелом и крапивой. Поравнявшись с первым домом, я услышала крик. Кричал не человек. Звук был необычный – как если бы к крику чайки добавили автомобильный клаксон. Я в жизни не слышала ничего подобного. Кричало животное, но какое? Свернула за дом, на этот вопль.
У сваленных в кучу камней лежала овца, мотала головой и таращилась желтым глазом. Из разорванного живота на щебень вывалились кишки. Похоже, ее сбила машина на шоссе, и кто-то оттащил ее сюда. Овца продолжала орать, и кишки ее дергались, но сами по себе, безо всякого участия несчастной. Меня вырвало.
– Помогите! – Собственный крик вышел натужным и сиплым. – Люди!
И тут до меня дошло. Овца рожала. Из нее торчали две ноги с копытцами, а никакие не кишки. Вздрагивая всем телом, она тянула набок шею и орала, видимо что-то у нее пошло не так. Нужно было что-то делать. Я слишком устала, хотела было подняться, но не смогла и повалилась назад. Но тут меня подхватили чьи-то руки, подняли и отставили в сторону – переставили, как хрупкий предмет.
Неизвестный присел перед овцой, засучил рукава на крупных руках, тряхнул головой, откидывая волосы, отчего стал виден шрам на щеке, быстро вытянул скользкого ягненка за ноги и положил овце под живот. Та сразу же замолчала. Мужчина встал, подошел к бочке с водой и вымыл руки.
– Вам нужно переодеться. Вы вся мокрая. – Голос был низкий и хриплый.
– Я потерялась.
– Какой отель?
– Эшфордский замок.
– Ждите меня здесь.
Скоро он вернулся в сопровождении невысокой пары – лохматой женщины в пижамных штанах, заправленных в резиновые сапоги, и мужчины, который держал в руках садовые ножницы, бутылку с прозрачной жидкостью, и тщетно пытался застегнуть рубаху.
– Это Бер и Ита Ноланы.
Они одновременно кивнули. Бер никак не мог попасть в нужную петлю. Наконец застегнулся, наклонился к овце, обрезал и перевязал пуповину и полил на нее чем-то из бутылки.
– Ита отвезет вас.
Женщина покивала, хлопая глазами, и пошла к дороге.
– Спасибо.
Спасший овцу незнакомец мотнул головой, откидывая волосы, упавшие на лоб, и на щеках у него появились ямочки, в одну из которых заломился шрам. Так это тот человек с собаками-победительницами. Он оттряхнул мою спину от травы, похлопывая словно ребенка, я пробормотала что-то благодарное и поспешила за Итой. Мужчины остались возле овцы.
Всю дорогу до замка я вспоминала его хриплый голос и силу рук, как легко он отставил меня в сторону – бережно, как антикварную вазу. А я даже не спросила, как его зовут. И не хотелось думать, что я никогда его не увижу.
Следующим утром, уложив вещи, я опять стояла перед грустным администратором. Он протянул мне пакет – в нем были выстиранные свитер и брюки, – попросил подождать, пока распечатают в офисе счет. Стоял опустив голову, словно оплакивал кого-то. Так же он смотрел прошлой ночью, когда меня привезла сюда Ита. Выглядела я, должно быть, ужасно, с одежды на паркет натекло воды, а куртка, свитер и брюки были перепачканы землей.
– Хорошо еще, вы не простыли после вчерашнего похода. – Казалось, он вот-вот заплачет, а я начну его успокаивать.
Я кивнула и отвернулась к портрету Голдсмита, но картина была настолько слабой, что любоваться ею было неприлично, пришлось отойти к окну. С холма открывался вид на долину и горы-призраки. Через подлесок горела полоса залива, там из-за тучи вышло солнце и, полыхнув в воде, поползло золотым пятном по лугу. Легкий ветер гнал травяные волны.
Сзади кто-то откашлялся:
– Шеймус, Шеймус на работу идет.
– Что? – Я не сразу вспомнила это имя.
Рядом остановился официант.
– Шеймус, говорю, идет. Его ни с кем не перепутаешь, – повторил он и остался стоять, стуча пустым подносом по колену.
Через луг к замку шел человек. Так это тот самый Шеймус, о котором говорила Конгали?
– Шеймус, – повторил официант таким тоном, которым говорят о чем-то дорогом.
– Тот, который работает у вас швейцаром? Да?
– Шеймус работает кем захочет. Это же Шеймус.
Мужчина шел широким спокойным шагом – не медленно и не быстро. Высоченный, широкоплечий, он словно прогуливался по земле, которая принадлежала ему. Шел, подняв подбородок и опустив вдоль тела руки, прямые от плеча до самых кончиков пальцев. Уже совсем близко наклонился к чему-то на земле, разогнулся, потянулся к солнцу и зевнул. На щеке белел длинный шрам.
Вернулся грустный администратор, он тоже застыл, держа в руках распечатанный счет в конверте, и смотрел на Шеймуса. Да если бы здесь стояла огромная толпа, то все бы, вытянув шеи к окну, любовались тем, как Шеймус идет на работу.
Минут через пять администратор, очнувшись, протянул счет мне. Но я его не взяла, сказав то, чему удивилась сама.
– Я хочу остаться.
– Да? На сколько?
– Не знаю.
– Но ваш номер забронирован для других, и, если вы действительно надумали остаться, вам придется поселиться в другой.
– Хорошо.
– Тогда заполните еще раз анкету. – Он печально вернулся к столу и принес оттуда новый бланк. – А я пока посмотрю, что у нас свободно.
Я кивнула и осталась стоять у окна.
Пятно солнца побежало дальше, сверкнуло на поверхности залива, переползло на рыбацкий кораблик – тот снялся с якоря и пошел в море.
Происшествие в пустыне, далеко на юге
Человек – это не ответ. Человек – это вопрос.
Тиллих…жертва, особенно в ее соотношении с самой собой, как самопожертвование, обостряет неразборчивую смерть собственным сознательным выбором, включая факт – место, день и час. Да, никто не знает ни дня, «и своего – никто, исключением приносящего себя в жертву.
А. СекацкийОтделение полиции города Ушуайя,
Огненная земля, Аргентина
Отчет о расследовании
Номер расследования – 86/1745
Дата совершения преступления или инцидента —
26/03/2017
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНЦИДЕНТА
17 марта 2017 года исследовательский корабль “Академик Сергей Вавилов” вышел из порта Ушуайя в Антарктическую экспедицию – Antarctic Biennale, в составе:
38 участников арт-проекта,
45 человек команды судна,
Академик Сергей Вавилов,
12 человек компании IceOcean, Канада,
занимающейся организацией полярных путешествий.
Всего – 95 человек.
26.03.2017, на девятые сутки экспедиции, с судна “Вавилов” сотрудником диспетчерской службы отдела полиции Ушуайи Матиасом Пуэнсо было получено сообщение от Питера Моррелла, менеджера компании IceOcean, об исчезновении одного из участников арт-проекта. В тот момент судно находилось у побережья Земли Грейама, вблизи острова Петерманн, в проливе Лемэр. Компания IceOcean на тот момент уже связалась с международной службой спасения (РМАМПС).
В ходе поисков пропавшей командой судна было найдено письмо, в котором la victima D. объясняет свой самовольный уход с корабля на сушу. Имя пострадавшей не разглашается в интересах следствия.
После полученного сообщения нами были оповещены ближайшие к месту происшествия арктические станции – Палмер (США), Ак. Вернадский (Украина), Ротера (Великобритания) и Сан-Мартин (Аргентина).
ПОДРОБНОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ
По возвращении судна в порт Ушуайя 29.03.2017 были опрошены ключевые свидетели происшествия.
Отчеты опросов свидетелей прилагаются.
РАПОРТ СЕРЖАНТА МАНУЭЛЯ ФИГЕРАСА, ВЕДУЩЕГО РАССЛЕДОВАНИЕ
При опросе свидетелей выяснилось, что пропавшая за три дня до своего исчезновения – 23.03.2017 года – незаконно пронесла на борт судна живого антарктического пингвина (Pygoscelis antarctica). На судне la victima D. поместила пингвина в душевой комнате своей каюты, где он был обнаружен утром 25.03.2017 года Марией Пуэнсо, членом экипажа, выполнявшей уборку помещения.
Организаторами экспедиции было принято решение вернуть пингвина в его естественную среду обитания. В связи с этим корабль был вынужден изменить курс и вернуться к Земле Грейама. Всю обратную дорогу la victima D. вела себя подозрительно, пытаясь предотвратить возвращение пингвина.
Описание ее действий – в прилагаемом опросе свидетелей.
Утром 26.03.2017 года пингвин был успешно возвращен в свою колонию. Вечером того же дня la victima D. добровольно покинула судно и, предположительно, ушла в глубь материка.
Воспользовавшись доверчивостью одного из менеджеров канадской компании IceOcean Дугласа Эриксона, la victima D. убедила его оказать ей помощь и доставить на материк на плавательном средстве “Зодиак” (FZ-18), объяснив это тем, что она оставила там дорогой объектив от фотоаппарата марки Nikon.
Показания Дугласа Эриксона также приобщены к делу.
Тот факт, что уход la victima D. на материк был спланирован заранее, подтверждает письмо пропавшей, которое было найдено Мануэлем Фигерасом в каюте при досмотре ее личных вещей.
Через пять часов после того, как было замечено отсутствие la victima D, прибыл вертолет поисковой команды, после чего судно “Академик Вавилов” продолжило курс в порт Ушуайя.
Каюта la victima D. была опечатана капитаном судна Александром Хлебницким, в присутствии понятых Виктории Гонзалес и Надима Хайама.
Дополнение от 86/1746
Отделение полиции города Ушуайя,
Огненная земля, Аргентина
После ознакомления с текстом разъяснительного письма это происшествие может рассматриваться не как исчезновение или похищение, а как суицидальное поведение (саморазрушительный акт) la victima D.
Описание осмотра места происшествия прилагается.
La victima D
– Эй, там! На корабле! Выпустите меня отсюда. Задохнусь тут. Эй!
Стучу, но по железке, если с силой, – больно, руки отобьешь – и все равно не услышат. Заперли меня в этой чертовой каптерке и разошлись. Двери и стены толстые, дышать тяжело, воняет краской, резиной и дезинфекцией. Кругом горячие трубы, уже и свитер сняла, и носки, не в трусах же мне здесь сидеть! На веревках развешаны куртки, штаны, в углу свалены спасательные жилеты, сапоги, рюкзаки и коробки с биноклями, если смотреть наоборот – комната как стадион. У дверей – баллоны, надеюсь, не взрывоопасные. Очень хочется пить. Хорошо, что есть раковина. Вода – гадость.
Опять стучу. Через эту железяку многие ходят на бак курить, но сейчас тихо. Где все? Невыносимая вонь. Все заварено толстым слоем краски, и она плавится от этой жары.
– Откройте, черт побери! Выпустите меня, наконец! Откройте, я все объясню. Или вы хотите, чтобы я запеклась здесь, как в духовом шкафу?! Если бы не высоченный потолок, давно бы уже задохнулась. Откройте. А-а-а-а-а-а-а!
Корабельная врачиха рассказывала, у них тут самоубийства – как само собой, раз – и за борт. А это уже все, никакие круги не помогут, если корабль идет. У нас же – во какая махина, а не то что с бака плюнул – за ютом упало. Врачиха так и сказала: проблемы в путешествиях на корабле только две – качка и самоубийства. И в основном все за борт скачут. Только один в прошлом январе на двери повесился, у него жена, на глазах у всех, после ужина ушла в каюту к глупому альфонсу, а муж взял и повесился.
Его труп с первой же базы отправили домой, в сопровождении того самого альфонса, а неверная жена поплыла дальше на все двенадцать дней, всеми презираемая, потому что оплачено. Ну да бог с ней.
Я тут тоже всеми презираемая. Поэтому меня и изолировали и на мои вопли не отвечают.
Куда, интересно, все подевались? А, понятно. Сейчас по расписанию обед. Значит, уже расселись, на столах – суп в супницах. Едят. Суп едят. Горячий, ароматный. А я тут дохну в каптерке. И колено болит. Даже не помню, когда ударилась. Наверное, когда меня сюда волокли. Про Уоллеса и думать страшно. Что они с ним сделают? Об этом не буду. До ужина точно не придут – слишком возмущены. Лавки неудобные, не ляжешь, они здесь не для того, чтобы отдыхать, а чтобы обувь переодеть. Лучше сделать так: на груду сумок кладу две куртки и укладываюсь. Конечно, тоже гадко, из-за этой вони, хотя и моют постоянно. И ни одного иллюминатора. Хорошо хоть, сегодня не сильно качает, если бы это случилось в проливе Дрейка, было бы совсем плохо, там даже суп не давали, чтобы рвоту не спровоцировать.
Чешется за правым ухом, забыла пластырь от укачивания снять в суматохе, вот и чешется. Всегда представляла морскую болезнь иначе, ну, думала, качает вправо-влево, ну, валится все, ну, ходить сложно, – но это даже весело. А оказалось совсем не так: это воздушные ямы, как в самолете, только каждую минуту и несколько дней. Даже ночью то и дело просыпаешься оттого, что внутренности поднялись к горлу. Что-то вроде токсикоза – не умираешь, конечно, но и не живешь точно. На завтрак полкамбуза, на обед четверть, а на ужин пусто.
Над головой хрипит колонка – сегодня высадка на берег отменяется, значит, к дождю и туману добавился ветер. Это автор авторов мстит за нас – за меня и Уоллеса. И айсберги сейчас отяжелевшие и темные, как мертвые киты. Слоняются туда-сюда. Проживают свою десятилетнюю жизнь.
А в солнце они то белые, выпиленные из снега, то лоснящиеся, как куски тофу, то карамельные, полупрозрачные. Меняются они мгновенно, подтаял живот, и раз – ледяной гигант перевернулся вверх дном. Был прямоугольник – превратился в пирамиду. Или на бок повалился, и узнать его нельзя – все поменял: текстуру, форму, цвет. Иногда так причудливо, что хочется потрогать, но близко приближаться нельзя, в любой момент кувыркнется – и все. Ни тебя, ни лодки. Неподвижное так обманчиво.
Что же теперь будет. Что будет. Отняли Уоллеса, меня заперли, умереть, конечно, не дадут, но что сделают – неизвестно.
А как все начиналось! Первая высадка на континент. И тут же открытие – Антарктида цветная. Издалека – белая и холодная, а подошли поближе – там розовая долина в желтых проталинах отражается в черном зеркале воды. Помню, как через час Философ сказал мне, что у его телефона закончился порог восприятия. Тогда еще все было великолепно.
Почитать бы. Что это? Ни обложки. Ни первых страниц.
…когда здесь еще ничего не было – ни снега, ни льда, ни земли, ни холодных волн, – зияла вместо них огромная черная бездна – Форамена. К северу от нее лежало жестокое царство Яману, а на юге была только она, и ничего в мире не было южнее нее.
Ближе всего земля Яману приближалась к Форамене кривой пенинсулой Корну, день и ночь ее охраняли злые Яманувы псы. Дикость местных отпугивала всех, говорили, что в голод мужчины Яману убивают и поедают даже своих старух. И бойни у них – рядом с очагами, у самых жилищ.
Увидели это боги и проучили недостойных – лишили их силы. Стали мужчины Яману слабыми и ленивыми. Но ничего не изменилось к лучшему: хотя дичи вокруг не убавилось и солнце всегда ходило высоко, не могли они ничего поймать и дошли до того, что ели падаль. От жизни такой стали с виду страшные, а внутри глупые и злые.
И решили тогда боги их наказать, и разбудили они вулкан Фервентис.
Много дней заливал Фервентис землю Яману огненной лавой. Треснула от жара земля, и забил на острие Корну источник Расус, и образовались от Расуса семь водяных потоков, чистых как слезы ребенка. И потекли они стремительно к югу, низвергаясь в черную Форамену. Жестокий холод бездны превращал воду этих потоков в лед, а источник Расус бил и бил не переставая, и росла ледяная глыба, и все ближе продвигалась к Яману. Наконец лед подошел так близко к царству пышущего огня, что стал таять. Но когда искры коснулись его, вдохнули они жизнь в бескрайнюю ледяную глыбу. И тогда вновь заснул вулкан Фервентис. Ледяной земле дали имя Гелида, а сожженное царство Яману назвали Тиерра Фуэго.
И когда боги послали солнце осветить Гелиду, с первым лучом поднялась над ледяной пустыней исполинская фигура. Так появился Мелиор, первый живущий в Гелиде великан. Из его рук на седьмой день появились мальчик Никс и девочка Стирия, наследники ледяной земли Гелиды, а от ног Мелиора родилось войско отважных охотников, расчетливых и смелых, как лед и пламя, их создавшие. Говорят, до появления Никса и Стирии льды Гелиды были солеными, но, чтобы напоить детей, боги сделали льды земли пресными. Киты и дельфины давали им свое молоко, птицы – яйца, и выросли Никс и Стирия великими и основали великую страну.
Долгой была история Гелиды. Менялись века, рождались и умирали сильные вожди и бесстрашные воины. Далекие потомки Мелиора, Никса и Стирии населяли теперь Гелиду, а во главе у них был храбрый охотник Фортис.
Охотников на земле снегов всегда почитали больше, чем шаманов. Без них не было бы в ледяной пустыне ни еды, ни огня. Умерли бы от голода самые умные вожди и мудрые шаманы. И оттого выбрали они своим предводителем славного Фортиса. Не было ему равных ни в борьбе, ни в беге, ни в метании гарпуна, ни в стрельбе из лука, и отдавали ему почести не хуже, чем королям на далекой северной земле Акуилоним. Процветало синее царство Гелиды, пока туда не пришла беда.
Просыпаюсь от шума. В каптерку пускают Нэоко, сами не заходят. Она красивая. Японка из круглолицых, с большими глазами чуть навыкате. У нее шелковые веки. Волосы ровно обрезаны над плечами. Она волнуется, но ей это идет.
– Когда все это началось, – она говорит, а звук скачет у нее в горле. Всегда такая аккуратная, а сейчас – футболка мятая и никакой косметики. Устала. Действительно устала, и это видно. – После Дрейка, когда у всех что-то такое началось. Вы понимаете? Мне приснился страшный сон. Я заболела еще.
Да, тогда друг за другом заболели трое. Но первая она. Сразу после Дрейка. Когда всем и так было плохо. Причем и пластыри были, и таблетки, и все равно тяжело.
– В тот самый день, когда это со всеми… Вы заметили, что со всеми тогда что-то произошло? Они сейчас все молчат, но я-то знаю. Со всеми что-то такое случилось. Так вот, в тот самый день мне приснилось, что я занимаюсь… – Она запнулась и пальчиком потрогала переносицу. – Занимаюсь любовью. Нет, неправильно. Приснилось, что у меня секс. Секс с отцом. С собственным отцом. Ему в моем сне всего девятнадцать. И он такой молодой и, конечно, другой, но все равно я знаю, что это мой отец. Ужас. А все потому, что я увидела, как он уходит к другой – от нас от всех уходит, от сестер и братьев и от мамы, конечно, – к совсем другой женщине, беззаботной и вульгарной. И я решила его соблазнить, чтобы не потерять, чтобы не отдать его той, совсем ему не нужной. Чтобы сохранить его для семьи. Он же хотел секса, и вот я решила ему его дать, чтобы он не ушел. Я соблазнила его сама, я навязалась ему. Так пошло, так вызывающе банально. Я помню свои жесты и позы. И это так чудовищно. Но самое ужасное, что он клюнул на это. Он пошел за мной. Чтобы обладать собственной дочерью. Это так гадко. – Она вытирает пот над верхней губой и на подбородке. Разглядывает свои руки и глубоко дышит. – Это было так унизительно и так противно. Я до сих пор чувствую запах его пота и спермы. Меня от этого до сих пор тошнит. И это не морская болезнь, это последствие моей жертвы. И это было самое большое мое жертвоприношение. – Она встает. – Вы же просили рассказывать вам про все необычное, что здесь происходит, вот я…
– Да, спасибо.
– Я пойду.
– Да, да, конечно.
Там, видимо, слушают. Пришли. Загремел замок. За дверью сразу несколько человек. Видны только тела и ноги. Стоят плотно друг к другу. Сейчас эти безголовые люди будут говорить про законы. Нэоко нерешительно выходит. Я сижу. Жду.
– Выходите и вы. Выходите, выходите, вас разрешили перевести в библиотеку.
Книгу забираю с собой. Иду за ними на пятую палубу. Все молчаливые, строгие, цепляются за поручни, шуршат заткнутыми за них бумажными пакетами.
– Будете писать здесь, чтобы не говорили там, что вам работать не давали, а потом в каюту – спать, благо она напротив. Сюда будут приходить другие, мы не собираемся из-за вас всё на судне запирать, но вот вы пока никуда выходить не сможете. Еду будем приносить. И вы отсюда ни ногой, чтобы другим неповадно было. А то представьте, что произойдет, если каждый из Антарктиды будет что-то увозить, кто пингвина, кто кита, да что уж говорить, даже если по камушку – что через несколько лет-то останется? Подумали? Растащат на сувениры. Ну, что молчите?
– Понимаю.
– Да что вы понимаете? Всё же подробно объяснили. И не по одному разу – зря, что ли, перед каждой вылазкой на континент обувь мыли – обеззараживались, одежду пылесосили, чтобы ни семечки, ни пылинки, то же – по возвращении? А вы целого пингвина забрать решили. Прости господи. О чем думали-то?
– Он так на меня смотрел.
– Кто?
– Уоллес.
– Какой еще Уоллес?
– Это она так пингвина назвала.
– Почему Уоллес?
– Ученый был такой – Альфред Уоллес. До Дарвина пришел к теории естественного отбора, но ему просто не повезло. И еще он не был выскочкой.
– О господи. Мы же предупреждали, что в Антарктике ничего нельзя трогать. Слышали?
Киваю. Конечно слышала, но тут другое дело, не объяснишь, просто молчу.
– Вот если бы вы, как все другие, соблюдали правила, не наделали бы глупостей, не сидели бы сейчас здесь, перед нами.
Опять киваю. Если бы. Вот они о чем. Не понимают. Но объяснять я им не буду. Иначе меня не только запрут, но еще предварительно усыпят. Дело в том, что все случилось так, как должно было случится. Время не линейно, не одномерно, никуда не течет и, следовательно, не имеет направления. Все события жизни случаются одновременно, а вот осмысление изменений и рефлексию мы ощущаем как время. Ожидание, опыт и воспоминание – это путь нашего осмысления, проходящий по неподвижному телу уже произошедшего. Все мы детективы, расследующие собственные, уже случившиеся драмы. И всё, что мы переживаем, – это на самом же деле вечное, растянутое, уже случившееся настоящее. Отсюда – его чудовищная неоднородность. Это как разгадывание кроссворда, с разной скоростью и результатом. Классическая физика считает время абсолютным, так как все процессы в мире, независимо от их сложности, не оказывают на его ход никакого влияния. И оттого вопрос, почему вы сделали именно так, для меня не стоит, но говорить этого сейчас не стоит.
– Украсть пингвина! Это же надо до такого додуматься!
Смотрю по сторонам – на стене фотография. На ней у деревянного стойла стоит Лоуренс Оутс, рядом с ним собаки и пони. Оутс красивый и добрый.
– Вы знаете, что наше путешествие началось в его день рождения? – показываю рукой на фотографию. – Мы выплыли из Ушуайи семнадцатого марта.
– Это-то тут при чем?
– Лоуренс очень любил животных.
– А вы их не любите. Вы губите их!
– Он просил меня сделать это.
– Кто?
– Уоллес.
– Господи, да что это с ней? Может, морская болезнь?
– Морская болезнь – это когда рвет с борта, а это вседозволенность и распущенность. Просто делают, что хотят, и на все им наплевать.
Показываю на другую фотографию:
– А вот и вся группа. Все те, кто пошли со Скоттом, – Оутс, Уилсон, Эванс и Бауэрс. И все здесь замерзли.
– Прости господи, да что вы нам тут голову-то морочите?
Да уж, лучше молчать.
– Ну что? Доброе утро, биеннале?
В дверях стоит Седой. Вошел неслышно, хотя большой. Он здесь самый главный, его слово – закон.
– Оставьте нас на минуту.
Все выходят, но неохотно. Оборачиваются. Качают головами.
– Ну и что вы тут устроили?
– Вы же слышали.
– Вам тоже перформанса захотелось?
– Нет.
– Тогда зачем? Насмотрелись, наверное, как тут все самовыражаются, и тоже захотелось?
– Нет.
– Вы в курсе, что корабль развернули и он направляется опять к острову Петерманна? И кто это все оплачивать будет? – Он устало садится на стул и подпирает голову рукой. У него красивая седая шевелюра и хриплый голос. – Я же не детей сюда брал. А Оутс, кроме того, что любил животину, он еще людей любил. Когда идти стало почти невозможно, а мужики отказались его оставлять, просто вышел из палатки без обуви, в бурю, в никуда, чтобы не быть обузой, и сказал так легко: пойду-ка я на свежий воздух, скорее всего надолго. И ушел. И больше его никогда не нашли. А вы говорите – животные. Вы разрушаете такое великолепие: внутри этого континента – ни запахов, ни бактерий и вирусов, ни звуков. Под ногами до грунта километры льда. Разница между днем и ночью – только длина тени. Здесь можно услышать, как замерзает дыхание. Антарктида, – он обводит каюту рукой, – сознание меняет! А вы все мельчите. Даже наше говно здесь собирается, грузится и отсылается на большую землю. – Он трет голову. – Как же это случилось? Объяснить не хотите?
Объяснить. В заливе Парадиз у нас была медитация. Все разбрелись и тридцать минут сидели молча. Тогда это началось. Все вокруг было огромным и невероятно спокойным. Нельзя было разжижать это суетой. Садилось солнце. Вернее, не садилось – стояло неподвижно над горизонтом. За полчаса никуда не сдвинулось. И вот от ледника в воду, со стоном, рухнул гигантский ледяной кусок, и зашуршали волны, разбиваясь о камни. Бесконечно долго стоял этот шум, как если бы толкнули первую костяшку домино в кем-то расставленном бесконечном ряду.
Седой ждет, он действительно хочет понять. Попытаюсь ему объяснить.
– Думаю, началось все с лекции. Да, тогда, когда Философ читал лекцию пингвинам. Его снимал оператор. Вот он стоит и рассказывает, а они слушают. И вы же знаете про пингвинов. Они не птицы и словно не животные вовсе, и отношение к ним иное, у них реакции ни тех и ни других. Они похожи на детей, сильно отстающих в развитии. Они от тебя не убегают, но и к тебе не бегут. Они существуют так, словно ты тут был всегда, стоял и пялился на них. Они уникально неуклюжи. При том, что созданы ходить по камням, постоянно спотыкаются и падают. И в этой неуклюжести невероятно трогательны. На них можно смотреть бесконечно. Так вот, я стояла и слушала Философа, а рядом со мной стоял и слушал его Уоллес. Я видела, он действительно слушал. А когда все закончилось и я повернулась, чтобы уйти, он перегородил мне дорогу Вам это покажется странным, он маленький, а я такая большая, но поверьте, он стоял на тропинке передо мной и смотрел на меня. Клянусь вам, у меня не было плана его похитить, но если бы вы видели, как он слушал лекцию, а потом как на меня смотрел! Но тогда я ничего не сделала, даже полезла на камни, чтобы его обойти. Нас же предупредили – никаких контактов. А он сам за мной увязался. У него, вы же видели, несколько перьев справа торчат, то ли потрепал кто, то ли линяет. И еще он меньше других. Из-за этих перьев он как-то особенно заметен, то ли ухо торчит, то ли шапка набекрень. Уоллес – узнаваемый пингвин. Потом я пошла туда, где работали другие, ходила, снимала. И все это время мне этот пингвин попадался. Я поняла, что он ходит за мной. И тогда я решила с ним поговорить. Просто поговорить. Рассказала, что мы здесь делаем. Объяснила кое-что. Потом даже спросила: интересно? Он кивнул, вот честное слово – кивнул. А дальше все само собой, я иду, а он за мной, зашла за большой камень, открыла рюкзак, нам же их выдали, а он у меня пустой. Уоллес туда прекрасно поместился. Вернулась к берегу, у лодок спросила, можно ли мне на судно пораньше. Я ноги промочила. Конечно, мне разрешили, ну и все. Села, поехали, мотор шумный, рюкзак за спиной. Вот и все. А дальше я его в душ. Вот так все и произошло.
– На что же вы надеялись?
– Честно говоря, я просто делала это, но плана у меня не было, скорее была мысль, что как-нибудь все устроится.
– Ну и что? Устроилось? – Седой еще раз вздыхает, встает и выходит. Из коридора слышу шепот:
– Может, ее запереть?
– Вы лучше сами себя заприте… – Хрипота Седого тает в трубе коридора.
Приходит самая веселая. Из сострадания. Ей, как никому, было бы сложно без людей. Вот она и пришла. Ведет себя так, словно ничего не произошло. Я ей благодарна.
– Хотя и рассказывали про Антарктиду разное, я не верила. Седой говорил, что она может всю жизнь поменять. Все с ног на голову перевернуть, но у меня никакого ожидания мистики не было. Да я и человек не такой, я же не художник. Слушала его рассказы, думала, говори-говори, ты же во всем такой, это мы, обычные люди, по земле ходим, а вам так и суждено летать да фантазировать.
Я прячу улыбку, она это видит и тоже улыбается. С такими всегда легко. Мне бы так.
– Я уже пять лет на таблетках сижу. А болею, думаю, лет семь. Сначала казалось, что просто не везет страшно, все, что ни сделаю, не получается, с каким человеком ни сойдусь – все плохо кончается.
Спать почти перестала. Могла четверо суток глаз не сомкнуть. Потом глюки начались даже, панические атаки, а когда слепнуть начала, тогда уж к врачам пошла. Сначала к психотерапевтам, а потом к психиатрам. С родителями тогда уже не общалась, друзей растеряла. Ни есть не хотелось, ни бухать. Ни солнце меня не радовало, ни дождь. Жить не хотелось, не то что… Некоторые говорили, что, мол, ты че, радуйся жизни, не сдавайся, все будет хорошо, а тебе от этого только хуже – у тебя никакой надежды, только отчаяние, что тебя никто не понимает. У меня же на уровне химии тела все нарушено. Диагностировали мне клиническую депрессию. Страшная болезнь, не просто грусть, а полная апатия. Как овощ живешь. Выписали таблетки. Тяжелые, для настоящих психов. Страшно перечислять – миртазапим, феназепам, золофт, фенибут, атаракс, финлепсин, а у меня же работа с людьми. Болезнь как насмешка. Словно я герой бездарной пьесы, а сверху уставший драматург, умирая со смеху, – что, мол, там у нее? Жить не хочет? Общаться не желает? Людей не любит? Так значит, будет она у нас специалист по коммуникациям, а сам от смеха на пол валится. Посмотрим, говорит, что получится. Ну, я шутку его оценила: классно, смешно. Думаешь, не смогу? Посмотрим. Несколько недель еще ушло, чтобы таблетки в удобоваримую комбинацию соединить – не все ведь всем подходит, рецепта готового нет, помню, от каких-то у меня такой аппетит был, просто ужас, при том что вкуса еды я не чувствовала совсем. Мне было все равно, что есть, – торт или коробку от него, главное есть. Ужас! Остановиться не могла. От другого в сон тянуло постоянно. А это тоже не я. Постепенно подобрали.
У нее в глазах стоят слезы – ресницы пушистые, не дают пролиться.
– Никогда бы не подумала.
– А я и не рассказывала никому. Зачем? Люди грустных людей не любят. Чего жаловаться-то? Никому твои проблемы не нужны, да если еще они у тебя годами. Наверное, и моя говорливость от этих дурацких таблеток.
Она чешет кончик носа.
– Перед этим путешествием в анкете, про здоровье, я все скрыла, знала, напишу про все свои дела – точно не возьмут. Взяла и не написала, а сама большую таблетницу с собой везу. Все боялась, что на границе пристанут, отнимут еще. Куда я тогда без них? Так и тряслась. А потом, я же работать ехала, это художники там всякие, философы, писатели, как вы, могли вообще из кают и не выходить, а мне бегай и всех со всеми соединяй с утра до ночи. Так вот, когда мы перешли шестидесятую параллель, в Дрейке, мне стало так плохо, просто рассказать не могу, вот там я и решила, брошу-ка я таблетки свои, пусть на хрен все ломается, не могу больше, и так весь день, как серьезное похмелье, мутит, голова тяжелая, раскалывается, и желудок у горла стоит. Недаром после Дрейка пираты награждались золотой серьгой в ухо – на случай смерти, похоронные деньги. В общем, я только драмамил пила, чтобы качку перенести, а таблетницу свою в чемодан забросила. После двух суток таких мучений у нас первая высадка на Петерманновых островах. Двадцать третьего, как сейчас помню. Так вот все утро пробегала как сумасшедшая, списки, художники, кто за кем, на какой “Зодиак” оборудование, на какой – журналистов, и еще чтобы никто ничего не забыл, иначе потом уже будет трудно туда-сюда всех возить. В общем, очнулась, когда уже на снег высадили. И вот тут началось. Я уже второй день без таблеток, к себе прислушиваюсь: мол, как там все? И понимаю: все хорошо, но только так не бывает! Вокруг смотрю и просто глазам своим не верю. Ну не может такого быть. Просто не может. Видимо, оттого что таблы не принимала, с ума сошла и мозг мой больной мне все это рисует – здорово, конечно, но страшно-то как! Словно поместили меня в иллюстрацию чью-то – все фиксирую, но понимаю, что в реальности такого не может быть. Нет таких цветов, форм и глубины – нет такого размаха, даже в самой дерзкой фантазии. И тогда возникает вопрос: где же я на самом деле? Это понятно, что все это игры мозга! Значит, я окончательно и бесповоротно сошла с ума.
Она громко выдыхает – словно вынырнула с большой глубины.
– Да еще все эти люди вокруг, кто лекцию пингвинам читает, и ведь серьезный ученый, не просто идиот какой, кто в небо огромные надувные кубы запустил, кто голый закопался в снега и стоит там живым розовым деревом, кто плетет на льдине огромный мировой шпагат. Есть от чего голове закружиться. Но главное, конечно, она – сама Антарктида. Стояла я, смотрела на это все и понимала, что все. Теперь, видимо, только в дурку. Пиздец, в общем. – Сморит на меня, можно ли так ругаться. – В таком вот странном состоянии вернулась на корабль. Все в кают-компании собрались и как давай обсуждать, кто что увидел, – тут-то я и поняла, что это не глюк. Всех накрыло! Всех. Не меня одну. И мне так стало спокойно, что передать нельзя, и никакие таблетки мне больше не нужны. Правильно Седой говорил: здесь, в Антарктике, все иначе. Ладно. Чего это я? Вы не думайте, я вас понимаю. Вот. Ну, я пошла.
Продолжаю читать.
Слишком долго правил страной Фортис. Стали жители забывать, как жить без него, слагали ему оды, славили его повсеместно. Тогда боги решили проверить, правда ли Фортис такой охотник, как об этом поют. И отогнали они всякое зверье подальше от тех мест, а вместо этого нагнали холода и ветров. Добычи вокруг стало мало. Запасы царства истощились, охотники один за другим возвращались ни с чем. Мужчины стали злыми, женщины – молчаливыми, а дети – грустными. Праздники не справляли, богов не славили. А только решали и думали, что же делать и почему удача оставила их. Но решить ничего не могли, и тогда попросили всем миром Фортиса помолиться богам и спросить у них. Но слишком велик был Фортис, чтобы спрашивать совета, взял он с собой самых сильных охотников, и пошли они на охоту далеко-далеко, к самому югу. И долго шли, но чем дальше уходили, тем меньше было зверья, и возвратились они с пустыми руками. Померзли многие в этом походе. А когда вернулись, узнали, что много людей полегло от голода, а из троих детей Фортиса не дожила до его возвращения младшая дочь его – любимая Солис.
Тогда рассвирепел Фортис и объявил, что пойдет на охоту один. И встретится со смертью лицом к лицу.
Объявил Фортис о своем решении жителям Гелиды и пошел куда глаза глядят. Не принес он даров богу и не исполнил жертвенных ритуалов, перед тем как уйти. Даже с семьей не попрощался, а просто ушел в ледяную даль великий Фортис.
И в этот раз все пошло по-другому. Как будто боги ему помогали.
Звери словно ждали его, храброго охотника Фортиса. Где бы ни проходил он, выстраивались они перед ним. Стояли так долго, сколько было нужно. Чтобы не промахнулся, подходили ближе. Дивился Фортис – никогда прежде такого он не видел. И расскажи кому – не поверят!
И вошел он в раж. И убивал, убивал, убивал. Убил Фортис много больше, чем нужно было ему, его семье и жителям Гелиды.
Солнце уже ходило низко, когда Фортис пошел обратно, чтобы собрать всех, вернуться за добычей и забрать с собой столько, сколько возможно унести. Но никто не встретил Фортиса на въезде в великое царство. Даже дети, которые всегда встречали первыми.
– Где все? – удивлялся он.
Наконец нашел всех в большой грусти. Стояли они у порога его дома. И дети, и взрослые, и старики.
– Что случилось? Почему вы все столпились здесь? – спросил их Фортис.
Молчали они сначала, но потом ответили:
– Когда ты, смелый Фортис, на охоту ушел, в конце дня Смерть сама пришла к нам и забрала двух твоих сыновей.
– Что? – не поверил великий Фортис.
– Так и есть, несравненный Фортис. Так все и случилось.
И подтвердили все вокруг, что сама Смерть приходила к ним.
– Что ей, моей дочери было мало? – взревел разгневанный Фортис.
– Она сказала – мало, Фортис. И забрала их.
И стоял он каменным изваянием, от часа солнца до самого часа луны.
Потом очнулся, махнул небесам, наточил стрелы и копья и опять ушел.
Шел долго. Шел далеко. Шел и шел.
Это же невозможно. Былины несуществующего народа. Откуда? Нет не издательства, ни автора.
В библиотеку входят пятеро – четверо молодых женщин и один мужчина. Садятся от меня подальше, косятся – непонятно, то ли боятся, то ли не хотят мешать. Я киваю им, словно со вчерашнего дня ничего и не изменилось. Они отвечают мне, но так поспешно, словно очень заняты. Потом в группе начинают говорить. Говорят шепотом, и, хотя комната не такая большая, слышно не все.
– Элалия ждет нас на земле.
Компания сжимается, их объединяют шепот и причастность к тайне.
– Она Пенелопа, и мы ее Одиссеи. Каждый вечер в это же самое время она будет посылать нам сообщение, каждое длиною в шесть минут. Пока мы плывем, она говорит через воду, которая рождается в Пиренеях и стекает в океаны. Она наш переводчик. Имя ее – Элалия. Сегодня ее первое нам сообщение.
“Good morning small river you fall down the stairs of the palace of the huge madam which spreads around us her mantle of snow and songs. Water is born in my lands singing the sounds of my cramps while I deliver my child. Here up at the mountains I look down and I hear the sounds of a boat crossing the waters of my womb. Humans you are on a ship, crossing asleep the waters I hold on my hands with which I bless your journey through the Drake passage searching how to pray crossing straight towards your believes ashes on my ashtray searching for a meaning: who I am? what am I doing here?”[6]Голос у Элалии как шелест гальки в мягкой волне, как шум высохших, но не опавших листьев.
Встают и расходится. Входит Философ. Садится рядом. Пишет.
– Можно я почитаю, что вы только что написали? Он двигает по столу ко мне лист бумаги.
История о том, как и когда умерли бессмертные боги Олимпа, проста, и к ней нечего добавить: когда им перестали приносить жертвы. Ими, их изваяниями и изображениями, продолжали любоваться, истории о богах продолжали слушать и читать, это с удовольствием делают и по сей день. Но когда Зевсу перестали приносить в жертву быка, а Артемиде – агнца, когда погасли огни жертвенников, оставалось лишь констатировать: боги мертвы.
Смотрю в иллюминатор. Там – голубая земля Гелиды. – Здесь еще не так заметны шрамы от человечества. – Философ тоже смотрит на ледяную землю. – Мы все еще продолжаем есть планету.
Я молчу, это он про меня.
– Как только образовался привычный круг жизни, нужно его тут же разорвать. Мы кичимся своими информационными накоплениями, но на самом деле это отложения сорного времени. Необходимо чаще устраивать сброс. Опыт и знания нужно время от времени обнулять. Возвращаться к развилкам или к корням. Вы же сделали это поэтому?
Я пожимаю плечами.
– Конечно же, наше появление здесь – это вброс, но ведь всегда можно найти оправдание?
– Они не поймут.
– Конечно, у них нет вкуса. А вкус – это та зона неравенства, которая получается при сравнении производящих опус и не производящих, а иногда просто и не подозревающих о существовании такового. Скажите, если вам нужна помощь.
Я опять только киваю.
– Теснота сознания. Дар нельзя заслужить. – Это он говорит, стоя в дверях.
Уоллес
Да. Все началось с лекции. Это была невероятная лекция. Невероятная и по силе, и по эмоциональности изложения. Только бы ее не забыть. Только бы не забыть. Как сказал этот философ – “…того, что ты не терял, у тебя, в сущности, и нет или все равно что нет. Недостающее можно приобрести, но лишь потерянное – обрести. Обретения нет без потери и утраты. Жертва интенсифицирует и приумножает обретение, придавая ему новый статус. Так, лишь жертвоприношение позволяет обрести самого себя, оно же может помочь обрести друзей среди прежних врагов”.
Лето уже закончилось. Конец марта. Солнца все меньше. Скоро опять вечные сумерки. Да, я все сделал верно. Нужно было что-то менять.
Все верно. Все верно. Мне уже шесть лет. И чего я добился? Все чего-то ждал. А чего ждал? Давно ведь уже все понял. Уже сколько лет этого адского одиночества? И поговорить не с кем. Они всё про криль, про камни для гнезда или сплетни какие – все пустое. А уж если заведешь разговор об устройстве мира или, например, про воду как информационный накопитель, так сразу сойдешь за больного, и слушать даже не станут. Пусть бы спорили, я согласен и поспорить, но они же просто думать не хотят. Разговоры пустые, о рыбе, ужасы про морских львов, глупости всякие, какая молодежь нынче никчемная, а сами-то, сами-то что? Давно закостенели, мозгами съежились. От берега до гнезда, от гнезда до берега, кто у кого камни ворует, вот и вся жизнь. Я понимаю, потомки важны, конечно, но если каждое поколение живет для того только, чтобы вырастить следующее, то грош цена такой жизни. Как он там говорил – “взаимная усталость ради и во имя друг друга” – вот что это за жизнь? Как верно! Черт побери. Как хорошо, что наконец решился! Как хорошо, что я ее нашел. Они делают что-то невероятно важное, что-то другое, что-то значимое! Может, конечно, это все звучит так, что я перед ними заискиваю, унижаюсь – словом, прошу чего-то, но это не так, я с ними потому, что они не про гнездо, не про жратву и не про то, что и как делают другие. Они про идеи.
Но ее увели. Что же мне теперь делать? Я сам все испортил. Все этот мой чертов громкий визг. Я ее благодарил, кричал о том, как счастлив, и они меня услышали. Сидел бы тихо – ничего бы не случилось. Нет, разорался как дурак. Вот теперь ее держат где-то наверху. Даже голоса ее не слышно, а меня переселили сюда, на палубу, налили воды в бак и думают, что помогли. Ничего не поняли. И объяснить я им ничего не могу. Что за уродство! Пойду туда, где они дышат, через палки с огнем. Там обычно все разговоры. Если хочешь чего-то понять, иди туда.
Какой ветер. Какой ужасный ветер. И холодно. Они думают, что всем, кто отсюда, холод нипочем. А мы его ненавидим. Я должен им объяснить.
– Смотрите, как он кричит! Какой смешной!
– Конечно, его забрали из родного дома, вот он и возмущается.
– Бедный зайчик, скучает, поди, по своим! Скоро, скоро вернем тебя домой! Домой хочет, рыбки свежей поесть!
О чем они, глупцы? У меня только здесь шанс появился! Я за это многое отдать готов, и голодать, если нужно, но только бы увидеть, как там еще бывает. Два года назад здесь были люди цвета камня – они говорили про солнце, что оно там у них всегда, что снег они видят впервые, играли с ним, словно птенцы. Потом помню, давно уже, к нам один из наших, из Адели прибился, говорил такие вещи, от которых у меня голова кругом шла, про какой-то мох, что ли, что величиной с наши горы, про земляные водоросли с разноцветными листьями, про колонии людей. Я потом несколько дней не спал. Только бы меня взяли с собой! Только бы не оставили!
– Слушайте, ну как смешно кричит! Я даже повторить так не смогу.
А сами-то как кричат, да еще все по-разному. Интересно, как они нас называют, не помню? Говорил же мне тот, который к нам прибился, этот, из Адели. Забавный такой. Мы называли его убийцей, за глаза, конечно, – у него белые пятна были, как у косаток. Что с соседями-то ругаться? Мы этого не любим. Бывало, поспоришь с кем, но ненадолго – отходчивые все. Покричал, отошел, постоял и все забыл.
Да, неплохой был этот из Адели, но к своим уплыл. А тут у меня друзей нет. Был сосед, вроде ничего, и то какой-то скучный, так, если только поржать, а говорить с ним бесполезно.
Я вообще раньше, маленьким, все мечтал: вот будет мне три-четыре года, и я весь мир переверну. Смешно сейчас, конечно, вспоминать, но ведь было же желание. Было.
Мне как-то даже сон приснился, что я лежу на водорослях, они почему-то горячие, и вода рядом горячая, золотая и вся пузырями, и все такое цветное, аж глаза режет. Проснулся – а вокруг снег метет, жалит иголками и серость одна вокруг, где вода, где небо, не разберешь. И потом часто этот сон вспоминал – уткнешься в камень и дремлешь. Фантазируешь. Вот и все мои развлечения. Со стороны кажется, что я от ветра закрываюсь, а я просто стою так, чтобы другие пингвины с глупостями не лезли. Да. Невесело тут жить и непросто. Столько наших уже погибло. Некоторые, конечно, по глупости. Я тут тоже чуть не угодил. Меня не так давно морские львы со льдины смывали: налетят, так чтобы волна по льду неслась, раскачивают, так что не удержаться, я уже думал, точно конец, но потом отвлеклись в воде на кого-то. Просто повезло, иначе бы уж съели. Так что на судьбу наговаривать не буду.
А может, я так уехать хочу потому, что я другой, может, во мне кровь какая замешана, может, мутация. Или что? Сосед говорит – это депрессия или нехватка витамина Д, но я не думаю, я его с рыбой достаточно получаю, может, что-то действительно со мной не так?
Интересно, а что с ней? Она тоже необычная. Она нервная. Она меня с собой взяла. Белая комната. Вода. А они меня на палубу вынесли, в грязное корыто. Я знаю, они в нем чехлы для ног мыли. Я видел.
Как быстро нынче темнеет. Скоро опять холод и темнота. Вчера здесь поджигали чучело человека, подвесили на кране для “Зодиака”, и чучело горящим призраком летело за кораблем. Красиво! А потом ночью целовались двое. И еще нервно курил капитан. И архитектор. И пьяный бегал человек и кричал. И еще я видел спящего человека, который шел не просыпаясь. В пижаме, прошел по баку, а потом с безучастным белым лицом вскрывал какую-то дверь. Взломал и ушел, точно робот. Как мне повезло, что я подошел к ней. Она обернулась. А потом меня поняла. Я же ко многим подходил, но все отступали.
Что это? Уже утро? Я что, заснул? Зачем вы меня в полотенце? Зачем? Не нужно меня никуда нести! Нет! Не нужно на берег! А-а-а-а-а! Так не пойдет. Опять сюда?! Как же это? Я не хочу сюда!
– Смотрите, как разволновался! Радуется, своих почуял! Благодарит нас. Ну, чего уж, – это наш долг. Мы же природе не враги.
О чем это они? Что за шутки!
– Счастью своему не верит. Все, дорогой, не волнуйся. Вернем тебя. Целого и невредимого, откуда взяли.
Да что за идиотизм! Я не хочу туда! Я хочу с вами, я хочу мир посмотреть! Где она? Где она, спрашиваю?
– Да не волнуйся ты так, немного потерпи. Сейчас уже дома будешь. Как разволновался! Сейчас, сейчас! Где, как говорится, взяли, туда и вернем!
Не хочу! Не трогайте меня!
– Как переживает, бедняга! Теперь точно будет людей бояться. А все из-за нее. Был спокойный пингвин, а теперь нервный.
Оставьте меня в покое!
– Даже щиплется! Перепугался. Скоро, скоро домой, потерпи уже. Полотенце сползло. Накиньте, накиньте, и уж тогда я его возьму. А то щиплется со страху! Не доверяет теперь никому.
А-а-а-а-а!
– Бедный, настрадался! Отплывайте, отплывайте, что вы так копаетесь? Ну, быстрее, быстрее. Поставьте рюкзак в ноги и не вставайте, а то лодку перевернете. Не вставайте, говорю. Так он нас благодарит. Не вставайте, сколько можно повторять, а то раз – и перевернемся, а в воде долго не продержимся. Давайте скорее на корабль, капитан хочет сразу же в обратный путь. Уже из всех графиков выбились. Боже ты мой.
Послесловие
За ужином тихо. Молчание нарушает Философ.
– Да, это была самая большая утопия – войти без следа, жить без следа и выйти без следа. – Он пододвигает к себе тарелку и начинает есть.
Со своего места встает Седой:
– Да что это такое! Что за народ-то такой. Я же вам не родитель. Не воспитывать сюда я привел всех! Что же вы такое творите? И что мне с вами делать? – Седой выходит, хлопая дверью.
Философ читает открытую страницу.
Знал Фортис в этих краях каждую тропинку. И вот увидел впереди темную ледяную пещеру. “Странно, сколько здесь охочусь, никогда ее раньше не замечал. То ли с пути сбился, то ли ее здесь не было. Но такого быть не может!” Решил Фортис искать Смерть там.
Подошел он ближе. Из пещеры черной, низкой в лицо ледяным песком метет. Ветер воет, холод обжигает.
И тут слышит бесстрашный Фортис, как кричит из пещеры сын его старший, Монтем:
– Отец, не входи сюда! Смерть стережет тебя здесь! Она устроила западню для тебя! Она погубит тебя! Не входи сюда, отец!
Но Фортис не останавливается, вперед идет.
Тогда слышит он голос младшего сына, кричит ему Темпестас:
– Не ходи сюда, отец! Здесь смерть ждет тебя!
Но не слушает и его Фортис. Лезет в пещеру, свод копьем царапает, ледяные стены рубит. В самое сердце пробирается.
– Не нужно, отец! Не победить тебе Смерть! – опять кричат Монтем и Темпестас.
– Это мы еще увидим, – отвечает им храбрый Фортис.
Ползет и ползет, наконец выбирается в огромный пещерный зал. Выходит Фортис на середину, оглядывается, куда дальше идти. Сыновей зовет. Но не отвечают они. И вдруг навстречу ему один за другим три монстра – Одиум, Сруделитас и Пигритиа. Преградили путь, не пускают.
Но Фортис только расхохотался:
– Ну что же ты, Смерть? Покажи мне свое лицо. Что ты за себя других посылаешь? Сама покажись! Или ты меня, Фортиса, боишься? А этих твоих друзей убогих я точно не боюсь. Они слабее меня!
Как сказал это Фортис, так и растворились монстры в темноте пещеры.
Кое-кто начинает шептаться, шум по кампусу все громче и громче:
– Что теперь будет?
– Ужас какой!
– Туман уже вторые сутки.
– Хорошо хоть Дрейка прошли.
– У меня до сих пор органы на место не встали. – Суп сегодня что-то не очень.
– Вы видели, как он ушел?
– Что? Что он сделал?
– Когда его оставили, он сначала все стоял, на корабль смотрел.
– А потом, потом вы видели?
– Суп вчера был куда вкуснее.
– Да что вы все про суп!
– Не мешайте рассказывать!
– А потом вы видели, что он сделал?
– Про кого это они? Про нее?
– Я это про пингвина!
– Про Уоллеса!
– И вы туда же!
– Я не видела, а что он сделал?
– Передайте мне тарелку, нет, не эту.
– Дайте наконец послушать.
– Так вот, он стоял-стоял, а потом развернулся и пошел. Я следил за ним.
– Да, мы тоже. Мы на самый верх забрались, оттуда все видно.
– Пошел к своим?
– Нет! В том-то и дело! Он пошел от берега вглубь, мимо гнезд, мимо всего, далеко-далеко, от воды, от племени, от еды наконец!
– Племени? От колонии!
– Не перебивайте! Не все ли равно! Боже ты мой!
– Он пошел вглубь!
– Туда, где ничего!
– Вы понимаете? Ничего!
– Чем это пахнет?
– Да прекратите вы! То суп, то пахнет.
– Сначала думали, может, перепутал, а он прямо и прямо, от берега вдаль, не останавливаясь, не отвлекаясь! Так и шел, пока из виду не пропал! Ото всех!
– Дурдом!
– Ничего не понимаю.
– А она-то, она-то куда?
– Сумасшедшая.
– Ничего себе. Взять и сбежать с корабля.
– А проверяли? Она вещи теплые забрала?
– Да неизвестно. Каюту опечатали.
– На чем она на берег-то добралась?
– На “Зодиаке”.
– Наверное, из команды кое-кого подкупила. И все.
– Я ничего не понимаю.
– А потом эти поиски. Так все странно. Ни фига не найдут.
– Передайте мне наконец эту тарелку!
– Какая же здесь вонь!
– Я ничего не понимаю!
– Седой совсем поседел.
– А Философ все с какой-то странной книжонкой носится.
И наступила великая тишина.
И Фортис услышал голос Смерти:
– Что ты делаешь здесь, охотник? Мало тебе тех, что ты сегодня убил? – Голос у Смерти нежный, ласковый.
– Мало. Я здесь, чтобы тебя убить! Покажись наконец!
– Нет. Угомонись.
– Ты забрала моих сыновей Монтема и Темпестаса. Я никуда не уйду.
– Ты сам стал слишком жадным, охотник. Ты берешь чаще, чем тебе нужно! Ты убиваешь больше, чем можешь унести. Так почему же ты удивляешься моей ненасытности?
– О чем ты говоришь, старуха?
– Я проверяла тебя, Фортис, и ты не справился. И теперь чего ты от меня хочешь?
– Забрать своих детей и уйти.
– Нет, Фортис. Поздно.
– Это еще почему?
– Уйти ты уже не можешь, ты в королевстве Смерти. Отсюда еще никто не возвращался.
– Ты обманываешь меня! Я жив. Покажись, и я убью тебя.
– Ты думаешь?
– Я знаю, Смерть.
– Хорошо, Фортис, так тому и быть. Я иду к тебе.
Пещера потемнела, потом залилась холодным светом, и охотник у вид ел, как навстречу ему что-то движется. Фортис вскинул лук и сильно натянул тетиву. Он не мог промахнуться. Только глазами моргнул, чтобы ледяной песок глаза не резал.
И вот что увидел смелый Фортис: в серебре луны стояла перед ним его дочь – Солис.
Пингвин шел прочь от берега. За грядой невысоких гор началось ледяное плато. Поднялся ветер. Двигаться стало сложнее. Скорее бы смерть и вечный сон. Чтобы не схватиться за жизнь, нужно уйти как можно дальше. Чтобы не суметь вернуться. Чтобы навсегда.
Трещал лед, сипел ветер, но сквозь весь этот шум он услышал ее. Остановился. Звук плыл отовсюду, куда бы Уоллес ни повернулся. Он замер. Решил ждать. А ее крик вращался вокруг воздушным нимбом.
– Я иду к тебе.
Patria о muerte[7]
Комната – два на три. В нее с трудом втиснуты железная кровать и две обшарпанные тумбочки по обе стороны от плоских подушек. Стены в высоту больше, чем в длину, словно комнату по ошибке перевернули. Узкое окно задрано под самый потолок – чтобы посмотреть на улицу, недостаточно даже встать на кровать. Над унитазом душ, можно мыться не вставая, холодильник размером с ящик из-под яблок, подвешенный почему-то над изголовьем кровати, и ржавый вентилятор над дверью, украденный с фабрики по соседству.
Сажусь на кровать. Подо мной жесткое синтетическое покрывало, на нем голубые розы. С улицы тянет краской, псиной и едой.
Ночью просыпаюсь от холода. Не сразу понимаю, где я. Сердце затягивает тоскливую песню, приходится натянуть на себя синтетические цветы. Заснуть не получается. Хорошо бы принять горячий душ, чтобы стало невыносимо жарко и чисто, а потом лечь и заснуть остывая. Лед каменного пола обжигает. Лампочка ночника светит голубым. С улицы доносятся обрывки музыки, ругань и вонь сигар.
Вода течет слабо, ее напора едва хватает на несколько тонких струй, они ничуть не теплее температуры тела. Нужно подождать, и она нагреется. Должна нагреться.
Это невыносимо. В первую очередь нужно успокоиться. Всего шесть дней. Только шесть дней и пять ночей, и я вернусь в свою прежнюю жизнь. И все будет хорошо. Конечно, если все пройдет гладко. Пройдет, как хотелось бы, как планировала, как готовилась. Так, завтра – Пабло. Ничего не спрашивать. Все сам даст. Все произойдет само собой. А сейчас нужно выспаться. Иначе проиграю.
Вода так и не нагрелась. Натягиваю на себя свитер. Выбрасываю эту вонючую продавленную подушку. Сворачиваю под голову шарф. Ложусь.
Утро разрывается криками из коридора. Высокая дверь дрожит квадратами оплывших стекол. Кричит мужчина, ему визгливо отвечает женщина, так, словно он придавил ее своим весом к полу и между гневными вопросами бьет тяжелым по голове. Потом наступает тишина, и женщина хохочет. Поет входной звонок, и она, все еще смеясь, бежит по коридору, преломляясь в стеклянных квадратах. Через минуту скребется ко мне со словами “Paquete para usted”[8]– кладет на пол сверток.
Посылка неряшливо перемотана веревкой, как куколка огромной бабочки. Ножницами для ногтей приходится долго трепать эту larva, чтобы вытащить сигарную деревянную коробку, запертую на замок. Достаю ключ из кошелька и поворачиваю в латунной скважине. Открываю крышку. Там аккуратно уложены толстые сигары. Откладываю их в сторону. Вскрываю фалыидно и достаю разобранный на части ТТ-30. Самозарядный пистолет Токарева образца тысяча девятьсот тридцатого года. Старый, но ухоженный, из него почти не стреляли. Собрать ТТ я могу с закрытыми глазами. Глажу пальцем звездочку на рукоятке. Магазин полный, но дополнительных патронов нет. Коммерческая модель, экспортная, патроны от парабеллума.
С трудом засовываю его в специальный карман за пояс юбки. Ее сшила мне бабушка. Знаю, что на кармане посередине вышито сердечко, аккуратным крестом. И еще цветок, не очень понятно какой. Нужно быть осторожной, в ТТ толком нет предохранителя. Проверяю, не топорщится ли сзади свитер. Нет, вроде ничего не видно. Иду на кухню.
На столе, покрытом застиранной скатертью, стакан и тарелка с нарезанными бананами, по ним ползает муха. В небольшом кувшине бледно-розовый, взбитый до пены сок гуавы. На блюдце перевернута кофейная чашка. Пододвигаю по кафелю железный стул, усаживаюсь; на шум из сада приходит полная женщина в халате, надетом поверх мятой пижамы. Ноги в шерстяных носках с трудом втиснуты в шлепанцы.
– Гладис. – Она улыбаясь протягивает мне руку.
Я киваю в ответ. Гладис радостно трясет мою ладонь, и я чувствую, как по копчику стучит ТТ. С ним не страшно. С ним можно сделать многое и также заставлять других делать то, что ты хочешь. Или, наоборот, не делать.
Гладис приносит кофейник, переворачивает чашку, наливает мне очень черного, цвета нефти, кофе. Достает из холодильника большую тарелку с нарезанными кубиками ветчиной и сыром. Опрокидывает над мутным стаканом кувшин, и розовая пена гуавы вырастает уже в стакане. Сминает ладонью круглую булку и запихивает в тостер, та склеивается и подгорает. Гладис садится напротив, сложив перед собой руки, и наблюдает за тем, как я ем.
Пробую кофе – на вкус это настой из жженой коры дерева, замешанный с чернилами. Нужно положить туда сахара – так это пить невозможно. Долго жую мятую горелую булку. К пене так и не притрагиваюсь, запихиваю в рот кусок сыра – так они называют скисший прессованный творог. На бананах уже множество мух, их радует полная безнаказанность, похоже, они жужжат от удовольствия.
Встаю, еще раз благодарно киваю и задвигаю стул. Гладис смотрит на меня недовольно, я жестами пытаюсь изобразить, что не голодна. Она недоверчиво цокает языком. Я возвращаюсь в свою комнату, выпиваю побольше воды из бутылки, купленной еще в аэропорту, запираю чемодан на ключ и выхожу на улицу.
Пересекаю Авениду 23 и по Калле 8 иду к парку Леннона. Чахлая трава, вытоптанные глиняные залысины. Цементные скамейки. На одной из них сидит металлический Леннон. С ним можно фотографироваться. Рядом вертится мужичок, хранитель очков – и за один песо он возвращает их на нос Джону. Дальше по Калле 15 иду до Авениды Пасео, а по ней направо к набережной. По асфальту идти сложно – он разбит, будто по нему месяц гоняли советские танки. Пахнет гарью.
Пытаюсь поймать такси. Сначала останавливается темно-зеленая “Де Сото” пятьдесят четвертого года с мясными внутренностями – широкими диванами с алой обивкой. Водитель наклоняется к щели окна, но на английский язык отвечает грубо: “No, no, no!” Значит, он работает за национальную валюту и не имеет права возить иностранцев. Дальше останавливается “Победа” в пятнах ржавчины, забитая народом. Называю адрес, молодой человек, вцепившись в тонкий руль, мучительно соображает. Я показываю рукой пять. Он кивает, визгливо кричит, обернувшись назад, и из салона неохотно лезут люди и отряхиваются, как собаки. Один из них с уважением держит мне дверь и аккуратно за мной закрывает. Спрашивает что-то про сигары. Наверняка хочет продать. Мы трогаемся, а эти остаются ловить другую машину.
Нет никаких ручек, только железный каркас, салон сварен из двух половин разных машин. Теперь понятно, чего они все отряхивались, – вместо обивки на сиденье брошены старые куски поролона, которые крошатся. Машина еле тащится, подскакивая на ямах.
Наконец приехали. Прохожу через Callejon de Hame, где стоят неподвижно люди, зазывая в свои галереи, а на отказ предлагают сигары. На скамейках курят девушки. Что-то неразборчиво говорят вслед. Стараюсь не вертеть головой. Сворачиваю налево и сразу вижу его.
Пабло – старик в тяжелых очках на носу, что торчит килем на его маленьком лице. Сидит на крыльце, в дверном проеме. Подхожу, здороваюсь, он внимательно смотрит на меня, скрестив на худых коленях руки, и вдруг смеется беззубым ртом. Встает, снимает бейсболку, разглаживает ладонью остатки волос, впиваясь длинными ногтями, натягивает кепку опять на голову. Обнимает меня, хлопая по спине, заводит в дом.
Темная комната выкрашена синей краской, на стене несколько распятий, портрет дочери и его, Пабло, но моложе и в других очках. Там же фотография Ростроповича, сделанная на концерте здесь, в Гаване. Ростропович у стены в граффити словно удерживает виолончель, чтобы та не упала. Дальше целая галерея: Бетховен, Лист, Чайковский, Малер, а за ними газетный Обама. В центре – пятно от картины, которая когда-то здесь была, но теперь это только пятно на стене с гвоздем. Эту картину Пабло продал в прошлом году. Все в пленке рыжей пыли, похожей на ржавый налет. Он проводит по картинкам кривым пальцем, оставляя след. Пабло смеется и манит меня в спальню. Открывает перекошенную дверь платяного шкафа, подмигивает и достает отретушированную фотографию Нормы Джин, когда она еще не стала Мэрилин Монро и не отрезала себе кончик носа, а весело лежит на оранжевом фоне, обнаженная, розовая. Пабло щелкает языком и поднимает вверх большой палец.
– Бетифуль голь, бетифуль голь, бетифуль голь[9], – выдыхает он, качая головой. Вытирает рукавом стекло и убирает картинку в шкаф, на ее законное место, где она стоит с самой революции. Аккуратно и бережно, как уложил бы саму Мэрилин. Кроме нее в шкафу стоят кожаные желтые туфли с язычком в мелкую дырку, висит пара рваных рубах, штаны, темно-синяя грубая куртка, какие-то газетные свертки – и все в той же ржавой пыльце. Весь дом в ней. Интересно, что это. Может быть, глина?
Рядом со шкафом кровать – вернее, сколоченный из фанерных кусков подиум размером в три сбитых вместе гроба. Матраса нет, только затертое одеяло и подушка без наволочки, серо-рыжая, никогда не стиранная, просто мешок с песком. Думаю, у Пабло болят кости, на нем так мало мяса и жира, что он бьется о кровать, ночью, вспоминая о жене, которая сбежала во Флориду, или когда думает о Мэрилин, которая всегда ждет его в шкафу. У изголовья стоит странное сооружение в проводах и с большим тумблером выключателя на тонкой ноге. Пабло показывает, как оно работает. Это торшер. Он сделан из лампы дневного освещения, все еще соединенной с куском облицовочной панели потолка какого-то государственного учреждения. В примыкающей к спальне комнатке – мастерская. Она и есть источник оранжевой пыли. Там Пабло точит сувениры – кресты с прикованными к ним Спасителями и выжженными под ними четырьмя буквами – INRI.
Иисусы у Пабло из пальмы, они похожи на гвозди с круглыми головками, где ножки складываются на манер циркуля. Шкурка и рашпиль стачивают эту яркую пыль, она разлетается, окрашивая все, что есть в этом доме, в цвет шафрана.
У окна стол, на нем стопочками разложены бумажки и вырезки из газет, там же очки в самодельной оправе, два обглоданных карандаша, сломанная шариковая ручка и остро заточенные палочки разной длины. Окна без стекол, со ставнями, сколоченными из деревянных обрезков. Межкомнатных дверей нет, а закуток кухни выходит в огрызок внутреннего двора, где стоят велосипед без колес, ржавый каркас неизвестного станка и кресло, выпиленное из целого ряда таких же затрапезных кресел, сбитых вместе, со вспоротой дерматиновой обивкой.
Куртка Пабло, брюки и даже шея тоже в оранжевой пыли. Я хочу его сфотографировать. Он приносит другие очки. Эти прислала ему дочь из Флориды всего пятнадцать лет назад. Они перекрывают все его высохшее лицо, съезжают с носа под тяжестью толстых стекол. Пабло топчется на месте, словно боится приклеиться к полу, качается, переваливается с одной ноги на другую. Ложкой из стакана торчит его голова из воротника. Подбородок в отсутствие зубов запал, кожа складками присохла к черепу, глаза помутнели. Фотография сделана.
Мы возвращаемся в мастерскую. Пабло подмигивает мне, открывает дверцу одного из шкафов и достает оттуда потертую коробку. Открывает ее с гордостью и показывает мне. В коробке лежит американская дрель компании “Хакстейбл” в красном металлическом корпусе. Он с любовью гладит ее по пухлому боку. На внутренней стороне коробки его рукой написано: 1960 год, цена двадцать один доллар США. Перекладывает дрель мне в руки и выходит, оставив открытым ящик.
В шкафу, в глубине открытого ящика, откуда Педро достал дрель, лежит газетный сверток с фотографией Фиделя. Я беру себе сверток, засовываю во внутренний карман куртки, а коробку с дрелью кладу на место.
Скоро возвращается Пабло, мы еще раз обнимаемся. Он провожает меня на улицу. А сам садится на пороге там, где сидел.
Возвращаюсь к себе. В комнате совсем темно. Слышно, как на кухне поет Гладис. Пахнет паленой курицей. Говядину я попросить не решилась – на нее государственная монополия. Аккуратно достаю ТТ, потом сверток от Пабло. Разворачиваю. Прикручиваю самодельный глушитель к пистолету. Сделано неплохо, но с ним чуть сложнее, довольно тяжелая штука получается. Пробую на вес, держа двумя руками. Да уж. Отвинчиваю глушитель, опять завертываю в Фиделя и кладу в чемодан. Гладис кричит что-то про ужин. Пистолет на спину. Тащусь на кухню. Слава богу, проголодалась. Курица даже ничего. Юкку не беру. Но Гладис все равно довольна. Наливает мне в стакан колы и смотрит в сторону бутылки с ромом. Я киваю, и мы выпиваем Cuba Libre с ней вдвоем. Пьем молча, улыбаемся друг другу Потом она говорит фразу, будто из фильма Джармуша: Parece que no hablas español?[10] Мы обе смеемся, и с нами смеется девушка с ромовой этикетки Mulata de Cuba. В клуб 18/30 пойду завтра, а сегодня нужно еще отдохнуть. На Гладис шерстяной костюм. Зима в этом году в Гаване холодная. Сегодня градусов тринадцать, не больше. Я спрашиваю Гладис про дополнительное одеяло, показываю на пальцах, коверкаю французские слова. Она смеется, подливает мне рома, потом звонит по телефону. Минут через десять со стороны двора в кухню заходит молодой человек с большими, широко посаженными глазами, здоровается и проносит мне в комнату скомканное одеяло.
– Бенито! – Гладис подмигивает и кивает парню в спину.
Тот скоро возвращается, включает музыку и под хохот Гладис, смешно виляя задом, приглашает меня на сальсу. Я отказываюсь, Бенито настаивает, я показываю на ром, потом изображаю, как кружится моя голова, оказывается, он вполне сносно, только очень шепеляво говорит по-английски – тогда я говорю, что много выпила, а сама представляю, как округлятся его и без того большие глаза, если он нащупает на моей спине металлический корпус ТТ. Но без оружия я ходить не хочу. На хвосте вроде никого нет, но кто знает. Здесь нужно надеяться только на себя – и больше ни на кого. Иначе крышка. Иначе мне никогда этого не сделать.
Клуб 18/30 в Ведадо – настоящий колониальный клуб. Арки, пальмы в кадках, вымазанные известью стены. Громко играет музыка. Со сцены, перекрикивая шум, седой человек пытается разговаривать с толпой. Но его не слушают. Все танцуют сальсу. Кто не танцует, тот курит сигары. Крутятся головы, мелькают руки, извиваются тела. Ноги выбивают ритм. Некоторые свистят, запрокинув голову к звездам. Но более всего публика любит большого черного в желтом костюме. Он огромными руками крутит партнершу и улыбается белозубым ртом. Девушка тоже высокая, она выскальзывает из его объятий, а он ее не отпускает, сильнее закручивает в сложные спирали. Она вьется вокруг него юлой, взлетает и возвращается.
Вокруг них собирается толпа. Пробиваюсь сквозь тела и открываю тайну их популярности. У парня всего одна нога, а вместо другой – дергающаяся культя, едва доходящая до середины бедра. Одноногий скользит по полу неведомым способом, и все наблюдают за ним, как за чудом. И никаких костылей. Как он вообще сюда дошел? Музыка стихла, и он уже за столом, и девица хохочет у него на коленке с коктейлем в руке. Я хожу, чтобы меня было видно. На моей куртке написано Brasil так крупно, что трудно не заметить. Делаю вид, что кого-то ищу. Ко мне с бокалом идет та самая, что танцевала с одноногим. Улыбаясь, она вкладывает в мою ладонь мобильный телефон и шепчет на ухо: Patria о Muerte. Я отвечаю: Patria о Muerte, – и ухожу. Сейчас начнется противное. Стареющие европейки будут покупать молодых танцоров на ночь.
Еду в Мирамар. Casa de la Música – облезлая цементная глыба. Вход перегорожен железными стойками, проход строго по одному, у дверей два амбала и еще один маленький крутится вокруг. Он объясняет мне, что клуб откроется минут через десять, войти туда еще нельзя, но можно подождать в баре ресторана напротив. Известный трюк, но спорить с ним я не собираюсь. Играю в наивную иностранку. Иду, куда посоветовали. Черный за моей спиной уже машет через улицу халдею, и тот открывает передо мной дверь.
Ресторан – грязная стекляшка, потертые полы, бордовыми шторами зажат цветочный тюль. Столы кривыми рядами сгрудились среди чалых колонн. Скатерти в пятнах, перевернутые вверх дном стаканы, в замысловатые фигуры сложены накрахмаленные салфетки. Вдоль зала длинная барная стойка. За ней в несвежей рубахе сонный бармен. Сажусь на высокий шаткий стул. Отсюда видна грязь внутренних шкафов и полок. Приносят картонку меню. От Cuba Libre слиплось все внутри – заказываю Cubanito. Бармен кивает, достает мутный стакан.
Хочется возмутиться, но нельзя. Лучше промолчать. Оборачиваюсь на зал, там никого нет. На стене в телевизоре танцуют женщины. Коктейль готов. Бармен неловко пытается воткнуть туда щипцами соломинку. Но она не слушается, выпрыгивает вверх; даже если он ее уронит на пол, то поднимет и засунет обратно в стакан. Соломинка все же поддается, он цепляет на край кружок лимона и ставит результат стараний передо мной. Только поднимаю руку, чтобы взять его со стойки, он участливо засовывает под стакан картонный квадрат. Теперь бармен доволен, смотрит на меня с радостью. Я отпиваю глоток. Жуткая гадость. Все дело в томатном соке. Он горький, химический и несвежий. Страшно предположить, из чего он сделан. Но я улыбаюсь и опять беру трубочку в рот. Делаю вид, что пью. И еще он навалил туда мутного льда. В мутный стакан – мутного льда, неизвестно какого рома, серо-буро-малинового сока и кайенского перца.
Мимо меня из кухни коротышка в фартуке несет лоток с грудой соломинок для коктейля. Останавливается и сливает через угол остатки воды в угловую раковину. Вот это да. Они одноразовые соломинки моют. Я прокрутила стакан, чтобы он развернулся не раз мытой соломинкой от меня. На срезе лимона, с той стороны, с которой я его не видела, – раздавленная муха: ну это уж слишком. Отодвигаю от себя стакан, прошу виски безо льда. Опять начинает тошнить. Выпиваю залпом, исключительно как обеззараживающее. Кладу на мокрую стойку десять песо. С купюры на меня смотрит Гомес. Его тоже жалко. Благодарю всех и выхожу на улицу – там мне уже, как старой знакомой, машет тип у входа.
В клубе орет музыка, трещат убитые колонки. В гардеробе девушка аккуратно записывает в тетрадь мою фамилию, имя и страну, откуда я прилетела. Интересно, куда она сдает эти тетради, кто их читает? Протягивает мне картонный мятый номерок с цифрой 42, начирканной шариковой ручкой. Ставит ту же цифру напротив моей фамилии.
Прохожу в зал. Сипло дрожат динамики. На танцполе несколько пар. Ничего стоящего. Самые удобные столы пустуют – на них карточки reservado[11]. Это значит, что за них хотят денег. Не нужно привлекать к себе внимание – в угол. Отсюда удобно смотреть на все, что происходит, и меня почти не видно. Подходит официантка, у нее усталое лицо и обожженные руки. Она не любит людей, которые пришли сюда. Ей надоело здесь работать. Она скорее хочет умереть, чем таскать эти дурацкие коктейли. Она даже не любит танцевать. Ей все надоело до крайней степени. Кричу через шум – Mulata de Cuba, не думая, лишь бы она побыстрее ушла. Задерживать ее хоть на чуть-чуть – значит подвергать пытке. Заказ приносит совсем другой человек – наверное, та, с обожженными руками, все же нашла способ свести счеты с жизнью. Надеюсь, мне не придется сидеть здесь долго. Я очень на это надеюсь. Первым делом выбрасываю соломинку.
Ром ужасного качества – видимо, долго стоял открытым, и еще разбавлен. Локти липнут к столешнице. Смотрю на танцующих. Сегодня местные все некрасивые, а белые в сальсе нелепы. Иду в туалет. Там у грязных дверей курит обожженная. Стараюсь не встречаться с ней взглядом.
– Hola, Rojo![12] – Она манит меня пальцем, с которого тонким полиэтиленом слезает кожа. – А ты красивая, – протягивает мне конверт, бросает под ноги окурок и уходит в дверь, где написано Personal De La[13].
Наконец можно уйти. В гардеробе никак не могут найти мою куртку.
Строгий учет не помогает. Засыпаю сегодня мгновенно.
Утро. На улице пахнет дешевым мылом и гнилыми фруктами. Мимо под хлопки и барабаны проходят пять человек на ходулях. Танцуют над головой, машут грязными синтетическими брюками, трясут огромными шляпами. За ними табуном идут дети.
Барабанщик без ходуль, задрав голову, выкрикивает припев. За ним тащатся несколько скелетообразных собак. Догоняю барабанщика. Говорю ему на ухо заученную фразу по-испански. Сую в кулак деньги. Он кивает. Еще раз повторяю. Они наконец сворачивают, и шум – вместе с ними.
Нахожу нужное кафе. Колченогие столы. Несколько горшков с неухоженными цветами и скучающие официанты. Усаживаюсь за крайний стол. Достаю из сумки книгу “Всеми дорогами Сьерры: стратегическая победа”, кладу рядом. Из окна напротив слышно, как поет Очоа. Женщина с совком на длинной ручке и метлой танцует вокруг кафе – у нее на голове букет искусственных цветов. Она как подставка для небольшой клумбы. К ней должны слетаться пчелы или птицы. Но птиц здесь нигде не видно. Думаю, их давно уже съели. Всех. Мимо проходят пять беременных женщин, словно народность с вздувшимися животами приехала на экскурсию. Круглые тела на тоненьких ножках.
Официант идет ко мне через столы, танцуя. Заказываю что-то вроде запеченного бутерброда с сыром, остальное, думаю, рискованно. За соседний стол усаживаются молодые хохочущие англичанки. Рядом тут же вырастает худой кубинец с проваленным носом. Просит денег, они отворачиваются, тогда он начинает что-то мямлить скороговоркой, потряхивая яйцами в тонких брюках. Девушки отодвигаются от него вместе со стульями. Машут рукой официанту, тот со смехом топает на него ногами, прогоняет, будто голубя или собаку Худой неохотно уходит, вертя головой на тонкой шее. Через два дома стоит очередь в нору, которая превращена в овощную лавку Туда сегодня привезли гнилой лук и куски тыкв. От очереди отделяется невысокий человек с толстыми ногами, подходит к моему столу. Смотрит внимательно на книгу, шевелит губами, читая про себя ее название. Достает из нагрудного кармана сложенный вчетверо лист бумаги, вкладывает между страницами и тут же, не говоря ни слова, уходит.
Съедаю поджаренный с сыром хлеб, потом раскрываю книгу и разворачиваю записку. Все идет по плану, ничего не меняется. Митинг будет в то время, когда и предполагался. Хорошо, что договорилась с ходульными. Пока мне везет.
Все утро под окном скулит и скребется собака. И еще нарастает монотонный шум, будто по улице волокут груду огромных железных ящиков, потом мелко шуршит дождь. Скоро к скрежету прибавляется звук текущей воды. Дождь усиливается, барабанит по жестким листьям. Собака начинает надрывно лаять.
По холодному полу прыгаю в душ. Вода течет слабой струей. Шампунь лезет сквозь пальцы манной кашей. Стоит засунуть зубную щетку в рот, как начинает тошнить. Болит голова. Потерпи еще день.
Один день. Потом все будет по-другому. Полотенце жесткое, как кора дерева. Я еще вытираюсь, когда вдруг звуки исчезают. Все. Будто ящики уволокли, увели собаку, и кончилась вода для дождя. Даже храп из соседней комнаты прекратился.
Собираю чемодан. Чем так ужасно воняет из кухни? И какой тусклый свет лампы в комнате. Холодно, температура здесь не выше десяти. Хочется согреться, оттого тороплюсь. Нет. Сделай все аккуратно. Все идет по плану. Все идет хорошо. В ритме боя сердца – все идет хорошо.
Зимой в Гаване солнце стоит высоко в небе. Пью кофе, глядя на Малекон. Выходят играть заспанные музыканты. Мятые, будто и не ложились. Ветер трясет пальмовые листья, вырывает из рук салфетки. Фонтан выплевывает вверх четыре вялые струи. Мимо цементной стены, выкрашенной в цвет обваренного тела, два крашеных пожилых американца ведут молоденьких девушек с высокими круглыми попами. Девушки в смущении опускают глаза, дядьки победно осматриваются.
На площади суматоха. Люди в темных костюмах выжимают с площади всякий сброд. Вытаскиваю из-под одежды на видное место журналистское удостоверение. Жмусь ближе к людям с камерами. Все время улыбаюсь. Машу кому-то рукой, словно я тут своя. В руках у меня цветы. Их достала мне Гладис – я попросила цветов для могилы. Она только спросила: когда умер? Перенесен? Я знаю, могила здесь дается на три года, а потом утрамбуй все в ящик – и перенеси в стену. Да, да, уже в стене. Тогда Гладис рассказала, как переносила мужа, расплакалась. Трудно было позвоночник ломать. Опять выпили рома, и она пообещала мне букет. Я попросила сделать его побольше. Она кивнула, вытирая слезы. Букет получился колючий, ободрала все руки, пока ввязывала в него тт.
Шарю по асфальту глазами – ну должен же здесь быть какой-нибудь люк, яма или дыра. Наконец вижу выломанную решетку водостока. Подхожу: достаточно большая, уходит глубоко вниз. На ней лежит кусок фанеры – кто-то позаботился, чтобы туда не провалились. Сдвигаю ее в сторону. Приезжает машина PrensaLatina[14], оттуда высыпают люди с фотоаппаратами. Вытаскивают камеру. Разматывают провода. Люди в черном проверяют удостоверения. Я подхожу к молодой журналистке, совсем еще студентке. Представляюсь, дарю ей красивый новый блокнот с ручкой – она радуется, как ребенок. Со стороны мы выглядим как старые друзья. Будто работали вместе не один год. Подъезжает грузовик с людьми в штатском. Их выводит человек и показывает, где и как встать. Начинает собираться народ: местные и туристы, которым все равно, на что глазеть. Я возвращаюсь к своей дыре. Человек, который привез рабочих, лысый и очень желтый, взбирается по ступеням собора и машет руками, призывая к тишине. Начинает говорить. Слышу – называет фамилии тех пятерых, которые сидят в тюрьмах Флориды. Они сейчас – герои Кубы. Они пострадали за Родину. Они готовы умереть, но не сдаваться. Patria о Muerte! Родина или смерть! – скандирует лысый и машет, и это подхватывает народ на площади. Все громче и громче. Patria о Muerte! Patria о Muerte! Patria о Muerte! За собором тоже все перегородили. На крыльцо выводят Фиделя. Он сильно похудел. Бесцветное лицо, серые борода и брови. Все одного цвета, цвета пепла. Плоть как серый гранит. Он – памятник себе. Глаза полузакрыты. Уже почти не живой. Вся площадь наполняется стоном-криком. Фидель! Фидель! Через него, уже совсем вяло, – Patria о Muerte! Родина или смерть! Еще немного – и Фидель уже громче Родины и больше всякой Смерти. Фидель, Родина, Смерть! Фидель, Родина, Смерть! Из-за поворота под барабанную дробь появляются пятеро на ходулях – к ним бегут люди в черном, музыка врывается в толпу. Я протягиваю букет в сторону Фиделя. Фидель, Родина, Смерть! Фидель, Родина, Смерть! Орет площадь. Бум-бум-бум-бум – стучат барабаны. Циркачей ловят за штанины черные люди. Фидель, Родина, Смерть! Фидель, Родина, Смерть!
Букет дергается в моих руках. Раз, еще. Я опускаю руки, разжимаю пальцы. И он тяжело летит в дыру подо мной.
На крыльце суета.
Фидель грузно валится вбок. Тащит за собой держащих его людей. Фидель! Родина! Смерть!
Смещаюсь вправо, чтобы было виднее. Машут руками на крыльце собора – народ сжимается, чтобы увидеть, некоторые просто кричат. Сзади давят люди. Несут меня в сторону. Женский вой. Забегали. Люди в черном и в военной форме двинулись в толпу. На площадь выбегают люди в камуфляже. Оцепили крыльцо. Оттесняют толпу. Крики все громче. Сирена полицейской машины. Хватают слева от меня каких-то мужиков. Кто-то стреляет. Я прячу журналистское удостоверение и поднимаю над головой бейдж красного креста, пытаюсь продраться к собору, но меня оттесняют. Растаскивают прессу. Увозят Фиделя. Скручивают мужиков. Я протискиваюсь к полиции, машу бейджем. Хочу помочь. Кричу, что могу помочь. Меня оттаскивают назад. Всем показывают, чтобы расходились. Многих заталкивают в грузовик. Я цепляюсь за полицию – они отталкивают меня в сторону. Трясут автоматами. Показывают, что нужно уходить. Вырывают из рук фотоаппарат и бросают на землю. Нельзя! И еще громче – нельзя! Всех гонят с площади. Бегу в одну из улиц, там поток постепенно слабеет. Изображаю растерянность. Ловлю такси. По дороге забираю чемодан у Гладис. Через четыре часа у меня самолет. В аэропорту покупаю фотоальбом о Кубе, красочный, фальшивый, и шоколад, ужасный на вкус. Зачем? Видимо, все же нервничаю.
Салон переполнен. Душно. Остываю, прислонившись к холодному стеклу. Подо мной океан пены, но скоро темнеет, и взбитые сливки превращаются в согнанных вместе овец, что жмутся друг к другу свалявшимися спинами. Самолет проваливается в воздушную яму, и с ним – внутренности всех пассажиров. Мелко трясет. Затекают ноги, болит голова. Но и этому приходит конец. Последним ревущим усилием железная махина вспарывает ватник облаков и неровно приземляется. Люди оживают, размораживаются.
Водитель такси улыбается, делает громче музыку.
– Как там Куба? Весело?
– Весело, вся страна на подтанцовках.
Больше мы не говорим.
Включаю кран на полную мощность. Струя воды, скручиваясь в жгут, разбивается о дно и фонтаном взмывает вверх. Над ним растет радужное облако пены. Жду, когда ванна заполнится, снимаю с себя одежду и опускаюсь в воду с головой. Провожу пальцами по волосам, они скрипят, словно соломенные, все остальные звуки смазанны, отчетливо слышно только, как бьется сердце. Вода слишком горячая. Это значит, упадет давление и будет кружиться голова.
Включаю холодную воду, и тишина взрывается грохотом струи. Немного кружится голова. Выхожу осторожно. Волосы бьют мокрым жгутом по спине. Скорее в халат, закутать шею пушистым воротником. Главное сейчас – не замерзнуть. На кухне уютно свистит чайник и отключается с мягким щелчком. В спальне, открыв рот, лежит еще не разобранный чемодан. На письменном столе идеальный порядок; выдвигаю ящик, достаю записную книжку, открываю и из длинного списка инициалов вычеркиваю FC.
Вечером, через пару дней, у меня гости. Режу шоколадный торт из кондитерской Paul, мой любимый. Кто-то включает телевизор. Там похороны Фиделя.
– Нельзя тебе никуда ездить – куда бы ты ни попала, всюду что-то происходит. Вот и на Кубе, видишь, Фидель – того.
Все смеются, и я вместе с ними. Клубится молоко в чашках крепкого чая. Горячий нож плавит шоколад. Облизываю пальцы. Как хорошо дома.
Брюссель
Отель был старый и грязный – с туристами на чемоданах, громкими уборщицами, вонью дешевых моющих средств и истертыми коврами. Узкая комната окном выходила на крышу офисного здания, утыканную кондиционерами, кровать упиралась в туалетную дверь, служившую еще и зеркалом, отражающим все, что на кровати происходило. На тумбочке жались друг к другу телефон старого образца и Библия в дерматиновом переплете. Шумно работал кондиционер.
В комнату вошли двое. Женщина поморщилась, а ее невысокий спутник достал из сумки бутылку шампанского. Она разделась, брезгливо сбросила с кровати покрывало, забралась под одеяло, вынула из волос шпильки – и по подушке рассыпались рыжие волосы.
Мужчина обернул бутылку полотенцем. Он был похож на испанца, темные волосы падали на глаза, он то и дело вскидывал голову. Полотенце скользило по стеклу, и бутылка норовила упасть на пол.
Только сейчас женщина разглядела, какие у него короткие пальцы и как неуклюже он ими владеет. Он то вытягивал пробку, то пытался ее удержать. Его нерешительность не давала пробке сдвинуться с места, и вся процедура неприятно затянулась. Наконец хлопнуло, пенная жидкость вылилась на полотенце, а с него на кровать. Мужчина чертыхнулся и тут же с извинением посмотрел на женщину:
– Я устаю в последнее время. Не высыпаюсь. Рано встаю. Как же все осточертело.
Раньше они никогда не говорили о его работе, и у нее сложилось впечатление, что работу он любит. Оказалось, что это не так. Мужчина вздохнул. Этот вздох она знала – так вздыхали ее бывший муж, отец, а до него дед.
Мужчина разлил шампанское по бокалам, долго искал им место и наконец втиснул их на тумбочку у кровати, покопался в сумке, достал упаковку презервативов, положил на Библию, передумал и сунул между бокалами. Шампанское в компании с презервативами подешевело. Мужчина аккуратно встряхнул полотенце и сложил. Женщине показалось, что она на приеме у врача-гинеколога, сейчас он достанет латексные перчатки, надует их, натянет на руки, а из-под кровати выдвинет подставки для ног. Она поежилась. Мужчина отнес полотенце в ванную комнату, вернулся и вопросительно посмотрел на женщину.
– Раздевайся, – сказала она, подтянув одеяло к самому подбородку.
Он кивнул, быстро снял пиджак и повесил его на зажатый между стеной и кроватью стул. Аккуратно прошелся руками по пуговицам рубашки, словно сыграл гамму на аккордеоне, стянул ее с себя, хотел было накинуть на пиджак, но передумал, снял пиджак, повесил на спинку стула сначала рубашку, а только потом накрыл ее пиджаком, проверяя, не замялись ли при этом ее рукава. Медленно расстегнул ремень, потянул брюки вниз, сначала за одну штанину, потом за другую. Смешно подергал ногами, высвобождаясь, будто пинал невидимого соперника. Перекинул брюки на руку.
Женщина засмеялась. Он замер и остался стоять, как половой с полотенцем. Она смотрела на его ноги, на широкие щиколотки, объемные икры и короткие носки.
– Что? – Он тоже посмотрел на свои ноги, а потом опять на женщину.
Она залпом выпила шампанское и отрицательно покачала головой.
Он, все еще держа в одной руке брюки, снял носки, встряхнул и выровнял их на стуле. Потом занялся брюками – перевернул их ремнем вниз и сложил по стрелкам. Зажал брючины подбородком и, придерживая руками посередине, согнулся пополам, перехватил руками сложенные брюки, выпрямился и стал пристраивать их на тот же стул.
– Слушай, – у нее от шампанского заблестели глаза, она ладонью зажимала рот, сдерживая приступ смеха. Он взглянул на нее снизу вверх, руками все еще приглаживая упрямую складку – Одевайся! – и хлопнула ладонью по одеялу.
Мужчина сначала не понял. Потом еле заметно кивнул и взял со стула носки. Она прошла в ванную, задев его плечом. Долго не выходила. Через некоторое время он постучал в дверь и спросил, все ли у нее в порядке.
Она вышла уже в одежде, подхватила сумку и попросила ее не провожать.
– Просто не могу опоздать. Извини. Я же тебе говорила про сына.
Он кивнул, а она пошла по длинному коридору к лифтам.
Она болталась по городу, заглядывая в витрины, а часа через два приехала на вокзал. Там, в центральном вестибюле, на специально выстроенном помосте, играло механическое пианино – зубы клавиш проваливались друг за другом в лаковую черноту.
Goodbye, my love, goodbye, I always will be true, So hold me in your dreams Till I come back to you[15].Машина пропустила через себя билет, выплюнула и открыла двери в следующий зал. Там сканировали сумки, проверяли документы, изучали лица. Пассажиры потащились с вещами к поезду: от первого до девятого вагона – налево, от девятого до восемнадцатого – направо. Объявили, что в шестом и тринадцатом можно поесть.
Внутри все долго искали что-то по сумкам, потом раскладывали вещи, кто-то раздевался, и вот, наконец, уселись по местам.
Поезд мягко тронулся, и ей показалось, что это платформа поехала куда-то назад, а вагон остался стоять на месте.
Рядом с ней села семья из трех человек. Напротив – жена с дочерью-подростком, а в соседнем кресле – муж. Мамаша с дочкой хихикали, и их резцы одинаково выпирали вперед. Муж постоянно подтягивал штанины и косился на рыжую. Но та смотрела в окно.
Поля, кусты, поля, кусты. Какое все одинаковое. Кусты, кусты, кусты. Как же она соскучилась по сыну. Где он там? Должен сегодня вернуться. Скорее бы к нему. Зачем она приезжала сюда? Боже, какая все это была глупость.
Спальню освещала фосфорическая луна. Мисс Кабаз закрыла глаза, и луна, поморгав черным пятном, исчезла.
В голове заворошились мысли. Среда, а она забыла вытащить мусор. Завтра придется либо встать до семи, либо ждать до субботы. И то и другое неприемлемо, значит, нужно это сделать сейчас.
Она вздохнула, откинула одеяло и, набросив на плечи халат, спустилась в кухню. Там, не включая света, достала из контейнера пластиковый пакет с мусором, связала его и потащила по коридору на улицу. Одной рукой она придерживала халат на груди, чтобы не распахнулся, другой, стараясь не выронить пакет, долго не могла повернуть дверную ручку.
Снаружи было неожиданно ветрено, будто задуло оттого, что она открыла дверь. Сделав несколько шагов к фонарному столбу, мисс Кабаз прислонила к нему мешок, но тот завалился набок, она вертела его и так и сяк, но он сопротивлялся. Она чертыхнулась, встряхнула его и с силой ткнула к столбу. Мешок наконец осел и замер. Она подождала несколько секунд, убедилась, что он не завалится опять, и развернулась к дому.
Но там, рядом с открытой дверью, в ее тени, кто-то стоял. Бешено застучало сердце.
– Кто это? – сипло спросила она.
– Извините, я совсем не хотел вас пугать. Я просто увидел, как вы вышли.
– Кто вы?
– Я ни за что бы не решился вам позвонить. – Голос был детский.
– Кто вы? – повторила она, потому что не знала, что еще говорить.
Тень зашевелилась, и в свет фонаря шагнул мальчик. Встал, опустив руки вдоль щуплого тела.
– Извините. Я знаю, уже довольно поздно, но у меня не было выбора. – Он виновато улыбнулся.
– Ничего, ничего, – сказала она неискренне, запахивая плотнее халат.
Тянуло сырой прохладой. Мальчик был в шортах, в тоненьком пуловере, с сумкой через плечо, белым кулачком сжимал веревки мешка, лежащего на земле у его ног.
– Вы, должно быть, замерзли?
– Немного. Но если расслабить мышцы – не так страшно.
Она никак не могла понять, сколько ему лет.
– Где ваши родители?
– Значит, вы меня не помните. А я надеялся, что вы меня узнаете. И мне не нужно будет все вам объяснять. У меня довольно заметная внешность.
Она попыталась вспомнить, но у нее ничего не вышло.
– Где ваша мама?
– Моя мама уехала и вовремя не вернулась.
– Что значит – не вернулась?
– Она должна была меня встречать. Но не встретила. Ключей от дома у меня нет, да и все равно я не смог бы жить один – у меня нет денег, и я совершенно не умею готовить.
Он замолчал, сделал еще шаг вперед, чтобы она смогла его рассмотреть, и опять улыбнулся. У него действительно была запоминающаяся внешность. Рыжие кудрявые волосы, бледное лицо и очень светлые глаза.
Тут она поняла, что действительно видела его раньше.
– Я живу с мамой в соседнем доме уже год. Я бы ни за что вас не потревожил, но я видел, как вы вышли из дома.
– А вы пытались позвонить маме? – Она не знала, как разговаривают с детьми его возраста, и потому говорила медленно.
– Нет. У меня разрядился телефон, а зарядку я оставил дома. Я никому не могу позвонить. – Он передернулся, словно по нему пробежал несильный электрический разряд, и, опять извиняясь, улыбнулся.
Мисс Кабаз жестом пригласила его войти.
Рыжеволосой снились гномы. Они гребнями расчесывали ее длинные волосы и пели песенку про поляны, на которых ночуют сумерки. Она наклонила голову, чтобы лучше расслышать их серебряные голоса. Один из гномов дернул ее за волосы, большая прядь осталась в его маленьких ручках, и она проснулась.
За окном вода колотила по серым лужам. Поезд стоял в Лилле.
– Мы что, приехали?
– Нет, мы вот уже час здесь стоим.
Она приподнялась, мужчине рядом пришлось долго и неуклюже выкарабкиваться, выпуская ее, а его женщины опять противно хихикали в кулачки.
В кафетерии было почти пусто, кроме буфетчицы – всего двое. Она и уже пьяный мужчина с синими щеками. Он подмигивал всему, на что падал его взгляд, хватался за столы и стены и всячески старался казаться трезвым. Глядя на него, можно было подумать, что поезд все еще едет.
Она достала деньги и, покосившись на пьяного, заказала себе вина. Буфетчица хотела что-то сказать и даже открыла рот, но к ней подошел начальник, строгий мужчина в серой униформе, и заговорщицки зашептал на ухо. Переварив услышанное, буфетчица объявила рыжеволосой, что в туннеле все серьезнее, чем они раньше думали.
– Не торопитесь. Стоять будем долго, – протянула ей маленькую бутылку и стакан.
– Но мне нужно в Лондон! У меня там маленький сын. Совсем один.
– Что можно поделать, если в туннеле пожар. Будем стоять. Пока не потушат.
– Тогда я успею его догнать. – Женщина кивнула в сторону синещекого.
Буфетчица улыбнулась нервно, на своем веку она насмотрелась на пьющих.
Объявили, что двери открываться не будут – пусть курильщики на это не рассчитывают. Сколько бы ни пришлось стоять в Лилле – никто не сможет выйти на территорию Франции, так как сели на поезд все в Бельгии, а выйти должны в Великобритании.
И тут народ побежал за едой – образовалась чудовищная очередь, все быстро закончилось, но люди не разошлись, а остались терпеливо ждать неизвестно чего. И между ними терся синещекий и спрашивал, откуда они все взялись.
Женщина допила вино и пошла на свое место. По дороге объявили, что поезд, скорее всего, вернется обратно в Брюссель.
– Оставьте ваши вещи здесь. – Мисс Кабаз показала мальчику на стул у стены. – Пойдемте позвоним вашей маме, и сразу все выяснится.
Он пристроил сумку и мешок на гладкой столешнице, потом втащил в прихожую объемный чехол.
– Что это? – Ее брови исчезли под короткой челкой.
– Виолончель.
Поднялись в гостиную на один пролет.
– Но я не помню мамин номер наизусть. Он в телефоне, который разрядился.
Она все равно взяла в руки телефонную трубку, и в тишине запели звуки набора.
– Куда вы звоните?
– Сначала нужно позвонить в полицию. Заявить, что вы потерялись.
– Прошу вас, не звоните туда. Пожалуйста. Мне только шесть лет. Официально родители не имеют права оставлять детей одних, пока им не исполнится четырнадцать, и я боюсь, что полиция может доставить ей много хлопот. Я не хотел бы стать источником ее проблем. Она должна была приехать сегодня, но, видимо, опоздала на поезд.
Это был странный мальчик – он говорил так, будто читал вслух скучную книгу для взрослых. Это никак не вязалось с ее представлением о мальчиках шести лет.
– Ну а если с вашей мамой что-то случилось?
– Нет. С ней ничего не случилось.
– Откуда вы знаете?
– Я ее хорошо чувствую. У нас сильная связь.
– Ну хорошо. Я не буду звонить в полицию. До завтра. Но как она узнает, что вы у меня?
– Я оставлю ей записку. А сейчас можно я пойду вымою руки – я дотрагивался сегодня до всяких поверхностей. Хотя и пользовался антисептическим гелем для рук “Санителль”. Я вам его рекомендую. Часто подобные вещи делают руки сначала липкими, а потом очень сухими, – этот, пожалуй, лучшее средство. С экстрактом алоэ и витамином Е.
Она отвела его в ванную комнату, порылась в шкафу, достала чистое полотенце и села в гостиной у окна, кутаясь в халат. За окном, вокруг фонаря, зачиркали блестки дождя.
В окне мельтешили столбы, деревья, поля и только небо стояло неподвижно. В нем пуговицей торчала луна. Яркая, плоская, холодная. Поезд тащился обратно в Брюссель. А ей нужно в Лондон.
Красное вино увеличивает количество красных телец в крови. Она представила их – несчастные, стоят толпой, держат плащики на груди. При чем здесь плащики? А почему бы нет? Так вот, они мне нужны, эти красные тельца. У меня их недостаток. И оттого все время низкое давление. Поэтому лучше согреваться красным вином.
Девушка, сидящая через ряд, читала книгу, и румянец заливал ее скулы, названия не видно, только часть имени автора – Vladi… Дальше не разглядеть. Кого с таким увлечением и волнением читают? Красное вино – размытое сознание. Вагон качнуло, девушка подняла книгу. Lolita. Что же еще.
Как глупо все вышло в гостинице. Как глупо. О каких мужчинах я могу думать, если у меня есть сын. Мой любимый мальчик. Мой маленький принц.
Странная все-таки картинка за окном: размазанная трава и застывшее небо, сюр, Магритт. Недавно на “Сотбисе” продавали его гуашь – сидящие гробы, два, рядом. Это постоянное влечение человека слиться в пару, и успокоиться, сидеть, а лучше лежать. Найти пару, и лежать, долго, годами, – скучно. Вот я нашла, и уже лежала, и уже сидела, и чего, чего, спрашивается? Еще вина? Хватит.
Как ровно расчерчены поля. Разноцветные прямоугольники, просто как по линейке, с самолета совсем загляденье. А что это мы так низко, а, это не самолет, точно, больше вина не буду, а то забуду, куда еду. Когда-то давно была у стоматолога, выпросила таблетки и газ, а когда вышла на улицу, долго понять не могла, кто я, – может, дом, и стоять нужно прямо? А может, автобус, тогда нужно куда-то двигаться, или, может, совсем никто?
Впереди вскочила женщина с красным лицом и, проводя рукой вокруг себя, закричала, что они всей семьей из Израиля, а в Лондоне их ждет пересадка на самолет в Аргентину, на который они точно не успевают, и кто им вернет огромные деньги за билет, она не знает. Этого, к сожалению, не знал в вагоне никто. А поэтому все молчали и смотрели на ее красное лицо. Женщина постояла еще, а потом села.
Пассажиры отвернулись к окнам, в кулаки захихикали эти, с резцами, люди оборачивались на них с укоризной, те стягивали губы, сдерживались, но ничего не могли поделать, резцы так и лезли наружу. Рыжеволосой хотелось гневно им прокричать, что нет ничего смешного в чужом несчастье и что у нее ребенок шести лет, совсем один, и неизвестно, где он ее ждет, и что телефон у него не отвечает, но мысль о том, что они опять будут смеяться, остановила. Она демонстративно стала смотреть через проход, будто знать не желала своих попутчиков.
Там молодой человек со сложной стрижкой читал книгу Into a dark realm Раймонда Фейста. А слева от него старушка закладывает страницу в журнале запиской: “Дорогая моя Дженни… ”
Все по парам. А она опять одна. И опять в Брюссель. Из Брюсселя в Брюссель. Смешно. Желтое в окне. Какие-то глупые цветочки размазывались в пюре. Мне плохо – нет, мне хорошо – нет. Мне очень плохо – может быть. Отлично! Она уже научилась скрывать кое-что от себя. Манипулировать собой. Скоро научусь обманывать себя и стану счастливой. Где мой любимый сын?
– Почему вы не замужем?
Мисс Кабаз вздрогнула и обернулась. Мальчик пытался сложить большое полотенце.
– Ну. Как-то не случилось.
– У вас, видимо, слишком высокие ожидания от мужчины.
– Почему? Почему вы так думаете?
– Вы не хотите идти на компромисс. И боитесь, что если даже решитесь, то будете пытаться переделать партнера, а из этого ничего хорошего получиться не может. Да наверняка у вас уже был подобный неудачный опыт. А менять ваши ожидания вы тоже не собираетесь. – Он аккуратно, не торопясь, соединял концы полотенца с одной стороны с концами с другой.
– Откуда вы все это знаете?
– Я вижу. Этим страдают многие мамины подруги.
– Да?
– И знаете, в чем ваша ошибка?
– В чем же?
– Вы очень ограничиваете себя в желаниях. Просите малого. Вам дают это малое. А вас оно не устраивает.
Она молча смотрела на него. Он наконец закончил, положил полотенце на стул и поправил загнувшийся ворот рубашки.
– Это ваш отец? – Он показал на фотографию, которая стояла на каминной полке.
– Да.
Мальчик подошел к камину и взял черно-белую фотографию в строгой рамке.
– Он похож на военного.
– Он и был военным.
– Вы скучаете по порядку?
– Что?
– Судя по тому, как вы живете. – Он вернул фотографию на место. – Скорее всего, у вас ОКР либо эпизодического, что вряд ли, либо хронического характера.
– Что?
– Обсессивно-компульсивное расстройство в сочетании с ленью. Вам необходим безупречный порядок, только в нем вы чувствуете себя абсолютно комфортно.
– А с чего это вы решили, что я ленюсь?
– Когда я попросил у вас полотенце, вы вздохнули, вам стало неприятно. Хотя вам очень хочется понравиться людям, а достать полотенце – совсем уж несложная задача. А когда вы положили полотенце на полку около раковины, вам было важно, чтобы оно лежало параллельно краю стола. Вы несколько раз его подвигали, но все же порядок в доме у вас идеальный только на первый взгляд.
– Что вы имеете в виду?
– Когда вы открывали все тот же шкаф для белья, я видел: там было небезупречно. И это значит, что вас больше интересует видимый порядок. А копать в глубину вам вообще-то лень.
Ей стало неприятно.
– Для шестилетнего вы слишком много знаете.
– Да, мне это уже говорили. Хотя я, конечно же, так не считаю, но верю вам. Со сверстниками мне разговаривать совершенно не о чем. – Он вздохнул и опять улыбнулся: – Не обижайтесь. У вас в целом очень уютно. Сколько вам лет?
– Сорок шесть. А что?
– Выглядите вы моложе и относитесь к тому типу, что долго сохраняет привлекательность.
– Спасибо.
– Это не комплимент.
– Хорошо. Может быть, вы хотите есть?
– Я бы выпил перед сном горячего чая с лимоном. Так пьют в России. Моя мать родилась там. Это поможет мне успокоиться и уснуть. Я же останусь у вас до утра?
– Ну да. Пойду поставлю чайник.
– Спасибо.
Рыжеволосая опять стояла на вокзале в Брюсселе. Сейчас ей было уже неважно, о чем ныл рояль, тем более что его завалили чемоданами, сумками и рюкзаками. Люди бегали вокруг этой кучи и хотели хоть что-то понять. Она тоже ходила взад и вперед, пытаясь наткнуться на здравую мысль. В голове стучало только одно: “Мне нужно в Лондон. Мне нужно в Лондон. Мне нужно в Лондон”. Пока ее поезд стоял в Лилле и ехал обратно, пассажиры так и не выехавших по расписанию поездов заполнили собой все.
Наконец из глубины вокзальных недр вышел высокий кудрявый человек и призвал всех к тишине. Толпа долго не могла угомониться, люди одергивали друг друга, но все же гудели. Мужчина начал напористо и звонко, с детским оптимизмом, опять о пожаре, о том, как Eurostar старается справиться со сложной технической задачей, призывал всех не паниковать и остаться на ночь в Брюсселе, обещая компенсировать расходы на гостиницу, а завтра уехать по сегодняшнему билету, как только будет восстановлено движение поездов.
Толпа опять загудела. Мужчина поднял вверх руки, прося тишины.
– Первый поезд завтра отправляется в шесть пятьдесят пять утра!
Часть людей поспешили к выходу, видимо боясь ажиотажа в ближайшей гостинице. Оставшиеся еще какое-то время перекидывались одними и теми же вопросами. Кудрявый поговорил с кем-то по телефону и опять поднял руку – на этот раз воцарилась абсолютная тишина, замолчали даже грудные дети.
– В целях вашего же удобства призываю всех приходить завтра ко второй половине дня – первый поезд не вместит всех желающих.
Толпа заволновалась с новой силой и стала делиться страшными рассказами, но так как часть все же разошлись, общаться стало проще. Кто-то поставленным голосом объявил, что в прошлый пожар поезда не ходили аж две недели. Опять все забегали, и рыжеволосая тоже. “Мне нужно в Лондон. Мне нужно в Лондон. Мне нужно в Лондон!”
Видимо, последнее она прокричала вслух – кудрявый менеджер с пониманием склонился к ее лицу.
– То есть вы не хотите в отель?
– Не хочу!
– Почему? Отдохнете. И поедете завтра. – Он прижался к самому ее уху. – Можете взять четырехзвездочный, – помолчал. – И даже пяти-, но в разумных пределах – не президентский, конечно.
Какой-то парень в грязной майке, стоявший рядом, занервничал:
– Какое несчастье, что у меня нет и не было билета на этот чертов поезд!
Рыжеволосая же подумала, какого черта ты стоишь в этой толпе, если у тебя нет никакого билета, но, посмотрев на синяк на его скуле, вслух обсуждать это не решилась.
– Понимаете, я там все равно не засну! У меня маленький сын в Лондоне один. А потом, завтра здесь будут все сегодняшние и плюс новые люди, и проблема просто отодвинется до утра. Правда же?
– Правда. – Он кивнул.
– Вы же даже не знаете, когда точно возобновится движение по туннелю! Так?
– Так. – Он снизил голос до шепота.
Тип с фингалом тоже потянулся к ним.
– Не факт, что завтра поезда пустят по расписанию. Мы ничего не можем гарантировать.
– Если бы я была, например, вашим близким человеком, что бы вы мне посоветовали?
Менеджер поднял брови, рассмотрел ее внимательнее и сказал шепотом:
– Вы должны поехать в аэропорт. И вылетать ближайшим рейсом. Скоро здесь будет содом.
Рыжеволосая прикрыла рукой рот.
– Я лично не уверен, что поезда пойдут в течение ближайших нескольких дней. – Это он сказал совсем тихо, удивился собственным словам и уставился на носки своих ботинок – рыжей даже пришлось сделать шаг назад, чтобы не загораживать их, – развернулся, помогая себе руками, как веслами, и ушел в охраняемые недра. Она решила заказать билет на самолет в интернете и мчаться в аэропорт, люди из этой толпы уже отправились туда и собирают очереди в кассы. Огромные очереди.
Дозвониться ни до одной авиакомпании не получилось. Попытки подключиться к интернету тоже закончились ничем. Она меняла настройки сети, но все было тщетно – связи не было. Все вокруг померкло, и только рояль играл сам по себе.
Невысокий итальянец, официант из пиццерии, рассказал ей про интернет-кафе “Ultima”.
За стеклами город провалился в темноту, вокзал изменился, – закрылись один за другим магазины, опустились железные ставни в граффити, исчезли стулья и столы – все опустело, и на смену людям дневным стали появляться жители ночные. Пьяные, грязные и злые, они расползались по коридорам и залам, выпрашивали деньги, ковырялись в мусорных пакетах, плевались, изрыгали ругательства, стонали, дрались друг с другом, наводили свои порядки. Мусор перекочевал из урн на пол, кто-то с грохотом опрокинул одну за одной стойки с канатом, охраняющие границы рояля, потянуло холодом – и стало очевидно, что отсюда нужно уходить, и чем быстрее, тем лучше.
Ultima оказался огрызком старого офиса, душной комнатухой с рядом облезлых стульев, телефонными кабинками без дверей и смежным, еще более тесным закутком. Там на грязном столе теснились четыре допотопных компьютера, за ними сидели люди. Освободилось одно место, и рыжая быстро заняла его. Как хорошо, что не послушалась этого двуличного менеджера и не побежала в аэропорт, – на ближайшие три дня все билеты до Лондона были распроданы. Она оставила сыну очередное сообщение на автоответчик – пыталась шутить. Что делать, было непонятно. В кафе стало противнее – оно наполнилось странными личностями. Большинство из них не звонили и не включали компьютеров, а просто сидели. Двое спали. В один из телефонов кричала хрипатая американка с мутным взглядом. В основном здесь были мужчины – и совсем не те, на которых можно положиться.
За столом, задвинутым за дверь, пухлая блондинка шарилась по сайтам в поисках парома от Кале до Дувра. Ей тоже нужно было в Англию. Рыжая обратилась к ней:
– Поедете со мной до Кале на такси?
– Поеду! – ответила та, не думая ни секунды.
– И я, – сказал совсем молодой парень, который только вошел в эту богадельню с вокзала. – Вы с Eurostar?
Рыжая с блондинкой синхронно кивнули.
Парень выглядел вполне мило. Очнулась хрипатая американка:
– Не оставляйте меня здесь. Я Джоан.
У ее ног лежала огромная куча сумок. Девушка была само недоразумение, из ее рук все валилось и падало, она не справлялась с таким количеством вещей, но это ее не волновало. Рыжая помогла ей, подхватив одну из сумок. Американка словно спала наяву. Смотрела на всех близко посаженными молочно-голубыми глазами и, как могла, подчинялась воле команды.
Наконец распланировали маршрут, заплатили за пользование компьютерами шустрому загорелому арабу и двинулись к выходу. Но тут молодой человек обнаружил пропажу своего рюкзака. Чемодан, накрытый пиджаком, стоял, а рюкзака не было. Он исчез, только что. Из комнатки с компьютерами никто не выходил. Три женщины стояли и смотрели в глаза этих странных людей, а те смотрели на них. Будто с вызовом. Или просто казалось. Не упуская из виду собственных сумок, пришлось прочесать всю комнату. Рюкзака не было.
– А в рюкзаке что?
– Все.
– И документы?
– Да.
– Иди в полицию. Меня зовут Лина. Мы последим за чемоданом. Твой рюкзак где-то здесь, придут полицейские и во всем разберутся.
Вошел шустрый хозяин-араб.
– У нас пропал рюкзак!
– Какой рюкзак? – Он высоко поднял брови.
– Наш рюкзак! Обычный рюкзак!
– Какого цвета?
– Обычного цвета!
Он не удивился.
– Сейчас?
– Да, сейчас!
– Наши, – видимо, ей хотелось, чтобы их казалось больше, – уже пошли в полицию!
Он пожал плечами и ушел к себе, они уже победили. Оставалось только дождаться полиции. Посмотреть, как их всех обыщут! Увидеть вора, забрать рюкзак и наконец уехать с этого ненавистного вокзала.
Скоро вернулся молодой человек – один.
– В полиции сказали, что смогут этим заняться завтра с утра. В семь они открывают участок. А до этого делать ничего не собираются.
– И что теперь?
– Я вынужден остаться, попробую договориться, чтобы меня устроили в участке. Я ведь даже гостиницу не могу снять.
– Может, тебе одолжить денег? – проснулась Джоан. Рыжая тут же прониклась к ней уважением. – Сейчас. – Она ушла за угол, к банкомату, но вскоре вернулась. – Не выдают. Я сегодня столько раз снимала деньги – лимит исчерпан.
Карточку рыжей машина тоже выплюнула и извинилась за неудобства.
Сработала только у Лины, ей удалось снять триста евро.
– Мы могли бы одолжить тебе денег, – разумно сказала она молодому человеку, – но я боюсь, что это деньги, которые нам придется отдать за такси до Кале. Так как больше наличных нам не снять.
Они все посмотрели на парня.
– Не волнуйтесь, я попытаюсь договориться в полиции.
Он встал и вышел со своим чемоданом. Женщины осмотрели с презрением все так же бездвижно сидящих людей и двинулись к стоянке такси.
Пропищала микроволновка, мальчик оторвался от рассматривания книг и повернулся в сторону кухни.
– Я отнесу записку для мамы. Только, пожалуйста, сделайте что-нибудь и себе. Мне крайне неловко будет есть одному.
Через несколько минут они уже пили в гостиной чай и хрустели тостами с расплавленным сыром.
– Вы верите в Бога?
– Что? – Мисс Кабаз чуть не поперхнулась.
– У вас там лежат церковные свечи. – Мальчик кивнул в сторону книжного шкафа.
– Это осталось от матери.
– Так вы верите в бога?
– В зависимости от настроения.
– То есть иногда не верите?
– Иногда не верю.
– Удивительно. Вы смогли себе доказать его отсутствие?
– Что?
– Я нахожу это невозможным. Доказать себе, что его нет! Это очень сложно! Я не настолько смел, чтобы не верить в бога. Как вам это удалось?
– У тебя верующая семья?
– Нет.
Она не знала, что ей сейчас нужно сказать, взяла ложку и перемешала чай, в который так и не положила сахар.
– Вот, смотрите опять: вы положили ложку на блюдце; это, кстати, оттого, что некоторая брезгливость не дает вам бросить ее просто на стол, – ну так вот у вас эта ложечка должна лежать безупречно относительно расположения посуды и края столешницы.
Она оставила ложку в покое и подняла на него глаза.
– А можно тебя спросить?
– Конечно.
– Что, я так и останусь одна?
– Будет ровно так, как вы захотите. Ровно так. Сначала поймите, что именно вы хотите. – Он вдруг широко зевнул. – И считайте, что это уже исполнилось.
– Так я знаю.
– Нет. Все так говорят. – Он опять зевнул. – А на самом деле не знают.
– Я постелю тебе здесь, на диване.
Через несколько минут он уже спал. Лицо его даже во сне оставалось серьезным.
Начался дождь, ехали медленно, таксист был сосредоточен, его напряжение передалось и пассажирам, но все-таки они двигались в сторону Соединенного Королевства.
На бельгийско-французской границе таможенники попросили всех выйти из машины. Проверяли документы и вещи – рыжая предъявила голубую сумку Джоан как свою, – офицер заглянул в ее паспорт, затем в глаза и жестом показал, что они свободны. Рыжая опять уселась на кресло рядом с водителем, а Джоан и Лина сзади – Джоан спала с открытым ртом, а Лина смотрела в окно.
У самого порта машина встала в пробке среди огромных грузовиков. Надежд на паром не оставалось – но, рассчитавшись, они побежали к кассам, и им неожиданно повезло. Паром задержали: ждали ценный груз, что не ушел из-за пожара в туннеле, и до отправления еще оставалось десять минут.
– Вы должны поторопиться! – Кассирша с участием посмотрела на сумки.
Через пограничников опять бежали. Рыжая со своей и с голубой сумкой Джоан, а Лина взяла ее зеленую и свой чемодан. Они бросали вещи на рентген, тащили через пограничников с собаками, паспортный контроль, вскочили в автобус и все же успели.
На всем пароме они оказались единственными женщинами. Подавляющее большинство находившихся там мужчин были водителями тех самых грузовиков, что задержали их при въезде в порт.
– Очень ненадежная публика, – прошептала Лина.
– Почему?
– Дикие, неуправляемые. А то, что туристы пропадают, это, ты думаешь, чьих рук дело?
– Думаешь?
– Знаю.
– Будем дежурить поодиночке. Сядем в углу.
Со всем своим скарбом они двинулись мимо игровых автоматов, зон для отдыха, магазинов в самый дальний угол за кафетерием.
В Дувре пришлось ждать. Все водители сели в свои машины и уехали, а их задержали надолго. Человек в каске и ярко-желтом жилете поверх куртки объяснил, что нет специального транспорта, который принимает с парома пеших пассажиров, так как обычно ночью таких нет, и сейчас на пароме пытаются что-то придумать, но последняя машина уже давно отбыла в гараж, и он ничего не знает. Так и заявил: я не знаю!
Сел на краешек скамьи, вытянул тонкую шею, сложил на коленях руки, уставился перед собой и замер. Не шевелился, не дышал, просто замер. Женщины расселись вокруг. Замолк мотор, стало тихо. Он сидел не двигаясь, развернувшись ко всем в профиль, и все тупо уставились на него. Через пятнадцать минут не выдержала Лина, встала и подошла к застывшему человеку в униформе.
– Сколько мы должны еще ждать? Дело в том, что мы очень устали, наше путешествие в связи с пожаром в туннеле затянулось не по нашей воле. Всем пришлось пережить много чего. – Работник в каске никак не реагировал. Лина постояла перед ним еще, потом отошла, свалилась в кресло и закрыла глаза.
Рыжая поняла, что страшно устала и что, если они здесь просидят всю ночь, она не будет против. Главное, чтобы ее не трогали.
В помещение вошли две женщины с ведрами и тряпками. Не обращая внимания ни на кого, буднично принялись мыть все вокруг, тихо переговариваясь между собой на непонятном языке. Казалось, еще немного – и они примутся за людей. Но тут раздался жуткий рев и завибрировал пол. Уборщицы уткнулись в угольные окна. Лишь бы опять не увезли во Францию, подумала рыжая, но даже не встала.
Опять стихло. Послышались щелчки, и у застывшего человека в униформе ожила висящая на груди рация. Там прохрипели – он быстро что-то пробормотал в ответ, встал и молча указал на дверь. Все поднялись, взвалили на себя вещи и замерли у закрытых створок дверей. Наконец двери открыли, и все вразнобой потащились по лестницам вниз, к автобусу, который доставил их на сонную маленькую станцию.
На автостоянке было пустынно. Лина позвонила в диспетчерскую службу такси.
Американка сбросила на асфальт сумки и уселась на самую большую:
– Кто хочет покурить?
Рыжая достала из кармана пачку сигарет.
– Нет, настоящего покурить! – Американка хрипло засмеялась, открыла сумку и достала полиэтиленовый пакет с травой.
Все замолчали.
– Или, может, чего покрепче? – Она подтянула за ремень ярко-голубую сумку, с которой рыжая не так давно шла через пограничников с собаками, и достала из нее пакет с белым порошком.
Лина молча развернулась и пошла навстречу фарам. Машина тут же остановилась, оттуда выскочил молодой человек и подхватил ее чемодан.
Рыжая стояла и смотрела на пакет с кокаином в руках у этой дуры. Пошел дождь, но было уже все равно. Нужно было добраться до Лондона и все-таки не оказаться в полицейском участке.
Джоан свернула наконец джоинт и затянулась, рыжая закурила обычную сигарету. Путешествие подходило к концу. Пришло такси.
– Тебе куда?
– Я не помню, какой у меня отель. – Джоан расстегнула длинный замок на сумке, на которой только что сидела, сунула в месиво из носков, трусов, скомканных маек, тюбиков и коробок руку, пошарила там, достала мятую бумагу и вяло расправила ее на коленке. – Так, сейчас. – Бумага мокла под дождем, Джоан водила по ней пальцем, потом оттуда же извлекла очки, напялила их на нос и прочитала: – “Риц Карлтон”. Знаете такую?
Таксист засмеялся и помог запихнуть вещи в машину. Наконец поехали, Джоан ровно засопела, опрокинув голову на спинку кресла, а рыжая смотрела на нее, на таксиста, на паутину деревьев, на проволоку дождя и на закатывающуюся под колеса дорогу.
В машине пахло лыжной мазью и ментолом.
Утром ровно в двадцать две минуты восьмого она подошла к дверям своего дома. Там над замочной скважиной торчал сложенный лист бумаги.
В тишине утра заорал звонок. Сердце мисс Кабаз прыгнуло куда-то в горло и там заколотилось. Какой же невыносимо громкий звук! Нужно, ей-богу, что-то с ним сделать. Это просто издевательство. Каждый раз шок и панический ужас. Нужно просто вырвать его из стены со всеми этими проводами и выкинуть к чертовой бабушке.
Мисс Кабаз спустила ноги на пол и нашарила тапки. Кружилась голова, стучало сердце. Звонок заорал опять.
– Черт возьми, да иду, господи, иду!
Открыла дверь и сморщилась от табачного запаха.
В дверях стояла худая рыжеволосая женщина в фиолетовом пальто. В одной руке она держала сигарету, соединенную с небом ниткой дыма, а другой придерживала высокий воротник.
Рыжая кивнула, затянулась, и пепел рассыпался по складкам рукава.
– Здравствуйте. Я прочитала записку, – она замолчала, перевела взгляд в глубь дома, глаза ее засияли.
Мисс Кабаз оглянулась.
По лестнице, неуклюже перескакивая через ступеньки, спускался ее вчерашний гость. Держась за поручень, он так нелепо переваливался с боку на бок, высоко выбрасывая вперед ноги, что от вчерашней взрослости не осталось и следа. Он спешил, но боялся упасть, смотрел под ноги, низко наклонив голову и высунув кончик языка. Спрыгнул с последней ступени, обогнул мисс Кабаз, прижался к рыжеволосой всем телом и заревел громко, откидываясь назад, чтобы набрать в легкие воздуха. Она присела и гладила его по спине, отчего сигаретная нить наконец порвалась.
– Мой маленький. Мой любимый. Я больше никогда тебя не оставлю. Все будет хорошо, – повторяла рыжая и целовала его в макушку.
А он плакал долго, безутешно, до икоты.
Мама. Святой Себастьян
На первом этаже дома, построенного пленными немцами, располагался самый крупный гастроном этого города. Когда-то под его крышей висел огромный плакат: в окружении голубей и колосьев горело алым – “Миру – мир!”, оттого гастроном так и назвали. Причем причудливо это название склоняли: в “Мирумире выбросили хороший сыр”, или: “тупик, что за Мирумиром”. Плакат давно уже сняли – а название осталось.
Они с мамой жили на четвертом этаже “Миру-мира”. Ей прошлым летом перевалило за девяносто, а ему совсем недавно исполнилось семьдесят два.
Когда полтора года назад мать перестала ходить, он собрал из разного барахла каталку, возил ее мыть, кормил с ложки, менял белье, одежду стирал и сушил на кухне, протянув от стены к стене веревку. Сложнее всего было с белым, из-за этого в доме всегда пахло хлоркой. Пробовал кипятить: вспомнил ее рассказы, как она кипятила его пеленки и тщательно проглаживала угольным утюгом “от заразы”, но это оказалось делом слишком хлопотным – окно в кухне сильно запотело, по нему потекли струйки, словно от дождя. Пришлось мыть и окно. В общем, если замачивать в хлорке и покупать дорогой порошок, машинка отстирывала вполне прилично. А так называемую “заразу” уничтожал утюгом обычным. И каждый раз вспоминал, как в детстве, мать разрешала ему самому гладить носовые платки, капая на каждый ее любимые духи “Лель”. Пустой флакон до сих пор лежал в ее комнате, в большой шкатулке с нитками, где на эмалевой крышке на фоне итальянского города, под тонким деревом, закатив глаза к небу, женоподобный юноша. Его грудь, живот и бедра пронзали стрелы, но взор, обращенный к господу, был уже спокоен.
Мальчиком он часами рассматривал эту единственную в доме драгоценность, крутил шкатулку в руках, и тогда картинка оживала – волосы мученика раздувал ветер, ручеек пенился меж камней, а листва на деревце мелко шевелилась.
Мама, сколько он ее помнил, пила снотворное и всякие другие таблетки и на старости лет не совсем понимала, что происходит вокруг, наоборот, часто видела то, чего на самом деле не было. То очередь из невеселых людей стояла через всю ее комнату, то в углу на стуле часами сидел мужчина без ноги, то маленький мальчик входил в окно с таким жалостливым лицом, что заставлял ее плакать. Сначала он пугался этих ее призраков, пытался убедить, что ничего такого на самом деле нет, поводил руками в углах, ходил туда-сюда через всех этих стоящих и сидящих людей, на что она обижалась, часами на него дулась, сидела, уставившись в окно, и он скоро сдался.
Последние лет пять он никуда не ездил, так как не мог оставить ее одну, – посвятил маме целиком свою одинокую пенсионную жизнь. По вечерам читал ей вслух книги и журналы или просто комментировал происходящее по телевизору, она сама почти ничего не видела – только расплывчатые пятна и некоторое движение. Следил, чтобы она строго соблюдала прописанную ей диету, но она часто ныла и просила что-нибудь вкусненькое, жирное, как она выражалась – “питательное”.
Он так и не женился во второй раз, да и первый брак распался потому, что маме жена его была неприятна, и постепенно дрязги двух женщин заставили его сделать выбор – и он, конечно же, предпочел маму этой новой женщине, которая еще не успела пожертвовать для него ничем. Тогда как мать – это же совсем другое дело: вся ее жизнь была служением ему, а если и еще кому, то только для его же пользы. Детей у них с женой не было – развод прошел незаметно, она просто исчезла из его жизни, и скоро пришло чувство, что ее никогда и не было. Потом появлялись еще какие-то дамы, но от его вечных разговоров о маме они быстро начинали тосковать, бежали прочь от этого скучного маминого сынка.
Годам к шестидесяти он смирился с тем, что другой семьи у него не будет, а будет только эта, где есть мама, он – и больше никого. К этому времени мать уже не выходила из дома, и тогда он начал сам готовить, кормить ее, и примерно тогда же, после сильного приступа, он в первый раз ее вымыл. Сначала вид ее обнаженного тела испугал его – чувство брезгливости и стыда боролось с чувством вины за эту брезгливость. Вина, как всегда, победила, а то выражение радости и блаженная улыбка, которые появлялись каждый раз, когда он укладывал ее в перестеленную свежим бельем постель, были ему платой за все неудобства, и постепенно он привык, как привыкает ко всему медицинский персонал в больнице.
Иногда его посещали мысли о том, что же произойдет, когда мамы не станет, но он всегда гнал их прочь и никогда, никогда не смел жалеть себя, даже когда сломалась тележка и ему несколько дней пришлось носить маму на руках. Она была женщина грузная, и перетаскивать ее с места на место было делом непростым, у него даже заболела спина.
Утром и вечером он мерил ей давление, обстоятельно записывал в тетрадочку все показатели, чтобы видеть тенденции, и в специальную строку выписывал лекарства, которые давал ей, чтобы стабилизировать ситуацию. Скоро он виртуозно владел техникой снижения и повышения кровяного давления – иногда орудовал с четвертинками таблеток, а иногда действовал только диетой. Капал ей в глаза капли, и, хотя это плацебо чистой воды, зрение вернуть было невозможно – он узнавал, даже операция была бесполезна. Объяснил ей, что капли помогут, и она терпеливо подставляла два раза в день глаза, пальцами оттягивая нижние веки, и в этот момент ему становилось до боли ее жаль.
Слуховые аппараты тоже не помогали – они, как говорила мать, усиливали всякий ненужный шум, а то, что она действительно хотела услышать, так и оставалось невнятным. Они перепробовали всякие, заказывали у разных врачей, из лучших компаний – и все равно ничего ей не подошло.
К праздникам под диктовку он писал поздравительные открытки дальним и близким родственникам, друзьям, которых осталось очень мало, знакомым и малознакомым людям. Мать руководствовалась одним правилом: чем больше отошлешь, тем больше возвратится в ответ. Полученные открытки тщательно перечитывались и расставлялись на комоде вокруг телевизора. Иногда ему приходилось писать по пятьдесят, шестьдесят за день – у него уставала рука, и несколько раз даже заканчивались в ручке чернила.
И вот однажды мутным ноябрьским утром она послала его на почту за конвертом. Обычно они отсылали просто открытки, но сегодня ей понадобился конверт, и ему пришлось идти аж за консерваторию и выстоять приличную очередь. Мама потребовала к одному поздравлению приложить дополнение на отдельном листе, и, сколько он ни убеждал ее в том, что места на открытке хватит, она упрямилась.
На почте было холодно, люди стояли, уткнувшись друг другу в затылок, перетаптывались, чтобы не замерзнуть, выдыхали теплые облачка, и там, среди них, он понял, что вся жизнь его как эта очередь – скучная и предопределенная.
По дороге домой он купил в “Мирумире” любимый мамин фруктовый кефир. Вернулся – и опять сел за поздравления.
– Открытку пока отложи. Бумагу возьми отдельно. Взял? Ну, пиши. Нина, опиши мне подробно, как умер Николай Иванович. Ну правда ведь, это нельзя писать на поздравительной открытке?
Он только кивнул, засунул все в конверт – и поздравительную открытку, и сложенный листок с вопросом. И надписал адрес Нины.
– Все? – спросил он маму.
– Все, – сказала она, посмотрела на сына, выдохнула и больше уже никогда не вдохнула.
Он долго ждал, боясь к ней притронуться, только пристально наблюдал дряблую шею, пытаясь заметить хоть какое-то движение. Пульс у нее и до того уже почти не читался – и теперь как ни мял он пальцами сморщенное запястье, так и не смог ничего нащупать. Достал из комода заветную шкатулку с юношей, пошарил там среди пуговиц и ниток, нашел позеленевшую пудреницу, внутри которой было крохотное зеркало, и долго держал его перед ее приоткрытым ртом. Зеркало не помутилось – осталось совершенно чистым. Он посидел еще, вглядываясь в ее глаза, то в шею, то в грудь. Потом открыл свой рот и подержал пудреницу перед ним – зеркало тут же затуманилось. Тогда он понял, что мамы больше нет.
Все закончилось. Вся эта ежедневная рутина, все это мучение с ухаживанием за умирающей плотью прекратились, он теперь свободен и одинок. Он заплакал, сначала тихо, стесняясь своей слабости, потом громче и громче, пока не дошел до рыданий в голос и детской икоты. После этого лежал на спине с полчаса тихо, а потом опять ныл, широко растянув рот. Часы из маминой комнаты простучали три раза. И он воспринял это как команду от нее, встал, пошел в ванную комнату, умылся, причесался, запил феназепам маминым кефиром и позвонил в морг.
С кладбища шли пешком. Рядом, накрыв крашеные волосы черным кружевным платком, шла та самая Нина, которая должна была описать матери смерть какого-то Николая Ивановича. Зачем она красит волосы, если все равно из-под них видны седые корни? Да еще в такой цвет – линялый и скучный. Как у дохлой канарейки. И голос у нее такой же – выцвел уже давно, и лицо похоже на мятую грушу
– Сначала полжизни работали – корячились. Потом болели – опять корячились, а потом раз – и того, померли. Вроде и не жили. Были, не были – не знает никто. Мою-то перед самой смертью скривило совсем – голова у коленей. Внуки боялись. Да не только внуки – она сама уже себя боялась.
Нина залезла рукой в затертую сумку, достала пачку сигарет, прикурила, выдохнула грязное облако дыма.
– Сколько они были знакомы? – Было неприличным ничего у нее не спросить.
– Еще в войну познакомились. Как уехали в эвакуацию – так там и повстречались. Ватники шили на фронт из обрезков, рукавицы. У моей на всю жизнь пальцы исколоты были, как решето. Война закончилась, а они так и остались в пошивочном цехе. Кому повезло очень – замуж вышли.
– У мамы тоже подушечки пальцев были все в дырку. Помню, она мне про свою свадьбу рассказывала. Как ей отец шкатулку подарил.
– Какую шкатулку?
– Трофейную. Святой Себастьян называется, вместо кольца на свадьбу.
– Да какая свадьба. Нерасписанные они были. Он проездом здесь оказался. К семье с фронта ехал. Перекантовался несколько дней – и все. Дальше покатил. А зимой ты родился. Мне мать рассказывала, как из роддома вас забирала, – мороз стоял такой злющий – говорит, то кутала тебя, чтобы не перемерз к лешему, то открывала, чтобы не задохнулся совсем. А твоя как не в себе была. Боялась, что одна не потянет. Время-то какое было. Да-а-а, – она выдохнула это “да” с новой порцией дыма и закашлялась. Потом посмотрела на него покрасневшим лицом. – Так и шили из всяких обрезков свою жизнь. Думали, у нас все иначе будет. А как иначе-то? – Вздыхает. – Если бы не церковь, то никакого бы спасения.
– Вы в церковь ходите?
– Хожу. А у кого еще просить-то? Не у кого.
– И что? Дают, когда просите?
– Если от сердца, да у нужного святого, то дают.
– А кто они – святые?
– Да если мы людей учимся любить, то они врагов своих любят. Вот как.
День потемнел, превратился в вечер. Они выпили по рюмке в кафе, где пахло краской и горелым маслом, и разошлись по домам.
Так началась его жизнь в одиночестве. Без мамы. В первое время он часто обращался к ней в тишине комнат, пока не вспоминал, что ее уже нет, или готовил на двоих, или вдруг в “Мирумире” покупал что-нибудь вкусное-любимое для нее, чего сам никогда не ел. Она ему часто снилась. Будто звала. После таких снов он обычно шел к ней на могилу. Там всегда находилось что делать: то сорняки по пояс, то крест завалился, то хулиганье калитку погнули. Печаль постоянно жила в нем, и он осторожно ждал, когда время освободит его и все опять обретет новый смысл.
Но покоя так и наступало, наоборот – навалилась тоска.
Стала часто болеть голова – как-то крепко изнутри. Участковый долго расспрашивал и наконец направил в больницу. Там-то у него это и обнаружилось. Доктор, который делал сканирование, вызвал его к себе.
– Только не волнуйтесь.
– Я не волнуюсь.
– Вот и хорошо. Дело в том, что у вас в голове иголка.
– Что?
Он сразу не понял, о чем ему говорят.
– Какая иголка?
– Обычная швейная иголка.
Доктор потер лысину, сунул черный рентгеновский снимок на светящийся экран и ткнул черенком ручки куда-то в середину головы.
– Вот!
– Откуда?
– Так от ребенка избавлялись, когда аборт сделать не получалось. Загонят осторожно в родничок иголку…
– Что?
– Ну, такое место у младенца на голове есть – мягонькое, родничок называется, – потом зарастает.
– Зарастает, – повторил он за доктором, но опять ничего не понял.
– Так вот туда иголочку загоняли. Всю. Целиком. А ребеночек либо сразу умирал, либо чуть позже – и никто никогда не узнавал отчего. Сканеров-то, как сейчас, и в помине не было. А вам, значит, повезло. Вы как святой Себастьян тут передо мной живой сидите.
Он кивнул, но сказать ничего не смог, у него перехватило горло.
– Но, думаю, голова у вас болит не от этого. Давление. Магнитные бури. А иголка вам не мешает, просто сидит себе там, и все.
Пока доктор близоруко писал ему рецепт на какие-то таблетки, он обдумывал эту новость. Проходил удивленным весь день, а к ночи испугался. Вспомнил про исколотые руки матери и испугался.
Мамина могила была покрыта снегом, он переливался на солнце цветными искрами. Над мягким холмом торчал почерневший крест. Желтая струя клубилась паром и вытапливала в снегу глубокую канавку. Канавка, подрагивая, выстраивалась в слово – МАМА.
Проснулся он в горячей луже и с бьющимся в горле сердцем, соскочил с кровати, собрал белье и побежал к ванной. Там, он снял с себя трусы и майку, бросил вместе с пододеяльником и простыней, насыпал порошка, включил воду, залез туда сам, в эту пенную кашу, матерясь и плача.
А через час был уже на кладбище. Там точно так же, как и в его сне, первый снег накрыл все пухом, и только старые астры под крестом торчали драными перьями. Он вынул засохшие цветы, сбил с креста снег, потянул с ограды проволоку старого вьюна, она оказалась длиннее, чем он думал, вспорола снег на всей могиле, но наконец закончилась, оставив после себя длинный шрам. Потоптался у калитки. Неумело перекрестился и пошел с кладбища прочь. Пришел домой, достал из комода черную шкатулку и просидел с ней до самого вечера.
Стокгольм
Тильда встретила меня на станции, и только там я поняла, что соскучилась. Она была высокой брюнеткой с коротко подстриженными волосами и сдержанной улыбкой.
– А где Рик?
Зачем я о нем спросила – не знаю. Мне было совсем неинтересно. Я просто боялась, что он сейчас появится и все испортит.
– Он хотел было поехать, но потом мы решили, что лучше нам с тобой поболтать наедине.
Для чего Тильда врала, было непонятно. Рик никогда и никого не захотел бы встретить. Он просто не замечал людей и уж точно никогда не думал, что кто-нибудь вообще нуждается в его помощи.
Впервые я увидела Рика у них дома. Был канун Рождества, и Тильда пригласила гостей. Я помню, как сидела в кресле напротив входа, оттуда хорошо просматривался коридор и лестница, из его кабинета. Помню, как увидела его ноги. Длинные сухие ноги, переступали со ступени на ступень, словно их хозяин никак не мог решить, хочет ли он видеть всех этих людей внизу или нет. У входа в гостиную остановился и уставился на меня. Потом скривил такую болезненную гримасу, будто ему в спину ткнули чем-то острым.
Однажды в церкви на Рождество ему стало плохо, и он пошатнулся в поисках стула, я схватила его за руку и попросила мужчину рядом помочь, а когда Рик пришел в себя, он выдернул с силой свою руку и процедил: “Как это все невыносимо”. С тех пор я его боялась и, как только ловила на себе его взгляд, старалась отвернуться.
До дома ехали, открыв крышу красного “фольксвагена” Тильды – скорость путала волосы, фразы улетали назад, было весело и щекотно от сильного ветра. Когда въезжали в ворота дома, Рик вышел на крыльцо, и мое хорошее настроение вмиг испарилось. Это был долговязый, неулыбчивый дядька, с безжизненной кожей в тонкой сетке морщин. Он зачесывал назад редкие волосы, кривил одну сторону рта, когда с чем-то не соглашался, и не снимал с лица брезгливую маску. Было страшно попадаться ему на глаза. Я старалась его избегать и в душе не одобряла выбор Тильды.
Вот и сейчас Рик стоял на крыльце с таким видом, будто меня вызвали к директору школы – и совсем не собираются хвалить. Мы тут же перестали смеяться. Тильда помахала мужу и пошла закрывать ворота, а я подошла к Рику и, стараясь улыбаться, поздоровалась. Потом потянулась поцеловать воздух рядом с его щекой, но он выставил для пожатия свою клешнеобразную руку, на которую я напоролась животом. Дальше он на меня уже не смотрел. Прошел к машине, с досадой выдернул из багажника чемодан и унес в гостевую комнату.
Тильда объявила общий сбор на веранде через полчаса – и я пошла принять душ и переодеться.
Мой чемодан уже лежал на ковре, куда Рик предварительно положил большую пластиковую салфетку, вроде тех что используют для пеленания детей. В комнате было тщательно убрано, на диване в крупную горчичную полоску лежал халат, упакованный, как в магазине, в тонкую бумагу, два полотенца и вместо тапочек – вязаные носки, свернутые в клубок. На ночном столике – бутылка воды, стакан и журнал с последней статьей Тильды.
Через час все сидели на веранде и ели, Тильда рассказывала о своем новом проекте, а Рик медленно жевал, уставившись в тарелку. Шевелились только его нижняя челюсть и чуть-чуть руки, все остальное было абсолютно неподвижным. Слушал он жену или нет, думал он о будущем или что-то вспоминал из прошлого, было абсолютно непонятно. Его лицо не выражало ничего, кроме полнейшей скуки.
Он сидел напротив, и было трудно не видеть эти холодные глаза и опустившиеся с назидательным укором уголки губ. Потом Тильда расспрашивала меня и слушала с таким вниманием и интересом, что было понятно: это ее действительно занимает. В отличие от Рика, в чьем лице так ничего и не поменялось.
Когда обед наконец закончился, Тильда повезла меня в парк Скансен. Рик недовольно запер за нами ворота, и мне стало гораздо легче. За то время, что я ее не видела, Тильда похудела, ямочки на ее щеках стали глубже, но все так же появлялись вместе с улыбкой.
В парке у входа были выстроены большие вольеры для желтоглазых лемуров. День был жарким, и зверьки сидели в тени, как люди. Раскинув лапы, они смешно подставляли животы солнцу. Одна пара была особенно потешной: крупный самец сидел, прислонившись спиной к большому стволу, и лениво похлопывал по бедру самку, которая расположилась у него на коленях. Мы расхохотались, а лемурская пара обернулась и, округлив глаза, уставилась на нас, как на дикарей.
В Скансен из разных уголков Швеции были привезены жилые избы, скобяные лавки, школы, аптеки, всевозможные мастерские – стекольная, механическая, столярная, печатная и пекарня. По дорожкам прогуливались одетые в национальные костюмы люди. На одной поляне мы наткнулись на сидящего на пеньке мальчишку в рубахе позапрошлого века – он чинил корзинку, а рядом сидели две крестьянки с козой. В лавке продавали сувениры – домашнюю утварь и игрушки.
Потом в музее современного искусства мы хохотали на выставке Уорхола над огромной серией его фотопортретов в женских париках, платьях и гриме. Он никогда мне не нравился.
Когда к вечеру, шумные и радостные, мы вернулись домой, Рик опять стоял на крыльце каменным изваянием.
В выходные поехали кататься на лодке, было досадно, но Рик был с нами – думаю, Тильда уговорила его, считая, что меня обидит его невнимание, но мне было бы куда проще, останься он дома. Видно было, как он страдал всю поездку. При всей его сдержанности я чувствовала его нетерпение и муку. Иногда он неодобрительно косился на нашу болтовню или кривил губу, когда к нему обращались с вопросом. Мне он казался старым и скучным занудой, которому невероятно повезло, что рядом с ним такая красивая, молодая и умная женщина. А Тильду было искренне жаль. Как можно было связать свою жизнь с таким сухарем? Как можно терпеть эту неподвижность и холодность? На третий день, когда мы вдвоем отправились за подарками, я осторожно спросила Тильду о том, как они с Риком выбрали друг друга тогда, девять лет назад. Мы никогда раньше об этом не говорили.
Тильда рассказала мне про первый неудачный брак, студенческую ошибку, как она быстро развелась, не понимая, что могла так глупо влюбиться. А когда встретила Рика, то сначала совсем ничего не почувствовала, а потом все поменялось, и однажды она проснулась с убеждением, что больше не сможет без него жить.
Чем дольше она рассказывала, тем меньше я ее понимала. Было очевидно, что она любит его, любит сильно и осознанно, как взрослый человек, знающий цену счастью, а он позволяет себя любить. Я с удивлением узнала, что этот бесчувственный сухарь долго отказывал Тильде, объяснял, что любить не может и это не принесет счастья – ни ей, ни ему. Я слушала и не могла поверить. Позволяет себя любить? Не может любить сам? И говорит об этом открыто, будто гордится своей неспособностью чувствовать.
В последний вечер нас пригласили на день рождения к подруге Тильды. Думаю, у Рика друзей не было вовсе. Дом был гостеприимным, дети воспитанные, взрослые образованные.
Я села в угол на диван и наблюдала: не хотелось заставлять всех говорить на чужом им языке, который бы сильно упростил вечер. Недалеко от меня сидел Рик. Он тоже ни с кем не общался, сидел неподвижно, сплел на коленях пальцы, поджав нижнюю губу, смотрел в пол или на свои скучные начищенные ботинки, а после того как маленький мальчик лет пяти с перекинутым через руку полотенцем, забавно кланяясь, предложил принести что-нибудь выпить, сухо отказался, повернулся ко мне и сказал, что жалеет Тильду, так как не смог дать ей даже детей. На это я просто кивнула. Теперь он казался мне дьяволом. Оказывается, у них нет детей тоже по его вине. Я не спрашивала об этом Тильду, но каждый раз, когда вокруг были малыши, было видно, с каким восторгом она за ними наблюдает.
Вечером Тильда зашла сказать мне спокойной ночи и заторопилась наверх посидеть с Риком, потому что у того плохое настроение.
– Он разрезал очередную флейту, но ему не помогло.
– Что?
– Я не говорила тебе про его хобби?
– Нет.
– Он режет инструменты. Ну, распиливает их пополам. Чтобы увидеть их душу.
Это было в духе Рика. Я зажмурилась от страха услышать еще что-нибудь.
– Мне еще его мать рассказала. Как-то они совсем маленького Рика взяли на концерт саксофониста. Он тогда просидел весь концерт, не шевелясь. И даже не брал свой любимый шоколад. И воды не пил. А потом укусил за ногу мужчину, который разговаривал со своей спутницей.
Я представила себе маленького Рика, но почему-то седого и в морщинах, вцепившегося зубами в чьи-то брюки.
– Я, конечно, тоже люблю саксофон, – Тильда вернула меня к действительности. – А кто сейчас его не любит! Но я люблю как данность, без вопросов, без колебаний, – просто все любят, и я люблю. У Рика не так. У него это как наркозависимость. Он голову теряет, говорит, что это такой инструмент для воспроизведения голоса души, не больше не меньше. У него, говорит, прямая передача, без искажений.
Она заправила за ухо прядь волос, и видно было, как дрожат ее руки.
– Он не понимает, когда кто-то может саксофон не слушать. Или отвлекаться во время игры. Это как раньше, когда на казнь собирались горожане. Стояли, переругивались, детей одергивали или еще там что делали, в глупой своей повседневности. А рядом человеку голову рубили. Понимаешь? У бедняги все заканчивалось в этот самый момент, когда эти возились в своей нечувствительности. У них прямо на глазах! Осознание себя умирало навсегда, память исчезала, понимание мира и все-все-все. А тут кто-то яблоко грыз или сплетню соседу пересказывал про бабу, что напротив жила. – Складочка между бровей у Тильды стала глубже. Она вдохнула так, словно последние несколько минут не дышала. – А однажды Рик поехал на Лоппмарк-наден. Там рынок такой уличный. И первый саксофон себе купил. Купил его, вычистил как следует, потом приобрел инструменты – станки там какие-то, пилы, – и распилил его на две части. Вдоль. И тогда ему открылась внутренность инструмента.
Я представила: в большой такой колбе, как в анатомическом театре, в формалине плавает саксофон.
– И так долго он изучал эти вот саксофонные внутренности, – Тильда сделала паузу, подбирая слова, – что в один прекрасный день нашел место, где душа преображается в звук. Вот. Некий порожек. Когда просто смотришь на инструмент, этого не увидишь. Так и пошло. Теперь Рик, как саксофон слышит, знает, на каком этапе возник звук, на каком изломе произошла трансформация. А потом он так же скрипку разрезал, и флейту, и пианино тоже. У всех инструментов узел этого вот волшебного перехода совсем в разных местах, иногда очень неожиданных. А у некоторых он вообще вне корпуса. У барабанов, например, он совсем далеко, у рояля варьируется в зависимости от величины, у трубы – у самого раструба, а у гитары их вовсе два.
Утром я внимательно следила за Риком. Пыталась разглядеть в нем хоть какую-то жизнь. История с разрезанием музыкальных инструментов казалась мне дикой. Препарирование трупа в поисках души. И на это способен был только один человек – Рик Хелмюрс.
Когда он ушел к себе, я поинтересовалась, зачем Тильда уговаривает мужа ходить с нами. Ведь ясно, что он мучается. Тильда удивилась вопросу и сказала, что на день рождения Рик захотел пойти сам. И даже предложил проводить меня завтра. Я не верила своим ушам, но на всякий случай попросила:
– Тильда, можно меня проводишь ты?
Она удивленно кивнула.
На следующий день Рик вообще не спустился на завтрак. Тильда объявила с грустью, что ему все еще нездоровится, и вскоре повезла меня на станцию. Я была рада тому, что не придется молчать рядом с Риком, изображая благодарность. Тильда пообещала скоро приехать в Лондон: этого требует проект, и ей так хочется меня видеть почаще. Подарила мне шелковый шарф в белую гусиную лапку. Потом пришел поезд, я поцеловала ее, прошла внутрь, двери закрылись, и в окнах коротко мелькнул ее силуэт.
В поезде я думала о несправедливости мира. О том, что доброму человеку достается так мало сочувствия, как много заботы и ласки остаются без ответа. Рик не в силах дать Тильде что-либо, так как не способен ни сочувствовать, ни сопереживать.
За окном потемнело, и начался дождь, проливаясь по стеклу неровными струями.
Рик побродил по пустому дому, спустился в гостевую комнату, снял белье с раскладного дивана в горчичную полоску. Туда же принес халат и полотенца из ванной, взял все это в охапку, чтобы отнести в подвал к стиральной машине, но вдруг сгорбился, уткнулся в белье лицом, взревел утробно и повалился на диван, вдыхая в себя такой желанный запах.
Дождь в Стокгольме закончился. Солнце позолотило крыши. У лодок плескалась вода, растягивая и сжимая отражение сияющего города.
Сакура
– Извините. Что вы сказали?
Золотоволосая женщина медленно отвернулась от окна, но синие глаза смотрели сквозь официантку.
– Тяй, – повторила та, поклонилась и поставила на стол поднос с заварочным чайником и чашкой.
Было видно, как приезжая с усилием пыталась сосредоточиться. Наконец переключилась и уставилась на белоснежный рукав официантки. Там, совсем рядом с манжетой, было небольшое пятно. Щеки официантки порозовели, она спрятала руки, поклонилась и, не поднимая головы, заторопилась на кухню.
Женщина опять уставилась в окно. Пятна на рукаве она не заметила. В городе зацвела сакура. Дымка цветов сияла и у реки, и в садах у маленьких домиков, на крышах отелей и в городских скверах. Город изменился – как если бы толпу военных в униформе и клерков в костюмах разбавили девушками в легких крепдешиновых платьях.
Завтрак в ресторане “Голубая лагуна” на последнем этаже отеля заканчивался. Но женщина не торопилась – уже начали убирать, а она все сидела, глядя на бесконечный поток машин на эстакадах, что переплетались клубком разноцветных змей. А когда ей принесли счет, просто расписалась, не глядя. Наступил полдень, и никто не посмел ей сказать, что завтрак давно закончен; стали появляться посетители на обед и вновь загремели посудой. К ней было двинулся круглолицый менеджер с меню, но вспомнил, что она и не уходила, развернулся на каблуках и удалился, удивляясь необычному цвету ее волос.
Отель “Гранд Принц” находился в районе Акасака в центральном Токио. Его узкая башня была окружена садом, который спускался к реке.
Нарифуми работал в торговом центре отеля, на минус первом этаже, в салоне для новобрачных. Весь в букетах искусственных цветов, салон скорее напоминал бюро ритуальных услуг. В нем было три просторных комнаты. Одна – для первой встречи посетителей, вторая – переговорная, разделенная на три зоны ширмами, в каждой – стол и стулья вокруг, в третьей – стенд ателье по пошиву свадебных платьев и витрины с посудой, скатертями для праздничного стола, всевозможными палочками-хаси для молодоженов, обручальными подарками и безделушками для гостей.
Полы и стены подземного этажа торгового центра были из белого мрамора, и потому весь этаж носил название “Мраморный”. Ледяной рай. Без аромата. Без жизни.
А ведь Нарифуми больше всего любил сады. Любил душные парники, теплый запах мульчи и компоста. Он надеялся накопить денег и купить дом с садиком, и даже сейчас в маленькой студии с ним жили белый фикус, жестколистный жасмин и два горшка антуриума с глянцевыми алыми цветами.
Вход в салон охраняла пара манекенов в нарядах жениха и невесты. Растерянно глядя поверх голов, они стояли, чуть касаясь друг друга пальцами. У жениха были густые ресницы, невеста же была вовсе без ресниц, с совершенно белым, безликим лицом. На ней было кремовое платье, расшитое желтоватым жемчугом по лифу, широкая юбка, собранная в объемные складки, причудливым образом переходившими в шлейф. Фаты на ней не было, а волосы, собранные в балетный пучок, были сделаны из того же материала цвета, что и лицо.
В салоне всегда играла традиционная музыка – лирические песни под струнный перелив сямисэн. Это успокаивало в такой важный момент, когда заключалось соглашение если даже и не на всю жизнь, то уж точно на продолжительное время.
Для посетителей было еще слишком рано, и Нарифуми решил пройтись по ценам, чтобы не открывать альбом каждый раз, когда у клиентов возникали вопросы.
Только он перевернул первую ламинированную страницу, как позвонили и попросили занести рекламные листовки салона на регистрационную стойку, так как лежащие там уже разобрали. Всем было известно, что их в основном уносили любопытные туристы в качестве сувениров, но все равно толк от них был – у салона нет своей витрины на улице, и это единственная возможность заявить о своем существовании.
Нарифуми достал из ящика стола последнюю стопку, побежал по круглой лестнице наверх, кивнул консьержам, поклонился господину в черном костюме, за которым катили тележку с дорогими кожаными чемоданами, поздоровался с менеджерами отеля, стоявшими у дверей в служебные помещения, и подошел к дежурному у стойки. Передал листовки, перебросился формальными вопросами о жизни и тут, когда можно было уже возвращаться, услышал голос. Необыкновенный – низкий, с такой мелодикой, которой он раньше никогда не слышал. Он обернулся.
Слева от него стояла женщина – протягивала буклет с расписанием пригородных поездов. Нарифуми замер: волосы у женщины были золотыми и завивались по всей немалой длине кольцами. Он никогда в жизни такого не видел.
Женщина почувствовала его взгляд, и сердце Нарифуми отчаянно заметалось. Такими же золотыми были у нее ресницы и брови, а по скулам и плечам брызгами рассыпались неяркие веснушки. Наверное, такими бывают ангелы.
Дежурный дернул Нарифуми за рукав, а женщина улыбнулась. Нарифуми поклонился, пытаясь загладить неловкость, и она поклонилась ему в ответ. Потом прошла к лифту, а оттуда махнула рукой. Нарифуми смутился и побежал вниз, обратно в свое мраморное царство.
Обедать Нарифуми ходил во двор международного выставочного комплекса, куда во время перерыва приезжали микроавтобусы с передвижной кухней – китайской, бразильской и испанской; американскими гамбургерами, хот-догами, сэндвичами и, конечно же, японской традиционной едой. Он обыкновенно брал немного, ел за столиками, выставленными тут же, потом в кондитерской напротив брал зеленый чай со льдом, чтобы не заснуть от горячего обеда.
У него были длинные жесткие волосы и смуглое лицо со смеющимися глазами. Узколицый, что не так часто встретишь на Хонсю, особенно в центральной его части. В марте ему исполнилось тридцать два года, но выглядел он моложе. Когда Нарифуми смеялся, высоко на его щеках появлялись ямочки и открывались острые резцы зубов. Он снимал студию в районе Таитоку недалеко от знаменитого кладбища Янака, дружил со свободным поэтом Хидео Асано, который писал хаику на английском и продавал их в парке Уено иностранцам.
It is raining hard The deaf wet selling flowers Can anyone hear?[16]Хидео всегда ходил в куртке, из кармана которой торчала затертая книга Достоевского “Записки из мертвого дома”.
Buddha conquered self Escaping paradise Into paradise[17]На следующее утро у Нарифуми был выходной, но он заскочил в отель, чтобы оставить заявку на пополнение рекламных открыток.
В холле у карты стояла золотоволосая и рассматривала буклеты достопримечательностей и экскурсий. Нарифуми сделал свои дела и увидел, что она тоже выходит. Он пропустил ее вперед и решил посмотреть, куда она пойдет. Следить за ней было просто: она ничего не знала про этот город, ей нужно было время, чтобы разобраться, – а он знал его слишком хорошо.
Она спустилась в метро на станции “Акасака-Митсуке” туда, где расстилался огромный подземный квартал с магазинами, ресторанами и комнатами отдыха. Все время останавливалась – то рассматривала в витрине кондитерской лавки традиционные конфеты митаращи-данго, то наблюдала, как молодые девушки примеряют шляпки и вязаные береты, потом, близоруко щурясь на схемы, купила билет и прошла через турникеты вниз, к поездам. Долго не могла понять, с какой платформы уходит поезд, пропустила два, потом спросила, и ей объясняла что-то женщина в широкополой панаме с медицинской маской на лице. Вагон был заполнен школьницами в форме с телефонами, увешанными брелоками, как новогодние елки. Они хихикали, глядя по сторонам, и прикрывали ладошками рты.
Вышла золотоволосая на станции Токийского вокзала, к информационной стойке и разговаривала там с девушкой в униформе. Нарифуми слышал, упоминали Киото – и потом, когда служащая показала на платформу, он, не раздумывая, купил билет и прошел за ней. В вагоне он сел позади, через ряд – чтобы она его не узнала, и любовался пружинами волос, по которым пробегали солнечные блики. Она два часа, не отрываясь, смотрела в окно и купила только зеленый чаи, когда мимо катили тележку с едой. Он не любил пригороды вокруг железнодорожных путей – ему было обидно, что она видит вышивку с изнанки, где все в неряшливых узлах.
В Киото эта странная женщина была недолго. Заехала в комплекс Гинкакуджи, прошла по деревянному помосту к пруду и постояла у воды, усыпанной лепестками сакуры. Через розовое кружево было видно, как ходят друг за другом две рыбы: одна огромная желтая с красным пятном у глаза, а за ней, не отставая, – небольшая, но юркая. Женщина наблюдала за рыбами, и Нарифуми понял, что и он, как эта серая невзрачная рыбешка, ходит кругами за прекрасной золотой рыбой. И это было знаком продолжать, как бы далеко ни нужно было ехать и сколько бы денег это ни стоило, – он всегда будет следовать за ней.
После этого она доехала до вокзала Намба, что почти уже в Осаке, и в кассах железнодорожной ветки Нанкай купила билет до станции Гокураку-баши.
Прямо от платформы в горы поднималась канатная дорога. Там, наверху, она вышла из вагончика, остановилась и долго стояла, глядя на расстилающуюся у ног долину.
Нарифуми всегда любил префектуру Вакаяма – теплое течение в этих местах подходило близко к берегу, климат был мягче, и заросшие лесами холмы громоздились от воды вглубь пенинсулы гигантскими, застывшими волнами. Странно, что, находясь недалеко от древних столиц Нары и Киото, Вакаяма всегда считалась провинцией – только монахи интересовались этими труднодоступными ущельями горных цепей Кии. Тут было все для самоотверженного религиозного служения. И самым известным местом была именно эта гора – Коя-сан. Великого Кукая привел сюда охотник, сопровождаемый двумя собаками – белой и черной. После смерти ему дали имя Коба Дайши, а Коя-сан стала местом паломничества.
От канатной дороги к селению ходили рейсовые автобусы. Нарифуми видел, как удивилась золотоволосая, когда проезжали Великие ворота – огромные, выкрашенные киноварью, они вырастали ногами исполина сквозь частокол сосен-коямаки.
Она остановилась в рёкане Ичиджо-ин, а он снял комнатушку в храмовом приюте напротив. Что тоже было недешево, но в стоимость входили вегетарианский ужин и утренний чай.
Весь остаток дня Нарифуми протаскался за ней по тихому городку, к вечеру она постояла в саду камней в храме Конгобу-джи, будто переводила дух, выпила чашку чая, приготовленного монахами, прошла дорожкой среди рододендронов, а потом долго мыла руки в маленьком каменном бассейне. У нее были красивые запястья и перламутровая кожа. От долгого путешествия она выглядела уставшей. Села на скамье в саду – пришлось наблюдать за ней издалека, и ему показалось, что она плакала. Когда совсем стемнело, собралась с силами, встала и решительно пошла дальше – быстро-быстро, по заросшей стрижеными кустами улице, и он торопился, чтобы не отстать. Еще чуть-чуть – и ему пришлось бы бежать, но тут она неожиданно остановилась, развернулась и пошла прямо на него.
Нарифуми до того испугался, что ринулся в сторону, в плотный кустарник, ломая ветки. Прорвался, нога ступила в пустоту, и он упал в широкую канаву. За канавой начиналась стена – видимо, ограда одной из монастырских школ Сингон, – сверху покрытая бамбуковой, кое-где прогнившей крышей. Каменная кладка давно не красилась, штукатурка осыпалась, а местами заросла мелколистным плющом. Нарифуми хотел было подняться, но резкой болью отозвалась нога, он застонал – и тут же с дороги услышал голос золотоволосой:
– Кто там? Вам нужна помощь?
Он изо всех сил пополз по канаве вдоль стены, стараясь делать это как можно тише. Невозможно было даже себе представить, что она увидит его или, еще хуже, узнает. Он слышал ее шаги – в сумерках городок совсем затих. Давно не чищенная канава была полна веток и листьев – все это громко трещало под тяжестью его тела. Золотоволосая повторила вопрос, где-то рядом зашуршали кусты. Нарифуми заторопился и тут увидел, метрах в трех от него, под каменную стену уходит нора. Это было спасением – он решил забраться в нее поглубже и отсидеться, пока золотоволосая не перестанет искать его и не уйдет.
В норе было влажно, она тоже была завалена землей и листьями. У Нарифуми не было плана – он просто уползал, чтобы его не заметили. В очередной раз отбросив в сторону жухлую листву, он вылез с другой стороны стены. Выбрался на лужайку и лег на влажную землю. Лежал и слушал ее удаляющийся голос. Потом все стихло – только хрипло раскричались вороны. А-а-а-а-а… А-а-а-а-а… А-а-а-а-а…
Пахло перегноем, грибами и дымом. Прошло несколько минут, боль утихла, он наконец поднял голову и осмотрелся. Сначала решил, что попал в монастырь, но потом понял, что если это место и было монастырем, то очень давно всеми брошено и необитаемо. Все вокруг было засыпано гнилыми, еще прошлогодними листьями, давно не стриженные деревья потеряли форму. Дорожки, как паутиной, были затянуты плющом, который перекинулся на небольшую бамбуковую рощу справа. Бамбук в сырости подгнил, пожелтел и засох. Сквозь камни дорожек, пробивалась осока.
Неприятное, унылое место. И еще несмолкающий вороний стон. Нарифуми с трудом поднялся на ноги, отряхнулся и побрел по странному саду. В бамбуковой роще прошел мимо домика для чайных церемоний, там на цукубаи все еще лежал ржавый ковшик с длинной бамбуковой ручкой. За пересохшим ручьем начинался сад камней, сильно попорченный плющом и стелющимся узколистым бамбуком. И за горбатым мостом появились очертания огромного дома, покрытого сбитой в монолит соломенной крышей с рогами балок.
Через заросли одичавших пионов Нарифуми попал к месту, где когда-то был огород, – там до сих пор торчали палки для бобов и бамбуковые дуги, разделяющие грядки.
За огородом земля резко уходила вниз. Нарифуми остановился. Внизу, светясь в полумраке, цвели сакуры – переросшие, с потрескавшейся корой, как поминальные венки великанов.
Возвращаться через грязную канаву не хотелось, пришлось идти вдоль забора в надежде найти ворота. Сначала он почувствовал запах, а потом увидел, как из массивной крыши в небо уходит дым.
Нарифуми остановился. Кто мог разжечь огонь в заброшенном доме? Верно, туда забрались нищие и теперь греются, устроившись на ночлег. С ними лучше не связываться. Но только он двинулся дальше, как на дорожке перед ним мелькнула тень. Нарифуми испугался. Драться совершенно не хотелось, потерять деньги и одежду – тоже.
Но это была девушка. Очень худая, с заплаканным лицом и совсем не похожая на бездомную. Она вцепилась в рукав Нарифуми и сквозь рыдания бормотала что-то несвязное. Тянула в дом:
– Помогите!
Нарифуми выдернул один из поваленных бамбуковых стволов – он легко вывернулся из подгнившего корня. Девушка уже стояла в дверях. Она посмотрела на палку и заплакала еще громче:
– Она там! Она умирает.
Нарифуми вошел внутрь. Дом был жилой. Огромный, запущенный, но жилой. Внутри он казался еще больше, его пространство, почти без перегородок, больше походило на внутренность храма, где алтарем, далеко в глубине, служила отгороженная тканью массивная кровать.
Пол в доме не был выстлан татами – он был из широких полированных досок темного дерева.
Девушка скинула дзори и быстро пошла вперед.
В кровати лежала огромная белая женщина. Она тяжело дышала, к высокому в испарине лбу налипли пряди волос. Но что удивило Нарифуми больше всего – больная не была японкой.
– Нужно врача. – Нарифуми посмотрел на девушку, а та опять зарыдала.
– Сюда нельзя. Нельзя чужих. Она мне не простит. Мадам мне не простит.
– Какой здесь адрес? – Нарифуми достал мобильный.
Пока он говорил по телефону, девушка встала на колени у кровати и гладила руку больной. Похоже было, что она работала здесь прислугой, и болезнь хозяйки до смерти напугала ее. Скоро позвонили из кареты скорой помощи и попросили открыть ворота. Нарифуми сказал об этом девушке, но она продолжала рыдать, тогда Нарифуми пошел к воротам сам. Тяжелые ворота были закрыты на огромный засов и открылись с трудом.
Наконец машина подъехала к дому. Персонал возился над больной. Доктор распорядился принести носилки.
Девушка опять вцепилась в рукав Нарифуми и завизжала хриплым голосом, что Мадам увозить нельзя. Нельзя увозить. Нельзя! Она визжала и плакала. Нарифуми подошел к одному из докторов.
– Что с ней?
– Сильная аллергическая реакция. Видимо, на какой-то препарат. Мы сделали ей укол.
– Эта девушка настаивает, чтобы она осталась в доме.
Доктор пожал плечами.
– Если вы распишетесь. И заполните вот эту форму.
– Я-то вообще здесь никто.
– Тогда она.
Нарифуми протянул бумагу девушке. Она совсем забилась в истерике; тогда анкету заполнил Нарифуми и протянул врачу. Девушка находилась в состоянии, близком к обмороку. Она только повторяла, что, если Мадам вынесут из дома, Мадам умрет. В конце концов доктор выписал несколько рецептов. Дал схему приема лекарств.
– Она будет спать теперь часов десять, не меньше. А потом – строгая диета. И посещение врача.
Написал еще несколько рекомендаций, поклонился и вышел вслед за командой. Машина, приминая разросшиеся придорожные кусты, уехала.
– Только не оставляйте меня здесь одну. – Девушка села на пол у изголовья кровати хозяйки и закрыла лицо руками.
– Не волнуйтесь вы так. Доктор сказал, что это не так страшно.
Видно было, что хозяйка уже дышала спокойнее и на ее щеках появился румянец. Девушка успокоилась. Поправила на себе кимоно и волосы. Ее нельзя было назвать красивой – скорее, она была необычной. Глаза большие и широко посаженные. Высокие скулы. Но что-то в ней было дикое, животное. Может быть, в движениях: как она шевелила ноздрями или поворачивала голову набок, вздрагивая от каждого громкого звука.
– Почему вы не стали заполнять бумагу, если так уж не хотели отдавать ее в больницу?
Девушка подняла глаза на Нарифуми:
– Я не умею писать.
Похоже, ее взяли из какой-нибудь забытой богом деревни на Хоккайдо.
– Давно ты здесь?
– Всегда.
– Всегда?
– Я родилась здесь.
– И почему же ты не училась?
– Не знаю. Мадам говорит, что мне это не нужно.
– Да уж. Двадцать первый век.
– Мадам говорит, что она много училась, и знает, что счастье не в этом.
– Сколько тебе лет?
– Двадцать или двадцать два. Хотя Мадам говорит, что семнадцать. Но ей всегда хотелось, чтобы я была моложе.
Ясно, что ее хозяйка, да и сама она, были явно не в себе. Жили тут затворниками и совсем потеряли разум. Нарифуми посмотрел на Мадам. Та дышала уже совсем ровно. Большие руки лежали вдоль необъятного тела – пальцы в крупных перстнях и широких браслетах. Крупный нос, рот, тонко выщипанные брови, на закрытых глазах густые наклеенные ресницы – ей было около шестидесяти. Видимо, дама с характером.
– Как тебя зовут?
– Айо.
– И что ты делаешь здесь?
– Ухаживаю за Мадам.
– Одна?
– Сейчас одна.
– Трудно?
– Было труднее, когда Мадам выезжала.
Она говорила с чуть заметным акцентом, но понять, какой префектуры этот акцент, было невозможно. И может быть, это был просто какой-то дефект речи.
– Тогда тут были еще люди и много было возни с платьями и украшениями. Сейчас она не выезжает, но приходится больше готовить.
– Сад, думаю, был красивым?
– Он и сейчас красивый.
– Запущенный.
– Садовник умер пять лет назад, тогда и Мадам перестала выходить. Потом кухарка ушла.
– Почему?
– Не справилась.
– А ты осталась?
– Конечно, я осталась. Хотите чаю?
– Да. Спасибо. – Нарифуми поклонился.
Айо поклонилась ему в ответ и пошла в другой конец дома.
Скоро она вернулась и поставила у ног Нарифуми небольшой поднос с ножками, на котором теснились чайник, чашка и пиала с пастой из бобов. Потом она принесла такой же поднос, но только с чаем, для себя. Еще раз поклонилась и села. Она пила чай, опустив глаза, тонкой ладошкой придерживая дно чашки. Бобы были сладкие и вкусные. Нарифуми с благодарностью пил чай, наблюдая за девушкой. Веки ее просвечивали голубоватым, ушные раковины заострялись кверху. Она все это время молчала. Потом унесла посуду и опять села у хозяйки. Нарифуми засобирался. Девушка испуганно посмотрела на него.
– Я могу навестить вас утром.
Она улыбнулась:
– Там калитка слева от ворот – закрывается на веревочную петлю. Спасибо вам.
– Тебе нужно отдохнуть.
– Я все равно не усну.
Нарифуми поклонился и пошел к выходу. Она долго не закрывала за ним дверь, смотрела, как он идет через сад.
К середине ночи Нарифуми проснулся и долго не мог заснуть, ворочался и все думал про этот странный дом, про девушку Айо и ее больную Мадам.
Утром Нарифуми разбудил гонг – в шукубо призывали к молитве, значит, почти шесть утра. Он испугался, что упустил золотоволосую, но вспомнил, что она остановилась в рёкане, который не строго соблюдал религиозные традиции, – и, хотя утром служба все равно проходила, постояльцев к ней не будили и принимали всех желающих. Завтрак им будут разносить по комнатам только в восемь. Он умылся, пошел в храм, простоял службу, бросил в коллектор мелочь, зажег палочку под Буддой и купил свежую рубашку в магазине через дорогу.
День наступал очень странный – без теней. Ровный свинцовый свет.
При свете сад и дом были не такими зловещими, но все равно, когда он открыл калитку и шел по заваленной ветками дорожке к дому, ему было не по себе. Айо открыла, как только он постучал. Мадам все еще спала – и Айо не знала, как дать ей лекарство, которое доктор рекомендовал на утро. Нарифуми объяснил: пока она спит, все в порядке. А лекарство можно дать тогда, когда Мадам проснется. Видно было, что Айо совсем не спала – у нее были красные глаза, и она постоянно зевала. Нарифуми пообещал зайти вечером. Когда пошел к дверям, заметил у одного из окон, на низком столе огромную коробку. Метра два длиной, не меньше. Рядом были разбросаны порезанные журналы, на приставном маленьком столике лежали ножницы, ножи для бумаги, большой флакон лака для волос, несколько тюбиков клея и разноцветные губки. Большая часть этой огромной коробки уже была оклеена вырезанными из журналов фотографиями и картинками. Это был странный коллаж. Портреты красавиц переплетались с фотографиями машин, небоскребов, цветов, сумок всевозможных цветов, флаконов духов, портретами политических деятелей, изображениями флагов, яхт, ювелирных украшений, еды, пейзажами и дорогими интерьерами.
– Айо, что это такое?
– Это хобби Мадам. Она делает это, когда у нее есть свободное время.
– Она клеит эти бумажки?
– Да, я иногда помогаю ей вырезать. У нее сейчас не очень хорошее зрение.
Нарифуми подошел поближе. Коробка была украшена так же и внутри. Вырезанные по контуру картинки укладывались с необыкновенной тщательностью, приклеивались, потом покрывались лаком. Нарифуми провел пальцем по картинкам. Стыки было почти невозможно почувствовать.
– Мадам украшает свой гроб.
Нарифуми отдернул руку.
– Что?
– Да. Мадам заказала гроб давно, по собственному чертежу. Она считает, что я вряд ли смогу сделать все как нужно. Она даже организовала небольшое кладбище.
– Кладбище?
– Да. Очень красивое. У нас большая территория. Хотите, я вам его покажу?
Она вышла из дома, свернула направо, прошла вдоль засохшего ручья и стала подниматься по ступеням, вырубленным в высоком каменном склоне. Лестница несколько раз поворачивала и наконец вывела их на самый верх – на большую очищенную от деревьев площадку. На квадрате земли, засыпанном белой галькой, лежала плита темного гранита. На отшлифованной поверхности было выгравировано имя и только дата рождения.
Отсюда открывался великолепный вид. Далеко, на склонах, рабочие в широких белых штанах жгли лапник, и по ущельям плыл дым, разделяя горы. Кедровые леса переходили в бамбуковые рощи, а те спускались к цветущим садам сакуры вокруг немногочисленных жилищ.
Нарифуми вздохнул, закрыл глаза и постоял какое-то время.
– Ты придешь вечером?
Слышно было, что она волнуется.
– Я постараюсь.
Он слонялся возле рёкана, где остановилась золотоволосая, взял в закусочной дорожный набор и съел его, присев прямо на траву. В обмен на сто двадцать иен из аппарата, что стоял тут же в сквере, выпала горячая бутылка зеленого чая. Он завернул ее в куртку и сунул под мышку – ждал, когда она чуть остынет, и, когда он почти допил этот чай, золотоволосая наконец вышла из ворот. Сверяясь с картой, повернула налево, обогнула небольшой полицейский участок и пошла, разглядывая витрины. Купила у торговца сладостями розовые мочи, съела одну, а другие взяла с собой. Несла их в красном бумажном пакете как дорогой подарок.
Минут через пятнадцать остановилась, зачарованно глядя на ворота с внушительной надписью. Сложила карту и сунула ее в мусорный ящик для бумаги, и стало понятно, что она нашла наконец то, что так долго искала. Это было кладбище Оку-но-ин.
Нарифуми закашлялся. Что происходит? Почему всех так влекут эти пристанища мертвых?
Золотоволосая медленно прошла через ворота. В тени высоченных кедров, на угольно-черной земле тянулись ряды надгробий, заваленных рыжей хвоей. Шеренги каменных фонарей заменяли им солнце. Дорожки переходили в ступени, поднимались на холмы, спускались, расходились и сходились снова. Воздух был напоен запахами – хвои, коры, пряным торфом и чем-то сладким, чем всегда пахнет на кладбищах.
Около могилы с памятником, похожим на обвязанные алыми фартучками детские фигурки, она положила пакет с мочи. Там уже стояло несколько баночек с соком. Прошла все кладбище насквозь и остановилась на мосту через реку, дно ее серебрилось монетами – их бросали паломники и туристы.
Дальше она повела себя совсем странно. Швырнула что-то в воду, но не деньги, а что-то цветное. Ему показалось, что это были кредитки. Но он решил, что ошибся и, может, это было что-то другое. Что бы это ни было – она сделала это не случайно.
Постояла перед внутренним святилищем с мавзолеем. У зала фонарей нашла киоск, где продавали омамори на счастье. Достала из кармана листок и протянула продавщице. Как показалось Нарифуми, та испугалась, но закивала и ушла куда-то внутрь. Затем вернулась с женщиной в сером кимоно. Женщина вышла из киоска, поклонилась золотоволосой и показала ей на небольшую беседку.
Там они сели, и Нарифуми видел, как японка, склонившись с большой лупой, гадала золотоволосой по руке, кивая, как заводная кукла.
После этого золотоволосая вернулась в рёкан, в руках у нее был толстый конверт, который она оставила у консьержей, и попросила отдать тому, кто будет ее спрашивать.
Вместе они доехали до выезда из города. Там она прошла по указателям до водопада. Посетителей почти не было. Весна была еще слишком ранней для долгих лесных прогулок. Она поднялась по лестнице до смотровой площадки. Там, на самом верху каменной скалы, вода трех горных ручьев сплеталась в один поток, чуть тормозила у большого плоского камня и падала вниз белой пеной, на черные, горящие бликами камни. Какое-то время она смотрела не отрываясь на воду, потом сняла обувь, перешагнула бамбуковую изгородь с предупреждающей надписью и нетвердо пошла по воде к отвесному краю. Чтобы не упасть, широко развела руки.
Нарифуми хотел было крикнуть. Но она была слишком далеко, и было, пожалуй, страшнее напугать ее – он просто побежал по мшистой лестнице наверх и в самый последний момент между деревьев увидел, как она прыгнула в поток, закрывая руками лицо.
Расследование вели недолго. Нашлись свидетели падения и того, что там, на площадке, она была одна.
Сгоревшие остатки ее документов обнаружили в раковине в комнате, которую она снимала в рёка-не. Было понятно, что она уничтожила их сама. В конверте, что золотоволосая оставила после себя, лежали двадцать три тысячи долларов и просьба быть похороненной на Коя-сан – в жемчужного цвета кимоно, аккуратно разложенном на футоне.
Нарифуми было больно, но в конце концов она бы все равно уехала, а это все равно что умерла. А так она захотела остаться здесь. И это хорошо. Почти как если бы она захотела остаться с ним. Навсегда.
Вечером он пошел туда, в дом с заброшенным садом. Ему нужно было с кем-то об этом поговорить. Мадам уже спала, а Айо мыла рис, когда он пришел.
Они сели на улице – вечер был теплый, и Нарифуми рассказал ей, почему он здесь и все, что произошло с золотоволосой. Потом они молчали, ели рис с маринованной редькой, опять молчали, а после Айо сказала:
– Я могу попросить Мадам похоронить ее у нас.
– У вас?
– Ну да.
– Вряд ли она согласится.
– Я могу ее попросить.
Нарифуми улыбнулся. Какая смешная девушка. Насколько он понимал, у хозяйки был сложный характер – и уж вряд ли она будет слушать прислугу.
Удивился самоуверенности Айо. Улыбнулся еще раз. Она поняла его иронию. И будто чуть обиделась.
– У нее доброе сердце.
Нарифуми пожал плечами:
– Я просто не думаю, что она будет с кем-то делиться своей землей.
– Но у нас же много земли.
Он опять улыбнулся:
– У вас? – Почему-то ему стало неприятно, что она так наивно ошибалась.
– Ну да. У нее все еще большие связи.
– Айо-сан.
– И, если бы она слышала, как ты рассказывал про эту женщину с золотыми волосами… у нее должны быть действительно веские причины, чтобы сделать то, что сделала она.
Он кивнул.
– Просто, когда пять лет назад умер мой отец…
– Твой отец?
– Да, разве я не говорила? Мой отец был здесь садовником. Так вот, после его смерти Мадам не хотела никого нанимать в сад. Она не хотела, чтобы изменилась энергия сада.
Потом Нарифуми помог ей отнести посуду в дом.
– Ты стоял сегодня долго у ворот и не входил, ты сомневался? Я видела тебя с лестницы.
– Я засмотрелся.
– На что?
– Там, у дорожки, вылез папоротник. Ты замечала, что ранние ростки папоротника – как шеи лебедей-подростков в грязном, свалявшемся пухе? Как будто мерзнут, свернувшись в спираль. То розовые, то почти синие. Еще чуть солнца – и они потянутся вверх, выпуская листья.
Он говорил негромко, а Айо слушала. По лицу у нее опять покатились слезы, она смахивала их тонкими пальцами. Он замолчал и поцеловал ее в щеку.
Потом Нарифуми уехал в Токио. Прожил там месяц, затем неожиданно уволился, отработал положенное, съехал с квартиры, снял комнату на складе, куда сложил весь свой скарб, – и переехал на Коя-сан.
За это время Айо чуть загорела и у нее заметно отросли волосы.
– Деньги ее передали Мадам – так решил префект, – Айо подняла глаза на него и тут же их опустила. – Как бы в оплату за участок. Так вот, Мадам хочет потратить их на сад.
Нарифуми чувствовал, как соскучился и что она рада его видеть.
– И хочет, чтобы этим занялся ты.
– Я? Но почему?
– Она сказала, что в ее жизни никто и никогда так не говорил про ростки папоротника. И еще – что ты напоминаешь ей Харуми.
– Харуми? Кто это?
– Мой отец.
– Айо! Можно я спрошу тебя?
Она кивнула.
– Ты когда-нибудь думала о том, чтобы уехать?
– Нет. Я не могу оставить Мадам!
– Но у тебя же должна быть своя жизнь. Ты понимаешь? Своя.
– Нет.
– Ты же не обязана вкалывать здесь всю свою жизнь.
– Но я хочу быть здесь. С Мадам.
– Но почему, Айо?
– Я не могу без нее. Как я оставлю свою мать? – Она сказала это просто, но с сильным чувством. Встала и ушла в дом.
Уже больше полугода Нарифуми работал в саду. Вот и в этот вечер он почистил инструмент, завернул каждый предмет в тряпку, уложил все в большую тростниковую сумку и отнес в кладовку. Потом поднялся по лестнице, вырубленной в горе. Садилось солнце, освещая плиту, где не было года смерти, и вторую, где было написано: “Неизвестная золотоволосая женщина, пожелавшая остаться здесь навсегда”.
Все знали, что святой Кобо Дайши не умер, а вошел в медитативный сон, в котором будет пребывать, пока Будда будущего – Мироку – не принесет человечеству мир и просветление. Говорили, что эта странная женщина с севера захотела остаться здесь именно поэтому. Теперь ее могила недалеко, и она вместе с Кобо Дайши дожидается там пришествия Мир оку.
Но Нарифуми знал, что это не так.
Он обмел темные камни. Скоро будет год с того сумасшедшего дня, и опять зацвела сакура. Все случилось так, как должно было случиться.
Нарифуми улыбнулся.
За домиком для чайных церемоний, в низине, теряли красоту старые деревья, покрывая землю увядшими цветами.
Будто снегом, подкрашенным кровью.
Тело
В зале люди еще переходили с места на место, когда на сцену, вырванную светом из мрака, поднялась сухая женщина лет шестидесяти пяти. Под кардиганом парой недоразвитых крыльев задвигались лопатки, пока она проверяла ногтем микрофон.
– Уважаемые коллеги, – просипела она, повернувшись к залу, – на сегодняшний расширенный совет мы пригласили ведущих специалистов в области пластической и эстетической хирургии, косметологии и репродуктивной уроандрологии. Полагаем, что каждому докладчику будет достаточно десяти минут, а прениям – не более трех-пяти. Тогда к четырем часам мы сможем завершить нашу непростую работу.
Хождения прекратились, но многие закашлялись, пытаясь выбить из горла песок говорившей.
– Теперь, когда я вижу, что все наконец сели, позвольте мне как председателю совета сказать несколько слов, предваряющих наш сегодняшний разговор. – Она формально заглянула в кожаную папку, разведя в сторону локти. – Надеюсь, вам не нужно напоминать, что тело нашей подопечной – это не только наша внутрисемейная, – она пожала пальчиками, – но и государственная святыня, требующая особого к себе отношения. Учитывая это, мы собрали вас, дабы сообща продумать способ для вывода ее в свет. Нелишним будет напомнить, что красота такой чистоты создана для того, чтобы объединять и побуждать людей к всеобщей радости. А собственно наша встреча – это определение тех идеальных параметров, которые необходимо соблюсти для ее безопасного сохранения.
В зале раздались одинокие хлопки, но без поддержки стихли.
– И как человек, которому поручили провести это мероприятие, и провести его цивилизованно, я призываю всех выступать по существу и не дать сегодняшнему совету перерасти в свару. Все-таки мы говорим о прекрасном, прошу вас об этом не забывать.
Она закончила, села за низкий стол справа от трибуны, поджала губы, так что кожа под носом собралась складками, обвела зал глазами и взяла в руки список выступающих. Вдруг из зала взметнулась рука в мятом рукаве. Мужчина заметно волновался, белый воротник его рубашки был застегнут слишком туго, создавая на шее подобие талии.
Председательница раздраженно махнула в его сторону.
– Давайте-ка сначала предоставим слово главному косметологу. И если после его выступления вам будет что добавить, мы, безусловно, дадим слово и вам.
Главный косметолог с прозрачной кожей встал со своего места и, некрасиво оттопыривая зад, пробрался к сцене.
– Скажу несколько слов о сохранности не всего тела, а лица. Попробую раскрыть суть существующих проблем на примере нескольких иллюстраций. – Он кивнул и щелкнул пультом. В зале погас свет, а на экране появились разноцветные схемы, наложенные на размытую фотографию женского лица. – Нашим отделом как раз закончен анализ, и сейчас на экране вы видите основные участки, где произведена некая, так сказать, фиксация. На сегодняшний день состояние в целом стабильное, хотя есть, конечно, и новые регрессивные признаки.
Сменяли друг друга укрупненные схемы и графики.
– Посмотрите, вот на изображении 11/03 хорошо видны первые мимические заломы, не исчезающие после успокоения. Фрагмент 11/07 иллюстрирует едва заметную потерю влаги, а разрез справа – утончение жировой прослойки эпидермиса.
Щелкал пульт, и в такт ему синхронно кивали головы слушающих.
– Здесь, сразу под слезником, пока еще едва заметная впадина, но, очевидно, скоро здесь появится эффект, так сказать, съеженной кожи. – Голос его дрогнул, и скривилась губа. – А вот посмотрите на эту картинку, мы получили ее в архиве из картотеки фиксированных фотографий, выполняемых каждые пять месяцев. Здесь красным выделены так называемые каркасные маячки, а синим – участки ослабленной мышцы. – Он опять нажал на кнопку пульта, взглянул на новый фрагмент и развел руками. – И вот здесь мы с вами подошли к основному. На последней фотографии уже гораздо четче виден этот вертикальный залом, начинающийся на переносице и лучиком идущий вверх как результат своеобразной мимической экспрессии лица. Эта проблема возникла семь лет назад, весной, – тогда в процессе осмотра данный залом был зафиксирован впервые.
Главный косметолог говорил медленно, делал паузы и гудел в нос, подбирая слова. Председательница покрутила кулачком в воздухе, изображая ускорение, но он ее жеста не заметил и продолжал тянуть.
– Тело перевезли к нам, где с помощью комплексного метода – диета, витамины, пищевые добавки, мезотерапия, искусственное поддержание благоприятного воздуха и температуры, под постоянным наблюдением и постоянным записыванием динамики всех процессов – за полтора месяца проблему практически удалось решить.
Председательница победно кивнула и покрутила кулачком быстрее, но выступающий опять ничего не заметил.
– К лету следующего, после восстановления, года… Я немножко подробно на этом останавливаюсь, потому что эта проблема важная, она сейчас очень остро стоит. Так вот, через полтора года после восстановления была проведена первая инъекция ботокса. После чего морщина полностью разгладилась, а движение мышц перестало быть столь динамичным. И тут мы выиграли время для горячей полемики по поводу того, что делать дальше. Было предложено очень много различных решений. В обсуждении принимали участие сотрудники клинического центра микрохирургии, также были приглашены ряд специалистов из других учреждений.
Председательница выразительно посмотрела на часы.
– Решения предлагались разные. Предлагалось, например, эту жесткую складку между бровями залить наполнителями, известными тогда на рынке лечебной косметологии; предлагалось продолжать на постоянной основе замораживать и расслаблять мышцу препаратами ботулотоксина или пойти даже на микрооперацию, но к единому мнению прийти не удалось. – Оратор отпил из стакана, и было слышно, как стучат по стеклу его зубы.
В зале зашушукались, и кто-то тихо засмеялся. Главный косметолог прервал речь и, не поднимая головы от бумаги, дождался, пока стихнет.
– Итак, в результате того, что все боялись взять на себя принятие решений, мы ежегодно повторяли замораживание мышцы инъекциями ботокса, чтобы складка, не дай Бог, не увеличилась. Также проводились постоянное увлажнение, питание и сильная защита, дабы оградить тело от сюрпризов. Компания, выбранная для этого, предлагала на тот день самый прогрессивный продукт, который обладал всеми нужными нам свойствами и не закупоривал кожу.
Председательница нетерпеливо постучала по столу кулачком.
– Одну минуту. А вот сегодняшнее состояние этого участка. И еще хочу сказать, что второго декабря этого года мы проводили еще один совет, на котором уже обсуждалось состояние сохранности тела и на котором был поставлен вопрос о возможности укрепления основы эпидермиса. На том совете было принято решение обойтись без каких-либо хирургических вмешательств, а укрепить основу эпидермиса с помощью микроволновой резонансной терапии, укрепить мышцы коллагеном и эластином. Внесли в распорядок дня ежедневный лимфодренажный массаж, но с минимальным усилием, чтобы, не дай бог, кожу не потянуть. – Выступавший взглянул на председательницу, та округлила глаза и постучала по циферблату наручных часов. Главный косметолог кивнул и расстроенно положил на трибуну пульт. – Итак, резюмируя, хочу сказать, что при обсуждении возможности вывоза тела нужно учитывать хрупкое состояние основы и полностью исключить возможную вибрацию при транспортировке. Также должен соблюдаться температурный режим и все другие необходимые на сегодняшний момент параметры. У меня все. – Он осторожно спустился в зал.
Председательница удовлетворенно выдохнула и повернулась к толстошеему.
– Вы хотите что-то добавить? Но только не более пяти минут.
Толстошеий решительно направился к трибуне.
– Пожалуйста, недолго, – заволновалась председательница, – можно было и с места, ей-богу.
Толстошеий кивнул и потрогал микрофон указательным пальцем.
– Я прошу прощения у специалистов. Но здесь есть люди, которые не осведомлены обо всех косметических вмешательствах.
– А вы, простите, кто? – Председательница поджала нижнюю губу.
– А это не важно.
– То есть как, простите, не важно? Для нас важно!
– Я просто хочу кое-что всем напомнить. Начиная по крайней мере с тридцатилетия, тело четыре или пять раз подвергалось другим серьезным процедура… И непонятно, почему этот факт здесь умалчивается.
По залу пробежал шепот.
– Почему никто не сказал о том, что семь лет назад лицо было варварски обожжено лазером, и те легкие следы пигментации небольшого участка эпидермиса, которые мы имеем на сегодняшний день на лбу, на границе волосяного покрова, – результат фотоомоложения. Далее тело уже перешло в ваше распоряжение и было проделано все возможное, чтобы улучшить эту ситуацию.
Шум усилился, были явно слышны возгласы негодования. Председательница встала было, чтобы прекратить произвол, но мужчина посмотрел на нее так грозно и решительно, что она уступила. Только хмыкнула и поджала под стул ноги. Неизвестный продолжил, доставая из папки небольшую фотографию.
– Но и это еще не все. Посмотрите еще на одну любопытную фотографию. Она была сделана незадолго до того, как вы взяли тело на полное обеспечение. Здесь отчетливо видно, что тогда же была проделана операция по удалению лишней кожи верхних век. И почему никто на это не обратил внимания? Всем известно, что это тянет за собой появление лопнувших сосудов. Даже вокруг прекрасно рассосавшихся швов. И хотя проделанную операцию можно оценить как удачную, но все же не нужно скрывать очевидное. Я прошу приложить это к делу.
К мужчине подскочил молодой человек с длинными неопрятными волосами, схватил фото и убежал в недра зала.
– К чему я это говорю, спросите вы? Да потому, что на основе этих фактов можно сделать по меньшей мере один вывод. – Человек замолк и поднял вверх руку с вытянутым указательным пальцем: – Сочетание разновременных, так сказать, внедрений, давно поместило тело в зону риска. И мы не знаем, как оно поведет себя при малейшем изменении условий содержания. Насколько разрушительными они могут оказаться!
Последняя фраза прозвучала угрожающе. Председательница пыталась сменить маску раздражения на что-нибудь более нейтральное, но ей это не удалось.
– Давайте мы дадим сейчас выступить всем, кто заявлен, а потом… – Зал вразнобой загудел, и она продолжила с напором: – Нет, минуточку, минуточку, пожалуйста. Не хотелось бы здесь рассиживаться. Я, видимо, решила, что действительно, поскольку здесь высококвалифицированная публика…
В зале зашумели громче.
– Ну хорошо. Позвольте мне предоставить слово нашему главному дантисту. – Ведущая села, сложив руки под плоской грудью. Из зала опять замахали. Председательница, вытянув шею, внимательно рассмотрела махающего и недовольно кивнула.
– Ну что же, опять придется нарушать очередность. Наш диетолог, по-видимому, очень торопится, поэтому предоставим слово ему.
Не успела она договорить, как к микрофону уже тянул шею хромой, но юркий человек с лицом бабуина.
– Извините. Дело в том, что ровно в час пополудни я должен быть в небезызвестном всем вам доме через дорогу. – Бабуин сощурил глазки на манер рисовальщика и облизал верхнюю губу. – Дорогие мои, вот в чем дело… Говорить серьезно о таких вещах, как надежное сохранение, по-моему, уже поздно. Когда на наших глазах, скажем, уничтожается целиком нация…И я это не для красного словца говорю… В последние несколько лет блестяще сохраненные нашими лучшими специалистами тела и лица вдруг идут на чудовищные операции, и там уничтожаются наши многолетние достижения. Варварски срезаются веки и носы, морщины наполняются черт знает чем, кожа натягивается горе-хирургами, наращиваются волосы, ресницы, какими-то чудовищными граффити наносится татуаж!
– Не отвлекайтесь, пожалуйста, при чем тут дом напротив? – Председательница, словно сдерживая себя, быстро гладила собственный затылок.
– Хорошо. Я считаю, что разрешение нашему телу выехать к совершенно неизвестным нам людям и в обстоятельства нам тоже, увы, неизвестные – есть ошибка. На наших глазах за последние несколько лет потеряли форму тысячи взрослеющих женщин, которых вели неизвестные нам специалисты. А вчера выяснилось, что скулы и губы хозяйки известного всем вам дома напротив приводит в порядок какая-то, извините за выражение, артель, без согласования с кем-либо из нас. Вводят туда всякую дрянь и устаревшие филлеры. Понимаете, в чем дело? В общем, у нас сейчас все дозволено, у нас продолжается бардак под демократическими лозунгами. – Председательница многозначительно закашлялась, говоривший обернулся на нее, но продолжил: – О чем я и говорю! Вспомните, в каком состоянии мы получили тело после похода в новомодный клуб два года назад. И это была лишь разовая поездка. А тут так надолго. У этих людей может быть что угодно – мешанина из ингредиентов, никакого намека на раздельное питание, отсутствие витаминов, пищевых добавок и главное – это десерты, чудовищные десерты, жирные, сахарные, разрушающие. Они превратят нашу красавицу в компостную кучу.
– Уважаемый господин диетолог, – председательница уперлась руками в стол. – Позвольте мне вас успокоить: речь идет о выдаче всего на три дня, на празднование Нового года. И на специальных условиях.
– А мне сказали, что… – бабуин задрал брови, – как минимум на две недели.
– Ну так, наверное, нужно было все-таки сначала выслушать подготовленных специалистов.
– Извините, пожалуйста. Ну, если на три дня, и условия, как вы говорите… тогда зачем нас было собирать? – Лицо диетолога покраснело так, словно его голову опустили в кипяток. – Мне позвонили и сказали наши сотрудники, что речь идет о поездке надолго… Даже намекнули на постоянный переезд.
– Так вот, спасибо этим сотрудникам. Видимо, они, – она обвела зал взглядом, не сулившим ничего хорошего, и если прежде еще кто-то переговаривался, то сейчас стало абсолютно тихо, – они специально подливают масла в огонь. Мы примем меры.
Диетолог потянул носом, быстро и коротко подышал, положив на грудь ладонь.
– Спасибо, что не поставили нас в известность. Мы уже не в том возрасте, когда с нами можно играть в такие бирюльки. А я вам скажу, почему я спешу сейчас к председателю городского совета. На прошлой неделе было озвучено еще одно чудовищное решение! О переезде двух нами курируемых семей в центр города! На место юности! Какое место юности? Вы меня не перебивайте, пожалуйста! Вы здесь сидите, а я с хромыми ногами езжу и воюю. Один! Эти чудовищные решения… Отбиваюсь от них. Какое место юности, позвольте меня спросить, когда там загазованность! Свинец в воздухе! Уродливые современные здания, негативно влияющие на самоощущение. А здесь они жили в гармонии с природой и прижились здесь за двадцать лет. Так вот мы добиваемся отмены этого решения! А потом, я знаю, придут, скажут: верните нам прежний облик. Вот чем приходится заниматься. И поэтому, если на три дня – как говорится, флаг вам в руки. Хотя и эти три могут оказаться роковыми днями. Новогодней, так сказать, вакханалией!
– Спасибо за ваше выступление. – Председательница выдавила из себя улыбку.
– А если, как наши сотрудники говорят, вы серьезно… – Он, раздуваясь, набрал в легкие воздуха.
– Нет. – Ей удалось обрубить новую волну его возмущений. Диетолог подошел к краю сцены, а председательница приподнялась над столом и грозно уставилась в зал. – Я не знаю, кому конкретно понадобилось передергивать эту информацию. Но будьте покойны, узнаю. А сейчас все-таки позвольте мне предоставить слово главному дантисту, который зачитает также обращение мужа нашей подопечной, из которого наконец всем все станет ясно и понятно.
К микрофону поднялся франтоватый тип в приталенном пиджаке, достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, сверкнув кольцом на мизинце.
– Письмо совету, бла-бла-бла, – это бла-бла-бла он произнес, кокетливо показывая язык между сахарными зубами. – Я не буду читать все, – тип снисходительно махнул письмом, – прочитаю только главное: “Я не возражаю против выдачи тела моей жены на празднование Нового года”.
– Ну тогда зачем вы нас собирали? – диетолог все еще топтался на сцене.
– Уважаемый муж нашей подопечной, регалии которого нет нужды озвучивать, сказал “да”, – сверкнул дантист безупречной улыбкой, – и мы должны с уважением отнестись к его просьбе и обсудить, каким образом мы можем гарантировать сохранность этой удивительной красоты и подготовить тело наилучшим образом.
Диетолог закивал, глядя на говорившего снизу вверх:
– Я ухожу. Если на три дня, я – за.
Председательница улыбнулась.
– Спасибо большое, господин главный дантист. Не могли бы вы передать это письмо в совет, чтобы мы использовали его при необходимости. Действительно, сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить те самые важные параметры, которые позволят осуществить транспортировку и сохранность, и будем благодарны за любые советы и замечания. А теперь, пожалуйста, садитесь сюда. Прошу вас.
Дантист кивнул председательнице и помахал женщине, которая остановилась в ожидании у сцены:
– Идите, идите. Я уже закончил. Я за краткость и конструктивность. Я – за выдачу! И не нужно отклоняться от темы. Нас просят найти возможности, а мы берем на себя функции запрета! Глупо, господа. Все, все, все. Я закончил. – Он опять помахал женщине. – А это, если кто не знает, наш главный парикмахер-стилист. Заслуженный специалист в своей области, и не мне вам рассказывать почему.
Дантист подсел за стол к председательнице, а на сцену вышла женщина с круглым приветливым лицом.
– Если можно, свет не гасите, пожалуйста, – пропела она детским голосом. – Давайте для начала, чтобы не забыть, я прочту… Меня просили прочесть мнение нашей коллеги, специалиста по маникюру и педикюру. “В расширенный совет… От…” Ну, тут понятно. “Передаю свое мнение о возможности разрешения праздновать Новый год вне… ”
Чтение письма прервал скрипучий голос председательницы.
– Извините, мы просили всех присутствовать на совете лично, а она по каким-то причинам не смогла этого сделать…
– Она не смогла по важным причинам.
– Мы смогли, а она не смогла! – кто-то капризно потянул с задних рядов. Парикмахерша опять попыталась читать: “В расширенный совет. Передаю свое мнение…”, но ее перебили:
– И почему она не смогла?
– Это личное. Дайте же мне дочитать! Это дополнительное мнение. Но если кто-то действительно интересуется, – на ее щеках появились милые ямочки, – можете потом спросить у нее.
– И спросим! – Капризный голос из зала не унимался. – И еще. Мы хотим знать, какой лично вы внесли вклад в сохранение тела?
– Ну, я могу, конечно, рассказать. Дело в том, что у клиентки всегда были прекрасные волосы – этого невероятного цвета.
– А вы-то тут при чем?
– Дело в том, что три года назад… Это же уже столько раз обсуждалось и даже хранится в деле в виде полного анализа и рекомендаций, которые, разумеется, постоянно пополняются… Тело испытало сильнейший стресс. И началось выпадение этих самых чудесных волос. С тех пор волосами занимаемся мы. Лечим. Стимулируем рост. Восстанавливаем яркость и блеск. И сейчас этим прекрасным волосам возвращен первоначальный вид. Думаю, три дня эту ситуацию не изменят, и после возвращения мы просто усилим процедуры питания. Конечно, в сочетании с диетой и возвращением к искусственно созданной среде. Вот, пожалуй, и все. Спасибо. – Проходя мимо столика председательницы, парикмахерша положила на край недочитанное письмо. – Надеюсь, это мнение вы тоже учтете, – и легко спустилась в зал.
– Сегодня среди нас присутствует представитель семьи, приглашающей нашу подопечную на праздник! И я хотела бы дать слово приглашающей стороне. Пожалуйста.
На сцену вышел мужчина в очках над крупным носом и бледными губами.
– Хочу отметить, что мне в первый раз приходится быть на таком собрании. И прежде всего – огромное спасибо всем, кто этим занимается, кто хранит красоту и для нас, и для всего человечества. Спасибо! – Он сделал что-то вроде поклона – его голова исчезла за трибуной и тут же, сверкнув лысиной, вынырнула опять. – Я занимаюсь наукой совсем в другой области, но вот относительно некоторых тут выступлений хочу общеизвестную в науке вещь сказать: из всех методов прогнозирования метод приложения тенденции на будущее – один из самых неэффективных!
Дантист и председательница улыбнулись.
– А что касается условий жизни в нашем доме. Наш лозунг – стремление к естественности. Мы за то, чтобы у наших гостей была яркая и интересная, реальная жизнь. И жизнь эту мы организуем квалифицированными руками. Ну, а относительно самого тела – хочется сказать по-человечески и искренне. – Он сосредоточился, глядя наверх, улыбнулся и заговорил тише: – Я увидел его впервые года четыре назад, а с тех пор – только фотографии. Но всегда надеялся на встречу. Сегодня, кстати сказать, в связи с этим советом, моя давняя мечта исполнится. Но я хочу поделиться тем своим первым чувством. – Он вздохнул, слова давались ему с большим трудом: – Вы часто работаете с такими лицами, а нам, простым смертным, редко приходится иметь такую вот возможность. Поэтому прошу вас разрешить нам эту возможность. Все будет так, как вы решите. Но не лишайте нас радости. – Он вытер испарину со лба и беспомощно посмотрел по сторонам.
Со своего места вскочил главный дантист.
– Видимо, друзья мои, пришло время, чтобы тело побывало в естественной среде обитания, поэтому так вот все складывается. А по поводу завтра – давайте решать проблемы по мере их поступления.
Мужчина в очках, воспользовавшись передышкой, набрал опять воздуха в легкие:
– А что касается соблюдения всех тех требований, которые вы выдвигаете, мы серьезно над этим работаем, подписаны технические условия. Вот сегодня мы познакомились с фирмой, которая будет заниматься транспортировкой. Благодарю вас за внимание.
Председательница ласково улыбнулась мужчине в очках. И даже потрясла кулачками в знак поддержки, но потом поняла, что в своих симпатиях зашла слишком далеко, и спрятала руки под стол. Глянула в папку и снова наклонилась к микрофону: – Я так понимаю, что все-таки необходимо дать высказаться специалистам, ведущим непосредственные, ежедневные наблюдения. Поэтому я прошу Клинический центр микрохирургии еще немного подождать. А всех выступающих представляться. Спасибо. А сейчас слово предоставляется терапевту, наблюдающему нашу подопечную практически с пеленок.
Из зала раздались шаркающие шаги, и к сцене подошла сгорбленная фигура. Терапевт поставил ногу на первую ступеньку, попытался перенести на нее вес своего тела, но качнулся, раскинув в стороны руки. Сидящие в первом ряду вскочили и, поддерживая его под локти, помогли подняться. По сцене он пошел уже сам и упал в объятия трибуны, вцепившись в ее боковины пальцами в артритных узлах.
– Дело все в том, что проблемы с сохранностью тела начались, когда клиентке исполнилось восемнадцать лет. Эти проблемы были, так сказать, скрытого характера, однако были хорошо известны ей и ее родителям. Кстати сказать, искренним, добрым людям. Но они, так сказать, не отдавали себе отчет в необыкновенной ценности этой особи и не очень-то заботились о сохранности. Общечеловеческая ее ценность была раскрыта для них гораздо позже. – Он вытянул из кармана скомканный носовой платок и вытер уголки высохшего рта. – Наверное, немногие знают, что, в общем, с того времени формально тело находилось дома, однако фактически оно находилось там, где за ним было удобнее всего наблюдать, – в клинической лаборатории, отстроенной при институте, в течение одиннадцати месяцев ежегодно. И только на один летний месяц оно переезжает в курортные зоны, под строжайшим наблюдением. Один раз в год! И все равно даже такая транспортировка сказывается, в общем, на ее состоянии. А потому передача ее даже на короткий срок в какой-то неизвестный дом – даже если и в специально созданную для этого зону – считаю невозможным! Тело покидало лабораторию в исключительных ситуациях.
Председательница попыталась мягко прервать терапевта жестом.
– Дайте мне закончить свою мысль.
– Эдак наше собрание грозит растянуться на годы!
– Ничего, думаю, что люди меня с удовольствием выслушают. Все знают, что сейчас, благодаря работе фотографов, которые научились работать со специальной аппаратурой, тело доступно миллионам людей. А личное его присутствие в мире совсем не обязательно. Это же не чудотворная икона, в конце концов!
Хлопнуло несколько кресел. Люди, сгорбившись, поползли к выходу.
– Ну-ка, вернитесь на свои места, – прошипела председательница. – И пока не примем решения, уйти никто не сможет! Сколько вам еще нужно времени?
– Думаю, минут восемь, не больше. – Терапевт склеил на лице подобие улыбки.
– Говорите, пожалуйста, по существу
– Я постараюсь. – Терапевт растерялся и заговорил удивительно быстро для своего возраста. В зале захихикали. – Извините, я никак не могу понять, почему кому-то недостаточно фотографий тела. Неужели трудно понять, что тело должно находиться под неусыпным наблюдением. А если кто-то считает, что фотографий и голограмм недостаточно, так нужно говорить об увеличении их количества.
– Простите, я вынуждена вас прервать!
– Нет уж, извините, я договорю. Это лучшее тело страны, изображение которого постоянно печатается в прессе!
– Все присутствующие здесь это знают! – Председательница топнула от нетерпения ногой.
– Наконец, – и это самое важное, – это изображение, которое экспортируется за рубеж! Как шедевр мирового содружества!
– С этим все согласны!
– Я знаю, что все согласны, но тем не менее вы хотите ее выдать! Вы знаете, что это такое? Это, извините, то же самое, что…
Терпению председательницы пришел конец:
– Присутствующие здесь представители Клинического центра микрохирургии расскажут, какие меры они предпримут, если случится что-либо непредвиденное.
– Вы извините, но, если бы мы были цивилизованной страной, министр здравоохранения, осмелившийся озвучить такое решение, на следующий день подал бы в отставку
– Я прошу вас.
– Вот теперь я действительно сказал все, и добавить мне нечего.
В зале раздались аплодисменты, старик с трудом дошел до своего места, ему помогли сесть.
– Прошу прощения, я хотел бы выступить!
– Да что же это такое, сегодня все норовят влезть вне очереди. Ну хорошо. А это, кто не знает, психоаналитик нашей клиентки. Человек, как и должно быть на его позиции, прозорливый и, я надеюсь, здраво рассуждающий.
– Дело в том, что недавно я наблюдал такой же, как здесь предлагается, выход одной из своих клиенток, так сказать, в жизнь! И хочу я вам сказать, особа вернулась к нам в тяжелом состоянии. Где-то почти около года приходила в себя, проходила так называемый реабилитационный курс и прочее. – Дантист и председательница зашептались, а психоаналитик продолжил: – Совершенно очевидно, что тело будет подвергнуто огромному риску, несмотря ни на какие меры предосторожности. И вообще я не очень понимаю, зачем нам эти дорогостоящие игры, а? Кто-нибудь считал, сколько будет этот выезд стоить?! А ведь кто мешает сделать, например, съемку из дома? А? Более того, я бы сказал, что совету надо подумать о том, чтобы организовать постоянную съемку тела. Но, конечно, не беспокоя его лишний раз. Это возможно. И это разумно. А что касается данной акции – я полностью согласен с мнением терапевта – и категорически против передачи.
Зазвучали возгласы поддержки. Председательнице пришлось напрячь голосовые связки, чтобы их перекричать.
– Благодарю вас! Я полагаю, что все-таки мы сейчас предоставим слово Клиническому центру микрохирургии, чтобы они…
Дальше было видно только, как открывается ее рот, – звук поглощался возмущенным шумом зала. Внезапно в нем пробил брешь писк:
– Можно маленькую реплику с места? Я массирую это тело уже на протяжении восьми лет и просто хочу сказать, что ежегодно на день рождения мужа тело перемещается в сад при доме, где ему обеспечены все условия. Тело очень бережно переносится туда, за всем наблюдают специалисты. Я просто хочу проинформировать. Это происходит все восемь лет. Можно узнать последствия этих перемещений?
– Спасибо, – прозвучал металлический голос председательницы. – Я отвечу вам так. Я бы, может, согласилась со всеми, кто тут выступает против перемещения, если бы, проработав в этой области уже двадцать восемь лет, я не принимала уж не знаю какое количество раз участие в организации и транспортировке тела за рубеж. Эти поездки тоже ведь каждый раз обсуждались советом. А выдать тело за три моря – опаснее, чем выдать его на одно празднование. И еще позволю вам напомнить, что тело было создано для этого мира и мы не должны об этом забывать. А во всех выступлениях звучит одинаковый пафос и одинаковая боль, как будто мы выдаем ее навсегда. Это не так.
Из зала на сцену выбежал мужчина с ярко-голубыми глазами. Председательница устало показала рукой на микрофон.
– Пожалуйста, представьтесь.
– Я невропатолог особы, перемещение которой мы здесь все обсуждаем. Вопрос этот, конечно, многоаспектный и вместе с тем совершенно непонятный. Во-первых, почему это вдруг понадобилось выдавать тело на празднование в чей-то неизвестный дом? Зачем? Мы что, пытаемся установить новую традицию? Теперь это будет совершаться каждый год, каждые десять лет и так далее? Нам на это ответ не дан. Сегодня на нас всех лежит ответственность. На всех. И на вас лично, госпожа председатель.
– И я вполне эту ответственность сознаю.
– И решение вы будете подписывать первая. И все члены совета. Но кто даст гарантии? Вы не можете их дать! Вот скажите, сейчас в этом зале есть человек, который ответственно поднимет руку и скажет: “Гарантирую стопроцентную сохранность тела”? Есть такой здесь человек? Если его нету, надо признать, что такой гарантии никто дать не может! Всё. Спасибо за внимание.
Аплодисменты взбодрили зал, а председательница просипела:
– Благодарю вас, но ни о какой “новой традиции” речи не идет. Проходите побыстрее, не заставляйте ждать! – Это уже предназначалось женщине, в нерешительности топтавшейся у сцены.
– Здравствуйте, я офтальмолог и в недалеком прошлом курировала проведенную в швейцарской клинике операцию на глаза. Господин психоаналитик не зря вспомнил историю о тяжелой реабилитации. А ведь там тоже были приняты все возможные меры предосторожности. Но тем не менее тело вернулось в ужасном состоянии. Да и сейчас состояние сохранности, которое нам было показано на экране, вызывает большие опасения. Поэтому, мне кажется, все-таки нам лучше сделать все, чтобы тело не претерпевало никаких изменений, а это возможно только в том случае, если никаких передвижений не будет. Давайте не будем рисковать и сводить на нет все наши достижения.
В зале во втором ряду поднялся человек и начал что-то энергично говорить. Председательница, повернувшись к нему, сказала:
– Дайте ему микрофон, если он хочет сказать с места. Иначе его речь не будет записана. Я прошу вас, говорите в микрофон!
– Господа, зачем обязательно видеть перед собой реальное тело, разрушая его таким образом? Почему нельзя любоваться образом в душе?! Просто вспомнить и порадоваться! К чему нужно это паломничество, если кроме вреда оно ничего не принесет? Это все-таки наше достояние, достояние всего народа. Тело привыкло к режиму, который нельзя нарушать. Если оно переместится туда на три дня, что это даст присутствующим там? Ничего. А символ красоты мы можем навсегда утратить. Нам рисковать нельзя.
– Благодарю вас. Пожалуйста, кто еще хотел бы выступить?
Дантист опять занял микрофон,
– Та самая морщинка, о которой здесь говорили, может быть дополнительно зафиксирована. Тело предполагается перевозить в капсуле, в которой оно сейчас содержится. И все риски таким образом будут минимизированы. Нам просто нужно оговорить все условия, чтобы сохранить запас прочности.
– Я благодарю вас, потому что, пожалуй, это было первое конструктивное выступление, – председательница потерла ручки. – Сказать “нет, нельзя” легко, но не в этом состоит наша социальная ответственность. Поэтому я прошу сотрудников Клинического центра микрохирургии дать нам свое видение проблемы. Давайте двигаться по регламенту.
Руку подняла худая старушка.
– Вы знаете, я хотела бы все-таки выступить до хирургов. Я с места.
– Пожалуйста, пожалуйста, мы всегда рады вашему мнению.
Старушка кивнула.
– На протяжении трех лет я занималась с телом постановкой речи. И молчать я не могу! Меня поражает сегодняшнее заседание. Мы же не просто так несколько лет назад приняли решение о том, что тело переходит в усиленный режим сохранения и ухода, – так почему же сейчас мы опровергаем сами себя? Да, действительно, тело изначально было создано для того, чтобы своей красотой радовать мир. Но оно попало к нам на попечительство и находится сейчас не совсем в том виде, в каком оно было до. И мы все это прекрасно знаем. Первоначальная красота – вернее, то, что от нее осталось, – подвергается возрастным изменениям. И мы, все здесь присутствующие, понимаем, что теперь у тела есть такие проблемы, которые в ближайшее время технически восстановить сложно! Нам поручили национальное достояние! Мы все за него в ответе. И вместе с тем некоторые уже готовы дать разрешение на перемещение – пусть на три дня, – на переезд и использование. Мне представляется, что это… Я скажу сейчас грубо: это должностное преступление. Мы не должны его совершать. Мы все за это ответим. У меня всё.
– Благодарю вас, – сухо кивнула старушке председательница. – Поскольку здесь прозвучали очень серьезные обвинения, я хотела бы сказать: то, что происходит сегодня, – это просто неуважение к населению нашей страны. Я понимаю, что легче всего обвинить всех в должностном преступлении, легче всего все освистать, захлопать и запретить. Но, вы знаете, мы все-таки в двадцать первом веке живем, и сейчас действительно можно сделать многое для того, чтобы жизнь человека и его передвижения были безопасны. Я говорю это, основываясь на колоссальном опыте. Вижу, что начальник службы безопасности хочет что-то добавить.
– Дорогие дамы и господа! Охрана была информирована о том, что мы должны обеспечить безопасный переезд и контролирование тела на чужой территории. Ни о каких трех днях и речи не шло. И еще было подчеркнуто, что это приказ и что мы должны обеспечить полную безопасность при перемещении, но на какое время – мы не знаем. А приказ есть приказ, и мы его обязаны исполнить.
В зале загалдели, а председательница шлепнула ладонью по столу.
– Какое грубейшее искажение фактов! Я не говорила о том, что поступил приказ. Я говорила о том, что есть возможность выдачи тела на празднование, поэтому давайте все-таки мы будем придерживаться истины, а не перекраивать чужие слова.
– Ну, во-первых, здесь присутствующие могут подтвердить мои слова. А во-вторых, кто из вас лично читал письмо-приглашение? Можно попросить сейчас нашего председателя рассказать, что письма как такового нет, а просто поступила устная просьба о передаче! Но, что интересно, срок передачи там тоже не был упомянут. – Он повернулся к председательнице: – На этот раз я ничего не исказил?
– Нет! – рявкнула та, подошла к трибуне и повернула микрофон к себе. – Здесь следует все-таки пояснить, что в таких случаях мы ее никогда и никому не передавали на ответственное хранение. И ровно такая же схема предполагается и здесь. То есть мы никому ничего не передаем. Приезжают наши сотрудники, приезжает служба безопасности, дежурит там постоянно. Это тоже важно понимать. Мне очень жаль, что начальник службы безопасности, столько лет проработав, не удосужился вот это у меня узнать. Я бы ему объяснила.
Невысокий плотный человек закричал что-то с места.
– Пожалуйста, только в микрофон.
– Тогда совсем непонятно, почему же нас всех собрали сегодня? Когда все уже решено! Тем более понимая, что мы все против. – Коротышка вскочил из зала и устрашающе тряс рукой.
– Прекрасно! – Председательница с трудом сдерживалась, чтобы не закричать. – Вы помните, что все выступления записываются для того, чтобы потом была ясность в позиции каждого? Может быть, тогда на этом разойдемся?
– Да. И потому, что все сегодня записывается – вот вам еще одна небольшая ремарка. Есть в мировой юриспруденции понятие преступного закона. И лица, склоняющие нас к принятию преступного решения, должны помнить, что при неудачном раскладе скандал неминуем, и они окажутся крайними! И я советовал бы им задуматься. – Коротышка сел, но руку не опустил.
– Только не нужно мне угрожать!
– Можно мне на минутку? – Молодая особа с родинкой на щеке и ломающимся голосом. – Я работаю здесь сравнительно недавно. А до этого работала у певицы с мировым именем и хочу вспомнить случай, когда мы по просьбе мэра вывезли ее однажды с огромным количеством охраны, предварительно подготовив, на празднование чего-то в городе. Там был некий человек, который всем этим руководил, я забыла его должность. Я сказала ему, что нужно как-то усилить охрану, потому что толпа может броситься в ажитации, – а там, разумеется, было очень много народу, и это было страшно. И действительно, в конце концов бросились, и никакие охранники защитить ее не могли. Чуть не затоптали. Просто случай спас! Но пострадала она сильно!
– Прошу прощения! – Это уже кричал сосед молодой девушки с родинкой. – Я тоже хочу добавить! По сути, вопрос один: можно ли обеспечить сохранность тела? И тут как раз все единодушны: тело пострадает!
– А я совершенно уверена в обратном! – Председательница не сдавалась. – Это очень культурное место, и там тоже все прекрасно понимают, какова ставка! И я не вижу принципиальной разницы в том, кто именно будет осуществлять уход!
– Да разница огромная! Мы изначально по роду своей деятельности ориентированы на сохранение, в то время как вы настаиваете на разрушении!
В зале зааплодировали. К трибуне подошел мужчина с длинными волосами, зачесанными на прямой пробор. В руке он держал трость с набалдашником в виде собачьей головы, постучал по микрофону и хитро посмотрел на председательницу.
– Здравствуйте, господа. Я возглавляю IT-компанию тела. Я хочу поговорить о статусе. Да, да, тело сейчас уже статусная вещь, мы почти добились его святости! А нам тут предлагают превратить его в луна-парк! Но именно благодаря недостижимости в народе растет ощущение святости, тогда как доступность все перечеркнет. Тело никуда перемещать нельзя. Никакими способами. Ни в каких специальных условиях. Наша задача – не только сохранить эту уникальную красоту, но и сохранить ее священную недоступность! И делать это прежде всего именно для народа. Спасибо.
Председательница еле сдерживала гнев.
– Дадим наконец слово Центру микрохирургии!
К микрофону поднялся большой человек, похожий на быка.
– Наверное, все вы сейчас смотрите на меня и думаете: так это и есть тот самый наглец, который всем гарантирует вечную молодость? Да, мы можем похвастаться большими достижениями, особенно в последние годы. Но никогда и никому вечной молодости я не гарантировал. Не люблю смешить бога, знаете ли. А все потому, что жизнь, как вы все, вероятно, успели испытать на своих шкурах… – Дантист на это поморщился, а человекобык продолжил: – Вещь непредсказуемая! Могу сказать – вот никто из сотрудников не даст соврать, – стоишь, бывало, со скальпелем в руках и думаешь: все мы – расходный материал истории, а вот это – красота. Наши жизни – ничто по сравнению с этим совершенством. И это понимание, это чувство нас никогда не покидает, и свою работу мы стараемся выполнять, всегда опираясь на это понимание. – Он вздохнул, будто сбросил тяжелый груз. – А что касается гарантий – нет, конечно. Как мы можем? Другое дело, что никто не даст гарантии. Поэтому ваши сомнения нам понятны. Более того, они и у нас имеются. Естественно. – Зал переваривал услышанное. Председательница застыла, не подготовленная к такому повороту событий. Человекобык пожал плечами. – Я, конечно, мог бы здесь провести развернутую лекцию по поводу наших инноваций и революционных методов, но и мы не всемогущи. – В зале кто-то свистнул, а представитель Клинического центра микрохирургии слепо поморгал в черную глубину. – Что вы думаете? Как все было-то? Вот вызвал нас три года назад генеральный и говорит: вы занимаетесь разработкой нестандартных пластических операций, так? Сделайте, говорит, разработайте такую вот операцию для восстановления. Ну, мы обсудили и решили, что браться за такую работу – великая наглость. Мы не являемся специалистами в области молекулярной биологии или нанотехнологий. Это же все уже на стыке наук! Так и заявили. Но нам сказали: вы что, ребята? Операция должна быть разработана через четыре месяца. И мы, поймите нас правильно, мы – люди подчиненные. Напряглись. И за эти несчастные четыре месяца операцию придумали. Экспериментировали день и ночь. Но сделали. А что касается ваших опасений, я их полностью и целиком разделяю. И брать на себя ответственность, чтобы стопроцентно сказать, что мы ее вернем в прежние параметры, что бы ни случилось, – мы не будем. А решение – выдавать, не выдавать – это, сами понимаете, не наш вопрос. Я бы даже сказал, это вопрос политический.
Аплодисменты взорвали зал, искренняя речь человека-быка волновала. Люди переговаривались, кто-то даже встал, и только председательница сидела с равнодушным лицом.
– Есть ли еще желающие выступить? Да, пожалуйста. Вот, вам несут микрофон.
Небритый человек с шарфом на шее кивнул:
– Я думаю, всем присутствующим понятно, что мнение нашего профессионального сообщества консолидированно и в целом однозначно. И нужно созвать какой-нибудь круглый стол с приглашением ведущих массмедиа, с приглашением церкви, с приглашением экспертов и тех же журналистов и ответить открыто и публично на все эти вопросы. Мне представляется этот момент чрезвычайно серьезным. Спасибо за внимание.
Небритого перебил чей-то крик:
– Лучшего хранения, чем сейчас, найти невозможно! И нечего больше воду в ступе толочь! Сохранить! Вот наш главный тезис!
Небритый кивнул.
– А я предлагаю завершить совет принятием решения, запротоколировать его, так сказать. Так и написать: “Члены расширенного совета считают невозможным поездку тела на празднование Нового года и поручают председателю совета довести это мнение до сведения народа и начальства!”
В зале все заговорили одновременно. Председательница с мольбой повернулась к дантисту, тот встал, неторопливо подошел к трибуне, отодвинул небритого, широко улыбнулся в зал.
– Я тоже со всеми согласен. Все выступления были профессиональны, точны и безапелляционны. Но как же вы, господа, не поймете? Ей-богу! Это же проще пареной репы. Если вы за это проголосуете, – он выдержал эффектную паузу, – это автоматически означает, что она уйдет вообще! – Тут воцарилась тишина. Лицо дантиста выражало скорбь. – Уйдет навсегда! И это совершенно точно.
Кто-то начал кричать, на него зашикали, и зал стих. Все затравленно смотрели на дантиста. Он поправил платок в кармане пиджака.
– Мы должны сегодня принять меры, которые гарантируют сохранность. Первое, – в зале опять зашумели. – Подождите! Первое – Клинический центр микрохирургии, который, несмотря на собственную скромность, действительно разработал уникальную операцию, и эта уникальная технология, и есть гарантия. Второе – все тщательно продумав, мы вполне можем обеспечить сохранность тела и в дороге, и в гостях. Мы же перевозим тело в капсуле… Ну перестаньте же перебивать! Я же вас не перебивал. Перестаньте! Я имею право так говорить, потому что я вас всех выслушал. Я со всеми согласен, но подумайте о том, о чем я сказал. И третье – мы обязаны осмотреть всю дорогу от дома до места празднования Нового года и посмотреть, нет ли там каких-то опасных моментов. Если они есть – оперативно их устранить. Или исправить всю эту дорогу. Мы уже думали о том, как все это проделать. Но вы кричите – нет! Ничего не готовы принять! И если вы за то, чтобы она ушла, – голосуйте сегодня против.
Председательница добавила:
– Голосуйте, голосуйте.
В зале поднялся невероятный шум. Многие застучали ногами по полу. Среди реплик ясно прозвучала одна:
– Если решение все равно будете принимать вы, то почему вы всех нас пригласили?
Дантист откинул голову назад и тряхнул волосами.
– Я готов пойти под суд! Я этого не боюсь. Опыт говорит о том, что я прав! А вы просто плохо знаете, что происходит!
– И не хотите знать, – поддакнула председательница.
Но дантист не нуждался в ее поддержке.
– Я думаю, что теперь уже высказались все. Предложения прозвучали: одно – голосовать за, второе – против. Какие будут…
В зале опять зашумели. Председательца нахмурила брови.
– Мы собрались сегодня здесь, потому что надеялись вместе с вами рассмотреть предложения, но большинство даже не захотели их выслушать. И сейчас, чтобы прекратить эту безобразную свалку, до которой мы все равно докатились, прошу всех сесть на свои места. Выключите, пожалуйста, весь свет!
В зале стало абсолютно темно, только пунктиром светилась подсветка в проходе. Где-то включился мотор, легко тряхнуло пол, задник сцены раздвинулся, открывая яркий проем, и вместе со светом в зал по вмонтированной в потолок монорельсе вползла огромная капсула. Прозрачная, она сияла лиловым, и в ней, в состоянии относительного покоя, раскинув руки и согнутые в коленях ноги, парила женщина. По шевелению волос было понятно, что тело находится в жидкости. Глаза женщины были закрыты, никаких трубок, обеспечивающих ее дыхание, видно не было, но при этом было совершенно очевидно, что она жива. Белая кожа сияла нежным румянцем, полны и свежи губы, казалось, она может проснуться в любую минуту, но женщина продолжала безмятежно спать. Женщина была настолько совершенна, что казалась искусственной. Капсула поворачивалась вокруг своей оси, и каждый сидящий в зале мог подробно ее рассмотреть. В зале стояла полная тишина, никто не смел шевелиться. Капсула так же медленно въехала обратно, задник закрылся, через несколько секунд затих невидимый мотор и в зале включили свет. Все сидели растерянные, будто сначала им раздали подарки, но тут же отобрали, так и не дав полюбоваться. Председательница встала и, довольная произведенным эффектом, медленно произнесла:
– Я вам честно скажу, если будет принято то решение, на котором вы все настаиваете, я уйду в отставку и говорю об этом совершенно спокойно. Поймите, мы здесь не для того, чтобы заниматься кликушеством, орать: нет, нет, нет! Мы здесь для того, чтобы найти решение.
– Сколько вам за это обещали? – спросили с галерки.
– Прекратите, наконец! – председательница устало подняла к глазам свои записи. – Конструктивных предложений здесь было два, больше пока не было. И оттого, что вы все сейчас начнете что есть силы повторять “сахар, сахар, сахар” – слаще жизнь от этого не станет, уверяю вас. А вот если вы хотите в один прекрасный день тело здесь не застать, вот тогда…
Дантист решительно подхватил:
– А я вам обещаю, что доведу до сведения правительства весь наш разговор. Но еще раз говорю: подписывать приговор себе и ей не стоит!
– Конечно! – Председательница улыбнулась. – Все идет под запись! И, естественно, все получат распечатки. Все под ними распишутся. И кто угодно может с ними при желании ознакомиться.
– Голосовать против – нельзя, я вас уверяю. Давайте лучше отложим. Это не последняя встреча. Я думаю, мы в конце концов придем к разумному решению. А на сегодня давайте закончим.
– Да, да! Давайте заканчивать.
– Тогда нужно, чтобы распечатки получили все присутствующие! А не каста приближенных.
– Приближенных к чему?
– Вы сами знаете к чему!
– Прекратите! Да как вы смеете! Вот увидите, если я уйду, в каком бардаке вы здесь останетесь!
– Незаменимые управляющие существуют только в диктатурах.
– Да как вы…
От этих криков я и проснулась. Часы показывали ii: 11. Из окна было слышно улицу – шум автомобильных моторов, орущих детей и сирену скорой помощи. Зазвонил телефон, и я чуть не свалилась с кровати, пока искала его в складках простыней. Подруга начала энергично:
– Ну че? Ты где?
– Мне сон приснился. Знаешь, такие сны бывают, четкие, реальные, полные деталей и всяких подробностей. Засасывают тебя с головой, а потом ты долгое время не понимаешь, где правда, а где сон.
– Ну, и о чем сон?
– Там было такое собрание, на котором сумасшедшие врачи обсуждают сохранность моего тела. Что с ним делать дальше, чтобы оно не старело.
– Ничего себе!
– Просто чуть не до драки дошли все эти хирурги и дантисты.
– А ты что?
– Начали без меня.
– А потом?
– Потом меня вывезли. В такой штуке. Как в Кунсткамере.
– В колбе?
– Ну типа. В физрастворе, что ли.
– В формалине? – Подруга засмеялась, повизгивая.
– Не знаю. Я как эмбрион такой, в жидкости сплю. Во взвешенном состоянии.
– Да ты что?!
– Плаваю там – а они на меня смотрят. Такая бледная, и волосы как водоросли. А лицо спокойное-спокойное.
– Поздравляю! Это ты на новый уровень вышла!
– Чего?
– Вся эзотерика об этом талдычит: если ты себя во сне увидела – значит, ты на другой уровень развития перешла. Лежи, переваривай, поздравляю. Позже меня набери.
Я свесила ноги с кровати, потянулась. Прошла в ванную. Расчесала волосы. Вода в душе долго не нагревалась, потом вдруг несколько раз прыснула горячим, пока не выровнялась. Я мылась и прислушивалась к себе: как должен чувствовать себя человек, вышедший на новый уровень? Что в нем должно измениться? Где конкретно и как? На завтрак съела яйцо с хлебом. Выпила зеленого чая. Долго переодевалась. Волосы затянула в узел.
Собрала вещи, проверила, на месте ли телефон, кошелек и ключи, вышла в прихожую. Пальто все еще валялось на стуле при входе, чего это я не повесила его на место? Захотелось надеть туфли на каблуке. Это бывает редко, но сегодня вдруг захотелось. Когда открыла дверь, с полки слетел лист бумаги и въехал мне под ноги. Там крупным почерком было написано:
В расширенный совет
От специалиста по маникюру и педикюру
В связи с тем, что по весьма уважительным причинам я не могу присутствовать на сегодняшнем заседании, передаю свое мнение о возможности разрешения телу праздновать Новый год вне лаборатории.
При условии, что это не повредит его сохранности и будет гарантировано его своевременное возвращение.
С уважением к коллегам, ведущий научный сотрудник
Дальше шла неразборчивая подпись, а в скобках – имя и фамилия.
Пусть все будет так, как ты захочешь
Она опять пытается заснуть. Делает ровно то, что советовала Нэлли. Закрывает глаза. Расслабляется. Представляет пещеру в высоком склоне. И себя в ней. Глиняные своды, теплые на ощупь, от них на пальцах рыжая пыль. Травяной матрас глубоко в нише. В жаровне погас огонь, но по углям еще бегают искры. Пахнет хлебом, жженым сахаром и вишневой смолой. Если выглянуть наружу, внизу – море, слышно, как хлюпает о лодки вода. На одной из них человек, похожий на отца. Стоит и смотрит вверх, наверное, ищет ее. Под ним такая глубина – построй на дне огромный дом, не будет видно крыши. Можно прыгнуть, но скорее всего убьешься. Она помнит, в детстве вытащили на берег неживого мальчика с синим боком и хриплый голос заорал: “Об воду убился!”
Об эту мягкую воду? Отец тогда объяснил, что, если прыгнуть в воду с высоты, можно разбиться вдребезги. Потому что у воды есть сопротивление. Сопротивление.
А у нее – нет. Отец. Опять стало неприятно – она кривит губу. Отец ее не любит. Он ей все запрещает, говорит, ей можно воспользоваться. Просит, чтобы она прежде, чем что-то сделать, советовалась с ним. А она, когда советовалась, всегда получала отказ. А сегодня она такая счастливая, потому что сделала, как нужно ей. А не как хочет отец.
Совсем не получается уснуть. Хотя всю предыдущую ночь не спала. Стены плывут по кругу. И еще тошнит. Это от пунша и всякого другого, что пили вечером. Но это так здорово! Она в Гамбурге. Она не одна. Она с мужчиной. Они удивительно проводят время. Он ей нравится, с ним очень смешно, и ночью он делал ей приятное. Теперь он ушел работать, и она должна поспать. Пещера не помогает. Он такой добрый. Он сделал ей утром кофе с амаретто – и опять было радостно. А еще поцеловал ее ногу, она торчала из-под одеяла. И фотографировал ее утром, потому что такую красивую девочку он еще не видел. Расправлял по подушке ее длинные волосы и хохотал, собираясь, потому что не мог попасть в брючину. И, уже совсем одетый, в пальто и в перчатках, вернулся от дверей, поцеловал в губы и, щуря голубые глаза, прошептал на ухо время и место, где будет ее ждать.
Итак, нужно заснуть. Моя пещера в песчаном склоне. В ней сейчас пахнет мороженым и цветами шиповника. Здесь мне бы уснуть. Успокоиться и уснуть. Этому научила Нэлли. А Нэлли – умная. После того как Бог забрал к себе мать, Нэлли помогала во всем разобраться. Отец водил ее к Нэлли два раза в неделю. А сейчас действительно нужно поспать. Просто представить сыпучие своды и плотнее свернуться. И все. И слушать шум моря. Нэлли, раньше это помогало. А сейчас нет.
Она валяется еще немного, встает и ходит по кругу, пока не устает. Нужно причесаться, но у нее нет расчески. Она выпивает всю воду из бутылки, что осталась с вечера. Хочется нарядиться, но приходится надеть то же, что и вчера. Жалко, что юбка помялась, а на шарфе пятно. В ванной перед зеркалом душно. Нужно стереть черное под глазами, но это так красиво и так по-взрослому, лучше оставить как есть.
Она теперь совсем другая и теперь будет жить по-другому. Уедет от отца, начнет курить, будет говорить сиплым голосом и никогда больше не будет ходить к Нэлли. У нее будет дом, свой собственный дом, и там она будет делать все, что захочет. Там всегда будет весело, там она будет пить горячий пунш, и танцевать с мужчинами, и хохотать, как вчера. И еще у нее будет белая кошечка, и они с ней будут разговаривать, пока их никто не видит. Но главное, что Нэлли скажет, – не нужно ко мне приходить. И отец никогда не будет сердиться и запирать ее. Она будет дружить с людьми, которые были вчера, и никто не будет на нее так смотреть. И не нужно будет ничего объяснять, только хохотать.
Она смотрит на часы – через два часа он будет ждать ее у ратуши. Скорее, скорее, еще столько всего нужно успеть. Невозможно разодрать волосы руками, они сбились в узлы и никак не хотят распутаться. Глупые волосы, как вы надоели. Так она еще и опоздает из-за этих дурацких волос. С ними нужно разобраться. Раз и навсегда. Идет в кухню, в металлической подставке, где стоит всякая всячина – ножи, половник, деревянные лопатки, – находит большие ножницы с черными овальными ручками и возвращается в ванную. Прядь за прядью стрижет путаную массу. Даже не пытается выровнять короткий ершик. Нюхает все баночки на узкой полке, то, что понравилось, растирает в ладонях и мажет на голову.
Обрезанные волосы аккуратно раскладывает на подушке – ему так нравилось, как они на ней лежали. В них уже нет того блеска, и выглядят они путано, но это все равно его порадует. В шкафчике за зеркалом находит яркую помаду. Мажет губы. Щурится, как это делала мать, и этой же помадой мажет щеки. Теперь красиво, она довольна.
Вот так началась ее настоящая жизнь. Ее настоящая взрослая жизнь.
Она идет к ратушной площади, не теряя из виду шпиль собора. Идти неудобно, между ног натерто и неприятно жжет. По прямой никак не пройти, нужно обойти озеро. В центре, на понтоне – огромная елка без игрушек, на верхушке вместо звезды торчит светящийся крест. Он не похож на украшение – он похож на крест с маминой могилы.
В стоячей воде, между крошкой мелкого льда, теснятся льдины. Раздвигая их носом, идет туристический катер. На длинном пирсе – очередь.
Обогнув торговый центр, она выходит на площадь. За деревянными воротами множество расписных палаток – это рождественская ярмарка. Пахнет жареным мясом и горячим вином. В яркие кружки разливают глинтвейн, пунш и грог, тут же продают жареные сосиски, грибы в сметане, квашеную капусту и запеченную в фольге картошку. Горелками плавят сыр, пекут блины, вертят на решетках сосиски. Дальше витрины с имбирными пряниками, горячими пончиками, марципанами, шоколадом, за ними ряды елочных игрушек, колокольчиков, деревянных шкатулок, открыток, вязаных шапок, носков, украшений, сырных досок и всего того, что можно дарить друг другу в Рождество.
Играет музыка, вертится карусель, и так же весело, как было вчера. Люди улыбаются, и никто на нее не обращает внимания. Часы бьют ровно два, святые на ратушной башне едут по кругу. Автобус выпускает компанию туристов, и она на секунду теряется среди этих огромных людей в теплых шапках. Они говорят на неизвестном языке, машут большими ладонями и ходят, широко расставляя ноги в ботинках со шнуровкой на крючках. Вот они, склоняя головы в проеме, входят в павильон елочных игрушек, и она пугается за хрупкое стекло. В другой раз она бы вмешалась, но сейчас ей не до них. Она бежит к ратуше. Скорее, скорее. И вот она уже стоит где нужно, у больших деревянных дверей. На ней короткое пальто не по сезону, и куда-то затерялись перчатки. Карманы неглубокие – “для фасона”, как говорит Нэлли. Хлопья снега падают на лицо и тают, она слизывает с губ воду, а та сладкая. Среди проходящих ищет его лицо, но не находит. Как обидно, ей ведь холодно в этом летнем пальто. Чтобы согреться, она начинает танцевать. И все неумолимо портится. На нее смотрят не так, как раньше. Показывают пальцем, и кто-то нехорошо смеется.
А потом становится совсем плохо. Подъезжает машина, и ее окружают мужчины в форме. Кричат на немецком, потом на плохом английском, и все равно понять их невозможно. Она чувствует себя разбухшей от снега и усталости. Они потрошат ее сумку и машут перед ней чем-то, что вынули оттуда. А она все высматривает из-за них, чтобы не пропустить его, и на нее оглядываются те огромные люди. Мужчины в форме подталкивают ее к машине, но она не собирается уходить. Она ждет. Один тянет ее за руку, тянет больно, и она начинает танцевать яростно, чтобы всем стало понятно, что она против и никуда не пойдет. Тогда ее хватают двое и несут, а она визжит и машет ногами. Чем сильнее она вырывается, тем больнее ей крутят руки. В машине пахнет железом и едой. Везут куда-то далеко и оставляют на полу в комнате. Потом фотографируют, пачкают руки черной краской, прижимают пальцы к листам бумаги, женщина в резиновых перчатках вонючей жидкостью из бутылки смывает черное с рук. Все это очень и очень гадко.
Она морщится, перчатки пахнут ужасно, смывка тоже, женщина в перчатках злится. Потом ее спрашивают одно и то же, но она не отвечает, дышит в кулаки, потому что от смывки пересохли руки и бегут по спине мурашки. А странные люди, недовольные ею, орут и требуют написать что-то на разлинованной бумаге. Но это невозможно, так как слишком сухие пальцы и к тому же неправильная ручка. А потом кто-то толкает ее в плечо, и у нее начинается это. То, что они чаще всего разбирали с Нэлли, и то, что давным-давно не случалось. Она бьется о стол, о стены, о стулья, бьется сильно, с воем, чем попало. Только чтобы закончить все это. Чтобы этого больше не было. Откуда берется эта сила, она не знает, ее с трудом волокут по коридору несколько человек. Она кричит, в ней накопилось то, что никак не удержать внутри. И так много этого накопилось и так долго там сдерживалось, что потребовался выход. Нэлли учила ее выводить эту силу по-другому, но сейчас ей не до того, а еще она замерзла и устала, и они увезли ее от него. И теперь он не найдет ее у ратуши. Значит, ей нужно туда, и как можно быстрее, а для этого нужно очень постараться. Она кусает чью-то руку на своем запястье, и тогда ей делают укол.
Просыпается она совсем в другом месте, вокруг все белое-белое. На стуле у кровати спит отец. Голова закинута назад, рот открыт, так он похож на старика. Она пытается поднять руку, но руки ремнями пристегнуты к кровати.
– Какого черта!
Отец просыпается.
– Нэлли была права.
Она закрывает глаза, но отец все равно говорит. Ему нужно это сказать. А ей совсем не хочется это слышать. Но уши заткнуть нельзя.
– Я не хотел таблеток. Но Нэлли была права.
У него голос детский и невзаправдашний. И еще в его голосе есть страх. Никогда она раньше такого не слышала.
– Но сейчас мы все исправим. Все будет хорошо, вот увидишь. Сейчас тебе помогут. И все будет хорошо. Нэлли права. Она абсолютно права. Здесь все исправят.
Нэлли. Значит, все это они устроили вместе с Нэлли. Забрали у нее праздник и отправили сюда. Огромная Нэлли, в толстенных юбках из тряпок, которыми обивают кресла. Сама как диван, который поставили на попа. Один раз из-под юбки показались ее ноги в огромных черных ботинках. Она никогда не видела, чтобы Нэлли стояла или шла. Нэлли принимала пациентов сидя. Такой она ее и знала с тех самых пор, как впервые увидела. Мама тогда была еще жива. Уже лежала в клинике, но была еще жива. А ей тогда исполнилось двенадцать, и отец на день рождения подарил ей мобильный телефон. С телефона все и началось.
Наверное, через месяц раздался звонок, и она, смущаясь от неожиданного вторжения, робко отозвалась. В трубке нечисто, с помехами звучала музыка. Никто ничего не говорил – просто долго-долго, пока она не нажала кнопку отбоя, играла музыка. Она не поняла тогда, что это было, – решила, что это ошибка и просто где-то что-то не соединилось. Тогда она забыла про звонок, и забыла бы про него навсегда, если бы через два дня все не повторилось. Тогда она заволновалась и спросила несколько раз: “Кто это?” Трубка молчала, вернее нет, она отвечала все той же безликой музыкой. И так повторялось довольно часто. Один раз она услышала в трубке вместе с музыкой чье-то дыхание. И тогда ей стало страшно. По-настоящему страшно. Чудовищно страшно. С тех пор она боялась этих звонков. И скоро боялась уже всех звонков. Не могла притронуться к телефону и не могла рассказать отцу. И однажды во время такого звонка ей стало плохо, в ней родилась эта звериная стонущая сила, которая вырвалась из нее способом ужасным и диким. Так она попала к Нэлли.
Потом, уже после маминой смерти, кажется, даже на поминках, кто-то рассказал, что это мать звонила ей из клиники, хотела ее музыкой поддержать. Действительно, звонки прекратились.
А похороны и поминки были совсем некрасивым зрелищем. Хоронили маму в закрытом гробу. Так как труп сильно пострадал. Восьмой этаж, это высоко.
Потом дети ее спросили во дворе – и она ответила, как говорил отец, – что маму к себе на небо забрал Бог, а один пухлогубый мальчик спросил, сдерживая хохот: “Что? Забрал, а потом сбросил?” И все смеялись. Даже девочки. А она убежала домой и больше уже никуда не выходила. После школы сидела дома, а потом и вовсе перешла на домашнее обучение. После этого у Нэлли она стала бывать чаще, два раза в неделю – во вторник и в четверг.
Она открывает глаза.
– Как ты? – к ней наклоняется отец.
– Мне нужен мой крем для рук.
Отец надевает очки, и черные круги под глазами исчезают.
– Скажи, – он кашляет, так есть время подобрать слова. – Как он тебя заставил? Ну как?
Заглядывает в глаза, словно ищет запрятанную там правду, и от этого становится очень и очень больно.
– Никто меня не заставлял!
– Как он тебя уговорил?
– Никак.
Она поворачивается на бок, лицом к стене. Сейчас она говорить не будет. Даже если придет хромая Нэлли в своих ботинках-гигантах, и даже если отец закричит и все полицейские мира начнут выкручивать ей руки.
Но он не кричит.
– По всему интернету – твои обнаженные фотографии. Все только об этом и говорят. У тебя в сумке был кокаин. Много кокаина. Как ты понимаешь, для меня это конец. Но я не понимаю одного: как он сумел тебя заставить это сделать. Уехать и вообще. Он же использовал тебя. Понимаешь? Он все это сделал, чтобы уничтожить меня.
Она закрывает глаза и представляет себя в песчаной пещерке, маленькой и сухой, потом представляет, что в руках у нее что-то очень тяжелое, и вот она разбивает сначала очаг, потом альков с матрасом, пол, теплые своды, морской залив и небо. Пока не остается только чернота. И в этой темноте его синие глаза и улыбка с ямочками на щеках, и он шепчет ей щекотно на ухо:
– Как ты скажешь, так и будет. Что решишь, то и сделаем. Скажешь – поедем в Гамбург. Велишь – прямо сейчас. Все будет так, как ты захочешь.
Она, сад и ее садовник
to J. S. М.
I am not one and simple, but complex and many[18].
Вирджиния Вулф– Мне нужно сегодня уехать.
– Надолго?
– Не знаю.
– Только прошу тебя, будь осторожнее.
– Хочешь со мной?
– А куда ты?
– В Восточный Сассекс.
– Зачем?
– Мне нужно в Родмелл, в дом, где жила Вирджиния Вулф. Я была там впервые двадцать пять лет назад. Там теперь музей. Интересно посмотреть. – Нет.
– Что – нет? Неинтересно?
– Нет. Не поеду. I think, it is a perfect opportunity for you to speak to Virginia tet-a-tet[19].
– Наверное, ты прав.
– Только, прошу тебя, будь осторожнее.
Ясный мартовский день. Из Хартфордшира, вокруг Лондона, на самый юг – два часа езды. Нужно не забыть поесть. Я помню, у самого съезда с шоссе был паб.
Вот он. Пахнет дровами и пивом, народу много, местных можно узнать по собакам, туристов – по рюкзакам.
Интересно, а она здесь хоть раз была? Или тогда женщины сюда не ходили? Леонард наверняка был. И друзья – те самые “апостолы”, они, конечно, снобы, но не по поводу же эля.
От паба вниз по улице, мимо дома священника, – в самый конец деревни. Вот он справа – небольшой коттедж, Monk's House. Почему он так называется, никто не знает. Никакой монах тут, конечно, не жил.
Какое же теперь это все маленькое – просто кукольный домик, совсем не запомнила его таким. Посетителей не так много. Это хорошо, иначе было бы тесно. Потолки невысокие, двери узкие. Вирджиния всегда помнила, что она сестра художницы. Так смело использовать краски – прихожая при ней была выкрашена в цвет граната, лестница в комнату Леонарда – сине-зеленая, расписная мебель, и каминная плитка, и много живописи по стенам. Дом небольшой, но в гостиной – пять окон. Вирджиния любила повторять про эти пять окон. Ради них снесли несколько стен. И наплевать на то, что остался такой разный, кусками, пол. Главное, можно смотреть на три стороны света. И принимать гостей. А значит, говорить, играть, слушать граммофон, есть и курить любимые сигары – Petits Voltigeurs – или вручную скрученные пахитоски.
На столе в столовой стоит огромное блюдо с фруктами. Все так же, как и двадцать пять лет тому назад. Неужели это все то же деревянное блюдо? Я помню, тогда за этим столом, рядом с такими же фруктами, сидел человек лет, наверное, тридцати пяти – и мне представили его как родственника Вирджинии. Интересно, кто это мог быть?
Завтракали чаще всего в кухне, с распахнутой дверью. Там недалеко куст сирени, и в мае стоял такой аромат. Отсюда по кирпичным ступеням в комнату хозяйки идет выложенная полукругом дорожка.
Расспрашиваю про ее вещи – про картины, про шаль на кресле и вышитую подушку на стуле. Но ответы скупы, служащие здесь знают мало. Извиняются и листают папки, там есть перечень вещей под номерами, словно опись, составленная следователями. Этих знаний не хватит. Ну как же так. Почему они ничего не знают? Тут работает много новых людей, они улыбчивы и бесполезны. Может быть, кто-нибудь мне объяснит. Пожалуйста. Идите туда, в основной дом. Там, кажется, в столовой… Да, да…
В розовой кофте… Она знает. Ее отец здесь работал. Она видела Вирджинию, она ее помнит.
– Как ее зовут?
– Мари. Дочь Перси.
Здесь есть человек, который ее видел? Скорее, скорее в дом. Неужели настоящий свидетель? Спрашиваю еще у одного работника с бейджем музея на груди. Да. Так и есть. Здесь есть Мари. Ее отец Перси Бартоломей работал садовником у Вулфов. И она ему помогала. Где же она, эта Мари? Где?
Она смотрительница в столовой. Высокая. С седыми кудельками, в очках, носик уточкой. Обстоятельная, чуть стесняется.
– Какая? Какая она была? Вы ее помните? Расскажите о ней!
Мари кивает и складывает за спину руки. Ей восемьдесят пять, но она похожа на школьницу у доски. Прежде чем говорить, вздыхает и делает серьезное лицо.
– Когда Вирджиния шла по деревне – у нее всегда шевелились губы. Она про себя проговаривала фразы из следующей книги. Было видно, как она пытается попасть в ритм шагов. Словно подстраивается. С ней даже заговорить никто не решался, настолько она была увлечена своими мыслями. Редко когда она останавливалась, чтобы поздороваться. Всегда в темном. Высокая и очень-очень худая. Часто ходила туда, к реке. – Мари взмахивает рукой и опять прячет ее за спину. – Но больше всего времени она, конечно, проводила в доме. Я видела ее здесь, когда приносила овощи. Отец мой был у них садовником. Иногда меня посылали спросить экономку, что нужно принести к обеду из огорода. И тогда я ее видела. Иногда она сидела в саду, но при этом была далеко-далеко. Вообще-то я старалась не попадаться Вулфам на глаза. Играла в саду, когда их там не было. Но ребенок есть ребенок. До войны они обычно приезжали только на выходные и в праздники. Их часто навещали гости из Лондона, и тогда мой отец просил меня им не мешать. Для меня она была странной хозяйкой, у которой работает отец. Я про нее тогда ничего не знала. Про то, что она знаменита. Совсем. Да и откуда мне знать, я была еще маленькой. И те, кто к ней приезжал, были для нас просто какими-то людьми. – Мари виновато замолкает на минуту. – Я начала помогать отцу и работала в саду, когда мне исполнилось семь. Ножом скребла кирпичи садовых дорожек, а когда появился парник, очищала от земли глиняные горшки для рассады и составляла их в специальные деревянные ящики. Иногда в парник заходил Леонард. Она – нет. – Мари смотрит в потолок, словно вспоминает заученный урок.
– Мари, вы сами отсюда?
– Да. Я родилась здесь, в Родмелле. Леонарду и Вирджинии, кроме этого дома, принадлежали два коттеджа в деревне. Один для садовника, другой для экономки. Я родилась в одном из них в тысяча девятьсот тридцатом. Жили мы в нем до сорок пятого, потом переехали. Она, конечно же, была странной. Да. Но тем не менее, я думаю, они были счастливы. Она обожала прогулки – и к югу на холмы, и вдоль ручья к реке. Я помню, как они много смеялись, когда приезжали гости. Играли в шары совсем рядом с огородом – на поле для игр. Его они купили позже. Чтобы из ее кабинета вид оставался неизменным. Да, можно сказать, они были счастливы, – Мари смотрит на меня. А я – на нее. Я ничего не спрашиваю, я знаю, она сначала будет говорить то, что выучила.
Она отворачивается к окну и начинает совсем другим тоном:
– Я хорошо помню тот день, когда ее не стало. Мне тогда уже одиннадцать было. Она письмо написала Леонарду и сестре и положила на радио, чтобы нашли. Тогда война была, все радио слушали. Вокруг него собирались и слушали. Так вот она там конверт и оставила. Подписала Леонарду и Ванессе. Она знала, что после работы в саду он подойдет к обеду и включит радио, чтобы узнать новости. И он действительно пришел и сразу конверт увидел, вскрыл, письмо прочитал и побежал. Помню этот его крик: “Перси! Быстрее! Бежим!” Я никогда не забуду его лица. И как отец все побросал и побежал за ним. Куртку с вешалки схватил и побежал. Долго ее тогда искали, но не нашли. И на реке искали, – Мари замолкает и смотрит на носки своих туфель. Ей точно восемь, а не восемьдесят пять.
– Спасибо. Спасибо, Мари.
Выхожу из дома. Если пойти прямо, через весь сад, до самого огорода, уткнешься в невысокую каменную изгородь, за ней – церковь и старое кладбище вокруг. А слева – место ее работы. Но пока пройдешь до него, сад успевает тебя заполнить.
Сад.
Место, которое должно было ее излечить. Место, где ей должно было стать лучше. Сад радостей земных. Сад. Понятие для англичан почти сакральное. Почему ты ее не спас?
Вот персиковое дерево наклонилось над самой дорожкой, на нем устроился белый клематис. Рядом клинками ощетинились ирисы, за ними – седые кусты лаванды и огромный фикус. Успеваешь набрать воздуха у пруда с рыбками и тут же ныряешь в омут фруктовых деревьев. Поздним летом здесь будет много-много яблок, и ветки в их коралловых ожерельях прогнутся до самой земли. Еще сливы, груши и инжир. Магнолия с огромными восковыми цветами. А за всем за этим, в углу, у самой кладбищенской ограды, после набухших яблонь, груш и корявой черешни, – маленький садовый домик, в котором она писала, и окно в этом домике смотрит на заливные луга, на гору Кабарн, на широкие долины Сассекса, прочь от всего этого цветочного буйства. Леонард писал, что она была слишком дисциплинированной в работе, приходила в свой рабочий кабинет “с регулярностью биржевого маклера”. Там она писала первый вариант от руки, сидя в низком кресле, а потом пересаживалась за стол – перепечатать то, что написала. Вот он, ее любимый письменный стол. Она его обожала, считала его симпатичным, уютным, располагающим. Да, он действительно чудный – в ящичках. Мытое-перемытое дерево.
А страстью Леонарда стал Сад.
Сначала Вирджиния к Саду была снисходительна.
“Наш сад – точно пестрый ситец: астры, мелкие хризантемы, циннии, нежный гравилат, настурции и тому подобное – все яркие, словно вырезанные из цветной бумаги, жесткие, торчащие, как, собственно, цветы и должны быть
Считала, что он отвлекает ее от главного.
“У меня здесь было столько возможностей написать самое интересное – диалог души с душой, но я упустила это – почему? Да потому что меня отвлекали кормление рыбок, любование на вновь выкопанный пруд, игра в шары… счастье, наконец…”
Здесь и далее перевод автора.
Леонард же отдавал Саду все больше и больше своего времени. Цветы стали его особой страстью. Сначала это были банальные георгины, гвоздики, астры и лакфиоль, потом он вошел во вкус, и появились необычные – фрезии и глоксинии, различные из лилейников, книпхофия, которую здесь называют “раскаленная кочерга”, и ирисы “черная вдова”. Да чтобы еще вырастить самому, из семян, в теплице, а не покупать рассадой. Здесь у него проявился этот дар. Дар садовника.
Так, постепенно, Сад в отношениях стал третьим. Леонард не был против, а даже скорее за. Ей же приходилось конкурировать с Садом, соблазнять мужа прогулкой. И он не всегда соглашался. Сад, сад, сад. Она слишком часто упоминает о нем в дневниковых записях. Она красит гостиную в ярко-салатовый, чтобы доказать, что зелени достаточно и без него. Она смеется над страстными садоводами.
“Помню, – начала она, – моя тетушка разводила кактусы. В оранжерею можно было попасть прямо из обширной гостиной. Входишь, а там на трубах отопления – десятки этих уродливых, приземистых, маленьких колючек, каждая в отдельном горшке. Раз в сто лет алоэ цветет, так говорила тетушка. Но она не дожила до этого”.
Когда же проявились первые знаки нелюбви? Когда Сад начал ее пугать? Может, тогда, когда она с ужасом написала в дневнике, как у самой ее спальни ночью Леонард давил на кирпичной дорожке собранных с листьев улиток? Думаю, страшен был этот скользкий скрежет. Сад стал слишком агрессивен для нее. И еще ей приходилось делить с ним Садовника.
– Ой, да, да, спасибо, это моя сумка. Я хотела ее забрать, потом забыла, спасибо, что вы принесли ее мне. Нет, спасибо. Я не волновалась. Я просто ее там оставила. Да, да, я понимаю. Спасибо. Какие милые люди. Да, это моя ручка – где вы ее нашли? В саду? Спасибо. Когда я умудрилась потерять ручку? Спасибо. А можно мне присесть на стул в ее спальне? Да, этот, у самого камина. На этот изящный стул с зеленой обивкой и вышитым на ней букетом. Хоть на минуточку. Я осторожно. И потом пойду за сумкой.
Отсюда видно только траву и дерево грецкого ореха. Даже церковь не видно. Но точно слышно колокол. К августу окно зарастает. Сад. Волшебный сад. Но почему она выбрала себе комнату с окнами на самую скромную его часть, самую простую?
Хорошо бы взять воды из машины. Жаль, что я запарковалась у паба. Но ведь двадцать пять лет назад никакой стоянки у дома не было. Потому я о ней и не знала. Ее сделали, когда дом перешел в национальный траст. Но и до паба недалеко. Пойду туда. Так. Кажется, я потеряла ключи от машины. Сунула их куда-то, а теперь не могу найти. В сумке. Они должны быть в сумке. А сумка? А сумку оставила, когда говорила с Мари. Блокнот взяла, а сумку оставила там, в столовой. Наверное, положила на стул. А потом забыла об этом.
Monk's House был, безусловно, для нее бегством. Но бегством с возможностью вернуться. Вернуться в лондонский Блумсбери в любую минуту. И когда вдруг это стало невозможным, когда бегство превратилось в постоянное место проживания – все стало для нее невыносимым. И тогда она ушла. И еще она освободила его. Освободила от себя. Садовник не справлялся с двумя. Все встало на свои места.
Она слишком долго жила, думая о смерти, и потому не смогла дождаться и вышла ей навстречу. Так бывает, когда больше нет сил ждать. Она и так ждала уже слишком долго. Дальше не было смысла.
А у Леонарда он был – он строил парник, он подкармливал, обрезал и прививал. Он неустанно трудился, пока она боролась со своими демонами. Однажды он ослабил внимание. Ее Садовник.
Присаживаюсь на каменную низкую изгородь. Как приятно нежное, весеннее солнце. Закрываю глаза. Пахнет скошенной травой и мульчей. Слышно, как открывается дверь садового домика. В проеме узкой стеклянной двери вырастает долговязая фигура. Я сразу ее узнаю. Она осторожно перешагивает завалившийся на ступеньку цветок нарцисса. Я вижу пуговицы на ее туфлях. Толстые в резинку чулки. Но она все равно мерзнет. Затолкала руки в карманы длинной кофты. Подол юбки замялся. Потягивается, растирает предплечья, вертит худыми запястьями. Щурится на солнце. У нее тяжелые веки и глубоко посаженные глаза. Узел волос съехал низко на шею, на плечи выбилось несколько прядей. Она шевелит губами, недовольно качает головой из стороны в сторону. На лице выражение болезненной скорби. Словно она не соглашается с собой. Видит меня и смущается. Она не привыкла к чужим. Я стою против света, она поднимает руку, загораживая лицо от солнца. Когда видит, что я смотрю на нее, сконфуженно кивает и опускает руку. Она замедлила шаг, ей неловко. Она не знает, кто я, что я здесь делаю и почему. Я кланяюсь ей и улыбаюсь. Она в растерянности останавливается на том расстоянии, на котором можно все еще не разговаривать. Оглядывается на домик. Я тоже не двигаюсь, не отхожу и не подхожу ближе.
– Вирджиния, что заставляет вас писать?
Она опять смотрит на меня из-под руки.
– Ничего ведь не произошло, пока это не описано кем-то. Верно?
Из кустов выбегает собака.
– Пинки! – восклицает она. Спаниель, виляя хвостом, тычется ей в ноги, она наклоняется, чтобы его погладить. Он вьется перед ней рыжим пламенем. Она опирается одной рукой о землю, чтобы не упасть.
– Пинки! Пинки, что ты делаешь? Ты меня свалишь.
Неловко усаживается на крыльцо и смеется. Пинки на минуту прижимается к ее ногам, но тут же, болтая ушами, уносится в те же кусты, из которых появился. Она зовет его, но он уже занят чем-то другим. Она пожимает острыми плечами, извиняясь, смотрит на меня.
– Всем нужен хороший садовник, – говорит она мне и отворачивается. Ее внимание привлек огромный шмель – он пытается влезть в слишком узкую корону нарцисса. И вот она уже не здесь. Шевелит губами, длинные пальцы выписывают в воздухе непонятную вязь. – Вы понимаете? Садовник! – повторяет она вслух и улыбается.
“Л. возится с рододендронами” – ее последняя запись в дневнике – тоже по поводу Сада.
Она была совершенно не такой серьезной, как принято думать. Да, была умной и сдержанной, но также смешной и беззаботной, когда не работала, любила задавать вопросы, много и разные. У нее был невероятный интерес к тому, как устроена жизнь. Ее изумляли люди, она обладала способностью наблюдать и видеть малейшие нюансы их сосуществования. Но, с интересом изучая других, она не знала себя. Получив домашнее образование, она не имела возможности сравнивать себя со сверстниками. Она писала в дневнике о том, что не могла понять, какая же она – красивая или уродливая, умная или не очень, талантливая или совсем нет.
Конечно, компания снобов научила ее чувствовать себя одной из них. Даже нездоровье Вирджинии было не лишено снобизма. В ее галлюцинациях птицы говорят с ней исключительно на греческом. И юношеский, кембриджский снобизм Вулфа никуда не делся. Его врожденное дрожание рук Вирджиния в шутку называла выражением еле сдерживаемой ненависти мужа к человечеству в целом. И оттого Сад стал для него спасением.
Мы все в какой-то степени вскормлены мифами, воспевающими волшебные сады, а уж жители Англии воспитаны в духе их абсолютного обожествления. Но как часто горожанин, мечтая о безмятежной радости в тиши деревьев и цветов, рисует себе картину райского умиротворения, а оказываясь там, испытывает невероятную вселенскую тоску.
Вирджиния рвалась в Лондон даже из Ричмонда. И Сад Monk's House был хорош для нее по выходным, скорее, как площадка для приема друзей. Но в момент переезда сюда “навсегда”, в безнадежности войны, в холоде и относительном одиночестве, Сад был ей противопоказан. Она нуждается в помощи, а садовник занят Садом. Леонард писал, что для него Родмелл с бомбами милее, чем Лондон без.
Когда? Когда Вирджиния и Сад становятся соперницами? Крамольная для англичан мысль. Но, я думаю, случилось именно так. Человек, по-настоящему любящий Сад, никогда не уйдет весной, когда все начинается, когда впереди столько работы. Он уйдет в конце лета или осенью, с чувством выполненного долга, вместе со смертью Сада, в преддверии бездейственной зимы.
Она же сделала это в марте. Да, зима в сорок первом была долгой и холодной.
“Никогда не было у нас такой средневековой зимы. Электричество отключили. Готовили на огне, ходили немытые, спали в чулках, замотанные в шарфы”.
Континентальная Европа ведет войну, угроза вторжения фашистских войск на территорию Британии вполне реальна. В Лондоне во время бомбежки разрушен их дом, уничтожена библиотека, полная редких книг. Они перебираются в коттедж Родмелла на постоянное проживание. Наверное, тогда она ощутила всю свою беспомощность и бесполезность. В случае прихода фашистов судьба Леонарда была бы весьма печальной. Она страстно обсуждала план их совместного самоубийства, если все же немцы сюда доберутся. Леонард запасся бензином, чтобы в крайнем случае отравиться угарным газом в гараже, и купил цианид.
Конечно, в конце такой зимы можно устать. Можно сказать – хватит. Солнце встает так поздно, можно решить, что и вовсе не взойдет. Но это зимой! А март – уже не зима. Март – это когда все уже позади. Когда мир наконец начинает дышать. Когда появляются первые признаки пробуждения. Гремит ручей, ему вторят птицы, веет влажной ожившей землей и робкими ароматами первых цветов. Стоят набухшие, выспавшиеся яблони в толстых почках. В марте появляется надежда на то, что все еще будет. И скоро отогреется душа. И как именно тогда уйти? Причем уйти сложно, с усилием, с борьбой. Не на подушках, не засыпая с ядом, а в холодную, грязную воду. Как? В марте можно уйти, только испугавшись Сада. Его силы. Его власти.
Так. Нужно проверить, есть ли в сумке ключи. А для этого нужно где-то присесть и все аккуратно из нее извлечь. Нет, это все не то. Ключи, ключи.
До реки Оуз, не торопясь, идти минут двадцать. От дома, за деревню, через поля. Весной река бурная, темная, течение сильное. Вода словно кипящий эль. Как трудно ей было это сделать. Она хорошо плавала, а река совсем неглубокая. Пришлось набрать в карманы камней, чтобы утянули.
Недели через три ее тело ниже по течению нашли дети.
“Против тебя бросаю я непокоренного, не уступившего себя, о Смерть”.
Ее пепел захоронили в Саду. Над ним сейчас ее бюст. Она смотрит растерянно, даже испуганно.
“Не думаю, человека могли бы быть счастливее, были мы”.
После смерти Леонарда садом лет десять никто не занимался. В 2000-м дом сдали постояльцам. Они въехали туда зимой. Чтобы заняться восстановлением, ждали весны – хотели увидеть, что же в саду осталось. Что на нем взойдет? И вот наступившей весной взошли кругом одни белые флоксы. Летом Сад стал белым-белым. Белым, как тогда, в ее последнюю зиму.
“В субботу выпал снег, весь сад накрыло толстым слоем белой сахарной глазури”.
Как хорошо, что есть на свете садовники.
Он идет мне навстречу и улыбается.
– Как я мог отпустить тебя одну.
Он все-таки приехал.
И сразу находятся ключи. И в руках у него бутылка воды. И все становится настоящим и осмысленным.
Примечания
1
Заголовок должен служить дополнительной защитой, подавляющей любые попытки свести настоящую поэзию к игре безо всяких последствий (фр.).
(обратно)2
Страшная история, рассказанная вслух, чаще всего связанная с оборотнями или привидениями.
(обратно)3
Имбирь, обычно маринованный.
(обратно)4
Алтарная ниша в традиционном японском доме.
(обратно)5
Поезд в Японии.
(обратно)6
Утро доброе, малая река, сбегаешь ты вниз по ступеням дворца великанши, что распустила вокруг нас свою мантию из снега и песен. Вода рождается в моей земле, поет песню моих судорог, пока я рожаю своего ребенка. Здесь, с высоты гор, я смотрю вниз и слышу шум лодки, пересекающей воды матки моей. Люди, что на корабле, пересекают во сне воды, что держу я в руках; с ними благословляю я ваше путешествие через пролив Дрейка в поисках молитвы своей, сокращая путь к вере своей, пепел в моей пепельнице ищет смыслы: Кто я? И что я делаю здесь? Элалия Валлдосерас (перевод авт.) (обратно)7
Родина или смерть (исп.).
(обратно)8
Вам посылка (исп.).
(обратно)9
От англ. “Beautiful girl, beautiful girl, beautiful girl” – “Красивая девушка, красивая девушка, красивая девушка”.
(обратно)10
Вы, кажется, не говорите по-испански (исп.).
(обратно)11
Зарезервировано (исп.).
(обратно)12
Эй, рыжая! (исп.)
(обратно)13
Только для персонала (исп.).
(обратно)14
Латиноамериканское информационное агентство (Prensa Latina, Agenda Informativa Latinoamericana SA.).
(обратно)15
Цитата из песни Демиса Руссоса “Goodbye, ту love, goodbye”. “Прощай, моя любовь, прощай, я всегда буду искренен, поэтому храни меня в своих мечтах, пока я не вернусь” (англ.).
(обратно)16
Сильнейший дождь. Глухие мокрые цветы на продажу Услышит ли хоть кто-нибудь? (англ.) (обратно)17
Будда завоевал Возможность рая избежать Для рая (англ.). (обратно)18
Я не что-то одно и не что-то простое, я сложная и меня множество (англ.).
(обратно)19
Я думаю, для тебя это прекрасная возможность поговорить с Вирджинией наедине (англ.).
(обратно)



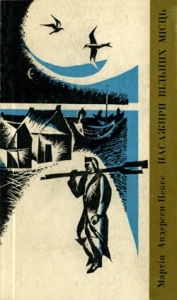

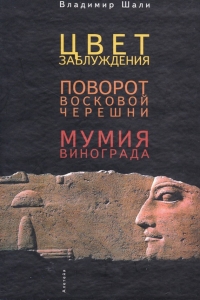


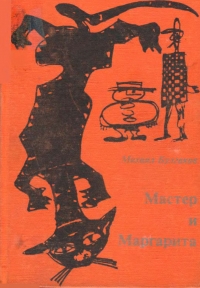
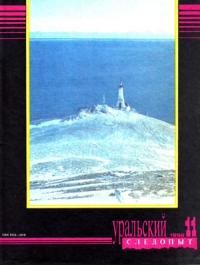


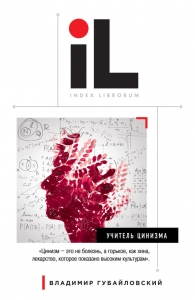
Комментарии к книге «Очень страшно и немного стыдно», Жужа Добрашкус
Всего 0 комментариев