Летний этюд
Хищная птица как сладок эфир Никогда я прежде так не кружила Поверх людей и дерев Никогда мне впредь не придется так дерзко Ринуться в солнечный диск И унесть на свету добычу И улететь сквозь лето! Сара Кирш[1]Всем друзьям из того лета
1
Лето выдалось тогда небывалое. Позднее газеты назовут его «эпохальным», хотя в последующие годы иное лето и даст ему фору, в силу неких изменений характера воздушных потоков над Тихим океаном, которые вызвали «дестабилизацию» океана и непредсказуемые пока сдвиги в макросиноптической ситуации над северным полушарием. Об этом мы ничего не знали. Мы знали, что хотим быть вместе. Порой мы задавались вопросом, ка́к будем после вспоминать эти годы, что́ станем рассказывать о них себе и другим. Но не верили по-настоящему, что наше время ограничено. Теперь, когда все кончилось, можно ответить и на этот вопрос. Теперь, когда Луиза уехала, Белла навсегда оставила нас, Штеффи умерла, дома разрушены, — теперь жизнью вновь властвует память.
А этого бы не надо.
В ту пору, так мы говорим сейчас, в ту пору мы жили. Спрашивая себя, почему в воспоминании то лето кажется неповторимым и бесконечным, мы с трудом способны взять объективный тон, а ведь он один лишь и подобает редким явлениям, с которыми сталкивает нас жизнь. В разговорах об этом лете мы почти всегда делаем вид, будто оно было в наших руках. По правде же это мы были в его руках, и оно вертело нами по своему хотению. Сейчас, когда уже неоспоримо, что чудеса небесконечны, когда развеялось волшебство, поддерживавшее нашу общность и нашу жизнь, — некий тезис, формула, вера, связывавшие нас, с их исчезновением мы превратились в обособленные существа, которые вольны остаться или уйти, — сейчас нет у нас, пожалуй, более сильного, более мучительного желания, чем желание сохранить в себе живые дни и ночи того лета.
Что же мы видим, закрывая глаза? Несколько фигур на выдержанном в ярких красках фоне, над ними высокий купол неба, синий, безоблачный, к вечеру золотистый и, наконец, по-ночному черный, усыпанный бессчетными звездами. Ну же! — кричало нам все. Словно неистовый призыв, будоражащий кровь: Ну же! Ну! Так вещи требовали от нас освобождения. Быть самими собой — для нас это желательно в той же мере, в какой для них необходимо. Все могло кончиться взрывом, да-да. Посреди лужайки — вишня в шальном буйстве цветения, шли последние майские дни. Эта вишня, запечатленная в глазах Эллен, — другая вовек не вытеснит ее образ. Или дубы, что сплелись кронами, один, справа, представляется ей женским деревом, в этом году он опять зазеленел на неделю-две позже второго, мужского, — процесс, который Эллен воспринимала как символ. Или вот ласточки, подыскивающие место для гнезда, они устроились под свесом камышовой кровли, откуда Ян сразу по приезде спешно вымел толстые паучьи тенета. Неподдающиеся расшифровке знаки, которые птицы в стремительном полете выписывали на бледном утреннем небе, а под вечер в мягком круженье — на багровом фоне заката. Пауки в тот год расплодились, как никогда. И небо в своей царственной синеве было неизменно, как никогда. А звезды минувшей ночью? Вы видели, как они мерцали? Видели вечернюю звезду? Чем дольше на нее смотришь, тем крупнее она становится. Ты тоже думала, что она тебя засосет? — Такими вот вопросами сыпала по телефону Луиза.
Нет. Нет, Луиза. Звезды были наверху, а я внизу, далеко-далеко от них, и если меня что и терзало, то уж никак не неутоленное влечение к звездам.
Луиза и Эллен совершенно не похожи друг на друга.
А ты разве не замечаешь, как что-то тебя торопит, дескать, нельзя упускать ни минуты? Ведь, того и гляди, произойдет нечто ужасное.
О чем ты, Луиза?
Разве ты не замечаешь, как туго все натянуто — вот-вот лопнет?
Луиза думала, что однажды небесный шатер прорвется и на нас хлынет стужа мирового пространства. Или Земля треснет от жары и разверзнется у нас под ногами до самого раскаленного ядра. Или все это полыханье, горенье и мерцанье превысит уровень, допустимый для наших человеческих тел. Разве ты не замечаешь, как мало-помалу растворяешься?
Нет, Луиза. Эллен оставалась тверда, сохраняла свои очертания. Это была не способность, а нехватка ее, маскировавшаяся под способность, врожденная неспособность к самоотречению. Как долго, спрашивала она себя, она еще сумеет выдержать, захочет выдержать?
А ты не боишься звука, который пойдет от небесного купола, если кто-нибудь сейчас по нему ударит? У тебя не бывает — днем — ощущения, что этот звук вот-вот грянет и разорвет нам уши?
Так день за днем.
Мы хотели быть вместе. Иные животные чуют такое задолго до того, как их поведут на бойню. Метафоры, которые нельзя ни оправдать, ни взять обратно. Мы ни о чем не догадывались, никаких предвестий не было. Под пустячными предлогами каждый из нас искал близости другого. Грядет одиночество, и, чтобы защититься от него, мы хотели создать запас общности. Кто способен все время находиться на дневной стороне Земли? Как можно запретить себе хотя бы мысленно вернуться в те края, что ныне уже обезлюдели, а некогда владели даром связывать весьма эфемерную субстанцию, стыдливо называемую счастьем. Стоит ли уступать соблазну? Дозволено ли? Вновь оживить этот фон. Раскинуть это небо. Проследить движения этих случайных фигур — так ребенок водит пальцем по линиям лабиринта, а выхода не находит. Вновь подготовить для всех места, чтобы каждый мог занять свое.
Но куда это приведет? Красота — заслуживает ли она описания?
Уничтожающий вопрос. Чего ожидать от времени, отмеченного издевкою над красотой? От времени, которое требует какой-то извращенной смелости, ведь без нее не скажешь и не повторишь, что эти деревья — дубы Эллен, стоявшие точнехонько на границе между ее и шепендонковским участком, — в самом деле красивые.
Это всего лишь пример. У Луизы, которая никогда бы не спросила, нужна ли смелость для какого-либо поступка или высказывания, весьма часто слетало с языка словечко «красивый», проникновенное и страстное по тону. Мы улыбались, когда, гуляя по городским улицам, она называла «красивыми» боковину лестницы, дверную ручку, оконный наличник или старинную цеховую вывеску, не говоря уж о старухах, которые в маленьких городках сидят буквально повсюду: на лавочках под деревьями, за промытыми до блеска стеклами окон, даже на каменных ступеньках возле ветхих покосившихся фахверковых домишек, что как бы подпирают друг друга. Вы видели? Какая красивая! По зрелом размышлении усмешка у нас пропала. Без всякого нажима, без уговоров Луиза учила нас видеть. Понятно, что мы упирались. Ведь мы начали сознавать, какую цену платит тот, кто не может обойтись без красоты: он отдан на произвол мерзости, как Луиза.
2
Конечно, нам было ясно, что привязанности быть не должно. Конечно, такое понятие, как «дом», в наши молодые годы не имело ни малейшего значения. Совсем, совсем иные слова, вспоминала Эллен, без остатка занимали ее мысли. Что толкнуло их на поиски дома? Самооправдания, которые они задолжали себе, бледнели перед Луизиными аргументами. Бегство? То есть как бегство? Ведь настоящая жизнь — она именно здесь. Вот увидите.
Луиза ужасно огорчилась, что в деревню они пришли не в то время года и не с той стороны. Часто, ах, как часто они подходили потом и с той стороны — от дюны, и в ту погоду — при солнце, в палящий зной. Но в первый раз — а впоследствии только о нем и толковали, снова и снова, — они выбрались туда на Пасху, в холодный, ветреный, дождливый день, и вдобавок подошли к деревне сзади, через холмы. В таком случае все напрасно, боязливо вздохнула Луиза. Так деревня вам не понравится. Холодный дождь хлестал по лицу, ветер сбивал с ног. Что делать, виновато сказала Луиза. Море близко. Да хватит тебе стонать, сказал Антонис, и все засмеялись над тем, что Луиза чувствует себя в ответе за пейзаж, за сезон и погоду. Вот приедете летом, сказала она, лучше всего в полдень, когда солнце чуть не над головой. На дюне надо постоять. Тогда и откроется перед вами деревня, и вы сразу поймете, почему местные назвали ее «кот». Справа, где у «кота» хвост, в глаза бросается цепочка белых домиков, они так и светятся, — красота неописуемая! Потом, у трансформаторной будки, где пасется Шепендонкова лошадь, распухшая от травы и зноя, того гляди лопнет, — у трансформаторной будки порядок домов изгибается, только вашего дома пока не видно. Он еще левее, прячется под деревьями, возле «котовьей» головы. Метров сто надо проехать по луговой дороге, и тогда вы его увидите. Он такой красный — впору испугаться.
Дженни все время впереди, длинные светлые волосы и полы расстегнутой оливковой куртки разлетаются за спиной, когда она бежит навстречу ветру вниз с холма, она же первая и очутилась на самом высоком взгорье, где стояла тригонометрическая вышка — сооружение из деревянных реек, с табличкой геодезического института, предупреждающей об ответственности за преднамеренную порчу; мы тотчас нарекли ее «неандертальцем», годами она ветшала и разваливалась у нас на глазах, в конце концов исчезнув без следа. Вот там-то наверху стояла Дженни, медленно-медленно поворачивалась по кругу, всматривалась в окрестности и восклицала: Господи! Господи Боже мой!
Тебе нравится? — крикнула ей Луиза, почти недоверчиво. Да, говорила она позже, я не сомневалась, что Дженни эти места понравятся; и насчет Яна у нее тоже не было больших опасений. Но что Эллен захочет жить здесь, казалось ей весьма проблематичным. Мне тоже, каждый раз говорила Эллен, пытаясь вспомнить, до какой степени была готова согласиться на что угодно, лишь бы выбраться из города, где, по сути, все действовало ей на нервы.
Дом Рамеров, куда они пришли тем утром, был совсем не такой, по которому мы теперь снова и снова ходим в мыслях и сновидениях. Антонис, помешанный на старинной мебели и старинных домах, заранее переговорил с господином Рамером, и сейчас тот, как подобает солидному хозяину, вышел на крыльцо и официально, чуть ли не торжественно пригласил их в дом. «Наконец цветет алоэ…»[2] Эллен вспоминала следующую строчку, когда перед нею впервые открылась зеленая входная дверь — пожалуй, вернее было бы сказать «отворилась», — когда они впервые прошагали в сенях по старым, но целехоньким плиткам, образующим черно-белый ромбовидный узор, когда, нагнув голову, вошли в низкую дверь — в ту пору она была еще белая, а не коричневая — и очутились в комнате. «Наконец цветет алоэ, наконец-то…» У печки две толстухи — госпожа Рамер со своими костылями и Ольга, к встрече с которой Луиза осторожненько нас подготовила: Только не пугайтесь, вы увидите, она немножко странная. — Что значит «странная», сказал Антонис, говори уж прямо: слабоумная, что тут такого! — Ах, Антонис!
Из-за Ольги процедура знакомства несколько затянулась, она то и дело истошно выкрикивала: На диван! На диван! А госпожа Рамер истошно протестовала: Нет! Нет! Эту Ольгу слушать совершенно незачем. — Она не глупая, упорно твердила Луиза, поверь мне! Вы присмотритесь получше! — На всех семейных фотографиях, которые господин Рамер извлек из допотопной жестянки, с краю непременно сидела или стояла Ольга. В одиночку никто не снимался, пары фотографировались только в день свадьбы, в том числе серебряной или золотой. Ну, сами посмотрите, шепнула Луиза. Верно. Ольгино лицо, которое в детстве, сказать по правде, ничем особенно не выделялось, с годами все больше заплывало жиром, а фигура все больше расползалась, пока она не стала такой, какой мы ее увидели, — придурковатая физиономия, отвисшая нижняя губа, то подолгу кемарит, то вдруг посреди разговора некстати возбужденно, громко что-то выкрикивает. Куда денется Ольга, если ей придется уйти отсюда, спросила себя Эллен, и на этот вопрос ей ответили, причем задавать его вслух не понадобилось. В интернат пойду, весело сообщила Ольга, женщина из отдела социального обеспечения уже и место организовала. Вот будет здорово! — крикнула Ольга, а оба Рамера, брат и невестка, только плечами пожали. Их сыну и дочери, которые на фотографиях так быстро повзрослели, родительский дом задаром не нужен, сидят в своих городских квартирах, даже в отпуск сюда не ездят, Болгарию им подавай или бунгало где-нибудь на озере. Госпожа Рамер тревожилась об одном: покроет ли продажная цена ипотеку, под которую заложен дом, хотя насчет этого Ян уже успокоил старика Рамера, и сейчас тому не терпелось подробно рассказать про бытность свою бургомистром — об этом до сих пор свидетельствуют письменный стол, придвинутый ко второму низенькому окошку, и старомодный телефон, заковыристый деревянный ящик с ручкой, который отсюда отправится прямиком в ближайший краеведческий музей. Господин Рамер некогда занимал в общине важный пост, тому были доказательства, и он хотел увязать их с точными датами, каковые ему нужно было отыскать в своей старой голове, и тут Ольга живо вскинула голову — обычно она по-черепашьи втягивала ее в складчатую шею — и безошибочно выпалила искомую дату. Н-да… это она умеет, сказал господин Рамер, а госпожа Рамер добавила: Но это и все, что она умеет. Да еще бездельничать. — Ну-ну, сказал господин Рамер. Кто старое помянет… Антонис предложил перейти к делу. «Наконец цветет алоэ, наконец-то горечь мук…»
Они осмотрели дом, изначальное состояние которого вспоминается нам с трудом, только когда мы вместе с господином Рамером еще раз мысленно обходим комнаты и кухню, она открыта на все четыре стороны, и потому в ней гуляет сквозняк — не удивительно, что госпожа Рамер получила ревматизм! На своих костылях она ковыляла следом, толку от нее никакого, мы, дескать, и сами видим… В хлевах пусто, только старая солома, в которой копается пяток кур, и, наконец, двор — огромная лужайка с плодовыми деревьями. Ну как, тихо сказал Ян Эллен, то, что надо, а? Эллен кивнула. Он сразу же, во время первого осмотра, неоднократно повторял позднее Ян, воочию увидел, что можно из этого сделать. Не весь объем работы, ожидавшей их, нет. Но контуры будущего, своего рода видение, которое, мало-помалу обрастая плотью, вытесняло память о старом доме. Дом, такой, каким он стал, будет жить в нас, каждый его уголок, каждый метр, каждый луч света в любое время года навеки запечатлены в душе. Не только летний свет, хотя он — ярче всего.
А все ли они обдумали, спросила Эллен у госпожи Рамер; в конце-то концов, им вовсе не хочется отнимать у нее дом. Нечего тут больше думать, ответила госпожа Рамер. Ноги у нее лучше ходить не станут, а кому в таком разе хозяйством заниматься…
Как ты считаешь? — обратился Ян к Дженни. — Он еще спрашивает! У мамы спроси. — Она «за». — Правда? Я тоже. — Луиза на миг сильно сжала плечо Эллен. Для Антониса, посредника, пришло время сообщить решение владельцу, господину Рамеру: он очень рад сказать, что сделка состоялась. Посреди кухни господин Рамер и Ян обменялись долгим крепким рукопожатием. На следующей неделе приедет оценщик, а там можно и купчую подписать.
«Наконец-то горечь мук…» Перед внутренним взором Эллен мелькнула зыбкая, нереальная картина будущей жизни в этом доме, однако, не в пример иным видениям, до реальности ей было далеко. По возвращении в комнату им пришлось выпить водки, Ольга подняла свою рюмку: Ваше здоровьичко! — и тут же подставила ее снова, чтобы долили. Теперь можно было и уйти — правда, Ян успел еще спросить у господина Рамера, не отец ли ему тот бородатый старик, чья большая фотография под стеклом висела над дверью. Да что вы, нет, конечно! — хором воскликнули все трое Рамеров. Это ее брат Йоханнес, он сейчас возглавляет Новоапостольскую общину, в которой они все состоят и от которой видят одно только хорошее. Дженни с непроницаемой миной поинтересовалась, что же хорошего дает им Новоапостольская община, и в ответ услышала, что многие из братьев, к примеру, мастера на все руки. Вот как, сказал Ян. Может, господин Рамер даст ему адреса своих братьев-мастеровых. Отчего же, сказал господин Рамер. Надо быть, не откажу.
Так-с, сказал Ян, когда они опять стояли на деревенской улице, теперь мы под покровительством Новоапостольской общины. — «Отошла навек в былое…» Вот красотища, просто не верится, сказала Луиза, и в голосе ее звучало ликование, все будут соседями, она так рада. Успокойся, детка, сказал Антонис и как ни в чем не бывало заговорил с Яном о камыше, древесине и каменщиках; если подсчитывать долгие часы, которые они провели в разговорах о камыше, древесине, старинной мебели, каменщиках, плотниках и печниках, начинать нужно с того Пасхального воскресенья, но это никому и в голову не пришло. Да и с какой бы стати. Ветер, всегдашний ветер с побережья, гнал в глубь страны низкие тучи, шел дождь, потом вдруг из разрыва туч выглянуло солнце, Луиза крикнула: Смотрите, смотрите! — Они с Дженни взялись за руки и, как дети, запрыгали по деревенской улице. Местным есть на что посмотреть! — сказал Антонис, но сколько уж их там было, этих местных, в пятке́ домов, образующих голову и шею «кота». Ровным счетом одиннадцать душ, госпожа Кетлин и госпожа Хольтер были еще живы, население увеличилось после их смерти.
Мы все, каждый из нас, запомнили этот день до мельчайших подробностей. Как возвращались через холмы, будто на крыльях летели, неожиданно в шаловливом настроении. Как опять подошли к дому Антониса и Луизы, который был и останется образцовым воплощением всех крестьянских домов. Как Антонисова бабушка, маленькая и проворная, угощала салатом, и все долго гадали, что это такое, пока не выяснилось, что это первые, нежные листочки одуванчика, сдобренные лимоном и чесночком, на греческий манер, и как сверкали бабушкины глазки: ишь, немцам-то понравился ее салат, чеснок и тот съели, вот она и решила, что они наверняка поймут, если она заговорит с ними по-гречески. Мы и поняли, до некоторой степени, наблюдая за движениями ее тонких, огрубелых рук и глядя в ее светлые, окруженные морщинками глаза. Да, бабушка, да, сказали мы. Эллен впервые отведала кусочек греческой питы[3], с творожной начинкой, Луиза пекла ее как никто, и отныне пита стала для Эллен одним из самых любимых блюд. Луиза всегда будет подсовывать ей горбушечки, она никогда не забывала, кто что любит, кому что по вкусу. Что-то начиналось, мы остро чувствовали, только не знали, что именно, и вдруг заметили, что уже потеряли надежду на новые начала. «Наконец-то горечь мук…» Дженни и Луиза станут шушукаться — две головки рядом, гладкая белокурая и курчавая темная, — станут дурачиться как маленькие, Антонис подольет им вина и уговорит поесть, на греческий лад, Эллен с Яном впервые усядутся на лавку, под кухонной форточкой, — во всем, что мы делали, таилось зерно многократного повторения, вот и все. «Отошла навек в былое…» Горели свечи. Кошка опять ждала котят. Цветущие герани на окнах, похоже, твердо решили превратиться в деревья. Эллен сказала: Я прочту вам строфу из стихотворения, целиком я его не помню, послушайте: «Час пришел — взгляни вокруг: / Наконец цветет алоэ, / Наконец-то горечь мук / Отошла навек в былое, / И блаженная страна / Наконец вдали видна».
На миг все смолкли, Луиза выбежала из комнаты, Антонис поднял бокал и впервые сказал: Добро пожаловать на хутор Винсдорф. Он будет повторять это сотни раз. Снова и снова, долгие годы. Будет меняться освещение, мы будем становиться старше, мельница повторений запущена. Эллен вдруг вспомнила имя поэта и даже первую строчку: «Час придет, не век нам ждать». А затем в памяти всплыло название: «Утешительная ария».
3
Много чего происходило, прекрасные пустяки, которые так легко забываются. К примеру, следующей весной — в деревне на все нужно время — Ян и Дженни пожили несколько дней у Рамеров, незадолго до их отъезда. Спали на кроватях супругов Рамер и ночами слышали за дощатой перегородкой «полный набор» Ольгиных шумов — так выразилась Дженни. И каждое утро, ниспосланное Господом, замерев без движения, молча наблюдали за Ольгой, когда она, громко ворча и бранясь, с ночным горшком в вытянутой руке пересекала их комнату. Уже на завтрак им, по здешнему обычаю, подавали жирную свинину, а на обед — мекленбургское картофельно-яблочное пюре с топленым салом. И с соседом они познакомились, с Фрицем Шепендонком, который счел их тайной парочкой и доверительно, как мужчина мужчине, сообщил Яну, что и сам иной раз не прочь с этакой восемнадцатилетней блондиночкой; как Ян-то думает, он может надеяться? Вы бы видели папину физиономию! — говорила Дженни. Такая жалость, что он не умеет врать. А в конце концов, вернувшись домой, они быстренько побросали в ванну всю свою одежду, чтобы утопить десяток обосновавшихся там блох.
Легенды эпохи первопроходцев, которыми они позднее снова и снова потчевали друг друга возле гриль-жаровни, — как у древних германцев, говорила Дженни. Летом, когда они подъезжали к деревне с «той» стороны, Ян сказал, что в природе не бывает «тех» и «не тех» сторон. И точных повторений не бывает, а значит, и скуки. Никогда им не надоест ни вид с дюны на деревню, ни мягкий изгиб чуть приподнятой линии горизонта, что была видна с крыльца, ни ширь слегка волнистого ландшафта, которая открывалась глазу с высокого восточного берега пруда. Или вот небо, говорила Эллен, она поймала себя на подозрении, что когда-нибудь все же возникнет что-то вроде скуки, что-то вроде пресыщенности, безразличия, и втайне считала загородную жизнь лекарством и от этого тоже, ведь любая новинка — всегда лекарство от пресыщения старым. И еще одно удивляло ее: первое время, к вечеру, на нее почему-то накатывала беспричинная меланхолия, только много позже она сообразила, что полная тишина, царившая здесь, отключала защитные силы ее нервной системы, которые она невольно держала в постоянном напряжении.
То же самое было с домом. Так и кажется, что некий закон требует много раз — но сколько именно, никто, разумеется, не знает — обязательно видеть дом, видеть, как он вырастает перед тобой, чем ближе ты к нему подходишь, — только тогда ты на всю жизнь запомнишь его, сохранишь в памяти. Первой появляется серовато-бурая, отблескивающая серебром камышовая кровля, она похожа на тщательно пригнанную, аккуратно подстриженную ежовую шкурку, которая гладко, иголка к иголке, укладывается под осенними дождями и встает дыбом в летнюю жару. Затем в палисаднике меж старых, щедро обсыпанных плодами яблонь проглядывает рядок белых окон в краснокирпичной оправе, — четыре слева и одно справа от синевато-зеленой двери (позднее Ян перекрасит ее в исчерна-зеленый). И наконец, прямо под крышей, темные балки, которые приходилось ежегодно пропитывать отработанным маслом. И мы, съехавшиеся из дальнего далека, из разных мест, с весьма разными представлениями насчет того, каким положено быть дому, — отчего мы все, глядя на мекленбургский крестьянский дом, испытывали одинаковое чувство, давно забытое чувство возвращения домой?
Легкий треск — дверь, отворяясь, рвет паутину. Затхлый, спертый воздух старого фахверкового дома, бьющий в лицо из по-зимнему холодных сеней. Распахнуть окна, которые открываются наружу и закрепляются крючками. Проветрить матрацы и подушки, расставить книги на старом колченогом секретере в «маленькой комнате». Вытереть в доме пыль, все еще наперекор внутреннему противодействию. Разве не глупость, не смех — так вот растрачивать время. Вместо того чтоб белить печку, лучше бы записала фразы, блуждавшие в голове. А с другой стороны — почему эти фразы должны быть важнее чистой печки? К тому же, думала Эллен, последние один-два десятка лет львиную долю времени она расходовала неправильно, разве нет? Стоило ей выйти на крыльцо, противодействие тотчас исчезало. Солнце стояло отвесно над крышей. Она ждала, не возникнет ли опять чувство нереальности. Достаточно было глянуть на огненно-красный куст айвы через дорогу, на эту отчаянную невозможность у края прозаического хлебного поля. Или погрузиться взглядом в сплошь усыпанную цветами крону яблони — эти яблони посажены пять-десять лет назад тогдашним хозяином, чтобы его дети и внуки собирали с них урожай, а теперь мы повезем эти яблоки осенью в давильню. Стрелы нереальности в самых реальных происшествиях, они задевали ее, оставляя незримые ранки, а из этих ранок вытекало вещество, судя по всему необходимое, чтобы серьезно, очень-очень серьезно отнестись к своему присутствию в некоей точке нашей земли. О да, они уже знали, что отличало их от крестьянских семей, которые так долго жили здесь и фотографии которых Ян развесил в комнате над фотографиями своей собственной семьи. Он будто хотел включить себя в длинную череду этих поколений — только потому, что живет теперь в их доме.
У Эллен вырвался возглас, который всегда огорчал Яна, когда он его слышал, и который она тщетно старалась превратить в подобие смешка. Она знала, идти на поводу у чувства нереальности небезопасно, но оно было необходимо ей как воздух. Оно пронизывало все ее существо, до мозга костей. Выспрашивать о нем было бессмысленно, но Ян невольно выспрашивал снова и снова, а она невольно снова и снова увиливала. Таковы были правила, установленные много лет назад, кем — неизвестно. Эллен процитировала Яну фразу из книги, которую только что случайно открыла: «Несомненно, рано или поздно муж и жена становятся как родственники, но приходит это само собою, когда страсть остывает». Ян промолчал. Однако среди дня он схватит Эллен за волосы, запрокинет ей голову. Ну что? Остыла страсть?
Сейчас он сказал, что надо спуститься к пруду — этим летом, по предложению Ирены, его нарекут «озерцом», — глянуть, там ли опять лебеди и нырки. У лебедей было пять птенцов, которых они старательно прятали от людских глаз. Горделивым кильватерным строем: один родитель впереди, второй сзади, а между ними, четко выдерживая дистанцию, пятерка птенцов — семейство поспешно скрылось за поросшим буйной зеленью островком посреди пруда, где выводили птенцов не только лебеди, но и великое множество иных водоплавающих птиц. Ян купит себе бинокль, ему хочется выяснить, какие там птицы. Он долго наблюдал за чомгой, завороженный ее способностью выныривать непременно позже, чем надо, и совсем не там, где ждешь. Восемьдесят процентов ландшафта — это небо, сказала Эллен. Пожалуй, ей это нравится. Ян, правда, с детства отдавал предпочтение горам, но теперь он как будто бы и без них обходится.
Вечером, в огромной тишине, которая прежде, наверно, была одною из земных стихий, а теперь укрылась на селе, Эллен лежала в темно-коричневой деревянной кровати и чувствовала, как напряженная, возникающая от нервного истощения городская усталость, не благоприятствующая сну, переходит в тяжелую, здоровую сельскую усталость. Перед тем как заснуть, она еще подумала, как давно уже не ощущала внутри укола, каким ее тело давало понять, что она потрясена до глубины души. Остыла ли страсть? Она не знала.
Под утро ей, как назло, приснился кошмар. Опять какой-то конгресс, опять в этаком просторном фантасмагорическом здании-лабиринте с несчетными залами и коридорами. Пестрая людская толпа, в том числе иностранцы, Эллен видела белые чужеземные одежды, тюрбаны. В главном зале — именно там всегда и проходили заседания, как она с испугом припомнила, — в главном зале ораторы, деловая суета, овации. Ей осталось неясно, почему она уходила отсюда, все более пустынными залами, кабинетами, анфиладами комнат и коридорами в дальнее крыло, в необжитые, безлюдные помещения. Уход к самой себе, смутно догадывалась она. А в итоге, что называется, с открытыми глазами угодила — напоследок даже съехала вроде как по детской горке, — в итоге угодила в безвыходное положение. Прижатая к стене, она стояла в тесной цементной каморке, вплотную перед ней вращалось что-то наподобие лопастного колеса, которое, по-видимому, соединяло эту каморку с верхним миром, но сесть на лопасть, чтобы выбраться наружу, она не могла — ее бы раздавило. Отрывая клочки от листа зеленой бумаги и засовывая их в лопасти, она отправила наверх весточку о своем положении. Зеленый — цвет надежды, думала она во сне. Наконец, спустя много-много времени, колесо остановили. Голос Яна, деланно спокойный, что вызвало у нее улыбку, велел ей сделаться как можно тоньше, прямо как листок бумаги, ведь иначе не протиснуться сквозь узенькую щелку наверх. Стать почти незримой — такова цена выживания. У нее не было выбора.
Утром Ян удивлялся, до чего крепко она спала. Около пяти, сказал он, над домом на малой высоте — метров пятьдесят, не больше, — прошли желтые самолеты сельскохозяйственной авиации, да не один раз, удобрения распыляли на бескрайних окрестных полях МРО[4]. Надеюсь, нам не досталось, сказала она. И пчелам на люпиновом поле тоже, не как прошлый год. Шум Элленина колеса получил объяснение. Ян, не знавший ни ее вечерних мыслей, ни утреннего сна, загрустил, когда она, неожиданно для себя, сказала: По-моему, мы должны жить иначе. Совершенно иначе.
4
А теперь нам придется потолковать о жаре. Она только-только началась, мы еще не знали, что это Жара с большой буквы. Хорошее будет лето, говорили люди. Теплое. Жаркое. Газеты начали тихонько его поругивать. Оно не считалось с производственными планами сельского хозяйства. Шли недели, а дождя ни капли, и это здесь, в двух шагах от моря. Природа словно ополчилась против себя самой. Каждое утро Эллен, распахнув заднюю дверь, выходила на лужайку, а там ее встречало оно — нескончаемо-одинаковое лето. Там за сквозистым вишенником стояло солнце и пело. Пело, будто сотня скворцов, темной гомонящей тучкой взвивавшихся в небо, когда Эллен хлопала в ладоши. Вот нижний край солнца коснулся вишневого дерева, сегодня это последняя возможность увидеть его — диск, шар, светило. Эллен было в новинку целый день мысленно повторять словцо вроде «блаженно». Практиковаться в том, чтоб сперва открывать глаза, а затем — другие чувства. На фоне плотной завесы тишины различать утренние шумы деревни, все по отдельности. Вдыхать едва слышный сухой запах дыма, отдающую легкой горчинкой свежесть. Чувствовать кожей тепло. Ждать изнутри мягкого противотока, до поры до времени заглушенного и принуждению не подчинявшегося.
Но вот через улицу из палисадника, сплошь заросшего огненно-красными маками, махнула рукой тетушка Вильма. Эллен крикнула ей «здрасьте!», и тетушка Вильма ответила, хотя услыхать ничего не могла. Тетушка Вильма, давно перешагнувшая за семьдесят, с ее стройной, все еще подтянутой фигурой, с аккуратно заколотыми волосами под тонкой сеточкой, с красивым, в морщинках, овальным лицом, с прозрачными светлыми глазами. Тетушка Вильма, говорившая о жаре с благоговением. Помяните мое слово, сказала она две недели назад, теперича она возьмется за дело и слопает наш прудик за милую душу; а потом они наблюдали, как кромка мутной воды между Шепендонками и их собственным двором что ни день отступала на несколько пядей, так что шепендонковские утята в конце концов отказались от купанья в пруду, да и аист, в полдень заявлявшийся из деревни на бреющем полете и забавно, торжественной деревянной походкой, обмерявший пруд в поисках лягушек, тоже оставил свои попытки. Пруд как бы съежился, забился в грязную промоину, за считанные дни покрылся нежно-зеленым травяным пухом и совершенно высох. Тетушка Вильма в жизни такого не видывала, это она твердила каждому, а ведь она была здесь старше всех. Ну-ну, ужо поглядим, что она еще выкинет. Теперь тетушка Вильма говорила о жаре как о своей ровне, непредсказуемые решения которой заслуживают уважения и даже, что весьма удивило Эллен, желательны. Просто не верилось: в свои семьдесят семь лет тетушка Вильма все еще была любопытна. Ян питал к тетушке Вильме большую симпатию. В иных случаях он и невнимателен бывает, и рассеян, и собеседника толком не слушает, но с тетушкой Вильмой он часами мог рассуждать о запутанных родственных связях между нею и добрым десятком других Шепендонков из окрестных деревень. У кого какие отношения с семьей, каковы взаимоотношения между семьями, что они знали друг о друге или знать не хотели, что веками оставалось для них наиболее важным — все находило у Яна отклик и понимание. Жизнь этих людей. Будто ничто иное никогда его не интересовало.
Лавочку перед домом — краска с нее давно облезла, и поневоле думалось, что она со дня на день развалится, — Ян заменить новой не мог, потому что она красовалась на всех семейных фотографиях Рамеров, как и выложенная каменной плиткой дорожка от калитки к дверям дома, квадратики которой просели, а в трещинах росла трава, в общем, дорожку тоже не мешало бы обновить. Но на этой дорожке, возле этой лавочки, у этой двери всегда фотографировалась вся рамеровская родня, в лучшие времена их собиралось до тридцати душ. Тетушка Вильма знала каждого, знала всех, вдоль и поперек, и называла Яну, передвигая указательный палец от одного к другому, имена, степень родства и главную черту характера: порядочный; работящий; прилежная; маленько чокнутый; скупая. Один сохранил свое добро и приумножил. Другой был, как говорится, от роду безрукий, да еще и женился на лентяйке. Вон та в молодости слыла красивой, а вдобавок зазнайкой. А у этой вот, когда родители выдали ее за рамеровского сынка, «все было уже в прошлом». Правда, тетушка Вильма как будто бы ничуть этого не осуждала, наоборот, и потому Ян еще больше полюбил ее.
Знала ли тетушка Вильма, что бедняцкое хозяйство крестьянина Рамера «при Гитлере» было объявлено «наследственным двором»[5]? А как же, еще бы не знать. Насчет этого и бумага имелась. Само собой. Господин Рамер вместе с другими документами, касающимися дома, честь честью передал эту бумагу Яну. Была там и фотография, которую мы так и назвали «Наследственный двор». Снимок, приложенный к ходатайству о праве на наследственный двор, надлежало отослать крайсбауэрнфюреру; кажется, сказала тетушка Вильма, из-за арийской родословной или как она там называлась. Ведь потом, коли тебя признавали «наследственным крестьянином», пояснила она, давали налоговые льготы и всякую такую муру. Фотография свидетельствовала, что с «нордическими кровями» у Рамеров слабовато. Низкорослые, приземистые, круглоголовые, они, надо сказать, глядели в объектив ошарашенно и даже чуть глуповато. Отец, мать, дочь, сын — этот в юнгфольковской униформе, в штанах до колен. Так называемые «длинные нордические черепа» встречаются в Мекленбурге куда реже, чем можно предположить. Исконное население здесь славянское, о чем говорит и название деревни, корень которого, как растолковал нам один знающий человек, в славянских языках означает «вихриться», «дуть». «На ветру» — вполне подходящее название.
Второй документ, обнаруженный среди мусора в старом сарае, Ян тоже сохранил. Он был отпечатан на серой, в щепках, послевоенной бумаге и украшен изящным рисунком: слева сеятель, справа пахарь, шагают по полю навстречу алому восходу. «На основе постановления о земельной реформе от 5 сентября с. г. крестьянину Х. Рамеру в законном порядке передаются в личное пользование 3,8 га». Печать президента земли Мекленбург, подпись ландрата. Давние границы между крестьянскими участками тетушка Вильма по сей день помнила с точностью до метра. Молодежь об этом не знает и знать не хочет. И на нижненемецком говорить не желает. Так что все имеет свои плюсы и минусы, обо всем можно толковать и так и сяк, сидя за завтраком возле дома, в полоске тени, которую отбрасывает камышовая кровля, и жуя черный ржаной хлеб, выпекаемый только здесь. В народе его зовут «козьим», потому что им кормят скотину, ну а для них продавщица в кооперативе специально приносит из подсобки свеженький каравай: Вы ведь для себя берете, верно?
И об Ольге тоже придется еще раз поговорить. Тетушка Вильма в самом деле знала ее как облупленную, с малых лет. Она вообще-то не такая уж и дура. Сумасбродка — да, тут она всех переплюнула. Почитай, еще молоко на губах не обсохло, а она на десять километров в округе любые танцы умела переполошить. Всегда знала, где музыка играет. Запрет, бывало, невестку и вытворяет, что хочет: как субботний вечер, так моя Ольга рысью на развлеченья, будто лошадь к кормушке. Сядет поближе к двери, отплясывает с крестьянскими парнями да еще громко взвизгивает — кто сам не слыхал, не поверит. А после, вот как Бог свят, любой, кому приспичит, мог затащить ее в кусты. Но ни разу, это я вам говорю, ни разу никого не выдала, хотя всех знала, поименно и с адресами. Да, сказала тетушка Вильма. Эта свое взяла.
Красная японская айва совершенно не вязалась с нашей прозаической местностью — этакий огонь безумия в тихом, неприметном семействе. Равно как и перистый сумах, высаженный в палисаднике рядом с форзициями, бузиной и люпинами. Чуждое растение, как и мы сами.
Справа подъезжает на велосипеде госпожа Варкентин. Внимательно прислушаться — каким тоном она здоровается. Капризная особа, могла проехать, вовсе не поздоровавшись, а почему — кто ее знает. Сегодня она приветлива и разговорчива. Ага, в деревню, крикнула она мимоездом, за воскресными покупками. Чтоб не в самый зной возвращаться. Жарища-то — хоть помирай. — Это можно и погромче сказать, откликнулся Ян, денек опять жаркий будет.
Эллен слышала их голоса. Видела, как пес Люкс — язык на плечо, хвост торчком — чешет от Шепендонков, перемахивает через запертую калитку и ловит на лету куски колбасы, которые ему бросает Ян. Хорошая псина. Ну! Сидеть! Молодец! Забыв обо всем, Ян улыбается, треплет пса по шее, а тот блаженствует. — Почему она не ответила? — А о чем он спросил? — Он спросил, о чем она опять задумалась. — Как всегда, ни о чем. Кстати, она решила держаться подальше.
Наконец-то, сказал Ян. Но от чего? — От тебя, сказала Эллен. От тебя тоже. Чтобы лучше тебя видеть.
Насмешливое мгновение.
Она что, иной раз думает, он чересчур уж близко? — Иной раз да. Иной раз прямо-таки на нервы действует, что ты все время как на выставке. Колесом не пройдешься, нельзя. Никто не восхитится ни одной твоей маленькой хитростью, даже для виду. Иной раз, дорогой мой, я предпочла бы этому четкому свету немного иллюминации, так и знай.
Вот что сказала Эллен, а Ян ответил, как всегда: Да, дорогая, для этого уже поздновато.
Наверное, подумала Эллен, все-таки можно писать, никого и ничего не обижая.
5
Кукушкина опера, помните? Была ведь у нас непомерно ретивая кукушка, или, может, все кукушечьи пары в округе на одно лето свихнулись? Вот ненормальная кукушка, сказала Дженни, потешается над нами. Она шла со своей подругой Тусси по Красной Флейте, где их скрепя сердце высадил водитель «вартбурга». Он с удовольствием, с величайшим удовольствием довез бы их до самого дома. Очень любезно с его стороны, но остаток пути она всегда идет пешком, привычка у нее такая, кстати, спасибо за завтрак. Тусси нашла, что дерзить можно было и поменьше, в ответ Дженни невозмутимо спросила, уж не хотелось ли ей в самом деле, чтобы этот, на «вартбурге», узнал ее адрес. Тут закуковала кукушка, и обе принялись считать. Двадцать четыре, двадцать пять…
От этой желто-зеленой яри у меня голова кругом идет. Уйма одуванчиков, крупных, как чайные блюдца, на зеленых телячьих лугах. Тридцать один, тридцать два, громко считала Тусси. Это надо бы запретить, сказала Дженни. Иль пусть выставят предупреждающие знаки, чтобы мирный прохожий не столбенел от шока. Считай дальше! — сказала Тусси и в свою очередь спросила, а честно ли вообще-то было, не моргнув глазом, объявлять этому типу из «вартбурга», что ее, Дженни, зовут Ингелора и что она официантка. Сорок два! — выкрикнула Дженни. Честно? Ты сказала «честно»? Господи, да ты просто младенец. Неужели не заметила, что этот тип — между прочим, наверняка какой-нибудь старший научный сотрудник — исподтишка норовил их «расколоть»? А потом он бы, ясное дело, все записал и воткнул в диссертацию на тему «Структуры сознания нашей молодежи». Пятьдесят четыре, пятьдесят пять… Ты думаешь? — сказала Тусси. Но с саксонским-то тебя зачем прорвало? Уж это он явно запомнил! Вот и хорошо, сказала Дженни. Шестьдесят! Эта тварь меня доконает! Ее безупречный саксонский — способ тонко намекнуть человеку, что он действует ей на нервы. А этот, из «вартбурга», вообще мужик крутой, потому и уплатил спокойненько за завтрак. Ну а в следующий раз пускай Тусси тоже объявит по-саксонски, что зовется Бьянкой и работает барменшей. Шестьдесят семь, шестьдесят восемь… Барменшей? Да кто же мне поверит! — сказала Тусси. Тогда будь любезна работать над собой, а то подруга все время должна молоть за тебя языком, а ты только хихикать горазда в самых критических местах. Или ты, чего доброго, необучающаяся система?
Aye, aye, sir[6].
Стой! — умоляюще воскликнула Дженни, и Тусси замерла. Переливчатая голубовато-зеленая стрекоза вздумала присесть на ее оранжевую кофточку. Дженни во все глаза следила за нею. Да что это я! — сказала она, твердо решив, что больше такое не повторится, отныне она даже мысли не допустит про учителя физики, он же совершеннейшая тряпка, и она нисколько этого не скрывала. Конечно, ничего хорошего, если один человек ненавидит другого, но раз иначе не получается… Жизнь и вас уму-разуму научит, помяните мое слово! О нет, господин Кранц! Такого удовольствия я вам не доставлю. Дженни не из тех, кто страдает по милости подобного субъекта. В дневных и ночных разговорах они с Тусси подробно все это обсудили: есть вещи, да и люди, которых надо хладнокровно списывать в убыток. Семьдесят три, сказала Тусси. Слушай, она нас доконает.
А Белла приедет? Может, для верности еще раз позвонить ей? Сорок девять, пятьдесят… Луиза тоже считала «ку-ку». Вот если бы их слышала Эллен. Могла бы им поверить. В чем поверить-то? Что они напрямую связаны с отсчетом лет жизни? Луиза, как всегда по утрам, сидела в своей комнате перед зеркалом, оно висело в простенке между окнами и по обыкновению казалось ей третьим, обращенным внутрь окном, от которого так и тянет соблазном, но поддаваться этому соблазну нельзя. Выходит, у нее был повод долго сидеть по утрам перед этим зеркалом. Может, она вообще зря перевезла его сюда из своей девичьей комнаты. Ведь в доме родителей на всем лежало проклятие — родители! Кошмарное слово! — или по меньшей мере отчужденность, не исчезавшая и в ином окружении и делавшая любимое ее зеркало посторонним чужаком в этой комнате. Властительным пришельцем, в чей распахнутый зев без оглядки устремлялись все предметы, предательски бросая ее, Луизу, на произвол судьбы: ее бидермейеровская кровать под бронзового цвета покрывалом, узкие книжные полки, круглый стол, зеленая склянка с розами на длинных стеблях, четыре стула из тускло-золотистого дерева, с гнутыми спинками, еще одно зеркало, побольше, на противоположной стене и даже солидный угловой шкаф с «охотничьим» фарфором. И это сейчас, когда ей нужна поддержка, когда ее противодействие могуществу вещей подтачивается и извне, потому что лес, который начинается в сотне метров за домом, с недавних пор подступает все ближе. Она это чувствовала, хоть и не могла увидеть сквозь стены. Или все-таки? Вроде вот только что в зеркале мелькнула зеленая громада? Плохо дело. Похоже, она проглядела тот миг, когда лес, весной далекий и недвижимый, отправился в путь, так что его мрак все больше завладевал ею и она сочла за благо не ходить туда в одиночку. С Беллой — да. С Беллой и Йонасом — куда ни шло. Приедут ли они? На всякий случай надо напечь пирогов. Сейчас, только по-быстрому приведет себя в порядок. В комнату заглянул Антонис. Где ж она застряла? Но ответить-то ему она не могла. Он это знал, однако вновь и вновь пытался заставить ее говорить. Жена со мной не разговаривает, сказал он по телефону Эллен, она слышала. А ведь она ему написала, что женщина из Виммерсдорфа велела ей три дня молчать. Не написала только, до какой степени этот совет оказался созвучен ее собственному потаенному желанию. На сей раз она перетерпит, пускай Антонис думает, что она молчит ему назло. Кукушка все кричит. Считать Луиза перестала.
Привычным жестом заколоть волосы. Глаза. Кисточки, щеточки для ресниц, квадратики цветных теней на старом рабочем столике перед зеркалом. Веки сегодня подмажем темно-зеленым. Черным карандашом придадим бровям более решительный, энергичный изгиб. Тушь на ресницы, подсушим и подкрасим еще разок, для верности. Теперь в зеркале совсем другая женщина. В таком виде еще кое-как можно выйти на люди. Можно даже выставить себя на обозрение всем этим мужчинам в городах. Она, конечно, сама привлекала мужские взгляды накрашенным лицом, тут Эллен, пожалуй, права, но ведь их сластолюбивые взгляды раздевали и пятнали не ее, не Луизу. Нет, другую, безымянную женщину; а она, Луиза, невидимая и неузнанная, незаметно шагала под надежной защитой, в маске и костюме этой расфуфыренной другой. Да, порой бывало до боли грустно, что защищать приходится не себя, а чужое подобие себя, но она не позволяла себе грустить вот так, до боли. По-настоящему следить надо за тем, чтобы маска и оболочка не приросли где-нибудь к ее теплому, жаждущему, беззащитному телу. И чтобы она никогда, даже в минуту слабости, не выдала свою тайну ни одной живой душе.
Семьдесят четыре, семьдесят пять… просто невероятно. Эллен считала. Неужели есть на свете человек, которому охота прожить сто двадцать три года? Мне, уж точно, неохота, решительно подумала она, тем более если годы пойдут сплошь неплодотворные. Как сейчас. И конца им не видно. Хотя — это она усвоила здесь — можно проводить время по-всякому, и необязательно оно будет считаться растраченным зря. Можно по три раза на дню мыть посуду и убирать ее в кухонный шкаф, который Ян нашел в сарае — сломанный и облезлый, он служил для инструментов, — починил, выкрасил в белый цвет, выстлал бумагой. Как странно, что здесь такая работа казалась полезной и подробно обсуждалась. Что с ней произошло? Вконец голову себе задурила, что ли? Ведь ей все тут нравится. Все кажется реальнее, чем в городе.
Выход Крошки Мэри. В длинной ночной рубашке голубого цвета и огромных Яновых тапках, Мэри молчком шаркает через кухню, на «здравствуй» не отвечает. Эллен сдержалась. Вряд ли хорошо для ребенка, если его, как увидят, сразу бросаются обнимать или вообще как-то трогать. Кукушка, сказала Крошка Мэри обвиняющим тоном, прежде чем исчезнуть за дверью черного хода. Ей обязательно надо было меня разбудить. Через несколько секунд Крошка Мэри появилась вновь, перед кухонным окном, внимательно изучая красную, озаренную солнцем стену дома. И наконец разразилась вопросом: А где бабочки? Эллен была потрясена. Мыслимое ли дело, чтоб память ребенка сохранила с прошлого года то множество мелких синеньких мотыльков, которые вывелись все в одно время и прелестным синим облачком порхали по этой красной стене? — Какие еще бабочки, внученька? — Ну, синенькие. — Не прилетели они в этом году, милая. — Почему? — Пространные, тщетные попытки объяснений через кухонное окно.
Каменщик Уве Поттек, работавший на задворках, у старого свинарника, пересек двор и ненатуральным голосом, каким взрослые говорят с детьми, спросил, как зовут маленькую барышню. Ой, это добром не кончится, подумала Эллен, но Крошка Мэри только холодно смерила молодого человека взглядом, а потом снисходительно назвала свое имя, видимо решив, что каменщик и впрямь не знает, как ее зовут. Мэри, повторил Уве Поттек. Красивое имя, ничего не скажешь. Мэри испытующе посмотрела на него, а потом спросила: Почему?
Вообще-то она размышляла о другом. Вообще-то она хотела достать свои волшебные красные сапожки. Эллен хлопнула себя по лбу. Как она могла забыть, что без волшебных красных сапожек Крошка Мэри шагу не ступит ни в опасные луговые дебри, где трава ей чуть не по пояс, ни на деревенскую улицу, изрытую проезжими колеями. Ведь Крошка Мэри — ребенок городской, привыкший к высоким домам, бетону, грязи, коротко стриженным газонам и тщательно продуманным стенкам для лазанья, но незнакомый с прудами, кротовыми кучками и живыми лошадьми. К счастью, красные резиновые сапожки Эллен отыскала в углу старой прачечной, к счастью, они оказались Крошке Мэри еще впору, впритык. Никакими силами ее не заставишь теперь снять эти сапожки, даже если она будет, что называется, плавать в собственном поту. А я, думала Эллен, командовать не стану, не то что раньше, с нашими детьми, тогда я велела бы снять сапоги, и дело с концом, поскольку разумное для меня было равнозначно правильному. Так вот человек и меняется — хоть и другими способами и в другую сторону, чем мы некогда воображали.
Ну а теперь омлет с яблочным муссом, любимое блюдо Крошки Мэри. Сто один, сто два… Может, эта кукушка не совсем нормальная? — спросила Крошка Мэри. Потом она долго постигала смысл слов «бутерброд с медом», а Эллен тем временем сварила пудинг, вылила его в фарфоровую рыбку, порезала хлеб — от этих мелких дел она часто втайне хандрила, но, по сути, они и нужны-то были, только чтобы смягчить и приукрасить подлинную хандру, которая все больше завладевала ею. Когда-нибудь отвращение к письменному слову наверняка пройдет. Если не свежесть восприятия, потерянная навсегда, то уж хотя бы радость познания вернется, надеялась она. Даже если это поневоле обернется против нас, против меня. Боги, как видно, предпослали самообвинениям зону немоты, молчания. Снова эти патетические увертки. Вдобавок сельская жизнь сама по себе насыщенна — или она только прикидывается такой? — и позволяет легче снести чуть ли не любое состояние. Опасная штука, вообще-то.
Крошка Мэри хочет рисовать, просит бумагу и фломастеры. Крошка Мэри нарисует принцессу и цветущий лужок, а потом подарит картинку Эллен. Ты обрадуешься? — Очень, сказала Эллен. Кукушка дошла до ста пятидесяти.
Огненно-желтые факелы дрока у дороги. Красная Флейта, сказала Дженни, раньше была важным торговым путем. Соль возили и железную руду. Теперь по этим непролазным пескам даже автомобиль не проедет. Потом они стояли на перекрестке. Утреннее солнце светило им в затылок, они смотрели вниз, на «кота». Ты видишь его, Тусси? Видишь, как он дышит? Потягивается, выгибает спину? Тусси видела.
Сто пятьдесят четыре, сто пятьдесят пять, считала Луиза, протягивая кусок хлеба бурой овечке Туле и против обыкновения не говоря ни слова. Зарок молчания, наложенный женщиной из Виммерсдорфа, наверняка распространялся и на разговоры с животными. Сегодня второй день. Как хорошо, что впереди еще целый день молчания, что она еще глубже уйдет в себя. Кукушка не иначе больная, думала она, и эта мысль уже не пугала ее так, как раньше. Раньше? Позавчера. Луиза воспринимала время по-своему.
Сто семьдесят один, сто семьдесят два, нет, в самом деле это уж слишком. Эллен доставала из холодильника колбасу и масло на завтрак мастерам, когда кукушка внезапно умолкла. Дженни и Тусси стояли теперь у калитки, Дженни видела в открытую дверь, как мама орудует на кухне, вот сейчас она обернется. Что такое? — спросила себя Эллен. Кукушка! Слава Богу, замолчала. Она обернулась, увидела у калитки две фигуры. Дженни! Дженни и Тусси. Сердце отчаянно заколотилось. Эй! Вы там! — крикнула она. И услыхала крик Дженни: Два бедных странствующих подмастерья просят приюта! Радостно откликнулась: Двери для всех открыты! И услыхала ответ Дженни: Но приходят-то не все, сударыня матушка. Тем временем Крошка Мэри уже повисла у Дженни на шее. Ты слышала кукушку? — Конечно. — Сто семьдесят три раза? — Сто семьдесят два, сказала Дженни. — А это больше или меньше?
Вот теперь лету кончаться никак нельзя.
6
Пожалуй, глядя со стороны, можно было подумать — и некоторые действительно так думали, потому и начали наводить справки, — будто мы расселились по окрестностям согласно некоему хитроумному плану. Но случай в ту пору еще играл благодатную роль и отнюдь не всегда сулил беду. Похоже, у него были кой-какие свободы, и он умело их использовал. Отпуска, случайно совпавшие по срокам. Встречи, во время которых случайно упомянули, что у госпожи Доббертин можно снять на лето жилье. Обеспокоенные расспросы по телефону, вправду ли старый батрацкий дом по соседству с Антонисом и Луизой все еще пустует. Да, да! — кричала в трубку Луиза. Конечно, приезжайте! Письма, где она писала: Приезжайте! Ее ненасытное стремление к людям, к густонаселенным домам, к столам, за которыми полно народу. Приезжай скорее, приезжай! Сама увидишь, здесь до невозможности красиво. Волнение в ее голосе, когда она позвонила Эллен: Штеффи тоже приедет. Нет, ты подумай, Штеффи приедет, с Давидом и Йозефом! И жить они будут в батрацком доме, ты только подумай! Я уже все окна распахнула. — Время молчания истекло.
А возможно, порыв, собиравший нас вместе, был сильнее противодействия случайностей. И ведь не все мы были безнадежны, как Штеффи, не в том смысле безнадежны, как она. Я гордилась собой, писала она Эллен, что смогла утаить этот кошмар. Однако, в сущности, о нем вообще нельзя говорить, пока считаешь его возможным, ибо тогда воцаряется великая немота и ничто тебя уже не касается или касается, но совсем иначе.
Умереть? — думала Эллен. Но не Штеффи же. Но это же совсем ей не пристало. Но не теперь же. По своей злости она поняла, что смирилась перед участью Штеффи. Даром что сопротивлялась картинам, которые возникали в голове. Она не хотела знать эти картины, и все равно знала. Знала уже и состояние Штеффи. И решила: на сей раз она ничего не упустит. Время, оставшееся у Штеффи, она не растратит впустую. Я обязательно должна видеть, что ты живешь, писала она ей.
Жить любой ценой, писала в ответ Штеффи из клиники, разве кому-то нужно такое?! Я живу, пока верю в перемены. Кто знает, что я отвечу потом, когда на карте в самом деле будет стоять жизнь. Может, мне тогда захочется просто выжить, как угодно, на любых условиях. Если б ты умерла, я бы очень о тебе горевала.
Эллен писала: Раз ты делаешь мне этот странный, вполне в духе времени, комплимент, что-де стала бы горевать обо мне, я могу только ответить, я бы тоже очень о тебе горевала. Нельзя, чтобы рак взял над тобою верх. Спать-то ты можешь? Ведь это важно. Ну да здесь научишься. Ночью, когда мы, возвращаясь от Луизы, идем по холмам, — небо огромное, звездное. Вчера через весь небосклон чиркнул метеор, я загадала желание, а он взял и погас. И Большая Медведица стояла прямо над нами, над головой. Нас, крошечные фигурки среди поля, она наделила особым смыслом.
Штеффи писала: Вчера я целый день видела твои глаза. Я стыжусь высоких слов. Думаю, сейчас мы впервые встречаемся по-настоящему, потому что нас волнуют схожие переживания. Страшные, гибельные переживания. Кошмарная зима, пишешь ты. В утешение я, пожалуй, могла бы сказать, что есть вещи и похуже общественного рака.
Эллен писала: ну не чудо ли, что человек снова и снова набирается сил, как бы воскресает. На сей раз у меня не было на это надежды. А вот ты, воскресая, стала красивой, поверь.
Она подумала, но не написала: Красивой и хрупкой.
Одно слово тянет за собой другое. Как тесно должны сомкнуться слова, чтобы возникли словесные цепочки, обвивающие нас по многу-многу раз, нерушимые путы, словесная вязь, которая, вместо того чтобы просто обозначать реальные обстоятельства, потихоньку втискивается на их место. Обязаны ли мы, имеем ли вообще право участвовать в этом и дальше? Такие вопросы странным образом под стать здешнему ландшафту. Он придает им объемность и четкость, а сам не ставит вопросов и не отвечает. Стыд, обуревавший нас порою, когда мы ударялись в мелочность, не имел к нему касательства, равно как и наши сомнения (позже, кстати говоря, исчезнувшие) в том, сумеем ли мы уберечься от последствий, к которым ведет сельская жизнь как проявление моды.
В кои-то веки нам выпало стоять у истока легенд. Уже на второй год мы собирались и рассказывали друг другу легенды года первого. Как Эрна Шепендонк поведала нам о своей жизни. Как Ирена с Клеменсом заполучили дом. Как навозная куча за хлевом была превращена в лужайку. Первое лето одаривало второе глубоким смыслом, так будет и впредь.
Эрна Шепендонк была разная — до того, как рассказала нам свою жизнь, и после. Она испытывала безотлагательную потребность сообщить Эллен, новой соседке, что и у нее, у Эрны Шепендонк, есть своя судьба. Пришла она в субботу, на Троицу, когда Ян и Эллен раскрывали в палисаднике грядки с примулой. Назвала свое имя. Не может ли Эллен пойти с нею? Сейчас? Лучше прямо сейчас. Не откладывай на завтра, коли можешь сделать сегодня. В Эрниной комнате Эллен усадили в кресло к окну. И она видела, как рядом, в спальне, Эрна сняла со шкафа потрепанный ридикюль. Про нее, между прочим, тоже в газетах писали. В руках у Эллен оказались три аккуратно сложенные, пожелтевшие газетные вырезки. «Волнующая встреча — после стольких лет». Окружная пресса информировала о том, как Эрна впервые в жизни свиделась со своей полькой-сестрой. Встреча произошла здесь, в этом доме, в этой самой комнате, где они сейчас сидят. «После стольких лет» — не очень подходящий заголовок, коли они вообще никогда друг дружку не видали, верно? В том-то и беда, что она не знала собственной сестры и что ее не устраивало всю жизнь мыкаться по свету без родни. А ведь мама ее, полька, которой в тридцатые годы пришлось батрачить в немецких усадьбах, твердила ей как пароль: В Польше у тебя есть сестра! Это единственное, что она, Эрна, запомнила из своего раннего детства. Потому что маму забрали и посадили в концлагерь — почему, никто ей так и не объяснил. А отец, немец-полицейский, погиб в польскую кампанию. Сама она воспитывалась частью в детских приютах, частью в немецких семьях и до сих пор не знает, что было хуже. Только три года назад Красный Крест переслал ей сестрин адрес. И как назло, она не смогла даже съездить за сестрой на вокзал в окружной центр — сестра приехала тем же летом, — в деревне аккурат был ветеринарный карантин. Хорошо хоть, из района один ее встретил, на машине, с большим букетом цветов, а она, Эрна, ждала у околицы, час за часом, и вместе с ней толпа людей. Да, все вдруг оказались ее близкими знакомцами и здорово удивлялись: надо же, у нее, у Эрны, тоже есть родня, они-то, местные, думали, что она круглая сирота. Жаль, конечно, что им с сестрой так и не удалось поговорить с глазу на глаз, сестра-то говорит только по-польски, а она — только по-немецки. Зять худо-бедно переводил.
Голос у Эрны Шепендонк был слишком зычен для комнаты, а сама она — слишком дородна для кресла. Она кивнула на полочку: видите, книги. Да, она тоже иногда не прочь почитать. Потом вытащила из буфета парадную чашку и вазу дымчатого стекла — это ее за хорошую работу премировали. Раньше-то как было, сказала она, коровы да хрюшки — вот и вся моя компания, а нынче я с докторами да с профессорами работаю. Эрна каждый день ездила автобусом в окружной центр, служила уборщицей в больнице. Меня там в обиду не дают, сказала она. И предложила Эллен свежих яиц. Чем плохо, когда знаешь друг дружку, раз уж бок о бок живешь. В случае чего я и помочь могу.
Напоследок Эрна Шепендонк выудила из обшарпанного ридикюля, который уже толком не запирался, письмо. Бывшая узница, сидевшая вместе с ее матерью, написала с Запада, как та погибла. А теперь, сказала Эрна, теперь прочтите-ка конец. Что там написано, а? Эрна помнила наизусть. Там написано: Поезжайте в Польшу. Спросите у родственников Вашей матери, почему с нею так вышло. Больше я ничего говорить не стану. — Да, вздохнула Эрна Шепендонк, очень тяжело. В Польше она тем временем побывала. Под Краковом. Со всеми познакомилась, и с дядей, и с бабушкой. Встретили ее хорошо. Но когда она спросила о матери — молчание. Перед отъездом, посулил дядя, все узнаешь. А потом? Ни словечка. Ничего.
Эрна заплакала. Хочется ведь знать, что да как, сказала она. Все ж таки родная мама. — Может, я напишу той женщине из Западной Германии, от вашего имени? — спросила Эллен. — Нет, сказала Эрна, это без толку. Да, такие вот дела, добавила она, опять зычным голосом. Все разом хорошо не бывает.
Что же, что — гордыня? неведение? — мешало нам допустить, что у людей вроде Эрны Шепендонк или госпожи Кетлин есть свои тайны? Эпоха, говорили мы себе, обременила тайнами тех, кто создан как будто бы совсем для другого. Фотография Вальтера, мужа госпожи Кетлин, еще висела над супружескими кроватями, когда Ирена с Клеменсом поселились в этом доме. Немецкий солдат-фронтовик в мундире времен второй мировой. Но такие истории, говорили мы, когда вечерами сидели все вместе перед домом, глядя на западный край неба, на закат, и потягивая вино, — такие истории надо рассказывать с самого начала, да и этого маловато. Нужно еще рассказывать так, как рассказывали тебе: когда, при каких обстоятельствах, кто. Я, сказала Ирена, узнала о судьбе госпожи Кетлин от госпожи Доббертин. Н-да, сообщила она мне, Альма-то Кетлин тоже хлебнула горюшка. Мы вдруг сообразили, что все местные старухи однажды были молоды. Откуда-то мы знали, что госпожа Кетлин в свое время вышла замуж за покойника. А вот вслух об этом первой высказалась ее сестра и наследница.
То лето, собственно, и началось со смерти госпожи Кетлин. Никогда не забыть, говорили Ян и Эллен, как они добирались сюда из деревни — по старой, разъезженной летней дороге, об асфальте еще и не думали, — а навстречу сплошь фигуры в черном, одна за другой, среди них тетушка Вильма на велосипеде, прямая, с серьезным лицом. Потом они углядели Фрица Шепендонка, в толстом черном пиджаке, взмокшего от пота, через плечо он перекинул огромный погребальный венок, потому что приладить его к мопедику оказалось невозможно. Кто умер-то, прости Господи? Да Альма же Кетлин! А они никак не хотели поверить. Госпожа Кетлин, всегда приветливая, всегда готовая помочь, никогда не страдавшая любопытством и всегда сдержанная, «самоуглубленная», как говорила тетушка Вильма. Госпожа Кетлин из сказочного палисадника. Снабжавшая всех нас семенами крупноцветного мака и пестрых мальв. Госпожа Кетлин на своей камышовой крыше, всего за четыре-пять недель до смерти; мысль, что на пороге смерти можно и не заниматься починкой крыши, ей в голову не пришла. Она скрыла от всех, что два года назад ей отняли одну грудь: подобное умолчание было вполне в ее духе. Украдкой мы проверили себя: а можем ли мы ждать от себя такого? Госпожа Кетлин замкнутая была.
Делегацией наследников госпожи Кетлин предводительствовал Фриц Шепендонк. Не в рабочей спецовке, хотя было утро, а в жилете и полосатой рубахе, он во главе небольшой процессии держал путь к их дому, привел на кухню к Эллен сестру и зятя госпожи Кетлин, после чего без лишних слов уселся с пивом за кухонный стол. Сестра госпожи Кетлин маленькими благоприличными глоточками пила яблочный сок, которым ее угостила Эллен. Ну что вы, стоит ли беспокоиться. Господин Фос, зять, маленький, щупленький мужичок, обстоятельно, поскольку ему мешал толсто забинтованный большой палец на левой руке, закурил сигарку. Похоже, мы попали в итальянский фильм, так, что ли? — подумала, по ее словам, Эллен. Ведомая безошибочным чутьем на происшествия, явилась Крошка Мэри и устроилась у Эллен на коленях, госпожа Фос в это время выкладывала ужасающие подробности о последних днях своей сестры, с упоением именуя их «неутешительными». Может, пойдешь поиграешь на воздухе? — шепнула Эллен Крошке Мэри, но та, разумеется, только отрицательно помотала головой. Она старательно копила вопросы, которыми после будет сыпать как из рога изобилия: Что такое капельница? Почему это медсестра позабыла закрыть покойнице глаза?
Н-да, вздохнул господин Фос, такие вот дела. Эллен, воспользовавшись паузой, спросила, что у него с пальцем, и узнала, что никакого пальца под повязкой уже нет. Это оттого, сказала госпожа Фос, что у некоторых не руки, а крюки; ну а Фриц Шепендонк обронил между двумя глотками: Пальцы торчат, работать мешают — долой их! Засим госпожа Фос взяла инициативу в свои руки и рассказала все, с самого начала, как положено, а на это потребовалось время, поскольку начала она издалека, со своего и сестрина детства в доме напротив, где Альма прожила всю жизнь, — сестра не помнила, чтобы она хоть однажды заночевала в другом месте. И вечная работа по дому и в саду, в которой она еще девочкой с удовольствием пособляла матери, особенно в заготовках. Эллен хоть разок видала кладовку госпожи Кетлин? Сотни банок! Начиная с груш, вишен, зеленой фасоли, мяса и кончая добрым десятком банок печеночного паштета — все, что душе угодно. Только есть было некому. Консервный бзик, другого слова нет. А мужу моему припекло сей же минут открыть банку паштета. Госпожа Фос говорила так, будто его здесь не было, а он именно так и сидел — с отсутствующим видом. И, конечно, ржавой отверткой. Край, понятное дело, треснул, и осколок вонзился ему аккурат в большой палец на левой руке. Это бы еще полбеды, да паштет-то был допотопный, испорченный. Выход один, сказал доктор, резать. Потом еще кусочек, и еще. Вот и остался без пальца.
Пауза. Глубокий вздох Крошки Мэри. И наконец деловая часть, изложенная господином Фосом: лестное предложение Эллен и Яну найти покупателя на дом госпожи Кетлин. Можно, пожалуй, сказала Эллен, думая об Ирене и Клеменсе. И когда троица удалилась, позвонила госпоже Доббертин. Мы как раз были в саду, сообщала на этом месте Ирена. Мне тотчас подумалось: дело выгорит. С ходу!
А Крошка Мэри рысцой поспешила к Дженни, которая прилегла на лужайке под вишней, и обсудила с нею жизнь госпожи Кетлин. Ты представляешь, госпожа Кетлин, ну, которая умерла, влюбилась в солдата, он давно-давно был здесь на маневрах. А что такое маневры? Они упражняются? В чем? Ах, стреляют. Потом-то их послали в Польшу. Госпожа Кетлин целых две недели видела своего жениха каждый вечер — по-твоему, это много? По-моему тоже, очень мало. Но та тетя сказала, что солдат «пал». Он что, упал, да? — Когда о человеке говорят, он «пал» на войне, значит, он умер. — То есть его застрелили? — Может, и застрелили. — А почему госпожа Кетлин думала, что она в счастливом положении, если солдат умер? — Она думала, что беременна. — Ах, беременна. Но почему ж тогда эта тетя говорит «в счастливом положении»? — Потому что считает, так лучше звучит. — Это еще почему? — Ну откуда мне знать, Крошка Мэри. — Значит, ты тоже считаешь, что это странно, или нет? — Я? — сказала Дженни. По-моему, это все ужасно странно. — Вот и по-моему тоже, сказала Крошка Мэри. Мы с тобой обычно считаем странным одно и то же, правда? — Правда, Крошка Мэри. А что там было со свадьбой госпожи Кетлин? — Ой, сказала Крошка Мэри, это вообще самое странное. Госпожа Кетлин вышла замуж за каску и гирлянду из плюща. — Ну что ты городишь! — Честно! Во время свадьбы рядом с ней на стуле лежала каска, которую обернули гирляндой из плюща. — Понятно, сказала Дженни. А что там с ребенком, которого она ждала? — Да в том-то все и дело. Через месяц она заметила, что вовсе не в счастливом положении! Глупая она какая-то, правда? — Да нет, не глупая, Крошка Мэри. — Но довольно странная, а? — Вот это верно. Странная.
Долгая жизнь Альмы Кетлин при родителях, которые мало-помалу дряхлели, а она ухаживала за ними, потом оплакала и схоронила. Долгие ночи все в той же постели, где над изголовьем желтела фотография убитого солдата. И безмолвие вокруг. Все это повторилось снова, в наших мыслях.
7
Внутри и вовне. Мир внешний и мир внутренний, думала Ирена. Уже не один час она стояла, нагнувшись, на солнцепеке, у внешней границы своего участка и голыми руками дергала жгучую крапиву. Сейчас, между собственными раскоряченными ногами, она видела: вот и остальные, идут на головах, ногами кверху. Как почти ежедневно, они встретились на закате у Неандертальца — так в городе встречаются у кинотеатра. Шепендонковский Люкс тоже с ними, скачет вокруг. Собака слушалась Яна. Только он мог пресечь ее попытки облаивать каждую деревенскую шавку, иначе маленькую компанию всю дорогу сопровождал бы неумолкающий заливистый лай. Благодаря новым соседям жизнь Люкса в корне изменилась. Начать с того, что ему подкидывали лакомства, каких он раньше и не нюхал. Еще важнее было общение — в застольях на воздухе он мог довести до совершенства свое умение ловить на лету куски колбасы. Но в первую очередь Люкса преобразило, наверное, то признание, каким дарили его особу; неукоснительное уважение собачьего достоинства и искреннее сочувствие к его травмам и горестям обнаружили в нем прежде скрытые качества: поразительную тонкость чувств и даже — в опровержение всех предрассудков касательно собачьей натуры — способность лояльно относиться сразу к двум хозяевам и бдительно стеречь заодно и участок Яна и Эллен. Никто его не просил, а он стал облаивать заодно и их гостей. Конечно, не меня, думала Ирена, не меня и не Клеменса, еще чего недоставало. Мы из этой компании, собака чует.
Они все ближе, ближе, Ирена уже не только слышит голоса, но и улавливает, что они говорят, при этом они — парадоксальный поворот — вышли из внутреннего пространства, где она могла ими распоряжаться, во внешний мир, где она более не властна над ними. Теперь они начали подчинять ее своей власти, она чувствовала волны, шедшие от них к ней, силовое поле, которое не должно застать ее врасплох. Пора браться за подготовку. Примерить улыбку — ту улыбку, что на грани внутреннего и внешнего, на ее губах, разбивалась вдребезги. Не хозяйка она в этой пограничной зоне. Своим внутренним миром она распоряжаться могла, внешний мир хотя бы теоретически умела держать под контролем. И только в пограничной области она не хозяйка, не в ее власти собственная кожа, глаза, рот, руки; на ум вдруг пришло: а вообще все так просто, вроде как химическая реакция в пограничной области, где соприкасаются разные по температуре миры, внутренний и внешний, — реакция бурная, изменяющая, коверкающая. Ирена не знала, поможет ли ей в будущем это осознание.
Остальные уже стояли у забора, она чувствовала между лопатками их сверлящие взгляды, но выпрямилась, только когда ее позвали. — Ирена! — Да? — невинно откликнулась она. А-а, это вы! Надеть маску. Шутовская улыбка. — Уже вернулись? — Что она делает? — Ничего себе, веселенькое дельце! — Крапиву дергаю. Иначе-то к ней не подступишься. Перчатки? Напрочь забыла. Подумаешь, ерунда какая — жжет немножко.
Все замолчали. У каждого было свое мнение на сей счет, это яснее ясного, а вот тяжелую, болезненную пульсацию в пальцах, опухших, грозящих разорвать кожу, чувствовала она одна. И ни явно перепуганный взгляд Луизы, ни вопросительный, задумчивый взгляд Эллен не отнимут у нее этого. Ведь, кроме этого, ей не принадлежало больше ничего, даже Клеменс, который огорченно пожав плечами, шел через дорогу, перемолотую в серую пыль, туда, где они сидели перед домом и уже приступили к ежевечернему ритуалу — пили холодное вино из тонконогих бокалов и ждали ее.
Иренин стул никто не занял, она переставила его в другое место, в зеленую тень яблони. Услыхав, что Луиза спросила про Клеменсову флейту, она ощутила знакомый укол, беспричинный, как всегда. Помнишь, говорила Луиза, в прошлом году ты сидел возле нашей колонки и играл на поперечной флейте, а овцы вдруг почему-то начали скакать! Красота! — М-да, донеслось до нее смущенное мычание Клеменса. Вечно эти буколические сцены. — Не годится он для них, подумала Ирена и попросила сына, Михаэля, сходить за Клеменсовой флейтой, несмотря на его бурные протесты. Крошка Мэри обиженно заворчала, когда Михаэль исчез из ее поля зрения. Батюшки мои, услыхала Ирена свой голос — слишком уж громкий, она и сама чувствовала, — первая боль любви. Крошке Мэри было четыре, Михаэлю — шестнадцать. Он оглянулся: Я же сейчас вернусь! — Он улыбнулся мне как солнечный луч, сказала Крошка Мэри Дженни. — Ох, эти женщины! — простонала Дженни. Потом Клеменс играл на флейте, но недолго, и волей-неволей Ирена смотрела сперва на него, а затем на Луизу, в глазах которой читала все то же подозрительное «красота!». Клеменс в свою очередь глядел на нее предостерегающе, и тогда она быстро, очень быстро напустила на себя привычное простодушие, улыбаясь — насколько это возможно, когда поешь, — улыбаясь, спела вместе со всеми «На дереве кукушечка сидела» и «Намедни в Регенсбурге», а еще «Там во долине да во лесочке» — все это исполнялось по заказу Крошки Мэри, пока она не уснула, положив голову на Дженнины колени, а взрослые не завели свой бесконечный разговор о домах, о планах перестройки, о мастерах, об известке, цементе и кирпиче, о камышовых крышах, о всевозможных красках для наружных и внутренних работ. Алая полоска на горизонте держалась невероятно долго, напоследок стала тоненькая, как волосок, — тропинка, по которой переправляют в ад души бедных грешников. Луна, слегка ущербный красноватый диск, повисла в сквозистых ветвях ивы у шепендонковского пруда. Ирена чувствовала, как стучит кровь в распухших руках.
На все это, на них на всех, можно было посмотреть и совершенно иначе. Удовлетворение, которое Ирена испытывала, добираясь до изнанки слов, не шло ни в какое сравнение с прочими радостями, вновь она была скверным ребенком, и это действительно была ее стихия, где она чувствовала себя до боли вольготно, тогда как все остальное попросту суета и притворство, ну а если у нее так, думала она, почему у других должно быть иначе?
Луиза, например, наверняка ведь прикидывается, не может она быть такой самоотверженной, не может вправду так радоваться чужой радости, даже не имея к ней касательства. Это немыслимо. Нужно отыскать, где у Луизы уязвимое место, которое она старается уберечь, болея за судьбы других. Нужно выяснить, что связывает этих разных людей, Луизу и Антониса. Наверняка слабость. Две слабые стороны случайно сопряглись и таким манером укрылись от посягательств других, и Луизе с Антонисом отнюдь не повредит, если она найдет это местечко и потрогает. Взглядом. Словом. Тогда ей будет куда легче ходить с Луизой по городу, где все мужчины так и впивались в Луизу глазами, а ее, ее самое, опять поневоле охватывало это пугающее состояние небытия. Опять этот страх, что ее тело, как и вообще все, окажется иллюзией, растает, а на его месте явится пустота, вакуум, ничто. Она ведь всегда была разве что первой ученицей, все школьные годы, бессменный лидер в таких разных предметах, как литература, физика и химия, каждый учитель твердо верил, что в институте она будет изучать именно его предмет, да и позднее, в общем-то на любом этапе обучения и профессиональной деятельности, ее хвалили за необычайно высокие показатели, она даже помнила, кто хвалил и в каких словах, — но пользы ей от этого ни на грош. И от боли в руках пользы тоже никакой. Пользу, хотя и мизерную, принес ей ужас, который отразился на лице у Клеменса, когда он вечером увидел ее руки, багровые, исцарапанные и распухшие, вместо пальцев — огнем горящие сосиски, эти руки вызвали у Клеменса жалость, а разве жалость не сестра любви, только сестра-золушка? Как она и предвидела, в Клеменсе сию же минуту шевельнулось противоположное чувство — жалость к себе: что я тебе сделал, зачем ты меня обижаешь. Вот это и был самый важный миг: причинить боль. Обратить на себя внимание. Существовать. Улыбнуться, если Клеменс что-то скажет. Ведь ей, думала Ирена, больше к лицу улыбка, чем слезы, и не в пример другим женщинам она никогда не плакала с умыслом и расчетом, хотя Клеменсу, наверное, именно так и казалось, особенно в последнее время, когда гримаса улыбки весьма часто — и без всякого повода — превращалась в страдальческую мину, а затем, от ничтожнейшего вопроса вроде: Ну что я опять сделал не так? — она просто ударялась в слезы. Беда в том, что чувствовала она себя куда лучше в слезах, нежели с улыбкой, а ведь это явно ненормально. Но самое ужасное, что Клеменс все или почти все делал как надо, что он попросту не мог никого обидеть и всех тянуло к нему буквально как магнитом, даже самку кукушки; когда он выходил на задворки и подманивал ее своей флейтой, она в смятенье отвечала и летела к нему. Ку-ку, ку-ку — он был счастлив этим кукованьем, и почему только она, Ирена, не могла разрешить ему побыть счастливым, счастливым на его собственный лад. Потому что все его счастье должно идти от меня — сказать ему так не скажешь, но, дергая крапиву, она по крайней мере могла так думать, и при всей безумной боли в руках это, что ни говори, было несказанное облегчение: от меня меня меня, а не от этой дуры кукушки и не от этого пейзажа, на который ты смотришь с блаженным видом, не от этого фахверкового дома, старой развалюхи, в которую ей придется вложить многие годы жизни, не от этих дружеских посиделок, когда, собравшись вместе, они пели песни своего поколения, которые Ирена не желала слушать, равно как не желала слушать истории о надеждах и разочарованиях, она ведь не имела к ним касательства и находила их ребяческими и непонятными, особенно когда лица старших по возрасту одинаково менялись при одних и тех же словах. Она не говорила «пощадите меня!», не говорила им в лицо, что уход в сельскую жизнь был их новой иллюзией; она поняла, есть вещи, которых ей затрагивать нельзя, иначе Клеменс перед нею замкнется. Вот и отыгрывалась на себе, маникюрными ножницами кромсала свои волосы, уродовала тот образ, который должна была у него создать, да так и не создала. И по части покоя она перед ним в долгу, а ведь покой — единственное, чего он хотел от нее; вместо этого она терзала его вопросами, да, терзала, но как объяснить ему и себе, что на свете есть лишь одно средство облегчить собственную пытку: вовлечь Клеменса в свои терзания; для начала надо прекратить вопросы, которыми она глубже и глубже, до самого нутра, вгрызалась в его душу, пока он, стиснув голову руками, не говорил, что сходит с ума. И теперь Ирена могла признаться себе, без чувства вины, без раскаяния, что нарочно сводила его с ума, нарочно мучила, когда не удавалось заставить Клеменса любить ее. Одну ее. А поскольку она всерьез опасалась, что и сама на этом свихнется, что сбудется не раз слышанная в детстве от матери угроза, и поскольку она знала, что мать-одиночка не справлялась с дочерью, которой надо было родиться мальчишкой, ей было совершенно нечем защититься от сигналов других клеток, запрятанных в недосягаемых глубинах ее тела, сигналов, которые говорили: этот ребенок был глубоко неправ — большей неправоты вообще быть не могло, — неправ тем, что жил на свете. У кого ей было научиться верить, что Клеменс сейчас с неподдельным сочувствием склонялся над нею и спрашивал, почему она плачет. — Я? — невольно переспросила она. Но я же не плачу. — Разве она плакала?
8
К дому Антониса и Луизы вели три дороги. Наверно, они и теперь еще ведут туда, но мы уже не ходим по ним, а раз так, вполне возможно, что эти дороги, по которым никто больше не ходит, исчезли. Самый длинный путь — проселки, в лучшем случае укатанные щебенкой, но, как правило, песчаные, колеистые, в дождь непроезжие. Самой короткой была тропинка от бремеровского дома через луг, мимо болотистого леса, по краешку поросшего травой зыбуна, на который тетушка Вильма, как она рассказывала, из озорства ступила в день своей свадьбы и утонула бы на веки вечные, если б ее не спас новоиспеченный жених. Свадебные туфельки остались, однако ж, в трясине, и все долго задавались вопросом, что бы это значило. Да, топкому лесу коварства не занимать.
Ян и Эллен вместе с Дженни шли третьей дорогой, мимо последнего дома «кота», холмистыми лугами в гору к Неандертальцу, не могли они отказать себе в удовольствии полюбоваться открывающейся оттуда панорамой, в любой сезон, при любом освещении, в любую погоду — бесконечно изменчивый вид, который никогда им не надоедал. Деревня, тремя отростками протянувшаяся среди ландшафта. Озерцо. За ним белая верхушка и черные крылья ветряной мельницы, к югу — просторные, с блестящими окнами, коровники большой деревни, а по левую руку — лес, образующий линию горизонта. В бинокль был виден канюк, круживший над птичьим озером, а на опушке леса — три лани, всегда стоявшие там об эту пору. Кажется, сказала Эллен, мы первое поколение, у которого красота природы вызывает что-то вроде угрызений совести. Ян возразил: он-де не позволит угрызениям совести омрачать радость. Кстати, в этом году они просто в ячменной осаде.
От края луговины, которая спустя несколько лет, когда в угоду очередной бессмысленной теории выпас скота был прекращен, пришла в полную негодность, они шагали вдоль линии высокого напряжения, никуда не сворачивая, наискосок через еще низкие ячменя. Сперва ориентиром служил огромный каштан, затем появилась камышовая крыша — дом Антониса и Луизы. А там стала слышна и бравурная греческая музыка, вот уж видно окошко с кассетником, входная дверь, которая обычно стояла распахнутой настежь, закрывали ее только в дождь и при западном ветре. А потом они увидели на пороге дома Луизу, рукой она заслоняла глаза от яркого солнца. Вы прямиком из солнца вышли, сказала она. Такая красота — дух захватывает.
В былые времена дома, похоже, сами выбирали себе место в естественном ландшафте. Как это люди умудрялись, недоумевали мы, украшать природу своим жильем, не нам чета, мы-то ее большей частью только уродуем. Предкам крестьян, у которых Антонис и Луиза, от крайней безысходности и отчаяния сбежавшие из нового квартала новехонького города, купили этот дом — в плачевном состоянии, между прочим, и за бесценок! — было, конечно же, не до сантиментов, чувствительность, конечно же, не влияла на выбор места для усадьбы. Главное — расположение хлевов и сарая, близость лугов и полей, пруд возле дома, позволявший разводить уток, лес, защищавший от северных и восточных ветров. Но практичность, судя по всем, не лишала их способности видеть красоту. Вот он, этот дом, лежит в неглубокой лощине и все же заметен издалека, длинный, многооконный фасад обращен к полуденному и вечернему солнцу. Так и манит зайти, да-да, так и манит. Мы подходили к нему с облегчением и радостью, и это не требовало объяснений. Если на улице никого не было, сквозь герани на подоконниках мы заглядывали в комнату. Там, у старого, в трещинах, стола, сидела Луиза, шила или писала, или по меньшей мере дрых в качалке Тилли, здоровущий черно-белый кот. А вдруг он был душою дома? Душа, душа, о странный звук. У вашего дома, Луиза, есть душа. Луиза, испуганно: Знаю. Не надо об этом. Я часто опасаюсь, что мы ее не понимаем. Она такая ранимая.
Слева от входной двери выстроились шеренгой резиновые сапоги и деревянные башмаки, справа — бурые, покрытые глазурью глиняные сосуды и шершавые, пузатые, тонкогорлые глиняные бутылки, в которых сельхозрабочие брали с собой в поле питьевую воду. На круглом мраморном столике — щербатые гипсовые бюсты Гёте и Шиллера, и ведь никому в голову не приходило спросить, откуда они взялись и что им здесь надо.
Они уже сидели в старых, трухлявых плетеных креслах и пили красное вино, спешить было больше некуда. Антонис наливал щедрой рукой, пока вино не выплескивалось через край на обшарпанный дощатый стол. Они подняли бокалы. Луиза сказала: Самая красивая пора — перед Ивановым днем.
Сперва по чистой случайности — помните? — любая наша встреча перерастала в праздник. Этот вечер открыл вереницу сельских праздников — пестрых шаров, на которых висела легкая паутина лета. Ведь мы, горожане, мы, педанты-работяги, даже не представляли себе, что такое праздники, и это упущение необходимо было наверстать. Позднее-то — не будем грешить против истины — нас закружил вихрь, обуяла этакая праздникомания: дневные праздники и ночные, праздники втроем и праздники вдвадцатером, праздники под открытым небом, праздники комнатные, кухонные, сарайные. Праздники с разнообразнейшим угощением. Вино было всегда, а к нему то хлеб да сыр, а то мясо на гриле, уха, пицца и даже солидное жаркое. Не забыть пироги, женщины так и норовили перещеголять друг друга по части пирогов. Были праздники с музыкой и танцами, праздники песенные, молчаливые и говорливые. Праздники ради споров и праздники ради примирения. Праздники-игры. Мы научились любить хмельное веселье. Может, лучше бы сказать: научились у Луизы.
Луиза решила показать всем и каждому: экзема на руках, которая так долго мучила ее, пропала. Теперь, когда трехдневное молчание кончилось, она могла рассказать Эллен, что сделала с нею та женщина из Виммерсдорфа. Да почти ничего, знаешь ли. Ничего особенного. Сначала она повела меня в свой садик — ты не представляешь, до чего там красиво. Всевозможные травы, всевозможные цветы. И на кухне к потолку подвешены пучки сухих трав. Аромат кругом. И чистенько так, скромно, без претензий. Выслушала она меня спокойно. У нее добрые глаза. Невольно думаешь — ты только не смейся, — будто ей все о тебе известно. Потом она совочком зачерпнула из плиты золы, чистой белой золы, и смазала ею мои болячки. А при этом повторяла наговор, он у нее в старенькой тетрадочке записан, зюттерлиновским шрифтом. Ты не поверишь, до чего у нее легкие руки. Отвращения я не испытывала и подумала, что, наверно, никогда уже его не почувствую. Через три дня, сказала она, все пройдет. И добавила, что неплохо бы мне эти три дня еще и помолчать. Тут я мигом поняла: именно это мне и нужно, и на душе стало так хорошо и легко.
Сейчас Антонис скажет, что в другой раз жена не будет разговаривать с ним неделями, только потому, что так ей велела какая-то старая ведьма. В самом деле сказал. У нас в Греции, заметил он, ей бы не миновать неприятностей. Тамошний народ ужас как боится дурного глаза. Луиза испугалась за женщину из Виммерсдорфа, хотя та в жизни не попадет в Грецию; в голове у нее неотвратимо разворачивалась жестокая судьба ведьмы, а Антонис, не отрывая от нее взгляда, отвечал на вопросы остальных: он что же, еще помнит историю с дурным глазом? — Он все помнит. — Но тебе же было всего-навсего двенадцать лет, когда вам пришлось уехать из Греции. — Ну и что? Разве двенадцатилетний парень не вполне зрелый человек? — На юге — возможно.
Готово дело, подумала Луиза. Теперь, когда Антонис заговорил о Греции, она совершенно отчетливо услышала в его голосе раздраженные нотки. Хунта была свергнута, тоска по родине, которую он так долго заглушал, терзала его, он ждал паспорта. Только бы ему уехать, сказал в душе Луизы дрожащий голос. Только бы ему вернуться. Кто-то, донесся до нее голос Эллен, говорил ей, что нынче в любой деревне найдутся все на свете проблемы.
Закройте глаза. Перенеситесь в один из следующих вечеров. На столе лежит греческий паспорт Антониса с визой на въезд в Грецию, мы все по очереди берем его в руки, внимательно изучаем штемпель. Бабушка, в черном платье — она ходит в черном с тех пор, как умер ее отец, — быстрой девичьей походкой выносит большущую питу со шпинатной начинкой. Ни читать, ни писать бабушка не умеет, она только рассматривает фотографию в паспорте, сравнивает ее с лицом Антониса. Хорошо! — говорит она, мы не знаем, имеет ли она в виду наружность внука или портретное сходство. Никос, Антонисов друг, бросает паспорт на стол и что-то говорит Антонису по-гречески, совершенно серьезно, как нам кажется. Когда мы спрашиваем, что он сказал, Антонис смеется: Никос сказал, что ему, более молодому, не пристало ехать в Грецию прежде старшего, то есть Никоса. Мы все тоже смеемся, хотя понимаем, что Никос в этот вечер расположен шутить меньше, чем когда-либо.
Это был праздник с красным вином и рециной[7], с курицей по-гречески и зеленым салатом, с музыкой и танцами, со ссорой и примирением.
Эллен села так, чтобы видеть луну, почти полный диск, который красовался на небе чуть ли не с полудня и мало-помалу наливался яркостью, отбирая свет у блекнущей голубизны. Настроение у нее было противоречивое, она даже имени ему подобрать не могла. Вечер вроде вот этого, даже с теми же участниками, в городской квартире никогда бы таким не был. Под открытым небом люди ведут себя иначе, подумала Эллен, голос и тот звучит иначе, когда знаешь, что в радиусе километра, кроме тебя, других людей нет. Ни сейчас, ни потом, когда они перебрались в дом, потому что стало прохладно, она не забывала о луне, о ее неподвижности и ироничной остраненности. В задумчивости ела сдобренную лимоном курицу с гарниром из мелкой ячневой лапши, намазывала душистой чесночной пастой мекленбургский хлеб. Что с тобой? — тихо спросил Ян, вопрос, за десятки лет повторенный сотни раз, и она ответила, как отвечала сотни раз: Со мной? Ничего. И Ян, как всегда, поморщился, он не терпел, когда она отстранялась, хотя бы и на час-другой. Яну было хорошо, и даже более чем, но чего ради так взвинчиваться, напускать на себя столько важности. Ян наблюдал, как бабушка обслуживала сидящих за столом мужчин. Она приглашала всех в Грецию. Уж в своем-то собственном доме она их таким обедом угостит — вкуснее не бывает! Знаешь, какой он, этот дом? — тихо сказала Луиза Яну. Развалины. А она не верит. Ян прямо воочию увидел, как бабушка возвращается в свой развалившийся дом. Поди пойми, чего ей пожелать. Ян умел и забыть о себе. Взяв с Антониса обещание привезти бочонок рецины, он подробно обсуждал с Габриелой, как ей надо использовать свои связи с портовыми властями разных стран, чтобы обеспечить доставку. План был спрыснут последней бутылкой рецины. Ян с удовольствием ел синие маслины, бледную каракатицу и помалкивал, когда остальные разом громко заговорили. Он видел, что и Эллен бы не прочь захмелеть, посмеяться и попеть песни, но у нее ничего не получалось. Соглядатай в ней съежился до размеров ореха, однако оставался бдителен и зорок. Вот ненавистный! Она положила руку на висок Яна, он потерся об ее ладонь. Перешли в дом.
На кухне, когда собирали посуду, Луиза спросила у Эллен, слышала ли она о той женщине из Чада. Она невольно все время думает о ней. Неужели ее на самом деле убьют. Габриела была в Стокгольме на переговорах по поводу судовых грузов и пропустила сообщение о том, что за выдачу арестованной француженки-социолога Чад потребовал крупный денежный выкуп. Вероятно, западные радиостанции намеренно раздувают этот инцидент, сказала Габриела. Эллен тоже считала, что опасность едва ли настолько серьезна. Вы правда так думаете? — недоверчиво сказала Луиза, всматриваясь в их лица испуганными темными глазами. Ты видела ее по телевизору? Какое у нее красивое, волевое лицо и какие густые волосы. По-вашему, она выдержит? — Ах ты ребенок, с нежностью подумала Эллен, ища в себе следы тех времен, когда и она с ужасом принимала подобные сообщения на свой счет, будто сама была жертвой. Все эти угрозы и обманы, интриги и коварство — теперь она как будто видела их насквозь и уже так легко не подпускала к себе, но, что ни говори, они же могли кончиться для кого-то электрическим стулом или лагерем, ну а в этом случае женщина вполне могла получить среди пустыни пулю в затылок. Ты права, Луиза, сказала она. За нее надо бояться.
Греческая музыка не умолкала весь вечер, Луиза принялась танцевать по кухне, подняв руки, занеся их чуточку вбок и прищелкивая пальцами, она слегка наклонила голову, будто нащупывая в танце фигуры, которые, похоже, знала испокон веку, она умела и ножку поставить, и грациозно руками взмахнуть, все чин чином, ритм был у нее в крови. Она жестом призвала Антониса, он кружил возле нее, искал ее взгляд, ловил его, искал в нем обещание, но не находил. Молодчина! — воскликнула бабушка, отбивая хлопками такт, Антонис вытащил ее в круг, никто и не заметил, когда она успела накинуть на голову черный платок, кокетливо зажав в зубах один его кончик; никто и не заметил, что она перенеслась на деревенскую площадь своей юности, где за нею ухаживал Антонисов дед, — там из поколения в поколение танцевали этот танец. Какие тонкие у нее щиколотки, как гибко и живуче тело под множеством юбок. Не удивительно, что она много месяцев провела в горах с партизанами, а затем выдержала долгий, изнурительный путь к албанской границе, с Антонисом, почти ребенком. Точно в «лупе времени» мы увидели, как ее молодое гладкое девичье лицо сморщивается, превращаясь в пергаментное старушечье личико, и спросили себя, как же она сумела сохранить ясные молодые глаза, взгляд которых остался гордым, ни от чего не отрекся, ни перед чем не капитулировал. Глаза, только и мечтавшие снова увидеть некий дом в некоей деревне и закрыться навсегда.
Луиза встретилась взглядом с Эллен, обе подумали об одном. Руки и плечи Луизы очистились от экземы, которая упорно сопротивлялась настойкам и мазям, даже целебной морской воде. Интересно, от чьего прикосновения Луиза невольно защищалась отвращением? Эллен почувствовала, как сила, заставляющая ее давать оценку всему и вся, сошла на нет. Не всякое брезгливое чувство оставляет телесные знаки. Может, оно и лучше, пускай душа наедине с собой улаживает неожиданные коллизии, в которые попадает, а? — спросила себя Эллен. О скольких же вещах она никогда не говорила, и никто ее о них не спрашивал. Меня это не тревожит, подумала она, такими вот четкими словами. И поневоле рассмеялась над собой.
Когда они вошли в комнату, спор уже разгорелся. На столе лежал журнал, открытый на стихотворении, которое Эллен и Ян прочли с восторгом. Антонис сказал, что рад бы перевести его на греческий, но не понимает смысла. Что, к примеру, означает строчка: «…перехожу из бытия собаки в кошки бытие…» Но это же совершенно ясно! — с порога воскликнула Луиза. Вот как? — сказал Антонис, тем раздраженным тоном, который сквозил в его голосе, когда он считал себя мишенью для нападок. Раз ей все ясно, может, она и ему, дураку, объяснит. Луиза молчала. Габриела решила вмешаться. Ей тоже нелегко читать стихи. Рассказы — да. Правда, только если они имеют реальную основу. А Никос, тот вообще читает одну лишь греческую газету, вечером в постели. Эллен, избегавшая спорить о литературе с нелитераторами, из какой-то труднообъяснимой стыдливости, — Эллен сказала, что это как раз понятно, Никос к вечеру устает, и читать ему некогда, тем более сложные немецкие тексты. И вообще, разве каждый обязан читать книги? Может, Никос все равно бы не читал, сказала она, без укора, даже без сожаления, если бы и времени имел больше, и немецкий был для него родным. Ее попытка унять спорщиков успехом не увенчалась. То-то и оно! — воскликнул Никос, который много выпил и от этого раскраснелся. Совершенно верно. С какой стати он должен читать, как кто-то превращается из собаки в кошку!
Из бытия собаки! — возмутился Ян. Нельзя ли остаться хотя бы объективным!
Да пожалуйста! — крикнул в ответ Никос. Мне только хотелось бы знать, что объективного в домашних животных!
Ну вот, снова-здорово. Эллен узнала этот тон, от которого Ян мгновенно заводился и шел в атаку, невзирая на лица. Под столом она наступила ему на ногу. Уймись. Габриела — она одна сохраняла олимпийское спокойствие — сказала, что у нормальных людей заботы другие, не как у поэтов, так уж от веку повелось.
Какие же у тебя заботы? — спросила Эллен Никоса.
У меня? — крикнул он. Ах, ерунда! Если хочешь знать, нужно всего-навсего выяснить, почему у наших последних кораблей возросла вибрация. А потом нужно эту вибрацию устранить. Причем с минимальными затратами.
Ясно, сказал Ян. Это ему по штату положено. Решит задачку, а потом возьмет и напишет статью в заводскую многотиражку. Никто и не ждет, чтобы он высказывался насчет собак и кошек.
Черт бы побрал вашу заносчивость! — выкрикнул Никос. Вы же понятия не имеете о жизни.
Тут он и прав и неправ, подумала Эллен, разговор подобрался к той области внутри нее, которая до сих пор болела и трогать которую пока не следовало; раненого солдата, говорил ей кто-то, все ж таки снова в бой не посылают. Понятия не имеем о жизни — возможно. Или стишком большое понятие о той жизни, от которой отторгнуты несчетные нормальные жизни и на которую, наверно, продолжали ориентироваться стихи, невзирая на безумие, грозящее личности, когда разные ее компоненты рвутся к разным целям. Что, если она сидела здесь, забившись в эту крестьянскую комнату, поскольку не хотела платить такую цену — ни за одно, ни тем паче за другое направление? По всей видимости, время покажет. Только бы не ушло беспокойство.
Как бы там ни было, она остереглась намекать Никосу, что не может считать его будни «жизнью» и что заметила по его раздраженному тону: он и сам не считал их таковыми. Его выпад задел ее, словно это она виновата в том образе жизни, с которым он не мог примириться. Ее не оставляло ощущение, что этот вечер лишь фрагмент долгого разговора, не всегда ведущегося при свечах, не всегда за столом, но всегда в тех же словах и теми же голосами. Сотни раз она слышала, как Ян говорил Никосу: Ну и что? Неужели у тебя так худо с фантазией, что, кроме своей кургузой формы бытия, ты вообще не можешь помыслить ничего иного, не можешь вжиться ни в какую иную? Сотни раз она сама говорила, что остро чувствует, как ущербна жизнь любого из нас, как недостает ей опыта, которым владеет другой. Только вот выхода из этой дилеммы она не видит. Если не хочешь, по примеру писателей-предшественников, выйти из игры, чтобы избежать постоянных трений. — Нынче, воскликнула Ирена, это все равно что кидаться на проволочное ограждение под током! — Клеменс сказал: Ронни! Эллен: Так и есть, а Ян ополчился на чрезмерное заострение альтернатив: Это ни к чему не ведет. Луиза, которая никогда не умела хладнокровно наблюдать, затаив дыхание смотрела то на одного, то на другого, кто-то — кто же это был? — крикнул ей, чтоб она успокоилась. Трупов не будет.
Никос сказал: Так. А теперь я расскажу вам одну историю. — Да ладно тебе, Никос! — сказал Антонис, но Никос уже начал. Кое-что из партизанских времен. Про двоюродного брата, который служит офицером в нашем торговом флоте; у него есть на шее шрам, и он никогда не рассказывает, откуда он взялся. Так вот я вам расскажу. Слабенький, вечно хныкающий младенец, он подвергал опасности весь партизанский отряд, когда шестьдесят мужчин, женщин и детей подходили к границе, которую бдительно охраняли части регулярной греческой армии. Он просто не мог утихомириться, и что с ним было делать, никто не знал. Тогда в штабе приняли решение убить его. Отец, дядя Никоса, командир отряда, должен был это сделать. Несколько мужчин держали мать. Отец приставил к горлу младенца нож, даже надрез сделал, но убить не смог. И младенца оставили в живых. Когда переходили границу, он был тише воды, ниже травы. — Молчание.
Он что же, хочет, чтобы кто-нибудь об этом написал?
Нет, говорит Никос. Это невозможно. Я знаю.
Луиза, чуть не плача, сказала, ей, мол, не пристало, конечно, вылезать со своим мнением, но все-таки она ужасно рада, что они не пожертвовали ребенком. Никогда, никогда эти взрослые люди не смогли бы радоваться жизни. Убить одного человека, чтобы шестьдесят остались живы, — такой счет попросту не сходится.
Дженни, сидя на лавке возле печи, глядела на остальных, на старших, которые казались ей зловещими, непроницаемыми, незнакомыми. Она видела, как они хитрили в большом и в малом, норовя спрятаться от самих себя и друг от друга. Утвердиться в роли умников и всезнаек, в роли людей сведущих и бывалых, родителей, наставников, судей, прикрыть броней свое уязвимое нутро. Впервые Дженни не подумала, что она такой никогда не будет. Годы, что ли, дают себя знать? Что там говорит Габриела? Как пишут сочинения? При чем это здесь? Конечно, двенадцатилетним школьникам задают сочинения о подвиге. Дженни прекрасно помнила, что выдумала тогда и героя и подвиг, не потратив на это ни времени, ни чувств. А девочка, соседка Габриелы, пришла к Никосу, выспросила его про подвиги, но волей-неволей все отвергла. Она знала свою учительницу. В описании подвига не должно быть ни страха, ни осторожности, ни нерешительности, в результате они до тех пор кромсали подлинную историю, пока она не пришла в соответствие с требованиями учительницы. Но рассказала Габриела этот случай по другой причине: стараясь вспомнить подвиги современности — а учительница явно их и ждала, — она вдруг поняла, что у людей нет больше возможности совершить поступок. Подготовить чертежи корабля — ну, допустим. Продавать за рубеж товары, которые приносят валюту, — тоже недурное занятие. Но не поступок же! Поступками тут даже и не пахнет. Верно, сказал Антонис, почему-то с удовлетворением, книгу написать — скорее уж это поступок, и, как ни странно, никто ему не возразил. Эллен, считавшая невероятным, что она вообще когда-нибудь напишет хоть слово, разве только — но об этом нечего и думать, по крайней мере сейчас, — в ней опять каким-то образом накопится тот безымянный, но необходимый фермент, без которого не перенесешь на бумагу ни единой строчки, — Эллен не желала ничего больше слышать. Зачем они сюда приехали, в конце-то концов, ведь не затем же, чтобы опять запутаться в старых сетях и сидеть все в том же капкане. Нежданно-негаданно, как всегда и бывает, — понимание тех или иных серьезных вещей приходит, когда его не ждешь, — она смогла принять эти метафоры: силок, капкан, — которых до сих пор избегала. Смогла допустить мысль, что за ними, под ними явятся и совсем иные образы. Только бы ей выздороветь — «выздороветь!», тоже слово из тех, пришедших внезапно; разве она больна? — только бы разорвать изнутри зависимость, в которую она попала, — как попала? в зависимость от чего? Ну да время покажет. Время, время. Есть ли оно у нее?
Из крохотных чашек они пили кофе по-турецки, крепкий и сладкий. Полночь. Луиза принесла корзинку с котятами, которых нашла за батрацкой халупой, в стенной отдушине, под охраной Люси, черно-белой кошки-матери. Женщины подхватили котят на руки, поили с ладони молоком, сравнивали, их шубки являли глазу все варианты расцветок, от угольно-черной с белой манишкой до белоснежной в черных башмачках. Трех он утопит, объявил Антонис, и Луиза вздрогнула, будто он угрожал всерьез. Ирена, кажется, поняла, чем Луиза так притягивала мужчин: она позволяла им пугать ее, а потом утешать, хотя до применения силы, которой они хвастались, дело вовсе не доходило. Замечали ли они вообще, что опасность полностью раскрыться перед кем-то Луизе не грозит? Что всегда есть неосязаемый остаток, ухватить который никак невозможно. Может, это и сводило мужчин с ума? Может, ей надо завидовать? Она жила во всякий миг, в том мире, где взгляды мужчин, алчущих успеха и обладания, лишь теоретически достигали ее, где их запросы и веления оказывали на нее лишь видимость воздействия. Когда Антонис, лицо которого омрачалось порой тенью такого предчувствия, в самом деле начнет этим терзаться, сказала себе Ирена, вот тогда и пойдет у него с Луизой настоящая жизнь. Тогда станет ясно, способен ли он жить под угрозой потерять ее, выдержит ли. Она-то, Ирена, держалась, шла рядом с Клеменсом, видела его силуэт на фоне последней закатной полоски, которая упорно не желала темнеть, слышала, как он беспечно переговаривается с Яном и Эллен, и знать не знала, что происходит в самой дальней клеточке его мозга. Он сказал, что еще в детстве увлекался звездами и теперь все его давнишние мечты сбудутся. Он остановился, показывая созвездия. Когда по небу, описав широкую дугу, скользнула падучая звезда, Ирена сказала Клеменсу: Я знаю, что ты загадал. Сказать? — Не надо, Ронни. — Ты загадал подольше побыть здесь в одиночестве, да? — Зачем ты так говоришь? — Но это же правда. Или нет? — Нет, и ты это знаешь.
Все в открытую, так и должно быть. Похоже, никому не хотелось нарочно бередить чужую боль. Эллен опять ощутила прилив меланхолии, которая охватывала ее здесь вечерами в первые недели. Эта красная луна. Эта непроницаемая тишина. Осторожно, сказал Ян. Трясина. Эллен поставила ногу на край зыбуна, начала пружинить, сперва робко, потом все сильнее. Перестань! — сказал Ян. Эллен сделала еще шаг, перенесла на траву другую ногу. Зыбун держал. Теперь она пружинила всем телом. Земля качалась — совершенно неведомое ощущение. Прекрати! — крикнул Ян. — Держит. Слышишь, держит! — крикнула Эллен. — Не дури! Вернись. — Земля колебалась. Только если она испугается, тонкая упругая пленка лопнет. — Кому и что ты хотела доказать, сердито буркнул Ян, когда они пошли дальше. Эллен молчала, Ирена коснулась ее руки. Я бы тоже с удовольствием покачалась на зыбуне, прошептала она.
Издалека донеслось какое-то чудно́е тявканье. Не иначе как тот самец косули, который живет в этих местах, сказал Ян, мы часто видели его на опушке. Лающие звуки действовали на нервы. Слава Богу, наконец-то деревня, в окнах там и сям еще мерцали экраны телевизоров, вон темнеет трансформаторная будка, а вон лошадь на лугу, спит повесив голову. В постели Эллен так и не вспомнилось название прославленной книги Данте, о которой она размышляла уже не первый день, — «Нисхождение в ад», что ли? Да нет, не то. Завтра она спросит у Яна. Вспомнилось ей зато одно из имен фермента, без которого невозможно писать, — «доверие к себе». Его она лишилась начисто.
9
Два мира — так говорят. А если это истинная правда? Если мы долго не могли отделаться от ощущения, что проникаем в далекую чужую страну и она окружает нас, в итоге даже непонятно, кто кого оккупировал, кто кого завоевал. Но что же было на самом деле, и откуда взялись эти ощущения? Природа — верно, природа, мы слишком долго почти не замечали ее, и она непредвиденным образом будоражила нас. Окрестный ландшафт, да, конечно, ведь он брал за сердце. Вот они опять, эти задиристые слова-захватчики, совершенно непригодные, но обеспечивающие плавность нашей речи. Погода, которую мы отвыкли принимать всерьез и от которой теперь зависели. Времена года — почти забытые и оттого неожиданные. Рост растений. Скептическое удивление, когда распускались цветы, чьи семена мы своими руками сажали в землю. Выходит, то, чего мы инстинктивно искали, когда ложные возможности выбора загоняли нас в тупик, все же существовало? Выходит, он был — третий вариант? Между черным и белым. Справедливостью и несправедливостью. Другом и врагом. Попросту жить.
Время тоже текло иначе. Лишь мало-помалу, оставаясь тут на достаточно долгий срок, мы на себе познали новую меру времени, не без противоборства, ведь страх упустить что-то важное, самое важное в такие дни, когда никто на нас не кидается, ничего не происходит, только меняется окраска неба и тишина под вечер становится все плотнее и гуще, — этот страх глубоко сидит в нас.
Луиза и Антонис вместе с Яном и Эллен поехали смотреть «провинциальные городишки», предвкушая радость и гордясь, точно сами их, эти городишки, и придумали или вроде бы сотворили. Им выпал один из тех редких облачных дней, какие еще случались в начале лета. Стремительные, бело-серые, красивой формы кучевые облака, по краям вызолоченные солнцем, в синем небесном просторе. Можно было поспорить, и мы спорили, когда деревни и городки, которые мы успели повидать при разном освещении, выглядят краше — под таким вот небом или же под металлически-голубым ясным куполом грядущих месяцев.
Деревни, зачисленные в разряд экономически бесперспективных, дремали в своей живописной, одичалой красоте; другие, возведенные в ранг экономических центров, были утыканы неприглядными целевыми новостройками, снабжены центральными школами[8] и сельскими универмагами, присоединены к новым дорожным сетям. Антонис держал в голове иную топографию. Из этого вот дома я вывез дубовый шкаф, говорил он, или: Тут в сарае по сей день стоит замечательный сундук, у хозяев никак руки не доходят вытащить оттуда инструмент. А здесь одна старушка подарила мне керосиновую лампу, просто потому, что я ей понравился. — Ах, Антонис! — каждый раз говорила Луиза. — Ну а что ты хочешь? Пусть все так и пропадает? — Наверное, эти маленькие северогерманские провинциальные городки для Антониса чужбина в совершенно другом, более глубоком смысле, чем для нас, и лишь теперь, когда сами изведали нечто вроде утраты родины, мы начали понимать его упорные старания создать свой дом, хотя бы и таким способом: он окружал себя старинными вещами. Все, что мало-мальски могло вызвать привязанность, упрочить существование, он сразу прибирал к рукам. Зато нам было трудно понять тот азарт, с каким деревенские избавлялись от дедовских вещей, едва лишь представлялся случай обзавестись новинками, — к примеру, в деревнях, которые только в пятидесятые годы были электрифицированы, устраивали праздник света и разбивали керосиновые лампы. А как часто, спрашивая в деревнях насчет посуды и старого инвентаря, Антонис слышал, что год-два назад они все это уничтожили. Если правда, что новый быт добирался до этих мест на десятилетия позже, чем до других краев, то новые понятия о красоте пришли в здешние деревни совсем недавно, однако ж утвердились и распространились очень быстро; скромная красота старинных вещей была связана с бедностью, вот их сразу и выкидывали за порог, как только в дом, требуя места, заявлялись мебельные стенки, трюмо и обеденные сервизы, и теперь государство скупало остатки антиквариата, чтобы сплавить их за твердую валюту на Запад. Невосполнимая утрата вещей, которые мы всего лишь год назад ни в грош не ставили, вдруг оскорбила нас, привела чуть ли не в негодование.
Городишки, отстоящие друг от друга на двенадцать-пятнадцать километров, выстроились вдоль автострады № 104, которую содержат в приличном состоянии, поскольку она ведет дальше, в Любек. Западногерманские лимузины, точно по ошибке попавшие сюда громадные чужедальние рыбы, неестественно медленно и осторожно движутся узкими улицами. В Гадебуше Ян припарковал машину на маленькой церковной площади, а потом они по старинной, слегка наклонной брусчатой дорожке обогнули церковь, полюбовались красивым порталом, огромным круглым окном, кладкой, сделанной на века. Скользнув взглядом по как бы надвинутым друг на друга кровлям Старого города, по ветхим фахверковым домикам — кажется, только ухватись за ботву причудливых телеантенн, и выдернешь их из земли, поочередно, а то и пучками, — они впервые ощутили временной шок. Луиза откликнулась на него ужасом, поспешными и горячими просьбами, вернее, заклинаниями: Нельзя… нельзя, чтобы все это исчезло, пропало навсегда. У Эллен было такое чувство, будто она, персонаж идущего в нормальном темпе фильма, угодила в наплыв, в прошлое, которое невесть отчего протекает замедленно, а по сценарию ей полагалось и впредь двигаться ускоренно, так что у нее, правда всего лишь не несколько секунд, закружилась от асинхронности голова и она, словно в шутку, схватилась за плечо Яна. Не стоял ли там внизу, в лабиринте переулков, ребенок, которого она, как ей мнилось, прекрасно знала, не смотрел ли он на нее? И Яну чудилось, будто он может отыскать в памяти план этого средневекового городка, будто его желания и мысли все еще бродят по этим анахроническим путям-дорогам.
В витринах на главной улице запыленные пуловеры и нижнее белье позапрошлого сезона, молодые женщины покупают скатерти и наволочки для вышиванья, так и видишь: вечерами все молодые женщины города сидят перед телевизором и вышивают наволочки — один и тот же узор, одними и теми же нитками. Еще продавались всякие шкатулочки, загадочная утварь и резные деревянные вещицы для украшения дома, маслом писанные пейзажи в деревянных и золоченых багетовых рамах. Но сырокопченые окорока в мясной лавке были что надо, каждый купил себе такой — на прокорм домочадцам и гостям на все лето. Местным через прилавок подавали большущие пакеты с мясом, заказы к празднику посвящения в юношество. Но что делает перед красивой старинной ратушей новенький, увы, еще и выложенный голубым кафелем фонтан? На скамейке обнаружился словоохотливый человек, поведавший им на нижненемецком диалекте, что аккурат на месте фонтана росло громадное дерево, ради фонтана его выкорчевали, якобы не спросясь местных жителей. — Да что же это — они горюют по дереву, которого никогда не видели.
Сейчас я вам кое-что покажу, сказал Антонис. Он сориентировался, нажал ручку на старинной двери: они вошли в полутемную, выложенную плиткой переднюю, с выходящим во двор окном, достаточно просторную, чтобы вместить массу старинной, на удивление изысканной мебели. Три украшенных богатой резьбой шкафа и три массивных сундука из разных пород дерева, все в отличном состоянии, дожидались, по словам Антониса, того дня, когда их владелец, человек преклонного возраста, умрет и оставит эти и прочие накопленные в квартире сокровища сыну, который жил в Гамбурге. Ни за какие деньги хозяин не желал расставаться ни с одной вещью. Они видели, как страдал Антонис, глядя на эти недосягаемые для него драгоценности. Ах, Антонис.
У церкви женщина в травянисто-зеленом платке продавала цветочные луковицы, они купили клубни лилий, а потом посадили у себя в палисадниках, и лилии цвели несколько лет кряду. Но это утро уготовило им еще один сюрприз. На автостоянке возле их машины стоял хлипкий мужичонка в зеленом сукне, когда они подошли, он разразился грубой бранью, они, видите ли, заняли чересчур много места, и по их милости он не смог припарковаться. Таким людям, вопил он, надо вообще запретить ездить. Ян только за голову схватился, сел в машину и задним ходом выбрался со стоянки — под неумолкающую брань. Луиза и Антонис хихикали у него за спиной; по всей видимости, они стали свидетелями болезненного припадка, а вот Эллен этого стерпеть не могла. Она с наслаждением почувствовала, как в ней закипает ярость, подошла к мужичонке буквально вплотную и, из последних сил сдерживаясь, очень отчетливо и тихо, сказала ему, чтобы он сию же минуту заткнулся, иначе будет худо. Он и в самом деле захлопнул рот, ошарашенно уставился на нее; Эллен знала безотказность своего метода и тем не менее каждый раз удивлялась, что действовал он впрямь на всех без исключения, даже на полицейских и железнодорожников. Сейчас она сухо уведомила суконного, что, если он вздумает и дальше грубить, она подаст на него в суд. Ответом было молчание. Со сцены она ушла красиво: Ян притормозил, дверца машины распахнулась, Эллен спокойно села и захлопнула дверцу, оставив мужичонку во власти бессильной злобы. Они тронулись в путь, Луиза смотрела на Эллен озадаченно, Антонис хвалил ее, тоже с некоторым удивлением, Ян молчал. Он знал истинную причину подобных вспышек, знал, что по сути-то они метили не в этих зеленосуконных субъектов и что сама Эллен чувствовала себя не лучшим образом. Но в один прекрасный день, не так давно, ей стало ясно, что она не в состоянии терпеть ни нотации, ни ругань, — вздорные мужичонки приобретали исполинские размеры, она должна была бороться с ними, затыкать им рот, и точка. Хватит идти на уступки. Хватит осторожничать. Эрзац-удовлетворенность.
На нее вдруг напал смех, она хохотала, взвизгивала от смеха, никак не могла остановиться, смеялась, пожалуй, слишком долго и слишком пронзительно, но ведь умора же — как она стояла, возвышаясь над этим недоростком, и смотрела на него сверху вниз… Потом они всё спрашивали себя, неужто Пруссия проникала так далеко на север, и тут Луиза процитировала слова, ни много ни мало выбитые на обелиске в окружном центре:
Если цель есть, Так и сил не счесть, Выполнить урок — Немцу это впрок[9].Снова взрыв хохота, — так они въехали в Рену. Те же припорошенные пылью пуловеры, нижние юбки и наволочки, тот же хлам, а вдобавок еще и рыбный магазин с черной доской, на которой мелом написано: «Жив. раки», у них прямо сердце екнуло, но, войдя в магазин, они вправду обнаружили, что в продаже есть живые раки, и услужливый продавец, заразившись их энтузиазмом, вызвался изловить для них все, что осталось, два кило, ну а потом они с великими предосторожностями везли «улов» в наполненных водой пластиковых пакетах. Теперь было ясно — и эта перспектива скрасила остаток дня, — что вечер они проведут вместе, будут есть раков, запивая белым вином.
Вы помните надпись на монастырской церкви в Рене? Монастырские галереи — одна из них виднеется сквозь решетку ограды, — когда-то здесь по дороге из келий на церковную службу встречались монахи и монахини. Теперь они медленно шагали вне ограды, прослеживая путь тогдашних монахов. Мучительная жажда сосредоточиться на чем-то главном и неукротимое желание пустить все вразлет, разбазарить, прахом развеять энергию — в нас, так они говорили, заложено и то, и другое. Никто из нас представления не имел, как умерить центробежный эффект времени (ведь приметы его: загнанность, боязнь остаться в хвосте, страх перед скукой и пустотой — все чувствовали на себе) и при том избежать какой бы то ни было катастрофы. Луиза по-прежнему уповала на здравомыслие единичных групп, быть может даже правящих, ведь чисто ребенок, что с нее возьмешь. Мы же давно привыкли к существованию на грани надежды и безнадежности. Привыкли думать, что в этом временно́м краю, который раньше считался нежилым, да и позже, если это Позже наступит, тоже наверняка будет считаться таковым, все же есть пригодные для житья места, где можно взрастить наслаждение, а то и радость жизни, и хотя звучит это, быть может, жутковато, но тяга к этой пробе на разрыв тоже составная часть нынешнего наслаждения жизнью. Или кому-то из них охота поменяться местами с монахом либо монахиней?
Эй, выше нос! — сказала Луиза Эллен, та рассмеялась, а Луиза взяла ее за руку и через узкий проход между покосившимися фахверковыми хибарами потащила на следующую улицу — их и было всего три-четыре, — и немного погодя они уже стояли перед шеренгой весьма характерных для севера домов: их каркас за столетия просел и скособочился, в окнах и дверях не сыщешь ни одного прямого угла, зато кирпичная кладка сохранила тот дерзкий пламенно-алый цвет, какой задумали строители, покрывшие ее краской, в состав которой якобы входили толченый кирпич и бычья кровь. Эллен глаз не могла отвести от этого цвета, Луиза тоже. Они стояли и молча глядели вверх, на окна домов, а из окон на них молча и с любопытством смотрели старики и старухи. Глубокая, насыщенная синь была, оказывается, самым выигрышным фоном для столь яркого красного цвета. Облака к полудню почти исчезли. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. На всякий случай.
Они вышли на окраину городка, к водяной мельнице, ее громадные, давно остановленные колеса купались в ленивой узенькой речонке. Мимо проехала подвода, на ней неловко, мешком сидел косматый седой мужик с багровой физиономией. Не поймешь — не то спит, не то помер. Как бы там ни было, лошади довезут до дому и возницу, и телегу. Антонис поспрошал местных насчет старинной мебели. Им показали дом, над воротами которого красовалась жутковато-белая лошадиная голова. «Вот где висишь ты, конь мой, Фалада…»[10] Навстречу вышла немолодая, небрежно одетая женщина. Да, мать у нее аккурат померла; но держалась она неприветливо и отнюдь не спешила демонстрировать чужим людям наследство. Сперва, мол, пускай родные дети выберут, что приглянется. В коридорчике, ведущем во двор, опять-таки стоял желанный сундук, битком набитый инструментом и всяким хламом, облезлый и подпорченный. Антонис так и прилип к нему. Через год от него рожки да ножки останутся! — сказал он женщине, та пожала плечами. Когда они снова очутились на улице, Антонис потянул носом воздух: В этом городе кое-что можно добыть! — Ах, Антонис! — сказала Луиза.
Луиза была склонна во всем, с чем она сталкивалась, усматривать тайный смысл, в иные дни, вроде вот этого, смысл обретало буквально все. К примеру, в Шёнберге, когда они припарковали машину у церкви, их взорам предстала картина, похожая на рисунок из старинной книжки, — Луиза как зачарованная ловила мельчайшие подробности. Во-первых, духовой оркестр, он расположился у входа в церковь и играл религиозные мелодии, — музыканты сплошь пожилые, в сюртуках и цилиндрах. Напротив — почти современная деталь, фотограф с громадным аппаратом на треноге, вперился через объектив на церковную дверь. А оттуда, чин по чину, следом за пастором, вышли жених и невеста — черный костюм, белая фата. Вдобавок липы вокруг маленькой, вымощенной брусчаткой площади, и (довольно! — подумала Луиза. Это уж чересчур!), наконец, свадебная карета, которая только что подъехала и в которую уселась юная, кстати говоря, чета, степенно распрощавшись с пастором, капельмейстером и фотографом, свадебные гости меж тем группками двинулись к дому невесты, расположенному, по всей вероятности, в нескольких минутах ходьбы, а зеваки — дети, старики, мы — быстро разошлись. Красота! — сказала Луиза, а в Эллен наконец-то отстоялось и всплыло воспоминание о том, что ей снилось минувшей ночью. Как очень многие сны последнего времени, этот разыгрывался тоже в доме, похожем на их деревенский, правда со сдвигом в уродливое, ущербное. Из угла кухни они с Яном видели в окно какого-то человека, он стоял возле черного хода. Без единого жеста, без единого слова он потребовал впустить его, и они впустили. У него было задание, он действовал так, как велела необходимость, и был хладнокровен, молчалив, неприступен. Он ждал. И вот уж примчался второй, тот самый, кого ждал первый, — одичавший, дочерна загорелый, от кого-то удирающий. Он тряхнул дверь, первый спокойно пошел открывать. Эллен, оцепенело стоявшая рядом, знала: сейчас он его арестует. Только теперь она увидела, что беглеца со всех сторон окружали сыщики. Внезапно, буквально в последнюю секунду, у него в руках оказалась коса, и он замахал ею вокруг себя, будто траву косил, отчего никто не мог к нему приблизиться. Искра надежды вспыхнула в Эллен. Они с Яном смотрели на него в кухонное окно. Оба понимали: такая неистовая оборона вряд ли продлится долго, сил не хватит. Преследователям надо лишь выждать. Пускай он дойдет до изнеможения. Эллен страстно желала ему нескудеющих сил. Просыпаясь, она услыхала голос: Наши внуки добьются большего. Бездна печали, она вновь ринулась туда.
Нескудеющие силы — для гонимых это значит бесконечная жизнь. Может, не так уж и плохо, что силы когда-то иссякают. Что их хватает лишь на то, чтобы заползти куда-нибудь, хоть в этот уголок, словно его для такого невероятного случая и оставили. Так текут мысли, когда пускаешь их на самотек, когда от усталости перестаешь их контролировать. Куда же это они едут? К давнишней усадьбе старосты, которую разобрали на части и перевезли с ее исконного места сюда, а здесь, опять же по частям, собрали снова, уже как музей. У входа растрепанная женщина продавала билеты, а ее собака, обычный для этих краев белый шпиц, обвязанный вокруг живота теплым шарфом, мрачно щурясь, валялся в кресле, где вообще-то полагалось сидеть кассирше. Едва Ян заговорил с ним, он, злобно тявкнув, вскочил — здоровехонек, хворь как рукой сняло! — а мы, слава Богу, поездили на велосипедах по деревням и научились побаиваться этакого лая. Ах, покорно сказала женщина, да он, поди, вовсе и не хворает. Просто, видать, притворяется.
Потом они долго бродили по просторному старому дому, изучали его план на электрическом табло, разглядывали куцые, неуклюжие кровати и прочую бесхитростную, грубоватую, сработанную на века утварь, полотно ручного тканья, цепы и льномялки. Со стен серьезно взирали облаченные в национальные костюмы владельцы этих вещей, и мы вдруг почувствовали что-то вроде замешательства, смутного, не поддающегося определению стыда, будто слишком уж нам все легко дается, при наших-то быстро устаревающих товарах и вещах повседневного спроса, при всей нашей мимолетной и поверхностной, безответственной, а потому эфемерной жизни. Эллен долго изучала искусно расшитый стенной коврик, на котором в трогательных виршах излагалась библейская история, а слова, где только возможно, заменены были картинками: трижды пропел петух до рассвета, а петух-то роскошный, мекленбургский, вышит в пять красок, ишь как выпятил грудь и клюв разинул. Истинно говорю вам. Отречетесь вы от меня. Предательство как серьезнейший деликт, поставленный в центре морали, — новый в те времена процесс? Подобного вопроса люди в крестьянских костюмах, изображенные на фотографиях, вообще бы не поняли.
Подростки, с хихиканьем шагавшие за учительницей из комнаты в комнату, высокомерно и презрительно отпускавшие замечания по адресу неуклюжих свидетельств былого труда, опять-таки не поняли бы этого вопроса, но по другим причинам: им предательство кажется насущным хлебом истории. Луиза, мысли которой шли совсем иными путями, шепнула на ухо Эллен еще одно изречение, хранившееся у нее в памяти:
Густав Адольф, наш герой, Дав под Брайтенфельдом бой, Веры спас чертог святой[11].Сегодня ночью во сне, подумала Эллен, я предала человека с косой. Побитые, мы едем домой. Печаль оправданна. Ну а что, если осталась одна только заповедь верности и стремление повиноваться ей, но нет уже никого и ничего, кого или что можно предать? Если все без логики соединяется и по логике рассыпается?
Конца покуда не видно. Круговращенье голосов в голове продолжается. Стоило бы, сказала Эллен Яну, написать Святую Иоанну; но этой Иоанне стойкость ни к чему, она должна отречься. — Значит, Иоанну, которую оставят в живых? — Отнюдь. Она отречется, и тогда ее тем более сожгут. Она ведь в любом случае предательница. Во втором случае — предаст себя.
10
Любое возражение справедливо лишь короткое время. Рассказ убивает свой материал, пожирая его. Луиза не знала, а только догадывалась о жестоком законе искусства: оно кормится частицами тебя самого. Желать этого невозможно, она никогда не допустит, чтобы какой-нибудь из ее талантов сгустился в произведение, но невозможно и отступиться от стремления желать этого, сделать это, — вот и живи в противоречии, с вечным сознанием собственного несовершенства. Разве достаточно иметь глаза, обладать даром видения? Быть наделенной и обремененной способностью чувствования, чуть ли не переселения в другого, не обязательно в человека, можно и в животное. Она же не виновата, просто она знала, что происходило в ее кошке, когда смотрела на нее, и внутреннюю жизнь собаки Люкса она видела насквозь, до тонкостей. А уж в духовном развитии Крошки Мэри разбиралась так, будто сама ему способствовала. И вряд ли стоит говорить, что она не могла дать отпор ни единому требованию, кто бы его ни предъявил, тем более если оно исходило от ребенка.
На кухне готовили раков. Пока что они были живы. Ян сложил их в тазик с водой и выловил тех немногих, что прикинулись мертвыми, трусов. Остальных же побросал в кастрюлю с кипятком; отвернитесь, если вам не по себе, съесть-то потом все равно съедите. А сам следил, как они краснели, становились красными «как раки». Белое вино поставили охлаждаться под струю воды, порезали свежий черный хлеб, разложили на дощечке сыр. Надо будет в ближайшее время купить пропановую плитку, чтоб пресечь это безобразие с электричеством. Хорошо хоть большой калорифер в передней комнате наладили, зимой он докажет свои высокие качества и убедит сомневающихся. Пока варились раки, Ян обсудил с Антонисом оптимальную схему электропроводки. Тепло, вода, свет — вдруг уже не данности, а строптивые живые стихии, которые надо ловить и подчинять себе, их наличие или отсутствие становилось предметом детального обсуждения. Здесь они возвращались назад к примитивной жизни (впрочем, что значит «назад», что — «вперед»?), только чтобы затем поспешно наверстать ступени цивилизации.
История с косулей никак не шла у Яна из головы, он же видел ее, не приснилось же ему: в ложбинке, прямо возле бывшего придорожного трактира лежала косуля; он сразу позвал Антониса, который бродил вокруг дома, заглядывал в слепые, без занавесок, окна: Эй, Антонис, там косуля, раненая! Он мог бы точно описать ее, до сих пор воочию видел перед собой — зияющая рана в правой задней ляжке. Лужа крови. И взгляд, главное — взгляд. Все его детство сосредоточилось в этой картине. Лес. Вот он один на тяге. Наблюдает за дичью, он так хорошо знает ее, до тонкости изучил ее повадки. Участвует загонщиком в облавах. Вдыхает запах крови, идущий от освежеванных туш. Ощущает вкус свежей жареной печенки. Он видел себя мальчишкой. Чувствовал этого мальчишку в себе. Его одиночество. Его удачи. Его мечты.
Женщинам он крикнул, чтобы сидели в машине. Зрелище не для них. Конечно, надо будет позвонить в ближайшее лесничество, они должны что-то предпринять. Но сперва пускай Антонис увидит косулю. Ян пошел первым. Вот и ложбинка, невысокие кусты. Вмятина в траве, на том месте, где лежала косуля. Лужа крови. А косули нет. Немыслимо. Не могла она далеко убрести. Да еще с такой быстротой. Уму непостижимо. Косуля же была при смерти, а он ее спугнул. И теперь животное в муках издохнет где-нибудь в чаще от этой раны, а не от выстрела, который положил бы конец его страданиям. Штрафовать надо таких охотничков, сказал он тогда, и эта же мысль мелькнула вновь, когда он вынул раков из кипятка и в большой белой миске отнес на стол. Горели свечи. Вы видите? — сказала Луиза. Невозможная красота, правда? Да, подумала Эллен, но почему мы все время должны уверять друг друга в этом. Хватит мечтать! — сказал Луизе Ян. Сходи за вином. Луиза, крепко держа бутылки за горлышко, воскликнула: А вдруг уроню?! — Принесешь новые, только те на холод не ставили. — Ну, как скажете.
Эта косуля-призрак уже их не покинет. Снова и снова они поневоле будут представлять себе ее взгляд. Молча сели в машину, поехали прочь. Ян знал, Эллен думала о том летнем дне года два-три назад, когда они, точь-в-точь как сегодня, подъезжая на машине к деревне, прямо у околицы услыхали громкий хлопок, в котором только он сразу признал выстрел, а мгновение спустя тот отвратительный звук, с каким пуля вонзается в плоть, и лишь потом увидели косулю: ни о чем не подозревая, она паслась возле последних домов деревни и теперь, точно в удивлении, падала, медленно-медленно, как в «лупе времени». Метрах в двадцати, не больше, они заметили и охотника, с ружьем на изготовку он припал на одно колено за штакетником, возле дороги. Испуг Эллен, слезы, возмущение. Подстерегать дичь здесь, у самой деревни! — А что ты хочешь? Чтоб тебя избавили от зрелища убийства? Как и тогда, сегодня он тоже с виду спокойно сидел за рулем, не в состоянии оглянуться на нее, а она в свою очередь положила руку Луизе на плечо, Луиза резко вздрогнула. Зря он не стал лесничим, не осуществил заветную детскую мечту. За какую-то долю секунды перед ним промелькнула другая жизнь, неприметная, уединенная жизнь, которая была бы ему весьма по душе. Жизнь с другой женщиной, с другими детьми, сосредоточенная не на тайне сочинительства, а на чем-то совсем другом. Место книг заняла бы природа, общению с книгами не мешал бы профессионализм, они сохранили бы свое волшебство. Зато лес — поприще профессиональной деятельности — утратил бы свои чары.
Ян наливал вино. Как часто Эллен видела его таким: вот он стоит, сначала, демонстрируя этикетку, расхваливает достоинства вина, потом, слегка повернув бутылку, наклоняется над столом, так что свет лампы падает на его волосы, и наливает. Все подняли бокалы. Положили себе на тарелки раков, отломали шейки, раскрыли, вытащили нежно-розовую мякоть, сбрызнули лимоном. На закуску темный ржаной хлеб, свежее масло. Вино в старинных бокалах отсвечивало бледной зеленью, выпили торопливо, с жадностью. И почти в тот же миг слегка захмелели. Эллен любила эти первые минуты, когда вино, выпитое на почти голодный желудок, начинает действовать, обостряет способность радоваться, не затуманивая чувств и не обманывая мыслей. Опять — на это уж и надежды не было — вокруг нее будто создавался некий ландшафт. Он дышал в лунном сиянье всеми оттенками света и тьмы, хотя она и не видела его.
Ужинали поздно. День выдался долгий, Антонис послезавтра уезжает, для него это последний день, то, что не сделано сегодня, он уже не завершит. Значит, нужно было обязательно наведаться в те дома. Купить сундук. Какой сундук, Антонис? Увидите. Сжалься. В спину-то не стреляйте.
Мне будто только этой поездки и недоставало для полного счастья, подумала Эллен. Дом, к которому они подъехали, одиноко стоял у до рога, в поле, на семи ветрах, как на ладони у Господа Бога. Крепкий дом, крыша в полном порядке, стены сухие, но внутри, похоже, обитал отнюдь не добрый дух. Хозяйка хоть и обрадовалась, когда они вошли на кухню, им от этой радости проку не будет, ведь разве они желанные покупатели? Спокойно! Адреса у Антониса всегда были под рукой. Вы нездешняя? — спросил у женщины Антонис. Нет, ответила она, из Западной Пруссии. До сих пор по выговору слыхать, да? Она скинула грязный фартук, но пронзительно-зеленый платок с головы снимать не стала. Интересно, каким женщинам к лицу эти деревенские платки? Госпожа Вайс открыла перед ними все двери — и как это они сподобились пройти по всем ее комнатам, запущенным и неухоженным, Бог весть как давно необитаемым? Эллен переглянулась с Яном: ну и живут люди! — Раньше, сказала женщина, здесь все было по-другому. Они поселились тут в пятидесятые годы, с четырьмя детьми, прежние-то владельцы на Запад подались. А вот кто теперь на их место придет? Нам, старикам, хозяйство уже не по силам, сказала женщина. Большой дом. Сарай. Хлева. Да и сад эва какой огромный. Вы его еще не видали. Не думайте, здесь не всегда было так. Боже сохрани. То ли было, когда ревматизм меня не донимал. Когда младшая дочка с нами жила. Вам бы тогда приехать.
Только ведь в ту пору, подумала Эллен, у нас бы не было причины ехать сюда.
Раки съедены, в четырех плошках на четырех углах стола кучками лежали их пустые, диковинно исковерканные панцири, свечи горели ярко и ровно, потом вдруг пламя затрепыхалось. На пороге стояла Крошка Мэри в ночной рубашонке. Вы все тут останетесь? Правда никуда не уйдете? Скажете мне, если уйдете? И маленькую лампочку у меня гасить не будете, да?
Что стряслось, Крошка Мэри? Да тут мы, тут. Как всегда. Никто не уйдет. Ты не одна. И лампочка горит. Да, можешь попить.
Значит, вы все время здесь будете?
Иди спать, Крошка Мэри.
Она ушла, упираясь. Но упорство у нее было иного рода, не как у детей, которым просто не хочется спать. Крошка Мэри боялась остаться одна. Эллен пошла за нею. Расскажи что-нибудь. Эллен рассказала про старика, которого они видели в кухонное окно, он ковылял из хлева. А что такое инвалид войны? Она не стала говорить Крошке Мэри, что старик Вайс потерял на войне ногу. Раненый, понимаешь? Он продемонстрировал им, что, несмотря на увечье, может влезть на высокую камышовую крышу сарая. Влез, закрепился там и начал латать худые места. Участок был обихожен лучше, чем дом. Перед ними открыли все хлева, все тяжелые двери, в одном стойле обнаружилась господская карета; тоже почти в полном порядке, воскликнул господин Вайс, была бы лошадь, я б ее запряг и поехал кататься. Потом их провели за живую изгородь, в яблоневый сад, между прочим наверняка потрясающее место для работы — кустарник-то никакой ветер не пропускает, надежный заслон, уверяли хозяева, и полежать там хорошо на травке промеж деревьев, в небо поглядеть, хотя бы и в костюме Адама, коли охота, сквозь эту живую изгородь ничегошеньки не видать, можете сами удостовериться. Они удостоверились. Опять к ним примеряли чужую жизнь. Зачем они сюда явились? Антонис вел разговор так, будто в самом деле решил купить усадьбу. Иначе нельзя, объяснил он. Ты должен сам в это верить, иначе никто тебе даже хлев издали не покажет. Его мозг автоматически сравнивал текущие предложения с запросами друзей, хранившимися у него в памяти.
С другими тоже так было? Они тоже думали, будто этих стариков впрямь ни разу в жизни не тронуло то, что мы называем литературой, печатным словом? И тоже были удивлены, чуть ли не ошарашены, когда старик Вайс привел их обратно в замурзанную комнату, к единственному чистому и ухоженному предмету обстановки — книжному шкафу? Как же он упивался их слегка преувеличенными восторгами по поводу его содержимого. Да, история. Он всегда ею интересовался. Здесь это не редкость, сказала Луиза, поразительные люди. Они вспомнили, как господин Вайс взял с полки недавно вышедшую книгу о Веймарской республике, взвесил ее на ладони и сказал: Половину страниц долой — аккурат, поди, только половина вранья останется. Он был почитателем Гинденбурга, берег его фотографию и ради них вытащил ее на свет Божий. Они качали головой, говорили мало, но поневоле выслушали еще, какая подкладка была у островерхой каски времен первой мировой войны, чтоб солдату голову не жало. Обо всем подумали, кроме как о том, что вражеский снаряд может этак несуразно отхватить ногу, ведь сколько лет прошло, прогресс эвон куда шагнул, а протез к культяпке приделать все равно не сумели. Господин Вайс назвал поле сражения на Востоке, где сгинула его левая нога. Странное дело, сказала Эллен некоторое время спустя, за сыром, странное дело, когда мы шли к машине, мы вдруг в один голос спросили друг у друга, какого числа у нас, собственно, двадцать шестая годовщина свадьбы. Из года в год мы забываем эту дату, так почему же вспомнили о ней именно у старика Вайса? Они пошли по мысленному следу, и привел он их сперва к кой-каким юношеским портретам отцов, к фотографии с шишаком над безусым лицом, к старомодным словам «поле сражения» — жуткое место, где отцы, пригнувшись, бежали в атаку, падали, вскакивали и снова бежали вперед, примкнув штыки, с винтовками наперевес у правого бедра. И Ян ощутил в себе слабое эхо протеста, смешанного со страхом и отвращением, — протеста против всяческой солдатчины, против мужских содружеств и чисто мужских компаний, попоек и бахвальства, а Эллен вспомнилось, что когда-то давно у них был насчет этого разговор. Очень, очень давно. А точнее… Они начали высчитывать, обстоятельно и сбивчиво, вот тогда-то разом у обоих и возник вопрос о годовщине свадьбы. Что их не особенно удивило, они привыкли к таким совпадениям.
Н-да, сказал Антонис, Гинденбург и Мекленбург. Кто бы мог подумать. Какое-то слово наподобие «вымирать» витало в воздухе, вслух оно было произнесено в их спокойной, теплой, оживленной кухне: если «немцы» в самом деле родовое понятие, то существует подгруппа, которой надо было вымереть вместе с гинденбургами. Они уехали прочь, а за ними полетела надежда двух этих стариков; чем дальше будет мчаться машина, тем больше разочарования будет в стариковской надежде, а в конце концов они молча, ведь уж почти и не разговаривают друг с другом, вернутся к своим будничным заботам. Стоило ли нам вообще ездить туда, наверно, лучше было бы не доводить до этой вспышки надежды. Обычные пустые разговоры.
Ян терпеть не мог, когда любое простенькое удовольствие — хороший обед, встречу с друзьями — портили притянутыми за волосы сомнениями. Ведь сомнения-то так сомнениями и оставались. Серьезных выводов из них никто не делал. Всяк лишь норовил обелить себя, вот и умудрялся ради очистки совести выцедить оправдание из собственных оплошностей, из самых что ни на есть опрометчивых формулировок. Это-де он и считает самообманом. Эллен тотчас же в подхват: Они же тут якобы затем, чтобы спокойно поработать. Спокойно! И голосом показала: в кавычках. А в душе-то ведь знали, и шли на это, и даже радовались неким закоулком сознания, что именно здесь, в доме, пока они его обживут, то есть несколько летних сезонов кряду, спокойная работа невозможна? Выходит, на самом деле они что же, бежали от работы?
Антонис не любил, когда Луиза слушала такие взрослые разговоры; какой он найдет ее, вернувшись, если послезавтра покинет на долгие недели, что за мысли ей тут навнушают? Хотя, с другой стороны, он был рад, что оставляет ее в безопасности. А Луиза думала: наша кухня превратилась в гондолу, становится все легче, легче, взлетает, парит. Если выглянуть сейчас в окошко, вершины деревьев будут уже под нами. Лечу вертикально вверх! Вверх! До первых звезд ужас как далеко, а я в дальние выси забираться не стану, вот никто ничего и не заметит. Это чувство парения она уже испытала сегодня, хотя и не так остро. Антонис стремился уберечь ее от вопросов, которых и сам себе почти не задавал. Но берег-то он не ее, а себя. Сам того не зная. И она ему виду не показывала. В паренье, всегда в паренье. Только Ирену — она пришла с Клеменсом, подсела к столу, быстро, с блестящими глазами, осушила бокал-другой вина, — Ирену так и подмывало выпустить из летучего шара воздух, проткнуть его иголочкой. Ведь совершенно же ясно, сказала она, снисходительно улыбаясь, что по всей стране эти старые крестьянские дома заняты старшим поколением, теми, кто всю жизнь вертелись как ужи на сковородке, бежали от самих себя. Видно, движение заменяет им утраченную цель. Которой у следующего поколения вообще никогда не было. Назад к природе — чем не лозунг в канун революции. Но как прикажете понимать, если люди, некогда горой стоявшие за перемены, теперь потихоньку бегут в деревню? Что это — капитуляция? Она-то просто прикидывает, как могут истолковать этот процесс другие. Вершить суд — не по ее части. Она просто пытается понять это скрытное, загадочное поколение, их былой энтузиазм, их нынешнюю разочарованность. Ведь они держат все позиции. Захлопывают перед носом у молодых все двери. Гребут под себя все права, в том числе право на сопротивление.
Бесспорно, можно и так посмотреть. Приравнять неспособность действовать к вине. А вина в том, что они отказывались от своих планов и проектов, откладывали их, один за другим, поскольку все это с большими или меньшими издержками, более или менее грубо отметалось. Не мытьем, так катаньем — иначе вроде и не назовешь. Вот и прячься теперь туда, где ничто тебе не скажет, как сильно ты провинился, отрекаясь от себя.
Это, сказал Ян, бесполезное нытье. Всему свое время — во что-то верить и бороться за это; ощутить пределы собственных иллюзий; одуматься, взять новое направление и попробовать заняться другим.
Другое, сказала Эллен. Что же? Цветы выращивать?
Ян возмутился: А что бы ты хотела?!
То-то и оно, сказала Эллен.
Крушение, грустно подумала Луиза. Воздушный шар опять на земле. Она помогала Эллен мыть посуду, процедура была обстоятельная, требовала большого количества подогретой на плитке воды и сложной последовательности мисок, из которых Эллен скрупулезно воссоздала моечную систему, изобретенную ею — не один десяток лет назад — недалеко отсюда, в сенях такого же крестьянского дома. Беженские времена, вскоре по окончании войны. Эта вот миска, сказала она Луизе, которая с оббитым краем, уцелела еще с той поры. Как давно я об этом не вспоминала.
Луиза сказала: Знаешь, почему я давеча так перепугалась из-за бутылок? Я еще маленькая была, и однажды меня послали в подвал за вином, ладони от волнения взмокли, бутылки на глазах у родителей и гостей выскользнули из рук и разбились о кафельный пол. Ты не представляешь, какой это был ужас.
Луиза, не умевшая ненавидеть. А ведь ее взгляд пылал самым что ни на есть кровожадным огнем, когда она говорила об отчиме, наконец-то могла рассказать о нем, подумала Эллен. О бывшем офицере-подводнике. Ты же не знаешь, Эллен. Понятия не имеешь.
Может, она и правда не знала. Не имела понятия.
Когда они вышли на крыльцо, все сидели возле дома впотьмах, Дженни и Тусси стояли у забора, вернулись с велосипедной прогулки. Купаться по вечерам — полный бред. Луиза подхватила словцо, совершенно к ней не подходящее. Помните? Прошлогодний приезд Ирены и Клеменса она тоже назвала «бредовым». С самого начала все было до ужаса неправдоподобно, сказала она. Она стояла на кухне у плиты, в весьма легкомысленном одеянии, жарища ведь, рассказывала Луиза, как вдруг в кухню ворвался какой-то человек, в городском костюме, в белой рубашке, при галстуке (честное слово! — твердила Луиза), потный весь, запыхался, он спросил у нее — и все в спешке, торопливо, — как пройти к госпоже Доббертин. На улице дожидалась в такси Ирена. Я-то знала, с кем имею дело, и ему бы тоже не грех было знать. Ведь именно я нашла им жилье у госпожи Доббертин и написала, где ее дом, а где наш. Только ему и это не подсказка. Он был как угорелый, как чумовой от городской суеты и ничего не соображал. — А ты? Ты что, рот открыть не могла? — Да ни в коем случае. Я ему дорогу показала. — Она совсем оробела, сказал Клеменс. — И он тоже, сказала Луиза. — Ага. В непривычной обстановке он всегда робеет. — Зато после! После его как подменили. Через два дня он уже сидел у них на цоколе колонки и играл овцам на поперечной флейте. — А я, крикнула Ирена, я пела.
У Дженни своя печаль. По дороге они с Тусси задались вопросом, с каких, собственно, пор существует навязчивая идея о счастливой любви. Ведь все просто в восторге от этого миража, ни о чем другом никто и не помышляет.
Они перескочили несколько веков, забрались в рыцарские времена. Ах, презрительно фыркнула Дженни. Миннезанг. Она-то имеет в виду иное. С каких пор перед внутренним взором каждого европейца при слове «счастье» сразу возникает пара: стоят друг против друга, а между ними бьет «молния». И прочая ерунда. Романтическая любовь вместо жизни. Ну и все такое.
Да ведь любовь существует… Да она что же, совсем без этого хочет… Да разве она не знает… Как ни странно, напали на Дженни мужчины. Так они, похоже, больше всех и выиграли от романтической любви, сказала Дженни. «Погляди, луна над Сохо!» Спеть? — воскликнула Ирена. Спеть, а?
Пес Люкс черной тенью перемахнул невысокую калитку. Зашел Фриц Шепендонк, спросил, нет ли пива. В такую поздноту, Фриц? — Угу. Иной раз надо, сказал он. Как следовает все обмозговать. Мы, конечно, люди маленькие, а все ж таки тоже и нам неохота в дураках-то оставаться. — Понятно, Фриц. — Неохота. Это уж точно. В одном можешь мне верить, на все сто: Господь, он, слышь-ка, совсем другой замысел имел. Аккурат наоборот планировал. — Н-да, Фриц. Может, ты и прав.
Потом над коньком крыши поднялась луна, мы разошлись по домам. Попрощались с Антонисом и обещали присматривать за Луизой. Жаль, сказала Ирена, что пояса целомудрия вышли из моды, а, Антонис? — На подобные реплики Антонис не отвечал. — Белла же приедет, быстро сказала Луиза. С Йонасом. — Жена обо мне скучать не будет, сказал Антонис. — Наконец-то твоя жена в загул ударится, сказала Дженни. Уж я позабочусь.
Все невинно. Совершенно невинно — с точки зрения сегодняшнего дня. Невозвратная невинность. Луиза и Антонис молча пошли домой через холмы, предчувствуя, как будут тосковать в ближайшие недели. Клеменс доказал Ирене, что она — именно та женщина, от которой он зависит. Дженни и Тусси вытащили на улицу под вишню надувные матрацы. Ян сказал, что очень устал. И прямо сейчас идет спать. Лежа в постели, Эллен еще слышала по радио победную песню трубы, которую много лет назад передавали часто и никто не обращал на нее внимания. И вдруг эта музыка всколыхнула в ней прошлое, ностальгию почти до слез. Что со мной? — спросила она себя. Чувство, которое она забыла. Отчего же мне так больно? Оттого, что я привыкла, как все, никогда не делать в точности то, что хочу. Никогда не говорить в точности то, что хочу. И, вероятно, сама того не замечая, я уже и не думаю то, что хочу. Или должна бы думать. Вероятно, это и называется капитуляцией, и не так уж оно драматично, как я себе раньше представляла. Раньше, когда капитуляция для меня совершенно исключалась. Когда я была другим человеком, которого никто из моего нынешнего окружения не знает, кроме Яна. Человеком, которого я и сама почти забыла. Которому была созвучна песня трубы. Целиком и полностью. Да. Ну а теперь, ради Бога, не вздумай сваливать собственную метаморфозу на обстоятельства. И пускаться на увертки. Этого еще не хватало. Тогда тебе конец.
Эллен уже знала, что подобные упражнения в проницательности удавались ей не всегда и что она вот-вот привыкнет и к этому. Труба умолкла. Она уснула.
11
Приложение. Для полноты картины, от удовольствия рассказывать и чтобы сохранить то, что, когда мы еще умели видеть, было уже на грани — на грани небытия. Вот почему, пока Антонис едет в поезде по разным странам, час за часом смотрит в окно, — вот почему мы намерены опять приблизиться вместе с ним к усадьбе Форфаров, ведь после нам никогда уже не увидеть ее такой, как в тот день. Здесь — мы сразу поняли, хотя и не смогли бы сразу сказать, какие признаки указывали на это, — перед нами была неколебимость. Гордость. Традиция. Ты уверен, спросили мы Антониса, что они собираются продавать? Антонис только устало закрыл глаза. Он был уверен. Длинный дом — красный клинкер, фахверк, камышовая кровля — вытянулся в неглубокой лощине, укрытый от всех ветров, наметанным глазом мы мгновенно оценили безупречное состояние двора и просторных, крытых камышом хозяйственных построек. Каменная лесенка вела в дом, прямиком в слегка приподнятые над землей сени. Антонис осмотрелся, со значением взглянул на нас: мебель в стиле модерн! Шкаф с антресолями, с цветными стеклянными окошечками — такой теперь не часто увидишь. На удивление моложавая госпожа Форфар, столь же крепкая, как и ее дом, провела нас направо, в комнату, усадила в современные кресла и, по нашей просьбе, сняла со стены раскрашенную от руки гравюру, изображавшую форфаровскую усадьбу в конце XIX века, чистенькую, удобную, хорошо спланированную. Ян долго держал гравюру в руке.
Мужчина, который затем появился в комнате, превзошел все наши ожидания. Вильгельм Форфар, могучий, огромный, из которого, как мы позднее говорили, с легкостью можно было бы сделать двоих. Наши руки по очереди исчезали в его правой лапище. Мы озабоченно следили, как он усаживался в самое обычное кресло. Массивная голова, покрытая почти белым ежиком волос, казалась маловата для такого туловища, лицо апоплексически-красное, водянисто-голубые глаза, спрятанные за мясистыми выступами щек. Этот человек не боялся сказать правду. Н-да, продать, конечно, придется, он стареет, а смотреть, как усадьба разваливается, он ни под каким видом не желает. Грубый чурбан, думали мы, но и жалко его было, когда чуть надтреснутым голосом он сказал, эта, мол, усадьба принадлежит семье Форфар пять веков. Ничего себе, сказал Антонис — и не покривил душой. В ходе неспешного обмена вопросами и уклончивыми ответами, в обрывках разговоров и намеках, пока мы прихлебывали домашний черносмородиновый шнапс, выяснилось, что в начале пятидесятых Вильгельм Форфар в числе последних прекратил сопротивление кооперативам; что он так и не смог примириться с утратой собственности, а главное, с проистекавшей отсюда утратой уважения, так и не смог пережить, что у него отняли право распоряжаться землей и людьми. Властолюбец, подумали мы. Работяга. Представитель исчезнувшего вида, внушавший нам робость. Вильгельм Форфар работал в окружном центре на бойне, с тех пор как много лет назад окончательно рассорился с кооперативом. И вообще, он чуть ли не со всеми был на ножах. Когда он показывал нам дом, мы заметили, что он не щадил и жену, которая была двадцатью годами моложе и везла на себе прорву работы во дворе, в доме и в саду. Угу, жена моя, она все тут и делает. Мы не скупились на похвалы, а у самих скулы сводило. Вильгельм Форфар сообщил, что год-другой назад устроил ванну и центральное отопление. Для жены. Чтоб полегче ей было. Луиза посмотрела на Эллен. Этот чурбан боялся потерять на старости лет молодую жену и кафельной ванной выразил свой страх и мольбу не бросать его — иначе он не умел. Госпожа Форфар в это время стирала в большой, дочиста вылизанной, вымощенной кирпичом кухне. Раньше, сказала она, здесь обедали человек десять — пятнадцать, а теперь обычно я одна. Боязно ведь. Вы, может, видали здоровенный огород, сплошь засаженный, как всегда. Для кого только… И по ночам я все больше одна, муж-то частенько в позднюю смену работает. А уж как он выдержит переезд…
Так вот, он не выдержал. Еще до переезда, спустя неделю-другую после нашего визита, он умер в больнице от инфаркта. Цену за усадьбу Форфар якобы запросил до смешного низкую, но, когда мы опять стояли во дворе и его жена не слышала нас, он сказал, что, скорей всего, продаст какой-нибудь молодой семье, которая станет работать в кооперативе. Тут все по закону. Нам бы клааровский дом посмотреть, в нем уж месяца три никто не живет. Он объяснил, как туда добраться. При всей грубости и бесцеремонности, почувствовали мы, в нем еще уцелела толика великодушия. Когда мы, отъехав на порядочное расстояние, оглянулись, усадьба ярким пятном проступала среди зелени. Объемная, как бы вырезанная из пейзажа, выдвинутая на передний план. С четкими контурами. Будто выставленная напоказ кому-то, в последний раз. Старый Форфар быстро ушел в дом.
Неизбежно, наверно, что, глядя на сочную реальность форфаровского имения, мы показались себе чуть нереальнее, капельку бледнее, прозрачнее, немножко слабее. Как здесь обеспечить правдоподобие, думала Эллен. Она видела, Ян искал в зеркале заднего вида взгляд Луизы. Как странно, что двое настолько разных людей, Ян и Луиза, в иные мгновения чувствовали одно и то же и, робко, виновато, догадывались об этом. Эллен искала слово, подходящее для обоих, и неожиданно нашла: ранимость. Своего рода ожившая память, ведь именно это, в точности это самое много лет назад привлекло ее к Яну. Извечное чувство, вдруг шевельнувшееся вновь. Как волшебство, сила которого может ослабеть, но не может исчезнуть, которое так прочно вплетено в повседневность, так надежно в ней укрыто, что у него нет более потребности выразить себя в слове. Луиза в словах не нуждалась, она распознавала людей иначе, без помощи речи, и Ян тоже не искал слов для своих взглядов, что временами потерянно покоились на Луизе.
Мы уже проехали деревушку, уже свернули на новое шоссе — узкая, крошащаяся по краям полоса гудрона вела к новому кормозаводу, а возле нее, в добром километре от деревни, стоял клааровский дом, издалека заметный благодаря тополям, которые летом закрывают его от северо-восточных ветров и от глаз проезжающих по дороге.
Ян затормозил. Нам туда? Его недовольство передалось другим. Было четыре часа дня. Жара и усталость давили на веки. Смотреть клааровский дом не хотелось никому, кроме Антониса. Ну пошли, сказал он. Раз уж приехали.
Безотрадное запустенье — вот что мы ощутили. Воздух будто остывал с каждым шагом, который приближал нас к усадьбе, большому квадрату, с трех сторон обрамленному постройками. Объяснение досаде отыскалось, только когда мы очутились перед жилым домом, замыкающим квадрат, — вытянутым в длину, вполне соразмерным, солидным зданием под черепичной крышей. Безотрадное запустение. Этот дом не развалился, он был разрушен. Обойдя его вокруг, мы увидели их — этапы разрушения. Первым делом выбиваются стекла, чтобы сырость и ветер могли похозяйничать в доме. А их просить не надо, они мигом вгрызаются в стены. Проникнуть внутрь оказалось несложно, только зря мы туда полезли. Сердце разрывалось при виде прекрасных старинных кафельных печей — чтобы их расколоть, пришлось, наверно, здорово потрудиться. Или старинные шкафы — двери сорваны с петель, искорежены, разбиты. Растерянно, молча шли мы по комнатам. Ни одной целой двери, проводка испорчена. Ян думал о том, как они мальчишками забирались в брошенные дома, искали пристанище, тайком располагались там, курили, припрятывали запасы. Но чтоб ломать? Зачем? Откуда эта ненависть к исправным вещам? Мы глазам своим не верили, мы злились, но мало-помалу все чувства вытеснила тяжкая подавленность. Сельская безмятежность, в которую мы скоропалительно уверовали, ибо так нам было удобно, чуточку повернулась и показала другое свое обличье, незнакомое, мрачное, грозное и опасное. Мы зябко поежились. Скорей бы уехать. Антонис успел перерыть чердак, нашел несколько бутылок из зеленовато-бурого стекла, выпущенных мекленбургской фарфоровой мануфактурой и уцелевших только по невероятной случайности, да несколько кусков прочного сурового полотна, какое, бывало, ткали в любом крестьянском доме на приданое дочери. Можно сделать из него дорожки на стол. Идем! Прочь отсюда! Мы сбежали, опять через заднее окошко. А уж птичью клетку в крапиве за домом нам бы лучше не замечать, ведь Луиза, не обращая внимания на резкий окрик Яна, конечно же, подняла ее и долго смотрела на истлевший меховой комок внутри, пока не поняла то, что мы, остальные, уже уразумели: там заперли кошку, и она умерла с голоду. Луиза жалобно вскрикнула, Эллен крепко взяла ее за плечо и отвела к машине, а у самой лицо стало как каменное и к горлу подкатывала тошнота. Они поехали прочь. Немного погодя Эллен спросила: кто же это вытворяет? — Вот они, сказал Ян, кивнув на компанию подростков, которые, стоя у деревенского магазина, дымили сигаретами, пили и громко шумели. Они ничего при этом не думают. То-то и оно.
На первых порах в деревне сочная предметность имеет и еще один смысл, в ней проступает символическая, притчевая реальность, какой мы в городах уже не замечаем. Клетка с мертвой кошкой была предупреждением, мы никогда не заговаривали о нем, но оно глубоко потрясло нас, в преображенном виде оно блуждало по нашим снам: сколько ночей мы сами были этой кошкой, сколько страха выплескивалось, когда за каждым из нас снова и снова запирали дверцу клетки. Злой дух, с которым мы не умели бороться, выступил нам навстречу, тут не обошлось без лемуров, тень накрыла окрестный пейзаж.
Но Антонису в тот давний день надо было обязательно купить сундук, а там хоть трава не расти. Маленький крюк к дому лесничего, мы ведь не откажем ему в этом, а? К дому лесничего. Да. Там сундук. Какой сундук? Тот самый, из-за которого он целый день таскал с собой такую прорву деньжищ. Вот оно что. А мы, значит, вроде как охрана при инкассаторе. И об этом ты ни гугу. Ну теперь-то вы знаете. Если он не купит нынче сундук, то глаз в дороге не сомкнет.
Мы знали: так и будет.
Вот вы удивитесь, провозгласил он. Мы сказали, что уже сейчас удивляемся. Это он пропустил мимо ушей. И проинструктировал нас насчет того, как вести себя на переговорах: не выказывать эмоций, способствовать покупке, сбивать цену. Жена лесничего — кстати, она алкоголичка и, вероятно в послевоенные годы, стащила означенный сундук из какого-нибудь замка — требует четыре тысячи марок. После недолгого молчания Эллен рискнула спросить, не сошел ли он с ума, а Луиза тихо сказала: Сошел! Антонис, однако, с напускным хладнокровием подсчитал, что за такую вещь в любое время выручишь восемь, а то и десять тысяч. Возможно, только ведь он никогда ничего не продавал.
Зрительных впечатлений было уже слишком много, равно как и мотанья туда-сюда по разным дорогам, Эллен вконец запуталась и нипочем бы не сумела объяснить, где находится этот дом. Ей вспоминались четыре пышные ивы, словно часовые у входа, ноготки вдоль дорожки и зеленая дверь, где перед нашим приездом грелась на солнце синяя туча жирных навозных мух. Не пугайтесь! — тихо сказала Луиза. Над дверью висели огромные оленьи рога. Особа, которая наконец-то открыла им, подтвердила наихудшие опасения. Ян и Эллен потом спорили, сколько ей лет — шестьдесят или меньше. Как минимум шестьдесят, твердила Эллен. От нее так и дохнуло могилой, неужто не заметил! Ну, ты скажешь. Могилой! Оно конечно, пахло плесенью, грязной одеждой и комнатной пылью, от роду не чищенной обивкой. А Эллен сказала, что несло заплесневелыми волосами, ей прямо чуть дурно не стало. Но прежде всего бросался в глаза лягушечий рот.
Сундук стоял в сенях, вещь очень старая, добротная, ценная, тут никто с Антонисом спорить не стал, сплошь резная, с железными накладками. Видали, прошептал он, пятнадцатый век. — Шестнадцатый, сказал Ян. Антонис сунул ему под нос книгу с изображением сундука: Пятнадцатый! Итак, сказал Антонис хозяйке, сегодня покупка состоится. Деньги у меня с собой.
Быстрый контрвопрос: Сколько? — Четыре тысячи. Как договаривались. — А… а как же берлинский профессор… — О нем уж которую неделю ни слуху ни духу. Я больше ждать не могу. Вот деньги. — Ну-ну, не так скоро.
Театр, ой, театр! Теперь бутылку на стол, Антонис, конечно, заранее припас. Ах, шельма! К бутылке никто не притрагивается. Сперва мы хорошенько поглядим на сундук. Значит, спектакль, баланс между восхищением и скепсисом, Ян входит в роль. Позволяет себе усомниться в возрасте сундука. В его подлинности, то бишь в обоснованности цены. Однако же тут режиссер внезапно теряет терпение. Молчи! — шипит Яну Антонис. Понятно: каждое слово против сундука — это слово против него. Впервые мы видим коллекционера перед вещью, которой он одержим. Наше дело — помалкивать. Ян успевает только несмело спросить, где Антонис намерен поставить свое чудище. Ну, это уж моя забота. — Ладно, ладно. — И вы ведь еще снизили цену? — спрашивает хозяйку Луиза. Та встряхивает заплесневелыми волосьями: Четыре тысячи! Это мое последнее слово! — Само собой! — говорит Антонис и энергичным жестом показывает нам: теперь говорю один я!
Мы вошли в комнату, на удивление прохладную в такую-то жару. Как в склепе, подумала Эллен. Она стояла у холодной кафельной печки рядом с мужем заплесневелой особы, бывшим лесничим. Он, похоже, не понимал, что здесь, собственно, происходит, радовался гостям и поминутно вздыхал, из глубины души: Ох-хо-хо! После чего супружница, даже не глядя на него, тявкала из-за стола переговоров: А ну, уймись и заправь рубаху в штаны!
Ян воспользовался своим умением произвольно отключаться от любого разговора. Ну при чем тут, спрашивается, болтовня о гриппозной волне. Жуткие подробности, которыми лесничиха пыталась оправдать состояние жилища. Полтора месяца пластом, во власти вируса! Эллен неудачно попробовала отвлечь хозяйку, спросив, откуда здесь рога и панно, покрывавшие стены, но лучше б ей этого не делать. Результатом были пространные, зачастую весьма бурные пререкания хозяев насчет происхождения буквально каждой пары рогов. Большей частью, как мы узнали, трофеи из Восточной Пруссии, где прошла молодость лесничего, об охотничьих заслугах которого супруги, странным образом, отзывались с полным единодушием. У меня каждый выстрел в цель попадал. Ох-хо-хо! — Что да, то да. А сейчас изволь заправить рубаху в штаны, у нас гости!
Панно с изображениями лесной дичи и леса, неописуемо уродливые, принадлежали кисти некоего близкого друга хозяев, он и теперь приезжает сюда отдыхать, писать этюды и охотиться. Отдыхал бы себе — и хватит, подумали мы, что не помешало нам безропотно отправиться вслед за хозяином к оружейному шкафу, где друг-художник и сейчас-де хранил свои охотничьи ружья. Стало быть, через сени, опять мимо бессловесного дорогого сундука, в охотничий кабинет — унылую, грязную комнату. К нашему удивлению, там действительно был оружейный шкаф, врезанный в пол и запертый на перекладину и наборный замок. Мы с любопытством наблюдали за прямо-таки нескончаемыми попытками лесничего отпереть замок. Где-то-где-то его усилия увенчались успехом, крышку подняли, однако тщательно сработанное, выложенное алюминиевой фольгой хранилище оказалось пустым. Конечно же, пустым, к нашему облегчению. Засим последовало нескончаемое, путаное-перепутаное наставление по обеспечению безопасности при хранении оружия. Но вот и оно подошло к концу, шкаф опять заперли на перекладину и на ключ, можно было вернуться в комнату, где Антонис как раз добрался до водки — налил полную стопку владелице сундука и крохотный глоточек себе. Мы вошли, когда они чокались. Ваше здоровье. — Ой, ну что вы, это уж вправду ни к чему. Премного благодарны. На здоровьичко.
А затем нам опять представился случай поучиться у Антониса. Ни один актер не сумел бы лучше подготовить и сыграть эту волнующую сцену. Он медленно, очень медленно полез во внутренний карман своей кожаной куртки, достал оттуда старый бумажник, к которому так и прилипли лесничихины глаза, не спеша положил его на стол, многозначительно глянув по сторонам, вытащил пачку купюр и наконец небрежно, но резко шмякнул ею о столешницу. Ну артист, прямо народный театр! И это был его последний неопровержимый аргумент. Наглядный. Эффект мы увидели тотчас же. Плутовская физиономия хозяйки разгладилась. Алчность смела остатки сопротивления. Она сдалась.
Ох-хо-хо! — вздохнул возле печки лесничий. Никто его не одернул. Хозяйка взялась пересчитывать четыре тысячи марок в сотенных купюрах. Процедура длительная, и ее надо было видеть. Единственный, кто не выказывал ни малейшего нетерпения, был совершенно счастливый Антонис. Тише вы! — прицыкнул он, когда лесничиха стала в третий раз пересчитывать четыре пачки по тысяче марок, а мы начали обнаруживать признаки недовольства. Считать нужно в спокойной обстановке. Все ж таки ни много ни мало четыре тысячи.
Спектакль близился к счастливому финалу. И тут старик у печки радостно сказал: А сейчас покажу-ка я вам оружейный шкаф.
Это было слишком. Вот так комедия вмиг оборачивается дешевым фарсом. Вообще-то нам уже было невмоготу, однако мы смирились и опять безропотно побрели за лесничим, у которого рубаха совершенно выехала из штанов, побрели через сени, опять мимо сундука, каковой, судя по всему, изменений не претерпел, опять в гулкий и пустой охотничий кабинет, опять в угол, к врезанному в пол оружейному шкафу. Опять глазели на бесконечную возню с ключами, обозревали пустую емкость под полом и слушали пространные инструкции по безопасному хранению оружия, которые за последние полчаса — по крайней мере так нам показалось — стали еще более путаными. Да, сказал хозяин, когда мы вернулись в комнату, у меня каждый выстрел в цель попадал.
Ты лучше рубаху в штаны заправь! — хлестнуло из-за стола.
Мы облегченно вздохнули. Оставалось только чин чином составить купчую. С этим Антонис покончил моментом — у него и бумага была приготовлена, и текст заранее продуман. Он подписал, дал подписать лесничихе, ведь еще немного, и она уже перо в руке не удержит. Во вкус вошла, пьет и не закусывает. Ян попытался представить себе батарею бутылок, в которую можно превратить четыре тысячи марок. До сих пор хоть и с трудом, но соблюдалась проформа, теперь же она была начисто забыта, благоприличие и вежливость как ветром сдуло, в жилище лесничих воцарился хаос, самое время было ретироваться. Правда, хозяин с настойчивым дружелюбием предлагал взглянуть хотя бы на его оружейный шкаф, однако хозяйка, которая пошатываясь стояла в дверях, цыкнула: Да заткни ты наконец свою поганую глотку! На ходу она в поисках опоры хваталась за мебель. Гриппозная волна, дескать, все никак ее не отпустит. Ох-хо-хо, послышалось у печки. — Рубаху в штаны!
Завтра, озабоченно сказал лесничихе Антонис, завтра я сундук заберу. Не забудьте. Я его купил. Он мой. Не вздумайте продать его еще раз!
Ладно, ладно, заплетающимся языком пробубнила лесничиха и распрощалась с нами, взмахнув рукой — величаво, как ей казалось, на самом же деле неловко, суетливо.
О происхождении сундука она словом не обмолвилась, ни трезвая, ни пьяная. С характером женщина, ничего не скажешь, заметил Антонис. Мы попытались развеять кошмар шутками. Яну вспомнилась фраза про «людей, которые до крови стерли ноги в переселении народов». А Эллен пришли на ум людские реки, хлынувшие под конец войны по дорогам Мекленбурга и ручейками просочившиеся в крестьянские дома, она сама тоже была каплей этих потоков. Теперь, тридцатью годами позже, ей встретились прибившиеся к берегу людские обломки, которые уже никуда больше не поплывут. Долгие годы, живя в других местах, она даже не вспоминала о них.
12
Помните, как продолжалось то лето? Как у Луизы поселилась Белла, вскоре после отъезда Антониса? Белла с сынишкой Йонасом. Они устроились в мансарде, где из окна открывался такой простор, что у Беллы, как она говорила, щемило сердце. Ну просто сердце щемит, сказала она в своей слегка декламаторской манере, и Луиза, робко стоявшая у нее за спиной, потихоньку перевела дух. — Да, я потихоньку перевела дух. И сказала: Щемит? Правда? Мне хотелось услышать это еще и еще раз. Спать мы все трое улеглись в другой мансардной комнатенке, на широкой кровати под греческим меховым одеялом, которое зимой греет, а летом холодит.
Помните, как они стали потом этаким товариществом и уже не могли посвящать нас во все свои внутренние взаимоотношения? Одно можно сказать наверняка: Белла, которая до тех пор вообще не была знакома с Луизой и приехала, только уступив нашим настояниям, но без особых надежд, лишь потому, что, как всегда, забыла вовремя позаботиться о путевках на лето, — Белла уже на второй вечер, когда они, сидя возле дома, потягивали вино, рассказала Луизе (а ведь та была намного моложе ее) историю своей жизни, неотделимую от истории ее любви, и тем самым заронила в Луизину душу бесконечную преданность и неугомонную заботу. Под добрым влиянием Луизы Белла бросила курить — запросто, говорила она, запросто! — ела по утрам ломти темного ржаного хлеба, толсто намазанные маслом, не пила до обеда ничего хмельного, да и после только разбавленное вино. Ах, до чего же хорошо, твердила она, покойно усаживаясь к окну, глядящему на дивной красоты пейзаж, что-то писала или не писала и думала о том, что впервые с рождения Йонаса может разделить с кем-то бремя ответственности за ребенка. А в общении с детьми Луизина натура обнаруживалась еще ярче, нежели в общении с взрослыми; робость и благоговение, с какими она относилась к детям, позволяли ребятишкам в свою очередь забыть всякую робость. Они приходили к ней стайками, приносили свои рисунки, которые Луиза увлеченно и восторженно с ними обсуждала, а потом пришпиливала к кухонной двери. С тех пор, конечно, много воды утекло, но вы, наверно, помните, что Йонас рисовал только крепости, форты и прочие военные сооружения, о которых знал невероятно много, и на каждой картинке — в глубинном отсеке, защищенном многослойной броней, — он изображал крошечную фигурку в каске и с мечом — себя самого. В первую же минуту, глядя, как он снаряжается: надевает тиковую жилетку с золотыми пуговицами и погонами, водружает на голову черную фетровую треуголку, опоясывается перевязью с красным пластмассовым мечом, без которого никогда не выходит из дому, в первую же минуту Луиза почувствовала всепоглощающую, болезненную любовь к этому мальчику. Потом она не раз слышала бесконечные, безысходные диалоги Беллы и Йонаса, вымогательские требования ребенка, замечала обиженные не детские взгляды любовника, не сына: Ты же мне обещала, что я пойду спать, когда ты! — Белла, с трудом сдерживаясь, отвечала, и тогда Луиза становилась между ними, от души желая все уладить, обнимала Йонаса, отвлекала, да еще и угрызениями совести мучилась. По-твоему, я не должна? — спрашивала она у Эллен, а та могла только сказать: Ах ты ребенок. Но ведь каждый видел, как расцвела Белла. Ночами, лежа в двуспальной Луизиной кровати — Йонас посреднике, — они держались за руки и разговаривали, пока небо не светлело. Она все понимает, говорила Белла. Откуда это у нее, не знаю.
Мне бы хотелось раздвоиться, думала Луиза, наконец мысленно произнося то, что давно уже чувствовала. Она произносила это в светлых утренних сумерках, держа в ладони ручку Йонаса, слыша сонное дыхание Беллы на другой половине кровати. Мне бы хотелось раздвоиться. Одна «я» останется здесь в кровати с Беллой и Йонасом, в этом большом старом доме, который облегает меня, точно мое собственное, только разросшееся тело. А другая будет с Антонисом, в том поезде, что вот уж третий день в пути, пересек, наверное, Югославию и сегодня пересечет границу Греции. Антонис, мне хочется раздвоиться.
Никогда, никогда она не скажет ему этого. Она могла поговорить об этом с Эллен, намеками, а лучше всего — с Дженни, та не судила, только вечно подначивала: Ну давай, смелее, вот так! Она не умела желать, в том-то и беда. Любое возникавшее у нее желание непременно оборачивалось виной, еще прежде чем она успевала его высказать. А надо уметь желать и даже требовать, буквально на днях твердо и безапелляционно объявила Дженни, а Эллен по этому случаю рассказала, с каким бычьим упорством Дженни в четырнадцать-пятнадцать лет отстояла перед нею свое стремление к независимости. Напролом шла, беспощадно. Вспомнить об иных ночных сценах, об отлучках до утра, без всякого предупреждения, о выпивках, что говорить — бессовестная игра на материнских страхах… Чрезмерные страхи, невозмутимо вставила Дженни, чрезмерная опека, от которой мать необходимо вовремя отучить. Для Луизы такое немыслимо. Обижать других — никогда. Как раз сейчас она осторожно, словно стараясь подальше обойти опасную пропасть, начала задаваться вопросом, почему из-за необузданных желаний каждую ночь наказывает себя таким вот безымянным страхом. Нет, наверно, человека более недостойного и порочного, чем она. Никому, наверно, не приходится так, как ей, все время заново завоевывать снисходительность других — слова вроде «дружба», «любовь» она даже и упоминать не смела. Ее охватил ужас. Прошлой ночью она стояла буквально на грани кошмарного открытия. Ей почти удалось разглядеть то, чего она больше всего страшилась: лицо мужчины, который пришел ее наказывать. Крупная, темная фигура на фоне светлого дверного проема, он шел к ней и вдруг, точно кто-то его окликнул, повернулся профилем к свету, и она почти различила его черты. Хорошо хоть, вовремя проснулась, от крика, который вырвался, правда, не у нее, а у Йонаса. Тише, малыш, тише. Здесь тебя никто не обидит. Он быстро заснул опять.
Она была совершенно уверена, что родилась на свет не для счастья. Неужели когда-нибудь рядом с нею будет лежать ребенок вроде Йонаса, только ее собственный? Она желала этого так неистово, что сама пугалась. Ну а если Белле, чтобы она могла целиком отдаться своему замечательному таланту, понадобится человек, который сделает для Йонаса все, на что у Беллы нет времени? Приготовит ему любимые блюда — он еще знать не знает какие, она их для него придумает, — спокойно и терпеливо посидит рядом, пока он будет есть с этой своей изнуряющей медлительностью. А может, и добьется-таки, чтобы мальчик немножко поправился. Станет играть с ним в его игры, однообразие которых доводило Беллу просто до отчаяния. Исподволь подсунет ему вместо доспехов, оружия и солдат мячик, тряпичную зверушку, конструктор. И день за днем с ангельским терпением будет отвечать на бесконечные, боязливые и настойчивые вопросы: А солнце правда никогда не упадет на землю? А кто за это поручится? А новой войны правда-правда не будет? А его мама не умрет, пока он не вырастет большой? А когда он умрет, вдруг его нечаянно положат в гроб живым и закопают? — Ах ты малыш. Как бы славно мы зажили втроем. Луиза день ото дня острее чувствовала, как этот чужой ребенок мертвой хваткой вцепляется в нее.
Да что ж я такое думаю. Прости меня, Антонис.
Во сне Йонас выглядел как любой пятилетний мальчик. Личико, днем сурово насупленное, разглаживалось, губы становились по-детски мягкими, даже переносица казалась менее острой. Светлые волосы, обычно спрятанные под шлемом, падали на лоб, руки, как у младенца, расслабленно лежали на подушке, флажками по сторонам головы. Ах ты малыш. Бедный мой, милый малыш.
Большой пустой дом, а в самой его глубине они — три живых, дышащих существа. Луиза прямо чувствовала, как ее дом, всю долгую сирую зиму мертвый, выброшенный на берег, на сушу, начинал дышать вместе с ними, в ритме их дыхания, темный старый зверь с клочковатой шкурой камышовой кровли. Или барка с красными бортами и белыми кольцами иллюминаторов, на плаву, наконец-то опять на плаву. С таяньем снега барка зашевелилась, ночами Луиза чувствовала это. Кряхтенье и постукиванье, потом журчащий шорох, особенно в глинобитном фахверке у западного ската крыши. Сердце разрывалось слушать, как старый дом стремился сняться с мели, высвобождался, дергал швартовы и наконец, когда все зазеленело, отправился в плавание, взял одних на борт — Беллу, красавицу мою, Йонаса, моего малыша! — других выслал в мир — Антониса. И поплыл, поплыл, среди влажной зелени, которая сейчас, под палящим солнцем, начала желтеть. Комнаты наверху, под камышовой крышей, если окна держали закрытыми, долго сохраняли прохладу. Но они высыхали, становились сухими как трут. Луиза видела, как в большой комнате, окна которой выходили на юго-запад, ссыхались половицы, как возникали широкие щели, как выползала на свет пыль десятилетий, как старое дерево перекрытий трухлявело на радость древоточцам, и она каждый день заметала струйки древесной пыли. При этом она беседовала с домом. Успокаивала его. Уговаривала. Ну что ты, что ты, иной раз слышала Белла. Дела не так уж плохи. Ты выдержишь. Все уладится.
А Белла сидела в мансарде и смотрела на поля, они катили к ней свои волны, и четкая линия мачт ЛЭП рассекала эти волны проводами. Она знала, Луиза держит Йонаса при себе и думает, что она, Белла, пишет тут стихи. А она не пишет. Она дала себе волю. Чуть ли не злоумышленно дала себе волю, подогревала свою ненависть к возлюбленному. Ей не хотелось ни орать на него, ни писать про него. Он упорхнул от нее во Францию, он ведь был из этой легкокрылой породы, и вот уж три недели ни звука. Верность, разлука, тоска — неужто вся жизнь моя в этом? Раны, одна за другой. Стихи, которыми все это норовило обернуться, на сей раз были встречены ею в штыки. Она будет сурова, во всяком случае, постарается быть такой. И не уступит сладостной тяге к слову, смягчающему все и вся. Пускай он почувствует, что отнял у нее и это. Меропова птица. Ну, а откуда это взялось?.. Зато Луиза. Какой же она ребенок. Быть доброй. Верить в добро. Сущий ребенок. Добрый к детям. Добрый к Йонасу, как никто, даже она сама не идет в сравнение.
Ковчег, думала Луиза, все еще лежа в постели. Надо обсудить это с Йонасом. Наш дом — ковчег. Каждой твари по паре. Начиная с древоточца, божьей коровки, мыши и крысы, сверчка, лягушки, крота, воробья и аиста, ласточки, овцы, собаки, кошки, лошади, коровы и кончая человеком. Вот весело будет. Луизе не терпелось обсудить с Йонасом подробности. Она…
Йонас вскочил, едва Белла пошевельнулась. Сел, как свечка, в кровати, широко раскрыв глаза. Что случилось?
Ничего, ничего. Йонас, тихо сказала Луиза, знаешь, что я подумала? Я подумала, мы втроем плывем в ковчеге, и ты у нас капитан.
Тогда надо бы хоть портупею с пистолетом надеть, от пиратов, сказал Йонас. Ну, это не обязательно, говорит Луиза, но раз ты так считаешь. Йонас натянул еще и новую кольчугу из серебристо блестящей ткани, которую ему сшила Луиза. Меч и щит остались у стены. Нужно все продумать, сказал он. Что, к примеру, едят аисты? Лягушек, хочешь не хочешь призналась Луиза. Ага, сказал Йонас. А если у нас всего-то две лягушки? От Беллы поступило предложение раздобыть лягушачьей муки, но Йонас мог и рассердиться, если над ним насмешничали.
За завтраком во дворе, прямо на солнцепеке, Луизе пришлось не только играть в ковчег, но и участвовать в игре ума, которую затеяли они с Беллой: уже который день они обдумывали, что будут делать, когда в одно прекрасное время отбросят все предрассудки и опасения. Чем они тогда сумеют заработать на жизнь, а заодно обеспечить себе радость, счастье и покой, вдали от всего, что зовется мужчиной, — нюанс, который внесла Белла и по поводу которого Луиза, памятуя об Антонисе, не высказывалась. Вдали от всего, что стремится подавить наше «я», измучить нас и подчинить своей власти, гневно сказала Белла, этот ее гнев мог, пожалуй, разгореться еще ярче — так оно и вышло. От всего, что норовит ткнуть нашу сестру носом в дерьмо.
Так от чего же?
Сегодня они решили открыть в городе кафе, на месте старого, богатого традициями магазина скобяных товаров, который вскоре будет ликвидирован, потому что хозяин, человек преклонного возраста, уже не в состоянии содержать его. Конечно, «кафе» — название условное, просто они еще не подобрали соответствующего наименования для своего замысла. Например, вполне можно было бы говорить о чайной, ведь, само собой, там будут подавать крепкий ароматный чай. Из самовара, который раздобудет Луиза, она уже знает где. А к чаю — собственной выпечки пирог, всегда свежий, причем лучше дрожжевой, со сдобной сахарной корочкой. Или кекс с миндалем и изюмом. А в обед, тут Луиза была непреклонна, два-три простых блюда, каждый день разные. Супчик. Овощи. Омлет с зеленью. Ну, это так, для примера.
А кто же станет все это готовить?
Тут у Луизы сомнений не было. Она сама справится. Это ведь легче легкого. А Белла пусть займет свое место за мраморным столиком у окна и пишет. В многочисленных ящиках старой магазинной обстановки, которую хозяин наверняка уступит им задешево, она разложит и спрячет свои бумаги. А под вечер, когда на улице вспыхнут фонари, она, если вздумается, сможет почитать новые стихи молодым людям, здешним завсегдатаям. И при желании обсудить их. Ведь это же очень важно: чтобы люди приходили к ним в кофейню поговорить друг с другом. Чтобы никто не сидел в одиночестве, когда на самом-то деле ему хочется общения. Один, сказала Луиза, принесет, например, гитару, сыграет, споет что-нибудь. Другой заведет новую пластинку, а может, допотопную, смотря что ему нравится.
Значит, проигрыватель у нас тоже есть, сказала Белла.
Ну конечно! И потом… Слушай! Однажды придет девушка, молоденькая, красивая, робкая такая, знаешь. Ей ужас как хочется стать актрисой, и она совершенно самостоятельно разучила роль. Офелию. Или Иоанну. И вот она читает нам монолог. Становится тихо-тихо, все слушают, а потом говорят ей, что чувствовали, пока она читала. Ах… красота.
Да, сердито сказала Белла. Красота. Хреновина, а не красота.
Ну вот, опять у этой Луизы перепуганный взгляд. И зачем она все время ее доводит. Но она же взялась вырывать из груди сказки, не обращая внимания на боль. Если Луиза не может на это смотреть…
Луиза рада была уже тому, что сигарета, которую закуривала Белла, первая за все утро. Что она съела завтрак, поданный Луизой. Что ее красивые, густые, прямые волосы приобрели неповторимый вороненый блеск. Сегодня Белла вымоет голову, а сушиться будет на солнце, и она, Луиза, даст ей оранжевое полотенце. Белла накинет его на плечи и распустит волосы. А потом, когда Белла станет расчесывать волосы щеткой, они так и заискрятся. А она, Луиза, стоя в глубине комнаты, будет смотреть на нее в окно. Она всерьез думала, что едва ли выдержит, если зрелище окажется слишком красивым.
Значит, готовим, думала Белла, и разливаем чай. Сегодня, стало быть, варим суп, играем на гитаре и декламируем Офелию. А вчера мы ткали и пряли и устраивали на старой мельнице магазин. Третьего дня толковали о ковроткачестве, шитье и гончарном деле, а завтра, глядишь, речь пойдет о куклах-марионетках, которых они сделают своими руками и сами же напишут для них пьесы, а затем все вместе — Йонас, и Луиза, и Белла, и другие желающие — станут бродить по деревням и разыгрывать спектакли. Луиза и в это уверует, на целый день, а она, Белла, нет. Ни на секунду.
Так уж оно было, и ничего тут не убавишь и не прибавишь. Призрачная жизнь — вот в чем она погрязла. И любовь у нее призрачная, весьма мало отличная от тех призрачных игр, в какие она охотно играет с Луизой. Луиза, щадя которую она прятала свою жестокость, но долго ли еще она сможет или захочет прятать ее. Луиза, старавшаяся отвлечь от нее Йонаса, а то ведь он опять бросится к ней и потребует отчета о каждой минуте только-только начатого дня. И прямо сейчас затеет нудную, бесконечную тяжбу насчет того, когда ему (без тебя! — как он, до слез обиженный, упрекал ее) ложиться спать. Прямо сейчас примется канючить, что не станет есть «здоровенные» порции, какие ему тут подсовывают. Белла, предчувствуя возвращение внутренней дрожи, мысленно упрашивала: Спокойно. Спокойно. Спокойно. Бога ради, оставьте меня, дайте пожить спокойно. А Луиза, не жалея сил и фантазии, продолжала игру в ковчег, пускала на борт не только животных с других континентов, но даже чудовищ и иных сказочных существ. Да-да, в конце концов она принялась выдумывать их и все-таки чувствовала, что Йонаса этим долго не удержишь, его тянуло к Белле, Белла же, не меняя позы, чего Луиза всегда боялась, замерла на солнцепеке у стола, позволяя маслу на бутерброде таять и дымя уже второй сигаретой. Луиза пошла на попятный, оседлала вместе с Йонасом его излюбленного конька — боевого, военного — и попыталась хотя бы высмеять его, что, как она полагала, наверняка удастся с помощью старой солдатской песни «Детмольд-на-Липпе». Но просчиталась. Когда настал черед того самого куплета, когда Луиза басом, как бравый фельдфебель, пропела: И вот сраженье началось, вот выстрел грянул — бумм! — Йонас даже не улыбнулся, только посмотрел на нее, серьезно и укоризненно. Вот он упал и так кричит, ах, вот упал и так кричит… Луиза умолкла.
И все это время над ними кружила птица. Ястреб. Сперва высоко-высоко, почти невидимый глазу. Потом он кругами снизился, потом Белла увидела, как он камнем упал к земле, чиркнув по солнечному диску. Потом вскрикнула Луиза. А он опять стрелою взмыл вверх, унося в когтях трепещущего темного зверька. Удар в сердце — и теплая сладкая кровь во всех жилах. Хищная птица, как сладок эфир / Никогда мне впредь не придется так дерзко / Ринуться в солнечный диск…
Ты не думай, услышала Белла голос Йонаса, ребенок буравил ее своими испытующими глазенками, не думай, в девять я сегодня спать не лягу… Тут Белла расплакалась, оттолкнула его руку и убежала в дом.
Луиза села рядом с примолкшим надутым мальчишкой. Жара, что ли, так действует, ведь нынче она, кажется, еще злее обычного? Или в воздухе носится гибель?
Что-то переменилось.
Что-то должно было перемениться, сегодня мы твердим, будто знали, что так продолжаться не могло. Дома сгорели. Дружба ослабела, словно только и ждала какого-нибудь знака. Крик, застрявший у нас в горле, так и не исторгся. Из своей кожи мы не вылезли, вместо разорванных сетей сплели себе новые. Тонкие, как паутина, или толстые, как из канатов. И опять прошло много времени, пока мы их заметили. Но ведь и вы, наверно, не забыли, какой в то лето была Луиза, прежде чем ощутила в желудке крошечное уплотнение. Оно увеличивалось, твердело, вот уже стало с вишню, со сливу, потом с детский кулак, который крепко-крепко обхватил ее желудок, так что в иные дни было вообще невозможно принимать пищу. А она, ясное дело, все отрицала. Просто хочется поголодать, могла объявить она. Организм-де требует. И долго-долго ей удавалось скрывать от нас, что даже те крохи, которые съедала под нашими испытующими взглядами, она часто опять выташнивала. Нет, это началось не после отъезда Беллы. Это началось, когда Луиза стала догадываться, что Белла уедет. И заберет с собой Йонаса, и он будет для нее, Луизы, потерян. Пожалуй, она первая догадалась. Но не говорила об этом. Ее глаза сразу темнели, едва речь — озабоченно, но покуда с легкостью — заходила о Белле. И после того телефонного звонка: Ну так вот, чтоб вы знали: я уезжаю! — Луиза побелела как полотно и сказала: Вот видишь. Вот видите. — Ей вовсе не хотелось предугадывать людские пути-дороги. Что она могла поделать, если невольно растворялась и могла приютиться в сокровенных глубинах другого существа. Все, что она видела и знала, навсегда оставалось с нею. Она все вбирала в себя. Удивительно ли, что в конце концов не могла проглотить ни кусочка.
13
Кто хочет долго прожить с людьми, с одним человеком, думала Эллен, должен уважать чужую тайну. Кому же она это говорила? Она что, спорила в душе с кем-то, поневоле опять защищала себя или что-то для себя важное? В кухонное окно ей был виден Ян: вон он бродит, погруженный в себя. Нет, не в себя, а в свое занятие, хотя всего-навсего подбирает под яблоней сухие ветки. Ян, думала Эллен, лучше меня. Она сказала об этом Дженни, та не возразила. Эллен и Дженни наблюдали за Яном, за его топтанием на задворках: вот он погонял упавшее яблоко по земле, как футбольный мяч, пульнул в заросли бузины, — они только переглянулись, с одинаковым выражением в разноцветных глазах: ох эти мужчины! Дженни, убедительно разыгрывая огромную житейскую искушенность, любила наставлять маму в любовных делах. Эллен видела свои и ее руки на синей пластиковой столешнице — картина, которую она хотела запомнить, в пику горькому выводу о том, что все, все забывается, видела собственные руки, в тонких морщинках, а с недавних пор в коричневых пятнышках. Подступала старость. Она не делала из этого трагедии, до поры до времени. Дженни — она заметила по ее лицу — только сейчас разглядела, как изменились руки матери.
Она хотела поговорить с Эллен о своей подруге Тусси. Сударыня матушка, эта особа решила обручиться!
Когда-то я поступила точно так же, сказала Эллен, довольно рассеянно, поскольку смотрела на детей, которые направлялись к песочнице Крошки Мэри. Лорочка и Клаусик, младшенькие госпожи Варкентин. Ну, теперь гляди, что будет, сказала Эллен, и обе стали с умилением наблюдать, как Ян пытается вступить в разговор с новоявленными гостями. А они, привыкшие получать от взрослых только приказы, команды да нагоняи и совершенно не готовые к серьезному обращению, крепко стиснули губы и молча, почему-то даже с упрямством таращились на него. Однако, едва лишь Ян растерянно отвернулся, дети устремились к Крошке Мэри, треща наперебой, а она напряженно слушала, стараясь незамедлительно исполнить все их желания. Сбегала в дом за лопаткой, ведерком, формочками. Потом за бумагой и ящиком с тушью. За куклами. Она бесконечно дорожила дружбой этих ребятишек, то и дело пристально вглядывалась в лицо Лорочки — ведь Лорочка уже на будущий год пойдет в школу! — нет ли в нем того пугающего выражения скуки, которое не стереть и не смягчить ни подкупом, ни уступкой. Эллен, снова не в силах сдержаться, конечно же, загорелась желанием подкрепить усилия Крошки Мэри и от большого ума вынесла стаканы с вишневым соком, тарелку с пирогом, предложила поиграть, но заслужила только враждебные взгляды и глубочайшее молчание. Хотя сок был мгновенно выпит, а пирог в два счета съеден. Надо полагать, сказала Эллен Дженни, это все же успех.
Успех чего?
Успех моей самоотверженной заботы о детских душах.
Лицемерие! У родной-то матери! — наверно, вскричала Дженни, воздев руки к небесам. Ведь Эллен только мешает приучать детей к реальной жизни, которую она до сих пор представляет себе иной или, во всяком случае, хочет видеть иной, чем она есть. Изъян поколения, вот о чем ей бы стоило подумать. Но она же собиралась поговорить о своей подруге Тусси. Та, дескать, намерена добровольно повторять ошибки предшествующих поколений.
Что значит «добровольно»?
Добровольно — в смысле, что никто ее не принуждает. Будущей свекрови достаточно обронить, мол, очень бы хотелось, чтобы девушка, которая ночует у нее в доме и в одной комнате с ее мальчиком, по крайней мере была с ним помолвлена, — и она рада стараться. Тусси, я имею в виду. И ведь знает, каково это, когда свекровь к месту и не к месту твердит «мой мальчик», а они — влюбленные ли, обрученные или женатые — будут жить в доме его родителей. И ведь Тусси знает, что ее собственные родители обручились слишком рано. И поженились слишком рано. И первый ребенок — она — появился у них слишком рано. И в результате они всю жизнь никак не могут разойтись.
А ты уверена, что они вообще хотят разойтись?
Почти уверена, говорит Тусси. Просто когда-то они решили вместе «строить жизнь».
Да, сказала Эллен. Человек полон тайн. Только вот ей кажется, что Дженнин иронический цитатник разрастается слишком уж быстро, прямо голова кругом идет. А теперь, сказала Дженни, самое время спеть замечательный канон «Dona nobis pacem»[12]. Как всегда, желанный эффект достигался лишь при хоровом исполнении: Эллен путала третью и четвертую строчки, возникал обычный ералаш, взрывы смеха, ради которого все и затевалось.
Готов ли у хозяйки завтрак? — послышалось от бывшего свинарника, где трудились мастера. Aye, aye, sir! — крикнула Эллен. Насчет того, можно ли писательством заработать на жизнь, все уже ясно, экзамен позади. Но факт есть факт: перед любой другой работой, особенно перед женской, писательство тотчас отступало на задний план. Ровно в полдесятого завтрак стоял на столе. С иронией и досадой Эллен следила за собой: это ж надо — она покорно соблюдает здесь все правила, над которыми в городе только бы посмеялась. Ни за что ведь не допустит, чтоб в деревне судачили, у нее-де мастеров вовремя не кормят. Ей вдруг вспомнилось, что́ иной раз женщины рассказывали про свою супружескую жизнь: Мне, знаете ли, после операции от всего этого никакого удовольствия, но муж-то, он в своем праве, верно? Бригада шабашников, во главе с Яном, проследовала через кухню и сени к столу, накрытому перед домом. И тут же на большом поле за дорогой начали жать ячмень.
Впечатляет, подумала Эллен, когда впервые видишь такое вблизи: восемь уборочных комбайнов, выстроившись звеньями по два, движутся от дюны прямо на нее. Поворот — и треть поля убрана. Час, прикинул Пауль Маковяк, и дело в шляпе. Во-во, кивнул Уве Поттек, младший из работяг, которому всегда нужно поддакнуть Паулю Маковяку: Беспременно. Они уселись в теньке под свесом камышовой кровли. Часом позже стол окажется на солнцепеке. Придется опять объяснить Крошке Мэри движение солнца, с помощью двух яблок — большого и малюсенького, она так хочет. Уже взгромоздилась к Дженни на руки. А где Лорочка и Клаусик? Ушли. Поссорились? Да нет. Это из-за кротов. Оттого, что она, Крошка Мэри, хотела вызволить крота из-под земли. А Лорочка не дала ей лопатку. Да еще сказала, что кроты хотят жить под землей. Чепуха какая, сказала Крошка Мэри. Разве кому охота жить под землей?! — Мало-помалу выяснилось, что кротов она считала заколдованными принцами, вроде принца Лягушки. Вон оно что, благодушно сказали мужчины. Тогда возьми да и расколдуй. Раз такое дело!
Эллен видела, как взгляды мужчин обратились к Дженни, а Дженни, по обыкновению, даже бровью не повела. Кто ее этому научил? Только не я, решительно подумала Эллен. В практических делах дочерям от меня толку не было. Видела она и с каким увлечением Дженни слушала Пауля Маковяка, а тот своим западнопрусским говорком, сдобренным десятком нижненемецких слов, рассказывал про похитчика кроликов, с которым приключилась прелюбопытная история. Красть каждый могет! — воскликнул Пауль Маковяк и осушил вторую рюмку водки — Дженни постаралась запомнить, как он при этом отставил локоть, а потом, лихо крутанув кистью, опрокинул хмельную жидкость в глотку. А вот стащить кролей у Вальтера Бурмайстера — это уже искусство. — Точно! — выкрикнул Уве Поттек, но Маковяк не желал, чтобы его перебивали: Ты лучше помолчи. С Вальтером-то Бурмайстером кто был знаком? Кто слыхал от него эту историю, а? Пауль Маковяк. Значит, ему и рассказывать, притом как положено, по порядку. Первым делом, отметила Дженни, не начало, а вступление. Так вот, разглагольствовал Пауль Маковяк, любой ребенок знает, что идеальных убийств не бывает, каждый преступник непременно допускает какую-нибудь оплошность. (Она до сих пор не знала, шепотом сообщила Дженни Крошка Мэри, та ее успокоила: Сейчас тоже не поздно.) Но, сказал Пауль Маковяк, чтобы по скудости умишка таскать кролей у лучшего кроликовода в округе… Да, тут уж надо быть круглым дураком.
А может, он, наоборот, большой хитрец, возразил Эвальд Вендт, померанский столяр. Из тех, что ищут совсем уж особенного. Спереть кролей у Бурмайстера — до такого никто не додумается, так он, поди, мерекал.
Могет быть, поддакнул Уве Поттек. Все мы, подумала Дженни, с малых лет смотрим чересчур много психологических детективов.
Дженни понимала, что Пауль Маковяк нипочем не допустит, чтоб этакими рассуждениями ему всю музыку портили. Да бросьте вы! — презрительно махнул он рукой. Примитивный тип-то, совсем примитивный. Для него ж главное было — хапнуть побольше. (Живых кроликов? — прошептала Крошка Мэри на ухо Дженни. — Живых. — И в мешок? А они не плачут? — Кролики не плачут. — Но разве это, по-твоему, не подло? — Вор о подлости не думает, Мэри. — Для девочки это было ново и непостижимо.) Хорошо еще, у Бурмайстера после вечеринки в Обществе кролиководов — дело шло к полуночи — возникло тревожное предчувствие, и он пошел глянуть на зверьков. — На зверьков, хорошенькое дело! — упоенно выкрикнул Уве Поттек, ибо вон оно: не зверьков, а одни пустые клетки увидал Вальтер Бурмайстер и услышал вдали тарахтенье мопеда. — Придумано! — с восторгом подумала Дженни. Тарахтенье мопеда придумано. Либо сам Бурмайстер присочинил, либо Пауль Маковяк, прямо сейчас. Трое мужчин состязались в домыслах: что было бы, застань Бурмайстер вора на месте преступления. Но, испуганно воскликнула Крошка Мэри, вор бы его тогда насмерть застрелил! Короткая задержка, чтобы объяснить Крошке Мэри разницу между вором и убийцей, и дальше, потому что настала пора описать гениальное озарение Вальтера Бурмайстера. Нет, правда, как у человека иной раз голова работает! Лежит он, стало быть, в постели, не смыкая глаз, и кумекает, что этот подлюга будет делать с его породистыми кролями. Кролиководу не предложит, каждый мигом признает Бурмайстерову метку на кроличьих ушах. Значит, станет сбывать мясо да шкурки. И вот, сказал Пауль Маковяк, как дошел он до этой мысли, так враз с постели вскочил, будто дикий кабан, бегом к телефону и ну звонить в уголовную полицию, прямо посередь ночи. — А там небось, как всегда, занято было, назидательно вставил Уве Поттек. — И ведь аккурат точнехонько рассудил насчет ворюги-то. Наутро тот впрямь явился с двумя корзинами евонных кролей на приемный пункт, а там его уж переодетый сыщик ждет не дождется. («Переодетый сыщик!» — Дженни была в восторге.) А из-за угла выходит, само собой, наш Вальтер, кладет свою тяжелую руку на плечо этому плюгавому хлюпику и спокойно так — такой уж он есть, Вальтер-то наш! — чертовски спокойно говорит ворюге: Ну, артист. С продажей моих кролей мы покуда повременим.
Тра-та-та-та! Занавес! И ни слова больше. Эвальд Вендт все допытывался, не пробовал ли этот мужик удрать, пришлось Поттеку объяснить, что в таких случаях весь квартал, само собой, оцепляют. («Оцепляют!») Эллен принялась убирать со стола, Ян кормил обрезками колбасы Люкса, который неподвижно и тихо лежал у его ног, мастера встали, но Крошка Мэри остановила их: Надо ведь выяснить, кролики-то живые были или нет. Живые! — в один голос выпалили Эллен и Дженни, а Эвальд Вендт, приподняв шляпу, обронил: Н-да, это как посмотреть! Уве же Поттек затеял разговор с Паулем Маковяком о жаре. Все разошлись. Из кухни Эллен услыхала, как Дженни растолковывала Крошке Мэри, почему голова у Эвальда Вендта сверху белая, а внизу красная, как вареный рак.
Комбайны последний раз с оглушительным ревом развернулись у межи. И на чем только держится басня, что чем дальше к северу, тем народ молчаливее и нелюдимее, особенно мужчины. Ведь порою кажется, нет для них большего удовольствия, чем рассказывать истории из собственной жизни. Впрочем, существуют и границы, которые необходимо свято соблюдать. К примеру, Эвальд Вендт, насколько мы его знаем, никогда словечка не скажет о том из пяти своих сыновей, который в те поры уже отсидел шесть месяцев за попытку смыться на Запад. Заговорит он об этом много позже, конечно предполагая, что мы в курсе дела, причем со злостью на бригадира, который пренебрежительно отнесся к его сыну, тем временем вышедшему из тюрьмы. Как на преступника смотрит! Куда ж мы этак-то придем?! Парень ведь ни в чем не проштрафился. К тому времени мы знали его уже три года и смекали, как себя вести: вопросов не задавать. Молчать. Слушать.
Точно так же при Уве Поттеке нельзя было заикаться насчет того, что жена ушла от него к другому вместе с дочкой — его любовью и гордостью. Дело дрянь, качали головами мужики, совсем парень с рельсов соскочит. Он запил. На шабашку его брать перестали. Однажды Эллен встретила Уве возле сельского универмага, с опухшим и разбитым лицом. Поздоровались. Но заговорить с ним она не смогла.
В последнее время Луиза весьма неохотно ходила одна в лес, который стал перед нею враждебной стеною, — то ли дело с Йонасом, с вооруженным Йонасом. Йонас сию минуту объявил ей, что должен снарядить свое войско в крестовый поход; нужны крышки от больших кастрюль, это будут щиты, а на копья пойдут бамбуковые палки. Но где взять шлемы? Картон? Мягкий картон, который можно клеить?
Решив испечь большущий пирог, они вернулись на кухню. Луиза достала из кладовки миску, просеяла в нее муку, смешала дрожжи, молоко, сахар, чуть подогретый жир. Поставила тесто на плиту — пусть подходит. А заодно обсудила с Йонасом, все ли крестоносцы получат по куску пирога или только капитаны да полковники. Затем они чертили на бумаге выкройку шлема, искали кальку, и все это время Луиза прислушивалась, не донесется ли из мансарды трескотня пишущей машинки, не села ли Белла печатать? Нет, тихо. Белла уже четвертый лист исписывала зеленой шариковой ручкой и через несколько минут изорвет его на мелкие клочки, как и три предыдущих.
Не стыд ли, что с обращением постоянно возникали одни и те же трудности и в конце концов она постоянно сокращала его до одного и того же слова: Дорогой. А затем, по крайней мере на этот раз, никаких жалоб. Никаких обвинений, только вопросы, в которые — стилистический прием! — можно, кстати говоря, облечь и жалобы, и обвинения. Ну почему, скажите на милость, он не может любить ее так, как ей нужно: без насилия, нежно, самоотверженно, безраздельно. Почему не может отказаться от этих распроклятых мужских претензий, почему не способен ради нее на такой пустяк — любить, обожать, боготворить не себя в ней (и в любой другой женщине, да-да, она знает!), а однажды увидеть и ее тоже, такую, какова она есть. Почему надо непременно взваливать все на нее. Ах, да речь-то не о тяготах готовки, уборки, хождений по магазинам, тасканья бутылок. А о том, что она снова и снова таскала бутылки совершенно зря, никто не приходил ни пить пиво, ни есть бутерброды со всякой-разной колбасой. О тяготах ожидания и заброшенности. Разочарования. Стыда. Хотела написать Белла, но не написала, даже в письме, которое будет порвано. Неужели он вправду не знает, что ее попытки дозвониться ему в другой городской район, в другой город, другую страну почти всегда оставались безрезультатны. И каково было у нее на душе, когда все-таки удавалось дозвониться, а в трубке слышался не его голос, а голос чужой женщины? Жестокость и бесчувственность, написала Белла. Я, что ли, высоко занеслась? Как горная коза? Ведь я же требую самого простого, самого естественного, самого, казалось бы, понятного! Стыд, стыд! — подумала она и написала: Так. Ну вот и сиди в своей Южной Франции, которую я считаю выдумкой, наконец-то я все записала, а теперь я порву письмо и развею клочки по ветру, сегодня как раз дует подходящий, восточный, он не преминет донести до тебя кой-какие жгучие упреки, а я сейчас спущусь вниз, и вымою голову, и на этом же ветру высушу волосы. Все все все все все. С ожесточенной любовью.
Белла выполнила свое обещание, и Луиза с Йонасом наблюдали из сумеречных глубин кухни, как она, широко размахнувшись, бросала по ветру обрывки бумаги. Она подает сигнал нашему войску, сказал Йонас. Это ясно. Ты так думаешь? — сказала Луиза. Очень может быть. Разумеется, они не рискнули спросить, что значил этот сигнал, когда Белла с красным полотенцем через плечо вошла в дом и безмолвно прошагала в ванную, мыть голову.
От дома госпожи Пиннов приближались двое. Разведчики! — сказал Йонас и на цыпочках побежал узнавать, что да как. Вернувшись, он взахлеб сообщил: Это Ирена и Клеменс, зачем пришли — неизвестно. Его не заметили. Прежде чем связываться с ними, надо как следует прощупать, на чьей они стороне. Ладно, сказала Луиза. Но как это сделать? — А каверзные вопросы на что?!
Опередив Ирену и Клеменса, с другой стороны к дому подошла почтальонша, принесла греческую газету для Луизы, голубой конверт с греческой маркой. Мне есть что-нибудь? — спросила с порога Белла, волосы у нее были мокрые, спутанные. Сегодня ничего, виновато сказала Луиза, пряча за спиной свое письмо. С нее станется, подумала Белла, пожелать, чтобы вместо нее письмо получила я.
Вы не поверите, воскликнул подошедший Клеменс, тут водятся коршуны!
Внимание, прошептал Йонас. Надо выяснить, что обозначено кодовым наименованием «коршун»!
Вот и пришлось Ирене и Клеменсу, прежде чем они отправились к «коту», пуститься с Йонасом в замысловатый разговор, предмет и результат которого каждый из троих толковал по-своему, а Эллен с Яном незадолго до обеда успели прогуляться к озерцу, и Эллен рассказала Яну о той женщине из Чада, судьба которой не дает Луизе ни минуты покоя, она прямо как одержимая, требует, чтобы мы что-нибудь сделали для этой женщины. Меня такие мысли теперь редко навещают, сказала Эллен. Что я могла бы что-то сделать. Ян обшаривал взглядом берег озерца, высматривая птиц, и спрашивал себя, сколько же птенцов вывели нынче лебеди — трех или четырех. Вернее, мысленно поправила себя Эллен, сигнал, что необходимо что-то сделать, еще вспыхивает. Каждый день. Я вообще вроде как сигнальный пульт, на котором то и дело загораются разноцветные лампочки. Наверно, получается красивый мерцающий узор. Только вот проку ни на волос.
Все-таки это чомги, сказал Ян. Удивительно, до чего же долго эти паршивки могут оставаться под водой. Здесь непременно нужен бинокль. (Потом бинокль лежал в нижнем ящике старого секретера и странным образом после пожара бесследно исчез.)
Неужто эта женщина из Чада для меня значит не больше, чем лунный человек? — размышляла Эллен. И с каких пор я поставила крест на всех женщинах и мужчинах, которые просят моего участия? С тех пор как поняла, что не в силах помочь даже самым близким людям?
Слушай, сказала она. Не знаю, замечаешь ли ты, но я выздоравливаю.
В каком смысле? — сказал Ян.
Сон наладился. И желудок перестал болеть.
Об одном она умолчала, Ян должен был либо заметить это сам, либо проморгать: она вновь начала меняться. И уже не казалась себе страной, оккупированной фальшивыми словами и представлениями. Стыд безгласен. Иначе пришлось бы ему сказать: оккупированной с собственного согласия и по собственной доброй воле. В самом укромном месте затаилась чужая сила, подчинившая ее своей власти, — в ее глазах. Вот и смотрела чужая сила моими глазами, через меня самое, думала Эллен. И ни один не замечал другого, да и сама я себя разглядеть не могла. Ишь, надумала отторгнуть чужое, постороннее тело — это же меня разорвет. Мне почти хотелось разорваться. В иные дни только и сдерживало что воспоминание о «почти». Кропотливое выращивание «нет» из этого «почти». И все по ту сторону языка. И по ту сторону слез. Она больше не плакала. И научилась молчать.
Подошли Ирена и Клеменс. Мужчины начали перебирать пернатое население озерца. Да-да, с того берега можно разглядеть в кустах у воды пугливую лебединую парочку с выводком. Птенцов пятеро, точно, пятеро. Один держался впритык за матерью, сразу и не углядишь.
Совсем низко над головой, они даже невольно пригнулись, пролетел желтый самолет сельхозавиации, которая, увы, разбрасывала удобрения и здесь, над озером. Если он нас видит, сказала Ирена, что думает?
Он думает, сказала Эллен, вот у пруда стоят четверо бездельников, которые наверняка живут в «коте».
Нет, сказала Ирена. Он же не из нынешнего времени. Он из будущего. Из той эпохи, когда почти все вокруг уже будет разрушено и уцелеют только один-два поселка вроде этого. Он стартовал из соседнего уцелевшего поселка, нечаянно обнаружил нас и теперь теряется в догадках: есть ли у нас секретное оружие и применим ли мы это оружие против него. А поэтому на всякий случай разбрасывает отраву.
Ронни! — мягко сказал Клеменс.
Будете опровергать? Такие вот мы вели разговоры. Потом завыла пожарная сирена, во второй половине лета мы чуть не ежедневно слышали их по окрестным деревням. Кажется, постоянно где-нибудь да горело. Иногда мы видели столбы дыма. Тетушка Вильма говорила, достаточно бутылки на поле, стекляшки на камышовой кровле. Посмотри внимательней — от одного взгляда займется, пересохло ведь все, как трут.
14
Между прочим, мы ведь как-то и пьесу поставить хотели; идея, кажется, была Иренина, но вообще все вышло само собой, когда однажды под вечер явились из-за холмов Луиза, Белла и Йонас, наряженные в костюмы для праздника мальвы: Йонас в сверкающей кольчуге и черной треуголке, с мечом и щитом, а женщины с цветастыми зонтиками от солнца, в огромных соломенных шляпах, белых кружевных блузках и пестрых юбках до пят. Чехов! — воскликнула Ирена. Нет, в самом деле Чехов! — С ума сойти, сказала Дженни. Что я вижу! Живая картина — да и только. А деревенские высыпали из домов, как в давние времена, когда приходили цыгане, и подбадривали актерскую группу возгласами: Давайте-давайте! Расшевелите тут всех маленько. Как раньше. Раньше-то мы сами себя шевелили. На праздник урожая никто к богатеям в село не шастал. Не-ет, сказала тетушка Вильма. Мы тут свою подводу разукрашивали, надевали старинные наряды, три-четыре юбки, одна поверх другой. Да, наши тутошние праздники урожая на всю округу славились! По порядку, каждый в свой черед — гумно выметем и пляшем до утра. Молодые были, о войне никто думать не думал.
Крошка Мэри самое начало пропустила, она с трудом убедила себя сходить через дорогу к Михаэлю — не затем чтобы заводить разговор, на это не было времени, а просто посмотреть, как он рубит дрова у Ирены за домом. Эта влюбленность длилась целое лето, неправда, что дети непостояннее взрослых. Он такой силач, совершенно оробев, сказала Крошка Мэри и попыталась изобразить своей тоненькой ручкой игру Михаэлевых бицепсов. Ты бы видела, какой он силач. Йонас меж тем разведал местность и объявил, что его армия без труда удержит стратегический рубеж дюна — озерцо — ветряная мельница, если передовые посты вовремя сигнализируют о приближении противника. Каким же образом? — спросила Луиза. — Дымом, конечно, ответил Йонас. — Вот этого лучше не надо, испуганно сказала Луиза.
Давайте сюда шляпы, шапки — а то возле дома на солнце не усидишь. В корзинах, которые принесли Луиза с Беллой, были, оказывается, пироги двух сортов. Йонас оставил для своих офицеров самую малость. Еще и вечер не наступил, а на стол уже подали вино, его постоянно держали на холоде, стало быть, электрик сделал новую проводку, старательно и надежно, а к ней подключили и холодильник, и бойлер, и ночные регенеративные печи.
Не это ли застолье сфотографировала потом Штеффи? Значит, она тоже приехала, с Йозефом и Давидом, устроилась у Луизы, в бывшем батрацком доме, чувствовала себя здоровой, ни она, ни мы не знали, что ей всего лишь дарована передышка, а ведь могли бы и догадаться, по тому, как она, словно ее кто принуждал, старалась расходовать свое время с пользой. Бесконечное фотографирование могло означать только одно: она хотела помнить. Думала, у нее есть на это время.
И не в этот ли день спозаранку объявился Антон, по обыкновению свалился как снег на голову: завернувшись в плащ-палатку, он спал на лавке перед домом; Фриц Шепендонк, который ни свет ни заря вывел свою лошадь на луг, постучал кнутовищем в окно и разбудил Яна: У вас возле дома бродяга разлегся. После чего наверняка лицезрел, ка́к встретила заспанного бродягу Дженни. Из кармана просторной поношенной куртки Антон извлек три черенка красной японской айвы и несколько фунтов бранденбургской землицы; хозяевам от гостя, сказал он, Дженни тотчас отыскала у штакетника подходящее местечко, черенки были торжественно высажены и обильно политы, а потом росли и кустились, и весьма украсили собой живую изгородь, и были окружены любовью, заботой и почетом, огонь их пощадил, и они живут до сих пор, на старом месте. Антону, который, путешествуя автостопом, проводил ночи в самых диковинных экипажах и в компании самых невозможных чудаков, причем все они будто его и дожидались, чтобы свалить ему на плечи бремя своих забот, — так вот Антону спать не дали, он тотчас окунулся в приготовления к празднику мальвы, назначенному на после обеда. Руководила работами Крошка Мэри, по ее желанию Антон прямо на кухонном столе — где Ян разделывал для ухи как минимум четыре сорта рыбы — разрисовал всеми цветами радуги огромный плакат с надписью гостиница «Мальва», потом ему пришлось, взгромоздившись на лестницу, подвесить этот плакат над «кухонным» углом дома, и все это время Крошка Мэри уверяла его, что она крепко держит лестницу и с ним ничего не случится, тут же подошла Ирена спросить, хорош ли был вчерашний пирог с вишнями, и снискала новую порцию похвал, и Антон, который видел Ирену впервые, оказался вполне на высоте: Пирог с вишнями? Как всегда! — сказал он, а Ирена сказала: Полагаю, вы Антон, судя по рыжей бороде. На что Антон ответил, он хоть и Антон, но на «вы» не откликается. Порядок, сказала Ирена, пойду печь пирог. Только чтоб вишни без косточек! — крикнул вдогонку Антон. Ишь ты какой! — воскликнула Ирена и, счастливая, пошла к себе, встретив по дороге однорукого письмоносца, который нынче, в день выплаты пенсий и почти на финише своего турне, был уже слегка под хмельком, однако велосипед покуда вел как следует, по прямой. Здравствуйте, господин Шварц. Здрасьте, здрасьте. Вот он подошел к кухонному окну, отдал Яну почту, получил последнюю рюмку шнапса, а там и самую-самую последнюю: На одной ноге не устоишь! — и пустился в пространные рассуждения о видах на урожай. Уха? Нет, это не по его части, а вот тушеный судачок или треска — совсем другой коленкор; тоже неплохо, сказал Ян и отнес Эллен ее письма, а она, как всегда, не утерпела и распечатала их прямо сейчас, в разгар утренних хлопот; среди них, Ян заметил, было и письмо, которого она ждала, она вскрыла его последним, когда он затворил за собою дверь и перекинулся словечком-другим с почтальоном, который следующей зимой, однажды ночью в трескучий мороз, упадет с велосипеда, сломает ногу, останется в снегу и бесславно замерзнет буквально в двух шагах от жилья. Можно ли думать о таком, да еще в самую жаркую пору года.
По поводу этого письма Ян и Эллен не обмолвятся ни словом, в обед Ян молча бросит взгляд на Эллен и не попытается разговорить ее. Вот и опять человек, которому она доверчиво открылась, осторожно отступил, устранился, и каждый раз это больно ранило ее, и печаль, которую она с трудом заглушала, относилась не только к этому человеку, но и к ней самой. Все реже она будет отваживаться на такое доверие, все чаще взвешивать возможные последствия, избегать травм и замыкаться в себе.
Так оно и бывает: затеешь восстановить все без исключения линии, развилки, повороты, резкие изломы одного-единственного дня, а справиться не можешь и виновато перескакиваешь целые часы, полные важнейших событий, лишь бы поскорей сесть за стол, уставленный кофейными чашками и винными бокалами, вишневыми и обсыпными пирогами да кексами, присоединиться к обществу, которое насчитывало уже десяток людей разного пола и возраста и развивалось по своим собственным законам. Вам не кажется, сказала Луиза, что, того и гляди, будет перебор. В ней, именно в ней счастье, конечно же, соседствовало с ужасом. А кстати, кто-нибудь из нас раньше знал про мальвы? Я имею в виду: по-настоящему? Знал, что мальвы, или штокрозы, посаженные в хорошем месте — к примеру, в «кухонном» уголке за домом, где нет ветра и по утрам солнечно, — могут вытянуться выше человеческого роста и листья у них огромные? И каждая — каждая! — выгонит десятки цветков. Честное слово. Крошка Мэри теребила зеленые покрышечки бутонов, пока не выяснила, какого цвета будут лепестки. Кто не видел этого буйства оттенков, от белого, лимонно-желтого, розового, алого до темно-лилового и черного, тот просто представить себе не может, что такое мальвовые краски. Колокольчики мальв были рассыпаны по столу, побеги мальв пришпилены над дверьми, каждый украсил себя мальвой своего, особенного цвета. В волосах у Ирены темнел густо-лиловый цветок. Да, именно она придумала разыграть спектакль. По Чехову, сказала она. И всяк играет себя.
Если б я сумела, думала она. Хотя… в игре ей, вероятно, все-таки удастся быть собою. Свободной от зависти и уверенной в себе, и почему бы играючи ей не создать то, во что она обычно играла: счастье. Иметь счастье. Быть счастливой. Любить играючи, быть любимой всерьез. Уметь оставаться ровной, мало того, дружелюбной, слышать: пусть Луиза играет молодую одинокую женщину, которую в сельской идиллии осаждает любовник, университетский профессор. Идея исходит от Дженни, которой выпало заняться режиссурой. Кто сыграет любовника? Позвать Клеменса. Ирена так и сделала. Поневоле добавила вопросительным тоном, не слишком ли близка Клеменсу эта роль. И поневоле опять истолковала общий смех не в свою пользу. Значит, они тоже заметили? Ронни! Тихий голос Клеменса. Брось, не надо сейчас, а?
Она бросила, и себя тоже. Пускай Белла, воскликнула она, сыграет несчастливую влюбленную. — Белла уже занята. Белла будет таинственной красавицей. Закулисной ведьмой, которая словно бы путает все нити, а на самом деле крепко держит их в руках.
Эта роль, Ирена точно знала, как раз для нее. Я буду простушкой, сказала она.
Молчание. Всегда это молчание после моих слов, думала Ирена.
Штеффи играла черствую, назойливую фоторепортершу из города, а Крошка Мэри выдвинула Эллен на роль бабушки. И что же я буду делать? — спросила Эллен. Да так, пустяки, объяснила Крошка Мэри. Просто сидеть весь день за письменным столом, когда надо, звать Крошку Мэри кушать, а вечером уложить ее в постельку. И тогда непременно рассказать ей новую историю про Тиля Уленшпигеля, и не выключать у нее в комнате свет, и весь вечер находиться поблизости. Вот и все.
Ага, сказала Эллен. Стало быть, для разнообразия кое-что новенькое. Ну а ты-то кем будешь?
Оказалось, Йонас ангажировал Крошку Мэри на роль принцессы, которой надлежит запереться в замке, а он со своим войском будет ее защищать.
Да что ж это такое! — воскликнула Дженни. Кто тут, собственно, режиссер?! Нескончаемые дебаты между нею и Йонасом, ведь он претендовал на то, чтобы использовать часть труппы в своих целях, к примеру Яна и Антона — Антона в качестве связного, а Яна в качестве повара. Но Антон мне самой нужен! — услыхала Эллен громкий голос Дженни, когда несла посуду на кухню. — А зачем? — Как первый любовник, дружок! — Подобной претензии Йонас признать не мог. К счастью, пришел Михаэль, и функции связного были поручены ему. Как-то само собой получилось, что, передавая принцессе депешу, он непременно становился на одно колено. Принцесса сидела за барьером из стульев в бывшей Ольгиной комнате, и тот же Михаэль угощал ее арахисом, — идеальное сооружение, по мнению Ирены. Она была бы не прочь потолковать с Эллен о проблемах Крошки Мэри, пока они торопливо мыли кофейные чашки. Ирена уже не раз намекала, что четырехлетний ребенок, в общем-то, должен спать один и в темноте, не являясь поминутно к взрослым и не проверяя, тут ли они. Ирена была не прочь сообщить Эллен, что пишут об этом ребячливом поведении в книгах, но Эллен опять сделала вид, будто ей все известно, и замкнулась. Ясно ведь, ребенок боится, что его бросят. Дети разведенных родителей всегда этого боятся.
Вот окаянная гордыня. Словно в их семье даже развод не такой, как у других, например у нее, у Ирены. Словно для женщины развод не обязательно полное фиаско. Но ведь разговоры, что-де можно взглянуть на это иначе: как на освобождение, шаг к самостоятельности, — эти разговоры чистой воды притворство. Только разве Эллен сознается. Разве выкажет слабину. Она, разумеется, отлично поняла, о чем речь, потому и увильнула, пошла на отвлекающий маневр, начав толковать о собственной однобокости и о том, что у нее вообще не было задатков ни к какой профессии и во время учебы это частенько пугало ее. Так я и поверила, думала Ирена. Она знать не знает, что такое страх, просто старается держать меня на расстоянии. Театр моей души… там на сцене вечно стоит некий взрослый и не сводит недвижных глаз с меня, ребенка, ведь, в сущности, я и есть ребенок. Этот ужасный взрослый, на которого порой бывали так похожи все взрослые — особенно Клеменс, особенно Эллен. Недавно в опере я узнала его и перепугалась, до смерти, до слез: это же Каменный Гость. Его тяжелая поступь растаптывает в прах холодного, алчущего любви соблазнителя. Вполне по заслугам. Но кому скажешь, что в душе у меня эта сцена разыгрывается чуть ли не каждый день. Взрослый во мне, все чаще в облике Каменного Гостя, и ребенок, девочка, изнывающая от страха, по сути, это я сама, и зовет она его поневоле, ведь она, или я, не в силах оставить надежду, что придет не он, не мститель и каратель, а живое, любящее существо, которое обнимет ребенка, спасет его… А чей это жалостный голос, подумала Ирена, говорит, обращаясь к Эллен: По-моему, в мыслях ты каждому желаешь зла.
Слезы? Эллен заплакала?
Скверный какой-то день, думала Эллен. Слишком много всего навалилось. Можно, разумеется, объяснить, отчего нарастает внутреннее напряжение, когда внешний мир блокирует всякую возможность действия. Только проку в объяснениях нет, ведь любое толкование, любое понимание разбивается об одно-единственное слово: поздно, слишком поздно. И остаются половинчатости. Полуправда — Иренина фраза, полуправда и ее испуг, ее попытка взять свои слова обратно. Полуправда и в выражении моего лица, с каким я глажу ее по волосам. Правда — только слезы.
Вошла Белла. Некстати, решила Ирена. Ей хотелось еще порадоваться чувству, которое она испытала в объятиях Эллен. Хотелось еще проверить. Можно ли на него положиться? В слезах стать жертвой обмана — хуже некуда. Смертельно. А разве это неправда? Разве во взгляде, который Эллен бросила на Беллу, не сквозила любовь? На нее, на Ирену, так никогда не смотрели. Что Белла сделала ради того, чтоб быть любимой? Ничего. Просто вошла, даже не спросила, не мешает ли, знала, что ей рады. Много лет она не меняла прически, ей никогда не приходилось терзать волосы ножницами. И если Белла была несчастлива, то совершенно не так, как она сама. Даже несчастье было у нее такое, как положено, и ей в голову не придет винить в нем себя. Даже в несчастье ей везло.
Белла сказала, что они, верно, уже вошли в роль, первый акт, вторая сцена, да? А ей, похоже, эта сцена не по нраву? — спросила Эллен. Да не особенно, сказала Белла. Насколько она может судить. Эллен сказала Ирене: В таком случае сцену надо переписать. По желанию дамы. Тут появилась Дженни и позволила себе спросить, как, собственно, называется пьеса. Она-то ведь только режиссер.
«В плену любви», быстро сказала Ирена. Неплохо, одобрили остальные. Можно и так. Только куда она денет Чехова при этаком душераздирающем названии? Ах, воскликнула Ирена, да много ли вы понимаете! Что надрывает душу больше, чем «Чайка»? Чем гибельные страсти под натянутой как струна сдержанностью диалогов? Как хочешь, сказала Дженни, но акцент делаем на сдержанности. Ну ладно. «В плену любви» пусть будет тайным девизом спектакля, который ей, Дженни, предстоит создать с помощью исполнителей. Заголовок можно взять и попроще. Понейтральнее. Скажем, «Деревенская жизнь». Или еще лучше: «Летний этюд». Ну так как? «Летний этюд»? Почему бы нет? В самый раз подойдет. На том и порешим.
А какую, собственно, роль взял Ян? — поинтересовалась Эллен. Никакую! — воскликнула Дженни. Опять-таки вполне в его духе. Знаешь, чего он хочет? Быть помрежем! — А что он мог бы сыграть? — То-то и скверно, сказала Дженни, что я не знаю. Папа ни в одну роль не вписывается.
Все благодушно наблюдали в кухонное окно, как Ян, призвав на подмогу Йозефа и Антона, устраивает бар на раскладном столе под яблоней. Бессмысленная затея — описывать все события, из которых складывалась вторая половина дня. Дженнина память прикипит к этому дню. К этому взгляду из кухонного окошка на Антона, который он, как водится, сразу почувствовал и на который ответил словно бы ненароком с насмешкой. Они понимали, что впереди разлука? Понимали… что значит понимали? Может, потому и вспыхнула так ярко ее радость, когда утром она узнала Антона в серо-зеленом коконе на скамейке? Надо же, приехал! — воскликнула она и тем себя выдала. Ничего между ними не произошло. Представить себе невозможно, чтобы у Антона что-то «произошло». Дженни не сумела бы назвать ни одного человека — тем более мужчины, — который так мало ценил бы власть, как Антон. Зато именно с ним она и могла, спрятавшись под его просторной шубой, ночи напролет бродить по улицам предместья, где они тогда жили. Именно с его легкой руки она все спокойнее относилась к полицейским патрулям, которые раза два-три за ночь требовали у них документы. Это спокойствие — его можно было назвать и беззащитностью — составляло суть Антоновой натуры и действовало по-разному: одних обезоруживало, других бесило. Очень непохожие люди выкладывали Антону свои беды, а ведь даже с собой боялись говорить о них начистоту. Вернее, думала Дженни, жалобы, которые высыпа́ли перед ним люди и которые были обращены, как правило, против других людей или обстоятельств, он незаметно направлял на то, что сам считал важным, — наводил их на мысль, что они не знают себя. Собственно, он ничего не говорил. Лишь изредка задавал вопросы. Почти никогда не высказывал суждений, и уж совсем никогда — суждений отрицательных. Не то что я, думала Дженни. Она судила, она негодовала, пылала презрением. Хотя тогда, в одну из ясных и морозных лунных ночей, оба пришли к выводу, что и те люди, которых Дженни презирала, всякие там учителя, мастера, авторитеты — словом, человеки в футляре, сами по себе не виноваты. Но, считала Дженни, она вовсе не обязана просто так, за здорово живешь, им прощать. К чему мы иначе придем-то.
Антон был другой. Антон мог сухо, без эмоций, рассказать, как в День защиты детей, в тот год, когда ему сравнялось двадцать два, ровно через полчаса после перерыва на завтрак перед ним прямо в цехе встал огромный вопрос, который гласил: неужели так будет продолжаться всю твою жизнь? Ответ на этот вопрос он отыскал в себе мгновенно. И гласил он «нет». Так что Антон положил инструмент, которым собирался промерить деталь с точностью до долей миллиметра, снял рабочий халат, забрал из шкафчика свои вещи, сердечно попрощался с коллегами и мастером, а когда в неурочный час проходил напоследок через заводские ворота, вынул из бороды и подарил вахтеру цветок: другого пропуска тот у него не требовал. Сумасшедшее чувство, сказал Антон, когда по-настоящему, до конца понимаешь, что никто тебе не указчик. Что ты сам себе хозяин, стоит только захотеть. Сковывает тебя лишь собственная жадность.
Минутку, сказал Клеменс. Если теперь действие первого акта, которого он все равно никак не уразумеет — он честно держался своей роли и ухаживал за Луизой, что она может подтвердить, — так вот, если теперь действие замедляется философским диспутом о смысле жизни, то он хотел бы в нем поучаствовать.
Да ради Бога, сказала Дженни. Если никто, увы, не желает стать автором пьесы, то все разрешено. Ей только хочется добавить, что этот Антонов тезис был для нее тогда как озарение, как вспышка молнии. Она вспомнила и о том, о чем говорить не станет: как он втолковывал ей, что, если человек вынужден доказывать, что свободен, значит, никакой свободы у него в помине нет. И что вполне достаточно прогуливать школу раз в неделю. И что, когда она отказывается звонить домой, оставаясь на ночь у него, в его халупе, которую он запустил не оттого, что свободен, а оттого, что ленив, — этот ее отказ вовсе не признак свободы.
В тот день хоть кто-нибудь случайно глянул на небо? Синее, как расплавленный свинец, — ни облачка. Дженни вдруг увидела его, когда через кухонное окно слушала разговор Клеменса и Антона; Антона, который, кстати говоря, начал мастерить Давиду стул. Клеменс взялся ему помогать. А ты умеешь столярничать! — сказал Антон. Да когда-то умел немножко, сказал Клеменс. Он, мол, всегда любил дерево. Антон заметил, что, если человек умеет столярничать, ему совершенно незачем становиться университетским профессором. Это Антон опять обронил так, походя. Но факт есть факт, к дереву его, как ни странно, издавна тянуло. Йозеф, стоя рядом и наблюдая, как его сын Давид перенимает Антоновы ухватки, сказал: Знаешь, мне и самому смешно. Однажды в концлагере мне удалось попасть в столярку, кто-то, должно быть, посодействовал, до сих пор не знаю, кто и почему. Ну а я-то от роду косорукий, хотя все же постарался тогда, чтоб меня вышвырнули не сразу. Запах дерева меня, что называется, с ума сводил.
Когда тебе пятьдесят, сказал Клеменс Антону, не пойдешь так просто в День защиты детей к директору института и не скажешь: Вот что, дорогой мой. С сегодняшнего дня можешь не рассчитывать на мою скромную персону. Я ухожу.
В День защиты детей, может, и нет, сказал Антон. Скорей уж, в день отцов. А так, в общем-то, без разницы, сколько тебе лет — двадцать пять или пятьдесят. Разве что с годами уход становится все более безотлагательным.
Вот ведь рассуждает, Йозеф, конечно же, согласился с ним, иначе и быть не могло. Сам-то он и по натуре большой непоседа, сказал он, а уж после концлагеря вообще не в силах нигде задерживаться. Завязнет где-нибудь на неделю-другую — и сразу чувствует себя вдрызг несчастным, делать ничего не может, только себя изводит. И от страха мается. Но стоит сесть в машину, тронуться с места, безразлично куда, и все мигом налаживается. Едва ли это нормально, но что делать.
Моя проблема не в этом, думал Клеменс. Сидеть на одном месте — да сколько угодно. Жажду странствий он подавил в себе мечтами о другом. Слишком уж часто шеф с фальшивой сочувственной улыбкой возвращал ему приглашения из-за рубежа: Невыездной. Увы, пока нет. Теперь с меня хватит, думал Клеменс, не вникая в суть своего утверждения. Наверняка так оно и есть. Он хотел защитить свое право на откровенную зависть и презрение к привилегированным, которые посреди безобидного разговора могли завести речь про климат Рима и транспортные проблемы Парижа. От этого портится характер? Ну и пусть. Собственный характер его уже не волнует; если зависть возьмет верх, пусть за это отвечают те, кто одним дал привилегии, а других обделил. Если представить себе любопытство, интерес, стремления в виде потока, то за долгие годы он почти бессознательно перекрыл в себе эту мощную некогда струю, оставив только жалкий ручеек. Провел эксперимент, причем не без риска. Как врач, он мог себя проконтролировать. Незначительное повышение кровяного давления, колебания холестерина в крови, головная боль — все более или менее в пределах нормы. Он мечтал не о переездах, не об интенсивном движении. Превыше всех желаний и обязанностей была необходимость обеспечить себе покой, и как раз этого Ирена странным образом понять не хотела. Покой, покой, покой, твердил ему внутренний голос. Покой, во что бы то ни стало. И ведь не объяснишь Ирене, что даже простейший эксперимент способен разрушить его хрупкое равновесие. Что все ее подталкивания, все ее надежды, что он осуществит наконец сокровенную свою мечту — изменит образ жизни, посвятит себя каким-то дерзким планам, — совершенно неуместны. Да-да. Он сознательно примкнул к великой армии сверстников, которые дожидались пенсионного возраста, чтобы начать жить. До шестидесяти лет он — подумать страшно! — будет подниматься по истоптанным каменным ступенькам в свой институтский кабинет, изо дня в день, за исключением воскресений, праздников да пресловутых, вожделенных отпускных недель. И столь же пресловутых недель на больничном, а они, без сомнения, год от года будут удлиняться. Вперив внутренний взор в эту цель, то бишь в возрастной рубеж, он снесет любые унижения от шефа, которого с наслаждением звал параноиком. Запрятать подальше — такова формальная установка, сложившаяся в нем за долгие годы (создание «формальных установок» он настоятельно рекомендовал и своим пациентам). Но куда запрятать-то? Наверно, есть какой-то секретный заказник — черт его знает, где в человеческом теле локализованы душевные процессы, — заказник, в котором собирались, накапливались несбыточные стремления, неистраченная энергия, бессильный гнев и зависть. А потом вдруг, неожиданно для него самого, в этом воображаемом сосуде образовывалась взрывчатая смесь, и тогда он лез на рожон, совершенно некстати взрывался и устраивал Ирене сцену ревности.
О чем это толкуют Давид с Антоном? Хватит ли дерева на маленький столик. А вас, господа свободные художники, тут вообще не спрашивают, сказал Клеменс Йозефу и Антону.
В расчет принималось вот это место. Этот дом, который он укрепит, в котором выстоит перед невзгодами эпохи, а потом перед невзгодами возраста. Но ты ведь не живешь! — со слезами заклинала его Ирена. Сейчас не живешь! — Возможно, в этом была доля правды, но что делать. Порой, лежа ночью без сна, прислушиваясь к своим внутренним токам, он содрогался от страха, что перекрытые жизненные соки вообще иссякнут. Надо, чтобы они продолжали потихоньку цедиться, и тогда позднее, обретя полную независимость, он позволит им вновь хлынуть струей. Тогда он заживет. А до той поры будет довольствоваться предвкушением.
Он знал, что Луизе ведом настрой его души и временами она, кажется, побаивалась за него. Это его трогало, и он иногда поигрывал ее страхом, ради удовольствия. Но в самые глубины своего «я» не допускал и ее, тут Ирена могла быть спокойна.
Как водится, самое трудное — вплести в линейное повествование одновременность многих событий. Никто ведь не может одновременно быть везде и всюду. Вот Йонас, говорят, оборудовал у входной двери пропускной пункт, и дело доходило до громких препирательств, ведь кое-кто с помощью нехитрых уловок норовил отбрыкаться от проверки документов, в конце концов все уладил Давид, которого Йонас слушался больше, чем остальных: он убедил мальчика, что за пропуск вполне сойдут мальвы, а они были у каждого — кто сунул цветок в петлицу, кто в волосы, кто в вырез блузки, а кто и к туфлям приладил, вместо пряжки. Сам Йонас прицепил на треуголку целых два цветка, лиловый и желтый, ибо эта комбинация железно отгоняла злых духов. Потом они с Давидом, у которого с недавних пор начал ломаться голос, отправились за дом, к столярам. В пьесе-то мы не вахтеры, а, Давид? Давид сказал, что он по пьесе столяр. Ну и я тоже, сказал Йонас. Ученик столяра, как по-твоему? — Класс! — ответил Давид.
Дженни крикнула, что с такой неуправляемой труппой она в конце концов свихнется. Почему все путалось, сбивалось? Почему она сама стояла сейчас у кухонного окна и глядела на Антона так, словно он ей хоть и лучший друг, однако же не единственный. А он, качая на ноге Крошку Мэри и обсуждая с Йонасом применение различных сортов дерева в оборонных целях, — он смотрел на нее, чуть грустно, чуть насмешливо. В своей типичной манере. Итак, господа! — приказным тоном крикнула Дженни. Мы играем спектакль или нет?!
Реплика для Штеффи, та как раз вошла из сеней в кухню, крикнула «алло!» и, когда все резко обернулись, нажала на спуск фотоаппарата. Спасибо! Отличный снимок для рекламы. Представьте себе, сказала она, мы тоже приедем сюда, подсмотрим домик в деревне, совсем недалеко. Представьте себе, дело выгорит, и мы все будем до конца своих дней жить здесь рядышком — только позови!
Помните, как тихо стало на кухне, хотя было там человек десять? И как громко прозвучал один-единственный голос — Дженнин, — который решительно объявил: Здесь никто себе ничего не представляет, сударыня. Мы, между прочим, спектакль играем. Тут всё — чистейшая реальность.
Да что говорить, вы сами знаете: фраза вроде этой буквально поднимала дом, а заодно и нашу компанию, секунду-другую держала нас на весу, а когда мы медленно-медленно опускались, под ложечкой у каждого посасывало, как в лифте. И если даже этот день последний в нашей жизни — пусть, мы прожили его как надо, а это главное.
Луиза спросила, позволяет ли композиция испечь питу. Сейчас? Здесь? Не сходя с места? — спросила Дженни. Ну да, сказала Луиза. Пожалуйста, сказала Дженни. Мы это вставим как замедляющий элемент между сценой соблазнения, которая, надеюсь, успела состояться, — Клеменс и Луиза послушно кивнули, — и выходом наивной простушки. — Погоди, воскликнула Ирена. Простушка может появиться раньше. И даже пособит юной возлюбленной с выпечкой, вот как я сейчас, а попутно, как почти всякая простушка, расскажет свой сон. — Какой еще сон, сказала Дженни. — Который видела минувшей ночью. Вы только послушайте, он отлично вписывается в спектакль. Ну так вот, она шла по огромному зданию с великим множеством коридоров, лестниц, холлов, каморок и комнат, вверх-вниз по ступенькам, и не находила выхода. Ее как магнитом тянуло наверх, но, едва уступив этой тяге, она сразу плутала, упиралась в тупики. «Причудливо» — это слово она вправду слышала во сне. А потом, когда уже и надеяться перестала, выход отыскался, конечно же, внизу, на уровне земли. Проснулась она совершенно счастливая. Этот сон не иначе как означает, что она не потеряет чувства меры. Или? Что ей вредно заноситься чересчур высоко.
Очень может быть, сказала Дженни. Только она-то здесь не толкователем снов работает, а режиссером, и, между прочим, тот, кто опрометчиво рассказывает посреди спектакля такие сны, вообще не годится на роль простушки. А я что говорю, весело отпарировала Ирена, оживленная и красивая, с лиловой мальвой в волосах. Дженни сказала, что спектакль вышел из-под контроля, пора делать антракт.
Ну и хорошо, сказала Луиза, лично ей это весьма кстати, можно спокойно делать питу. Ни в коем случае не добавляйте в тесто холодную воду! — внушала она нам. Запомните: только комнатной температуры! Начинка может быть самая разная. Творог всегда пойдет. И шпинат. Или тыква. А весной — одуванчики. Или другие дикие травы. Что есть под рукой, то и хорошо, греки, чтоб мы знали, народ бедный. Но самое главное, раскатать тесто — тонко-претонко. У нас на глазах она прямо-таки чудеса вытворяла обрезком черенка от метлы, который служил скалкой: раскатывала тесто, быстро, сноровисто отделяла его от стола, поднимала, глядела на просвет, переворачивала, снова бросала на стол и снова раскатывала, ловко-ловко, пока оно не стало тонким, как лепесток; ну вот, теперь пришел черед начинки. Мы как зачарованные следили за ее колдовскими манипуляциями. Секунда-другая — и в глубокой сковороде рядком лежат готовые питы, она сбрызнула их постным маслом и посадила в духовку. Антон между тем массировал Дженни затылок, потом явился Йонас, потребовал корму для своего ослика, который стоял на улице. Крошка Мэри увязалась за ним, вернулась она с известием, что на левом заднем копыте у ослика ослабла подкова. То-то он всю дорогу ковылял, сказал Йонас. Может, оружие для него тяжеловато? — предположил Антон. Ты думаешь? — спросил Йонас. Что ж, один щит можно из поклажи вынуть. Но не больше. Понятное дело, сказал Антон. И опять они с Дженни обменялись красноречивым взглядом.
15
Как ни медленно шло время, все ж таки наступил вечер. Трудно сказать, когда возобновился спектакль да и прерывался ли он вообще, удалось ли исполнителям овладеть своими ролями, не произошло ли обратное — не подчинила ли их себе роль, целиком и полностью. Крошка Мэри, к примеру, упросила Луизу разыграть с ней вдвоем пьесу «Детский сад». Для этого она выставила из сеней на улицу всю обувь, строго по ранжиру, и пронзительным голоском отдавала туфлям и ботинкам команды: Мыть руки! Живо! Скоро вы там?! Не толкайтесь, черт побери! А Луизе велено было лечь в траву и по приказу спать. Когда она сказала, что так не умеет, на глаза ей накинули платок, прицыкнули — дескать, не мешай другим! — а когда она сама смиренным голосом попробовала защищаться, Крошка Мэри, в роли воспитательницы, вне себя гаркнула: Тихо ты!
Все слишком поздно, сказала Дженни, прислонясь к Антону; они стояли на крыльце. Тебе не кажется, что все уже слишком поздно? — Как знать, односложно обронил Антон. Немного погодя они появились на пороге кухни: мексиканцы — жених и невеста — ищут приюта в гостинице «Мальва». Антон облачился в Дженнино мексиканское пончо и взвалил на плечо легонькую укладку с кофточками Эллен. А Дженни запихала под широкое индийское платье подушку. Йонас, который изображал администратора, наотрез отказался их впустить. К сожалению, он не вправе этого делать, ведь любой чужак может быть шпионом. Они и без того ждут еще шпионов. В таком случае, сказала Дженни, сюда-то им и надо. Она, мол, хочет здесь родить. Йонас прямо взвился. Родить? Но этак ведь все хлынут сюда рожать — еще чего не хватало! А Крошка Мэри усердно проталкивала Дженни в дверь, что есть мочи выкрикивая: И пускай, пускай все тут и рожают! Особенно Дженни из Мексики.
Позже, на разборе, эту сцену объявили кульминацией спектакля. Ян и Эллен, в роли владельцев гостиницы, вынуждены были призвать на помощь весь свой авторитет, тогда как прочие постояльцы, сбившись в кучку, отпускали ехидные замечания и поддерживали кто кого. Короче говоря, мексиканцы проникли внутрь, расположились по-хозяйски и вели себя донельзя вульгарно, потребовали есть-пить, а платить не желали. Они смолотили — иначе правда не скажешь — остатки замечательного Иренина пирога с вишнями, хлестали пиво, яблочный сок и даже крепкую мекленбургскую водку, цеплялись ко всем, не соблюдали гостиничный распорядок, шастали по дому, да еще и насмехались над аккуратно выбеленными комнатами, над новой мебелью, выискивая во всем изъяны и промахи, и это сходило им с рук только потому, что они мексиканцы. Остальные из кожи вон лезли, ухаживая за ними, не позволяя им плеваться вишневыми косточками в стены и совсем уж распускать горло. Когда мексиканцы наелись до отвала и хотели было заодно умять свежий Иренин пирог с вишнями, мы все как один обрушились на них, лишь Крошка Мэри неотступно держала сторону Дженни и срывающимся голоском ругала нас самыми скверными словами, какие только знала. Наконец вся троица удалилась, провожаемая страшными проклятиями, тут-то и выяснилось, что вдобавок ко всему эти мексиканцы — мерзкие воры. В укладке, которую Антон водрузил на плечо, он унес все, что «плохо лежало», — кофемолку и перчатки Эллен, вазочку для цветов, будильник и (вот у ж поистине верх наглости!) даже телефон.
Подробности, подробности. Но как же, если нес помощью этих подробностей, нам доказать, что все, чего мы жаждем, заложено в нас как возможность. Как эфемерная, хрупкая возможность — что да, то да. Справедливость? Пусть властвует справедливость? Вы ведь знаете, этого быть не может. Вероятно, любому из нас воздастся по справедливости, если он представит свой отчет об этом лете. Наверно, сказала Эллен Луизе, можно все-таки написать о каждом только хорошее. Луиза ответила, что в таком случае необходимо думать про каждого только хорошее. В тот вечер это казалось нам несложным.
Луиза бродила по участку, от группы к группе, в поисках Беллы и Штеффи. Она увидела их на старой церковной скамье у края лужайки, откуда виден кусочек озерца. Сюрреалистический мотив. Луиза ретировалась. Там сидели двое, которым суждено было уйти. Они сразу нашли друг друга. Луиза попыталась разделить их радость, оттеснить поглубже собственную боль. В свое время, и очень скоро, боль покажет ей когти. Она давно наблюдала за Беллой. Видела, как та отдалялась, на пробу, как думалось ей самой. Мерила других взглядом. Обойдутся ли без нее? Наверно. Луиза скрепя сердце согласилась с Беллой. С тем, что ее тянуло к Штеффи!
Штеффи надеялась, что одна лишь Белла, пожалуй, и занята собой настолько, что не думает о ее болезни. Может, вообще не знает про эту болезнь. Есть ли на свете хоть кто-нибудь, не знающий, что у нее, у Штеффи, рак?
Белла держалась как будто бы непринужденно. И пока они с Беллой шли к скамье на лужайке, где можно было побыть одним, у Штеффи легко и естественно возникло чувство, которое в эти месяцы после операции она так часто пыталась вызвать силой: радость жизни без страха.
Белла сказала, что она красивая. Штеффи поверила ей. Белла не станет говорить что-нибудь из жалости или, хуже того, воспитания ради. Штеффи было по душе, что Белла такая прямая, резкая и даже несправедливая. Ей вспомнилось, как несколько лет назад она в первый и единственный раз посетила лагерь Бухенвальд — без Йозефа, Йозеф никогда больше на Эттерсберг не ездил, — они с подругой тогда долго молчали, сидя на скамейке в веймарском парке. Потом Штеффи вдруг вскочила, подошла к каким-то пожилым людям и спросила: жили они здесь, когда на Эттерсберге был концлагерь. И что они тогда чувствовали. — Взгляды. Беспомощность. Негодование.
Она сыта, сыта по горло щадящими поблажками, и предупредительностью, и фальшивыми утешениями, которыми ее дурачили. Собственный муж. Близкие друзья. Думают, это не бросается в глаза. Белла зло рассмеялась. Они вечно так думают. В душе она все отчетливей, со страхом чувствовала: я должна из этого вырваться. Перерезать связующие нити. Как говорят моряки? Обрубить концы. И опять в дальнее плавание. Сильная, неодолимая внутренняя тяга. Будет больно? Конечно. Но уже никогда так, как в эту секунду. Она заранее подготовится. Вооружится безразличием. И происходящее — всегда ведь что-то происходит! — подсознательно будет рассматривать с точки зрения того, удобный ли это повод, чтобы уйти. Она забудет, что ищет его, но рано или поздно удобный повод найдется. Штеффи она сочувствовала не больше, чем себе. Могла трезво говорить с нею о ее видах на будущее. Что с этой болезнью надо прожить сперва два года, а потом пять. Тогда, считай, дело сделано.
Труднее всего, сказала Штеффи, думать о Давиде — если она вправду скоро умрет. Белла не сказала: Но ведь ты не умрешь! — как сказал бы любой другой. Она сказала, что в случае тяжелой болезни каждый человек, в том числе и мать, имеет право думать о себе, а остальных, даже собственных детей, предоставить их судьбе. Но Давид, сказала Штеффи, ужасно отстает в школе. Он и сейчас еще слова не напишет без ошибок и ни одной фразы бегло не прочтет. А вот она только что видела, как он мигом выучился мастерить стул, сказала Белла. Пусть идет в столяры. Там ни писать, ни читать не надо. Да ты что, сказала Штеффи. Ты же сама в это не веришь. Однако противодействие в ней таяло, страх таял. Страхом она Давиду не поможет, наверно, говорила она себе. При всей ненадежности Йозефа, когда ее не станет, отцу и сыну придется самим решать, как жить дальше вдвоем.
Штеффи помогла Белле резким рывком освободиться от возлюбленного. Пусть его, думала она теперь. Пусть как хочет. А я буду жить по-своему.
Эллен немного посидела возле дома. Солнце заходило, жара спадала. Она проводила взглядом Дженни и Антона, которые направлялись к озерцу. Слышала голоса детей. Кто боится трубочиста? — кричала Крошка Мэри, а Йонас с Давидом что есть мочи горланили с той стороны дороги: Ни-кто! И Эллен почувствовала, что соскальзывает в другое время и в другое место, где другой ребенок кричал: Как он придет, то будет здесь! — и ощутила внутреннюю дрожь этого ребенка, вот так же дрожала и Крошка Мэри, так же заглушали криком свой страх Давид с Йонасом: Поехали в Америку! Вот так же тот давний ребенок, одинокий, как бывают одиноки только дети, в отчаянии кричал: Америка сгорела! — и отвечали ему так же, как сейчас ответили Крошке Мэри, с безудержным триумфом в голосе: Мы все равно поедем! И пусть фигура и лицо черного трубочиста менялись, думала Эллен, почему-то вдруг ужасно сонная и отрешенная, детский страх оставался все таким же, заглушенный, но оживающий в человеке по первому зову, даже на старости лет; и не может ли быть, думало что-то в Эллен, которая потеряла над собою власть, но была вполне внимательна, не может ли быть, что все отчаянные усилия последующих лет, по сути, направлялись к одной цели — избавиться от страха перед трубочистом и что радость, порою беспричинно обуревавшая ее, шла от уверенности, что она, пусть по наитию, приближалась к этой цели. Эллен замерла и опять стала наблюдать за происходящим. Крошка Мэри, перепачканная с ног до головы, Ян ведет ее в дом, терпеливо увещевая. Первые вопли жерлянок. Ирена у калитки. Луиза, Белла и Штеффи возвращаются с лужайки, увлеченные тихой доверительной беседой. А затем на деревенской улице появились Дженни и Антон, шли крепко обнявшись, что-то очень важное произошло между ними, Эллен чувствовала. Все видеть, извне, физически, и одновременно ощущать важность происходящего. Эллен поневоле затаила дыхание. Значит, все сошлось-таки воедино. Контуром обрисовалась некая форма, начали двигаться персонажи. А главное, она опять чувствовала на себе неотрывный взор. Трепет и колыхание, с иронией подумала она, обычный первозданный хаос. И вдруг фыркнула. Они что, решили напугать ее? Отвлечь? «Они» — это силы творчества. Пускай делают что хотят. Создают персонажей и вновь их уничтожают. Ах, Боже ты мой. Каждый раз новое сотворение мира. На меньшее они не согласны. Нельзя прежде времени вмешиваться в этот процесс, хотя уже забрезжила догадка, куда все пойдет. Опять ни за что ни про что испишем два кило бумаги, укорила она их в непонятном приступе веселья. Как же она могла до такой степени ослепнуть. Отупеть. Быть такой недалекой. Бесчувственной. Теперь — да! Теперь все распахнулось, проступили взаимосвязи. Конечно. Так оно и есть. Ужасно, если такова правда. Кошмар — выразить это. А ей придется с дрожью на это пойти, и застарелая боязливая дрожь наберет силу, да как — сейчас она могла только догадываться. А голос в ней, хоть и совсем тихо, но кричавший: Назло поедем! — как часто он будет смолкать. И тогда — мрак. Безмолвие. И вот возникает вопрос, откуда берется страх и чем мы всю жизнь стараемся его задавить. Спрятать. Уйти от него. Избавиться. Забыть. Умертвить. Ах мы, полутрупы.
На сей раз все возможно. Делать наброски — что может быть замечательнее. Завтра и начнем. Пронзительное чувство благодарности, ко всем окружающим. К каждому, кто показал ей себя. Как же их вознаградить?
Ян с Антоном вытащили на улицу громадную кастрюлю ухи. Хватит ли на всех? — спросила Эллен голосом, едва не срывающимся от счастья. Ян бросил на нее взгляд: он понял. Хватит, сказал он, ешь — не хочу. Луиза вынесла доску с питой. Все столпились у длинного стола. В зелени деревьев зажглись лампионы. Жерлянки голосили как одурелые. С сегодняшнего дня, сказала Луиза, шарик опять покатится под горку.
16
Новая глава, новое начало, в игру вступает синий цвет, синяя пещера, в которую спрячется, забьется Соня, найдет там покой. Еще десяток-другой минут в этом жутком поезде, среди работяг, которые вечером в четверг ехали домой с берлинских строек и по дороге напивались. Как насчет, а, фроллейн? На лице у нее сразу появилось выражение, которое ее отец называл «распаленным». Ее всегда считали моложе, чем она есть, пациенты тоже говорили «фроллейн доктор». А она ни то ни другое — не фроллейн и не доктор. Еще минут тридцать — сорок пять надо потерпеть, не воображать себе слишком живо теплое дыхание и запах Крошки Мэри, так же как она терпела в городе, перед сном. Только когда садилась в машину и они отправлялись в путь, она чуточку, самую малость приоткрывала внутри у себя дверку, за которой держала взаперти тоску, а потом, по дороге, чувствовала, как тоска, выскользнув из своего застенка, заполоняет ее целиком. Немногочисленные вопросы и ответы курсировали между нею и отцом, фары высверливали темно-зеленый световой туннель, а в конце его была синяя пещера. А еще раньше поезд подъезжал к вокзалу, горланили на платформе пьяные, воняло из открытых дверей вагонов. Отец у подножия вокзальной лестницы. Привет, говорила она, а он трепал ее по затылку, как трепал, когда она была долговязой нескладной девчонкой. Странно, думала Соня, что физическое ощущение долговязой нескладной девчонки никак не желает исчезнуть и оценивающий взгляд любого мужчины оживляет в ней это фантомное тело, а она знает, но не может поверить, что взгляд натыкается на стройную, хорошо сложенную молодую женщину, которой отец, трепля по затылку, говорит: Ну-ка, встряхнем немножко, вытрясем блажь. Она вырывается. Отдает ему сумку — пусть донесет до машины. И вот она в машине. Вот сейчас произойдет то, что происходило всегда: все оставленное ею отделится. Лицо той женщины, в поезде неотступно стоявшее перед глазами, должно исчезнуть. Удастся ли это — трудно сказать. Она знает, там, где ей видится лишь световая просека в черноте ночи, для ее отца и справа, и слева такой же пейзаж, как днем. Десятки поездок запечатлели в его памяти каждый метр дороги с соответствующей картиной.
На последнем участке пути Соня затихает. Тусклые деревенские фонари словно бы возвещают беду. Пивная на перекрестке, которую ощупывают фары, скверная булыжная мостовая.
Кооперативные фермы, залитые ярким, как день, светом прожекторов, — поворот направо. Навозная жижа на дороге. Вонь. А потом тьма, бездорожье — на этом месте для Сони всегда начинается дикий край, который и притягивает ее и отталкивает. Узкая светлая полоса песчаной дороги ныряет в густой кустарник. Два-три зайчишки, загипнотизированные, никак не вырвутся из светового конуса. Ян их увещевает: Ну беги. Да что ж это ты? Дурачок. Черный домишко слева, окно, озаренное магическим мерцанием телевизора. Последний крутой поворот. Наконец-то луговая дорога. Возвращение домой? Возвращение блудной дочери, думает Соня. Ах. Несколько фраз Яна о людях, что живут в домиках у дороги. В такую поздноту телевизор смотрят, говорит Соня, посреди сельских просторов. Это что, прогресс, да? Потом ивняк, уже возле самого дома. До сантиметра выверенный поворот, мимо фасада, еще один дерзкий вираж на дворовой траве. Ян останавливает машину прямехонько перед темным зевом сарая. Свет на дворе, процеженный сквозь синие кухонные занавески. Ну, вот и добрались.
Ее ждали. Ребенок повис на шее, Крошка Мэри. До чего же от тебя здорово пахнет — травами! И: Ты почему еще не спишь? — говорила Соня, как от нее, от матери, наверняка и ожидали, а Крошка Мэри резонно отвечала, что ее приезд более чем благовидный предлог, чтобы не ложиться спать. Да, да, конечно. Суматоха на кухне — это Дженни, она всегда умела создавать суматоху, взгляды матери, испытующие и потому старающиеся таковыми не казаться, все, как всегда, и стены кухни покрашены синим, клеенка на столе — в синих узорах, посуда тоже синяя. Синяя пещера, где низко опущенная лампа выхватывала из сумрака один-единственный светлый треугольник.
Бледнолицая. Белянка. Горожанка.
Как звучал голос Эллен? Невнятно? Теперь Соня должна сказать, что в этой семье она единственный представитель трудящегося населения, и она сказала, а за это получит вкусного супчика, который приберегли для нее. Дженни заварила чаю, потом все они, сидя за столом, благоговейно следили, как ест-пьет трудящийся человек. Они ни о чем не спрашивали, даже Эллен отучила себя с ходу задавать вопросы, которые просились на язык. Ешь и пей! Неколебимая уверенность, что лишь в лоне семьи она питается нормально. И ведь это чистая правда. Такого щавелевого супа она нигде больше не едала, это она безоговорочно могла признать. Положа руку на сердце, без вранья? — спросила Крошка Мэри. Щавель-то собирала она. Вместе с Дженни.
Предложение пойти спать она великодушно приняла. Если ее уложит Эллен. Если Соня потом придет и скажет ей «покойной ночи». Расскажет еще одну историю с продолжением. Ладно. Что там на очереди? — Уленшпигель. В наше время, сказала Дженни, все истории были о зверях, помнишь? Про лису, про медведя, про белку. В твое время, сказала Соня. В мое были истории про принцессу. То ли еще будет, подумала Эллен. Карлик Эрвин пока не родился. Про Карлика Эрвина будут слушать Дженнины дети. А ночник ты не выключишь? Эллен обещала не выключать. Соня переглянулась с нею: До сих пор? — До сих пор. — Слушай, сказала Дженни, ты уже видела принцесс с длиннющими шеями, которых теперь рисует твоя дочь? С ума сойти!
Они проводили взглядом мать, которая потихоньку вытолкала из кухни Крошку Мэри и вышла следом за ней. И правда стареет. Осанка изменилась, как-то обмякла, походка стала неловкой, она словно бы опасается натрудить бедра. Соня попыталась вообразить себе маму молодой, своей ровесницей, которая сказала доктору: Да. Я хочу оставить ребенка! — хотя до окончания института было еще далеко. Потом, спустя годы, она сама скажет и сделает то же, родит ребенка, а после с головой окунется в экзамены, как и ее мать больше двадцати лет назад. Так что мама-то кое-что задолжала своему ребенку. Как и я, думала Соня. А ведь твердо верила, что никогда не повторю ее ошибок. Никогда. Никогда. На долю секунды Соня увидела перед собой цепочку следов, почувствовала, как что-то велит ей идти по этим следам, всю жизнь. Только не это. Надо вырваться, любой ценой.
Дженни начала рассказывать, как в раннем детстве мамин рассказ спас ей жизнь — так она тогда чувствовала, так запомнила. У нее ужасно болел живот, а еще ужаснее был страх, что живот раз — и лопнет, как стращали ее большие мальчишки, эти садисты, — вот тогда мама и рассказала ей про лисичку, у той, мол, тоже болел живот, болел-болел и потихоньку перестал, а сама все поглаживала ее по животу, и мало-помалу страх и боль утихли. Незабываемое облегчение! На всю жизнь останется в памяти.
Психосоматические симптомы, сказала Соня. У кого? — сказал Ян, входя. Ну, теперь повторяй все сызнова, слово в слово. А еще говорят, что женщины любопытнее мужчин, сказала Дженни, у нас тут наоборот, это уж точно. Вообще, в этом семействе любые двое могут часами обсуждать двух других. Все только и спрашивают один другого, что он делал, что делает сейчас и что намерен делать в ближайшее время. Каждого очень и очень интересует душевная перистальтика всех остальных. Нормально ли это, скажите на милость, а? — Только не меня, подумала Соня. Меня внутренняя жизнь нашей семьи интересует мало. С каких пор? Не помню.
Но сказала она, что не так уж это и плохо. К примеру, можно прямо сейчас быстренько поговорить втроем о маме. Они уверены, что эта деревенская домомания у нее искренна? Не кажется ли им, что ей вовсе не к лицу запрятываться сюда? Не считают ли и они, что вообще-то ей нужны шум и суета? И не боятся ли, что будет худо, если она заметит, какая здесь на самом деле тишина?
Вошла Эллен. А мы как раз по твоему адресу прошлись, сказали они ей. А я так и думала, ответила Эллен. Увы-увы, нет у дочек душевного такта, его ведь ни самое тщательное воспитание, ни самое благородное происхождение не гарантируют. Ее взгляд искал взгляд Сони. Что-то произошло? Может, уже разразилось несчастье, которое — иногда она отчетливо это сознавала, иногда только чувствовала — грозило ее детям? Может, оно причинило дочери ту неутолимую боль, от которой она, мать, любой ценою хотела ее уберечь? Выспалась ли Соня? Как выглядит? Она избегала материнского взгляда, пряталась. Ты хоть поела как следует?
Да, да, конечно. Каждый, дорогая мамочка, сказала Дженни, должен беспокоиться о себе. Не дрогнув, она позволила назвать себя бессовестным созданием. Ян спросил, какое мясо достать на завтра из холодильника. И не хотят ли они выпить еще по бокальчику вина. — Вина? Непременно!
Вчетвером у семейного стола, так и должно быть. Соня ждала, когда ею завладеет чувство, которого она так домогалась. Порядка оно не принесет. Напротив. За пределами круга света от этой лампы, которую они опустили вниз и потому лица были в тени, а руки на столе залиты светом, все казалось ей запутанным и хаотичным, и ведь ей одной по-настоящему доставалось от этого опасного хаоса, она одна рисковала стать его жертвой. Вот и сегодня — сложности, которые, как она видела, одолевали маму и заставляли тревожиться за нее, не были по-настоящему опасны для жизни. Ведь мама всегда — пусть в самую последнюю секунду — изобретала способ держать нос над водой, хотя бы на миллиметр. Не говоря об отце. Он не очень-то спешил поддаться соблазну и броситься в водоворот, к счастью, нет. Отчего она только теперь начала понимать, что именно в этом его сила, отчего до сих пор лишь пристрастия матери казались ей силой. Все опять стало переворачиваться? Неужели она этого хочет? Неужели выдержит? Знали бы вы. Знали бы вы, что́ я способна выдержать.
Знали бы вы! — услыхала она голос сестры. Знали бы вы, сколько я всего натворила! Но ты, обратилась она к Эллен, как-то сказала мне: Чтобы ты ни натворила, даже плохое, я тебя все равно люблю. Можешь совершенно твердо на это рассчитывать. И я приняла эту поблажку. Знали бы вы!
Вечно Дженни выставляется со своим образом жизни, сказала Соня. Она вот никогда ничего не творила. Она всегда была хорошей девочкой. Слишком хорошей.
Это форменное бахвальство, сказала Дженни; Эллен знала, этот припев «слишком хорошей!» целил в нее, а Соня думала, как много остается невысказанным даже в такой говорливой семье, как у них. Она считала, что надо говорить все начистоту, докапываться до сути, вскрывать истоки конфликтов. Раньше, сказала Эллен, она тоже отстаивала эти принципы. И даже действовала в соответствии с ними. И сеяла беду. Теперь она скорее за то, чтоб каждый жил по-своему. И даже щадил других. А толку-то от этого, сказала Соня. Откровенность совсем необязательно должна быть беспардонностью. Но ведь иначе до реальности вообще не доберешься!
Ян сказал, что самое милое дело — золотая середина.
Знаешь, кого я сейчас невольно вспомнила? — сказала Соне Эллен. Твоего первого классного руководителя, как бишь его? Ты проучилась в той школе всего год, потом мы переехали. Так вот, на прощанье он мне сказал: Сделайте одолжение, присматривайте за Соней. Это особенный ребенок!
Что?! — воскликнула Соня. И ты молчала?!
Ах, сказала Эллен, я тебе сто раз говорила!
Неужели правда? Неужели она забывала подобные слова и помнила только поражения и осечки? Кстати, его звали Панков, сказала она, моего первого классного руководителя. И уже две недели он лежит в нашем отделении, с пьяницами. Лечится от алкоголизма. Конечно, он не мой больной. Да и, надеюсь, он не узнал меня, с новой-то фамилией.
В ту пору, помолчав, сказала Эллен, никому бы и в голову не пришло, что господин Панков начнет пить. Да, сказала Соня, семейные неурядицы, партийное разбирательство, да и вообще, работа, педагогика — обычная история. От жизни пощады не жди.
Опять в голове у Эллен замелькали словно бы кадры из фильма. Столько лет прошло — семнадцать? восемнадцать? — а она отчетливо увидела юное лицо первого Сониного учителя, вихор, падавший ему на лоб, вспомнились даже его глаза, кажется серые, — яркий кусочек давнего времени, хотя многое другое забылось, не мешало бы выяснить почему. Вот и Соня — с ранцем за спиной, пружинистым шагом выходит из калитки. Пленка крутилась вспять. Вот она сама рано утром идет с маленькой Соней к надземке, прощается с дочкой на углу, смотрит, как та бежит в детский садик. Как задевают друг о друга ее голые коленки и мотается из стороны в сторону «конский хвост». Помнишь, сказала она, синюю курточку с красным клетчатым воротником? — Смутно, отозвалась Соня. Незапамятные времена. — А «звездно-талерное» платьице? — Вроде помню. Только я не всегда отличаю настоящие воспоминания от фотоальбомных. — Я тоже, сказала Эллен. Я вам рассказывала, что «звездно-талерное» платье, которое так тебе нравилось и так шло, навсегда связано для меня с чувствами страха и вины? Пришивая к синему, как небо, любимому Сониному платью золотые бумажные звезды, она поминутно бегала к кроватке Дженни — у той часто болел живот, и врач укоризненно, как показалось Эллен, объявила, что ребенок серьезно болен. А потом велела Эллен пощупать, как запала кожа над еще не заросшим родничком — от недостатка жидкости. Это ощущение навсегда осталось у Эллен в кончиках пальцев, а в ту ночь она твердо намеревалась бросить работу и посвятить себя детям. Выполни она тогда свое намерение, неколебимо верила Эллен, Дженни никогда бы так не хворала. Сегодня она впервые заговорила о том, как плакала над Сониным карнавальным платьем, и понимала — другие тоже понимали, — что взывает к сочувствию дочерей, предлагая им мысленно поставить себя на место матери, которая была тогда на двадцать лет моложе и в тупиковом положении, и ей вдруг подумалось, что она ведь давала себе клятву никогда, никогда в жизни не шантажировать дочерей, взывая к их сочувствию, и она осеклась. Эллен не сказала, но отчетливо поняла: решение отказаться от работы, даже если бы она неукоснительно выполнила его, Соне уже бы не помогло. Мы, сказала она, просто не знали тогда многого такого, что теперь известно всем. Мы понятия не имели, как важны для ребенка первые годы жизни. Зато вы собирались изменить мир, заметила Дженни. О да, сказал Ян. Все больше на конференциях, где только и делали, что препирались друг с другом. Не мешало бы, между прочим, поточнее выяснить, как до этого дошло, добавил он.
Эллен подумала: Ян все чаще твердит, что не мешало бы поточнее разобраться с тем или иным вопросом, но ведь палец о палец не ударит для этого. Впервые перед нею зримо отверзлась пропасть, разделяющая поколения, — она сама и ее дочери на разных берегах. Едва возникнув, эта картина наполнила ее ужасом и была поспешно отброшена.
Наверно, в одиночку и правда не переступить через поведенческие стандарты своего поколения, думала Соня. Но когда настанет их черед — ее и ее друзей, с которыми она спорила о тех же проблемах, о каких четверть века назад спорили ее родители со своими друзьями, — они поведут себя иначе. Поломают эти закоснелые структуры. Только вот пока не похоже, что настанет их черед. Повсюду, где принимались хоть какие-то решения, плотно сидело старшее поколение. Проморгали, думала Соня, проморгали они возможность занять в юные годы важные посты. Или в любом поколении такие посты занимают всегда не те, кто способен что-то изменить?
Ну а теперь пора на боковую. Ян и Эллен завершили свою едва ли не каждодневную перепалку о книге, которую Ян пренебрежительно назвал «слабенькой», хотя только перелистал ее, а не читал по-настоящему, что до сих пор возмущало Эллен, ведь она и эту книгу прочла от корки до корки и нашла в ней хорошие стороны. Соня и Дженни опять невольно обменялись сочувственным взглядом, по давней — очень-очень давней, признайтесь! — привычке. Интересно, а когда родители одни, когда не разыгрывают простенький спектакль ради этих взглядов, как они себя ведут? Ян унес свою постель в соседнюю комнату, потому что сегодня Соня имела полное право ночевать в комнате с Эллен. Она не знала, хочется ли ей этого на самом деле. Эллен подумала, что никогда не была такой стройной и молодой, как старшая дочь. Соня заметила, что у матери не только изменилась осанка, но и тело постарело. Кровати стояли углом, изголовьями друг к другу. Лунный свет падал сквозь желтоватые шторы, ночные шумы деревни скорее угадывались, чем слышались. Эта тишина, сказала Соня, кажется ей прямо-таки грозной. На первых порах у нее было такое же чувство, сказала Эллен. А теперь она каждую ночь вслушивается в эту тишь, и все ей мало.
После долгой паузы, когда слышна была только шумная возня ежей под окном, Эллен спросила: Наверно, не очень-то хорошо все шло, в последние недели?
Да, сказала Соня. Одна моя больная покончила с собой.
Эллен почувствовала, как кожа на голове словно похолодела и съежилась.
Помолчав, Соня спросила, помнит ли она молодую женщину, она как-то о ней рассказывала: маленькая светловолосая продавщица, с ней развелся муж и потребовал лишить ее родительских прав: у нее, мол, депрессии. Так вот в прошлое воскресенье она выбросилась из окна четырнадцатого этажа.
Эллен ни к селу ни к городу брякнула: Ты не виновата.
Не виновата, повторила Соня. Но я упросила отпустить ее на выходные домой. Хотя знала ее плохо.
Опять долгая пауза, потом Эллен спросила, не считает ли она, что есть люди, которые в любом случае найдут возможность покончить с собой. Рано или поздно.
Да, сказала Соня, вероятно. Вероятно, есть люди, которым не поможешь. В том-то и дело. Но в работе этим руководствоваться нельзя.
17
Десятилетие — расхожее слово.
Десятилетие.
Мы еще разговариваем друг с другом? Слышим ли еще один другого? Нужно ли нам еще слышать друг друга? Голос Штеффи — звучит ли он еще у нас в ушах? А Белла? Она-то слышит нас?
Удержать мы не умели.
Удержать невозможно. Таково условие, люди идут на него, сами того не ведая, и не помнят о нем, пока все продолжается. Что же? Что продолжается? Вот то-то и оно: мы не спрашивали себя об этом. Не искали этому названия, принимали дар таким, каким он был преподнесен, не разбирали его на части. Довольствовались малым: срезали ранней весной ивовые лозы, ставили черенки в ведро и ждали, когда под водой появятся крупные светлые глазки, из которых затем вырастали тоненькие бледные корешки, и тогда можно было сажать эти прутики в обильно политую землю. Ну а там, глядишь, черенки еще в том же году брызнут листвой и года через два-три образуют густую чащу — раздолье для окрестных корзинщиков. Изведать такое. Своего рода акт созидания. Руки помнят его дольше, чем голова. Или вот нащупаешь под землей густой пучок крапивных корней, расшатаешь его и потихоньку, осторожно начинаешь тянуть. Под ложечкой так и замирает, когда тащишь стебель, а он не ломается. Или вот копаешь вдоль забора ямки, притом определенной глубины, чтобы вместить молодые кустики с комом, земли на корнях. Поливать их надо бережно-бережно. Приносишь землю со свежих кротовых холмиков на лужайке, набиваешь цветочные горшки, где выращиваешь рассаду мальв. Держишь левой рукой салат, а правой срезаешь листья у самой земли. А с иными сорняками и бороться бесполезно. И ведь мы часами могли на полном серьезе, без насмешки разговаривать об этом обо всем.
Первый деревенский праздник, помните? Большая палатка, раскинутая на лужайке перед деревней. Нам сказали тогда, что в субботу после обеда мы тоже могли бы внести вклад в культурную программу, приняв участие в Самодеятельной выставке. Чопорная молодая бургомистерша специально зашла поделиться своей задумкой. А задумала она базар, вроде того, что прошел недавно в окружном центре. Более скромного масштаба, конечно, сказала она, но почему бы и нет. Базар солидарности — это слово так и пестрело в газетах. Собранные вещи разместили потом на столах и стенах в конторе кооператива. Картины Клеменса висели рядом с портретами господина Биттерлиха, поражавшими фотографическим сходством. Господин Биттерлих относился к искусству как нельзя более серьезно. Он потерял ногу в танковом сражении на Курской дуге, был «свидетелем Иеговы» и с недавних пор обзавелся электрокардиостимулятором. Фройляйн Зеегер выставила на продажу зеленый суконный жилет и стенной ковер с яркой аппликацией в виде петуха. Искусно связанные крючком кухонные хваталки соседствовали с коваными стойками для газет и фонариками, вышитые кофейные скатерти — с плетеными безделушками. И среди всего этого наша доля — книги, тоже в какой-то мере самодельные. Школьный хор из Грос-Плессова расположился на лестнице и исполнил для горстки самодеятельных художников «Орешек темно-бурый» и «Ветер колышет цветные знамена», а потом хористы-школьники скупили почти все выставленные на продажу экспонаты. Даже книги, поскольку из деревни народу явилось раз-два и обчелся, ведь в тот же час в палатке начали отпускать пиво. Впрочем, бургомистерше было передано двести девяносто три марки взноса на солидарность, и она осталась вполне довольна. В небольшой заготовленной речи она поблагодарила самодеятельных энтузиастов, и люди в палатке искренне и долго хлопали. Все было на своем месте и по-своему правильно.
На праздничной лужайке высилась увенчанная цветами триумфальная арка, на ней надпись «Добро пожаловать!», но никто под аркой не проходил, все топали в обход. Только Крошка Мэри за компанию с Луизой непременно пожелала пройти под аркой, да не один раз — можно ли упустить такой случай! А потом — на американские горы. Мало того, Крошка Мэри готова была скупить все билеты — лишь бы выиграть огромную плюшевую собаку, но выиграла махонького ныряльщика из желтой резины с длинным шнурком, чтобы поднимать и опускать в ванне. Он пережил все катастрофы. Гром карусельной музыки, скрежет колеса счастья, хриплые возгласы зазывал, разноцветные лампочки, то вспыхивающие, то гаснущие над ярмарочным балаганом, — для Луизы и для Крошки Мэри все это была настоящая жизнь. Держась за руки, они сновали среди жилых фургончиков на краю праздничной лужайки, вытягивали шеи, пытаясь заглянуть в загадочную тьму там внутри, с ожиданием чуда разглядывали висевшее на веревке белье балаганщиков. Обе часами катались на каруселях, и с лица у них не сходило блаженно-отрешенное выражение, обе визжали, когда визжали все, Луиза ела жареные сосиски, сколько заблагорассудится, и ни разу не почувствовала себя плохо. Ян вскоре ушел. Эллен заранее знала, что тоже заскучает, как всегда на ярмарках, еще с детства, и при первых признаках скуки вошла в палатку.
Внутри была такая жарища и духота, что она мгновенно взмокла — либо поворачивай обратно, либо не обращай внимания. Ирена с Клеменсом отчаянно махали руками, звали к себе, они уже сидели за столом со строителями и их женами, обсуждая вчерашний футбольный матч между Югославией и ФРГ. Мужчины со знанием дела толковали о тактике тренера команды, подробнейшим образом разбирали каждый прием, каждый маневр. Госпожа Маковяк пожаловалась, что они чересчур много курили и пили во время первого тайма, когда ситуация складывалась не в пользу западных немцев. Она-то сама, конечно, легла спать, но разве уснешь, когда внизу галдят и без конца хлопают дверцей холодильника. В знак примирения Пауль Маковяк преподнес жене плитку шоколада. Поочередно, соблюдая строгий порядок, мужчины ставили всей компании по кружке пива, по рюмке водки и незамедлительно осушали эти кружки и рюмки с выражением гадливости на лице. Пауль Маковяк придвинулся к Клеменсу, решил поделиться своими мужскими тайнами, но, поскольку музыка гремела оглушительно, ему волей-неволей пришлось кричать, а всем остальным — волей-неволей слушать. Почти все маковяковские секреты относились к послевоенным годам, когда он, молодой парень, ходил по выходным в деревни, где в ту пору била ключом волнующе-привольная жизнь. Вперемешку с приступами неудержимого смеха он поведал Клеменсу, как толкнул одному малому, который хотел поразнюхать насчет жратвы, подметки в обмен на пыльник, перешитый из вермахтовского плаща. Вот и вся мужская тайна, Клеменс не знал, что сказать, а Ирена нервозно хихикнула. Эллен быстро повернулась и стала смотреть на танцплощадку. Настоящие, «взрослые» танцы пока не начались, но музыка уже играла, и дети сосредоточенно отплясывали, взявшись за руки. Эллен невольно следила за Крошкой Мэри, которая, спиною к ней, стояла рядом с Луизой возле танцплощадки, изнывая от желания поплясать. Вот Крошка Мэри взяла Луизу за руку, они шагнули на площадку, добросовестно заняли исходную позицию — рука об руку, друг против дружки, — прислушались, одинаково склонив головы, завертели попками, притопнули на пробу, попали в такт, включились в ритм и пошли, пошли. Где они только учатся! — сказала Дженни, в вырезе блузки у нее торчал огромный, яркий, как леденец, бумажный цветок — какой-то парень в тире «отстрелил» его и подарил ей. Хоть симпатичный? — спросила Ирена. Она принялась выискивать симпатичных ребят, но их было всего ничего. Удивительно ли, что все взгляды так и прилипли к Луизе. Капельмейстер, толстяк в белой рубашке и синем суконном жилете, дирижировал крохотной палочкой. Играли они всё, начиная с «Адельхайд, Адельхайд, подари мне гнома в сад» и кончая «Подавайте нам обратно кайзера Вильгельма», вдруг по знаку от двери музыка оборвалась, танцплощадку быстренько очистили и под овации зрителей в палатку торжественным маршем вступили четырнадцать бравых стрелков из Охотничьего общества, в зеленой форме, в охотничьих шляпах, уперев в правое бедро охотничий рог. Мы все почувствовали: это вершина праздника. Не каждый день услышишь все до одного охотничьи сигналы, поочередно сыгранные на роге, — от «Вместе с загонщиками вперед!» и «Кабан готов!» до «Улюлю!».
Мы были в восторге и, громко хлопая в ладоши, наблюдали, как егеря уселись за стол и принялись за выпивку, и сочли вполне естественным, что шеф Охотничьего общества в паре с бургомистершей открыл танцы. Как положено, мы внесли свою лепту в ядреные комментарии, но в глубине души чувствовали, что вообще-то не имеем на это права, в частности не имеем права и хихикать над двумя старушенциями, которые не пропускали ни единого танца: одна толстая и самоуверенная, вторая тощая, сгорбленная и робкая, одна в седых кудряшках, другая с махоньким пучком, обе изработанные, бесформенные. Сюда бы скрытую камеру! — сказала Ирена. Вот бы наснимали! А Эллен, чуточку резковато, ответила: Да ничего бы не наснимали. Главное все равно осталось бы за кадром.
Что, к примеру, нашла бы скрытая камера, думала Эллен, в появлении почтарки, которая, непринужденно раскланиваясь во все стороны, протискивалась между столами. Что бы увидела в лицах, которые повернулись к этой женщине, во взглядах, смотревших ей вслед? Ничего. Совершенно ничего. А ведь все в деревне, да и мы тоже, видели мужа почтарки, однорукого господина Шварца, нашего письмоносца, в разгар зимы он замерз в снегу на участке той статной темноглазой особы, которая не отворила ему дверь, не поверила, что он упал с велосипеда, сломал ногу и не мог двинуться. Она-то думала, он опять напился и решил продолжить с нею шашни. Ведь муж ее работал далеко от дома, на монтаже, и ни он, ни деревенское общество никогда бы не простили ей, впусти она почтальона еще раз. Вот она и не открыла ему, и он замерз, в трехстах метрах от ее двора, поначалу против нее возбудили процесс по обвинению в неоказании помощи, но скоро дело прекратили, ибо она действовала в неведенье фактов, тем самым инцидент был исчерпан; нашего недоумения никто не разделял, и мы поневоле признали, что не понимаем деревню. Чуть что — она сразу отгораживалась от нас и жила своей собственной загадочной жизнью. Не наше дело судить молодых парней, которые уже напились и горланили за столами. И грудастых женщин, втиснутых в дедероновые блузки диких расцветок, — обливаясь потом, они — шерочка с машерочкой — вихлялись на танцплощадке, а мужчины, словно так повелось от веку, на деревенских праздниках непременно должны были напиваться. Эллен замечала, что женщины обращались с подвыпившими мужьями как с большими неразумными детьми, ни одна не подавала виду, что ей противно, этим она непоправимо нарушила бы правила супружества. Эллен видела мелькнувшее в толпе землистое лицо Уве Поттека, видела его бывшую жену, которая сидела с новым мужем за столом трактористов. Убила бобра, сказала госпожа Маковяк, новый-то пьет почитай каждый день. Да и старый тоже пьет. Нынче, уж во всяком случае, полно будет мертвецки пьяных. Только бы пришлые не полезли по сараям и не начали в соломе орудовать спичками.
Потом вступил хор, заглушил соло госпожи Маковяк. Деревенские спрашивали, не знали ли мы старую госпожу Кролль — если идти от «кота», домишко у нее аккурат по левую руку, один из первых в деревне. Мы знали старуху Кролль шапочно, она ведь несколько месяцев пластом лежала, ну а что она недавно померла, это мы слыхали. Ладно. А чем дело кончилось, нам известно? Нет? Ну, история прямо как из психушки. Так вот. Старуха Кролль померла, тут-то и объявились наконец ейный сынок да невестка из города, верней, прикатили с шиком. Новый «вартбург» и все такое. Правда, из похоронного бюро раньше приехали, и старуха Кролль была уже на кладбище — насчет этого, само собой, люди позаботились. Думаете, сыночек хотел напоследок увидеть мать — да ни Боже мой! Он и в дом-то родной вошел так, словно в жизни не бывал в этаких хибарах. А жена его — ну вообще! Ковыляла на каблучищах, что твоя цапля-модница. Сын-то, он, кажись, в безопасности служит, что ли. Вечно вокруг себя страсть сколько туману напущает. Ни с кем не разговаривает — эвон как о безопасности печется. Да шут с ним, пусть как хочет. Ясное дело. Я просто говорю. Ну, в общем… старуха Кролль была женщина уважительная, аккуратная, это все знают. Все подтвердят. А сказать вам, как они с ней обошлись? Вы не поверите. Вот провалиться мне на этом месте: на следующий же день, как парочка укатила, явился грузовик с двумя дюжими мужиками. Эти бугаи шасть в хибару старухи Кролль и мигом все там вычистили. Они сами этак сказывали: Давай-ка вычистим энтот хлев. В общем, взялись они за дело и все старухины вещички на свой окаянный грузовик и пошвыряли, посуду хорошую тоже, простынки справные из ейного приданого — новехонькие! — швейную машинку, старый «Зингер», в полном порядке, шкаф, стол, стулья — ну все-все. Ничего не пощадили. А потом что? Да вы слушайте, слушайте: потом они свезли все это добро на свалку и там вывалили, ни больше ни меньше. Вот. Сделали дело, зашли в магазин, распили по две бутылки пива — и восвояси. Ну а дальше-то что было? Рассказывай уж до конца! Не спеши, все в свой черед. Дальше вся деревня кинулась на свалку, всяк выискал себе из старухина имущества то, что еще могло пригодиться. Я лично взял жене — она ведь до последнего дня ходила за старухой Кролль — зингеровскую машинку, которая ей давно была обещана. И вот там я своими глазами видал такое, что Господь, коли он все же есть, нипочем молодому Кроллю не простит: как ветер дунул, узлы да свертки, что валялись кучей, раскрылись, и полетели оттуда семейные фотографии старухи Кролль, все ейные бумаги и документы и письма ейного жениха еще с первой мировой. Знаете, что я подумал? Волей-неволей подумал: как заблудшие души. Сам не знаю почему. Так или иначе, сыну все это оказалось без надобности. Не нужна ему память. Вот, сами гляньте: свадебное объявление старухи Кролль, двадцать пятый год. А это — еще одно, о рождении ейного чистоплюя сынка. Ханса Йоахима. Май двадцать седьмого. А теперь скажите мне на милость, что ж с этаким человеком делается-то.
Вскоре мы ушли. Луиза примолкла. А правда, что ж это с ним? — спросила она после долгой паузы. Вот так сыновья. Кто и когда обрубил пуповину, связывающую их с прошлым. Как сумели истребить в них все уважение, до последней капли. Каждый из нас думал о письмах и памятках жизни госпожи Кролль, воочию видел, как они метались по бесприютной свалке, не находя упокоения.
Помните? Не сговариваясь, мы собрались у Ирены и Клеменса. Свободные художники на плоту, насмешливо сказал Клеменс. Белла, тоже случившаяся там, сказала: Я спрыгну. Возьму когда-нибудь и спрыгну. А куда? — спросила Эллен. В воду? Какая разница, сказала Белла. Научусь плавать, только и всего. Сказать вам, спросила Ирена, что сейчас думает Эллен? Сказать? Она думает: будь я моложе. Дженни фыркнула: И нацелилась, да промахнулась; а Луиза испуганно, по-птичьи вертела головой, переводя взгляд с одного на другого. Клеменс сказал: Н-да. До чего ж этим художникам хочется, чтоб их любили. Господи. И зачем только?
Можно еще рассказывать и рассказывать, все ведь пока продолжалось; Эллен, к примеру, вышла в сад, где было темно и пахло жасмином, Ян отправился следом, хотел сказать ей, чтоб она не наделала глупостей; она ответила, что, когда она вполне резонно грустит, он всегда обвиняет ее в глупости, и так далее. Время истекло, а они даже не почувствовали, зато чувствовали то время, которое истекало сейчас. Но что же случилось? — вот какой вопрос задавал себе каждый из нас и, наверно, отвечал: Ничего особенного. Эллен и Ян сквозь маленькие деревенские окошки заглядывали с улицы в освещенную комнату, где сидели люди, что еще две минуты назад были их друзьями и опять станут ими две минуты спустя. Сидели в стилизованной крестьянской горнице, в которой им не место; носили юбки и блузки из крестьянских тканей, которые им не к лицу. Ели жаренное на гриле мясо, запивали его красным вином и говорили о снабжении стройматериалами окрестных городков, что, в общем-то, их не касалось. История шла своим чередом. Людей вроде нас, думала Эллен, она отсылает в этой стране на острова. И надо радоваться, если мы их сохраним. Только ведь мы не островитяне.
Разговор, начавшийся между тем в комнате, каким-то мудреным образом оказался под стать ее мыслям. Западные радиостанции только что сообщили о серии экспериментов, проведенных «белохалатными» социологами над людьми с улицы: благодаря авторитарности поведения и технически убедительной постановке эксперимента они добились, чтобы эти люди пытали электроимпульсами других, которых не видели, но слышали их крики. Вообще-то никого не пытали. Крики — это имитация. И тока в проводах тоже не было — суть не в этом. Суть в том, что подопытные кролики во все это верили. И тем не менее продолжали, повинуясь приказу эксперта, продолжали, пока сами не доходили до нервного срыва. Лишь единицы отказались наращивать электрический импульс выше определенного уровня. Но ни один не усомнился и тем более не взбунтовался против мнимых ученых в белых халатах. Что же это? — недоумевали мы, и каждый спрашивал себя, как бы поступил он сам. Что-то вроде стыда не позволило нам долго об этом говорить. Ведь все было ясно как день: если люди додумались до подобных экспериментов, если дозволено их проводить и если такое именуется наукой — это начало конца. Что тут обсуждать?
С тем же успехом мы могли еще разок сыграть в одну из своих игр, что нередко бывало замечательно, веселило душу и даже взбадривало. На том мы и уперлись. Решили силой вернуть былую непринужденность, вновь обрести свободу вышучивать себя и других, вновь проникнуться уверенностью, что никто никому не желает зла. Ничего хорошего не вышло. Игра знакомая: один выходит за дверь, остальные выбирают в своем кругу человека, о котором пойдут расспросы. К примеру, стоящий за дверью спрашивает: На какую дорогу похож этот человек? На какое растение? На какое блюдо? Улицу? Ручей? Животное? Еще куда ни шло, когда Белла так вот, обиняками, назвала Эллен коровой — кое-что тут было, все рассмеялись, зануд-то среди нас не было, толстокожестью мы, правда, похвастать не могли, но хотя бы делали хорошую мину, это же входило в игру. И всем очень понравилось, что Крошка Мэри, подыскивая растение для Луизы, назвала мальву. Все было вполне нормально. Однако порой заходили и слишком далеко. Перешагивали незримую границу, как, например, Ян, которого Ирена спросила, на какую дорогу похож искомый человек, а он как из ружья пальнул: На лабиринт. После чего Ирена мгновенно узнала себя и долго громко смеялась. Внезапно — вы тоже почувствовали? — мы в светлой комнате очутились как бы на сцене, а за окнами, за цветущими геранями, расплющивал об стекло нос безмолвный неподкупный зритель. Никаких козней он не строил, даже не насмешничал и не возмущался. Он просто был здесь. Разве могли мы упрекнуть его в том, что он все испортил? Что нам пришлось оборвать игру? Что он раскусил наши уловки с переодеванием и притворством, понял, что это последние заслоны перед осознанием, что впереди ждет Ничто? Мы, конечно, не выставили себя на посмешище, заикнувшись об этом Ничто. Напротив, мы опять зарылись в несбыточные прожекты. Сообща написать книгу. О чем? Детектив, конечно, прямо здесь и сейчас. Не сходя с места набросали шесть вариантов начала. Нашли интригующее имя коллективному автору, для чего каждый пожертвовал слог или букву собственного имени — как, бывало, старые мастера ставили свое имя после названия мастерской. Но сегодня времена другие, сказала Белла. Мы не настолько свободны. Бог весть почему в книгу попал перечень моментов и обстоятельств, перед которыми мы смирились, а он вышел длинный. Затем попробовали составить список того, перед чем мы никогда не смиримся, ни при каких условиях. Тут нам туговато пришлось с подбором аспектов, применимых к любому из нас, и из-за этого наконец-то опять разгорелся здоровый спор.
Ничего не случилось; кто станет задним числом искать промахи или трения, зайдет в тупик, — из фактов и событий попросту ушел смысл, это передалось людям, и они уже не могли принимать себя всерьез. Каждый нутром чувствовал взгляд Безмолвного Гостя. Мало того, что не удалась игра этого вечера, не удалась и более крупная игра. А может, и ставки чуточку занизили. Оставили себе лазейку, каждый оставил, тайком от других, будто еще некоторое время можно следовать своим вновь обнаруженным склонностям и ждать, что ты вновь понадобишься в другом месте и для другого дела — «важного», как они по-прежнему могли бы сказать. Совершенно отчетливо, даже с какой-то подавленностью, они при всей насыщенности жизни чувствовали в себе невостребованные резервы, излишек способностей и качеств, которые сами они считали полезными и нужными, у которых было свое прошлое и, как они по-прежнему надеялись, есть будущее, но нет настоящего. Они относили лично к себе то, что было симптомом времени. Это их не использовали. Ненужные, просидели они всю летнюю ночь в низкой комнате Ирены и Клеменса, гардины на окнах гармонировали со скатертями на столах, старинная посуда и утварь имели здесь свое, тщательно подобранное место, на стенах висели картины, писанные Клеменсом, — длинноногие цапли на лужайке или поднимающийся в алое вечернее небо шар-гондольфьер. Картин лучше этих, думал он, мне уже не написать, даже если торчать за мольбертом круглые сутки. А Безмолвный Гость, может фавн или Оберон собственной персоной, давно уж взмахнул волшебной палочкой и сделал их всех куклами в кукольном доме. Они это чувствовали, спрашивали себя, в чем их вина, доказывая тем самым, что не достигли еще дна времен, что сидели пока в своем гондольфьере. И не согласны выходить из него, хотя гондола давным-давно опустилась на землю. Боялись, что не приспособятся к наземным условиям? Мимолетное настроение, завладевшее ими ненадолго, в серый час между ночью и днем: они ведь переутомились. Призраки, сказала Ирена нарочито веселым голосом, вам не кажется, что мы все вроде как призраки? — Отнюдь, отрезала Эллен. — Дома сгорели, но случилось это гораздо позже. Было еще несколько летних сезонов, и каждый из них грозил стать подражанием предыдущему. Еще долго они прекрасно уживались, обменивались рецептами, цветочными семенами, пили по вечерам красное вино и рассказывали друг другу сны, умалчивая о таких, которые могли бы их выдать.
Уже светало, когда все вышли из дому. Не то от вина, не то от слез красный серп луны раздвоился в глазах у Эллен, и она громко воскликнула: Ой, смотрите! Две луны! — Да, мама, да! — снисходительно сказала Дженни. Ирена обняла ее: Ты ведь не обиделась на призраков, нам-то с тобой ссориться незачем. Эллен холодно подумала: а собственно, почему. Она разом отрезвела. И тут их окликнула Эрна Шепендонк: Неужто не видите? В Тарнове коровник горит!
И они увидели. Значит, пожарная сирена, которую якобы слышала Луиза — среди ночи! говори, да не заговаривайся! — все же не обман слуха. Тихая улица была полна черных призрачных фигур. Все неотрывно смотрели на восток. Красная каемка на краю неба была не от первых лучей восходящего солнца, а от пожара, из нее вертикально вверх огромным черным столбом поднимался дым. На миг в глазах Эллен и в глазах Ирены отразился одинаковый ужас: а вдруг и мы тоже. Каждая видела кошмарную картину в глазах другой, и, ощутив это сродство, обе потупились.
18
У домов, как у людей, бывают периоды слабости. Дома могут быть сильнее людей, которые в них живут, и служить им опорой, хотя бы некоторое время. Дома могут стать слабее своих обитателей и испытывать потребность в их заботе и уходе, нуждаться в постоянном внимании. Опасность возникает, когда периоды слабости у тех и других совпадают.
Коровник, теперь-то мы знаем, был первым сигналом. А какой ужас охватил округу, когда стало известно, что животные, которых люди спасали с риском для жизни, снова бросились в огонь. Рано утром — мы еще стояли на улице — с пожара вернулся на мопеде Шепендонков сын Юрген, закопченный, с опаленными волосами. Перво-наперво он осушил одну за другой две бутылки пива, умылся под насосом. А потом заговорил, отрывисто, как бы выплевывая слова. Они успели войти в коровник, эти, животноводы. И он с ними. Успели отвязать скотину. И вы думаете, быки поднялись? С места не сдвинулись, и поднять их было невозможно, никакими силами. Мы уж и вилами их кололи, сказал Юрген Шепендонк и заплакал. И в пах пинали. Одни тащили за веревку, другие сзади толкали. Все зря. Скотина-то упиралась, каталась по полу. И кричала. По-звериному. И выгнать ее на улицу не было никакой возможности. А кого поначалу все же выгнали, опять кинулись в огонь. Женщины из кооператива разбежались, смотреть на это не могли. Детей заперли в домах, а сами как были в ночном белье, так и высыпали на дорогу. Скотина-то по дороге мчалась. Бригадир тамошний сидит сейчас во дворе, голову руками стиснул. Говорить с ним никак нельзя. Его даже пожарные не трогают. А запах, сказал Юрген Шепендонк. Господи Боже мой. Вы туда не ходите. Кому не надо, лучше туда не ходить.
Что же лишило животных инстинкта? Разве дикие стада в прерии не бежали от пожара? Что же погнало в огонь домашний скот? Было раннее утро, Эллен сварила на всех кофе, который они молча выпили. Недоброе предчувствие больше не отпускало их.
Однажды, опять-таки утром, немного спустя, Луиза проснулась с отчетливым ощущением, что день болен. И сразу начала собирать силы противодействия. Она способна мобилизовать невероятно много сил, если заранее знает, что они ей потребуются. Позднее они с Беллой рассказывали, каким зловещим показался им с самого утра этот свинцово-душный день. Обе твердо знали, что-то случится, но избегали говорить об этом вслух. Не иначе как что-то вытолкнуло с орбиты Землю, заряженную этим зловещим зноем.
Йонас, безоружный, вялый, разлегся в тени огромного каштана. И уснул. Потом Белла увидела, что Луиза куда-то смотрит и в глазах у нее испуг, щеку передернуло. На лице ужас, отвращение. Луиза взмахнула рукой: дескать, не смотри! — но Белла оглянулась и тоже увидела его, этот живой труп. Из-под земли мучительно выбиралась верхняя половина крота, нижней половины не было, ее сожрали черви, так и кишевшие в нем. Белла почувствовала, что волосы у нее встали дыбом. Йонас спит? Она схватила лопату и одним ударом снесла голову несчастному зверьку. Потом как одержимая засыпала его землей, шатаясь отошла к дому, и ее вырвало. Белле и такое по плечу, сказала Луиза. Она не брезглива. Бледные как смерть, стояли они потом в Луизиной комнате и видели в зеркале себя, два окна и лужайку перед домом. И тут в зеркале мелькнула маленькая красная пожарная машина; когда они выбежали на крыльцо, она уже исчезла в туче пыли. Обе метнулись в дом, вверх по лестнице, к слуховому окну, и оттуда увидели дым — он поднимался от «котовьей» головы. Что-то горело. Дом Эллен и Яна, прошептала Луиза. И они в это уверовали. Уверовали оттого, что похолодели. Внутренний голос, твердивший, что это логично, что пробил час, еще укрепил эту уверенность. Луиза вынула из духовки противень с пирогом, Белла подхватила на руки Йонаса, и они помчались.
Путь осознания занимает доли секунды, это каждый подтвердит. Она словно давно приготовилась к худшему, словно достаточно было услышать, как Ян совершенно чужим голосом выкрикнул: Эллен! — и ее пронзил ужас: вот оно! Пальцы затряслись, она никак не могла застегнуть молнию на юбке. Ну давай, скорее! Поле горит!
Поле. Не дом. Но стена дыма катилась прямо на них, искры летели тучей. Не дай Бог, хоть одна попадет на камышовую кровлю! В мгновение ока перед ними пронеслась картина пожара, уничтожающего их дом. За первой искрой — первый язычок пламени у конька, маленький, с ладонь. И вот уж целый квадратный метр крыши охвачен веселой пляской огня. А там, ясное дело, свечкой вспыхивает весь дом. Вплоть до балочного каркаса — смрадный, закопченный, дымящийся, он выдержит натиск пламени.
Прямо сейчас? — думала Эллен. Как же так? Что-то стремилось утвердиться. Требовало возмездия. За что — каждый в глубине души понимал. Сумеем ли мы помочь тебе, дом? Мы сделаем все, что в наших силах. Ян приволок из-за сарая шланг, начал поливать крышу, хилой тоненькой струйкой. Эллен увидела, как Дженни метнулась через дорогу, туда, где на дальнем краю огромного жнивья два трактора в туче пыли перепахивали стерню. Эллен бросилась к телефону, застучала по рычагу: глухо. Как всегда в эту пору — трактора оборвали кабель. В деревню! — крикнул Ян. За пожарными! — Скорее вывести машину из сарая. Мимо по дороге промчался Клеменс, с ведрами, лицо очумелое. Ирена, у калитки, что-то кричит, машет руками. На улице причитают хуторские, глаза у всех прикованы к горящему полю. Выжимаем сцепление. Вперед. По пути ее остановил мужчина в спецовке, вскочил в машину. Скорей! — крикнул он. На тракторную станцию! Он сидел молча, она чувствовала его напряжение, только раз, когда срезала поворот, он буркнул: Ну-ну. Живыми-то доберемся, а?
Эллен словно окаменела. В душе у нее неописуемым жаром пылал дом. Это был первородный, могучий жар — даже когда дом горел по-настоящему, огонь был слабее. Реальные картины и события поблекли в зареве пылающего дома. Кажется, мужчина крикнул: Стой! Она вроде бы остановилась у конторского барака, ровно настолько, чтобы он успел выпрыгнуть из машины и уже на бегу крикнуть ей: Я пришлю подмогу. Езжайте к бургомистру! Должно быть, она поехала дальше, какие-то лица скользнули мимо, удивленные, любопытные, перепуганные. Дом пылал. Кажется, она затормозила возле ратуши, второй бургомистр крикнул с крыльца: Что случилось? Кажется, она крикнула в ответ: У нас поле горит! Нужны пожарные! Второй бургомистр поспешно исчез в доме, а она вновь нажала на газ. Мимоездом увидела, как Пауль Маковяк распахивает большущие красные ворота пожарного депо, а какое у него было выражение лица? Уж не то ли самое, очень редкое для мужчины? И не слышала ли она, выезжая из деревни, две минуты спустя первую пожарную сирену? В душе у нее все пылал дом. Кто это там — парни со школьными сумками, на велосипедах? Она затормозила. Быстро, влезайте. Нужна помощь. Ребята побросали велосипеды в кювет, не задавая вопросов, вскочили в машину. Дом пылал, дом стоял в огне.
Слишком хорошо нам жилось. Так не положено. Все потом признались друг другу, что думали об этом. Но что может вспыхнуть душа дома, они тогда не понимали. Получили отсрочку, а такое бывает редко.
На сей раз, сказал Фриц Шепендонк, мы отделались легким испугом. Ведь все могло обернуться куда хуже, в два счета. Нет, сказала тетушка Вильма, это уж было бы вовсе несправедливо, это уж никак нельзя. К тому времени все они сидели на кухне у Яна и Эллен и ели пирог, который притащила Луиза; сама Луиза — бледная, лицо дергается — была не в силах рассказать про крота, а вот Белла, у ней не заржавеет, взяла и выложила. Да, сказала Эрна Шепендонк, приметы… но не окажись они здесь и не вступи в борьбу с огнем, еще неизвестно… Кто начал первый, выяснить не удалось, втайне каждый надеялся, что он, и вполне возможно, что осенило сразу нескольких. Возможно, Фриц Шепендонк, увидев, как Клеменс мчится с ведрами, машинально схватился за лопату, вполне возможно, что он-то и помчался первый на поле, а за ним Клеменс, сдернув лопату со стены Янова дома. Ян увидел их и смекнул, что они задумали — сами-то они еще не поняли этого до конца, — схватил лопату и побежал следом. А за ним — хуторские, в большинстве женщины, кто с чем, чтобы забивать огонь. Как-то сама собой выстроилась цепочка, никто и не думал командовать, было, наверно, совсем тихо, только огонь потрескивал да изредка кто-нибудь кашлял, поперхнувшись дымом, ведь поначалу дым шел прямо на них. Слышался, конечно, и глухой стук лопат, которыми сбивали невысокое пламя. Люди не дали себя запугать. Превозмогли страх и минутную слабость, собрались с силами и пошли на огонь. Устояли перед дымом. Так, поди, и было, сказал Фриц Шепендонк. Да какая теперь разница? Вздумай кто удрать… ну уж нет. И все равно. Тетушка Вильма твердила свое: Чудо все ж таки очень кстати пришлось. И ведь приспело, аккурат в нужный момент.
Что правда, то правда: ветер вдруг переменился. Дым понесло в противоположную сторону. И в тот же миг на край поля выехал трактор, Дженни стояла на подножке; трактор начал распахивать полосу земли между линией огня и домом. Чуть подальше шел второй. Вспаханная полоса была уже достаточно широка. Теперь каждый, и Ирена тоже, мог видеть, что опасность миновала. Она пошла на кухню к Эллен и поставила чайник. Одновременно, хотя и с разных сторон, появились Луиза, Белла и Йонас (с пирогом, заметьте. — Ты что же, думала, если дом сгорит, мы сядем есть твой пирог?! — Да, Клеменс. Именно так я и думала. — Мы согласились, что она была не столь уж и неправа) и на дороге — Эллен с машиной. Ребята высыпали из автомобиля и присоединились к цепочке, которая сторожила огонь. Трактора развернулись. Одна за другой прибыли из окрестных деревень пожарные машины. И на поле, которое только что горело, оказалось вдруг полным-полно праздных людей, даже оба бургомистра. Все наперебой заговорили, замахали руками. Йонас объявил, что вводит в операцию свой спецотряд, который ради таких случаев всегда при нем. Ветер погнал было огонь на выгоревший участок, но пламя не нашло пищи и погасло.
Эллен и Ирена примолкли. Ни та, ни другая не рассказали, как Эллен переступила порог дома, сгоревшего у нее в душе. Как она, глядя на плиточный узор в сенях, не могла понять, где находится и что с нею: то ли ей приснился необычайно яркий сон, то ли сейчас перед нею необычайно блеклая явь. Как она потом распахнула кухонную дверь, а там Ирена, у окна, спиной к ней, и чайник свистит. Как Ирена вздрогнула, обернулась. Как они кинулись друг к другу. Обнялись. Заплакали. Засмеялись. Как Эллен выключила газ. Ирена спросила, где у нее кофе, и Эллен сняла банку с полки над столом: Вот.
А тут, как уже сказано, подошли Луиза и Белла со своим пирогом.
19
Что ты делаешь, Штеффи? Куда плывешь? Куда тебя уносит? Больница, слышу я по телефону, опять больница, говорят, гепатит, только кто ж поверит. Завтра я напишу тебе, что ты должна поверить. Сегодня, лишь сегодня, я не стану врать. Сегодня я буду говорить с тобой начистоту, как с мертвой. Вот ведь времена, думаю я порой, только с мертвыми и можно поговорить начистоту. Завтра я напишу, что лекарство, которое тебе будут вливать через капельницу, целительное, пусть оно спокойно растекается по твоим жилам, путь действует. Лучше всего, напишу я тебе, если бы ты могла внутренне поучаствовать в том, как целебная жидкость омывает и успокаивает воспаленные клетки — я так и напишу «воспаленные», а не «злокачественные». Я пообещаю вскоре навестить тебя, тогда мы посмотрим друг на друга, и наши глаза заговорят иным языком, не тем, каким говорят губы.
Нынче, Штеффи, мы послушаем дождь. Он идет с раннего утра. Проснувшись, я увидела в глазок ставни, как прозрачные капли торопливо, одна за другой, сбегают с бахромчатого края камышовой кровли. Чистая, светлая радость. Ты еще не звонила. Мне уже не терпелось приняться за работу. По какой-то ассоциации — не помню, какой именно, — я зациклилась на слове «испытание». Для меня испытание кончилось, испытательный срок позади. Все, что я делаю или не делаю, имеет смысл. Такие фразы возникают в мыслях, когда вызываемый ими ужас уже вполне переносим. Я не уверена, что хотела бы знать все твои непроизнесенные фразы.
— Я думаю. О мертвых ничего, кроме хорошего. Чтоб не мешали. Чтоб вы могли себя принудить. И нас тоже. Откуда этот страх перед моими фразами?
— Вот как. У тебя есть свое мнение. Ну ладно. Только что, сортируя приправы, я без уверток подумала о твоей смерти и с огромной радостью описала бы тебе сейчас, какие приправы и в каком количестве кладу в картофельный суп — горчицу, Штеффи, не забывай добавить чайную ложечку горчицы! Я ведь знаю, ты тоже жадна до мелочей, в которых прячется жизнь. Но ты не узнаешь, как усиливается эта жадность к старости.
— И к смерти.
— Когда умираешь молодой, как ты. Поэтому я расскажу тебе еще несколько подробностей. Например, во двор недавно въехал «вартбург», и двое мужчин в потоках дождя побежали к черному ходу, наш электрик и монтер из окружного центра, им приспичило подключить новый счетчик и пустить в ванной горячую воду. Теперь она есть, и уже через час я к ней привыкла. Я держала им фонарик и слушала мрачные истории про электричество, которыми они потчевали друг друга. Для них «ток» — это дикая необузданная тварь, которой они твердой рукой вправляют мозги. Ты не поверишь, до чего сильные удары тока подчас выдерживает электрик. По их словам, все дело в подходе. Нужно попросту беспрепятственно пропустить «ток» через себя, тогда, мол, у него не будет повода вредить. А потом, когда я сидела над своими бумагами, занимаясь преинтересной работой — набросками, я невольно подумала: здесь ведь тоже все дело в инертности. Пропускать через себя ток, понемногу уменьшать сопротивление, наконец совсем от него отказаться. Не перестаешь удивляться, что высокие напряжения можно потом преобразовать в энергию.
— Некоторые говорят, каждому выделен вполне определенный запас энергии, который можно истратить быстро или, наоборот, обходиться с ним бережливо, растягивать на подольше. А когда этот запас кончается, тело изыскивает предлог, чтобы уйти.
— Домыслы это. Правда, экономной ты, Штеффи, не была. Скорей уж, расточительной.
— Что тебя раздражало.
— Иногда. Иногда меня раздражало, как ты разменивалась.
— Потому что ты — всегда! — тайком спрашивала себя: что остается?
— Что остается, Штеффи? Что остается. Я вижу, как мы таем, будто под слишком сильным излучением — картина под стать эпохе, я знаю. В сравнении с нашими очертания наших дедов кажутся мне прочнее. Я вижу, как наши очертания расплываются. Нам, похоже, не дано обрести четкие контуры. Чего мы только не пробовали, чтобы закрепить себя, в какие только шкуры не влезали, где только не искали убежища. Наша древняя тяга к пещерам, к теплу, к сообществу чересчур слаба перед космической стужей, которая врывается к нам. И все множество фотографий, на которых мы запечатлеваем множество наших лиц, менее прочно и добротно, чем одна-единственная чопорная фотография наших дедов.
— Ты знаешь, именно фотографиями я хотела прикрыть дыры в стенах нашей пещеры. С неизменным волнением и величайшим восторгом я следила, как в ванночке с проявителем проступает картинка. Порой думала о людях, которые будут рассматривать эти фотографии после моей смерти.
— Запечатленные образы — вот что остается. И теперь мне хочется увидеть тебя. Улыбнись, тогда я тебя увижу. А теперь не пугай меня, спрячься.
— Что же ты видишь, без меня?
— Зеленое сияние, оно идет от яблони под окном мансарды, она фильтрует свет. Я вижу, что листья еще не развернулись.
— Это было в апреле.
— Вижу медового цвета доски, которыми обшита мансарда.
— Мне так нравилась эта обшивка.
— И горит она здорово. Вижу деревянные перила лестницы, красивой четкой дугою она ведет наверх. А теперь вижу твою улыбку. И тебя. Ты сидишь на верхней ступеньке. Лицо в тени.
— Я сказала, хорошо бы пожить в такой комнатке.
— Я знала, что тебе никогда не жить в такой комнатке. Видела свое преимущество.
— Я сказала, что после операции жила как никогда полнокровно.
— Я этому поверила. Глупо, даже почувствовала укол зависти. Так я тебе и сказала.
— Мне это не показалось глупым. Отчего ты никогда не подпускала меня к себе по-настоящему?
— Передо мной стоят в зеленом кувшине семь красных роз. Я надрезала стебли, подлила свежей воды и жду, когда они распустятся. Ты забыла письмо, которое я написала тебе перед Пасхой? Мы никогда о нем не говорили.
— Письмо о твоей жуткой зиме. Я не забыла его, но, пожалуй, не совсем поняла.
— Совсем, до конца, и я его сейчас не понимаю.
— Особенно твою боль. И разочарование. У меня были иные чаяния, не такие, как у тебя.
— Не странно ли, что мы забываем боль и наслаждение. Но время, потраченное на беспамятную боль, не кажется мне пропавшим зря. Кстати, силою боли можно мерить силу надежды, которая наверняка еще была. Ты это знала?
— Постигла на практике. Научилась.
— Надежда и жизнь — одно и то же, сказал нам твой врач, поверьте. Он, мол, видел, как люди скоропостижно умирают от безнадежности, хотя по клиническому диагнозу могли бы еще жить и жить. Другие, сказал он, выпрыгивают из окна или глотают таблетки. И если можно обмануть тебя, надо пойти на этот обман.
— Чтоб ловчей обмануть меня насчет моего диагноза, ты взамен раскрыла мне свою душу.
— Мы сидели в Иренином саду, неподалеку от пригорочка с большущими алыми маками, ели пирог и пили кофе, говорили о тебе заковыристыми дипломатичными фразами, чтобы доктору не нарушать врачебную тайну. Допустим, что… и: если, скажем… Для пробы мы употребили слово «метастазы». Врач молчал. Как же тебя обманывают, негодовала я. Фиктивными диагнозами. Которыми, как он сказал, тебе дарят хотя бы один-другой мало-мальски счастливый вечер. И все мы, называвшие себя твоими друзьями, должны были помогать врачам в их обманных маневрах. Ведь больны не мы, сказал твой врач, а ты, и он охотно верит, что кое-что мы себе, может, и представляем, многое способны прочувствовать, но стену, вставшую между тобою, больной, и нами, здоровыми, наши представления не уничтожат. Стена, Штеффи, между нами и тобою, раз и навсегда воздвигнутая одним прекрасным мекленбургским вечером. Я, правда, воскликнула еще: Да, да, пусть она обманывается! А Ирена крикнула: Нет! Она плакала, и за это я любила ее: Нет! Никто не должен обманываться! А твой врач холодно, как нам показалось, спросил, отчего это мы так уверены. Отчего мы так уверены, что сами — в твоем положении — не стали бы мечтать о добрых обманщиках. И тут я, уже бессильно, привела в качестве контраргумента, как ты украдкой проникла в ординаторскую и стала искать свою историю болезни, и твой врач сказал: Да, это страх не дает тебе покоя. Но ты-де хотела, чтобы он был как раз опровергнут, а не подтвержден. Ты нашла свою историю болезни? Да? И не удивилась, что она лежала на самом видном месте? И что же ты прочла?
— То, что знала: карцинома груди. А что до печени — старый добрый гепатит, который, как мне сказали, можно вылечить.
— Вот видишь. Это тебя успокоило. Но позднее, описка в бюллетене? Там же опять стоял кодовый номер рака? А ты с возмущением ткнула пальцем в правильно-лживый код? И бюллетень поспешно забрали и выдали тебе с новым, лживо-правильным номером? Каково тебе было тогда?
— У меня кружилась голова. Я решила: от лекарств.
— Ирена сказала: Вы же лишаете ее дееспособности! Поверьте мне! Я думала: что же мы такое делаем. Как мы тут говорим о тебе. Я сказала: Хорошо бы кому-то остаться с ней. Помочь осмыслить это известие. Пожить с нею и этим известием. Да, сказал твой врач неуверенным голосом. Пожалуй. Но кто? Он описал, час за часом, свой рабочий день. Стало ясно, что выкроить час и посидеть у твоей постели для него невозможно. Сестры? — сказал он. Они строжайшим образом следят, чтобы мы хранили тайну. Если пациент сходит с ума, все ложится на их плечи. Ирена сказала сквозь слезы: А Йозеф? — Мы молчали.
— У нас с Йозефом теперь все замечательно, слышишь! Как никогда. Мы счастливы друг с другом. Скажи, какая команда заставляет здоровую клетку безудержно делиться. «Выйти из колеи» — так сказала женщина врач, с которой мне было легче всего говорить, хотя вскоре она переключилась на свои проблемы. Призналась, что вечерами пьет. Мы ведь тут все пьем, сказала она. Рост клеток выходит из колеи. Я часами раздумывала над подобными сравнениями, лежа в шезлонге в саду и слушая музыку, снова и снова маленький экспромт Шуберта в исполнении Ростроповича. Знаешь что. Скажи мне. Как это — стареть.
— Теперь я вижу тебя совершенно отчетливо. На тебе новое синее платье.
— Синее, как море, сказала продавщица. Блондинкам нужно носить синее. И вдруг, когда я нагнулась, у меня съехал поролоновый бюст. Я его вытащила через ворот и показала ей: Вот ведь что подсовывают! — Взгляд бедной женщины!
— Ты говорила, что тебе действительно жаль куска плоти, который тебе вырезали.
— Смешно, конечно, но я гордилась своим бюстом.
— Стареть — значит отступать. Но это отступление ты начинаешь не сама. Оно начинается в тебе. Что-то — часть тебя! — отступает в тебе от тебя же. На первых порах недоумеваешь. Ощущение такое, будто обманом отнимаешь себя у себя. Ты никак не ожидала, что способна утратить интерес к себе, но он уходит, уходит неудержимо, как из шара, в котором есть крохотная дырочка, уходит воздух.
— Что бы ты сделала, если б знала, что завтра умрешь?
— Сделала? Да тут, поди, ничего уже и не сделаешь.
— Вот именно. Не посадишь пресловутое деревце. Не вымоешь последнюю посуду, не вошьешь последнюю молнию. Не дашь ребенку последнее, самое главное наставление. Ответ один: страх. Страх страх страх. И ты все перевернешь в поисках надежды.
— И ни капельки облегчения? Оттого, что даже сам не можешь ничего от себя потребовать? Что перенапряжение кончилось?
— Что за вопросы. Странные, чуждые.
— Из семи роз четыре раскрылись, а я и не заметила. Я вижу тебя. Ты ходишь с фотоаппаратом по мансарде, где пока пусто, и снимаешь вид изо всех окон. Я все вижу. Вижу навсегда. Не одна ты, я тоже снимаю.
— Как часто мы сидели вдвоем. Большей частью говорила я, а ты слушала. Потом роняла несколько фраз, и я думала, ты понимаешь.
— Понимать — это было мое амплуа. Разве ты не знала?
— Конечно, я знаю, сестренка, против чего бунтует моя измученная печень. Она вместо меня бьется за жизнь, которая была ей навязана. В том числе и мною, в этом сумасшедшем доме. Бьется и со старым Йозефом — хотя я иногда думаю, он может меня спасти.
— Я его спрашивала, Йозефа: По-твоему, мы поступаем правильно? Когда не говорим ей, каковы ее дела. Она же хочет знать. — Это по-твоему, сказал он мне. Ничего она знать не хочет. Сама недавно призналась: Если у меня это, сказала она, не говорите ничего. Обманывайте меня, только обманывайте как следует.
— Когда вечером он кладет свои толстые прохладные лапищи мне на живот, а там что-то трепещет, наконец-то трепещет, и снова струятся жизненные соки, и я чувствую в себе великий божественный покой, тогда я счастлива. Деревья. Дождь. Остаточек природы, пока безумие не поглотило все и вся.
— Может, все-таки попробуешь, сказала я Йозефу, а он ответил: Сейчас мне нельзя размякнуть, именно сейчас нельзя. Знаешь, что тогда будет? Все рухнет. Я сказала: Ты боишься, что все рухнет; а он сказал: Конечно, боюсь. Я сказала: Йозеф, она ведь умирает. Он сказал: Кому ты это говоришь? Что я могу сделать? Разве я в силах удержать ее? Я что, Бог?
— Я словно бы виновата — в том, что больна, что я обуза и больше не владею собой, не могу безропотно принять свои мучения. Протоплазма потускнела, замутилась. Я выбиваюсь из сил. Выбиваюсь из сил. Как бы съеживаюсь. Все пересохло. Через Йозефа ко мне доходит слишком мало жизни. Кожа у него опять становится все толще, а у меня — все тоньше, все ранимей.
— Она требует невозможного, сказал он, Йозеф. — Нападает на меня — слышишь? — язвит, вынимает душу. Можешь себе такое представить? Она будто обязана напоследок совершить в этом мире еще одно — сорвать с меня панцирь. Человека в панцире она, мол, рядом не потерпит. А ведь прекрасно знает, что мне пришлось научиться бесчувственности. Иначе я бы не выжил в концлагере. Не выдержал бы памяти о концлагере. И теперь они снова кстати, мои треклятые навыки. Все по-прежнему со мной, понимаешь? Что выучил, то выучил.
— Действие капельницы слегка слабеет, сегодня мне получше, только отечность не проходит, тесненье и дерганье внутри. Одиночество больничной постели. Болезнь становится единственной истиной, все прочее — ложь. Сколько ни заглядывай в себя, в ответ встречаешь только ответный взгляд болезни. Неужели было когда-то время без болезни? Нет-нет да и нагрянет весточка оттуда. Гранки книги. Я написала ее до болезни, и теперь мне трудно принять ее. Она кажется мне фальшивкой.
— Но послушай. Так случается с тобой каждый раз. С каждой книгой. Ты сопереживаешь лишь в первый раз.
— И в последний. Не спорь. Слушай меня. Я не знаю, кому еще это сказать. Когда придет срок, ты должна позаботиться, чтоб меня избавили от последних невыносимых болей. Ты понимаешь, что я имею в виду. Прошу тебя. Не забудь. Я серьезно.
— Ты говорила, прислонясь к деревянному столбу, подпиравшему крышу, на меня ты не смотрела, глядела в окно, на лужайку, на вишню. Я сказала, что подумаю. Обещать я ничего не обещала, и не испугалась. Вопрос, на кого можно положиться в черный день, который тебе предстоит, не чужд никому. Меня просто оглушило, что для тебя этот человек — я. Понимание, жалость, беспомощность, злость — все вперемешку. Ты наверняка знала: обещать я ничего не могла. И я ничего не обещала. Сказала, что подумаю. И все. Вечерело, освещение изменилось, ты быстро повернула ко мне голову, в своей особой манере, — я вижу тебя, вижу твой взгляд. Потом вновь лишь твой силуэт на фоне окна. Об этом мы никогда больше не заговорим.
— И кое о чем другом тоже. Отчего ты никого к себе не подпускаешь.
— А как ты думаешь, зачем я пишу?
— Чтоб на свой лад создавать фальшивки, наверно, так.
— Хитрюшка. Ты-то пишешь по другим причинам.
— По менее важным, наверно.
— Пожалуй. А может, тебе бы это не понадобилось, если б ты по-настоящему жила. Кстати, если хочешь знать: стареть означает, что самые важные причины мало-помалу утрачивают важность.
— Вот уж не верю. Это преходящая слабинка, дорогая моя.
— Посмотрим. В том, что клещи отпускают, хотя бы и на время, есть некий смысл. Ну да хватит этой болтовни.
— Вот именно. Ты, кажется, хотела рассказать мне о дожде.
— Нынче последний день лета. Дождь льет все сильней. Только что, накинув плащ с капюшоном, я ходила к госпоже Фреезе, которая снабжает нас яйцами. Я рассчиталась за яйца, положила деньги на кухонный стол, а она не отпустила меня, пока не рассказала самые свежие деревенские новости. Госпожа Фреезе большая сплетница и резонерка, мы, конечно, все чуточку этим грешим, но у нее это главная черта характера. Речь шла о Шепендонках, ты ведь с ними знакома, Штеффи. А знаешь ли ты, что они очень гордые? «С письмом у них слабовато», что правда, то правда, а точнее, совсем никуда. Эрна ходит ко мне, когда ей нужно оформить приглашение для сестры из Польши, бесплатно она помощь не принимает, обязательно отдаривается миской яиц. А Фриц рассказал нам, почему он теперь пьет больше прежнего: кооператив отобрал у него свинарник, у него там в книгах прирост с убылью никак не сходился, вот и перевели на корма, обидно все ж таки. А что будет с Ингой, лицемерно сказала госпожа Фреезе, с Эрниной дочкой, коли она не сдаст за десятый класс, на почту-то ей тогда не устроиться, а она телеграфисткой хочет стать, нравится ей это дело. На сей счет госпожа Фреезе была настроена весьма скептически, Юрген-то опять же в конфликт с властью вступил. Тут я прямо онемела, потому что власть — это не кто иной, как сын госпожи Фреезе, с недавних пор деревенский полицейский и с давних — друг Юргена Шепендонка, они учились в одном классе; так вот, в минувшую субботу молодой Фреезе после танцев подкараулил школьного приятеля на дороге к «коту», чтобы уличить его в езде в нетрезвом состоянии, хотя Юрген оставил мотоцикл в сарае и тихонько катил себе на велосипеде по безлюдной дороге. В час ночи. Штраф? — крикнул он сыну госпожи Фреезе, деревенскому полицейскому. Тебе? И добавил словцо, равнозначное оскорблению должностного лица при исполнении служебных обязанностей, да еще, видать, малость поцапался со старым дружком, и тот, при исполнении служебных обязанностей, оторвал ему от куртки рукав. Вот и узнала я теперь от госпожи Фреезе, что семейству Шепендонк грозит судебный процесс, а в заключение услыхала: Иным людям помочь просто нельзя. — Штеффи, ты когда-нибудь размышляла о великом множестве людей, которым нельзя помочь? Только присмотрись — они всюду.
— Ты еще хранишь письма моей бабушки к ее дочери, которые я дала тебе в апреле, когда мы сумерничали в пустой мансарде? Помнишь, я прочитала тебе тогда одно место? Я его наизусть помню. «Господи Боже я и на свет то родилась в бедности Беспомощная и отверженая, ращитывать я могла только на себе, а вдобавок набиду принесла свою маладую слободную жизню в жертву замужеству Любов ослипляет потому и бида идет за бидой Милые бедные детки родилис десять душ и нищета унас была ужась какая Нету у мене сил и прав тоже нету».
— Тут ты наконец расплакалась, и я погладила тебя по голове, мы еще посидели на плетеных стульях с плоскими подушками и глядели друг на друга, было почти темно, и помню, мне хотелось запечатлеть в памяти все-все, любое мимолетное выражение твоего лица, форму твоих рук, их движение, когда ты передала мне листок. Тленность, слово громовое[13]. Я видела тебя в прошедшем времени, так, как когда-нибудь опишу, если мне вдруг захочется. Я понимала, что не согрешу, не втисну ни тебя, ни кого-либо другого в рассказ, я умею видеть всего лишь наши будни, у меня вылетело из головы, как из дней людских слагаются истории. И все же я согрешила, увидев нас обеих в теплой будничности и одновременно в виде скелетов. Такие видения уже не выбивают меня из колеи, как бывало на первых порах. Ты рассказала мне свой сон.
— Во сне я стояла с мамой на маленьком косогоре, в краю моего детства, где все до боли знакомо, и мама пыталась уговорить меня съехать с косогора и раствориться. Она говорила совершенно спокойно, и я тоже была совершенно спокойна и старалась вести себя благоразумно, покорно скатилась вниз, но взглядом я искала укрытие, где смогу выжить, не погибну, и вместе с тем совесть у меня была нечиста, из-за обмана. Я видела только колючий куст чертополоха, слишком низенький. А теперь расскажи мне, как сделать, чтобы мама не поняла моей болезни, когда придет навестить меня.
— И чтобы ты просто поговорила с ней об этом?
— О раке? Ты с ума сошла.
— А что может случиться?
— Ну… сперва слезы и испуг. Потом огромная жалость — матери к самой себе. Как всегда.
— А ты? Предпочла бы, чтоб мать пожалела тебя?
— Ни один человек не хочет жалости.
— Не верю. По-моему, каждому иногда хочется жалости. Даже твоей бабушке, сказала я и подумала, что сейчас, хотя бы сейчас, я от души желаю тебе взрослую маму. Вот были люди. Каждое слово — алмаз. Когда она пишет «отверженая», «нету сил», тебе и кувалдой не вбить даже острия булавки между этаким словом и реальностью. А у нас спокойно палец втиснешь. Целую руку. Ах, а то и всего человека, тебя самого.
— Эй, сестренка. Передохни-ка. Оставь себе эту самую щелочку. Или твои же слова сожрут тебя с потрохами.
— Сказать на это было нечего, но сегодня я говорю — а дождь меж тем слабеет, Штеффи, первые лучи солнца прорываются сквозь тучи, — сегодня я говорю: Ну и пусть. Пусть сожрут. Не дрогнув душою — ты знаешь мою натуру, — я отрекаюсь от себя. Безоговорочно — ты ведь этого от меня хочешь? — остаюсь при себе. А теперь всовываю руку между двумя этими фразами, и, пока можешь, всунь сюда и свою.
— Между прочим, ты бы должна когда-нибудь описать все это.
Я сказала не раздумывая: Для этого должен сперва сгореть дом. А ты, милая моя, даже глазом не моргнула. Ты знала, о чем я говорю. Почему я так говорю. Не разыграла ни протеста, ни возмущения. Только чуть вздернула брови, задумалась, а немного погодя сказала: Странный мир.
— Вы все не хотели видеть, что я умею быть жесткой. Ты тоже не верила этому. Оттого только, что я не так, как ты, унимала свой страх перед болью: по-женски, что ли. Даже по-самочьи.
— Мне этого не разрешали.
— Ты сама себе не разрешала.
— О’кей, сестренка. Наверно, ты права. Да это и неважно. Кстати, стареть — значит, что тебе все чаще говорят: Это неважно. Сейчас глубокая ночь. Из семи роз в зеленом кувшине три начинают едва заметно увядать. В какой-то миг, пока я неотлучно сидела рядом с ними, незаметно для меня решено было, что они не распустятся, а увянут. Что-то сникло в движении или в составе их соков. И они поникают.
— Мне бы, сестренка, молчать надо, с моей-то самодовольной башкой. Или лежать на дне прохладного водоема, куда не достигают соблазны, все просто мягко обмывается и не причиняет боли. Мне ужасно охота в такой водоем, прямо наваждение. Ты-то как, сестренка?
— Я? Ты меня смущаешь.
— Тебя не спрашивают, да? Но дело-то все в тебе. Ты же сама увиливаешь. Натягиваешь на глаза вуаль.
— Ты думаешь, это нарочно.
— Может быть, в конце концов иначе никак нельзя.
— Но мы пока не в конце концов. Между прочим, стареть — значит и еще одно: ты перестаешь винить других в том, что случилось с тобой.
— Ты описываешь свое старение.
— А чье же еще. Да, кстати: ежели что, ну, я имею в виду, ежели вдруг действительно что стрясется, только пискни — я сразу приду и буду по-сестрински ухаживать за тобой. Ладно?
Штеффи сказала: О’кей, но что может стрястись. Пока я работаю, знаешь ли.
— Знаю.
Еще она сказала: Стало быть, то, чем ты сейчас занимаешься, не отступление в тишину и уединенье, даже в красоту? Я сказала: Ты что, с ума сошла. Неужто тебе так кажется? Уже нет, сказала она, меж тем как мы осторожно спускались в полумраке по лестнице. Хорошо, что я побыла здесь.
Внизу зажегся свет, нас позвали.
В ранних редакциях этот текст был записан к 1982/83 гг., отчасти параллельно с «Нет места. Нигде». В 1987 г. он был переработан для публикации.
Все персонажи книги вымышлены автором, ни один не тождествен кому-либо из живых или мертвых. Столь же мало совпадают реальные события и эпизоды повести.
К. В.Тревожная идиллия перед большим пожаром
В своей повести, непритязательно-доверительной по интонации и причудливо-изощренной по композиции, сочетающей элементы идиллии и трагедии, Криста Вольф сознательно подменяет изображение социальных коллизий проникновенным рисунком уединившегося в деревне дружеского сообщества. «Летний этюд» представляет собой попытку самобытного художника «остановить мгновение», зафиксировать состояние умов и душ своих сограждан накануне разразившегося в ГДР политического кризиса. Криста Вольф предвидела его с прозорливостью, достойной Кассандры, и так же, как она, бессильна была предотвратить.
Эта небольшая книга создавалась долго, почти десять лет; работа над рукописью была завершена в 1987 году. В октябре-ноябре 1989 года начались события, приведшие сперва к разрушению берлинской стены, возведенной в 1961 году, а затем к поэтапному присоединению ГДР к ФРГ, ускорившемуся с июля 1990 года после введения на территории двух германских государств единой валюты в виде западногерманской марки. Попытки демонтажа и реорганизации тоталитарно-партийной бюрократической системы, начавшиеся в ГДР под воздействием народных демонстраций с осени 1989 года, опоздали. Большинство народа «не верило больше в возможность лучшего, демократического социализма», как это с горечью констатировал почетный председатель ПДС Ханс Модров[14]. В трагическую ситуацию попала и часть интеллигенции ГДР, активно выступавшая против тоталитарного партийного режима, но не покидавшая ГДР в надежде на сохранение ее самостоятельности. Во всяком случае, именно с позиций сохранения и демократического обновления ГДР выступали на массовой демонстрации в Берлине 4 ноября 1989 года Стефан Гейм, Криста Вольф и Кристоф Хайн; за продолжение социалистического эксперимента в условиях демократического обновления общества агитировали Хайнер Мюллер, Фолькер Браун и другие крупнейшие писатели. Но история не предоставила такого шанса — слишком глубоким и безрадостным был социально-экономический и духовный застой, возникший в период правления В. Ульбрихта и Э. Хонеккера. Нельзя забывать, что об отставании ГДР сами немцы безошибочно судили при сравнении с процветающей экономикой ФРГ. Говоря образно, граждане ГДР предпочли надежную капиталистическую «синицу в руке» вместо мифического социалистического «журавля в небе». Кто возьмется их сегодня упрекать? Да еще памятуя о проблеме воссоединения нации, трагический раскол которой именно Криста Вольф проникновенно изобразила в своем первом романе «Расколотое небо» (1963).
Духовный кризис общества ГДР, обусловленный диктатом закосневшей в догме идеологии и — может быть, прежде всего — слишком узкими возможностями для социально-экономической и интеллектуально-творческой деятельности личности в условиях «развитого социализма», Криста Вольф заметила еще в шестидесятые годы. Этой теме посвящен ее роман «Размышления о Кристе Т.» (1968), вызвавший в момент публикации гнев и возмущение не только официальной критики, но и многих читателей, свыкшихся с ролью «винтиков». В интервью с Терезой Хёрник писательница вспоминает:
«Обиднее всего было, что отдельные мои сограждане из страха позволили вовлечь себя в кампанию против меня, но особенно горько, что издательство, выпустившее книгу, публично от нее отреклось. Мое существование в этой стране в качестве общественного существа было поставлено под сомнение, и понадобилось довольно значительное время, пока я опять смогла взять в руки перо»[15].
Основной вопрос, на который искала ответ Криста Вольф в романе, можно сформулировать так: является ли гуманным общество, ставящее перед своими гражданами какие угодно цели, кроме главной жизненной цели каждого человека — познать и осуществить самого себя? Что значат такие высокие слова, как «трудиться на благо общества», если это абстрактное «общее благо» перестает реально соотноситься с насущными интересами конкретного человека, живущего в данном обществе? Гуманность «реального социализма» в ГДР впервые была подвергнута тщательному анализу и сомнению в этом романе К. Вольф.
В 1971 году Криста Вольф написала фантастический рассказ «Маленькая прогулка в Г.», который относится к циклу «Унтер-ден-Линден» (1974), однако опубликован он был лишь в 1989 году. Поскольку советскому читателю этот рассказ еще не известен, есть смысл поговорить о нем чуть подробнее… По приглашению своего знакомого героиня совершает экскурсию по Городу Героев, который наряду с обычными людьми, носящими на груди отличительный знак «Ч» (человек), заселен персонажами книг писателей ГДР 1950—1960-х годов. Эти персонажи, в большинстве своем так называемые «положительные герои» или «новые люди», изо дня в день с воодушевлением делают то, на что в свое время сподвигли их писатели, пытавшиеся добросовестно следовать канонам социалистического реализма, то есть изображать предписываемую утопическими партийными программами жизнь. Здесь же и герои, изуродованные или изъятые из текста книг цензурой. Многие персонажи и книги легко узнаваемы. Основной же художественный пафос рассказа состоит даже не в том, что Криста Вольф блестяще и иронически обыгрывает негативные стороны истории литературы ГДР. Становится страшно, когда на какой-то странице вдруг видишь, как все эти литературные персонажи («новые люди» и «положительные герои») превращаются в агрессивную толпу живых людей, не желающих поступаться «принципами», стремящихся на веки вечные сохранить усвоенные однажды стереотипы поведения и шаблоны мышления. Взаимодействие идеологии, жизни и литературы предстает в виде зловещего рока: бездуховная идеология формирует бездуховные личности, бездуховная литература, взращенная бездуховной идеологией, не в состоянии увидеть в жизни иные ценности, кроме этих самых «новых людей», лишенных исторических корней и не имеющих будущего. Правда, героиня просыпается, и вся кошмарная экскурсия в Город Героев оказывается не более чем фантастическим сном…
С конца шестидесятых годов Криста Вольф активно переосмысляет жизненный и творческий опыт, мучительно стремится найти новые возможности литературного выражения своих изменившихся мировоззренческих позиций. Она работает и экспериментирует сразу по нескольким направлениям. Важнейшее — резкая субъективизация прозы, нарочитое присутствие в тексте самого автора с его переживаниями и проблемами. Эта эстетическая категория, получившая название «субъективная аутентичность», впервые была сформулирована ею в эссе «Уроки чтения и письма» (1968, опубл. В 1972):
«…у повествовательного пространства есть четыре измерения: три фиктивные пространственные координаты вымышленных персонажей и четвертая, «подлинная», координата рассказчика. Это координата глубины, чувства времени, неизбежной сопричастности, определяющая выбор не только сюжета, но и его окраски. Ее осознанное использование — основной метод современной прозы».
Метод «субъективной аутентичности» наиболее очевидно просматривается в романе «Образы детства» (1976), повести «Авария» (1987) и в относящейся к 1978—1979 годам, но завершенной в ноябре 1989 года пронзительно интимной повести «Что остается». Эта повесть является своеобразным дополнением к «Летнему этюду», ибо сосредоточена на раскрытии внутриполитической ситуации в ГДР, приведшей партийно-бюрократический режим в стране к полному краху, — то есть как раз на том, чего в «Летнем этюде» Криста Вольф старательно избегает или же касается весьма осторожно, и читатель, не знакомый с конкретной ситуацией в ГДР, может подумать, что речь идет в основном о личных переживаниях и трагедиях. Поэтому есть смысл очертить культурно-политический и литературный контекст, относящийся к периоду, описанному в «Летнем этюде».
В тексте повести нет ни одной даты, хотя порой упоминаются события, временная и пространственная соотнесенность которых не вызывает сомнений. Вспомним хотя бы семейство грека Антониса, любителя предметов старины, тоскующего по родине, с нетерпением ожидающего визу и наконец — после покупки старинного сундука и торжественного прощального вечера — отъезжающего в Грецию. Реакционный режим в Греции, как мы помним, пал в 1974 году. Эту дату ориентировочно можно взять за точку отсчета. Попутно зададим себе вопрос: зачем вообще Кристе Вольф понадобилась экзотика и не напоминает ли интеллигентное общество, затворившееся в добровольном изгнании в мекленбургской деревне со славянским названием, группу беженцев, в благостном деревенском комфорте ожидающих общественных перемен, чтобы — подобно греку Антонису — вернуться на покинутые места? Ведь художественное произведение живет по своим собственным законам, и всякое, даже мимоходом упомянутое, «ружье» должно рано или поздно «выстрелить»…
Биографам Кристы Вольф хорошо известна фотография «Лето 1975 года в Метельне», впервые опубликованная Терезой Хёрник к шестидесятилетию писательницы: на скамье под окнами просторного деревенского дома уютно беседуют Криста Вольф, Сара Кирш, Хельга Шуберт… Стихотворение Сары Кирш не только стоит в эпиграфе повести, но и цитируемые в книге стихи Беллы принадлежат Саре Кирш. А сейчас самое время вспомнить неожиданно щемящую фразу первого абзаца повести «Летний этюд»: «Теперь, когда Луиза уехала, Белла навсегда оставила нас, Штеффи умерла, дома разрушены, — теперь жизнью вновь властвует память». Сара Кирш, одна из крупных современных немецких поэтесс, как известно, была в числе тех, кто выступил против лишения гражданства ГДР поэта-песенника Вольфа Бирмана. Акция лишения гражданства произошла 17 ноября 1976 года. В 1977 году Сара Кирш переехала жить в Западный Берлин. В знак протеста против антиконституционного акта «лишения гражданства» ГДР покинули свыше 100 деятелей культуры. Партийно-авторитарная власть ответила на эту акцию репрессиями. В 1979 году, например, из Союза писателей ГДР были исключены девять писателей. Криста Вольф мужественно выступила против этой акции и в дальнейшем в речах и статьях продолжала требовать восстановления исключенных, хотя некоторые из них уже оставили ГДР. На таком вот тревожном культурно-политическом фоне разыгрывается кажущаяся идиллия «Летнего этюда».
Заметное место в повести занимает образ Штеффи — мысленному диалогу с ней (умирающей в больнице от рака) отведены завершающие страницы книги. Исследователи, успевшие провести текстологический анализ, утверждают, что в образе Штеффи запечатлены некоторые черты Макси Вандер (1933—1977), талантливой писательницы, чья книга «Доброе утро, красотка» (1976), представляющая собой почти дословное воспроизведение магнитофонных записей бесед с женщинами ГДР, произвела сенсацию не только в немецкоязычном регионе. При чтении страниц книги, посвященных Штеффи, вспоминается Бригитта Райман (1933—1973), талантливая писательница, яркой звездой промелькнувшая на небосклоне литературы ГДР. В размышлениях и взаимоотношениях Эллен и Яна без труда угадываются автор повести и ее муж, известный писатель и критик Герхард Вольф. И так далее. Однако все расшифровки и соотнесения — загадки скорее для литературоведов, чем для читателей. Стоит подчеркнуть, что, развивая концепцию «субъективной аутентичности», Криста Вольф щедро заполняет страницы повести эпизодами, лицами и конфликтами, выхваченными из жизни.
Тем серьезнее следует воспринимать завершающую книгу ремарку: «Все персонажи этой книги вымышлены автором, ни один не тождествен кому-либо из живых или мертвых. Столь же мало совпадают реальные события и эпизоды повести». Суть даже не в том, что в «Летнем этюде» сгущены в единое художественное целое эпизоды, переживания и впечатления по крайней мере десятилетнего периода жизни (ведь и сама повесть создавалась десять лет, хотя и с перерывами) и что эти эпизоды перемешаны и расположены в необходимой автору последовательности. Это — лишь внешняя сторона композиционной структуры. Гораздо важнее то, что повесть, столь наивно и непосредственно предлагающая читателю непроизвольный и на первый взгляд почти неуправляемый поток воспоминаний и впечатлений, на самом деле весьма строго подчинена разрешению философских и эстетических задач, которые Криста Вольф ставила перед собой с конца семидесятых годов.
Кризисный для культуры ГДР 1976 год был годом выхода романа «Образы детства», потребовавшего предельного напряжения всех душевных и физических сил Кристы Вольф. Та усталость и опустошенность, о которой неоднократно говорит в «Летнем этюде» Эллен, отчасти связана с этим. Но куда большую роль здесь играет духовный кризис, который обострился, видимо, к 1978 году, когда Криста Вольф, выступившая в защиту В. Бирмана, стояла на грани полного разрыва с Союзом писателей ГДР. Она отсутствовала на Седьмом (1978), Восьмом (1983) и Девятом (1987) съездах писателей ГДР, разрушая, как могла, картину полного благополучия в писательской среде, которую стремилось изобразить руководство Союза писателей и стоящие над ним партийные идеологи. В то же время она мучительно искала возможности адекватного литературного овладения ситуацией. В 1978 году она написала историческую повесть о Генрихе фон Клейсте и Каролине фон Гюндероде «Нет места. Нигде», два эссе и начала работу над повестями «Летний этюд» и «Что остается». Не имея возможности прямо изображать современность, она погрузилась в историю и, обнаружив глубинное родство отдаленных эпох, попыталась зашифровать свои мысли и чувства в поэтические метафоры, которые легко доходили до читателей, разделявших ее помыслы. В повести о Клейсте возникает в определенном смысле ключевая метафора «unlebbares Leben» («нежилая жизнь», то есть жизнь, недостойная того, чтобы заполнять ею отпущенный человеку срок). Метафора эта приходит в голову Клейсту, но читатели Кристы Вольф хорошо понимали, какую жизнь она здесь имела в виду. Именно поэтому ее исторические и мифологические («Кассандра», 1983) повести и эссе вызывали повышенный читательский спрос. Через несколько лет Фолькер Браун придумал еще одну метафору для обозначения общественно-политической и культурной ситуации в ГДР — «gebremstes Leben» («заторможенная жизнь»). И читатель учился воспринимать эти метафоры, ибо видел за ними актуальное содержание.
В повести «Что остается», начатой параллельно с книгой «Нет места. Нигде» и с первыми набросками «Летнего этюда», Криста Вольф попыталась запечатлеть для потомства эпизоды полицейской слежки за ней, показала, как ведут себя в подобной ситуации разные люди, близкие ей, воссоздала атмосферу бюрократически-полицейского режима, переходящего не только разумные, но и мыслимые пределы. В ноябре 1989 года она завершила свой скорбный рассказ словами:
«Когда-нибудь, думала я, я смогу заговорить легко и свободно… Пока еще слишком рано, но ведь так будет не всегда. А может, мне просто сесть за этот стол, под эту лампу, взять бумагу, ручку и начать? Что остается? В чем основа моего города и почему он будет разрушен до основания? И что нет иного несчастья, кроме одного — не жить. И в конце иного отчаяния — не прожить жизнь».
Как видим, здесь варьируется та же метафора («нежилая жизнь»), только вырастает она на этот раз не на историческом, а на современном материале. Правда, повесть «Что остается» была опубликована лишь в 1990 году, да и то в ФРГ. Но именно эта повесть в наибольшей степени, пожалуй, помогает сегодня понять, почему события в ГДР развернулись столь стремительно — волна неприятия партийно-бюрократического режима пересилила чувство страха, на котором последние годы (особенно после апреля 1985 года) держался режим Э. Хонеккера.
В повести «Летний этюд», начатой, как уже упоминалось, в 1978 году, Криста Вольф поставила перед собой более сложную художественную задачу. Почти непосильную — не оттого ли и работа над книгой растянулась на целых десять лет? Надо было найти новые точки опоры, понять и показать, что́ может противопоставить человек, что́ может противопоставить писатель той «нежилой жизни», которая окружает его на каждом шагу. Найти эти точки опоры оказалось не просто — пришлось переосмыслить мифологию и историю, подвергнуть критическому анализу весь путь человеческой цивилизации.
Поэтика и философия Кристы Вольф нашли очень яркое выражение во «Франкфуртских лекциях» (1983), создававшихся параллельно с «Кассандрой» и сопровождавших раздумья и работу над «Летним этюдом». В этих лекциях она размышляет, например, о неизбежном переломе в современном общественном сознании, равносильном новому Ренессансу:
«В чем суть этого перелома? Может быть, в отказе? В отказе от покорения и обуздания природы, в отказе от закабаления других народов и континентов, но также и в отказе от закабаления женщины мужчиной? В радости жизни (когда ты уже не властелин мира и не стремишься им быть)?»
Или в другом месте — со ссылкой на Макса Фриша — она размышляет о функции слова в рамках своей новой поэтики:
«Такое слово не будет снабжать нас ни историями героев, ни историями антигероев. Оно будет неброским и рассказывать будет о неброском, о драгоценных буднях, просто и конкретно. Гнев Ахилла, смятение Гамлета, ложные альтернативы Фауста будут вызывать у него всего лишь улыбку. Ему придется пробиваться к своему материалу поистине «снизу» — и тогда, может быть, этот материал, увиденный с доселе неведомой точки зрения, еще откроет доселе не распознанные возможности».
Эти размышления во «Франкфуртских лекциях» прямо соприкасаются с тем, что Криста Вольф пытается «снизу», от простого и непритязательного быта, изобразить в «Летнем этюде». «А с другой стороны, почему эти фразы должны быть важнее чистой печки?» — вдруг задумывается Эллен. Еще более отчетливо направление новых поисков сформулировала Криста Вольф в статье «Ответ читателю» (1981):
«Все, что игнорируется и отрицается, мы должны создать: приветливость, достоинство, доверие, раскованность, непосредственность, очарование, аромат, звучность, поэзию. Непринужденность жизни. Все, что улетучивается первым, когда недобрый мир грозит вылиться в тотальную войну. Истинно человеческое. Дающее нам силы отстаивать мир».
Собственно говоря, именно эту концепцию жизни пытается провести Криста Вольф в «Летнем этюде». Она стремится изобразить попытку очень разных людей жить вместе, не поступаясь своими индивидуальностями, а — напротив — уважая их и способствуя их раскрытию. Хотя при внимательном чтении обнаруживается, что книга вдоль и поперек пронизана конфликтами, и отнюдь не только бытовыми. И сельский домик, и маленькая деревня тысячью зримых и незримых нитей связаны со всем миром, и сама Криста Вольф не может не осознавать утопичность изображаемой ею сельской идиллии. Как настоящий художник-реалист, она не удовлетворяется показом внутренних психологических коллизий уединившегося в деревне содружества и дает почувствовать грозное веяние внешнего мира, не принимающего предлагаемые «условия игры». Поэтому возникающее временами ощущение идиллии окончательно разрушается пожаром в деревне и смертью Штеффи.
Пожар этот, в предощущении грядущих событий, приобретает поистине символическое значение. Примерно такое же, какое он имел в повести Валентина Распутина «Пожар», опубликованной почти за год до чернобыльской катастрофы и до кризиса, проявившегося в самых разных сферах экономической и политической жизни страны. Или как в пьесе Фолькера Брауна «Переходное общество» (1982), где сгорает дом, символизирующий ГДР. Большие писатели становятся провидцами. Так, Криста Вольф, изобразившая трагедию Кассандры, сама выступила в ее роли. Но высокие гуманистические ценности, которые писательница утверждает своим творчеством, позволяют надеяться, что ее усилия не пропадут втуне.
1990, июль
А. Гугнин
Примечания
1
Перевод А. Карельского.
(обратно)2
Здесь и далее стихотворение И. К. Гюнтера цитируется в переводе А. Карельского.
(обратно)3
Пита — пирог (греч.).
(обратно)4
Межхозяйственное растениеводческое отделение.
(обратно)5
В Германии 1933—1947 гг. наследственный крестьянский двор переходил от отца к старшему сыну и не подлежал разделу.
(обратно)6
Так точно, сэр (англ.).
(обратно)7
Рецина — вино с добавкой смолы (греч.).
(обратно)8
Школы, где учились дети из соседних населенных пунктов (ГДР).
(обратно)9
Перевод В. Топорова.
(обратно)10
Из сказки братьев Гримм «Гусятница».
(обратно)11
Перевод В. Топорова.
(обратно)12
«Даруй нам мир» (лат.).
(обратно)13
Перифраз первой строки стихотворения И. Риста (1607—1667) «Вечность».
(обратно)14
Правда, 30 июня 1990 г., с. 6.
(обратно)15
Hörnigk Th. Christa Wolf. Göttingen, 1989, S. 32.
(обратно)

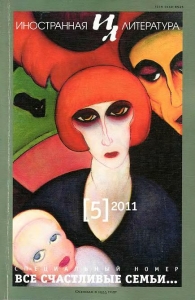

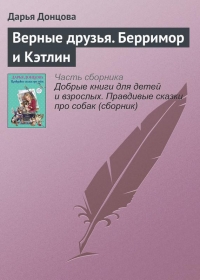


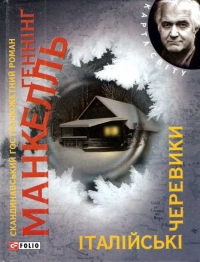




Комментарии к книге «Летний этюд», Криста Вольф
Всего 0 комментариев