Артур Кестлер Слепящая тьма
© ДЭМ, 1989
Об авторе
«ДЭМ» публикует перевод широко известного политического романа Артура Кёстлера «Слепящая тьма». Любопытна судьба этого произведения: рукопись книги, написанная на немецком языке, пропала. К счастью, уже был готов английский перевод, названный «Мрак в полдень» (по-французски роман называется «Ноль и бесконечность»).
Артур Кёстлер (1905–1983) прожил сложную, исполненную трагических потрясений жизнь. Еврей по национальности, Кёстлер родился в Будапеште, детство и юность провел в Венгрии, Австрии и Германии. Европейскую известность как журналист Артур Кёстлер завоевал совсем молодым человеком: с 1926 по 1929 год он был корреспондентом немецкого издательского концерна Ульштайна на Ближнем Востоке, в 1929-1930-годах работал в Париже. Кёстлер — единственный журналист Европы, совершивший в 1931 году на немецком дирижабле «Граф Цеппелин» полет к Северному полюсу. В середине тридцатых годов писатель предпринял большое путешествие по Центральной Азии и год прожил в Советском Союзе.
Написанный много лет назад, роман «Слепящая тьма» Артура Кёстлера представляет интерес и сегодня. Он дает представление о том, как воспринимались за пределами СССР события внутренней жизни страны, какой огромный, до сих пор трудновосполнимый ущерб был нанесен сталинским террором международному престижу родины социализма и единству мирового коммунистического движения.
Артур Кестлер и его роман
Имя автора «Слепящей тьмы» было когда-то знакомо советским читателям. Летом 1937 года издательство «Молодая гвардия» выпустило в свет его книгу «Беспримерные жертвы» повествующую о зверствах франкистов на захваченной ими территории Испании в первые месяцы фашистского мятежа. В издательском предисловии говорилось, что Кестлер, будучи корреспондентом английской левобуржуазной газеты «Ньюс кроникл», заслужил почетную ненависть франкистов своими яркими антифашистскими публикациями. Попав в руки фашистов после захвата ими Малаги (это случилось в феврале 1937 года), он был приговорен и избежал казни только благодаря вмешательству иностранных дипломатов и протестам международной общественности. К этому можно было бы добавить, что Кестлер был тогда коммунистом, имел богатейший журналистский опыт, успел побывать и в Советском Союзе. Годом позже журнал «Интернациональная литература» сообщил о выходе в Лондоне новой антифашистской книги Кестлера «Испанское завещание».
Но завязавшийся было диалог Кестлера с советским читателем вскоре прервался. Объяснялось это появлением в 1940 году романа «Слепящая тьма». Коль скоро в этом романе речь шла о беззакониях, порожденных культом личности, он и его автор были отнесены к разряду антисоветской литературы и тем самым изъяты из нашей духовной жизни. А то, что роман завоевал широкую популярность и был переведен на тридцать языков, делало его особенно вредным в глазах управителей наших идеологических ведомств. С тех пор имя Кестлера, как правило, замалчивалось, а если и упоминалось в той или иной книге или статье, то исключительно в негативном и «разоблачительном» контексте.
Не буду касаться общей оценки и сложного и многостороннего литературного и научного наследия Кестлера (он был не только писателем, но и философом, психологом, биологом), тем более что оно еще ждет у нас объективного исследования. Но возьму на себя смелость утверждать, что, по крайней мере, такое его произведение, как роман «Слепящая тьма» заслуживает того, чтобы войти наконец в круг чтения советских людей.
Только нечистая совесть Сталина и его приспешников и догматическая близорукость их духовных наследников могли счесть это выдающееся по своим художественным достоинствам произведение антисоветским. Ибо продиктовано оно было вовсе не враждебностью к Советскому Союзу, вовсе не желанием возбудить к нему ненависть и отвращение, а совсем иными чувствами. Болью, состраданием, отчаянием. И страстным желанием понять, что и почему произошло в стране социалистической революции, так восхищавшей Кестлера ранее. Непосредственной причиной его духовной драмы (а именно так, по моему мнению, следует назвать то, что пережил Кестлер в конце 30-х годов и что побудило его написать этот роман) были московские процессы 1936–1938 годов. Процессы же эти являлись только вершиной гигантской пирамиды репрессий, масштабы и направленность которых казались столь же чудовищными, сколь бессмысленными. Необъяснимым казалось рвение, с которым жертвы процессов, старые заслуженные революционеры, ближайшие и многолетние сподвижники Ленина, обливали себя грязью, признаваясь в диких преступлениях, якобы ими совершенных. Характер судилищ ставил в тупик многих представителей прогрессивной зарубежной общественности, включая и коммунистов (как, естественно, и многих советских людей).
Но представим себе то время. Ощущаемое почти физически приближение новой войны. Наглая агрессивность фашистских держав. Лихорадочные попытки создать боевой союз всех антифашистских сил. И вера в то, что именно СССР — самый надежный, если вообще не единственный, оплот в борьбе против фашизма. В этой обстановке тревожные и непонятные вести, приходившие из Москвы, ставили друзей Советского Союза перед убийственной дилеммой. Нужно было либо просто принять на веру официальную версию о шпионах и врагах народа, проникших во все клетки советского организма, или, на худой конец, отложив на время свои сомнения, опять-таки защищать эту версию, либо, выступая против нее, волей-неволей порывать с прежними единомышленниками и товарищами по борьбе. Других вариантов не существовало. Ведь в те времена любые критические замечания по адресу Советского Союза воспринимались у нас согласно известному и очень навредившему нам лозунгу «Кто не с нами, тот против нас» как враждебные акции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы сами отталкивали и зачисляли в стан врагов даже доброжелательных критиков.
Из названных двух вариантов Кестлер выбрал второй. В итоге он навсегда разошелся с коммунистами и логикой вещей был отброшен в либерально-буржуазный лагерь.
Можно сожалеть о том, что мы лишились талантливого соратника (и, к несчастью, не только его), но едва ли стоит сейчас осуждать или, наоборот, оправдывать его действия. Потрясение оказалось для него слишком сильным, и никакие соображения практической пользы не могли это потрясение нейтрализовать. Художник-мыслитель был в нем сильнее политика-прагматика. А поверить в невероятное было выше его сил. Быть может, эти особенности его индивидуальности и решили его судьбу.
Стремясь добраться до сути потрясших, его событий, Кестлер уже полвека назад, по горячим следам, дал убедительную художественную версию обстоятельств, которые привели некоторых представителей старой большевистской гвардии к аресту, самооговору и казни. Именно это стремление и делает его книгу интересной, ценной и нужной нам сегодня. Мы ведь тоже стараемся постичь смысл противоречивого, героического и трагического в одно и то же время исторического развития нашей страны, исследовать неизведанное, разобраться в том, что пока еще не понятно, раскрыть то, что долгие годы было потаенным. В стремлении к постижению истины такие книги, как «Слепящая тьма», могут оказать нам помощь.
Не беда, что перед нами не исторический трактат, а художественное произведение. Раздающиеся сейчас то и дело стенания или возгласы негодования по поводу того, что нетерпеливые писатели, не дожидаясь медлительных историков, узурпировали право освещать наше недавнее прошлое и при этом что-то там искажают и путают, — эти стенания и возгласы, если они вполне добросовестны и не прикрывают задних мыслей, основываются на недоразумении. На непонимании того, что наука и искусство имеют равное право на постижение действительности, все равно, сегодняшней, вчерашней или позавчерашней. Здесь не может быть монополии, как не может быть и соперничества. Наука и искусство дополняют друг друга. И в каких-то сферах, прежде всего в анализе психологии людей, искусство способно дать больше, чем наука. Казалось бы, это — аксиома. Так о чем же спор?
Я не собираюсь заниматься развернутым разбором романа «Слепящая тьма». Пусть он сначала дойдет до читателя. А там, если нужно, появятся и критические разборы. Материала для этого достаточно.
Ограничусь лишь несколькими замечаниями. Хотелось бы прежде всего обратиться к тем, кто требует от художественных произведений той же абсолютной точности в фактах и деталях, какими должны отличаться сочинения научные. В романе «Слепящая тьма» такой точности искать не следует. Разумеется, всем с самого начала ясно, где происходят описываемые события. Персонажи носят русские фамилии (или такие, какие автор считает русскими). Но, конечно, Кестлер не случайно нигде точно не обозначает место действия, не называет прямо по имени ни страну, ни город, ни исторических деятелей. В ссылках на исторические события он сознательно допускает много вольностей. Не было, например, того многократно упоминаемого в романе Первого съезда партии, где присутствовали и были запечатлены на фотографии все ее основатели, в том числе и тот, кто впоследствии захватил власть и начал уничтожать своих бывших соратников. Придуманы автором и те поручения, которые якобы выполнял герой романа за границей, изгоняя из партийных рядов разного рода «уклонистов». Вымышлены подробности тюремного быта, следствия и прочее. Наконец, в реальной жизни не было человека с биографией, которой писатель наделил своего героя Николая Рубашова. Конечно, создавая его образ, он придал ему кое-какие черты внешнего и внутреннего облика некоторых лично знакомых ему старых большевиков. Но в целом Рубашов — образ вымышленный и собирательный, искать его прототип бесполезно. То же относится и к другим персонажам романа.
Следовательно, тот, кто вознамерится найти в романе описание реального хода исторического процесса, неминуемо попадет впросак. Приходится предупреждать об этом потому, что реакция отдельных читателей — именитых и рядовых — на романы и пьесы о нашей недавней истории заставляет опасаться, что и тут несогласие с антисталинским, антикультовым пафосом писателя будет прикрываться придирками к «неточностям» и «фактическим ошибкам». Для придания роману большей силы обобщения Кестлер, прекрасно знавший исторические факты, намеренно прибегал к домыслам, упрощениям, «неточностям». На то он и художник.
Но дело не только в фактах. Столь же неправомерно было бы принимать за аутентичное отображение реальности все содержащиеся в романе рассуждения о предпосылках и причинах утверждения личной диктатуры и о подоплеке репрессий. В этих рассуждениях немало глубоких и тонких мыслей, порой предвосхищающих сегодняшнее понимание этих проблем. Но при чтении романа ни на минуту нельзя упускать из виду, что на его страницах рассуждает человек, убеждающий (и в конце концов убедивший) себя в том, что он обязан выполнить «последнее партийное поручение», оклеветать самого себя и умереть как ненавидимый и презираемый всеми «враг народа». Чтобы убедить себя в необходимости такой жуткой смерти, он должен признать неизбежность того, что случилось в партии и стране. Он должен стать на позицию исторического фатализма. И потому не может обойтись без софизмов и передержек. По-видимому, к сходным заключениям, хотя и из других побуждений, пришел и сам автор романа. В этом, повторяю, основа его личной духовной драмы. Сходные фаталистические заключения привели героя романа к смерти, а писателя — к разочарованию в марксизме. Но вступать с ним сейчас в полемику значило бы ломиться в открытую дверь.
Думается, мы, несмотря ни на что, окажемся способными осознать, что наличие объективной почвы для какого-либо явления (в данном случае — культа личности и всего, что с ним связано) отнюдь не тождественно с отсутствием альтернативы, с невозможностью выбора и что строительство социализма, даже в отсталой стране, отнюдь не предопределяло обязательность и неизбежность победы сталинщины с ее зловещими методами управления и с идолопоклонническим образом мыслей.
Если принять во внимание все то, о чем сказано выше, можно по достоинству оценить непреходящую ценность романа Кестлера: могучее художественное воссоздание гнетущей и губительной атмосферы периода культа личности, калечившей человеческие души, порождавшей взаимную подозрительность, недоверие, «охоту на ведьм», разрушавшей нормальные человеческие связи, насаждавшей произвол и беззаконие. Атмосферы, тысячекратно воспроизводившей ситуацию, при которой лучшие люди страны гибли оклеветанные и ошельмованные на полвека вперед. То, что своим чутьем художника угадал и показал Кестлер, — лишь часть огромной, написанной кровью и слезами картины. Может быть, даже ее наиболее гуманная если здесь вообще уместно употреблять это слово, часть. То, что он показал, — лишь один — и притом не самый жестокий — из дьявольских способов морального и физического разрушения человеческой личности.
Но ведь давно известно, что в части отражается целое.
В.Чубинский доктор исторических наук, профессорСЛЕПЯЩАЯ ТЬМА
Все персонажи этой книги вымышлены автором. Исторические обстоятельства, определившие их поступки, взяты из жизни.
Судьба Н. 3. Рубашова вобрала в себя судьбы нескольких человек, которые стали жертвами так называемых Московских процессов. Кое-кого из них автор знал лично. Их памяти он и посвящает эту книгу.
Париж, октябрь 1938-апрель 1940Диктатор, не убивший Брута, и учредитель республики, не убивший сыновей Брута, обречены править временно.
Макиавелли, «Беседы»Милостивый государь, милостивый государь, ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели.
Достоевский, «Преступление и наказание»Допрос первый
Всякий правитель обагрен кровью.
Сен-Жюст1
Дверь камеры, лязгнув, захлопнулась.
Рубашов привалился к двери спиной, постоял так несколько секунд и закурил. Справа от него, на узкой койке, лежали два застиранных одеяла и набитый свежей соломой тюфяк. Слева торчал водопроводный кран, железную раковину изъела ржавчина. Возле раковины стояла параша, ее совсем недавно дезинфицировали: он почувствовал запах хлорки. Кирпичные стены глушили звук, но зато по штукатурке у труб отопления перестукиваться было, наверное, можно, да и трубы, разумеется, были звукопроводными. Окно начиналось на уровне глаз, и он мог выглянуть в тюремный двор, не подтягиваясь вверх на прутьях решетки. Все нормально, заключил он.
Рубашов зевнул, снял пальто, свернул его и пристроил в головах койки. Потом внимательно оглядел двор. Подсвеченный лучами фонарей и луны, снег отливал синеватой желтизной. Вдоль стен тянулась расчищенная тропка — значит, здесь разрешались прогулки. До рассвета было еще далеко; звезды, несмотря на блеск фонарей, льдисто и ясно сверкали в небе. По узкому проходу на внешней стене, которая возвышалась против его камеры, вышагивал, словно на параде, часовой — сто шагов вперед и сто назад. Временами желтый свет фонарей поблескивал на штыке его винтовки.
Не отходя от окна, он снял башмаки. Потом устало опустился на койку, положил у ее изножия окурок и несколько минут просидел не шевелясь. А потом еще раз подошел к окну. Тюремный двор был тих и безлюден; часовой начинал очередной поворот; вверху, над зубцами сторожевой башни, серебрился ручеек Млечного Пути.
Наконец он лег, вытянул ноги и плотно укутался верхним одеялом. Его часы показывали пять, и вряд ли здесь подымали заключенных раньше семи, особенно зимой. Он проваливался в сонное забытье и подумал, что его не вызовут на допрос по крайней мере дня три или четыре. Сняв пенсне, он положил его на пол, улыбнулся и закрыл глаза. Ему было тепло и удивительно покойно, первый раз за многие месяцы он засыпал без страха перед снами.
Когда надзиратель, не входя в камеру, выключил свет и заглянул в очко, Рубашов, бывший Народный Комиссар, спал, повернувшись спиной к стене и положив голову на левую руку, — рука окостенело вытянулась над полом, и только безвольно опущенная ладонь слегка подергивалась.
2
А за час до этого, когда два работника Народного Комиссариата внутренних дел стучались к Рубашову, чтобы арестовать его, ему снилось, что его арестовывают.
Стук стал громче, и Рубашов напрягся, стараясь прогнать привычный сон. Он умел выдираться из ночных кошмаров, потому что сон о его первом аресте возвращался к нему с неизменным постоянством и раскручивался с неумолимостью часовой пружины. Иногда яростным усилием воли он останавливал ход часов, но сейчас из этого ничего не вышло: в последние недели он очень устал, и теперь его тело покрывала испарина, сон душил его, он дышал с трудом, а часы все стучали, и сновидение длилось.
Ему снилось, как обычно, что в дверь барабанят и что на лестнице стоят три человека, которые собираются его арестовать. Он ясно видел их сквозь запертую дверь — и слышал сотрясающий стены грохот. На них была новая, с иголочки, форма — мундиры преторианцев Третьей империи, а околыши фуражек и нарукавные нашивки украшала эмблема молодой Диктатуры — хищный паукообразный крест; в руках они держали огромные пистолеты, а их сапоги, ремни и портупеи удушающе пахли свежей кожей. И вот они уже здесь, в его комнате: двое долговязых крестьянских парней с рыбьими глазами и приземистый толстяк. Они стояли у изголовья кровати, он чувствовал на лице их учащенное дыхание и слышал астматическую одышку толстяка, необычайно громкую в притихшей квартире. Внезапно на одном из верхних этажей кто-то спустил воду в уборной, и трубы заполнились клокочущим гулом.
Часы остановились; стук стал громче; двое людей, пришедших за Рубашовым, попеременно барабанили кулаками в дверь и дыханием согревали окоченевшие пальцы. Но Рубашов не мог пересилить сон, хотя знал, что начинается самое страшное: они уже стояли вплотную к кровати, а он все пытался надеть халат. Но рукав, как нарочно, был вывернут наизнанку, и руке не удавалось его нащупать. Рубашов сделал последнее усилие — напрасно, и на него вдруг напал столбняк: он не мог пошевелиться, с ужасом понимая, что ему необходимо — жизненно важно — вовремя найти этот проклятый рукав. Бредовая беспомощность нескончаемо длилась — Рубашов стонал, метался в кровати, на висках у него выступил холодный пот, а стук в дверь слышался ему, словно приглушенная барабанная дробь; его рука дергалась под подушкой, лихорадочно нашаривая рукав халата, — и наконец сокрушительный удар по голове избавил его от мучительного кошмара.
С привычным ощущением, испытанным и пережитым сотни раз за последние годы, — ощущением удара пистолетом по уху, после чего он и стал глуховатым, — Рубашов обычно открывал глаза. Однако дрожь унималась не сразу, и рука продолжала дергаться под подушкой, пытаясь найти рукав халата, потому что, прежде чем окончательно проснуться, он должен был пройти последнее испытание: уверенность, что он пробудился во сне, а наяву снова окажется в камере, на сыром и холодном каменном полу, с парашей у ног и кувшином воды да черствыми крошками хлеба в изголовье.
Вот и сейчас тоскливый страх далеко не сразу отпустил Рубашова, потому что он никак не мог угадать, коснется ли его ладонь кувшина или выключателя лампы на тумбочке. Загорелась лампа, и страх развеялся. Он несколько раз глубоко вздохнул, как бы смакуя воздух свободы, вытер платком вспотевший лоб, промокнул небольшую лысину на макушке и с возвратившейся к нему иронией подмигнул цветной литографии Первого — она висела над кроватью Рубашова, так же как она неизменно висела над кроватями, буфетами или комодами во всех квартирах рубашовского дома, во всех комнатах и квартирах его города, во всех городах его необъятной родины, потребовавшей от него в свое время героических подвигов и тяжких страданий, а сейчас опять распростершей над ним необъятное крыло своего покровительства. Теперь Рубашов проснулся окончательно — но стук в дверь слышался по-прежнему.
3
Двое, которые пришли за Рубашовым, совещались на темной лестничной площадке. Дворник Василий, взятый понятым, стоял у открытых дверей лифта и хрипло, с трудом дышал от страха. Это был худой, тщедушный старик; его задубевшую жилистую шею над разодранным воротом старой шинели, накинутой на рубаху, в которой он спал, прорезал широкий желтоватый шрам, придававший ему золотушный вид. Он был ранен на Гражданской войне, сражаясь в знаменитой рубашовской бригаде. Потом Рубашова послали за границу, и Василий узнавал о нем только из газет, которые вечерами читала ему дочь. Речи Рубашова на съездах партии были длинные и малопонятные, а главное, Василий не слышал в них голоса своего бородатенького командира бригады, который умел так здорово материться, что даже Казанская Божья Матерь наверняка одобрительно улыбалась на небе. Обычно Василия смаривал сон уже к середине рубашовской речи, и просыпался он только, когда его дочь торжественно зачитывала последние фразы, неизменно покрываемые громом аплодисментов. Ко всякому завершающему речь заклинанию — «Да здравствует Партия! Да здравствует Революция! Да здравствует наш вождь и учитель Первый!» — Василий от души добавлял «Аминь», но так, чтобы дочь не могла услышать; потом он снимал свой старый пиджак, тайком крестился и лез в постель. Со стены на Василия поглядывал Первый, а рядом с ним, приколотая кнопкой, висела старая пожелтевшая фотография командира бригады Николая Рубашова. Если увидят эту фотографию, его, пожалуй, тоже заберут.
На лестничной площадке перед квартирой Рубашова было тихо, темно и холодно. Один из работников Народного Комиссариата — тот, который был помоложе, — предложил пару раз пальнуть в замок. Василий, в сапогах на босу ногу, бессильно прислонился к двери лифта; когда его разбудили, он так испугался, что даже не смог намотать портянки. Старший работник был против стрельбы: арест следовало произвести без шума. Они подышали на замерзшие пальцы и снова принялись ломиться в дверь, молодой стучал рукоятью пистолета. Где-то внизу вдруг завопила женщина. «Уйми ее», — сказал молодой Василию. «Эй, там, — заорал Василий, — это из органов!» Крик оборвался. Молодой забухал в дверь сапогом. Удары раскатились по всему подъезду. Наконец сломанная дверь распахнулась.
Трое людей сгрудились у кровати: молодой держал в руке пистолет; тот, что постарше, стоял навытяжку, как будто он застыл в положении «смирно»; Василий, чуть сзади, прислонился к стене. Рубашов вытирал вспотевший лоб и, близоруко щурясь, смотрел на вошедших. «Гражданин Николай Залманович Рубашов, — громко сказал молодой работник, — именем Революции вы арестованы!» Рубашов нащупал под подушкой пенсне, вытащил его и приподнялся на постели. Теперь, когда он надел пенсне, он стал похож на того Рубашова, которого Василий и старший работник знали по газетным фотографиям и портретам. Старший еще больше подобрался и вытянулся; молодой, выросший при новых героях, сделал решительный шаг к постели — и Василий, и Рубашов, и старший из работников видели, что он был готов сказать — а то и совершить — неоправданную грубость: его не устраивало возникшее замешательство.
— А ну-ка, уберите вашу пушку, товарищ, — проговорил Рубашов, — и объясните, в чем дело.
— Вы что, не слышали? Вы арестованы, — сказал молодой. — Давайте, одевайтесь.
— У вас есть ордер? — спросил Рубашов. Старший вынул из кармана бумагу, протянул Рубашову и снова застыл.
Рубашов внимательно прочитал документ.
— Что ж, ладно, — проговорил он. — На чужих ошибках не научишься, мать его…
— Одевайтесь, живо, — сказал молодой.
Его грубость вовсе не была искусственной — она составляла основу его характера. «Да, славную мы вырастили смену», — подумал Рубашов. Он припомнил плакаты, на которых юность всегда улыбалась. «Передайте-ка мне халат, — сказал он, — и хватит вам петушиться тут с вашим пистолетом». Юнец побагровел, но ничего не ответил. Старший передал Рубашову халат, и тот просунул руку в рукав. «Получилось», — сказал он с напряженной улыбкой. Остальные не поняли и угрюмо промолчали. Рубашов медленно поднялся с кровати и собрал свою разбросанную одежду. В доме — после оборвавшегося вопля — опять воцарилась глубокая тишина, но у всех четверых было странное ощущение, что жители не спят и, лежа в постелях, стараются даже как бы и не дышать. Потом на одном из верхних этажей кто-то спустил воду в уборной, и трубы наполнились клокочущим гулом.
4
Внизу у подъезда стояла машина — новейшей американской модели. Улица была совершенно темной; обитатели окрестных домов спали — или старательно притворялись, что спят; шофер включил яркие фары, и они поодиночке влезли в машину: сначала работник, что был помоложе, потом Рубашов, потом старший. Шофер, — тоже в форме Комиссариата, завел мотор и включил передачу. За углом асфальтовое покрытие кончилось, и, хотя они ехали через центр города — вокруг возвышались современные дома в восемь, девять или десять этажей, — мощенную разбитым булыжником мостовую рассекали глубокие неровные колеи, подернутые льдом и присыпанные снегом. Шофер ехал со скоростью пешехода, однако прекрасно подрессоренная машина скрипела и стонала, как старая телега.
— Давай-ка побыстрей, — сказал молодой, не выдержав висящей в машине тишины.
Шофер, не оборачиваясь, пожал плечами. Когда Рубашов забирался в машину, тот глянул на него с равнодушной неприязнью. Однажды Рубашову вдруг стало плохо, и водитель вызванной «скорой помощи» бросил на него такой же взгляд. Тряскую, нереально медленную езду по безлюдным, словно бы вымершим улицам, освещаемым дрожащими лучами фар, было мучительно трудно переносить. «Долго нам ехать?» — спросил Рубашов, глядя вперед на разбитую мостовую. Он чуть не добавил «до вашей больницы». «Минут тридцать», — ответил старший. Рубашов вынул из кармана папиросы, вытряс одну папироску для себя и машинально протянул пачку сопровождающим. Молодой резко мотнул головой, старший вытащил две папиросы и одну передал вперед, шоферу. Тот прикоснулся к козырьку фуражки и, придерживая баранку одной рукой, протянул назад зажженную спичку. У Рубашова немного отлегло от сердца, а потом он ощутил едкий стыд. «Ах, как трогательно», — подумалось ему. И все же он не смог побороть искушения — опять заговорил, чтоб растопить отчужденность, заморозившую всех четверых.
— Жалко машину, — сказал он негромко. — Мы платим за иностранные автомобили золотом и доканываем их — по нашим-то дорогам — в несколько месяцев.
— Это уж точно. С дорогами у нас пока плоховато, — отозвался тот, что был постарше. По его тону было понятно, что он заметил рубашовскую растерянность. Рубашов ощутил себя бездомной собакой, которой из жалости бросили кость, и тотчас же решил не продолжать разговора. Однако молодой враждебно спросил:
— У капиталистов дороги лучше, что ли?
Рубашов помимо воли улыбнулся.
— А вы когда-нибудь бывали за границей?
— Я и так знаю, что у них делается. На меня-то буржуазная пропаганда не действует.
— Интересно, за кого вы меня все-таки принимаете? — спросил его Рубашов совершенно спокойно. И сразу же, не в силах удержаться, добавил: — Вам следует подучить историю Партии.
Молодой ничего на это не ответил и упрямо уставился в спину шофера. Больше никто не произнес ни слова. Двигатель опять, в третий раз, заглох, и шофер, чертыхаясь, завел его снова. Машина запрыгала по улицам окраины — дорога, впрочем, нисколько не изменилась. Вокруг теснились деревянные домишки, над их покосившимися горбатыми крышами висела холодная бледная луна.
5
В коридорах недавно построенной тюрьмы ярко горели мощные лампы. Безжизненный, ослепительно ровный свет заливал голые беленые стены, двери камер с картонными табличками, на которых были напечатаны фамилии, черные зрачки смотровых глазков и железные галереи второго яруса. Этот жесткий бесцветный блеск и отрывистый, без эха, стук шагов по выложенному каменной плиткой полу казались Рубашову настолько знакомыми, что иллюзия длящегося ночного кошмара не покидала его несколько секунд. Он всячески пытался внушить себе веру в зыбкую нереальность происходящего. «Если я поверю, что сплю, — думал он, — все это, и правда, окажется сном». Он убеждал себя так напряженно, что у него на миг закружилась голова — и ему стало нестерпимо стыдно. «Назвался спасителем — неси свой крест, — подумал он. — До самого конца». Вскоре надзиратель остановился у двери камеры номер четыреста четыре. Над очком висела белая табличка: «Николай Залманович Рубашов». «Четко работают», — подумал он; вид заранее приготовленной камеры с именем на двери почти потряс его. Он собирался попросить надзирателя, чтобы тот принес еще одно одеяло, но дверь камеры, лязгнув, захлопнулась.
6
Надзиратель регулярно заглядывал в глазок. Рубашов неподвижно лежал на койке, и только свесившаяся к полу ладонь слегка подергивалась; у изножия койки лежали окурок папиросы и пенсне.
В семь — через два часа после того, как Рубашова привезли и водворили в камеру, — он был разбужен протяжным гудком. Его не мучили обычные сны, и он проснулся хорошо отдохнувшим. Сигнал подъема повторился трижды. Когда отзвуки третьего гудка умерли, камеру затопила тяжелая тишина.
Зимний день только начинался, очертания параши и раковины с краном размывала серая рассветная муть. Черная решетка казалась впечатанной в тусклый прямоугольник окна; слева, вверху, разбитое стекло кто-то заткнул комком газеты. Рубашов поднял пенсне и окурок, а потом снова вытянулся на койке. Надев пенсне, он чиркнул спичкой. Камеру по-прежнему наполняла тишина. Во всех выделенных известкой сотах этого огромного каменного улья разбуженные люди одновременно подымались и с проклятьями вступали в новое утро. Но обитатели одиночек ничего не слышали — кроме шагов надзирателя в коридоре. Рубашов знал, что одиночная камера будет его домом до самого расстрела. Лежа на спине, он попыхивал папиросой и теребил короткую клиновидную бородку.
«Значит, расстрел», — думал Рубашов. Помаргивая, он молча смотрел на пальцы своей вертикально стоящей ступни. Ему было тепло, уютно и покойно; он очень устал и хотел задремать, чтобы соскользнуть в смерть, как в сон, не выползая из-под этого тюремного одеяла. «Значит, тебя собираются расстрелять», — мысленно сказал себе Рубашов. Он медленно подвигал пальцами на ногах, и ему неожиданно припомнились стихи, в которых ноги Иисуса Христа сравнивались с белыми косулями в чаще. Он снял пенсне и потер его о рукав — всем его ученикам и последователям был превосходно знаком этот жест. Он ощущал почти полное счастье, и его страшило только сознание, что когда-нибудь ему придется встать. «Значит, тебя собираются уничтожить», — пробормотал он и закурил папиросу, хотя их осталось всего четыре. Первые затяжки на голодный желудок всегда немного пьянили его, а сейчас он и так уже чувствовал экзальтацию, неизменно подымавшуюся в нем всякий раз, когда он заглядывал в глаза смерти. Партия считала это чувство предосудительным, и даже больше — совершенно недопустимым, но ему не хотелось думать о Партии. Он глянул на обтянутые носками пальцы торчащих вертикально вверх ступней и подвигал ими. Потом улыбнулся. Теплая благодарность к своему телу, о котором он никогда не вспоминал, захлестнула Рубашова, а неминуемая гибель наполнила его самовлюбленной горечью. «Старым гвардейцам неведом страх, — негромко, нараспев продекламировал он. — …Но над ними сомкнулась завеса тьмы… Мы остались последними; скоро и мы… будем втоптаны в прах». Он хотел пропеть заключительную строку, но начисто забыл мелодию песни. «Скоро и мы», — повторил он, пытаясь припомнить лица людей, про которых говорили «старая гвардия». В памяти всплыли очень немногие. У первого председателя Интернационала, давно казненного за измену родине, из-под клетчатой жилетки выпирало брюшко — черты его лица Рубашов позабыл. Вместо подтяжек тот носил ремень. Председатель Совета Народных Комиссаров, второй по счету и тоже казненный, грыз в минуту опасности ногти. «История оправдает вас», — сказал Рубашов, однако он не был в этом убежден. Действительно, ну какое дело Истории до обкусанных в минуту опасности ногтей? Он попыхивал папиросой, вспоминая мертвых и те воистину бесчисленные унижения, через которые они прошли перед смертью. И все же Первый не вызывал в нем ненависти — хотя, без сомнения, должен был вызывать. Он часто смотрел на литографический портрет, неизменно висевший над его кроватью, пытаясь вызвать в себе это чувство. (Они давали ему много прозвищ, но утвердилось окончательно одно — Первый. Ужас, который внушал им Первый, укреплялся прежде всего потому, что он, весьма вероятно, был прав, и всем, кого он обрекал на смерть, приходилось признавать, даже с пулей в затылке, что он может оказаться прав. Однако никто в этом не был уверен, а двусмысленные прорицания старухи Пифии, которую они называли Историей, станут понятными только тогда, когда осужденные истлеют в прах.
Рубашов вдруг почувствовал чей-то взгляд и понял, что если он посмотрит в очко, то увидит живой человеческий глаз; вскоре послышался металлический скрип — в дверной дамок вставляли ключ. Через несколько секунд дверь открылась. Надзиратель, старик в стоптанных валенках, не входя, спросил:
— Вы почему не встали?
— Я заболел, — ответил Рубашов.
— До завтра вам к врачу обращаться не положено. А что у вас?
— Зуб, — сказал Рубашов.
— Зуб? — удивленно протянул надзиратель, ушел в коридор и захлопнул дверь.
«Вот теперь можно спокойно полежать», — подумал Рубашов, но покой ушел. Затхлое тепло тюремного одеяла внезапно показалось ему тошнотворным. Он откинул одеяло и шевеля пальцами, опять посмотрел на свои ноги — от этого ему стало еще хуже. Сквозь дыры в носках виднелись пятки. Он хотел подняться и заштопать носки, но, вспомнив, что надо стучать в дверь и выпрашивать у надзирателя иголку с ниткой, решил пока обойтись без ремонта; да иголку ему бы наверняка и не дали. Его вдруг обуяла тоска по газете. Он так яростно жаждал узнать новости, что услышал шелестящий шорох страниц и ощутил запах типографской краски. Возможно, разразилась новая Революция; возможно, убит какой-нибудь президент; возможно, американцы нашли способ преодолеть силу земного притяжения… Нет, о себе он ничего не узнает: некоторое время внутри страны его арест будет храниться в тайне, но за рубеж известие вскоре просочится, и там, вытащив из газетных архивов его фотографию десятилетней давности, напечатают массу дурацких предположений, почему Первый совершил этот акт. Ему уже расхотелось читать газету; теперь он яростно жаждал узнать, о чем действительно думает Первый, что происходит у него в голове. Он ясно помнил — почти что видел, — как Первый диктует своей стенографистке: приземистый торс неподвижно застыл, вытянутые руки покоятся на столе, губы неспешно формуют слова. Когда диктуют обыкновенные люди, они шагают по своему кабинету, или в задумчивости играют линейкой, или, глубоко затянувшись папиросой, пускают к потолку колечки дыма. Первый не выдувал дымных колец, не играл линейкой, не ходил по кабинету… И тут Рубашов неожиданно заметил, что он-то шагает по своей камере: он встал с койки минут пять назад. К нему вернулась старая привычка — не наступать на швы между плитками пола, и он уже запомнил их расположение. Но его мыслями владел Первый, незаметно превратившийся в свой известный портрет, который висел над каждой кроватью во всех городах и деревнях страны, прицеливаясь в людей неподвижным взглядом.
Рубашов расхаживал взад и вперед между парашей у раковины и койкой — шесть с половиной шагов к окну и шесть с половиной шагов к двери. У окна он, по старой тюремной привычке, поворачивал налево, а у двери — направо: если не менять направления поворота, неминуемо начинает кружиться голова. О чем же все-таки думает Первый? Что происходит в его мозгу? Рубашов мысленно представил себе вскрытый череп вождя и учителя — перед ним возник поперечный срез, прорисованный серой акварельной краской на плотном листе ватманской бумаги, прикрепленной кнопками к чертежной доске. Серые извилины сплетались, как змеи, взбухали, словно бесконечные кишки, выцветали, бледнели и закручивались спиралями, подобно туманностям астрономических карт. Что творилось в этих туманностях? Люди подробно изучили Вселенную и ничего не узнали о собственном разуме. Возможно, поэтому земные историки так и остались до сих пор прорицателями. Возможно, позже, гораздо позже, история с помощью статистических таблиц и анатомических схем станет наукой. Тогда преподаватель, записав на доске строго лаконичное математическое уравнение, выражающее условия жизни масс определенной нации в определенный период, уверенно скажет своим ученикам: «Итак, мы видим объективные факторы, обусловившие данный исторический процесс». Потом, указав на серый чертеж, представившийся Рубашову, добавит: «А это их субъективное отражение, благодаря которому над Восточной Европой первой половины двадцатого века властвовал тоталитарный режим». Пока история не превратится в науку, политика будет кровавым любительством, дурным шаманством и лживой волшбой…
Тишину нарушили мерные шаги. Рубашова обожгла мысль: пытки. Резко остановившись, он замер и прислушался. Возле одной из соседних камер шаги оборвались, звякнули ключи, и раздалась какая-то невнятная команда. Потом снова наступила тишина.
Рубашов, не двигаясь и затаив дыхание, готовил себя к первому воплю. Он помнил, что именно первый вопль, в котором больше страха, чем муки, обычно кажется самым ужасным. Когда истязуемый кричит от боли, к этому привыкаешь довольно быстро, а потом начинаешь даже угадывать, какую сейчас применяют пытку, — по тону, громкости и периодичности воплей. К концу пытки почти все люди, как бы они ни отличались друг от друга, ведут себя примерно одинаково: вопли становятся тише, слабее и постепенно превращаются в хриплые стоны. Вскоре после этого лязгает дверь, снова раздается звон ключей, и очередная жертва заходится в крике еще до того, как начинается истязание, — просто при появлении истязателей в дверях.
Рубашов стоял посредине камеры и напряженно ждал первого вопля. Он медленно потер пенсне о рукав и дал себе слово, что и на этот раз скажет лишь то, что найдет нужным. Он ждал, но тишину ничто не нарушало. Потом послышался перезвон ключей, какие-то слова и стук дверей. Шаги приблизились, стали громче.
Он пригнулся и глянул в очко. Напротив, у четыреста седьмой камеры, стояли два вооруженных охранника, один из которых был очень высоким, три баландера, явно из заключенных — двое держали бачок с чаем, третий нес хлебную корзину, — и старик-надзиратель в стоптанных валенках. Пыток не намечалось: разносили завтрак.
Четыреста седьмой получал хлеб. Его самого Рубашов не видел. Наверное, он, как предписывала инструкция, стоял, отступив на шаг от двери, и молча протягивал вперед руки — они, словно две иссохшие щепки, торчали над порогом затемненной камеры. Ладони были сложены горстью. Получив пайку, арестант схватил ее, и руки исчезли. Дверь захлопнулась.
Рубашов оторвал взгляд от глазка. Машинально потев пенсне о рукав, он надел его, облегченно вздохнул и потом, в ожидании первого завтрака, снова принялся шагать по камере, негромко насвистывая какую-то мелодию. Бледные ладони Четыреста седьмого вызвали у Рубашова смутное беспокойство. Очертания этих протянутых рук и даже синеватые тени на них были ему вроде бы знакомы — знакомы, словно полузабытый мотив или запах узенькой улочки, наполненной гулом близкого порта.
7
Двери камер открывались и закрывались, но к нему пока что никто не входил. Он нагнулся и заглянул в очко, с нетерпением думая о горячем чае. Когда кормили Четыреста седьмого, Рубашов видел белесый пар, подымавшийся вверх над бачком без крышки, и полупрозрачные ломтики лимона. Он снял пенсне и приник к глазку. Ему было видно четыре камеры — от Четыреста первой до Четыреста седьмой. Над дверьми тянулись металлические перила и за ними — камеры второго яруса. Справа опять появились баландеры — оказывается, они раздавали завтрак сначала заключенным нечетных камер, а теперь шли по его стороне. Настала очередь Четыреста восьмого, но Рубашов видел только спины охранников с пистолетными кобурами на поясных ремнях: баландеры и надзиратели стояли чуть дальше. Лязгнула дверь, теперь процессия приближалась к Четыреста шестой камере. Рубашов опять увидел баландеров, пар над чаем и корзину с хлебом. Они миновали Четыреста шестую — значит, камера была пустой; прошли, не останавливаясь, мимо Рубашова и двинулись дальше, к Четыреста второй.
Рубашов забарабанил в дверь кулаками. Баландеры, несущие чай, обернулись и нерешительно глянули друг на друга. Надзиратель сосредоточенно возился с замком, делая вид, что ничего не слышит. Охранники стояли к Рубашову спиной. Четыреста второй получил хлеб, и все шестеро явно собрались уходить. Рубашов застучал что было сил, потом сорвал с ноги ботинок и начал барабанить в дверь каблуком.
Высокий охранник не спеша оглянулся и безо всякого выражения посмотрел назад. Надзиратель захлопнул дверь камеры. Баландеры с чаем на секунду замешкались. Охранник дал приказание надзирателю, тот безразлично пожал плечами и медленно двинулся к рубашовской камере. Баландеры с чаем пошли за ним, третий баландер пригнулся к очку и что-то сказал Четыреста второму.
Рубашов отступил на шаг от двери, но ему внезапно расхотелось завтракать. Бачок с чаем уже не парил, а лимонные дольки в бледно-желтой жиже казались вконец раскисшими и осклизлыми.
В замочной скважине заскрежетал ключ, к очку приник человеческий глаз и сразу же исчез. Дверь открылась. Рубашов тем временем сел на койку и сейчас надевал снятый башмак. Надзиратель широко распахнул дверь, и высокий охранник шагнул в камеру. У него был круглый выбритый череп и пустой, ничего не выражающий взгляд. Сапоги и форменные ремни скрипели; Рубашову показалось, что он ощутил удушливый запах свежей кожи. Охранник остановился возле параши и не торопясь оглядел камеру, которая сразу сделалась меньше — просто от присутствия этого человека.
— Камера не убрана, — сказал охранник, — а вам наверняка известны инструкции.
— На каком основании я лишен завтрака? — Рубашов сквозь пенсне посмотрел на охранника и увидел по петлицам, что это следователь.
— Если вы хотите обратиться с просьбой, встаньте, — негромко проговорил следователь.
— У меня нет ни малейшего желания ни разговаривать с вами, ни обращаться к вам с просьбой, — ответил Рубашов, зашнуровывая ботинок.
— Тогда больше не стучите в дверь, иначе к вам будут применены обычные в таких случаях дисциплинарные меры. — Следователь снова оглядел камеру. — У заключенного нет тряпки для уборки, — проговорил он, обращаясь к надзирателю.
Надзиратель подозвал баландера с корзиной, что-то негромко ему приказал, и тот рысцой побежал по коридору. Подошли баландеры, разносившие чай, и, не скрывая любопытства, уставились на Рубашова. Второй охранник, тоже, видимо, следователь, так и не повернулся к рубашовской камере.
— У заключенного нет, между прочим, и завтрака, — сказал Рубашов, завязывая шнурок. — Ему не понадобится объявлять голодовку. Что ж, у вас гуманнейшие методы.
— Вы ошибаетесь, — проговорил следователь ровным, ничего не выражающим голосом. На его круглом выбритом черепе Рубашов увидел широкий шрам, а на груди — ленточку Ордена Революции. «Выходит, и ты участвовал в Гражданской войне», — с невольным уважением подумал Рубашов. А впрочем, все это было давно и не имеет теперь никакого значения.
— Вы ошибаетесь. Больным заключенным питание назначается после осмотра врача.
— У него зуб, — уточнил надзиратель. Он стоял, прислонившись к двери, в своих стоптанных набок валенках и заляпанной жирными пятнами форме.
— Понятно, — сказал Рубашов, сдерживаясь. У него вертелся на языке вопрос, давно ли передовая революционная медицина изобрела способ лечить больных принудительным голодом, но он промолчал. Ему было тошно от этого разговора.
В камеру вбежал запыхавшийся баландер и подал надзирателю заскорузлую тряпку. Тот взял ее и бросил к параше.
— Есть ли у вас еще какие-нибудь просьбы? — безо всякой иронии спросил следователь.
— Есть, — устало ответил Рубашов. — Избавьте меня от вашего присутствия. — Следователь двинулся к выходу. Надзиратель звякнул связкой ключей. Рубашов отвернулся и подошел к окну. Когда дверь, лязгнув, захлопнулась, он вспомнил, что о самом-то главном забыл, и, рванувшись к двери, застучал по ней кулаками.
— Бумагу и карандаш! — заорал он, приставив губы к смотровому глазку. Потом торопливо сдернул пенсне и посмотрел, остановились они или нет. Но, хотя кричал он изо всех сил, никто, видимо, его не услышал. Последнее, что он разглядел в очко, была спина высокого следователя с пистолетной кобурой на поясном ремне.
8
Рубашов размеренно ходил по камере — шесть с половиной шагов к окну, шесть с половиной шагов обратно. Его растревожил разговор со следователем, и теперь, потирая пенсне о рукав, он припоминал каждое слово. Следователь вызвал в нем вспышку ненависти, и он хотел сохранить это чувство: оно помогло бы ему бороться. Однако застарелая пагубная привычка становиться на место своего противника принуждала его разглядывать себя глазами только что ушедшего следователя. Вот он сидел тут, этот бывший — наглый, самонадеянный бородатый человечишка, — и с вызывающим видом натягивал ботинок, демонстрируя драные вонючие носки. Да, у него. были заслуги в прошлом, но тот, уважаемый всеми Рубашов, произносивший с трибун пламенные речи, очень уж отличался от этого, в камере. «Так вот он какой, легендарный Рубашов, — думал Рубашов за следователя со шрамом. — Хнычет, как школьник, что его не накормили. А в камере грязь. На носках — дырки. Типичный мягкотелый интеллигентишка-нытик. Принципиальный или нанятый — разницы-то нету — враг установленных законом порядков. Нет, не для таких мы делали Революцию. Он нам помог ее делать, верно — в те времена он был бойцом, — но сейчас эту самовлюбленную развалину, этого заговорщика пора ликвидировать. А может, и раньше он только представлялся — сколько их вспенилось, мыльных пузырей, которые потом с треском полопались. Да разве уважающий себя человек будет сидеть в неубранной камере?» Рубашов подумал, не вымыть ли пол. Несколько секунд он стоял в нерешительности, потом потер пенсне о рукав, надел его и медленно подошел к окну.
Сероватый, по-зимнему неяркий свет смягчил зловещую желтизну фонарей; казалось, что днем выпадет снежок. Было около восьми утра, значит, Рубашов вступил в эту камеру всего-навсего три часа назад. Двор окружали тюремные корпуса; тускло чернели зарешеченные окна;
Вероятно, за ними стояли заключенные и так же, как он, смотрели во двор; но ему не удавалось их разглядеть. Снег во дворе серебрился настом, под ногами он стал бы весело похрустывать. По обеим сторонам узкой тропы, которая огибала заснеженный двор примерно в десяти шагах от стен, возвышались белые холмистые насыпи. На сторожевой дорожке внешней стены шагал туда и обратно часовой. Один раз, поворачивая назад, он плюнул — плевок описал дугу, и часовой с любопытством посмотрел вниз.
«Пагубная болезнь, — думал Рубашов. — Революционер не может считаться с тем, как другие воспринимают мир».
Или — может? И даже должен?
Да, но отождествляя себя с другими, он не сможет изменить мир.
Или — только тогда и сможет?
Тот, кто понимает других — и прощает, — может ли он решительно действовать?
Или — не может никто другой?
Значит, расстрел, — думал Рубашов. — Мои побуждения никого не интересуют». Он прислонился лбом к окну. Двор внизу был безмолвным и белым.
Несколько минут он стоял неподвижно, бездумно прижимаясь к льдистому стеклу. А потом до его сознания дошло, что он слышит негромкий, но настойчивый стук.
Он оглянулся и напряженно прислушался. Постукивание было таким осторожным, что сначала ему не удавалось понять, справа или слева оно рождается. А пока он соображал, постукивание стихло. Тогда он начал стучать сам — в стенку у параши, Четыреста шестому, но не получил никакого ответа. Он подошел к противоположной стене, отделяющей его от Четыреста второго, и, перегнувшись через койку, тихонько постучал. Четыреста второй сразу же откликнулся. Рубашов удобно устроился на койке — так, чтобы все время видеть очко, — и с бьющимся сердцем принялся слушать. Он всегда волновался при первых контактах.
Четыреста второй явно вызывал его: три удара — небольшая пауза, опять три удара — снова пауза, и опять три удара с короткими интервалами. Рубашов аккуратно повторил всю серию, давая понять, что сигнал принят, Ему не терпелось поскорее выяснить, знает ли сосед «квадратическую азбуку», — если она была ему не знакома, обучение продлилось бы довольно долго. Массивная стена глушила звук, и Рубашову, для того чтобы слышать соседа, приходилось прижиматься к ней головой, да при этом внимательно следить за глазком. Четыреста второй был явно ветераном: он отстукивал буквы неторопливо и четко, каким-то нетяжелым, но твердым предметом, скорее всего огрызком карандаша. Рубашов практиковался очень давно и сейчас, считая размеренные удары, старался представить себе всю азбуку, расчерченную на шесть горизонтальных прямоугольников с шестью буквами в каждом из них. Четыреста второй стукнул два раза: второй прямоугольник — от Е до К; потом, после короткой паузы, шесть: шестая буква в ряду — К. Пауза подлиннее, четыре удара, то есть прямоугольник от С до Ц; короткая пауза, и два удара: вторая буква в ряду — Т. Длинная пауза, и три удара: третий прямоугольник, от Л до Р; короткая пауза, и четыре удара, то есть четвертая буква — О. Четыреста второй замолчал.
кто
«Практичный человек, — подумал Рубашов, — узнает, с кем он имеет дело». Правда, по законам революционной этики разговор начинался с программного лозунга, представлявшего политическую платформу собеседника, потом сообщались последние новости, потом — сведения о еде и куреве, и только потом, через несколько дней — да и то не всегда — арестанты знакомились. Впрочем, все это случалось в странах, где Партия, как правило, была нелегальной и уж во всяком случае не стояла у власти, — так что ее члены, ради конспирации, знали друг друга только по кличкам. Здесь обстоятельства были иными, и Рубашов не знал, как ему поступить. Четыреста второй потерял терпение:
кто
снова простучал он.
А зачем скрывать, подумал Рубашов. Он медленно отстукал свое полное имя:
николай залманович рубашов
и стал с интересом ждать результата.
Пауза тянулась довольно долго. Рубашов улыбнулся — он представил себе, как огорошен его сосед. Минута молчания, две, три; Рубашов пожал плечами и встал. Он снова начал шагать по камере, но при каждом повороте на секунду замирал — и слушал. Стена упорно молчала. Тогда он потер пенсне о рукав, устало подошел к смотровому глазку и выглянул в коридор.
Безлюдье и тишина. Мертвый электрический блеск. Ни звука. Почему же Четыреста второй замолчал?
Почему? Да, наверное, просто от страха — ведь Рубашов мог его скомпрометировать. Тихий беспартийный инженер или врач, панически сторонившийся всякой политики. У него не было политического опыта, иначе не спросил бы фамилии. А взят по мелкому делу о саботаже. Впрочем, взят-то, видимо, давно — перестукиваться он научился мастерски — и вот до сих пор надеется доказать свою полнейшую непричастность к саботажу. Все еще наивно, по-обывательски верит, что виновность или невиновность личности может серьезно приниматься во внимание, когда решаются судьбы мира. По всей вероятности, он сидит на койке, сочиняя сотое заявление прокурору, которое никто не удосужится прочитать, или сотое письмо жене, которого она никогда не получит; он давно перестал бриться, оброс бородой, черной и неопрятной, обкусал до мяса нечистые ногти, а полубезумные эротические видения томят его и ночью и днем. В тюрьме сознание своей невиновности очень пагубно влияет на человека — оно не дает ему притерпеться к обстоятельствам и подрывает моральную стойкость… Внезапно стук раздался снова.
Рубашов сел на койку и вслушался, но он уже пропустил две первые буквы. Четыреста второй стучал торопливо и не так отчетливо, как в первый раз, — ему мешало крайнее возбуждение.
…вно пора
«Давно пора»? Этого Рубашов никак не ожидал. Четыреста второй оказался ортодоксом. Он добропорядочно ненавидел оппозицию и верил, как предписывалось, что поезд истории неудержимо движется по верному пути, который гениально указал Первый. Он верил, что и его собственный арест, и все бедствия — от Испании до Китая, от зверского истребления старой гвардии до голода, погубившего миллионы людей, — результат случайных ошибок на местах или дьявольски искусных диверсий, совершенных Рубашовым и его приверженцами. Черная неопрятная борода исчезла: верноподданническое лицо Четыреста второго было выбрито, камера убрана — строго в соответствии с тюремными предписаниями. Переубеждать его не имело смысла: он принадлежал к породе твердолобых. Но обрывать единственную — а возможно, и последнюю — связь с миром тоже не хотелось, и Рубашов старательно простучал:
кто
Ответ прозвучал торопливо и неразборчиво:
а это не твое собачье дело
вам видней,
ответил Рубашов и, поднявшись, снова зашагал по камере, резонно считая, что разговор окончен. Однако стук послышался снова, на этот раз громкий и четкий — видимо, взволнованный Четыреста второй, для придания большего веса словам, стучал снятым с ноги ботинком:
да здравствует его величество император
Вот это да, изумился Рубашов. Так значит, Первый не всегда их выдумывал, чтобы прикрывать свои вечные промахи. Воплощением его горячечных фантазий за стеной сидел контрреволюционер и, как ему и полагалось, рычал: «Да здравствует Его Величество Император!».
аминь,
улыбаясь, отстукал Рубашов. Ответ прозвучал немедленно:
мерзавец
— и, пожалуй, даже громче величания.
Рубашов забавлялся. Он снял пенсне и, для того чтобы резко изменить тон, простучал в стенку металлической дужкой — нарочито медленно и очень отчетливо:
я или его величество император
Четыреста второго душило бешенство. Он начал выстукивать собака, сбился, но потом его ярость неожиданно схлынула, и он простучал:
за что вас взяли
«Трогательная наивность», — подумал Рубашов. Лицо соседа опять изменилось. Теперь он выглядел юным поручиком — хорошеньким и глупым. В глазу — монокль. Рубашов отстукал дужкой пенсне:
политический уклон
Короткая пауза. Офицер искал саркастическую реплику. Она не замедлила явиться:
браво волки начали пожирать друг друга
Рубашов не ответил. Хватит, надоело; он встал и принялся шагать по камере. Но Четыреста второй вошел во вкус. Он простучал:
послушайте рубашов
А это уже граничило с фамильярностью. Рубашов коротко ответил:
да
Видимо, Четыреста второй колебался, но все же он отстукал длинную фразу;
когда вы последний раз провели ночь с женщиной
Да, он наверняка носит монокль; возможно, им-то он и стучал, причем его оголенный глаз нервно, в такт ударам, подергивался. Однако Рубашов не почувствал отвращения. По крайней мере, человек открылся — перестал кликушески прославлять монарха. Он ответил:
три недели назад
четыреста второй нетерпеливо простучал:
расскажите
Это уже было чересчур. Рубашов решил прекратить разговор, но понял, что тогда оборвется связь с Четырехсотым и другими заключенными. Ведь Четыреста шестая пустовала. Поначалу он не нашелся с ответом. А потом вспомнил довоенную песенку, которую слышал еще студентом, — она сопровождала французский канкан, исполняемый девицами в черных чулочках:
груди что чаши с пенным шампанским
Он надеялся, что соседу понравится. Так и случилось — тот простучал:
валяйте дальше побольше подробностей
Он, без сомнения, сидел на койке и нервно пощипывал офицерские усики. У него обязательно были усики с лихо закрученными вверх концами. Вот невезение — этот чертов поручик связывает его с другими заключенными, так что ему придется угождать. О чем говорили между собой офицеры? О женщинах. Ну, и конечно, о лошадях. Рубашов потер пенсне о рукав, потом добросовестно отстукал продолжение:
бедра как у дикой степной кобылицы
И замолчал: его фантазия истощилась. Больше он ничего придумать не смог. Но Четыреста второй был явно счастлив.
великоле…
невнятно простучал он. Он, без сомнения, радостно ржал — и поэтому не смог закончить слово; но в рубашовской камере стояла тишина. Без сомнения, он хлопал себя по коленкам и весело теребил офицерские усики, но Рубашов видел лишь голую стену — мерзко непристойную в своей наготе.
валяйте дальше, попросил поручик.
Однако рубашовская изобретательность иссякла.
хватит,
холодно простучал он — и тут же пожалел о своей резкости. Ведь это связной — его нельзя оскорблять. К счастью, Четыреста второй не оскорбился.
прошу вас,
лихорадочно отстукал он.
Рубашов больше не считал удары: они автоматически превращались в слова. Он как бы слышал голос соседа, умолявший его об эротическом вдохновении. Мольба продолжалась:
дальше прошу вас
Да, он был еще очень молоденьким — скорее всего сын эмигрантов, посланный на родину с фальшивым паспортом, — и теперь он, видимо, ужасно страдал. Он вставил в глаз свой глупенький монокль, нервно пощипывал офицерские усики, обреченно смотрел на беленую стену…
прошу вас
…беленую голую стену — и вот уже пятна сырости на известке приобрели очертания обнаженной женщины с бедрами, как у дикой степной кобылицы, и грудями, что чаши с пенным шампанским.
прошу вас дальше прошу вас прошу вас
Возможно, он стал коленями на койку и протянул руки — как Четыреста седьмой, когда он тянулся за пайкой хлеба.
И сейчас Рубашов наконец-то вспомнил, где он видел этот молящий жест худых протянутых рук… Пиета!
9
Пиета… Северогерманский город, картинная галерея; понедельник, утро. В зале ни души, только он, Рубашов, да молодой партиец, пришедший на встречу, — они сидели на круглом диванчике, окруженные тоннами женской плоти, когда-то вдохновлявшей фламандских живописцев. Страна замерла в тисках террора 1933 года; вскоре после встречи Рубашова арестовали. Движение в Германии было разгромлено, объявленных вне закона партийцев выслеживали, ловили и безжалостно убивали. Партия распалась: она походила на тысячеголовое умирающее животное — бессильное, затравленное, истекающее кровью. И как у смертельно раненного животного бессмысленно, в конвульсиях, дергаются конечности, так отдельные ячейки Партии корчились в судорогах последнего сопротивления. По всей стране были рассеяны группки, чудом уцелевшие во время катастрофы, и вспышки подпольной борьбы продолжались. Партийцы встречались в лесах и подвалах, на станциях метро, вокзалах и полустанках, в музеях, пивных и спортивных клубах. Они постоянно меняли квартиры и знали друг друга только по кличкам. Каждый зависел от своих товарищей, и никто никому ни на грош верил. Они тайно печатали листовки, пытаясь убедить себя и других, что борьба продолжается, что они еще живы. Они прокрадывались в улочки предместий и писали на стенах старые лозунги, пытаясь доказать, что они еще живы. Они карабкались на фабричные трубы и вывешивали наверху свои старые флаги, пытаясь доказать, что еще живы. Немногие решались читать листовки — это были послания мертвецов; лозунги стирали, флаги срывали, но и те и другие появлялись снова. Потому что во всех районах страны оставались разрозненные группки людей, метко называвших себя «предсмертниками», которые посвятили остаток своей жизни доказательству того, они еще живы.
У этих группок не было связи — Партия агонизировала, — но они действовали. И их конвульсиями пытались управлять. Из-за границы прибывали респектабельные дельцы с фальшивыми паспортами и тайными инструкциями — Курьеры. Их ловили и убивали. Вместо убитых приезжали новые. Остановить агонию было невозможно, но лидеры Движения, сидевшие за границей, целенаправленно гальванизировали Партию, чтоб не пропали даром ее предсмертные судороги.
Пиета… Рубашов расхаживал по камере, забыв о существовании Четыреста второго, — он перенесся в картинную галерею с запахом пыли и паркетной мастики. Он приехал на встречу прямо с вокзала — за несколько минут до условленного срока. Он был уверен, что не привел «хвоста». Свой чемоданчик с образцами продукции датской фирмы зубоврачебных инструментов он оставил в камере хранения. Сидя на круглом плюшевом диванчике, он рассматривал сквозь пенсне холсты, заполненные женскими телесами, — и ждал.
Молодой человек, известный как Рихард, возглавлявший партийную группку города, опаздывал уже на несколько минут. Он никогда не видел Рубашова — так же как Рубашов не видел его. Опознавательным знаком служила книга, которую Рубашов держал на коленях, — карманное издание гетевского «Фауста». Наконец молодой человек пришел: он увидел книгу, пугливо огляделся и присел на край плюшевого диванчика — примерно в двух шагах от Рубашова; свою фуражку он положил на колени. Молодой человек работал слесарем, но сейчас он надел воскресный костюм, потому что посетитель в рабочем комбинезоне неминуемо привлек бы к себе внимание.
— Я не мог прийти в назначенное время, — проговорил молодой человек, — извините.
— Ладно, неважно, — ответил Рубашов. — Давайте начнем с состава группы. Вы захватили список людей?
Молодой человек, известный как Рихард, покачал головой:
— Какие там списки! Адреса и фамилии я знаю на память.
— Ладно, неважно, — сказал Рубашов. — Хотя и вас ведь могут арестовать.
— Список-то есть, — ответил Рихард. — Я отдал его на хранение Анни. Она моя жена, вот какое дело.
Рихард умолк и сглотнул слюну, резко дернулся его острый кадык. Потом он поднял глаза на Рубашова — в первый раз с тех пор, как пришел, — воспаленные, немного навыкате глаза с белками в сетке розоватых прожилок. Его худые щеки и подбородок покрывала невыбритая утром щетина.
— Они ее забрали, сегодня ночью, вот какое дело, — проговорил Рихард, по-прежнему глядя в глаза Рубашову, и Рубашов прочел в этом взгляде надежду, что он, Курьер Центрального Комитета, совершит чудо и спасет Анни. Рубашов потер пенсне о рукав.
— Вот как? И список попал в полицию?
— Да нет, — ответил Рихард, — не попал. Когда они пришли ее забирать, в квартире была еще моя свояченица, и Анни успела передать ей список, вот какое дело. Свояченица — наша; зато у ней муж служит в полиции, вот какое дело; ее не тронут.
— Ладно, неважно, — сказал Рубашов. — А вы что делали во время ареста?
— Меня там не было, — ответил Рихард, — я уже три месяца не живу дома, вот какое дело. У меня есть друг; ну и вот, а работает он киномехаником, и, когда вечерние сеансы кончаются, я пробираюсь спать в его будку. Я залезаю туда со двора, по пожарной лестнице… И кино бесплатно. — Он умолк и сглотнул слюну. — Мой друг и Анни давал билеты, бесплатно; а она, как потушат свет, все оборачивалась и смотрела назад. Меня-то она разглядеть не могла, зато я иногда видел ее лицо — если на экране было много света, вот какое дело…
Рихард умолк. Напротив них висела картина, изображавшая сцену Страшного Суда, — кудрявые херувимы с жирными задами выдували из труб грозовые вихри. Слева виднелся рисунок пером какого-то старого немецкого мастера, но он был закрыт, головой Рихарда и спинкой зеленого плюшевого диванчика; Рубашов рассмотрел только руки Мадонны — худые, протянутые вперед руки с чуть согнутыми, сложенными горстью ладонями да кусочек пустого заштрихованного неба. Рихард все время сидел неподвижно, немного склонив обветренную шею.
— Вот как? А сколько ей лет, вашей жене?
— Семнадцать.
— Вот как? А вам?
— Девятнадцать.
— И дети есть? — Рубашов чуть вытянул шею, пытаясь учше рассмотреть рисунок, однако это ему не удалось.
— Анни беременная, — ответил Рихард. — Это наш первый. — Он сидел неподвижно, напоминая отлитую из свинца статуэтку.
Они помолчали, потом Рубашов попросил продиктовать ему список партийцев. Рихард назвал человек тридцать. Рубашов задал пару вопросов и внес несколько фамилий с адресами в книгу заказчиков датской фирмы, делавшей инструменты для зубных врачей. У него был заранее заготовленный перечень городских дантистов с пропущенными строчками, — их-то он теперь и заполнил. Немного подождав, Рихард сказал:
— А теперь я отчитаюсь о нашей работе. — Ладно, давайте, — согласился Рубашов. Рихард сделал подробный доклад. Он сидел совершенно неподвижно, немного ссутулившись и наклонившись вперед, а его красные рабочие руки тяжело и устало покоились на коленях. Он рассказывал о флагах и лозунгах, о листовках, расклеенных в заводских уборных, — монотонно и тускло, словно счетовод. Напротив него толстозадые ангелы недвижимо плавали в грозовых вихрях, которые они сами же и выдували; слева, скрытая диванной спинкой, протягивала худые руки Мадонна, и со всех сторон их окружала плоть — мясистые ляжки, мощные бедра и огромные груди фламандских женщин.
«Груди, что чаши с пенным шампанским», — вспомнилось Рубашову. Он остановился — на третьей черной плитке от окна — и прислушался. Четыреста второй молчал. Рубашов подошел к дверному глазку и выглянул — туда, где Четыреста седьмой протягивал за хлебом худые руки. Он увидел черный зрачок очка и стальную дверь запертой камеры. Коридор тонул в глухом безмолвии и бесцветном блеске электрических ламп; было почти невозможно поверить, что за дверьми камер живут люди.
Рубашов терпеливо слушал Рихарда. Из тридцати партийцев, переживших катастрофу, в группке осталось семнадцать человек. Двое — рабочий и его жена, — догадавшись, что их пришли забирать, выбросились из окна и разбились. Один дезертировал — уехал, исчез. Двоих считали агентами полиции, но точно никто ничего не знал. Трое сами вышли из Партии, выразив свой категорический протест против политики Центрального Комитета. Четверых и жену Рихарда, Анни, взяли накануне рубашовского приезда; причем двоих сразу же убили. Семнадцать оставшихся расклеивали листовки, вывешивали флаги и писали лозунги.
Рихард рассказывал очень подробно — так, чтобы Курьер Центрального Комитета понял структуру связей в группе и причины наиболее важных акций; он не знал, что у Центрального Комитета имелся свой осведомитель в группе, который ввел Рубашова в курс дела. Он не знал, что этим осведомителем был его друг, киномеханик, давно уже спавший с его женой. Рихард не знал, но Рубашов знал. Партия как организация умерла, выжил единственный партийный орган — Комитет Контроля и Контрразведки — и возглавлял его именно Рубашов. Этого Рихард тоже не знал — он знал, что его Анни арестована, но лозунги и листовки должны появляться, что товарищу из Центрального Комитета Партии следует доверять, как родному отцу, но открыто показывать свою веру нельзя, так же как нельзя проявлять слабость. Потому что чувствительные и слабые люди не годились для борьбы за всеобщее счастье: их безжалостно сметали с пути — в одиночество и тьму беспартийного мира.
Коридор наполнился стуком шагов. Рубашов быстро подошел к двери и, сняв пенсне, заглянул в очко. Двое охранников с кобурами на ремнях вели по коридору деревенского парня; следом за ними шагал надзиратель, негромко позвякивая связкой ключей. Один глаз у парня заплыл, на верхней губе запеклась кровь; проходя мимо Рубашовской камеры, он вытер кровоточащий нос; лицо его было тупо терпеливым. Процессия скрылась, потом в отдалении отворилась и с лязгом захлопнулась дверь. Надзиратель и охранники прошли обратно.
Рубашов принялся шагать по камере, и память снова унесла его в прошлое: над ним сомкнулась тишина музея — Рихард закончил свой длинный доклад. Он сидел неподвижно, в двух шагах от Рубашова, положив руки на колени, и ждал. Казалось, он только что закончил исповедь и готовился принять благословение исповедника. Рубашов довольно долго молчал. Потом негромко спросил:
— Все?
Рихард кивнул, его кадык дернулся.
— Кое-что мне в докладе не совсем ясно, — сказал Рубашов, — давайте уточним. Вы упоминали о своих листовках. Их неоднократно и резко критиковали. Там имеется несколько положений, которые не могут быть одобрены Партией.
Рихард испуганно посмотрел на Рубашова. На щеках у него выступили красные пятна; прожилки, испещрившие глаз, обозначились еще отчетливей и резче. С другой стороны, — продолжал Рубашов, — мы постоянно посылали вам материалы, специально предназначенные для раздачи населению; среди них были пропагандистские брошюры, изданные Центральным Комитетом Партии. Вы получали эти издания?
Рихард кивнул. Его лицо горело.
— Вы не распространяли наши материалы, а сейчас ни словом о них не обмолвились. Вы предпочли распространять свои — не только не одобренные, но осужденные Партией.
— У н-н-нас же н-н-не было д-другого в-выхода, — выговорил Рихард с большим трудом. Рубашов внимательно посмотрел на него; он не замечал, что парень заикается. Вот ведь странно, пришло ему в голову, третий случай за две недели. Интересно, обстоятельства так на них подействовали или само Движение привлекает дефективных?
— В-в-вы сами д-д-должны п-понять, т-товарищ, — продолжал Рихард с возрастающим отчаянием, — у в-в-вашей п-пропаганды н-неправильный тон…
— Успокойтесь, — резко сказал Рубашов. — Говорите тише и не смотрите на дверь.
У входа в зал появилась пара — высокий юнец из преторианской гвардии и с ним дебелая юная блондинка; он обнимал девушку за талию, а она положила ему руку на плечо. Они остановились у картины с херувимами, спиной к Рубашову и его собеседнику.
— Продолжайте говорить, — приказал Рубашов тихим, но совершенно спокойным голосом и машинально вынул из кармана папиросы. Потом, вспомнив, что здесь не курят, опять положил пачку в карман. Рихард, словно разбитый параличом, завороженно смотрел на вошедших. — Вы давно заикаетесь? — спросил Рубашов и жестким шепотом прошипел: — Отвечайте! И сейчас же прекратите на них таращиться!
— С-с-с-с д-детства, в-временами, — ответил Рихард. Пара медленно продвигалась к диванчику. Она задержалась у пышной женщины, лежащей без одежды на атласной кушетке, с головой, повернутой в зал, к зрителю. Преторианец сказал что-то смешное, потому что девушка негромко хихикнула, мимолетно оглянувшись на Рубашова и Рихарда. Потом они прошли чуть дальше, к натюрморту с фруктами и мертвым фазаном.
— Может, уйдем? — прошипел Рихард.
— Сидите, — коротко сказал Рубашов. Он боялся, что Рихард, встав, чем-нибудь обязательно себя выдаст. — Мы сидим против света, наших лиц не видно. Вздохните, да поглубже. Это помогает.
Девушка все еще продолжала хихикать, и пара медленно двигалась вперед. Проходя, они посмотрели на сидящих. Потом вроде бы собрались уходить, но девушка показала пальцем на Пиету, и оба остановились около рисунка.
— Это очень мешает, когда я заикаюсь? — спросил Рихард, опустив голову.
— Владейте собой, — ответил Рубашов. Он не хотел, чтобы их разговор приобрел оттенок дружеской беседы.
— Ничего, через пару минут пройдет, — пообещал Рихард, и его кадык дернулся. — Анни тоже потешалась надо мной, когда я заикался, вот какое дело.
Пока пара оставалась в их зале, Рубашов не мог направлять разговор. Спина преторианца в черной форме прочно пригвоздила его к диванчику. Но угроза, нависшая над ними обоими, помогла Рихарду преодолеть неловкость: он даже пересел поближе к Рубашову.
— Ну, а все-таки она меня любила, — добавил он шепотом и почти не заикаясь. — Хотя я никогда ее не понимал. Она не хотела, чтоб у нас был ребенок, да только с абортом ничего не получилось. И может, теперь, раз она беременная, они ничего ей плохого не сделают? Правда, сейчас еще не очень заметно, вот какое дело, но понять можно. Неужели они и беременных бьют?
Кивком головы он указал на юнца, а тот в это время посмотрел назад. Их взгляды встретились. Рихард замер. Потом преторианец наклонился к блондинке и что-то шепнул ей, она оглянулась. Рубашов опустил руку в карман и судорожно сжал пачку папирос. Девушка тихо ответила спутнику и решительно потянула его вперед. и подчинился, но с явной неохотой. Они медленно вышли из зала, еще раз послышалось приглушенное хихиканье, и их шаги заглохли в отдалении.
Рихард повернулся и проводил их взглядом. Теперь, когда он изменил позу, Рубашов лучше рассмотрел рисунок — бесплотные руки девы Марии с мольбой тянулись к невидимому кресту.
Рубашов мельком глянул на часы. Рихард непроизвольно отодвинулся подальше.
— Итак, — негромко сказал Рубашов, — если я вас правильно понял, вы сознательно скрывали материалы, рекомендованные Партией для распространения, потому что не соглашались с их содержанием. А мы в свою очередь решительно не согласны с содержанием печатавшихся вами листовок. Выводы напрашиваются сами собой.
Рихард поднял на него глаза — воспаленные, иссеченные розоватыми жилками.
— Вы же сами понимаете, товарищ, что в ваших брошюрах понаписаны глупости. — Голос Рихарда звучал безжизненно. Однако заикаться он совсем перестал.
— Нет, этого я не понимаю, — спокойно и сухо возразил Рубашов.
— Ваши брошюры написаны так, как будто с нами ничего не случилось, — бесцветным голосом настаивал Рихард. — Нам устроили кровавую бойню, а вы толкуете про жестокие битвы да про нашу несгибаемую волю к победе — то же самое писали в газетах перед самым концом Мировой войны… Люди прочтут и станут плеваться. Да вы ведь и сами это понимаете.
Рубашов искоса глянул на Рихарда — тот сидел, пригнувшись вперед, утвердив на коленях острые локти и подперев подбородок красными кулаками. Рубашов все так же сухо сказал:
— Вы пытаетесь — во второй уже раз — приписать мне ваше понимание событий. Прошу вас больше этого не делать.
Рихард поднял на него взгляд — в его покрасневших и воспаленных глазах светилось недоверие. А Рубашов продолжал:
— Партия ведет жестокую битву. Хотя другие революционные партии вели битвы и пострашнее этой. Решающим фактором в подобных битвах является несгибаемая воля к победе. Слабовольным, нестойким и чувствительным людям не место в рядах партийных бойцов. Тот, кто пытается сеять панику, объективно играет на руку врагам. Каковы его субъективные побуждения, не играет решительно никакой роли. Он приносит вред Партии, и к нему будут относиться соответственно.
Рихард, опираясь подбородком на кулак, неподвижно смотрел в глаза Рубашову.
— Я приношу вред Партии? Я играю на руку врагам? Так, может, я им, по-вашему, продался? Я или, например, моя Анни?
— В ваших листовках, — продолжал Рубашов все тем же сухим и официальным тоном, — которые, как вы сами же и признали, сочинены вами, говорится следующее: «Мы потерпели полное поражение, мы разбиты. Партия уничтожена; и теперь, чтобы начать сначала, нам надо круто изменить политику…» — А мы называем это пораженчеством. Такие настроения деморализуют Партию и подрывают ее боевой дух.
— Я знаю одно, — сказал Рихард, — людям надо говорить правду. Тем более когда она всем известна. Тут уж скрывать ее и вовсе глупо.
— На недавно закончившемся Съезде Партии, — не меняя тона, продолжал Рубашов, — принята резолюция о тактическом отступлении. Цель маневра — избежать поражения. Съезд отметил, что в настоящее время нецелесообразно менять стратегию.
— Да ведь это же все вранье, — сказал Рихард. — В таком тоне, — оборвал его Рубашов, — я не могу продолжать разговор.
Рихард не ответил. В зале темнело, очертания херувимов и женских тел становились расплывчатыми и блекло-серыми.
— Простите, — после паузы выговорил Рихард. — Я хотел сказать, что это ошибка. Вы толкуете о «тактическом отступлении», а большинство наших лучших людей уничтожено; вы толкуете о правильной стратегии, а те, кто выжил, так испугались, что толпами переходят на сторону врагов. От ваших резолюций — там, за границей — здесь никому легче не становится.
Сумерки смазали черты его лица. Он помолчал и потом добавил:
— По-вашему, Анни тоже «отступила»? Пожалуйста, товарищ, должны же вы понять — нас тут травят, как диких зверей…
Рубашов не прерывал его. Но Рихард умолк. Сумерки сгустились в тяжелый сумрак. Рубашов потер пенсне о рукав.
— Партия не ошибается, — сказал он спокойно. — У отдельных людей — у вас, у меня — бывают ошибки. У Партии — никогда. Потому что Партия, дорогой товарищ, это не просто группа людей. Партия — это живое воплощение революционной идеи в процессе истории. Неизменно косная в своей неукоснительности, она стремится к определенной цели. И на каждом повороте ее пути остаются трупы заблудившихся и отставших. История безошибочна и неостановима. Только безусловная вера в Историю дает право пребывать в Партии.
Рихард молчал; опершись на кулаки, он не отводил взгляда от Рубашова. Немного переждав, Рубашов закончил:
— Вы скрывали наши материалы, вы зажимали нам рот. В ваших листовках каждое слово — неверно, а значит, вредоносно и пагубно. Вы писали: «Движение сломлено, поэтому сейчас все враги тирании должны объединиться». — Это заблуждение. Партия не может объединяться с умеренными. Они неоднократно предавали Движение — и будут предавать его неизменно. Тот, кто заключает с ними союз, хоронит Революцию. Вы говорили: в доме начинается пожар, с огнем должны бороться все; если мы будем спорить о методах, дом сгорит». Это заблуждение. Мы заливаем пожар водой, другие подливают в огонь масла. Поэтому, раньше чем объединяться, надо решить, чей метод правилен. Пожарным нужен холодный ум. Ярость и отчаяние — плохие советчики. Партийный курс определен точно — он, как тропа среди горных ущелий. Тот, кто сделает неверный шаг — вправо или влево, — сорвется в пропасть. На пожаре и в горах необходима устойчивость: закружилась голова — и человек погиб.
Вечерний сумрак еще уплотнился, Рубашов не видел рук Мадонны. Дважды продребезжал хриплый звонок — через четверть часа музей закрывался. Рубашов глянул на свои часы; ему оставалось произнести приговор, и на этом встреча будет закончена. Рихард, упершись локтями в колени, молча и неподвижно смотрел на Рубашова.
— Да, — сказал он после долгой паузы, — тут мне с вами спорить не приходится. — Его голос был усталым и тусклым. — Тут вы правы, что и говорить. И про узкую дорожку в горах — тоже… Только мы-то все равно разбиты. А тот, кто остался живой, — дезертирует. Может, потому, что на нашей тропке, в горах-то, было очень уж холодно. Другие — у них и музыка, и знамена, и яркие костры по ночам, чтоб погреться. Может, поэтому они и победили. А мы, хоть и на правильной дороге, да угробились.
Рубашов молчал. Он хотел узнать, не скажет ли Рихард чего-нибудь еще, а уж потом объявить окончательный приговор. Правда, приговор был предрешен — и все же Рубашов терпеливо ждал.
Темнота скрадывала мощную фигуру отодвинувшегося еще дальше Рихарда; он сидел совершенно неподвижно, его широкие плечи ссутулились, локти твердо упирались в колени, а ладони почти закрывали лицо. Рубашов не шевелился и молча ждал. У него немного ломило челюсть — видимо, разбаливался глазной зуб. Немного погодя Рихард спросил:
— Ну и что же со мной теперь будет?
Рубашов прикоснулся к зубу языком. Ему хотелось потрогать его пальцем, но он сдержался и бесстрастно сказал:
— Мне поручено сообщить вам, Рихард, что Центральный Комитет вынес постановление отныне не считать вас членом Партии.
Рихард не шевельнулся, Рубашов тоже; однако через пару минут он поднялся. Рихард вскинул голову и спросил:
— Значит, для этого-то-вы и приехали?
— В основном, да, — ответил Рубашов. Ему давно было пора уйти, но он все стоял у диванчика и ждал.
— Так что со мной будет? — повторил Рихард. Рубашов промолчал, и Рихард спросил:
— В кинобудке мне больше нельзя ночевать?
Рубашов, немного поколебавшись, ответил:
— Да, лучше не надо, Рихард.
И почти сразу же пожалел о сказанном, притом он Новее не был уверен, что Рихард правильно его поймет. Посмотрев вниз, на ссутуленную фигуру, он закончил:
— Что ж, пора. Выйдем порознь. Всего хорошего.
Рихард выпрямился, но не встал. В темноте Рубашов мог только угадывать, какие чувства выражал взгляд воспаленных, немного навыкате глаз; однако этот отчаявшийся рабочий, окутанный тяжелым вечерним сумраком, отпечатался в его сознании навсегда.
Рубашов вышел из фламандского зала; миновал следующий, такой же темный; под ногами тонко поскрипывал паркет. Пиету он так и не удосужился рассмотреть: худые протянутые руки Марии — вот и все, что ему запомнилось.
У выхода он на минуту остановился. Было зябко, Побаливал зуб. Он поплотнее обмотал вокруг шеи выцветший от времени шерстяной шарф. На улицах уже зажглись фонари; просторная площадь перед зданием музея казалась огромной и совершенно безлюдной; вдоль улицы, обсаженной старыми вязами, громыхая и позванивая, катился трамвай. «Интересно, найду ли я здесь такси», — подумал Рубашов, спускаясь к тротуару.
На последней ступеньке запыхавшийся Рихард догнал и робко пошел с ним рядом. Рубашов, как бы не замечая спутника, спокойно и размеренно двигался вперед. Рихард был выше и мощнее Рубашова, но сейчас, для чтобы казаться меньше, он нарочно горбился и укорачивал шаги. Собравшись с духом, он задал вопрос:
— Скажите, это было предупреждение, когда я спросил про моего друга, можно ли мне у него ночевать, а вы ответили, что «лучше не надо»?
Рубашов заметил свободное такси и, свернув, подошел к краю тротуара. Рихард остановился возле него.
— Я сообщил вам все, что мог, — сказал Рубашов и поднял руку.
— В-в-вы об-б-бъявите меня в-врагом? Т-товарищ, т-так же н-нельзя, т-т-товарищ!.. — Такси начало понемногу притормаживать — до него оставалось метров пятнадцать. Рихард заглядывал Рубашову в лицо, он горбился и крепко держал его за рукав. Рубашов чувствовал на своем лбу горячее и влажное дыхание Рихарда.
— Они же с-сожрут меня, эти в-волки, я же не в-враг П-а-партии, т-товарищ!
Машина затормозила; было очевидно, что шофер слышал последнее слово. Отсылать его не имело смысла: впереди, как раз по ходу движения и совсем недалеко, стоял полицейский. Таксист, старик в кожаном пальто, смотрел на Рубашова без всякого интереса.
— На вокзал, пожалуйста, — сказал Рубашов. Шофер перегнулся через спинку сиденья и захлопнул за Рубашовым заднюю дверь. Рихард стоял у края тротуара; он до сих пор не надел фуражку; его кадык судорожно дергался. Машина тронулась, набрала скорость, поравнялась с полицейским, проехала мимо. Рубашов не оглядывался, но он знал, что Рихард стоит у края тротуара и с тоской смотрит на огоньки машины.
Они ехали по центральным улицам; шофер поднял правую руку и повернул зеркальце заднего вида — чтобы все время видеть пассажира. Рубашов плохо ориентировался в городе и не мог понять, куда они едут. Вскоре замелькали окраинные улицы; потом показалось большое здание с освещенным циферблатом часов — вокзал.
Здесь у такси не было счетчиков, Рубашов неторопливо вылез из машины и спросил шофера:
— Сколько я вам должен?
— Нисколько не должны, — ответил шофер. У него было старое морщинистое лицо: он вытащил из кармана красную тряпку и тщательно, с трубным гулом высморкался.
Рубашов посмотрел сквозь пенсне на шофера. Они никогда раньше не встречались — в этом он был совершенно уверен. Шофер спрятал тряпицу в карман.
— Таких, как вы, мы возим бесплатно. — Он твердо взялся за ручной тормоз. Потом вдруг протянул Рубашову руку — старческую руку с набухшими венами и грязными, давно не стриженными ногтями. — Желаю удачи, — проговорил он, смущенно улыбаясь. И тихо добавил: — А если вашему молодому другу понадобится какая-нибудь помощь, — запомните: моя всегдашняя стоянка у музея. Для верности скажите ему мой номер.
Рубашов видел, что справа, у столба, стоит, поглядывая на них, носильщик. Он не пожал протянутую руку, а, сунув в нее какую-то монету, молча зашагал к зданию вокзала.
Его поезд отходил через час. Он выпил в буфете дрянного кофе; очень сильно болел зуб. В поезде он довольно быстро уснул, и ему приснилось, что он бежит, а за ним до пятам гонится паровоз. Паровозом управляли таксист и Рихард: они хотели его раздавить, потому что он не расплатился с ними. Колеса громыхали, паровоз приближался, а ноги отказывались служить Рубашову. Когда он проснулся, его мутило; лоб был покрыт холодной испариной; пассажиры поглядывали на него с удивлением. Поезд мчался по вражеской стране; за окном расстилалась глухая ночь; судьба Рихарда ожидала решения; зуб отчаянно, невыносимо болел. Через неделю Рубашова арестовали.
10
Рубашов прижался лбом к стеклу и посмотрел вниз, на тюремный двор. У него, от хождения взад-вперед, гудели ноги и кружилась голова. Часы показывали без четверти двенадцать, а Пиету он вспомнил около восьми — четыре часа беспрерывной ходьбы. Но это нисколько его не удивило: он знал о дневных видениях одиночников и гипнотической отраве беленых стен. Молодой партиец, ученик парикмахера, однажды рассказывал Рубашову о том, как на втором году одиночного заключения, показавшемся ему особенно тяжким, он грезил наяву семь часов подряд и прошел без передышки двадцать восемь километров по камере всего в пять шагов длиной; при этом он стер себе ноги до крови, но ничего не замечал, пока не опомнился.
«Да, рановато», — подумал Рубашов, прежде у него начинались видения только через несколько недель одиночки. Он заметил и еще одну странность: ему почему-то привиделось прошлое; насколько он знал, узников одиночки одолевают видения их будущей жизни, а если они и вспоминают прошлое, то всегда — каким оно могло бы быть, и никогда — каким оно действительно было. Интересно, много ли еще неожиданностей готовит ему его собственный рассудок? Он знал по опыту, что близкая смерть неминуемо перестраивает психику человека и толкает его странные поступки, — подобно тому, как близкий полюс сводит с ума компасную стрелку.
Низкое небо предвещало снегопад; во дворе по узкой расчищенной тропке ходили в паре двое заключенных. Один посматривал на окно Рубашова — видимо, весть о его аресте уже распространилась по всей тюрьме. Вот он опять посмотрел вверх — изможденный человек с желтоватым лицом и рассеченной, «заячьей», верхней губой; он зябко кутался в летний плащ. Второй заключенный, немного постарше, вышел на прогулку в тюремном одеяле. Заключенные явно не разговаривали друг с другом; минут через десять прогулка кончилась; охранник с пистолетной кобурой на ремне увел их как раз в тот самый корпус, который возвышался напротив Рубашова, и, прежде чем дверь корпуса захлопнулась, изможденный арестант с заячьей губой еще раз глянул на рубашовское окно. Самого Рубашова он увидеть не мог — со двора окна тюремных камер наверняка казались совершенно черными, — но взгляд арестанта был странно пристальным. «Я тебя вижу, — подумал Рубашов, — но не знаю, а ты меня не видишь, но знаешь…» Он сел на койку и негромко простучал Четыреста второму:
кто на прогулке
Правда, он боялся, что тот оскорбился и теперь не захочет ему отвечать, но Четыреста второй не был обидчивым:
политические
сразу же откликнулся он.
Рубашов удивился: Заячья Губа больше напоминал бытовика-уголовника.
как вы,
спросил он Четыреста второго.
нет как вы,
ответил тот — и наверняка ехидно ухмыльнулся. Вторая фраза прозвучала громче — возможно, офицер отстукал ее моноклем:
заячья губа мой сосед четырехсотый его вчера опять пытали.
Рубашов потер пенсне о рукав, хотя и не собирался его надевать. Он немного подумал и вместо «за что» простучал:
как
паровая ванна,
ответил Четыреста второй и умолк. Рубашова избивали не один раз — в частности, во время последнего ареста, — но про нынешние методы он только слышал. Он знал, что любые ожидаемые мучения сильный человек способен вытерпеть; их, например, можно перенести, как хирургическую операцию без наркоза, — удаляют же людям больные зубы. Нестерпимы только непредвиденные муки, когда к ним нельзя заранее подготовиться, чтобы без ошибки рассчитать свои силы.
А хуже всего — леденящий страх, что скажешь или сделаешь нечто непоправимое.
Какое обвинение
политический уклон,
насмешливо ответил Четыреста второй.
Рубашов потер пенсне о рукав, надел его и вынул пачку папирос. Их оставалось всего две штуки.
а у вас как дела,
спросил он соседа.
неплохо,
простучал поручик и смолк.
Рубашов пожал плечами и встал, потом закурил предпоследнюю папиросу и опять начал шагать по камере. То, что ему предстояло перенести, сейчас, как ни странно, взбодрило его. Угрюмая подавленность неожиданно развеялась, голова стала ясной, нервы успокоились. Он вымыл руки, лицо и шею, прополоскал рот и вытерся платком. Попытался насвистеть какую-то мелодию, оборвал, закашлялся и весело рассмеялся: слух у него всегда был чудовищный. «Если бы Первый любил музыку, — сказал ему недавно один из друзей, — он бы непременно тебя расстрелял».
«А он и расстреляет», — пробормотал Рубашов, но сейчас в это не очень-то верилось.
Он закурил последнюю папиросу и принялся обдумывать грядущие допросы — чтобы выработать линию поведения. Он чувствовал ту же взволнованную уверенность, какую ощущал в студенческие годы перед особенно трудным экзаменом. Он попытался припомнить все, что слышал о пытке «паровой ванной». Мысленно представил себе — в подробностях — связанные с нею физические муки: ведь ничего сверхъестественного в них не будет. Главное, чтоб его не застали врасплох. Но он успеет приготовиться и здесь — как когда-то успел приготовься там, — его ни в чем не заставят признаться: скажет лишь то, что найдет нужным. Только скорей бы уж все началось.
Ему вдруг опять припомнился сон — о том, как старый таксист и Рихард гнались за ним на грохочущем паровозе, потому что он не расплатился с ними. «Теперь-то уж я расплачусь за все», — подумал он, криво улыбнувшись.
Папироса незаметно догорела до бумаги — он закашлялся и бросил окурок. Хотел раздавить его ногой, но раздумал и, подняв, приставил тлеющий огонь к тыльной стороне своей левой кисти, между двумя голубеющими жилками. Спокойно прижимая огонь к руке, он смотрел на секундную стрелку: операция длилась тридцать секунд. Он остался доволен собой — его рука ни разу не дрогнула, бросил окурок на каменный пол и снова принялся шагать по камере.
Глаз, прижимавшийся в коридоре к очку и внимательно следивший за ним, исчез.
11
Баландеры разносили одиночникам обед, рубашовскую камеру опять пропустили. Смотреть в глазок было бы унизительно, поэтому Рубашов так и не узнал, чем здесь днем кормят заключенных; но запах еды проник в его камеру — и показался ему весьма аппетитным.
Ему до тошноты хотелось курить. Добыть курево было необходимо: иначе он не сможет серьезно сосредоточиться; табак был ему нужнее еды. Минут через тридцать после обеда Рубашов начал барабанить в дверь. Старик-надзиратель не очень спешил: он пришел через четверть часа.
— Чего надо? — спросил он угрюмо, открыв дверь, но не входя в камеру.
— Я хочу купить папирос.
— А у вас есть тюремные талоны?
— У меня есть деньги, но их изъяли.
— В положенное время вам выдадут талоны.
— И сколько же на это полагается времени в вашем образцово-показательном заведении?
— Можете подать официальную жалобу.
— Вам известно не хуже, чем мне, что у меня нет ни бумаги, ни ручки.
— Для приобретения письменных принадлежностей надо иметь тюремные талоны.
В Рубашове подымалось злобное раздражение — дыхание участилось, стало затрудненным, — но он сейчас же овладел собой. Надзиратель заметил, что зрачки заключенного жестко блеснули за стеклами пенсне, и ему вспомнилось, что совсем недавно от этих глаз нельзя было спрятаться: портреты арестанта висели повсюду; надзиратель презрительно, по-стариковски усмехнулся и начал не спеша закрывать дверь.
— Старый пердун, — процедил Рубашов, отвернулся от надзирателя и подошел к окну.
— Я подам рапорт, — проскрипел надзиратель, — что вы оскорбляли при исполнении обязанностей. — Дверь камеры, лязгнув, захлопнулась.
Рубашов потер пенсне о рукав и подождал, пока восстановится дыхание. Да, без папирос ему здесь крышка. Немного погодя, он сел на койку и простучал соседу:
у вас курево есть
Четыреста второй откликнулся не сразу. Потом отстукал:
не про вашу честь
Рубашов медленно подошел к окну. Ему представился этот поручик с офицерскими усиками и моноклем к глазу — глаз был водянистый, веко воспаленное; поручик смотрел на беленую стену, разделявшую узников, и глупо ухмылялся. Что творилось у него в голове? Возможно, он думал: «Что — получил?» И еще: «А сколько моих друзей получили от тебя свинцовую пулю?» Рубашов глянул на массивную стену; он чувствовал — там, за этой стеной, лицом к нему стоит офицер, он почти ощущал его дыхание… Сколько офицеров убил Рубашов? Он уже не мог как следует вспомнить. Это ведь было давным-давно, во время Гражданской войны… Так сколько? Десятков восемь, а может, и сотню. Тогда-то он был абсолютно прав — не то что в этой истории с Рихардом, — он и сейчас поступил бы так же. Даже если бы заранее знал, что потом Революцию оседлает Первый? Да, даже и тогда — так же.
С тобой, — Рубашов посмотрел на стену, за которой стоял Четыреста второй и, возможно, лениво пускал в нее дым, — с тобой я давно расплатился. Сполна. Тут мои расчета оплачены Революцией… Ну, что тебе снова неймется?»
В камере опять раздавалось постукивание. Рубашов подошел поближе к койке,
…сылаю курево,
разобрал он. Потом сосед забарабанил в дверь.
Рубашов замер, затаил дыхание. Через несколько минут послышалось шарканье — к соседней камере подходил надзиратель. Но он не стал открывать дверь.
— Чего надо? — спросил он в очко.
Ответа Рубашов уловить не смог, хотя ему очень хотелось узнать, какой голос у Четыреста второго. Зато он услышал голос надзирателя — тот проговорил намеренно громко:
— Не положено.
Опять недолгая тишина — и скрипучий голос:
— Я подам рапорт, что вы оскорбляли при исполнении обязанностей.
Потом — глохнущее шарканье валенок.
Немного погодя офицер простучал:
они вам устроили особую бдительность
Рубашов не стал отвечать соседу. Ощущая сосущую тоску по куреву, он принялся мерять шагами камеру. Четыреста второй проявил благородство. «Но я и сейчас поступил бы так же, — сказал Рубашов самому себе. — Тогда я был абсолютно прав. А может, я не расплатился и с ним? Может, приходится платить по счетам, даже если ты абсолютно прав?»
Сосущая жажда никотина усилилась, в висках тяжело стучала кровь; Рубашов беспокойно шагал по камере, и вскоре его губы начали шевелиться.
Наступает ли расплата за правое дело? Он был уверен в своей правоте — эту уверенность утверждал в нем разум, есть ли на свете иное мерило?
А может, по тому, иному мерилу именно уверенность в своей правоте заставляет человека расплачиваться вдвойне — за себя и за тех, кто не знал, что творит?
Внезапно Рубашов опомнился и замер — на третьей черной плитке от окна.
Что это? Приступ религиозного помешательства? Он сообразил, что говорит вслух. Сообразил — однако остановиться не смог.
«Я расплачусь за все», — сказал он.
И тут — впервые после ареста — его охватил настоящий страх. Он машинально полез в карман, собираясь закурить. Папирос не было. Стена у койки опять ожила:
заячья губа шлет вам привет,
внятно отстукал Четыреста второй.
В сознании всплыло запрокинутое вверх желтоватое лицо с рассеченной губой. Страх сменился холодком беспокойства.
как его фамилия,
спросил Рубашов.
он не назвался он шлет вам привет,
ответил Четыреста второй и смолк.
12
Рубашов чувствовал себя все хуже. Его знобило. Верхнюю челюсть устойчиво ломило — болел правый глазной зуб, как-то связанный с нервами глаза. Рубашова еще ни разу не кормили, но ему совсем не хотелось есть. Он попытался собраться с мыслями, но сосущая тошнота, дрожь озноба и тяжелые толчки крови в висках разрушали непрочные цепочки логики, В голове крутились всего две фразы: «надо обязательно достать курева» и «теперь-то уж я за все расплачусь».
Его по-прежнему душили воспоминания — глухие голоса и полустертые лица кружились гудящим мутным хороводом, когда он силился остановить хоровод, задержать в уме какой-нибудь образ, тот оказывался тупоболезненным; все его прошлое представлялось ему нагноившейся, но кровоточащей раной. Создание Партии, развитие Движения — другого прошлого у него не было; его настоящее, так же как и будущее, было неотделимо от Партии, от Движения; но его прошлое воплощалось в них. А сейчас оно вдруг стало сомнительным. Живую, любимую плоть Партии покрывали отвратительные кровавые язвы. Порочная святыня — возможно ли это? Где и когда к высоким целям шли такими низменными путями? Если они действительно правы и Партия творит волю Истории, значит, сама История — порочна.
Рубашов огляделся — на белых стенах желтоватыми пятнами выступала сырость. Он взял одеяло и укутал им плечи, ускорил шаги; у окна и двери резко поворачивал. Дрожь не унималась. В голове гудело; звучали голоса; он не мог понять, слышит ли он их или у него начались галлюцинации. «Это от зуба, — сказал он себе, — завтра надо обратиться к врачу». Сейчас у него просто не было времени: следовало как можно быстрее выявить истоки порочного курса Партии. Наши принципы, безусловно, верны — почему же Партия зашла в тупик? Общество поразил жестокий недуг. Применяя точнейшие научные методы, мы установили сущность недуга и способ лечения: хирургическое вмешательство. И однако наш целительный скальпель постоянно вызывает все новые язвы. Наши побуждения чисты и ясны — нас должны любить. Но нас ненавидят. Почему к нам относятся со злобой и страхом?
Почему, когда мы говорим правду, она неизменно звучит как ложь? Почему возвещенную нами свободу заглушают немые проклятия заключенных? Почему, провозглашая новую жизнь, мы усеиваем землю трупами? Почему разговоры о светлом будущем мы всегда перемежаем угрозами?
Он задрожал, охваченный ознобом. Ему представилась старая фотография: делегаты Первого съезда Партии. Они сидели за длинным столом: одни — упершись в столешницу локтями, другие — положив руки на колени, — неподвижные, бородатые, истово серьезные, — и глядели в объектив фотоаппарата. Над головой у каждого виднелся кружок, в котором была напечатана цифра, соответствующая номеру фамилии внизу. Все казались непроницаемо важными, и только Председатель, лысоватый человек, которого уже тогда называли Стариком, таил хитровато-довольную ухмылку в прищуренных, по-татарски узких глазах. Справа от него сидел Рубашов. Первый, квадратно-массивный и грузный, терялся в дальнем конце стола. Они напоминали провинциальных интеллигентов — и готовили величайшую в истории Революцию. Их было мало — горстка мыслителей новой разновидности: философы-заговорщики. Они знали европейские тюрьмы, как матерые коммерсанты знают отели. Они мечтали добиться власти, чтобы уничтожить власть навсегда; они мечтали подчинить себе мир, чтобы отучить людей подчиняться. Все их помыслы претворились в дела, все мечты превратились в реальность. Так где же они, эти новые философы? Их мудрые мозги, изменившие мир, получили в награду заряд свинца. Иные застрелились, иных расстреляли. Живы двое или трое изгнанников, бездомных и бессильных. Да Первый; да он.
Его мучила тоска по куреву, одолевала мелкая знобкая дрожь. Постепенно, сам того не замечая, он перенесся в бельгийский город, увидел веселого Малютку Леви с искривленной спиной и трубкой в зубах, почувствовал близость морского порта — запах бензина и гниющих водорослей, прошелся по узким извилистым улочкам с домами, у которых верхние этажи нависали над тротуарами, а из окон мансард свешивалось постиранное утром белье вернувшихся с промысла портовых проституток. Рубашов приехал в этот городок через два года после встречи с Рихардом. Они ничего не смогли доказать. Во время ареста он почти оглох, на допросах ему повыбивали зубы, он едва не ослеп, потому что однажды не сдернул пенсне, — но ни в чем не признался. Он молчал или лгал — умно, осмотрительно. Он мерил шагами одиночную камеру и корчился от боли в камере пыток; он смертельно боялся и все отрицал; он терял сознание, приходил в себя — для этого его обливали водой, — просил закурить и продолжал лгать. Его не удивляла ненависть истязателей — ее природа была понятной. Правосудие Диктатуры буксовало на месте: от него не добились никаких признаний и решительно ничего не смогли доказать. По недостатку улик его отпустили; потом он был посажен в самолет и привезен на Родину Победившей Революции — домой; его встречали с оркестром. Он принимал многочисленные поздравления, участвовал в митингах, присутствовал на парадах. Изредка, при особо торжественных церемониях, рядом с ним появлялся Первый.
Он жил на чужбине долгие годы и, вернувшись, обнаружил много перемен. Не было половины бородатых философов, запечатленных когда-то групповой фотографией. Даже их фамилии стали запретными и упоминались теперь только для проклятий; один лишь Старик с татарским прищуром, умерший вовремя, избежал этой участи. Его нарекли Богом-Отцом, чтобы объявить Первого Сыном; однако ходили упорные слухи, что Первый подделал завещание Старика. Выжившие философы с групповой фотографии неузнаваемо изменились: сбрили бороды, одряхлели, преисполнились грустного цинизма. Но Первый не спускал с них орлиного взгляда и временами выхватывал очередную жертву. Остальные сокрушенно били себя в грудь и громким хором каялись в грехах. Не прожив дома и двух недель, Рубашов попросил, чтобы ему поручили какое-нибудь новое дело за границей. «Быстро вы собрались», — сказал ему Первый, окутанный клубами табачного дыма. Они лет двадцать руководили Партией, но по-прежнему обращались друг к другу на вы. Над Первым висел портрет Старика; когда-то рядом помещалась фотография бородатых философов; теперь ее не было. Они разговаривали очень недолго, зато, когда Рубашов уходил, Первый встал и пожал ему руку — со странной и какой-то нарочитой торжественностью. Впоследствии Рубашов часто размышлял, что же означало это рукопожатие — и усмешливая, сатанински-мудрая ирония, промелькнувшая на прощание в глазах Первого… Рубашов — он все еще ходил на костылях — тяжело заковылял к двери кабинета; Первый не стал его провожать. Наутро Рубашов уехал в Бельгию. Сев на пароход, он немного успокоился и тщательно обдумал новое задание. В порту его встретил Малютка Леви, председатель партийной ячейки докеров, понравившийся ему с первого взгляда. Он показывал Рубашову порт и узкие кривые улочки города с такой гордостью, словно сам их создал. Его здесь знали везде и всюду — докеры, матросы, портовые проститутки, — все хотели пропустить с ним стаканчик, а он, подымая трубочку к уху, торжественно отвечал на каждое приветствие. Когда они вышли на рыночную площадь, полицейский весело ему подмигнул; моряки, не знавшие французского языка, дружески хлопали его по плечам; Рубашову все это казалось чудом. Ни о какой ненависти не было и речи: Малютку Леви уважали и любили. Ячейка докеров в этом городке представлялась Рубашову идеально организованной, более монолитной и сплоченной группы он, пожалуй, нигде и не видел.
Вечером Малютка Леви с Рубашовым завернули в один из портовых кабачков. К ним присоединился некто Поль. секретарь партийной ячейки докеров, ушедший из спорта борец-профессионал с лысым черепом, оттопыренными ушами и лицом, изрытым рябинами оспы. Его лысину прикрывал котелок, а пиджак был надет на матросский свитер. Секретарь умел шевелить ушами — при этом его котелок подымался, а потом опять плюхался вниз. Другой партиец, бывший матрос, когда-то написал морской роман, мимолетно прогремевший и сразу забытый; товарищи звали романиста Биллом, он сотрудничал в партийной прессе. Собралось несколько докеров-партийцев — медлительных, крепко пьющих, молчаливых. Появлялись еще какие-то люди; иногда они садились за стол, иногда стоя заказывали выпивку — на всех, — выпивали и молча уходили. Толстяк-хозяин, улучив минутку, тоже подсаживался к их компании. Он играл на губной гармонике. Было довольно много пьяных.
Малютка Леви представил Рубашова как «Товарища Оттуда», без дальнейших объяснений. Он один знал, кто такой Рубашов. Видя, что «Товарищ Оттуда» помалкивает, докеры не лезли к Рубашову с расспросами — лишь изредка кто-нибудь спрашивал его о материальных условиях жизни Там, о зарплате рабочих, распределении земли или успехах тяжелой промышленности. Вскоре Рубашов с удивлением обнаружил, что, зная массу бытовых подробностей, они не имеют ни малейшего представления об общей политической атмосфере в стране. Их волновали тонны угля, как детей волнуют точные размеры одной виноградины на Земле Обетованной. Пожилой докер, стоявший в сторонке, пока Леви его не окликнул, сказал, пожимая Рубашову руку: «Вы здорово похожи на старину Рубашова». — «Да, мне говорили», — ответил Рубашов. «Старина Рубашов, — воскликнул докер, — вот это парень!» — и радостно выпил. Рубашова освободили месяц назад; а за две недели до освобождения он еще не знал, что останется жив. Хозяин сыграл на губной гармонике. Рубашов закурил и заказал выпивку. Все выпили за его здоровье, за здоровье рабочих, живущих Там; секретарь Поль подвигал ушами — котелок вздернулся и съехал вниз.
Потом Рубашов и Малютка Леви долго сидели в кабачке вдвоем. Хозяин опустил железные жалюзи, положил стулья вверх ножками на столы, ушел за стойку и сейчас же уснул, а Леви рассказал Рубашову свою жизнь. Рубашов вовсе не просил его об этом и с тревогой подумал о завтрашнем дне — товарищи, куда бы он ни приехал, старались рассказать ему о своей жизни. Он собирался встать и уйти, но вдруг почувствовал смертельную усталость — видимо, он переоценил свои силы, — поэтому он сидел и слушал Леви.
Оказалось, что Малютка Леви не бельгиец, хотя он говорил без всякого акцента и горожане считали его своим. Он был выходцем из Южной Германии — работал там плотником, поигрывал на гитаре да почитывал молодежи лекции про Дарвина. Когда Диктатура набирала силы, а Партия собирала оружие для борьбы, в том городке, где жил Леви, разыгрался отчаянно смелый спектакль: из полицейского участка в самом центре города однажды вывезли два легких пулемета, двадцать пистолетов и пятьдесят винтовок. К участку подкатил мебельный фургон с двумя полицейскими в полной форме, дежурному предъявили официальный приказ, и он сам помогал грузить оружие. Позднее, при обыске у одного партийца, оно обнаружилось в другом городе — партиец прятал его в гараже. Участников акции так и не нашли, а Малютка Леви ушел в подполье. Партийное руководство гарантировало ему, что он получит выездную визу и надежный паспорт на чужую фамилию, однако он ничего не получил, потому что Курьер с деньгами и документами так и не появился в условленном месте.
— Это ведь у нас обычное дело, — заметил Леви. Рубашов промолчал.
В конце концов он прорвался к границе, хотя был объявлен государственным преступником и его небольшую размноженную фотографию с бросающимся в глаза искалеченным плечом послали в каждый полицейский участок. Он пробирался несколько месяцев. Когда ему пообещали помощь и он отправился на встречу с Курьером, денег у него оставалось дня на три. «Раньше я думал, — рассказывал Леви, — что люди питаются древесной корой только в книгах у плохих писателей. На молодых деревьях она ничего». Память заставила его вскочить, и он принес порцию сосисок. Рубашов вспомнил голодовки протеста, вспомнил жидкую тюремную баланду и съел одну из принесенных сосисок.
Леви перешел французскую границу. У него не было ни денег, ни паспорта, поэтому его немедленно задержали, велели убираться из страны и отпустили. «Убираться, — задумчиво повторил Леви. — А убраться я мог разве что на луну». Он обратился за помощью к Партии, но у него здесь не было знакомых партийцев, и о нем принялись наводить справки через партийную секцию Германии. А Малютка Леви продолжал бедствовать; вскоре его опять задержали и на три месяца посадили в тюрьму. Отсиживая срок, он сдружился с бродягой, который был его соседом по камере; Леви растолковал ему смысл решений, принятых на последнем партийном Съезде, а сосед в награда рассказал Леви, как он добывает себе пропитание — он убивал кошек и продавал их шкурки. Когда срок заключения кончился, Леви среди ночи вывезли в лес. Дав ему хлеба, сыра и сигарет, жандармы сказали: «Вон там Бельгия. Если идти все прямо и не сворачивать, через полчаса будешь за границей. А попадешься снова — пеняй на себя».
Недели две он скитался по Бельгии. На просьбу о помощи бельгийские партийцы ответили ему так же, как и французы. Когда его стало тошнить от коры, он решил заняться кошачьим промыслом. За хорошую шкурку молодой кошки он выручал на буханку хлеба и горсть табаку для своей трубки. Однако между поимкой кошки и продажей шкурки лежала операция, на которую не так-то легко решиться. Для того чтобы быстро прикончить кошку, надо было взять ее за уши и хвост, а потом переломить ей хребет об колено. «Сначала меня мутило и рвало, но я привык», — рассказывал Леви. К несчастью, его опять задержали, потому что в Бельгии, как и во Франции, считалось необходимым иметь документы. Все повторилось — совет убираться, второй арест, тюремное заключение. После трехмесячной тюремной отсидки бельгийские жандармы привезли его в лес. Дав ему хлеба, сыра и сигарет, они сказали: «Вон там Франция. Если идти все прямо и не сворачивать, через полчаса будешь за границей. А попадешься снова — пеняй на себя».
В течение года Малютку Леви гоняли через эту границу трижды — то бельгийские, то французские жандармы. И таких, как он, тут были сотни. Его все время мучил мысль, что он никак не помогает Движению, — он снова снова взывал к Партии. «Ваша организация еще не сообщила, что вы направлены в наше распоряжение, — отвечали ему руководящие товарищи. — Если вы член Партии, ждите. Надо подчиняться партийной дисциплине». Кошки обеспечивали Леви пропитание; жандармы гоняли его через границу. Прошел год; Леви слабел; по ночам ему снились убитые кошки; вскоре он начал харкать кровью. Его преследовал кошачий запах: табак, трубка, еда, одежда и даже каморки престарелых проституток, дававших ему иногда приют, — все, казалось, провоняло кошками. «Ваша организация еще не сообщила, что вы направлены в наше распоряжение», — отвечали ему руководящие товарищи. Так прошел еще один год; из немецких партийцев, знавших Леви, не осталось никого: одних убили, других надолго посадили в тюрьму, третьи исчезли неизвестно куда. «С вами вопрос остается открытым, — говорили ему руководящие товарищи. — Вам не следовало уезжать из страны без официального направления Партии. Ведь мы ничего о вас не знаем. Может быть, вы агент-провокатор. Шпионы и провокаторы из кожи вон лезут, пытаясь проникнуть в наши ряды. Бдительность — вот оружие Партии».
— Зачем вы все это мне рассказываете? — спросил Рубашов. Он жалел, что остался.
Малютка Леви подошел к стойке, неторопливо нацедил себе кружку пива и поднял к уху матросскую трубочку.
— А затем, что это очень поучительно, — ответил он. — Поучительно и типично. Таких, как я, были сотни и сотни. Да что там я! — за последние годы погибли самые боевые партийцы. Партия превратилась в дряхлую старуху. В дряхлую, подозрительную и злобную старуху. С такой Партией революции не сделаешь.
«А ведь ты еще очень многого не знаешь», — подумал Рубашов, но ничего не сказал.
Однако история Малютки Леви неожиданно увенчалась счастливым концом. Когда он сел в очередной раз, его напарником по тюремной камере оказался бывший борец Поль. До отсидки Поль работал докером; во время забастовки, при стычке с полицией, он вспомнил свои борцовские навыки и применил к одному из полицейских прием, называемый в спорте «двойным нельсоном». Двойной нельсон заключается в том, что борец, оказавшийся за спиной У противника, просовывает руки ему под мышки и потом, сомкнув их у него на затылке, пригибает ему голову вперед до тех пор, пока у него не затрещит позвоночник. Применяя этот прием на ковре, Поль неизменно добивался победы, но в классовой борьбе, как он убедился, были совсем другие правила. Леви и Поль сделались друзьями. Бывший борец работал секретарем городской партийной ячейки докеров; когда срок заключения истек, он достал для Леви документы, помог ему устроиться на работу и добился его восстановления в Партии. Леви опять как ни в чем не бывало почитывал докерам лекции про Дарвина и подробно разъяснял им смысл решений, принятых на последнем Съезде Партии. Он был счастлив, забыл о кошках и в душе простил партийных бюрократов. Через полгода он стал председателем городской партийной ячейки докеров. Все хорошо, что хорошо кончается.
И Рубашов желал от всего сердца, измученного борьбой за правое дело, чтобы жизнь Леви никак не изменилась. Но он знал, зачем он приехал, а обманывать себя до сих пор не научился, хотя понимал, что революционер должен обладать и этим умением. Он пристально смотрел на Малютку Леви. Тот, не понимая рубашовского взгляда, смущенно поднял свою кружку с пивом — дескать, пью за ваше здоровье. Рубашов пристально смотрел на Леви, думая о кошках с перебитыми хребтами. «Уйми свои фантазии», — приказал он себе; вероятно, он выпил больше, чем нужно: ему не удавалось отделаться от мысли, что его прислали в этот городок с заданием переломать Леви хребет, — одной рукой надо взять его за ноги, другой за уши и хрястнуть об колено. Он чувствовал себя совершенно больным и встал, чтоб идти; Леви проводил его; он видел, что Товарищу Оттуда нездоровится, и всю дорогу молчал. Через неделю Леви повесился.
Этому предшествовало собрание Комитета городской партийной ячейки докеров. Собрание проходило в будничной обстановке; обсуждалась одна простенькая сделка.
А за два года до собрания Комитета Партия призвала европейских трудящихся к бойкоту молодой хищной Диктатуры, выросшей в самом центре Европы. Следовало во что бы то ни стало перекрыть пути ввоза и вывоза товаров поспешно вооружавшейся враждебной страны. Партийные секции европейских государств поддержали решение Центрального Комитета. Докеры маленького бельгийского порта наотрез отказывались обслуживать корабли, хоть как-то связанные с этой страной. Профсоюз докеров утвердил бойкот. Вскоре начались столкновения с полицией, появились раненые и даже убитые. Исход борьбы еще не был ясен, когда в порт прибыла странная флотилия из пяти черных грузовых кораблей. Над каждым развевался флаг Революции; борта грузовозов украшали имена пяти прославленных вождей Движения, написанные странными, «тамошними», буквами. Докеры радостно прервали забастовку и немедленно принялись разгружать корабли. Через несколько часов, однако, выяснилось, что груз — руда редкого металла — предназначен для военной промышленности страны, которую Партия призывала бойкотировать.
Собрался Комитет ячейки докеров, дебаты закончились яростной дракой. Дискуссия захлестнула всех партийцев, всех участников Движения в стране. Реакционная пресса глумилась над Революцией. Полиция не вмешивалась, предоставив докерам самим решать, что теперь делать. ЦК бельгийской партийной секции объявил об успешном завершении забастовки и дал приказ разгружать корабли. Политика Страны Победившей Революции искусно разъяснялась в партийной газете, но большинство партийцев не поняло разъяснений и вышло из Партии; секция распалась. Многие месяцы она существовала только в умах ее руководителей, однако новый экономический застой снова пополнил ее ряды. Партия опять обрела силу.
Без особых происшествий прошло два года. Затем новая хищная Диктатура, быстро выросшая на юге Европы, начала грабительскую войну в Африке. Партия призвала; трудящихся к бойкоту. Призыв был подхвачен с огромным, энтузиазмом. Теперь многие европейские правительства решили безоговорочно присоединиться к бойкоту, чтобы лишить агрессора сырья.
Без сырьевых ресурсов и особенно без нефти Диктатура неминуемо проиграла бы войну. И снова странная черная флотилия из пяти грузовозов вышла в море. На бортах самого большого корабля было выведено имя человека, выступившего против войны и убитого; на мачте реял флаг Революции; флотилия везла нефть агрессору. До ее прибытия в бельгийский порт оставалось всего сорок восемь часов, но Малютка Леви и его товарищи, конечно же, ничего об этом не знали. Рубашову предстояло их подготовить.
В первый день он ничего не сказал — только слушал и прощупывал почву. На другое утро в Комнате заседаний собрался Комитет ячейки докеров.
Комната — большая, обшарпанная и голая — показалась Рубашову странно знакомой: в любом городе, в любой стране все партийные Комнаты заседаний были казенно однообразными. Происходило это отчасти по бедности, но главным образом из-за мрачной традиции, возводившей казенный аскетизм в норму. На стенах висели старые плакаты, лозунги к давно законченным выборам и желтые машинописные объявления. В одном углу громоздились кипы посеревших от пыли брошюр и листовок; в другом — тюки поношенной одежды, предназначенной семьям бастующих рабочих; в третьем стоял допотопный гектограф. Середину комнаты занимал стол — две положенные на козлы доски. Окна, словно в общественной уборной, были густо замазаны известкой. С потолка свисала голая лампочка; рядом болталась клейкая мухоловка. У стола сидели три Комитетчика, имен которых Рубашов не знал. Малютка Леви с изувеченным плечом, борец Поль и писатель Билл.
Рубашов сказал вступительное слово. Казенная обшарпанность Комнаты заседаний настроила его на деловой лад: он почувствовал себя как дома. Важность заседания стала очевидной — ему было совершенно непонятно, в чем он мог сомневаться накануне. Он объективно осветил обстановку, но пока не сказал, зачем приехал. Бойкот, объявленный агрессору, провалился — из-за продажности европейских правительств. Некоторые еще поддерживают бойкот — на словах, другие не делают и этого. Агрессор остро нуждается в сырье. Раньше Страна Победившей Революции продавала ему излишки нефти. Если она прекратит поставки, то теперь, когда блокада прорвана, буржуазные государства воспользуются случаем и вытеснят ее с мирового рынка — для этого они и нарушили бойкот. В такой обстановке романтические жесты помешают развитию промышленности Там и дальнейшему углублению Мировой Революции. Выводы напрашиваются сами собой.
Поль и трое Комитетчиков кивали: они были природными тугодумами; все, что Товарищ Оттуда рассказывал, звучало научно и очень убедительно; он читал теоретическую лекцию, практических действий от них не требовалось. Они не чувствовали, куда он клонит, — потому что ничего не знали о флотилии. Однако Малютка Леви и писатель обменялись быстрым тревожным взглядом. Это не укрылось от внимания Рубашова. Он закончил — несколько суше:
— Такова принципиальная обстановка в мире. Долг каждого честного партийца — свято выполнять директивы Партии, а вы призваны объяснять товарищам, которые слабо разбираются в политике, внутреннюю сущность этих директив. Вот все, что я хотел сообщить.
Несколько минут Комитетчики молчали. Рубашов надел пенсне и закурил. Малютка Леви подвел итог.
— Товарищ закончил. Вопросы есть?
Вопросов не было. Немного погодя один из докеров, запинаясь, сказал:
— А чего спрашивать… и так ясно. Товарищи Там, они понимают. Ну и за ними дело не станет. Мы уж тут постараемся для бойкота. У нас эти свиньи ничего не погрузят. — Двое других докеров закивали. Поль подтвердил: «У нас не погрузят», — скорчил невероятно воинственную гримасу и для пущей убедительности подвигал ушами.
На секунду Рубашов всерьез поверил, что ему дают организованный отпор; однако, подумав, он сообразил, что докеры просто его не поняли. Он посмотрел на Малютку Леви в надежде, что тот объяснит им ошибку. Но Леви молча глядел в пол. Лицо Билла передернула судорога, и он выкрикнул:
— Опять мы? Неужели же вашу новую сделку нельзя провернуть в другом порту?
Докеры глянули на него с изумлением: их поразило слово «сделка»; мысль о маленькой черной флотилии никому из них не приходила в голову. Рубашов подготовился к этому вопросу.
— Данное место, — ответил он, — наиболее приемлемо для будущей операции как географически, так и политически. Отсюда — вплоть до конечного пункта — груз пойдет по железной дороге. Нам, разумеется, нечего скрывать, однако реакционная буржуазная пресса любит раздувать грошовые сенсации — не следует давать ей подобных возможностей.
Билл опять переглянулся с Леви. Лица докеров выражали непонимание и очень медленную работу мысли. Внезапно Поль хрипло спросил:
— Это о чем же вы тут толкуете?
Все обернулись и посмотрели на Поля. У него набухли вены на шее, а белки глаз сделались красными. Леви сказал:
— Понял, наконец?
Рубашов перевел взгляд на Леви и спокойно продолжил:
— А теперь о деталях. Завтра утром в вашем порту — если не случится ничего непредвиденного — должны ошвартоваться пять кораблей Народного Комиссариата Внешней Торговли.
И все же потребовалось несколько минут, чтобы докеры осмыслили сказанное. Никто не проронил ни единого слова. Все молча смотрели на Рубашова. Потом Поль встал из-за стола и, швырнув шапку на пол, ушел. Трое докеров проводили его взглядами. В комнате повисла напряженная тишина. Кашлянув, Малютка Леви сказал:
— Товарищ объяснил, почему это нужно: если не они, то кто-нибудь другой. Прошу высказать ваши соображения.
Докер, обещавший постараться для бойкота, угрюмо выговорил:
— Старая песня. Мол если я не сделаю работу, все равно сделает кто-нибудь другой. Такие песни поют штрейкбрехеры.
Снова наступила тяжелая тишина. Поль хлопнул дверью подъезда. Немного помолчав, Рубашов сказал:
— Товарищи, Страна Победившей Революции должна развивать свою промышленность, помочь ей в этом — наш святой долг. Сейчас абстрактное прекраснодушие играет на руку врагам Партии. Прошу вас обдумать мои слова.
Докер выдвинул вперед челюсть и твердо ответил:
— А мы уже думали. И слова такие уже слышали. Это у вас должны бы подумать. Ваша страна должна быть честной. Вы толкуете о солидарности рабочих и о разных там жертвах и железной дисциплине, а сами посылаете штрейкбрехерский флот.
Малютка Леви вдруг вскинул голову — его лицо было очень бледным, поднял к уху матросскую трубочку и негромко, но быстро и внятно сказал:
— Я присоединяюсь к этому мнению. Кто еще хочет высказаться? Никто? Тогда объявляю собрание закрытым.
Рубашов, тяжело опираясь на костыли, побрел к двери и вышел из комнаты. Дальнейшие события развивались по плану, и ничто не могло этот план нарушить. Пока флотилия приближалась к порту, Рубашов обменялся парой телеграмм с компетентными партийными товарищами Там. Через три дня шестеро Комитетчиков были официально исключены из Партии, а в партийной газете появилась статья, разоблачившая агента-провокатора Леви. Еще через три дня он повесился.
13
Ночь вконец измучила Рубашова. Ему не удавалось заснуть до рассвета. Постоянно повторялись приступы озноба, зуб дергала нарывная боль, мозги разъедала отрава воспоминаний — глухие голоса и неясные образы терзали его воспаленное сознание. Рихард в черном воскресном костюме смотрел на него красноватыми глазами. «Они же сожрут меня, эти волки», — мучительно заикаясь, говорил он. Малютка Леви с искалеченным плечом спрашивал: «Кто еще хочет высказаться?» Высказаться хотели тысячи людей — волна Движения глушила разговоры: она катилась к намеченной цели, смывая на своем извилистом пути шаткие преграды нравственных сомнений и выкидывая на берег трупы усомнившихся. Извилистый, с крутыми поворотами путь диктовался внутренней природой Движения. И на всех поворотах оставались трупы — такова была природа Движения. Отдельные люди не принимались в расчет.
Совесть, разум и побуждения личности ничего не значили в процессе Истории. Существовал один-единственный грех — отклонение от принятого Партией курса; и одна-единственная кара — смерть. Смерть не была для Партии таинством — она наиболее естественно пресекала любое отклонение от партийного курса, то есть любой политический уклон.
Рубашов забылся только под утро. Его разбудил сигнал подъема, возвестивший новый тюремный день; вскоре дверь камеры отворилась — надзиратель и два вооруженных охранника повели Рубашова на врачебный осмотр.
Он надеялся, что сумеет прочитать фамилии офицера и Заячьей Губы, но его повели в противоположную сторону. Четыреста шестая камера пустовала; она была последней в ряду; коридор замыкала бетонная дверь, старик-надзиратель с трудом открыл ее. Они пошли по другому коридору — впереди надзиратель, за ним Рубашов, сзади оба вооруженных охранника. Здесь на каждой картонной табличке было написано по несколько фамилий, за дверьми слышались разговоры и смех; в некоторых камерах даже пели; тут содержались мелкие преступники. Показалась открытая дверь парикмахерской; двоих заключенных крестьянского вида стригли наголо, третьего брили — под хлопьями пены проступало лицо с лисьими чертами матерого жулика; заключенные проводили любопытными взглядами арестанта, сопровождаемого охранниками. Потом Рубашов увидел дверь с намалеванным на ней красным крестом. Надзиратель негромко и уважительно постучался; он вошел вместе с Рубашовым, охранники остались ждать в коридоре.
Санчасть оказалась маленькой комнатой с тяжелым, прочно устоявшимся запахом остывшего табачного дыма и карболки. В ведре и двух железных лоханях лежали использованные ватные тампоны, куски марли и грязные бинты. Врач, сидевший спиной к двери, жевал большой бутерброд с салом и лениво просматривал свежую газету. Газета лежала на его столе поверх груды медицинских инструментов. Когда заскрипела открываемая дверь, врач не спеша повернулся к вошедшим. На его неестественно маленьком черепе рос редкий белесый пух, придававший ему сходство со страусом.
— Он заявил, что у него зуб, — доложил врачу старик-надзиратель.
— Зуб? — Врач не смотрел на Рубашова. — Открывай рот… Да не чешись, живо.
Рубашов сквозь пенсне оглядел врача.
— Я должен заметить, — сказал он негромко, — что я являюсь политзаключенным, и прошу относиться ко мне соответственно.
Врач повернул голову к надзирателю.
— Что это за птица? — удивился он.
Надзиратель назвал рубашовскую фамилию. Рубашов заметил, что страусиные глазки изучающе обшарили его лицо.
— У вас флюс. Откройте рот, — через несколько секунд проговорил врач.
Сейчас зуб почти не болел. Рубашов спокойно открыл рот.
— Первый глазной полностью разрушен. — Врач нащупывал зуб пальцем. Внезапно Рубашова пронзила боль, он побледнел и прислонился к стене.
— Ну да, так оно и есть, — сказал врач. — Абсцесс на корне глазного зуба.
Рубашов с трудом перевел дух. Нестерпимая боль протыкала голову — от верхней челюсти, сквозь глаз и в мозг. Как будто кто-то через равные промежутки вонзал ему в голову кривую иглу. Врач уже снова развернул газету и взялся за свой недоеденный бутерброд.
— Если хотите, я удалю вам корень, — сказал он Рубашову, пережевывая сало. — Наркоз при удалении мы не применяем. Операция продлится полчаса — час.
Рубашов стоял, привалившись к стене, и тяжело дышал; в голове гудело, слова врача рассыпались и глохли. «Пока не стоит», — пробормотал он. Ему послышалось, что в стену стучат: «Паровая ванна», — вдруг вспомнил он; всплыло лицо Заячьей Губы, потом вспыхнул огонек папиросы, прижатый к коже, — смехотворный спектакль. «Плохо дело», — подумал Рубашов.
Придя в камеру, он рухнул на койку, и его сейчас же охватило забытье.
В полдень, когда разносили баланду, его не пропустили, и он поел; видимо, ему выписали довольствие. Мучившая его боль утихла; он надеялся, что абсцесс созреет и вскроется сам, без хирургического вмешательства.
Через три дня его вызвали на допрос.
14
В одиннадцать утра дверь распахнулась. По торжественно-серьезному лицу надзирателя Рубашов понял, куда его поведут. Как и обычно в минуты опасности, он ощутил ясное спокойствие — ничем не заслуженный дар судьбы.
Они вышли из Одиночного блока, и бетонная дверь тяжело захлопнулась. «До чего же быстро человек привыкает к любой обстановке», — подумал Рубашов; ему казалось, что он дышал спертым воздухом этих коридоров по крайней мере уже несколько лет, словно здесь сгустилась атмосфера всех тюрем, где он побывал.
Они миновали комнату парикмахерской, показалась закрытая дверь санчасти, перед ней под охраной сонного надзирателя стояли в очереди трое заключенных.
Дальше Рубашова еще не водили. Они подошли к спиральной лестнице. Куда она вела — в кабинеты следователей или в подвал с камерами пыток? Рубашов призвал на помощь свой опыт. Эта узкая железная лестница внушала ему скверные предчувствия.
Они спустились во внутренний двор, зажатый высокими, без окон, стенами, пересекли его и вошли в следующий корпус; лампы здесь были прикрыты плафонами, на деревянных — а не железных — дверях по обеим сторонам широкого коридора мягко поблескивали медные ручки; из комнаты в комнату сновали следователи; за одной из дверей слышалось радио, за другой стрекотала пишущая машинка. Словом, это был Следственный корпус.
Они остановились у последней двери; надзиратель, сопровождающий Рубашова, постучал. В кабинете кто-то говорил по телефону; он сказал немного погромче: «Минуту», — и, видимо, продолжил разговор; из-за двери слышались приглушенные реплики: «Да… Конечно… Совершенно верно…». Голос показался Рубашову знакомым, но ему не удавалось вспомнить, чей он. Приятный, чуть хриплый мужской голос; да, Рубашов его явно слышал. «Войдите», — сказал хозяин кабинета; надзиратель открыл деревянную Дверь, Рубашов вошел, и дверь захлопнулась. Он увидел большой письменный стол; за столом сидел его старый товарищ, бывший командир полка Иванов; опуская на рычаг телефонную трубку, он с улыбкой рассматривал Рубашова.
— Вот мы и встретились, — сказал Иванов.
Рубашов все еще стоял у двери.
— Приятная встреча, — ответил он сухо.
Иванов медленно поднялся с кресла — он был гораздо выше Рубашова.
— Присаживайся, — радушно предложил он, с улыбкой глядя на бывшего командира. Они сели; их разделял стол; они в упор рассматривали друг друга: Иванов, по-прежнему дружески улыбаясь, Рубашов — выжидающе, сосредоточенно, сдержанно. Потом его взгляд скользнул под стол.
Иванов притопнул правой ногой.
— С этим порядок, — сказал он. — Автоматический протез на хромированном каркасе. Могу плавать, ездить верхом, водить машину и плясать… Закурим?
Иванов через стол протянул Рубашову деревянный, наполненный папиросами портсигар.
Рубашов мельком глянул на папиросы и вспомнил, как он приехал в госпиталь, когда Иванову ампутировали ногу. Иванов умолял принести ему веронала и в споре, который длился до вечера, пытался доказать, что каждый человек имеет право на самоубийство. Наконец Рубашов согласился обдумать просьбу своего командира полка, но той же ночью был переброшен на какой-то другой участок фронта.
Они встретились через много лет.
Рубашов внимательно заглянул в портсигар. Иванов сам набивал гильзы — светлым, видимо, американским табаком.
— Если у нас неофициальный разговор, то я не возражаю, — ответил Рубашов, — а если ты в начале допроса всем подследственным предлагаешь закурить, то убери портсигар. Давай уж по старинке — мы у тюремщиков никогда не одалживались.
— Брось дурить, — сказал Иванов.
— Ладно, — сказал Рубашов и закурил. — Ну, а как твой ревматизм — прошел?
— Вроде прошел, — ответил Иванов. — А как твой ожог — не очень болит? — Он улыбнулся и с простодушным видом показал на левую рубашовскую кисть. Там, между двумя голубеющими жилками, виднелся довольно большой волдырь. С минуту оба смотрели на ожог. «Откуда он знает? — подумал Рубашов. — Значит, за мной все время следили?» Но он ощутил не гнев, а стыд; последний раз глубоко затянувшись, он бросил окурок папиросы в пепельницу.
— Давай-ка считать, — проговорил он, — неофициальную часть нашей встречи законченной.
Иванов выдувал колечки дыма и смотрел на Рубашова с добродушной насмешкой.
— А ты не торопись, — посоветовал он.
— А я, между прочим, к тебе и не торопился. — Рубашов твердо глянул на Иванова. — Я и вообще-то сюда не приехал бы, если б вы не привезли меня силой.
— Верно, тебя немного поторопили. Зато теперь тебе спешить некуда. — Иванов ткнул свой окурок в пепельницу и, сразу же закурив новую папиросу, опять протянул портсигар Рубашову; однако тот остался неподвижным. — Да е…лочки зеленые, — сказал Иванов, — помнишь, как я у тебя клянчил веронал? — Он пригнулся поближе к Рубашову и дунул дымом ему в лицо. — Я не хочу, чтобы ты спешил… под расстрел, — с расстановкой произнес он и снова откинулся на спинку кресла.
— Спасибо за заботу, — сказал Рубашов. — А почему вы решили меня расстрелять?
Несколько секунд Иванов молчал. Он неторопливо попыхивал папиросой и что-то рисовал на листке бумаги. Видимо, ему хотелось найти как можно более точные слова.
— Слушай, Рубашов, — сказал он раздумчиво, — я вот заметил характерную подробность. Ты уже дважды сказал вы, имея в виду Партию и Правительство — ты, Николай Залманович Рубашов, противопоставил им свое я. Теоретически, чтобы кого-нибудь обвинить, нужен, конечно, судебный процесс. Но для нас того, что я сейчас сказал, совершенно достаточно. Тебе понятно?
Разумеется, Рубашову было понятно, и однако он был застигнут врасплох. Ему показалось, что зазвучал камертон, по которому настраивали его сознание. Все, чему он учил других, во что верил и за что боролся в течение последних тридцати лет, откликнулось камертону волной памяти… Партия — это всеобъемлющий абсолют, отдельно взятая личность — ничто; лист, оторвавшийся от ветки, гибнет… Рубашов потер пенсне о рукав. Иванов сидел совершенно прямо, попыхивал папиросой и больше не улыбался. Рубашов обвел взглядом кабинет — и вдруг увидел светлый прямоугольник, резко выделявшийся на серых обоях. Ну, конечно же, здесь ее тоже сняли — групповую фотографию бородатых философов. Иванов проследил за взглядом Рубашова, но его лицо осталось бесстрастным.
— Устаревшие доводы, — сказал Рубашов. — Когда-то и мне коллективное мы казалось привычней личного я. Ты не изменил своих старых привычек; у меня, как видишь, появились новые. Ты и сегодня говоришь мы… но давай уточним — от чьего лица?
— Совершенно правильно, — подхватил Иванов, — в этом и заключается сущность дела; я рад, что ты меня наконец понял. Значит, ты утверждаешь, что мы — то есть народ, Партия и Правительство — больше не служим интересам Революции?
— Давай-ка не будем говорить о народе.
— С каких это пор, — спросил Иванов, — ты проникся презрением к народу? Не с тех ли пор, как коллективное мы ты заменил своим личным я?
Иванов опять пригнулся к столу и смотрел на Рубашова с добродушной насмешкой. Его голова закрыла прямоугольник, оставшийся от снятой групповой фотографии, и Рубашову внезапно вспомнился Рихард, заслонивший протянутые руки Мадонны. Неожиданно толчок нестерпимой боли — от верхней челюсти, сквозь глаз и в затылок — заставил его крепко зажмуриться. «Вот она, расплата», — подумал он… или ему показалось, что подумал.
— Ты это о чем? — спросил Иванов насмешливым и немного удивленным голосом.
Боль утихла, сознание прояснилось.
— Давай не будем говорить о народе, — спокойно и мирно повторил Рубашов. — Ты ведь ничего о народе не знаешь. Возможно, теперь уже не знаю и я. Когда у нас было великое право говорить мы, — мы его знали, знали, как никто другой на земле. Мы сами были сердцевиной народа и поэтому могли вершить Историю.
Машинально он взял из портсигара папиросу; Иванов, наклонившись, дал ему прикурить.
— В те времена, — продолжал Рубашов, — мы назывались Партией Масс. Мы познали сущность Истории. Ее смерчи, водовороты и бури неизменно ставили ученых в тупик — потому что их взгляд скользил по поверхности. Мы проникли в глубины Истории, стали сердцем и разумом масс, а ведь именно массы творят Историю; мы — первые на планете — поняли законы исторического развития, вскрыли процессы накопления энергии и причины ее взрывного высвобождения. В этом — наша великая сила.
Якобинцы руководствовались абстрактной моралью, мы — научно-историческим опытом. В глубинных пластах человеческой Истории нам открывались ее закономерности. Мы в совершенстве изучили человечество — и наша Революция увенчалась успехом. А вы выступаете как ее могильщики.
Иванов, откинувшись на спинку кресла, молча разрисовывал лист бумаги.
— Продолжай, я слушаю, — проговорил он. — И пока не понимаю, куда ты клонишь.
— Как видишь, я уже наговорил на расстрел. — Он молча скользнул взглядом по стене, где раньше висела групповая фотография, однако Иванов не повернул головы. — А впрочем, семь бед — один ответ. Так вот, вы похоронили Революцию, когда истребили старую гвардию — с ее мудростью, планами и надеждами. Вы уничтожили коллективное мы. Неужели вам и сейчас еще кажется, что народ действительно идет за вами? Между прочим, все европейские диктаторы властвуют от имени своих народов — и примерно с таким же правом, как вы.
Рубашов взял еще одну папиросу и на этот раз прикурил сам, потому что Иванов сидел неподвижно.
— Прости уж меня за высокий стиль, — продолжал он, — но ваше диктаторство, творимое именем народа, кощунственно. Массы подчиняются вашей власти покорно и немо, но она чужда им — так же, как в любом буржуазном государстве. Народ опять погрузился в спячку: этот великий Икс истории сейчас подобен сонному океану, равнодушно несущему ваш корабль. Прожекторы освещают его поверхность, но глубины остаются немыми и темными. Когда-то мы их осветили и оживили, но то время кануло в прошлое. Короче говоря, — Рубашов помолчал, потер пенсне о рукав и надел его, — когда-то мы творили Историю, а вы сейчас просто делаете политику. Вот основная разница между нами.
Иванов откинулся на спинку кресла и выпустил несколько дымных колец.
— Что-то я не совсем понимаю, — сказал он. — Постарайся попроще.
— Поясню на примере, — ответил Рубашов. — Какой-то математик однажды сказал, что алгебра — это наука для лентяев: она оперирует неизвестной величиной — Иксом, — словно обычным числом. В нашем случае неизвестное — Икс — представляет собой народные массы. Политик постоянно пользуется Иксом — не расшифровывая его природы, — чтобы решать частные задачи. Творец Истории определяет Неизвестное и составляет принципиально новые уравнения.
— Что ж, изящно, — сказал Иванов, — но для наших целей слишком отвлеченно. Давай-ка попробуем спуститься на землю: значит, ты утверждаешь, что мы — иными словами, Партия и Правительство — переродились и предали Революцию?
— Именно, — подтвердил Рубашов с улыбкой.
Иванов не улыбнулся ему в ответ.
— И когда ты пришел к этому заключению?
— В течение нескольких последних лет — очень постепенно.
— А если точнее? Год назад? Два? Три? Четыре?
— Наивный вопрос, — ответил Рубашов. — Когда ты стал взрослым? В семнадцать лет? В восемнадцать? В девятнадцать? В девятнадцать с половиной?
— Это ты пытаешься прикинуться наивным. Каждый этап в духовном развитии есть результат определенных обстоятельств. Могу сказать совершенно точно: я стал взрослым в семнадцать лет, когда меня первый раз сослали.
— В те времена, — заметил Рубашов, — ты был вполне приличным человеком. Сейчас тебе лучше об этом забыть. — Он посмотрел на светлый прямоугольник и положил окурок папиросы в пепельницу.
— Повторяю вопрос, — проговорил Иванов, слегка принагнувшись над столом к Рубашову. — Сколько лет ты принадлежишь к антипартийной группировке?
Зазвонил телефон. Подняв трубку, Иванов сказал:
«Я занят», — и снова положил ее на рычаг. Потом выпрямился, вытянул ноги и выжидающе глянул на Рубашова.
— Ты прекрасно знаешь, — ответил тот, — что я никогда не поддерживал оппозицию.
— Видимо, придется мне стать бюрократом, — сказал Иванов. — Он выдвинул ящик и вынул из него пачку бумаг. — Давай начнем с тридцать третьего года. — Он разложил перед собой бумаги. — Установление Диктатуры и разгром Движения в стране, где победа казалась очевидной. Тебя посылают в эту страну с заданием провести чистку Партии и затем реорганизовать ее ряды…
Рубашов, откинувшись на спинку стула, внимательно слушал свою биографию. Он вспомнил Пиету, ссутулившегося Рихарда, площадь перед зданием музея, таксиста.
— Через три месяца — провал и арест. Потом — два года тюрьмы, следствие. Никаких доказательств — ты держишься образцово. Тебя выпускают за недостатком улик, и ты с триумфом возвращаешься домой…
Иванов замолчал, поднял голову, мимолетно глянул на Рубашова и продолжал: — Тебя чествуют как народного героя. В те времена мы с тобой не встречались — наверно, ты был чересчур занят. Меня это, кстати, нисколько не оскорбило. Чтобы повидаться со всеми друзьями, никакого, пожалуй, и времени не хватит. Но я-то тебя раза два видел — в почетных президиумах торжественных митингов. Ты тогда все еще ходил на костылях, и вид у тебя был предельно измученный. Казалось бы — прямой тебе путь в санаторий, а потом на ответственный государственный пост: ведь ты выполнил важнейшее поручение и четыре года рисковал жизнью. Так нет же — ты обращаешься к Правительству с просьбой отправить тебя за границу…
Иванов резко подался вперед и твердо посмотрел в глаза Рубашову.
— Почему? — Впервые с начала разговора голос Иванова прозвучал жестко.
— Может, тебе что-нибудь не понравилось? За время твоего четырехлетнего отсутствия у нас произошли определенные перемены — может, они-то тебе и не понравились?..
Он замолчал в ожидании ответа, однако Рубашов тоже молчал и спокойно потирал пенсне о рукав.
— Как раз незадолго до твоего приезда закончился Первый процесс над оппозицией, среди осужденных и ликвидированных уклонистов были твои ближайшие друзья. Когда в газетах появились отчеты обо всех совершенных ими злодеяниях, по стране прокатилась волна возмущения. Ты промолчал и уехал за рубеж — хотя не мог обходиться без костылей.
Рубашову вспомнился маленький порт, запах бензина и гниющих водорослей, оттопыренные уши борца Поля, матросская трубочка Малютки Леви… Он повесился в своей мансарде, привязав веревку к потолочной балке… Когда по улице проезжал грузовик, немного подгнившая балка дрожала, и тело Леви медленно вращалось; товарищи, пришедшие утром к Леви, подумали, что он еще не задохнулся, — так потом передавали Рубашову…
— Задание Партии ты успешно выполнил, и через некоторое время тебя назначили Руководителем Торговой Миссии в Б. Ты безукоризненно справился с поручением. Новый торговый договор с Б. — это, безусловно, блестящий успех… Если говорить о внешних проявлениях, то твоя биография ничем не запятнана. Но вот после полугода работы двух ответственных сотрудников Миссии — один из них Арлова, твой секретарь — Партия вынуждена отозвать из Б. по подозрению в принадлежности к оппозиции. На следствии их виновность подтверждается. От тебя ждут публичного осуждения предателей Партии. Но ты молчишь… Через шесть месяцев отзывают и тебя. В стране полным ходом идет подготовка ко Второму процессу над уклонистами. На следствии фигурирует твое имя; Арлова надеется — и не скрывает этого, — что ты выступишь в ее защиту. При таких обстоятельствах «нейтральное» молчание просто подтвердило бы твою виновность. И все же ты продолжаешь молчать; Партия посылает тебе ультиматум. Только под угрозой неминуемой гибели ты снисходишь до публичного выступления и осуждаешь антипартийную группу, что автоматически топит Арлову. Ее участь тебе известна…
Рубашов молча слушал Иванова; зуб опять начинало дергать. Да, ему была известна их участь. Участь Арловой. Участь Рихарда. Участь Леви… И собственная участь… Он посмотрел на светлый прямоугольник — больше от них ничего не осталось, от бородатых философов с групповой фотографии. Их участь тоже была ему известна. Однажды, на крутом перевале Истории, им открылась великая картина: будущее счастье всего человечества, перевал остался далеко позади. Так к чему все эти разговоры и формальности? Если что-нибудь в человеческом существе может пережить физическую смерть, значит, Арлова и сейчас еще смотрит — откуда-то из глубин мирового пространства — прекрасными и покорными коровьими глазами на Товарища Рубашова, своего идола, который обрек ее на расстрел… Челюсть ломило все сильней и сильней.
— Прочитать твое публичное заявление? — спросил Иванов, роясь в бумагах.
— Спасибо, не стоит, — ответил Рубашов, неожиданно для себя осипшим голосом.
— Как ты помнишь, в конце заявления — которое можно назвать и признанием — ты категорически осудил оппозицию и поклялся впредь безусловно поддерживать генеральную линию, намеченную Партией, и лично ее вождя, Первого.
— Хватит, — устало сказал Рубашов. — Ты же знаешь не хуже меня, как у нас стряпают такие заявления. Прошу тебя — хватит ломать комедию.
— Да мы уж кончаем, — сказал Иванов. — Только вот разберем два последних года. Тебя назначают Народным Комиссаром — в твоем ведении легкие металлы. Год назад, на Третьем процессе, который разгромил остатки оппозиции, руководитель группы разоблаченных уклонистов постоянно упоминал твою фамилию — но очень неясно и неопределенно. Ничего существенного доказано не было, однако в широких рядах Партии к тебе росло глухое недоверие. Ты снова сделал публичное заявление, провозгласив безусловную преданность Партии во главе с ее учителем Первым и еще резче осудил оппозицию. Это было шесть месяцев назад. А сегодня ты спокойно признаешься, что в течение нескольких последних лет считал генеральную линию неправильной, а вождя Партии — предателем Революции.
Иванов замолчал и сел поудобней.
— Таким образом, твои заявления о преданности Партии были уловкой. Ты не подумай, что я морализирую. Мы воспитаны в одних понятиях и смотрим на вещи совершенно одинаково. Ты был уверен, что наши убеждения пагубны и порочны, а твои — верны. Объявив об этом прямо и откровенно, ты бы сейчас же вылетел из Партии, а значит, тебе не удалось бы бороться за твои, по-твоему, верные идеи. И вот ты начинаешь сбрасывать балласт — чтобы уцелеть и продолжить борьбу. Мне очевидно, что на твоем месте я поступил бы в точности так же. Пока что все совершенно логично.
— И что же дальше? — спросил Рубашов.
— А вот дальше все абсолютно нелогично. Ты откровенно признаешь тот факт, что в течение нескольких последних лет считал нас могильщиками Революции, — верно? И тут же на одном дыхании утверждаешь, что никогда не поддерживал оппозиционные группировки. Ты, значит, пытаешься меня уверить, что сидел сложа руки и спокойно смотрел, как мы — по твоему глубокому убеждению — ведем страну и Партию к гибели?
Рубашов неопределенно пожал плечами.
— Может быть, я одряхлел и выдохся. А впрочем, верь во что тебе хочется.
Иванов закурил новую папиросу. Его голос сделался мягким и вкрадчивым.
— Неужели ты хочешь меня уверить, что предал Арлову и отрекся от этих — кивком головы он показал на стену, где когда-то висела групповая фотография, — только для того, чтобы спасти свою шкуру?
Рубашов не ответил. Пауза затянулась. Иванов еще ближе пригнулся к Рубашову.
— Нет, не понимаю я тебя, — сказал он. — То ты громишь генеральную линию — да такими словами, что любого из них больше чем достаточно для немедленного расстрела. И тут же, вопреки элементарной логике, утверждаешь, что никогда не участвовал в оппозиции… вопреки логике и неопровержимым доказательствам.
— Неопровержимым доказательствам? — переспросил Рубашов. — А тогда зачем вам мое признание? И о чем свидетельствуют ваши доказательства?
— В частности, о том, — сказал Иванов медленно, негромко и нарочито внятно, — что ты подготавливал убийство Первого.
Кабинет снова затопила тишина.
— Можно задать тебе один вопрос? — проговорил Рубашов, надев пенсне. — Ты и правда веришь этой чепухе или только притворяешься, что веришь?
Глаза Иванова искрились ухмылкой.
— Я же сказал: у нас есть доказательства. Могу сказать точнее: признание. Могу сказать даже еще точнее: признание человека, который готовился — по твоему наущению — убить Первого.
— Поздравляю, у вас действенные методы. И как его фамилия?
Иванов улыбнулся.
— А вот это уже некорректный вопрос.
— Могу я прочитать его признание? Или потребовать очной ставки?
Иванов улыбался. Он раскурил папиросу и выпустил дым в лицо Рубашову — с добродушной насмешкой, без желания оскорбить. Рубашов подавил неприязнь и не отстранился.
— Ты помнишь, — медленно сказал Иванов, — как я клянчил у тебя веронал? Ах да, я уже об этом спрашивал. Так вот — теперь мы поменялись ролями: ты просишь, чтобы я помог тебе угробиться. И я объявляю наперед: не допросишься. Ты убедил меня, что самоубийство является мелкобуржуазным пережитком. Вот я и присмотрю, чтоб ты не совершил его. Тогда мы будем с тобой квиты.
Рубашов молчал. Он старался понять, лжет Иванов или говорит искренне, — и одновременно подавлял в себе желание дотронуться до светлого прямоугольника на стене. «Навязчивые идеи… Ступать исключительно на черные плитки, бормотать ничего не значащие фразы, машинально потирать пенсне о рукав — возвращаются все тюремные привычки. Да, нервы», — подумал он.
— Интересно узнать, — сказал он вслух, — как ты думаешь меня спасти? Мне-то, должен признаться, кажется, что ты стараешься меня угробить.
Иванов открыто и весело улыбнулся.
— Старый ты дурень, — проговорил он и, перегнувшись через стол поближе к Рубашову, ухватил его за пуговицу пиджака. — Мне хотелось заставить тебя побушевать — чтоб ты не разбушевался в неподходящее время. Я вон даже и стенографистку не вызвал. — Он вынул из портсигара еще одну папиросу и насильно вставил ее Рубашову в рот, по-прежнему держа его за пиджачную пуговицу. — Ты же не юноша! Не какой-нибудь там романтик! Мы вот сейчас состряпаем признаньице — и все дела… на сегодня. Понял?
Рубашову наконец удалось вырваться. Он посмотрел сквозь пенсне на Иванова.
— И что же я должен признать? — спросил он. Иванов продолжал лучезарно улыбаться.
— Что ты — с такого-то и такого-то года — состоял в такой-то оппозиционной группе, но что ты категорически и решительно отвергаешь свое участие в организации покушения; мало того — ты порвал с оппозицией, узнав об ее преступных планах.
В первый раз с начала разговора Рубашов позволил себе усмехнуться.
— Если тебе больше нечего добавить, то давай кончать, — предложил он.
— Не торопись, — мирно сказал Иванов. — Я ведь понимаю, почему ты уперся. Вот и давай спокойно обсудим нравственную сторону этого дела. Тебе не придется никого предавать. Группа уклонистов была арестована гораздо раньше, чем взяли тебя; половину из них уже ликвидировали — ты и сам это прекрасно знаешь. От оставшихся мы можем получить признания поважнее твоей невинной писульки… да что там темнить — любые признания. Как видишь, я говорю откровенно — надеюсь, ты меня правильно понимаешь, — разве это тебя не убеждает?
— Иными словами, — уточнил Рубашов, — ты-то не веришь, что готовилось покушение. Почему ж ты не устроишь мне очную ставку с этим таинственным агентом оппозиции, которого я, по его признанию, якобы подбивал на убийство Первого?
— А подумай сам, — сказал Иванов. — Представь, что мы снова поменялись ролями — у нас, как ты знаешь, все может быть, — и постарайся ответить за меня. Идет?
Рубашов обдумал слова Иванова.
— Ты получил инструкции сверху, каким образом вести мое дело?
Иванов улыбнулся.
— Не совсем так. Фактически, сейчас решается вопрос о категории — П или Т — твоего дела. Ты понимаешь, о чем идет речь?
Рубашов кивнул. Он знал, о чем речь.
— Ну вот, кажется, ты начал понимать. П означает Публичный процесс; Т — это Трибунал, то есть Тройка. Политические дела разбирает Тройка: считается, что они не принесут пользы, если их вынести на открытый процесс. У Трибунала особый штат следователей — твое дело у меня отнимут. Суд закрытый… и довольно скорый — никаких тебе очных ставок. Ты помнишь… — Иванов назвал несколько фамилий и мельком посмотрел на светлый прямоугольник. Когда он опять повернулся к Рубашову, у него было усталое, осунувшееся лицо и слепой, устремленный в себя взгляд.
Иванов повторил, почти неслышно, имена их старых товарищей по Партии.
— …Но пойми, — сказал он немного погромче, — мы убеждены, что ваши идеи приведут страну и Революцию к гибели — так же, как вы убеждены в обратном. Это — суть. А наше поведение диктуется логикой и здравым смыслом. Мы не можем позволить, чтобы нас запутали в юридических тонкостях и хитросплетениях. Разве ты поступал иначе — в прежние времена?
Рубашов не ответил.
— Самое главное, — продолжал Иванов, — чтобы ты попал в категорию П, тогда твое дело поручат мне. Ты ведь знаешь, как подбирают дела для вынесения на открытые процессы? Я должен представить веские доказательства, что ты согласен с нами сотрудничать. Тебе необходимо написать заявление с частичным признанием своей вины. Если же ты будешь продолжать упираться и корчить из себя романтического героя, то тебя прикончат на основании показаний, которые дал предполагаемый убийца. С другой стороны, твое признание потребует более детального расследования. Мы проведем очную ставку, отвергнем главные пункты обвинения, потом признаем тебя виновным в наименее тяжких грехах оппозиции. Даже и тогда ты получишь лет двадцать — на мягкий приговор рассчитывать не приходится, но года через три объявят амнистию, и таким образом через пять лет ты уже снова будешь в седле. Советую тебе проявить благоразумие и тщательно обдумать окончательный ответ.
— Я уже обдумал, — сказал Рубашов, — мне не подходит твое предложение. Логически ты, вероятно, прав. Но с меня достаточно подобной логики. Я от нее смертельно устал — мне уже пора уходить со сцены. Отправь меня, пожалуйста, обратно в камеру.
— Что ж, пожалуйста, — сказал Иванов. — Я и не рассчитывал на быструю победу. Такие разговоры срабатывают не сразу. В твоем распоряжении две недели. Когда ты все как следует обдумаешь, заяви, чтоб тебя доставили ко мне — или пошли мне письменное признание. Я-то уверен, что ты его напишешь.
Рубашов поднялся, Иванов тоже; теперь опять было ясно видно, что он гораздо выше Рубашова. Он нажал на кнопку звонка. Пока они ждали прихода охранников, Иванов, стоя у стола, сказал;
— В одной из своих последних статей, напечатанной пару месяцев назад, ты писал, что грядущее десятилетие окончательно решит судьбу человечества. Тебе не хочется в этом участвовать? — Он, сверху вниз, улыбнулся Рубашову.
Послышались шаги, дверь отворилась. В кабинет, по форме поприветствовав Иванова, вошли два вооруженных охранника. Рубашов молча встал между ними, они повели его обратно в камеру. Тюремные коридоры заполняла тишина, за дверьми приглушенно храпели заключенные, их храп походил на придушенный хрип. Мертво светили электрические лампы.
Допрос второй
Когда Церкви угрожают враги ее, она
освобождается от велений морали. Великая цель
будущего единения освящает любые средства,
которые применяет она в борьбе с врагами
своими, вплоть до коварства, предательства,
подкупа, насилия и убийства. И отдельного
человека приносит она в жертву всеобщему благу
людскому.
Дитрих фон Нигейм, Епископ Верденский. «Третья книга о расколе», г. 14111
Из дневника Н.3. Рубашова. Пятый день заключения
Пока абсолютная цель не достигнута, путь к ней, даже перед самым концом, зачастую представляется абсолютно бесцельным. Борец за правое дело может доказать, что выбрал правильный путь, только завершив его.
Чей же путь правилен? Это определит будущее. А сейчас нам приходится действовать на свой страх и риск: мы закладываем душу дьяволу в надежде выкупить ее после победы.
Говорят, что «Государь» Макиавелли — настольная книга Первого. Так и должно быть: с тех пор о законах политической морали не написано ничего более серьезного. Либеральную болтовню XIX столетия о «честной борьбе» мы заменили революционной моралью XX века. И мы были, безусловно, правы: в революционных боях невозможно придерживаться условных правил спортивной борьбы. Политическая деятельность может быть сравнительно честной в тихих заводях Истории; на ее крутых поворотах уместен лишь старый закон о цели, оправдывающей любые средства. Мы возрождали макиавеллизм на новом этапе Истории; европейские диктаторы рабски копировали его. Мы стали неомакиавеллистами во имя всеобщей справедливости, и это наше величайшее завоевание; они подражали Макиавелли ради узко национальных интересов, скатываясь на задворки Истории. Вот почему История оправдает нас и жестоко накажет их…
Но сейчас мы действуем на свой страх и риск. Мы выбросили за борт балласт буржуазных предрассудков и правил «честной борьбы», а поэтому вынуждены руководствоваться одним-единственным мерилом — последовательной логикой. На нас лежит тяжкая необходимость додумывать каждую мысль до ее логического конца и поступать в соответствии со сделанными выводами. Мы плывем без балласта и за каждым поворотом руля неминуемо следует либо очередная победа, либо смерть.
Совсем недавно наш ведущий агробиолог В. был расстрелян — вместе с тридцатью своими приспешниками — за предпочтение азотных удобрений калийным. Первый отстаивал калийные, поэтому В. и всех его единомышленников следовало ликвидировать как вредителей. В национализированном сельском хозяйстве подобная альтернатива, приобретает исключительно громадное значение: в конечном итоге от ее решения зависит исход будущей войны. Если Первый был прав. История оправдает его, и расстрел тридцати одного человека окажется сущей безделицей. Если же он был неправ…
Фактически только это и имеет значение — кто объективно прав. Сторонников «честной борьбы» занимает совсем другая проблема: субъективная честность. По их мнению, бесчестного человека надо расстрелять, даже если он объективно прав. А вот если В. исходил из честных побуждений, хотя и был неправ, его, как им кажется, следовало не только оправдать, но и предоставить ему возможность пропагандировать азотные удобрения, даже при условии гибельных для страны последствий…
Это, безусловно, полнейшая чепуха. Для нас субъективная честность не имеет значения. Того, кто неправ, ожидает расплата; тот, кто прав, будет оправдан. Таковы законы исторически оправданного риска, таковы наши законы.
История учит нас, что ложь служит ей значительно успешней, чем правда, ибо человек слаб и к каждому этапу в своем развитии должен быть подведен насильно — через сорокалетние скитания по пустыне. К этим скитаниям его приходится принуждать угрозами и посулами, мнимыми наградами и воображаемыми карами — чтобы он не остановился преждевременно, ибо, остановившись на отдых, он снова начнет поклоняться золотому тельцу.
Мы изучили исторический процесс гораздо глубже, чем наши враги. Нас отличала от них прежде всего последовательная логичность. Мы выявили, что добродетель ничего не значит для Истории, а преступления остаются безнаказанными; но зато ничтожнейшая ошибка приводит к чудовищным последствиям и мстит за себя совершившим ее до седьмого колена.
Поэтому мы пресекали малейшую возможность какой бы то ни было ошибки. Никогда еще столь малая группа людей не сосредоточивала в своих руках такой полной власти над будущим человечества. Каждая неверная идея, которой мы следовали, превращалась в страшное преступление перед грядущими поколениями. Поэтому нам приходилось карать за порочные идеи, как за тягчайшие преступления — то есть смертью. Нас считали маньяками, ибо мы доводили каждую мысль до ее логического конца и поступали согласно сделанным выводам. Нас сравнивали с Инквизицией, ибо мы постоянно ощущали на себе бремя ответственности за спасение человечества. Подобно инквизиторам, мы искореняли семена зла не только в людских деяниях, но и в помыслах.
Для нас не существовало права личности на собственное мнение: личное дело каждого человека мы считали нашим общим делом. Нам приходилось доводить все наши начинания до их логического завершения. Наши нервы были напряжены до предела, и каждый конфликт, каждый спор между нами кончался коротким замыканием со смертельным исходом. Таким образом мы были обречены на взаимоуничтожение.
Я был частицей этого коллективного МЫ. Я мыслил и действовал по нашим законам: уничтожал людей, которых ставил высоко, и помогал возвыситься низким, когда они были объективно правы. История требовала, чтобы я шел на риск; если я был прав, мне не о чем сожалеть; если неправ, меня ждет расплата.
Но как современники могут судить о том, что откроется лишь потомкам? Мы выполняли миссию пророков, не обладая их даром. Мы заменили предвидение логикой; однако, исходя из одних предпосылок, делали различные выводы. Доказательства опровергались доказательствами, и в конце концов мы вернулись к вере, которая вообще не нуждается в доказательствах: каждый из нас уверовал в непогрешимость своих суждений. Это был поворотный момент. Мы выбросили за борт последний балласт: теперь нас удерживал только якорь веры в самих себя. Геометрия является чистым воплощением человеческой логики, но изначальные аксиомы Евклида необходимо принимать на веру. Если в них усомниться, распадется все Евклидово здание.
Первый верит в свою непогрешимость яростно, фанатично, неудержимо и слепо. У его якоря мертвая хватка. А вот мой бессильно царапает дно, и меня несет по течению…
Факт прост: я перестал верить в безошибочность своих суждений. Вот почему я здесь.
2
Следователи Комиссариата Иванов и Глеткин, только что поужинав, сидели в столовой; накануне был допрошен уклонист Рубашов. Иванов чувствовал гнетущую усталость, он расстегнул стоячий воротник и взгромоздил протез на подставленный стул. Разливая по стаканам дешевое вино, которым торговали с буфетного прилавка, он внимательно разглядывал Глеткина — тот сидел совершенно прямо, отутюженный, перетянутый скрипучими ремнями, даже не сняв кобуры с пистолетом, а ведь он устал не меньше Иванова. Глеткин выпил; широкий шрам, рассекающий его гладко выбритый череп, слегка порозовел, но лицо не изменилось. Столовая была почти что пустой — только за одним из отдаленных столиков два следователя играли в шахматы, да третий наблюдал, как идет игра.
— Что с Рубашовым? — спросил Глеткин.
— Пока ничего, — ответил Иванов, — но он по-прежнему логичен. Логика вынудит его капитулировать.
— Логика не вынудит, — сказал Глеткин.
— Не бойся, вынудит, — сказал Иванов. — Когда он осмыслит свое положение и сделает единственно возможные выводы, ему останется только капитулировать. Его сейчас не следует трогать. Бумага, карандаш, покой и курево — вот что заставит его признаться.
— Это не заставит, — сказал Глеткин.
— Я вижу, он тебя здорово разозлил.
Глеткин вспомнил, как старик в пенсне натягивал ботинок на драный носок.
— Не в нем дело, — ответил он. — Личность подследственного не имеет значения. Ты применяешь неверные методы. Они никогда на него не подействуют.
— От Рубашова можно добиться капитуляции только логикой, — сказал Иванов. — Жесткие методы тут не помогут. Он изготовлен из такого материала, который под давлением становится крепче.
— Все это разговоры, — сказал Глеткин. — Что-то мне еще не встречались люди, которые и правда могли бы выдержать любую дозу физического воздействия. Сопротивляемость нашей нервной системы строго ограничена законами природы.
— В твои руки лучше не попадаться, — с напряженной улыбкой сказал Иванов. — Да ведь ты-то выдержал. — Он поднял глаза и с секунду смотрел на глеткинский шрам.
История была хорошо известной. Однажды во время Гражданской войны Глеткина сумели захватить враги. Они выбрили ему наголо череп, обвязали голову свечным фитилем, зажгли его и стали требовать показаний. Через два часа народноармейцы неожиданно выбили врагов из деревни. Глеткин, с догоревшим до конца фитилем, был без сознания. Но он выдержал: враги ничего от него не добились.
Глеткин спокойно смотрел на Иванова — ровным, ничего не выражающим взглядом.
— А это тоже одни разговоры. Просто я вовремя потерял сознание. Еще через минуту я бы заговорил. Тут все дело в физической конституции. — Глеткин медленно допил вино; когда он ставил стакан на стол, форменные ремни пронзительно скрипнули. — Придя в себя, я и не сомневался, что рассказал им абсолютно все, но два пленных народноармейца доложили командиру, что я смолчал. За это меня наградили орденом. Тут все дело в физической конституции, и больше ничего. А остальное — сказки.
Иванов глотнул из своего стакана. Он уже очень много выпил.
— Интересно узнать, когда же ты создал свою гениальную теорию конституции. Раньше ведь не было жестких методов. Раньше у нас были только иллюзии. Общество, которое не мстит преступнику… Исправительные колонии с цветочками и лужайками… Надо же додуматься до такой херни!
— Все это будет, — сказал Глеткин. — Твое сознание отравлено цинизмом. А я вот уверен: через сотню лет мы выполним все, что когда-то задумали. Но сначала нам надо разгромить врага. Для этого хороши любые методы. У нас была лишь одна иллюзия — что все трудности уже позади. Когда меня сюда перевели, я тоже считал, что враг разгромлен. Да большинство из нас — почти весь Аппарат — думали в точности так же, как я. Мы мечтали о колониях с садами. И это была явная ошибка. Через сто лет мы добьемся возможности апеллировать к разуму правонарушителя. А сейчас мы боремся с классовым врагом, и у нас есть единственная возможность — использовать его физическую конституцию, чтобы, если возникнет необходимость, раздавить его физически и морально.
Иванов подумал, не пьян ли Глеткин. Но глядя в его по-всегдашнему спокойные, решительно ничего не выражающие глаза, понял, что тот совершенно трезв. Неопределенно улыбнувшись, Иванов спросил:
— И у тебя, значит, нет никаких сомнений, что я циник, а ты моралист?
Глеткин не ответил. Он сидел прямо, отутюженный, с кобурой на поясном ремне, от которого разило свежей кожей. Немного помолчав, он снова заговорил:
— Когда мы думали, что колонии с садами можно открывать, не разгромив врагов, доставили мне как-то на допрос крестьянина. Тогда мы всех допрашивали вежливо. Шло обобществление крестьянских хозяйств, а мой подследственный спрятал зерно. Я с ним строго придерживался инструкций: объяснил, что страна нуждается в хлебе — кормить рабочих и продавать на экспорт, за оборудование для нашей промышленности… так вот пусть он, пожалуйста, скажет, где он припрятал излишки зерна. Крестьянин, когда его ко мне доставили, думал, что его начнут избивать: знаю я таких, сам из деревни. А я вдруг начал вежливый разговор: стал убеждать, называл «гражданином» — и он решил, что следователь спятил. Или просто дурак, от природы. Я его убеждал, помню, минут тридцать. Он-то, конечно, и рта не раскрыл — ковырял пальцем то в носу, то в ушах. Ну, а я продолжал его уговаривать, хотя с самой первой минуты видел, что он считает меня дураком, а поэтому даже и слушать не хочет. Такие, как он, слов не понимают. А когда им было учиться понимать — во время многовековой спячки? И все же я придерживался инструкций: мне тогда и в голову не приходило, что бывают какие-то другие методы… Я допрашивал, без всякого толку, по двадцать и по тридцать крестьян в день. Другие мои товарищи — тоже. Жадность этих сонных скупердяев ставила под угрозу нашу Революцию. Рабочие в городах пухли с голоду, народноармейцы постоянно недоедали, без зерна никто не давал нам кредитов для создания своей военной индустрии, буржуазные государства готовились к интервенции. Крестьяне прятали по разным закутам миллионов на двести золотых денег и зарывали в землю половину урожаев. Мы уважительно говорили им «граждане», а они лениво лупали зенками и считали нас последними дураками… Третий допрос моего крестьянина был назначен на час ночи: тогда все наши следователи работали по восемнадцать часов в сутки и больше. Крестьянина разбудили; голова у него со сна, конечно, не работала; тут-то он у меня во всем и признался. Я стал допрашивать преступников ночью… Одна подследственная ждала до утра, пока я вызову ее на допрос: стульев у нас в коридоре не было, ей пришлось всю ночь простоять. И вот, когда ее ввели в кабинет, она просто-напросто рухнула на стул; посреди допроса она уснула. Я разбудил ее, задал вопрос, она ответила и опять уснула. Мне пришлось разбудить ее снова; тогда она быстро во всем призналась, не читая, подписала протокол допроса и таким образом заслужила сон. Ее муж, матерый бандит, припрятал в амбаре два пулемета и заставлял крестьян сжигать зерно; пулеметы подкрепляли его видения: ему регулярно являлся антихрист. Его жена всю ночь стояла из-за небрежности моего помощника; я начал поощрять такую небрежность; особенно упрямые дожидались допроса по сорок восемь часов подряд; простояв двое суток у дверей кабинета, они начинали понимать слова…
Игроки в шахматы смешали фигуры и сразу же начали вторую партию; третий следователь куда-то ушел. Иванов молча смотрел на Глеткина. Тот говорил спокойно и трезво, ровным, ничего не выражающим голосом.
— Мои товарищи тоже учились. Подследственные начали давать показания. Инструкции по-прежнему строго соблюдались: мы никогда не били заключенных. Но иногда они — так сказать, случайно — видели казни других заключенных. Это уже можно назвать воздействием — отчасти физическим, отчасти моральным. Другой пример: для поддержания гигиены заключенных предписывалось регулярно мыть. Бани, конечно, тогда не работали. Приходилось пользоваться старыми цистернами: мы наливали в них воду, как в ванны. Зимой трубы часто замерзали, заключенный мог выбраться из такой цистерны только с помощью рабочих «по бане», а им ведь временами надо и отлучиться. Иногда горячее водоснабжение было у нас даже слишком хорошим — это тоже зависело от рабочих. Рабочие были старыми партийцами, они не нуждались в детальных инструкциях…
— Разумеется, не нуждались, — сказал Иванов.
— Ты ведь хотел, чтобы я объяснил, как создавалась моя теория, я и объясняю, — сказал Глеткин. — Наши поступки диктуются нам строжайшей логической необходимостью; тот, кто действует из иных побуждений, — циник… Мне надо идти: поздно.
Иванов выпил и передвинул протез: его опять мучило ощущение ревматической боли в правой стопе. Он уже несколько раз пожалел, что затеял этот ненужный разговор.
Подошла официантка, Глеткин расплатился; когда она ушла, он бесстрастно спросил:
— Так как мы будем отрабатывать Рубашова?
— Я уже сказал: оставим в покое.
Глеткин встал, скрипнули ремни.
— Я признаю его прежние заслуги, — проговорил он, остановившись у стула, на который Иванов взгромоздил протез. — Но сейчас он объективно такой же вредитель, как те крестьяне. Только опасней.
Иванов снизу посмотрел на Глеткина, глеткинский взгляд ничего не выражал.
— Я дал ему две недели на раздумье, — сказал Иванов. — Пусть подумает.
В голосе Иванова прозвучал приказ. Следователь Глеткин был его подчиненным. Вскинув руку в официальном приветствии, он молча пошел к выходу из столовой; блестящие сапоги визгливо скрипели.
Иванов допил остатки вина, закурил папиросу; потом встал и, хромая, побрел к двум следователям, которые все еще играли в шахматы.
3
Сразу же после первого допроса жизнь Рубашова поразительно улучшилась. На следующее утро старик-надзиратель принес ему пачку бумаги и карандаш, мыло, полотенце и тюремные талоны — на все изъятые при аресте деньги; надзиратель сказал, что в ларьке продаются «табачные изделия и пищевые продукты».
Рубашов заказал и папирос, и еды. Надзиратель, все такой же молчаливо-угрюмый, принес заказанное удивительно быстро. Рубашов решил было вызвать врача — не тюремного, а с «воли», — но забыл об этом. Зуб прошел; он умылся, поел — и почувствовал себя почти хорошо.
Тюремный двор тщательно расчистили, многих заключенных выводили гулять. Видимо, прогулки прекратились из-за снега, но Заячья Губа и его напарник гуляли — десять минут в день — даже сразу после снегопада, возможно, по особому предписанию врача; всякий раз выходя во двор, Заячья Губа подымал голову и явно смотрел на рубашовское окно.
Рубашов ежедневно делал записи, а устав, ходил взад-вперед по камере или, прислонившись к оконному стеклу, рассматривал выпущенных во двор заключенных.
Группа составлялась из двенадцати человек; пары на расстоянии десяти шагов медленно брели вдоль кирпичных стен. В середине стояли четыре охранника, следивших, чтобы заключенные молчали; они образовывали центр медлительной, немо кружащейся по двору карусели. Прогулка продолжалась двадцать минут, потом заключенных уводили в корпус — через правую дверь, а из двери слева во двор выходила новая партия.
В первые дни Рубашов отыскивал знакомые лица, но их не было. Это и к лучшему, решил он: воспоминания о внешнем мире неминуемо отвлекли бы его от работы. Ему следовало спокойно обдумать свое отношение к живым и мертвым, увязать прошлое с мыслями о будущем, чтобы прийти к однозначным выводам. Иванов назначил двухнедельный срок, он истекал через десять дней.
Рубашов мог целенаправленно думать, только занося мысли на бумагу, однако и писать ему было трудно; он работал часа два в день. Остальное время он шагал по камере, отдавшись потоку случайных ассоциаций.
Он всегда был решительно убежден, что прекрасно знает самого себя. Ему не мешали моральные предрассудки, и у него не было никаких иллюзий относительно природы «личного Я»: он просто верил, не ища доказательств, что этот осколок «коллективного МЫ» таит в себе такие особенности, которые человек не любит показывать. Теперь, размеренно шагая по камере или неожиданно прервав ходьбу — на третьей черной плитке от окна, или прижимаясь лбом к стеклу, он совершал странные открытия. Оказалось, что раздумье — мысленный монолог — это на самом-то деле диалог, в котором один собеседник молчит, а другой, вопреки грамматическим правилам, называет его не ты, а я — чтобы втереться к нему в доверие и разузнать самые сокровенные помыслы; но немой собеседник никогда не отвечает, больше того — он наотрез отказывается определить себя в пространстве и времени.
Но с некоторых пор, как чудилось Рубашову, этот обычно немой собеседник иногда, без всяких причин и поводов, вдруг обретал свой собственный голос; Рубашов, не узнавая, слушал его… и замечал, что шевелит губами. Впрочем, чуда никакого не было — Рубашов обогащался новым опытом, вполне конкретным и физически осязаемым: он постепенно все ясней ощущал реальную природу «личного Я», хранившего раньше упорное молчание. Обретенный голос занимал Рубашова гораздо больше ивановских предложений. Он считал, что уже отверг их и таким образом вышел из игры, а значит — ограничил свое существование десятью оставшимися до срока днями; соответственно сузились и его интересы.
Он и не думал о дурацком обвинении, которым ему угрожал Иванов; а вот сам Иванов его интересовал. Уговаривая Рубашова, он упомянул, что они могли бы поменяться ролями — при несколько ином повороте событий; с этим Рубашов мысленно согласился. Они ведь были близнецами по Партии, не по рождению, а именно по Партии; одна и та же — партийная — среда формировала и выковывала их характеры в годы становления партий» них принципов. Их породнила единая мораль, общая философия и тождественное мышление. Иванов сказал совершенно правильно: они могли бы поменяться местами. И, наверно, следователю Комиссариата Рубашову пришли бы в голову те же доводы, которыми пользовался сейчас Иванов.
Привычка думать от лица противника опять властно захватила Рубашова — теперь он сидел за ивановским столом и смотрел на себя глазами Иванова, вспоминая, как сам когда-то смотрел на осужденных Партией Леви и Рихарда. Вот он, развенчанный Народный Комиссар, отставной командир и бывший товарищ, — Рубашов, глядя глазами Иванова, ощутил его сочувственное презрение. Во время допроса он не мог догадаться, хитрил Иванов или был правдивым, загонял в ловушку или спасал. Поставив себя на место Иванова, он понял, что тот сочувствовал ему так же искренне или равнодушно, как он сочувствовал Леви и Рихарду.
Рубашов заметил, что его раздумья приняли характер привычного монолога: немой собеседник опять замолчал, и, хотя монолог был адресован ему, он не проявлял признаков жизни, оставаясь неодушевленной, грамматической оболочкой первого лица единственного числа. Ни общие рассуждения, ни конкретные вопросы не могли разбудить немого собеседника. Он заговаривал без видимых причин, но, как правило, когда разбаливался зуб. Его заботили странные подробности — протянутые к кресту руки Богоматери, кошки Леви, мелодия песни с рефреном «Будем втоптаны в прах» или непонятная фраза Арловой, когда-то очень удивившая Рубашова. Да и проявлялся он тоже странно: заставлял потирать пенсне о рукав, побуждал коснуться прямоугольника на стене, где раньше висела групповая фотография, принуждал непроизвольно шевелить губами и бормотать явную бессмыслицу, вроде «теперь-то уж я расплачусь за все», насылал столбняк во время видений прошлых, похороненных памятью событий.
Неспешно шагая взад-вперед по камере, он старался исследовать как можно полнее свое новообретенное Я; с привычным — и всячески одобряемым Партией — нежеланием подчеркивать первое лицо он назвал его Немым Собеседником. Рубашову, по его глубокому убеждению, ясить оставалось совсем недолго, и он спешил логически осмыслить внутреннюю сущность нового Я. Но когда оживал Немой Собеседник, умирала способность логически мыслить. Его сущность и заключалась в том, что он, обитая за пределами логики, насылал на человека мучительную боль, иногда физическую — например, зубную, — а иногда моральную: пытку памятью. Так Рубашов после первого допроса, на седьмой день своего заключения, снова пережил — в дневных видениях — историю отношений с расстрелянной Арловой.
Человек не способен сознательно зафиксировать то мгновение, в которое засыпает, — вот и Рубашов не мог припомнить, когда он поддался дневным видениям. Утром седьмого дня в тюрьме он работал над своими записями; потом, кажется, встал с табуретки, чтобы размять затекшие ноги; а потом услышал скрежет ключа и понял, что вот уже несколько часов он безостановочно шагает по камере. Его знобило; дергало зуб; на своих плечах он ощутил одеяло; видимо, озноб и зубная боль начались несколько часов назад. Он рассеянно выхлебал баланду — дверь открыли для выдачи обеда — и снова принялся шагать по камере. Надзиратель, заглядывая временами в очко, видел, что арестант непрерывно ходит, зябко сутулится и шевелит губами.
Рубашова окружала забытая обстановка его кабинета в Торговой Миссии — забытая обстановка и странно памятный запах крупного, хорошо сложенного, сонно-медлительного тела Арловой; он видел ее склоненную шею, высокую грудь и большие глаза, неизменно обращаемые в его сторону, когда, задумавшись над какой-нибудь фразой, он расхаживал по своему кабинету. Арлова носила белые блузки, похожие на блузки его сестер, с вышивкой по высокому воротничку-стойке, темные юбки и лакированные туфли на непропорционально высоких каблуках; дешевые, всегда одни и те же серьги перечеркивали — немного вкось — ее щеки, когда она склоняла голову над блокнотом. Медлительно-мягкая пассивность Арловой, удивительно подходившая к ее должности, чудотворно снимала нервное напряжение, каким бы усталым Рубашов ни был. Его назначили руководителем Миссии через полмесяца после смерти Леви, и он с головой ушел в работу, требовавшую только чиновничьего усердия. ЦК сделал для него исключение: обычно деятелей Интернационала не переводили в Дипломатический корпус. Вероятно, Первый связывал с Рубашовым какие-то свои особые планы, потому что интернациональны и дипломаты почти никогда не встречались друг с другом — за этим следила специальная служба, — а порой проводили не только разную, но как бы прямо противоположную политику. Разумеется, Политическое Бюро Первого всегда координировало их работу: противоречия диктовались тактикой и вели к единой стратегической цели, но это было видно лишь сверху.
Рубашов с трудом привыкал к своей жизни: поначалу ему казалось удивительным, что у него есть законный, подлинный паспорт — не на чужое, а на собственное имя, что он участвует в дипломатических приемах, что его приветствуют постовые полицейские и что неприметно одетые люди следят за ним для его же охраны.:
Сначала он чувствовал себя чужаком и в шикарных; апартаментах Миссии; он понимал, что буржуазный мир ждет от него соблюдения условностей, присущих ритуальным дипломатическим действам; но ему казалось, что его подчиненные так самозабвенно выполняют ритуалы, как будто это и есть их жизнь. Когда Первый Секретарь Миссии, — подделывавший до Революции деньги, потому что Партия нуждалась в средствах, — обратил внимание Рубашова на необходимость резко изменить привычки, он, вместо товарищеской иронии, был преисполнен такой холуйской возвышенности, что Рубашову сделалось стыдно и пакостно.
У Рубашова было двенадцать подчиненных со строго определенными чинами и обязанностями: два — Первый и Второй — заместители, два бухгалтера — Главный и Старший, Секретари Миссии и их Помощники. Рубашов замечал, что, по их разумению, он превратился в «народного героя», потому что был международным бандитом. Они его высокомерно терпели и подчеркнуто, с тайным презрением, уважали. Когда Первый Секретарь Миссии излагал суть очередного документа, он старался говорить попроще — словно с ребенком или дикарем. Меньше всего ему действовала на нервы Арлова, его секретарь-стенографистка; только вот никак он не мог понять, зачем ей туфли на высоченных каблуках к белым блузкам и простеньким юбкам.
Он уже месяц проработал в Миссии, когда однажды, устав от диктовки и хождения взад-вперед по кабинету, вдруг заметил ее молчаливость.
— Товарищ Арлова, — спросил он ее, — а почему вы всегда так упорно молчите?
— Если хотите, — ответила она спокойным, даже чуть сонным голосом, — я всегда буду повторять то слово, которым вы заканчиваете фразу…
Она сидела за стенографическим столиком, склонившись к нему высокой грудью и согнув шею, так что ее серьги почти касались воротника блузки. Арлова не закидывала ногу на ногу, как его знакомые женщины-товарищи, но ее необычайно высокие каблуки все же немного раздражали Рубашова. Во время диктовки он шагал по кабинету и видел то профиль, то затылок Арловой, и вот больше всего ему запомнилась ее склоненная к блокноту шея с чистой, натянутой на позвонках кожей и тонкие завитки волос на затылке.
В юности он не интересовался женщинами: они прежде всего были товарищами, а так называемые любовные отношения возникали, как правило, после дискуссий, обычно затягивавшихся далеко за полночь, — любовь регламентировалась работой трамвая…
После неудачно начатого разговора незаметно прошло около двух недель. Первое время Арлова повторяла последнее слово законченной фразы, потом ей это, видимо, надоело, и, когда Рубашов прерывал диктовку, кабинет заполняла сонная тишина, насыщенная запахом арловских духов. Как-то под вечер неожиданно для себя Рубашов, оказавшись за стулом Арловой, легко положил руки ей на плечи и спросил, не хочет ли она с ним поужинать. Арлова не отстранилась, не повернула головы; она просто молча кивнула, соглашаясь. Рубашов не любил фривольных шуточек, но не смог удержаться и ночью сказал:
«Знаешь, я было сначала подумал, что ты застенографируешь мое предложение». Очертания полной груди казались ему такими знакомыми, словно та ночь была не первой. Только арловские длинные серьги непривычно плоско лежали на подушке. У Арловой не изменился ни взгляд, ни голос, когда она сказала фразу, запомнившуюся Рубашову навеки, — так же как протянутые руки Мадонны и запах гниющих водорослей в порту.
— Ты можешь сделать со мной что захочешь.
— Почему? — удивленно спросил Рубашов; ему даже стало как-то не по себе.
Она не ответила. Вероятно, уснула. Ее дыхания не было слышно — так же, как и днем, во время диктовки. Рубашов его никогда и не слышал. И никогда не видел — до первой ночи — лица Арловой с закрытыми глазами. Закрытые глаза, как ему показалось, делали ее лицо живее. Но опущенный к высокой груди подбородок придавал ей странное сходство с умершей. Странными были и темные тени под мышками — он их увидел впервые. Зато аромат ее сонного тела был давно и привычно знаком.
С утра и днем, много дней подряд, она, склонившись к своему столику, записывала то, что диктовал Рубашов, а ночью — много ночей подряд — очертания ее высокой груди привычно прорисовывались под его одеялом. Ее крупное спокойное тело было рядом и ночью и днем. За работой Арлова была все той же: тот же голос, те же глаза, ни надежд, ни иллюзий в чуть сонном взгляде. Изредка, устав шагать по кабинету, Рубашов останавливался за ее спиной и легко опускал ей на плечи руки; он молчал, она не шевелилась; потом он находил нужную фразу, и прерванная на минуту диктовка возобновлялась.
Порой он довольно едко комментировал свои служебно-дипломатические сочинения; Арлова сейчас же переставала записывать и ждала, держа карандаш наготове, когда он снова вернется к работе; она не улыбалась его замечаниям — просто ждала с карандашом в руках; Рубашов так никогда и не узнал ее отношения к своему сарказму. Но однажды, после опаснейшей шутки о каких-то личных привычках Первого, Арлова, по-обычному неторопливо, откликнулась: «Такого нельзя говорить на людях, надо хоть чуточку себя беречь…» Однако при ней он все же злословил, особенно читая инструкции «сверху».
Готовился Второй процесс над оппозицией. В Миссии становилось трудно дышать. Незаметно исчезали старые портреты, о которых годами никто не вспоминал; но теперь светлые пятна на стенах постоянно и назойливо лезли в глаза. Подчиненные Рубашова, встречаясь друг с другом, вели нарочито деловые разговоры; в столовой, чтоб как-то нарушить молчание, произносили строго верноподданнические фразы, так что привычные обеденные просьбы «будьте любезны, дайте мне соль» или «передайте мне, пожалуйста, горчицу», сменяемые лозунгами последнего Съезда, приобретали пародийно-жутковатый оттенок. Частенько кто-нибудь из работников Миссии в страхе, что его неправильно поняли, восклицал: «Товарищи, прошу засвидетельствовать, я говорил только то-то и то-то!». Все это представлялось Рубашову смешным и вместе с тем страшным кукольным фарсом, в котором марионетки из плоти и крови дергались на крепких ниточках директив. Одна Арлова с ее сонным спокойствием казалась Рубашову живым человеком.
Так же как исчезали портреты со стен, пустели в библиотеке книжные полки. Очередная порция книг и брошюр изымалась, когда приходила почта. Рубашов во время работы с Арловой продолжал делать едкие замечания, она слушала их по-прежнему молча. Почти все фундаментальные труды, посвященные вопросам международной торговли, уже исчезли с библиотечных полок: их автор, Народный Комиссар финансов, был незадолго до этого арестован; из старых отчетов о Съездах Партии выстригали страницы его докладов. Исчезли книги по истории Революции и работы о предреволюционной борьбе; философские сочинения и юридические справочники, написанные учеными, примкнувшими к Революции; руководства по структуре Народной Армии; исследования о профессиональных союзах и праве трудящихся Народного государства объявлять мирные забастовки протеста; не осталось практически ни одной работы о политическом строении государства; и вот, наконец, опустели полки с изданной после Революции Энциклопедией — в очередном циркуляре было объявлено, что к печати готовится улучшенное издание.
Но пустующие полки быстро заполнялись новыми изданиями основоположников с множеством подстрочных примечаний и комментариев, новыми трудами по истории Революции, новыми мемуарами старых революционеров, которые, как всем, было известно, умерли; Рубашов однажды заметил при Арловой, что скоро они, вероятно, получат старые газеты в новом издании.
А пока что пришла инструкция «сверху» назначить заведующего библиотекой с возложением на вышеупомянутого обязанности следить за политическим подбором книг. На новую должность назначили Арлову. Рубашов поговаривал о «всеобщем безумии» и считал новое назначение чепухой — пока на собрании партийной ячейки Арлову не начали вдруг изобличать. Партийцы — три или четыре человека и среди них Первый Секретарь Миссии — утверждали, что в их библиотеке нет наиболее важных речей Первого; что, с другой стороны, библиотечные полки просто ломятся от работ уклонистов; что книги видных политпредателей — платных агентов мирового капитализма — до недавнего времени хранились в библиотеке; и что все это очень похоже на провокацию. Выступающие говорили коротко и ясно; слова и фразы были тщательно выверены; казалось, что идет срежиссированный спектакль. Речи неизменно кончались утверждением, что бдительность — главное оружие Партии, а выявление всех и всяческих уклонов есть основная задача партийца. Когда на трибуну вызвали Арлову, она с обычной неторопливостью сказала, что не хотела сделать ничего плохого и строго придерживалась всех указаний; но в этот раз — впервые при сотрудниках — она не отрываясь смотрела на Рубашова… Партийное собрание вынесло резолюцию «строго предупредить товарища Арлову».
Рубашову, который прекрасно знал сущность новейших партийных методов, стало не по себе. Он догадывался, что над Арловой собирается мрачная гроза — и ощущал свою полнейшую беспомощность: опасность была совершенно безликой.
В Миссии дышалось все трудней и трудней. Теперь Рубашов, работая с Арловой, не делал никаких внеслужебных замечаний — и чувствовал себя странно виноватым. Внешне их отношения не изменились, но неопределенное чувство вины — за то, что иссякло его остроумие, — не давало ему подходить к ее стулу и в задумчивости класть ей руки на плечи. Через неделю Арлова не пришла к нему вечером; утром Рубашов ни о чем ее не спросил, вечером она опять не пришла; Рубашов заставил себя спросить ее, что случилось, лишь на третий день. Она сослалась на головную боль, и он не стал продолжать разговора. С тех пор они не встречались вечерами — вернее, встретились еще один раз. Это было через три недели после собрания партийной ячейки и спустя полмесяца после того, как Арлова впервые не пришла к нему вечером. И вот вдруг она снова пришла, ее поведение ничуть не изменилось, но Рубашова весь вечер не покидала уверенность, что она ждет решающего слова. Он сказал ей, что страшно устал и что очень радуется ее приходу, — все это было истинной правдой. Ночью, пока Рубашов не уснул, она лежала с открытыми глазами и молча, не мигая, глядела во тьму; его замучило чувство вины и давно не повторявшаяся зубная боль. Больше они по вечерам не встречались.
Утром, до прихода Арловой на работу, Первый Секретарь сообщил Рубашову — доверительным тоном и выверенными фразами, что брат Арловой и его жена арестованы Там неделю назад; невестка Арловой была иностранкой; и брат, и его жена-иностранка изобличены, как сказал Секретарь, в связях с ее буржуазной родиной для оказания помощи оппозиции.
Через несколько минут пришла Арлова. Она, как обычно, села за столик, склонив голову к своему блокноту. Рубашов расхаживал позади ее стула — ему была видна склоненная шея с чистой, натянутой на позвонках кожей и тонкие завитки волос на затылке. Он не мог оторвать от них глаз; чувство вины тонуло в дурноте — физической дурноте. Рубашов помнил, что Там осужденным стреляют в затылок.
На следующем собрании партийной ячейки Арловой выразили политическое недоверие и по предложению Первого Секретаря сместили с должности заведующей библиотекой. Никаких иных предложений не было. Рубашова замучила зубная боль, и он не смог пойти на собрание. Через два дня после собрания ячейки Арлову и еще одного сотрудника отозвали. Никто о них не вспоминал. Рубашова отозвали через несколько месяцев, и все это время, до самого отъезда, он неизменно ощущал в своей комнате запах ее спокойного тела.
4
всавай проклятьем заклейменный
Рубашов услышал эту строку утром на десятый день заключения: ее передал Четыреста шестой. Рубашов попытался завязать разговор. Пока он задавал какой-нибудь вопрос, сосед слева терпеливо молчал; а потом разражался бессвязным стуком, в котором угадывались лишь отдельные буквы, и всегда заканчивал строкой гимна с одной и той же грамматической ошибкой:
всавай проклятьем заклейменный
Соседа привезли нынешней ночью: Рубашов слышал шаги конвоиров и скрежет замка Четыреста шестой. Наутро, сразу же после подъема, сосед искусно и быстро отстукал: всавай проклятьем заклейменный. Техника у него была виртуозной, и Рубашов решил, что грамматическая ошибка в любимой фразе Четыреста шестого, так же как невнятица остальных сообщений, говорит скорее об умственном расстройстве, чем о незнании квадратической азбуки. Видимо, сосед повредился в уме.
После завтрака сосед справа, молодой поручик, отстукал вызов. За последнее время между Рубашовым и узником Четыреста второй камеры укрепилась почти приятельская связь. Усатого офицерика с моноклем в глазу, вероятно, все время грызла тоска, и он был сердечно благодарен Рубашову за любой, самый короткий разговор. По пять, а то и по шесть раз в день он просил:
давайте поговорим
Рубашову редко хотелось разговаривать, да и не знал он, о чем толковать с офицером. Обычно Четыреста второй отстукивал анекдоты — старую офицерскую жеребятину. Когда очередной анекдот кончался, в камерах воцарялась угрюмая тишина. Рубашов представлял себе, как его сосед, дойдя до кульминации, беспомощно озирался в ожидании взрывов жеребячьего хохота и с тоской смотрел на немую стенку. Временами Рубашов из сочувствия к соседу громко отстукивал ха-ха-ха-ха, и офицер впадал в идиотическое блаженство: он вколачивал в стену бесчисленные ха-ха — по всей вероятности, и ногами, и кулаками — делая иногда короткие передышки, чтобы Рубашов тоже посмеялся. Если же Рубашов хранил молчание, сосед, охваченный унылой горечью, с упреком выстукивал: вы не смеетесь… А когда Рубашов, чтобы отвязаться, отвечал азбучной имитацией смеха, офицер потом неоднократно вспоминал:
эх и здорово же мы повеселились
Порой сосед оскорблял Рубашова. Порой, не получая от него ответа, выстукивал песни Гражданской войны, в которых офицеры гнусно поносили бойцов и командиров Народной Армии. Порой отстукивал старый гимн — Рубашов, отдавшийся дневным видениям или погруженный в череду своих мыслей, вполуха слушал Четыреста второго.
Но Четыреста второй был очень полезен. Он сидел уже больше двух лет, прекрасно разбирался в здешних порядках, поддерживал связь со многими заключенными и сразу узнавал все тюремные новости.
Когда появился Четыреста шестой и офицер начал утреннюю беседу, Рубашов спросил его, не знает ли он, кого привезли нынешней ночью. Офицер ответил:
рип ван винкля
Он очень любил говорить загадками — чтобы расцветить очередной разговор. Рубашов припомнил повесть о человеке, который, проспав двадцать лет, обнаружил, что реальный мир неузнаваемо изменился.
он потерял память,
спросил Рубашов. Четыреста второй, довольный своей шуткой, рассказал Рубашову то, что знал. Четыреста шестой был учителем истории в одной из стран Юго-Восточной Европы. После Мировой войны его страну захлестнула Революция, Четыреста шестой принимал в ней участие. Разумеется, была основана Коммуна, романтически правившая несколько недель и потом буднично утопленная в крови. Руководители Революции были дилетантами, но их судили как Профессионалов: Четыреста шестого, с его пышным титулом Комиссара просвещения трудящихся масс, приговорили к смертной казни через повешение. Год он прождал исполнения приговора: потом суд заменил ему смерть пожизненным заключением в одиночной камере. С тех пор прошло два десятилетия.
Двадцать лет он просидел в одиночке, ничего не зная о внешнем мире. Да и внешний мир о нем позабыл. В этом юго-восточном государстве сохранились довольно патриархальные порядки: месяц назад там объявили амнистию, коснувшуюся всех политических заключенных; и вот современный Рип Ван Винкль, на двадцать лет оторванный от мира, был предоставлен самому себе.
В тот же день он сел в поезд и прибыл в страну своей давней мечты. Через две недели его арестовали. Возможно, двадцать лет одиночки сделали его чересчур болтливым. Возможно, он принялся рассказывать людям, какой ему виделась жизнь Там, когда он мечтал о ней в одиночке. Возможно, захотел узнать адреса своих партийных товарищей по движению — наемных агентов мировой буржуазии. Возможно, не туда возложил венок или решил нанести визит командиру знаменитой бригады Рубашову — своему нынешнему товарищу по тюрьме.
Теперь он мог бы задаться вопросом, что было лучше — два десятилетия во тьме одиночки или же две недели реальности в ярком свете осуществленной мечты. И, возможно, рассудок Рип Ван Винкля не выдержал такой непосильной нагрузки…
Вскоре зазвучала левая стенка: Рип Ван Винкль простукал раз шесть всавай проклятьем заклейменный и смолк. Рубашовскую камеру затопила тишина.
Рубашов лег и закрыл глаза. Неожиданно ожил Немой Собеседник — он не сказал ни одного слова, и тем не менее Рубашов понял.
За это тебе тоже придется расплачиваться: его мечту осуществлял ты.
Днем Рубашова повели стричься.
На этот раз его сопровождал только один вооруженный охранник: старик-надзиратель шел впереди, за ним Рубашов, за Рубашовым — охранник. Они миновали Четыреста шестую — на двери пока что не было таблички. В парикмахерской их ждал мастер из заключенных — один; другого куда-то услали; Рубашов понял, что существует приказ не допускать его встреч с другими заключенными.
Он сел; здесь было сравнительно чисто; висело зеркало; он снял пенсне и мельком глянул на свое лицо; оно обросло густой щетиной, никаких других перемен не было.
Парикмахер работал аккуратно и быстро. Дверь в коридор оставалась открытой; старик-надзиратель куда-то ушел, охранник, прислонившись к дверному косяку, наблюдал за работой; парикмахер молчал. Ощущение мыльной пены на щеках доставляло Рубашову огромное удовольствие; ему припомнилось, что в обыденной жизни есть множество мелких, но приятных радостей. Он очень охотно поболтал бы с парикмахером, но это, разумеется, было запрещено; Рубашов не хотел усложнять ему жизнь, тем более что его открытое лицо сразу внушило Рубашову симпатию. По облику он не походил на парикмахера: скорее — на механика или кузнеца. Начав брить, он спросил: «Не беспокоит?.. — и негромко добавил: — …гражданин Рубашов».
Это была его первая фраза; несмотря на совершенно равнодушный тон, в ней прозвучала скрытая многозначительность. Охранник у двери закурил папиросу; парикмахер продолжал работать молча: точными, профессионально-скупыми движениями он подровнял рубашовскую эспаньолку, а потом принялся подстригать ему волосы. Глаза Рубашова на мгновение встретились с напряженным взглядом парикмахера-арестанта — и тотчас же парикмахер, как бы для того, чтобы подкоротить ему волосы на шее, просунул два пальца под ворот рубахи; когда он их вытащил, Рубашов почувствовал колкий комочек бумаги под рубахой. Через несколько минут стрижка закончилась, и Рубашова отвели обратно в камеру. Он сел на койку и, посматривая в очко, чтобы его не застали врасплох, вынул бумажку, развернул ее и прочел. В ней торопливо-неразборчивым почерком было написано:
«Умрите молча».
Рубашов бросил записку в парашу и задумался. Со дня своего ареста он был отрезан от всего мира — и вот получил первое послание. Сидя в тюрьмах враждебных стран, он нередко получал записки с призывом «возвысить голос протеста и швырнуть обвинения в лицо обвинителям». Интересно, случалось ли такое в Истории, чтобы для пользы революционного дела революционера призывали молчать? Чтобы от него требовалось одно — и только одно — умереть молча?
Мысли Рубашова прервал сосед, поручик: он начал стучать в стенку, едва Рубашов возвратился из парикмахерской. Ему не терпелось поскорее узнать, куда и зачем «дергали» Рубашова.
водили стричься,
объяснил Рубашов.
боялся наихудшего,
простучал сосед.
только после вас,
ответил Рубашов.
Четыреста второй был благодарным собеседником.
ха-ха,
с энтузиазмом отстукал он,
а вы чертовски мужественный парень.
Странно, но этот старомодный комплимент показался Рубашову очень приятным. Он завидовал Четыреста второму с его плановым кодексом чести, который указывал, как ему жить и как умирать… Завидная доля! У Рубашова и его товарищей по движению не было свода нравственных правил: все свои поступки они совершали, сообразуясь с единственным мерилом — рассудком.
Даже обдумывая собственную смерть, Рубашов полагался только на разум. Что честнее — умереть молча или пойти на великие унижения во имя борьбы за великие идеалы? Он принес в жертву жизнь Арловой, чтобы сохранить себя для Революции. Его жизнь была объективно нужнее, этот довод выдвигали и друзья: долг сохранить себя в резерве Партии был, по их — и его — мнению, важней велений буржуазной морали. Для тех, кто меняет облик Истории, нет никакого иного долга, кроме готовности идти вперед. «Ты можешь сделать со мной что захочешь», — сказала Арлова, и, когда понадобилось, он сделал именно то, что хотел. Почему же он должен относиться к себе с большей бережностью, чем к покорной Арловой? «Грядущее десятилетие окончательно решит судьбу человечества», — писал Рубашов. Имеет ли он право дезертировать из жизни ради гордости, покоя или славы? А что, если Первый все-таки прав? Что, если здесь, в кровавой грязи, во лжи и насилии, закладывается фундамент великого счастья всего человечества? История, этот неразборчивый строитель, всегда скрепляла здание Будущего раствором грязи, крови и лжи — она никогда не была человечной. Умереть молча, уйти во тьму — красивые слова… Рубашов замер — на третьей черной плитке от окна: он вдруг заметил, что твердит вслух слова записки «умрите молча» — твердит неодобрительно-ироническим тоном, как бы подчеркивая их бессмысленность.
И он понял, что его решение пренебречь разумным советом Иванова было вовсе не таким уж окончательным. Сейчас ему даже казалось сомнительным, что он принял подобное решение, то есть решил умереть молча.
5
Жизнь Рубашова продолжала улучшаться. Утром на одиннадцатый день заключения ему первый раз разрешили прогулку.
Старик-надзиратель и тот самый охранник, который сопровождал его в парикмахерскую, пришли за ним сразу же после завтрака. Надзиратель официально объявил Рубашову, что ему разрешена ежедневная прогулка — двадцать минут в тюремном дворе. Рубашова приписали к первой партии. Надзиратель быстро отбарабанил инструкцию — разговоры на прогулке со своим напарником, а равно и с любым другим заключенным запрещены; запрещается обмениваться знаками или какой-либо иной информацией; шаг влево или шаг вправо из строя заключенных приравнивается к побегу; заключенный, нарушивший данную инструкцию, немедленно лишается права прогулки; серьезные нарушения влекут за собой содержание в карцере — до четырех недель… Затем Рубашова вывели в коридор. Поравнявшись с Четыреста шестой камерой, надзиратель открыл тяжелую дверь.
Рубашов, остановленный за несколько шагов, увидел ноги лежащего заключенного. На них были черные башмаки с пуговками и старые, обтрепанные внизу до бахромы, но трогательно опрятные клетчатые брюки. Брюки нерешительно сползли с койки, надзиратель снова прочитал инструкцию, и в дверях, помаргивая от яркого света, показался пожилой исхудалый человечек. Лицо его покрывала седая щетина, из-под черного пиджака виднелась жилетка. С пристойным любопытством оглядев Рубашова, человечек сдержанно, но приветливо кивнул ему, и они двинулись к выходу во двор: впереди надзиратель, за ним заключенные и сзади них вооруженный охранник. Рубашов ожидал встретить сумасшедшего, но Четыреста шестой не выглядел сумасшедшим. Несмотря на тик — у него дергалась бровь, скорее всего от лишений в одиночке, — глаза Рип Ван Винкля лучились дружелюбием, немного наивным, но вполне осмысленным. Он шел мелкими твердыми шажками, с каким-то едва уловимым напряжением и временами приветливо посматривал на Рубашова. Когда они начали спускаться по лестнице, он споткнулся и скатился бы вниз, если бы его не поддержал охранник. Рип Ван Винкль поблагодарил охранника — слов Рубашов расслышать не смог, — и тот расплылся в туповатой ухмылке. Вскоре они вышли на тюремный двор, где заключенных уже выстроили по два; один из охранников свистнул в свисток, и первая рубашовская прогулка началась.
Небо было чистым и выцветшим, воздух искрился звонким морозцем; Рубашов, забывший захватить одеяло, сразу ощутил ознобную дрожь. Рип Ван Винкль набросил на плечи вытертое до дыр старое одеяло, которое ему протянул надзиратель. Он молча шел рядом с Рубашовым твердыми, немного напряженными шажками и, прижмурившись, взглядывал в солнечное небо; серое, свисающее до колен одеяло покрывало его, словно мягкий колокол. Рубашов посмотрел на окно своей камеры; оно ничем не отличалось от других, слепых и тусклых, как глаза с бельмами; сквозь стекло ничего нельзя было увидеть. Он перевел взгляд на окно справа, за которым жил Четыреста второй, — тот же слепой решетчатый прямоугольник. Четыреста второго не выводили на прогулку; не выводили его ни в парикмахерскую, ни к следователю; он никогда не покидал своей камеры.
Заключенные медленно кружили по двору. Губы Четыреста шестого шевелились, он беспрестанно что-то бормотал, но Рубашов не мог разобрать что; впрочем, вскоре он уловил мелодию гимна «Вставай, проклятьем заклейменный». Нет, Рип Ван Винкль не был сумасшедшим, но семь тысяч дней одиночного заключения сделали его несколько странным. Рубашов искоса оглядел напарника, пытаясь осмыслить чувства человека, просидевшего двадцать лет в одиночке. Когда его осудили, не было радио, автомобили казались экзотической редкостью, нынешних политиков никто не знал. Волна Движения сходила на нет; ни один революционер в то время не предвидел, на сколько потоков она разобьется, когда опять наберет силу, — так же как никто не мог предсказать изменений в структуре Революционного Государства и крутых поворотов на его пути; тогда все верили, что человеческий род подошел к воротам Земного рая…
Рубашов понял, что не может почувствовать состояния психики Рип Ван Винкля, хотя он очень хорошо умел «смотреть на мир глазами других». С Ивановым и Первым или даже с поручиком, отделенным от него кирпичной стеной, это удавалось ему без труда, а вот с Рип Ван Винклем никак не получалось. Рубашов искоса глянул на напарника, тот как раз повернул к нему голову: он улыбался и, придерживая одеяло, едва слышно напевал свой гимн.
Когда их привели обратно в корпус, Рип Ван Винкль на пороге камеры обернулся и опять кивнул Рубашову; его глаза изменили выражение: теперь в них мерцали безнадежность и страх; Рубашов ждал какой-нибудь реплики, но старик-надзиратель захлопнул дверь. Как только охранник и надзиратель ушли, Рубашов бросился к левой стенке.
Но Рип Ван Винкль ничего не передал ему и даже не откликнулся на его вызов.
А Четыреста второму не терпелось узнать малейшие подробности рубашовской прогулки — он ведь видел Рубашова в окно. Его интересовало буквально все: как пахнет воздух, очень ли морозно, встречался ли Рубашов в коридоре с заключенными, удалось ли ему поговорить с напарником… Рубашов терпеливо отвечал на вопросы, сравнивая себя с Четыреста вторым — того никогда не выпускали из камеры, — он чувствовал какую-то странную виновность, потому что был привилегированным узником; да и кроме всего прочего, он жалел поручика.
Назавтра и потом еще один раз, когда Рубашова выводили на прогулку, его напарником был Рип Ван Винкль. Они бок о бок кружили по двору, не разговаривая друг с другом и кутаясь в одеяла; Рубашов отдавался потоку мыслей, или внимательно разглядывал заключенных, или смотрел на зарешеченные окна; Рип Ван Винкль, маленький, седой, с приветливой, по-детски наивной улыбкой на заросшем серой щетиной лице, напевал свою извечную мелодию.
До их третьей совместной прогулки во дворе они не обменялись ни единым словом, хотя Рубашов замечал, что охрана почти не следит за соблюдением инструкции и другие заключенные постоянно разговаривают: они глядели прямо перед собой и старались поменьше шевелить губами — Рубашов хорошо знал эту тюремную технику.
В третий раз Рубашов захватил свою записную книжку и карандаш, книжка торчала из левого кармана. Минут через десять напарник увидел ее, его глаза радостно вспыхнули. Он украдкой посмотрел на охранников — те разговаривали между собой и очень небрежно следили за арестантами — выхватил книжку из рубашовского кармана, спрятал ее под свое одеяло и, видимо, сразу же начал писать. Потом бесшумно вырвал страницу, сложил ее и сунул Рубашову в руку; книжку с карандашом он оставил себе и снова принялся что-то писать. Охранники по-прежнему не следили за арестантами; Рубашов развернул сложенный листок. На нем ничего не было написано: напарник нарисовал географическую карту — причем нарисовал необычайно искусно — карту Страны Победившей Революции с главными городами, горами и реками; столицу страны он изобразил флагом, на котором красовался символ Революции.
Когда они прошли еще полкруга, напарник снова вырвал страничку и, сложив ее, сунул в рубашовскую ладонь. Это была та же самая карта. Четыреста шестой улыбнулся Рубашову, он явно ждал ответной реакции. Смущенный пристальным взглядом напарника, Рубашов пробормотал, что карта прекрасная. Напарник заговорщицки подмигнул Рубашову.
— Я могу нарисовать ее с закрытыми глазами.
Рубашов промолчал.
— Понимаю, вы не верите. Но я-то практиковался двадцать лет.
Напарник мимолетно глянул на охрану, закрыл глаза и, не изменив походки, стал разрисовывать третий листок под прикрытием свисающего до колен одеяла. Он шел, как привыкший к слепоте человек, немного вздернув вверх подбородок. Рубашов с беспокойством посмотрел на охранников — он боялся, что напарник споткнется и упадет или нарушит строй заключенных. Однако вскоре тот открыл глаза и передал Рубашову еще одну карту, чуть менее четкую, но все же верную; разве что символ Революции на флаге оказался теперь непропорционально большим.
— Видите? — гордо прошептал напарник.
Рубашов кивнул. В глазах напарника вдруг зажегся тот самый тоскливый страх, который Рубашов заметил накануне, когда их после прогулки разводили по камерам.
— Ничего не поделаешь, — шепнул старик. — Мне указали неверный поезд.
— В каком смысле? — спросил Рубашов.
— В прямом. Я сел не в тот поезд, когда они выпустили меня из тюрьмы. Они предполагали, что я не пойму. Не проговоритесь им, что я догадался. — Он скосил глаза в сторону охранников.
Рубашов кивнул. Через несколько минут один из охранников свистнул в свисток. Очередная прогулка была окончена.
При входе в корпус, незаметно для охраны, Четыреста шестой участливо спросил:
— Может, и с вами приключилось то же самое? — Его взгляд снова был дружелюбным и ясным. Рубашов кивнул.
— Не теряйте надежды. Так или иначе мы туда проберемся, — Четыреста шестой указал на листочки, которые Рубашов держал в кулаке.
Потом он сунул книжку и карандаш Рубашова в карман; подымаясь по лестнице, он напевал свой извечный гимн.
6
Когда одиночникам разносили ужин, Рубашова охватила странная тревога. Наутро кончался двухнедельный срок, данный ему Ивановым на раздумье, но не это его сейчас тревожило — тревога была совершенно безотчетной. Ужин ничем не отличался от обычного, раздавали его в обычное время… и все же что-то неуловимо изменилось — то ли один из дежурных баландеров посмотрел на него чуть более внимательно, то ли в голосе старика-надзирателя прозвучали немного необычные ноты… Рубашов не мог определить, в чем дело, однако работать он тоже не мог, потому что ощущал глухое напряжение, — так ревматик предчувствует близкую грозу.
После отбоя он подкрался к двери и внимательно оглядел сквозь очко коридор — лампы горели только вполнакала; тускло поблескивал каменный пол; тишина, затопившая одиночный корпус, казалась особенно глухой и глубокой. Рубашов лег; потом опять встал; попытался снова вернуться к работе — написал в блокноте несколько фраз; потушил догоревший до бумаги окурок; сейчас же закурил новую папиросу; потом машинально подошел к окну и посмотрел во двор: начиналась оттепель; снег был рыхлым и грязно-желтым; небо затянули низкие облака; напротив привычно похаживал часовой. Рубашов опять глянул в коридор — безлюдье, тишина, желтоватый свет.
Вопреки обыкновению не разговаривать ночью, Рубашов вызвал Четыреста второго:
вы спите
негромко простучал он.
Четыреста второй откликнулся не сразу. Спит, разочарованно заключил Рубашов. Однако Четыреста второй ответил — глуше и гораздо медленней, чем всегда:
нет
И, помолчав, отстукал вопрос:
вы значит тоже это почувствовали
что почувствовал, спросил Рубашов. Ему отчего-то стало трудно дышать. Он неподвижно лежал на койке и стучал в стену дужкой пенсне.
Четыреста второй явно колебался. Потом ответил — настолько глухо, что его стук напоминал шепот:
будет лучше если вы уснете
Да, стыдно, подумал Рубашов: офицерик старался его успокоить. Он, не шевелясь, лежал на спине и в темноте разглядывал свое пенсне. Тишина казалась такой тяжелой, что у него отчетливо звенело в ушах. Внезапно стена опять ожила:
удивительно что вы сразу почувствовали
что почувствовал
отстукал Рубашов
объясните.
Он резко поднялся и сел, а Четыреста второй не торопился с ответом. Через пару минут Рубашов услышал:
сегодня заканчивается борьба с уклонистами
Рубашов понял. Он прислонился к стене и ждал продолжения. Но сосед молчал. Немного погодя Рубашов спросил:
ликвидации
да,
ответил поручик.
откуда вы знаете,
простучал Рубашов.
от заячьей губы
в котором часу
не знаю.
Потом после паузы:
скоро
фамилии неизвестны,
отстукал поручик. И добавил:
политические уклонисты как вы
Рубашов лег, все было ясно. Через некоторое время он надел пенсне, подложил под голову руку и замер. Тишину в камере ничто не нарушало. Тьма немо заглатывала секунды.
Он никогда не присутствовал при казни, не считая почти состоявшейся собственной, — это было на Гражданской войне. Ему не удавалось представить себе, как это делается в мирное время, когда все происходит буднично и по плану. Он слышал, что казни совершаются ночью, в подвалах, что осужденным стреляют в затылок, но он не знал никаких подробностей. Для Партии смерть не была таинством, в ней не видели ничего романтического. Она являлась весомым фактором, который учитывали в логических построениях, и имела сугубо отвлеченный характер. Слово «смерть» употреблялось редко, точно так же, как и слово «казнь»; в партийных кругах говорили «ликвидация». Это понятие коротко выражало одну совершенно определенную мысль — прекращение активной политической деятельности. Смерть была технической деталью и сама по себе никого не интересовала; в этом компоненте логических выкладок не учитывался ее физический смысл.
Рубашов смотрел сквозь пенсне во тьму. Приведен ли уже приговор в исполнение? Или приговоренные все еще живы? Он снял ботинки, стащил носки и снова неподвижно вытянулся на койке; пальцы ног чуть белели во тьме. Тишина стала совершенно мертвой, раздавила и стерла малейшие шорохи, которые обычно наполняли камеру. Безмолвие оглушало, как барабанный бой. Рубашов глянул на голые ноги и нарочито медленно пошевелил пальцами. Получилось жутковато: белесые пальцы словно бы жили собственной жизнью. Все его тело, от головы до ступней, напоминало о себе необычайно настойчиво: он одинаково остро ощущал и вялое прикосновение тепловатого одеяла, и твердость лежащего на руке затылка. В каком месте происходят ликвидации? Ему представлялось, что где-то внизу, куда вела винтовая лестница, которая начиналась за парикмахерской камерой. Он услышал скрип глеткинских ремней, вдохнул удушливый запах кожи. Что Глеткин говорил осужденному? «Повернитесь, пожалуйста, лицом к стене?» Или «пожалуйста» тут не уместно? Может, он говорил: «Не надо бояться. Вы не успеете ничего почувствовать…»? А может быть, он стрелял без предупреждения, идя за осужденным по длинному коридору, — но ведь тот наверняка постоянно оглядывался. Может, он прятал пистолет в рукаве, как дантист прячет от пациента щипцы? Может, при ликвидации присутствуют понятые? Кто они? И куда падает осужденный — вперед или назад? Молча или с криком? Возможно, расстрелянный умирает не сразу, и его приканчивают вторым выстрелом.
Рубашов курил и смотрел на ноги. Безмолвие было таким глубоким, что слышалось потрескивание горящего табака. Он затянулся и отшвырнул папиросу. Глупости все это. Грошовая романтика. Ликвидация есть всего лишь ликвидация: пресечение активной политической деятельности. Смерть — в особенности собственная смерть — является типичной логической абстракцией. Там, внизу, наверняка уже кончили, а в настоящем для прошлого места нет. Камеру заволакивала безмолвная тьма. Четыреста второй упорно молчал.
Ему хотелось что-нибудь услышать — хотя бы вопль или стон в коридоре, — лишь бы всколыхнулась эта черная тишина. Он вдруг понял, что уже несколько минут вдыхает запах расстрелянной Арловой — даже с дымом непогасшей папиросы. Арлова носила свой кожаный портсигар в сумочке, вместе с духами и пудрой… Рубашов пошевелился — скрипнула койка, подчеркнув плотное безмолвие камеры.
Он собирался встать и закурить, когда стена опять ожила.
они приближаются,
передал поручик.
Рубашов прислушался. Но ничего не услышал, кроме биения крови в висках. Он подождал. Тишина уплотнялась. Сняв пенсне, он отстукал дужкой:
не слышу
Четыреста второй не ответил. А потом громко и отчетливо простучал
триста восьмидесятый передайте дальше
Рубашов медленно опустился на койку. Трехсотвосьмидесятый — через одиннадцать камер — передал ему весть о своей смерти. Одиннадцать одиночников, сквозь тьму и безмолвие, донесли акустическую эстафету до Рубашова. Беспомощные, запертые в кирпичных клетках, они выражали солидарность приговоренному. Рубашов вскочил и как был, босиком, шагнув к параше у левой стены, торопливо сообщил Четыреста шестому:
внимание сейчас поведут на расстрел трехсотвосьмидесятого передайте дальше
И замер. Смрадно воняла параша. Ее тошнотворные и тяжкие испарения сразу же вытеснили запах Арловой.
Четыреста шестой ничего не ответил. Рубашов поспешно вернулся к койке. На этот раз он отстукал вопрос не дужкой пенсне, а костяшками пальцев:
как его фамилия
Ответа не было. Рубашов понимал, что Четыреста второй мечется, как маятник, от стенки к стенке. В одиннадцати камерах босые заключенные бесшумно двигались взад и вперед… Ага, вернулся Четыреста второй:
читают приговор передайте дальше
Рубашов повторил:
как его фамилия
Но Четыреста второй опять не ответил — видимо, вернулся к правой стене. Рубашов понимал, что Рип Ван Винклю передавать сообщение не имеет смысла, однако он все же подошел к параше и отстукал то, что услышал сам, — из чувства долга, чтоб не прервать эстафету. От запаха параши его чуть не вырвало. Он снова вернулся к правой стене и сел на койку. Тишина нарастала. Четыреста второй глухо передал:
кричит помогите
Рубашов поднялся и отстукал над парашей:
кричит помогите
Потом прислушался. Тишина длилась. Рубашов боялся, что его стошнит, когда он снова подойдет к параше.
ведут вырывается зовет на помощь передайте…
начал Четыреста второй.
как его фамилия,
спросил Рубашов — раньше, чем сосед закончил сообщение. На этот раз он получил ответ:
богров уклонист передайте дальше
Ноги у Рубашова вдруг стали ватными. Но он поднялся, пересек камеру и, привалившись к правой стене, отстукал:
приговорен к расстрелу Михаил богров матрос первого революционного броненосца первый кавалер ордена революции командующий восточно-океанским флотом
Рубашова вырвало в смрадную парашу. Он выпрямился, вытер со лба испарину и закончил сообщение Четыреста Шестому:
его ведут передайте дальше
Рубашов давно не видел Богрова, но общий облик его он помнил — гигантскую, немного неуклюжую фигуру, свисающие чуть ли не до колен руки и курносое веснушчатое плоское лицо. Они вместе отбывали ссылку после неудавшейся Первой Революции; Рубашов учил Богрова грамоте и основам историко-революционного мышления; с тех пор, где бы Рубашов ни жил, он получал два раза в год написанное от руки письмо Богрова, которое неизменно кончалось словами: «Твой товарищ до скончания жизни».
приближаются,
передал поручик громко. Рубашов, все еще стоя у параши, явственно услышал его сообщение.
подойдите к очку барабаньте в дверь передайте дальше,
скомандовал поручик.
Рубашов одеревенел. Но пересилил себя и внятно простучал Четыреста шестому:
подойдите к очку барабаньте в дверь передайте дальше.
Шагнув во тьму, он неслышно приблизился к двери. Тишину коридора ничто не нарушало. Рубашов ждал; через несколько секунд Четыреста второй простучал:
начинайте
Коридор наполнился глухим рокотом. Люди, стоявшие у дверных глазков, застыли, как солдаты почетного караула, и тусклую желтизну безмолвного коридора наполнил торжественно-мрачный гул, похожий на волны барабанного боя, доносимого издали порывами ветра. Рубашов, прижавшись виском к очку, начал постукивать обеими ладонями по массивной, обитой железом двери. К своему удивлению, он услыхал, что рокот не обрывается за его камерой: Рип Ван Винкль, видимо, понял и сейчас тоже барабанил в дверь. Потом до Рубашова донесся лязг — где-то открыли и закрыли камеру, — но он по-прежнему ничего не видел. Рокот слева сделался громче, и вот послышался стук шагов — шли двое — и скребущее шарканье. Волна рокота слева окрепла, налилась хоть и сдержанной, но мрачной силой. Коридор, от Четыреста первой камеры до Четыреста седьмой, оставался пустым; дальше Рубашов заглянуть не мог. Скребущее шарканье и мерный топот приблизились, теперь Рубашов различил стоны и как бы детское всхлипывание. Звуки слышались совершенно отчетливо; рокот слева, ближе к Рубашову, усиливался, но делался менее мощным: процессия приближалась, и те заключенные, мимо которых она прошла, один за другим переставали стучать.
Рубашов все бил ладонями в дверь. Он утратил чувство пространства и времени: шумели джунгли, рокотали тамтамы — или загнанные в клетки гориллы старались выломать стальные прутья, — он прижимался глазом к очку и колотил ладонями по массивной двери. Он видел лишь тусклое электрическое марево, каменный пол и четыре камеры, но волны рокота катились по коридору, а шарканье, стоны и шаги приближались. Внезапно три человеческие фигуры появились в дальнем конце коридора. Рубашов перестал стучать и вгляделся. Через несколько секунд коридор опустел.
Но картина, которую он увидел, резко отпечаталась у него в памяти. Два охранника, широко шагая, быстро прошли по тюремному коридору; в скудном освещении их темные фигуры казались огромными и тускло размытыми, между ними волоклась третья фигура. Человек, которого они волокли, держа его с обеих сторон под руки, бессильно провисал животом вниз, его голова свешивалась к полу, а ноги тащились по каменным плиткам; и вместе с тем во всем его теле угадывалась какая-то неживая оцепенелость. Носки ботинок скребли пол, иногда цеплялись за швы между плитками, — этот прерывистый скребущий шорох можно было принять за шарканье. Слипшиеся пряди серых волос свисали на покрытый испариной лоб и в стороны, к безвольно открытому рту. Изо рта тянулась струйка слюны. Когда охранники с осужденным скрылись, в коридоре некоторое время плавало детское хнычащее «у-а-о» и слабые, совсем не мужские стенания. Но прежде чем хлопнула бетонная дверь, замыкающая коридор одиночного блока, Богров два раза пронзительно вскрикнул, и Рубашов различил не только гласные — в отрывистых, распадающихся на слоги воплях он отчетливо услышал:
«Рубашов, Рубашо-о-ов!», — Богров обращался именно к нему.
Крики взломали тяжелое безмолвие и словно бы рассеяли желтое марево. Лампы загорелись полным накалом, где-то зазвучали шаги надзирателя, и Четыреста шестой простукал в стенку:
всавай проклятьем заклейменный
Рубашов неподвижно лежал на койке; он не помнил, как до нее добрался. Ему еще слышался мрачный рокот, но в камере уже установилась тишина — буднично спокойная тишина одиночки. Четыреста второй, наверное, спал. Земное существование Михаила Богрова было, по всей вероятности, закончено.
«Рубашо-о-ов!» — дважды повторенный вскрик все еще звучал в ушах Рубашова. Зрительный образ казался стертым; неживая, бессильно прогнувшаяся фигура, струйка слюны, взмокшее лицо и ноги, скребущие каменный пол, — это пятнадцатисекундное видение никак не совмещалось с Михаилом Богровым. Как им удалось такого добиться? Как им удалось довести Богрова, сильного и сурового моряка с броненосца, до слабеньких стенаний и детского хныканья? И Арлова… что же происходило с Арловой, когда ее волокли по тюремному коридору?
Рубашов стремительно сел на койке и прижался виском к холодной стене, за которой спал Четыреста второй; он боялся, что его опять сейчас вырвет. До нынешней ночи он не представлял себе смерти Арловой с такими подробностями. Смерть была отвлеченным понятием; и хоть Арлова вспоминалась с тяжелым чувством, Рубашов до сих пор ни разу не усомнился в логической оправданности своего поведения. А теперь вот, чувствуя во рту блевотину, взмокший, с прилипшей к спине рубахой, он видел безумие подобной логики. Хныканье Богрова заглушило доводы, которые доказывали его правоту. Жизнь Арловой входила в уравнение, и логически ею следовало пожертвовать, потому что иначе уравнение не решалось. И вот оно перестало существовать. Ноги Арловой, скребущие пол, стерли строгие логические символы. Малозначащий фактор стал вдруг важнейшим, единственно значимым, а детское хныканье и лишенный человеческих интонаций голос, которым Богров взывал к Рубашову, и прощальный угрюмо-торжественный рокот заглушили спокойный голос рассудка, как гром заглушает шелест листвы.
В конце концов Рубашов уснул — сидя на койке и привалившись к стене; над его плотно закрытыми глазами поблескивало так и не снятое пенсне.
7
Он стонал; ему снился первый арест; рука, свисающая с койки, дергалась в поисках рукава; он ждал удара; но пришедшие за ним почему-то медлили.
Его разбудил вспыхнувший свет. Кто-то стоял возле самой койки. Он спал каких-нибудь пятнадцать минут, но ему всегда требовалось время, чтоб собраться с мыслями после ночного кошмара. Он щурился от яркого электрического света, перебирая в уме знакомые возможности — тяжкий, хотя и привычный ритуал. Да, он арестован — но он ведь не за границей — значит, арест ему только приснился. Он свободен — и тогда над кроватью должна висеть литография Первого; он глянул вверх — литографии не было. Зато у стены виднелась параша. Рядом с кроватью стоял Иванов и дул ему в лицо папиросным дымом. Может, Иванов тоже ему снится? Нет, это был реальный Иванов, и параша была реальной парашей. Понятно: он в своей собственной стране, ставшей вражеской; Иванов — враг, хотя когда-то он был другом; и хныканье Арловой было реальным. Нет-нет, хныкала вовсе не Арлова, а Богров, «товарищ до скончания жизни» — его волокли по тюремному коридору, и он кричал: «Рубашов, Рубашо-о-о-в!» — это он помнит, это не сон. Арлова, та говорила другое: «Ты можешь сделать со мной что захочешь…»
— Ты заболел? — проговорил Иванов. Рубашова слепил электрический свет.
— Дай мне халат, — сказал он, щурясь.
Иванов промолчал. Он смотрел на Рубашова — у того распухла правая щека. «Хочешь коньяка?» — спросил Иванов. Не дожидаясь ответа, он подошел к двери и что-то крикнул в смотровой глазок. Рубашов, щурясь, смотрел на Иванова. Ему не удавалось собраться с мыслями. Он проснулся, но в себя еще не пришел.
— Тебя тоже арестовали? — спросил он Иванова.
— Нет, — спокойно ответил Иванов. — Я пришел сам. По-моему, ты болен.
— Дай-ка папироску, — сказал Рубашов.
Он затянулся, сознание прояснилось. Он лег на спину и посмотрел в потолок. Дверь открылась, вошел надзиратель; он принес бутылку коньяку и стакан. Нет, это был не надзиратель, а охранник — в форме и очках с металлической оправой, молодой и подтянутый. Он отдал честь, протянул Иванову стакан и бутылку, вышел из камеры и захлопнул дверь. Простучали, удаляясь, его шаги.
Иванов присел на рубашовскую койку и налил в стакан немного коньяка. «Выпей», — сказал он. Рубашов выпил. Туман в голове почти рассеялся: первый арест, второй арест, сны, Арлова, Богров, Иванов — все уже встало на свои места.
— Так ты что — разболелся? — спросил Иванов.
— Да нет. — Рубашов теперь не понимал одного: почему Иванов сидит в его камере.
— Тебе здорово разнесло щеку. И я так думаю, что у тебя жар.
Рубашов поднялся, подошел в двери, глянул через смотровой глазок в коридор, неторопливо прошелся пару раз по камере — он хотел, чтобы голова прояснилась окончательно. Потом остановился напротив Иванова — тот по-прежнему сидел на койке, пуская в воздух колечки дыма.
— Чего тебе надо? — спросил Рубашов.
— Поговорить с тобой, — ответил Иванов. — Ложись-ка и выпей немного коньячка.
Рубашов, все еще не снимая пенсне, иронически прищурился и глянул на Иванова.
— Знаешь, а я тебе было поверил, — сказал Рубашов размеренно и спокойно. — Теперь-то я вижу, что ты просто сволочь. Убирайся отсюда.
Иванов не пошевелился.
— Будь любезен, — проговорил он, — объясни, почему ты считаешь меня сволочью.
Рубашов прислонился спиной к стене, отделяющей его от Рип Ван Винкля, и сверху вниз посмотрел на Иванова. Тот бесстрастно попыхивал папиросой.
— Что ж, изволь, — сказал Рубашов. — Ты знал о нашей дружбе с Богровым. И вот по твоему указанию Богрова — или, если хочешь, его останки — волокут мимо рубашовской камеры полумертвым напоминанием о судьбе несговорчивых. Про богровский расстрел объявляют заранее — в расчете на подпольную связь заключенных; расчет оправдывается: мне передают, что нынешней ночью кого-то ликвидируют. Но этого мало: хитроумный режиссер объявляет через своих подручных Богрову — перед тем как его волокут расстреливать, что в одной из одиночек сидит Рубашов, — в расчете на желание несчастного Богрова… ну, хотя бы попрощаться с товарищем; оправдывается и этот тонкий расчет. Рубашову, конечно, становится не по себе. И тут является милосердный спаситель — товарищ Иванов с бутылкой под мышкой. Происходит трогательная сцена примирения, друзья вспоминают Гражданскую войну, а заодно составляют «небольшое признаньице». Потом умиротворенный преступник засыпает, следователь кладет «признаньице» в карман, тихонько, на цыпочках удаляется из камеры… и вскоре получает повышение по службе. А теперь, прошу тебя, убирайся отсюда.
Иванов не шевельнулся. Он попыхивал папиросой и улыбался, показывая золотые коронки.
— Ты считаешь, что я такой уж примитивный? — спросил он Рубашова. — Или скажем точнее: что я такой уж примитивный психолог?
— Мне опротивели твои подходцы, — пожав плечами, сказал Рубашов. — Я не могу тебя отсюда вышвырнуть. Когда-то ты был приличным человеком — вспомни об этом и оставь меня в покое. Черт, как же вы мне все опротивели!
— Давай договоримся. Ты меня слушаешь — только слушаешь внимательно и не перебиваешь — ровно пять минут. Если после этого ты будешь настаивать, чтобы я ушел, я сейчас же уйду.
— Хорошо, я слушаю, — сказал Рубашов и демонстративно посмотрел на часы. Он стоял, все так же привалившись к стене.
— Во-первых, — начал Иванов, — учти: Михаил Богров действительно расстрелян, не сомневайся и не тешь себя никакими иллюзиями. Во-вторых, он сидел здесь несколько месяцев, и последние дни его все время пытали. Если ты упомянешь об этом на Процессе или отстукаешь своим соседям, то мне, сам понимаешь, труба. Про Богрова я все объясню тебе позже. В-третьих, его провели мимо тебя и сказали ему, что ты тут, намеренно. В-четвертых, этот, как ты выразился, подходец придумал младший следователь Глеткин; воспользовался он им втайне от меня и вопреки моим строжайшим инструкциям.
Он умолк. Молчал и Рубашов, по-прежнему стоявший у кирпичной стены.
— Я бы не сделал подобной ошибки, — через несколько секунд заговорил Иванов, — и не потому, что я щажу твои чувства, а потому, что у меня другая тактика, — она диктуется твоей психологией. Последнее время, как я заметил, ты размышляешь о совести, о раскаянии — словом, тебя одолевает чувствительность. Совсем недавно ты пожертвовал Арловой — возможно, причина кроется в этом. Легко понять, что эпизод с Богровым мог лишь усилить твою угнетенность и толкнуть к дальнейшим морализаторским изыскам; однако Глеткин этого не понял: психология для него — дремучий лес. За последние десять или двенадцать дней он буквально прожужжал мне уши разговорами о действенности жестких методов. Видишь ли, он на тебя разозлился, потому что ты, нисколько не стесняясь, совал ему в нос драные носки; да он и отрабатывал-то только крестьян… Надеюсь, про Богрова тебе все ясно. Ну, а с коньяком и совсем просто: я хотел, чтобы ты подрепился после встряски, устроенной тебе Глеткиным. Опаивать тебя мне вовсе невыгодно. Невыгодно потому, то пьяный человек ничем не защищен от нравственных потрясений. А нравственные потрясения — благодатнейшая почва для твоего возвышенного морализаторства. Нет, ты нужен мне трезвый и логичный. Мне выгодно, чтобы всесторонне обдумал то положение, в котором оказался. Уверен: тогда — и только тогда — ты сделаешь вывод, что должен капитулировать.
Рубашов молча пожал плечами. Он не успел сформулировать ответ, потому что Иванов заговорил снова:
— Ты убежден, что не пойдешь на капитуляцию, знаю, но ответь мне на один вопрос: ты капитулируешь, если убедишься, что это объективно правильный шаг?
Рубашов не сразу нашелся с ответом. У него возникло смутное ощущение, что разговор принял недопустимый оборот. Назначенные пять минут истекли, а он продолжал слушать Иванова. Уже одним этим он как бы предавал Арлову, и Богрова, и Рихарда, и Леви.
— Все это бесполезно, — сказал он Иванову. — Уходи. — Он только сейчас обнаружил, что шагает взад и вперед по камере.
Иванов неподвижно сидел на койке.
— Насколько я понимаю, — проговорил он, — ты поверил, что в эпизоде с Богровым я не принимал никакого участия. Почему же ты настаиваешь, чтоб я ушел? И почему не отвечаешь на мой вопрос? — Он с насмешкой оглядел Рубашова, а потом сказал, медленно и внятно: — Да просто потому, что ты боишься меня. Мой метод логических рассуждений и доказательств точно повторяет твой собственный метод, и твой рассудок это подтверждает. Тебе остается только возопить: «Изыди, Сатана!»
Рубашов не ответил. Он шагал по камере перед сидящим Ивановым. Ему не удавалось собраться с мыслями и привести доказательства своей правоты. То необъяснимое чувство вины, которое Иванов назвал морализаторством, не находило выражения в логических формулах: его насылал Немой Собеседник, а он существовал за пределами логики. И в то же время рассудок Рубашова действительно подтверждал ивановские доводы. Нельзя было участвовать в этом разговоре: он засасывал, как бездонная трясина.
— Apage, Satanas! — повторил Иванов и налил себе еще коньяка. — Когда-то человека искушала плоть. Теперь его искушает разум. Время идет, и ценности меняются. Создам-ка я себе мистерию о Страстях Господних, в которой за душу Святого Рубашова борется дьявол и Господь Бог. После долгой многогрешной жизни Рубашов возмечтал о царствии небесном, где процветает буржуазный либерализм и кормят похлебкой Армии Спасения. Всемогущий владыка этого рая — мягкотелый идеалист с двойным подбородком. А дьявол — поджарый и аскетичный прагматик. Он не признает ничего, кроме логики, читает Макиавелли, Гегеля и Маркса, верит только в целесообразность и безжалостно издевается над мягкотелым идеализмом. Он обречен на вечное раздвоение: убивает, чтоб навсегда уничтожить убийства, прибегает к насилию, чтоб истребить насилие, сеет несчастья ради всеобщего счастья и принимает на себя ненависть людей из любви к человечеству. Apage, Satanas! Рубашов решает превратиться в ангела. Либеральная пресса, поносившая его, быстро присваивает ему сан святого. Он узнал, что существует совесть, а совесть губит революционера, как гуманизм и двойной подбородок. Совесть сжирает его рассудок, словно голодная гиена — падаль. Дьявол побежден; однако не думай, что он скрежещет от ярости зубами, высекая сернистые смрадные искры. Он логик и аскет, он пожимает плечами, его давно не удивляют дезертиры, прикрывающие слабость гуманизмом и совестью.
Иванов налил себе еще коньяка. Рубашов, все так же шагая по камере, спросил:
— За что вы расстреляли Богрова?
— За неправильный взгляд на подводные лодки. Спор о размерах подводных лодок начался у нас довольно давно. Богров утверждал, что нам надо строить подлодки с дальним радиусом действия. Партия склонялась к малым судам, Ведь вместо одной большой подлодки можно построить три небольших. Дискуссия велась на техническом уровне. Эксперты жонглировали научными данными, приводили доводы и «за» и «против», но суть спора заключалась в другом. Строительство больших подлодок означало дальнейшее развитие Мировой Революции. А малые суда — береговая охрана — означали, что Мировая Революция откладывается и страна переходит к круговой обороне. За это выступил Первый — и Партия… Богрова поддерживала старая гвардия и Народный Комиссариат по морским делам. Убрать Богрова было бы недостаточно: его следовало дискредитировать перед массами. Открытый процесс показал бы стране что Богров саботажник и враг народа. Мы уже добились от нескольких инженеров — его сторонников — твердого согласия признать все, что будет необходимо. Но Богров отказался с нами сотрудничать. Отстав от жизни на двадцать лет, он твердил до последнего дня о крупных подлодках и Мировой Революции. Ему оказалось не под силу понять, что время сейчас работает на реакцию, что Движение в Европе пошло на убыль и надо ждать следующей волны. На публичном Процессе его заявления внесли бы путаницу в сознание масс. Он ликвидирован решением Трибунала. Скажи, разве ты-то в подобном случае не поступил бы точно так же, как мы?
Рубашов не ответил. Он остановился и, снова привалившись спиной к стене, замер у параши. Из нее подымались ядовитые, вызывающие тошноту испарения. Он снял пенсне и глянул на Иванова, его близорукие затравленные глаза были обведены темными кругами.
— Ты ведь не слышал, — проговорил он, — его стенаний и младенческого хныканья.
Иванов прикурил новую папиросу от окурка догоревшей до бумаги старой; зловоние параши становилось нестерпимым.
— Нет, не слышал, — согласился он. — Но я, понимаешь ли, и видел и слышал много похожего. Ну так и что?
Рубашов промолчал. Он не мог объяснить. Хныканье и мрачно-торжественный рокот опять зазвучали в его ушах. Словами он этого передать не мог. Так же как не смог бы описать словами запах спокойного тела Арловой. В словах ничего нельзя было выразить. «Умрите молча», — говорилось в записке, которую ему передал парикмахер.
— Ну и что? — снова спросил Иванов. Он вытянул ноги и подождал ответа. Рубашов молча стоял у стенки.
— Если бы у меня, — заговорил Иванов, — была к тебе хоть искорка жалости, я оставил бы тебя в покое. Но у меня, по счастью, жалости нет. Я пью, я покуривал анашу, ты знаешь, но жалости пока что не испытывал ни разу. Жалость неминуемо гробит человека. Муки совести и самобичевание — вот оно, наше национальное бедствие. Сколько наших великих писателей погубили себя этой страшной отравой! До сорока, до пятидесяти они бунтари, а потом их начинает сжигать жалость, и мир объявляет, что они святые. Ты заразился массовой болезнью, а считаешь себя первым и единственным! — Иванов почти выкрикнул последнюю фразу, вытолкнул с клубом табачного дыма. — Учти, исступление к добру не приводит. Хотя и в каждой бутылке спиртного есть отмеренная доза исступления. Да очень уж немногие наши соотечественники — и то в основном из мужиков — понимают, что исступленное смирение или там страдание такая же дешевка, как исступленное пьянство. Когда я очнулся после наркоза и увидел, что остался с одной ногой, меня тоже охватило исступленное отчаяние. Ты помнишь свои тогдашние доводы.
Иванов наполнил стакан и выпил.
— Короче говоря, — продолжал он, — мы не можем допустить, чтоб реальный мир превратился в притон для чувствительных мистиков. И это — наша основная заповедь. Сострадание, совесть, отчаяние, ненависть, покаяние или искупление вины — все это для нас непозволительная роскошь. Копаться в себе и подставлять свой затылок под глеткинскую пулю — легче всего. Да, я знаю, таких, как мы, постоянно преследует страшное искушение отказаться от нашей изнурительной борьбы, признать насилие запрещенным приемом, покаяться и обрести душевный покой. Большинство величайших мировых революционеров, от Спартака и Дантона до Федора Достоевского, не смогли справиться с этим искушением и, поддавшись ему, предали свое дело. Искушения Дьявола менее опасны, чем искушения всемогущего Господа Бога. Пока хаос преобладает в мире. Бога приходится считать анахронизмом, и любые уступки собственной совести приводят к измене великому делу. Когда проклятый внутренний голос начинает искушать тебя — заткни свои уши…
Иванов, не глядя, нащупал бутылку и плеснул себе в стакан еще коньяка. Бутылка была уже наполовину пустой. «А забыться тебе все-таки хочется, очень хочется», — подумал Рубашов.
— Величайшими преступниками, — продолжал Иванов, — надо считать не Фуше и Нерона: величайшие преступники — это Ганди и Толстой. Пресловутый внутренний голос Ганди мешал индусам обрести свободу гораздо сильней, чем английские пушки. Тот, кто продает своего господина — ну, хотя бы за тридцать сребреников, — совершает обычную торговую сделку; а вот тот, кто продается собственной совести, предает весь человеческий род. История по существу своему аморальна: совесть никак не соотносится с Историей. Если ты попытаешься вершить Историю, не нарушая заповедей воскресной школы, ты просто пустишь ее на самотек. И тебе это известно не хуже, чем мне. Ты прекрасно знаешь правила игры, а туда же — толкуешь о стенаниях Богрова…
Иванов выпил еще коньяка.
— …Или совестишься по поводу Арловой. Рубашову было не в диковинку наблюдать, как Иванов пьет, почти не пьянея: внешне он при этом совершенно не менялся и только говорил чуть взволнованней обычного. «А одурманивать себя тебе все же приходится, — с невольной иронией подумал Рубашов, — и, пожалуй, тебе это нужнее, чем мне». Он сел на табуретку, продолжая слушать; табуретка стояла напротив койки. Ивановские рассуждения не удивляли его: он всю жизнь защищал те же идеи — такими же, похожими словами. Однако раньше внутренний голос, о котором столь презрительно говорил Иванов, представлялся ему абстрактной условностью; а теперь он ощущал Немого Собеседника как реальную часть собственной личности. Впрочем, обитал-то он за пределами логики — поэтому стоило ли ему доверять? Не следует ли противиться мистическому дурману, даже если ты уже частично одурманен? Когда он пожертвовал жизнью Арловой, у него просто-напросто не хватило воображения, чтоб представить себе ее смерть в подробностях. Выходит, теперь он поступил бы иначе, потому что познакомился с этими подробностями? Но ведь важно другое: объективная правильность — или неправильность — принесенной жертвы, будь то Арлова, Леви или Рихард. То, что Арлова постоянно молчала, Рихард заикался, а Богров хныкал, никак не отменяет объективной правоты — или неправоты — совершенных действий.
Рубашов порывисто встал с табуретки и опять принялся шагать по камере. Он вдруг осознал, что его переживания с самого первого дня в тюрьме были только началом пути, и однако же новый образ мыслей уже завел его в логический тупик — на порог «притона для чувствительных мистиков»; он понял, что надо вернуться к началу и обдумать все случившееся заново. Только вот осталось ли для этого время?.. Иванов внимательно смотрел на него. Он взял у Иванова стакан и выпил.
— Так-то лучше, — сказал Иванов, на его губах промелькнула ухмылка. — Диалог, даже и в форме монолога, иногда оказывается очень полезным. Надеюсь, я не посрамил Искусителя? Жаль, что молчал второй собеседник. Но это обычная его уловка — уклоняться от участия в логическом споре. Он предпочитает нападать на человека, когда тот почему-нибудь не может защищаться; он очень любит драматические мизансцены — подает голос в горящем лесу или на заоблачной горной вершине — и охотно терзает свою жертву во сне. Приемы борьбы у этого моралиста весьма эффектны и совершенно аморальны.
Но Рубашов уже не слушал Иванова. Он взволнованно расхаживал по камере и пытался решить для себя вопрос — смог бы он пожертвовать Арловой сегодня? Он чувствовал, что, ответив на этот вопрос, разрешит все свои новые затруднения. Остановившись перед койкой, он спросил Иванова:
— Послушай, ты хорошо помнишь Раскольникова?
Иванов посмотрел на него с ухмылкой.
— Ну вот, приехали. «Преступление и наказание»! Ты действительно одряхлел… или впал в детство.
— Подожди-ка. Подожди, — сказал Рубашов, возбужденно шагая взад-вперед по камере. — Разговоры разговорами, но сейчас, как мне кажется, мы подошли к существу дела. Насколько я помню, вопрос стоит так: был ли Раскольников объективно прав, когда убивал старуху-процентщицу? Молодой, талантливый, полный сил человек — и ничтожная, никому не нужная старуха. Логическое уравнение для начальной школы, и все же оказалось, что оно не решается. Во-первых, из-за трагически сложившихся обстоятельств Раскольников совершил второе убийство; это, положим, случайное следствие разумного и абсолютно логичного поступка. Но, во-вторых, уравнение не решалось изначально: Раскольников сразу после убийства понял, что дважды два не равняется четырем, когда вместо абстрактных логических символов в уравнение подставляют живых людей…
— А поэтому, — спокойно вставил Иванов, — каждый экземпляр этой вредной книги надо как можно скорее сжечь. Подумай сам, куда мы придем, если попытаемся принять до конца эту философию мягкотелых юродивых, если отдельно взятую личность нам придется объявить священной и если у нас отнимут право относиться к отдельным человеческим жизням в соответствии с правилами строгого счета. Ведь это значит, что командир полка не сможет пожертвовать ротой арьергарда, чтоб вывести из-под удара весь свой полк, а мы не сможем принести в жертву одного упрямого безумца Богрова, чтоб спасти прибрежные города от гибели.
Рубашов, не соглашаясь, покачал головой.
— Ты приводишь исключительно военные примеры, то есть берешь ненормальные условия.
— С тех пор как изобрели паровую машину, — ни на секунду не задумавшись, ответил Иванов, — мир пребывает в ненормальных условиях, революции и войны подтверждают это. Твой Раскольников — дурак и преступник, но вовсе не потому, что убил старуху, а потому, что совершил убийство только ради своей личной пользы. Закон «цель оправдывает средства» есть и останется во веки веков единственным законом политической этики; все остальное — дилетантская болтовня. Если бы твой малохольный Раскольников прикончил старуху по приказу Партии — для создания фонда помощи забастовщикам или для поддержки нелегальной прессы, — логическое Уравнение было бы решено, а роман так и остался бы ненаписанным — к вящей пользе всего человечества.
Рубашов не ответил. Он пытался решить, послал бы он Арлову на смерть сейчас, обогащенный опытом последних дней. Однако он не находил решения. Логически Иванов был, конечно же, прав; Немой Собеседник упорно молчал, но мешал найти однозначное решение. Да, и тут Иванов был прав — нежелание вести логический спор и привычка нападать как-бы из-за угла скверно характеризуют Немого Собеседника…
— Я не признаю смешения понятий, — продолжал развивать свою мысль Иванов. — На свете существуют две морали, и они диаметрально противоположны друг другу. Христианская, или гуманистическая, мораль объявляет каждую личность священной и утверждает, что законы арифметических действий никак нельзя применять к человеческим жизням. Революционная мораль однозначно доказывает, что общественная польза — коллективная цель — полностью оправдывает любые средства и не только допускает, но решительно требует, чтобы каждая отдельно взятая личность безоговорочно подчинилась всему обществу, а это значит, что, если понадобится, ее без колебаний принесут в жертву или даже сделают подопытным кроликом. Христианская мораль запрещает вивисекцию, революционная — допускает и постоянно использует. Дилетанты и утописты во все времена пытались совместить эти две морали; реальность всегда разрушала их начинания. Правитель, отвечающий за благо подданных, с первых шагов встает перед выбором; и он обречен выбрать вивисекцию. Вот уже почти две тысячи лет правители большинства европейских стран официально исповедуют христианскую религию — а можешь ты назвать хоть одного правителя, который на протяжении всей своей жизни постоянно придерживался христианской морали? Не можешь ты назвать такого правителя. Потому что в особо острые периоды — а у политиков все периоды острые — он объявляет «чрезвычайное положение» и начинает использовать чрезвычайные меры. С тех пор, как появились нации и классы, они должны защищаться друг от друга, а это заставляет их вечно откладывать устройство жизни по христианским заветам…
Рубашов машинально посмотрел в окно. Подтаявший снег покрылся настом и неровно взблескивал желтоватыми искрами. По внешней стене маршировал часовой, винтовка висела у него на плече. Небо расчистилось, но луны не было. Вверху, над зубцами сторожевой башни, серебристо струился Млечный Путь.
Рубашов повернулся к окну спиной.
— Согласен, — сказал он, пожав плечами, — уважение к личности и социальный прогресс, гуманизм и политика — несовместимые понятия. Согласен, Ганди — катастрофа для Индии, а добродетель сковывает руки правителю. Так что в отрицании мы единодушны. Но давай посмотрим, куда мы пришли, используя нашу революционную этику.
— Давай, — согласился Иванов. — Так куда?
Рубашов потер пенсне о рукав и, близоруко сощурившись, глянул на Иванова.
— В какое месиво, — проговорил он, — посмотри, в какое кровавое месиво мы превратили нашу страну.
— Возможно, — Иванов беззаботно улыбнулся. — Однако вспомни Сен Жюста и Гракхов, вспомни историю Парижской Коммуны. Раньше все без исключения революции неизменно совершали дилетанты-морализаторы. Дилетантская «честность» их и губила. А мы, профессионалы, абсолютно последовательны…
— Настолько последовательны, — перебил его Рубашов, — что во имя справедливого раздела земли сознательно обрекли на голодную смерть около пяти миллионов крестьян, — и это только за один год, когда обобществлялись крестьянские хозяйства. Настолько последовательны, что, освобождая трудящихся от оков современного индустриального гнета, заслали в глухоманные восточные леса и на страшные рудники арктического севера около десяти миллионов человек, причем создали им такие условия, по сравнению с которыми жизнь галерников показалась бы самым настоящим раем. Настолько последовательны, что в теоретических спорах конечным доводом у нас является смерть, — будь то разговор о подводных лодках, искусственных удобрениях или линии Партии, которая проводится в Индокитае. Наши инженеры никогда не забывают, что любая ошибка в технических расчетах грозит им тюрьмой или «высшей мерой»; администраторы обрекают подчиненных на смерть, потому что знают — малейший промах станет причиной их собственной гибели; поэты завершают дискуссии о стиле прямыми доносами в Политическую полицию, потому что того, кто окажется побежденным, непременно объявят врагом народа. В заботе о счастье грядущих поколений мы наваливаем на людей такие лишения, что сейчас у нас средняя продолжительность жизни сократилась уже приблизительно на четверть. Во имя защиты страны от врагов мы прибегаем к чрезвычайным мерам и вводим законы переходного периода, в которых решительно каждый пункт противоречит целям нашей Революции. Уровень жизни наших трудящихся скатился ниже дореволюционного, условия труда стали более тяжкими, нормы повысились, расценки понизились, а дисциплина сделалась воистину рабской; по нашему новому уголовному кодексу даже двенадцатилетних детей можно приговаривать к смертной казни, а с нашими законами о семье и браке по ханжеству не сравнятся даже британские. Вождей у нас почитают, как восточных владык, газеты и школы проповедуют шовинизм, постоянно раздувают военную истерию, насаждают мещанство, догматизм и невежество. Деспотическая власть Революционного Правительства достигла небывалых в истории размеров — она по существу ничем не ограничена. Свобода слова и свобода совести искореняются с такой беззастенчивой откровенностью, словно не было Декларации прав человека. У нас гигантская Политическая полиция с научно разработанной системой пыток, а всеобщее доносительство стало нормой. Мы гоним хрипящие от усталости массы — под дулами винтовок — к счастливой жизни, которой никто, кроме нас, не видит. Нынешнее поколение полностью обескровлено, оно — буквально — превратилось в массу обескровленной, немой, умирающей плоти. Таковы последствия нашей последовательности. Ты вот говорил о вивисекторской морали. И, знаешь, мне иногда представляется, что мы, ради нашего великого эксперимента, содрали с подопытных кроликов кожу и гоним их кнутами в светлое будущее…
— Ну и что? — беззаботно спросил Иванов. — Неужели тебе это не кажется прекрасным? Ведь ничего подобного еще не было в Истории. Мы сдираем с человечества старую шкуру, чтобы впоследствии дать ему новую. Занятие не для слабонервных, правильно, — но тебя-то оно в свое время вдохновляло. А теперь ты жеманишься, как старая дева, — интересно, что же тебя так изменило?
У Рубашова вертелся на языке ответ: «Фамилия, которую выкрикнул Богров», — но он понимал, что это бессмыслица. Он сказал:
— Продолжим метафору: я вижу освежеванное нами поколение и не знаю, где взять новую кожу. Нам представлялось, что с человеческой историей можно экспериментировать, как с неживой природой. Физику дано повторять свой опыт хоть тысячу раз, не то с историей. Сен-Жюста или Дантона можно казнить, однако оживить их уже нельзя; и если окажется, что Богров прав, справедливость никогда не будет восстановлена.
— Ну так и что? — спросил Иванов. — По-твоему, нам надо сидеть сложа руки, потому что последствия наших поступков невозможно предвидеть во всей полноте? Выходит, всякий поступок — зло? Мы головой отвечаем за свои поступки — кто посмеет требовать большего? Наши противники не так щепетильны. Какой-нибудь выживший из ума генерал экспериментирует с тысячами живых людей, а что ему будет, если он ошибется? Выгонят в отставку, да и то вряд ли. Контрреволюционеров совесть не мучает. Возьми Суллу, Галифэ, Колчака — думали они о преступлении и наказании? Нет, это только революционным волкам приходит в голову блеять по-овечьи. Их противники живут проще…
Иванов посмотрел на свои часы. Зимняя ночь подходила к концу. Прямоугольник окна стал мутно-серым, комок газеты в левом углу разбух и подрагивал от порывов ветра. Часовой маршировал взад и вперед.
— Для бойца с твоим прошлым, — продолжал Ивашов, — страх перед экспериментированием — наивная чепуха. Ежегодно несколько миллионов человек бессмысленно умирают от массовых эпидемий, да столько же уносят стихийные бедствия. А мы, видите ли, не можем пожертвовать всего несколькими сотнями тысяч ради величайшего в Истории опыта! Я уж не говорю об умерших от голода, о смертниках ртутных и серных рудников, о рабах на рисовых и кофейных плантациях — а ведь им тоже «имя легион». Никто не обращает на них внимания, никому не интересно, почему и за что гибнут ни в чем не повинные люди… если же мы осмелимся расстрелять несколько сотен тысяч человек, гуманисты подымают истошный вой. Да, мы выслали крестьян-мироедов, которые эксплуатировали чужой труд; да, они умерли на востоке от голода. Это была хирургическая операция, мы вырезали мелкобуржуазный гнойник. До Революции у нас во время засух гибли сотни тысяч бедняков — бессмысленно и бесцельно, — но мир не рушился. Разливы Желтой реки в Китае губят сотни тысяч крестьян — и все считают, что так и надо. Природа щедра на слепые эксперименты, и материалом ей всегда служит человечество. Почему же человечество не имеет права ставить эксперименты на самом себе?
Он замолчал, но Рубашов не ответил и, подойдя к окну, глянул во двор.
— Ты когда-нибудь читал, — спросил Иванов, — брошюры Общества защиты животных! Вот уж душераздирающее чтение! Когда узнаешь про несчастную шавку, которая жалобно скулит от боли и лижет руку своего мучителя, а он-то, негодяй, и вырезал ей печень, — становится тошно… как тебе сегодня. Но, если б защитничкам дали власть, у человечества до сих пор не было бы вакцин от чумы, тифа, проказы, холеры…
Он плеснул в стакан остатки коньяка, выпил, потянулся и встал с койки. Потом, прихрамывая, подошел к окну.
— А ночь-то кончается, — проговорил он. И добавил: — Не будь дураком, Рубашов. Все, что я сказал, для тебя не ново. Я знаю, ты был в угнетенном состоянии, но когда-то надо же прийти в себя. — Он стоял у окна рядом с Рубашовым, дружески положив ему руку на плечо. — Давай-ка, старый бродяга, отоспись, и примемся за дело: срок-то кончился, сегодня надо сварганить заявление. Да не дергай ты плечами, я все равно знаю — рассудком ты понимаешь, что от этого не уйти. И если ты все-таки откажешься от признания, то это будет моральной трусостью. А моральная трусость, как тебе известно, приводит к очень унизительным мучениям.
За окном расстилалась рассветная муть. Часовой начинал очередной поворот. Вверху, над зубцами сторожевой башни, висело бледное сероватое небо; на востоке разливалась тусклая краснота. Немного помолчав, Рубашов сказал:
— Ладно, я обдумаю все это еще раз.
Дверь захлопнулась; он понимал, что его рассудок поддерживает Иванова. Он лег на койку; сил не было, но зато он чувствовал странное облегчение. Он был вымотан, опустошен и выжат, но с него свалился тяжелый груз. Камеру заполняла спокойная тишина, богровский голос почти заглох. Последовательная верность живым, а не мертвым — разве в этом заключается предательство?
Пока Рубашов спокойно спал — его не мучили ни зубы, ни сны, — Иванов зашел в кабинет Глеткина. Глеткин, одетый строго по форме, с пистолетной кобурой на поясном ремне, сидел за своим столом и работал. Три или четыре раза в неделю он работал круглые сутки. Когда Иванов вошел в кабинет, он встал и застыл по стойке «смирно».
— Сиди, сиди, — сказал Иванов. — Сегодня он подпишет все, что требуется. Но я попотел, исправляя твою глупость.
Глеткин стоял у стола и молчал. Иванов вспомнил грубый разнос, который он учинил своему подчиненному, когда услышал про случай с Богровым; он знал, что Глеткин ничего не прощает. Пожав плечами, он глубоко затянулся и дунул дымом ему в лицо.
— Не будь ослом, — сказал Иванов. — Всем вам мешают личные чувства. Я так думаю, что на его месте ты оказался бы еще упрямей.
— У меня есть опора, которой у него нет, — совершенно спокойно ответил Глеткин.
— Дурость у тебя есть, — сказал Иванов. — За такой ответ следует расстрелять — и, может быть, даже раньше, чем его.
Он вышел из кабинета и хлопнул дверью.
Глеткин сел. Ему не верилось, что Иванов сумеет добиться успеха, и в то же время он боялся этого. Последняя фраза звучала угрожающе, а у Иванова никогда нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Возможно, он и сам этого не знал — как и все разъедаемые цинизмом интеллигенты.
Глеткин недоуменно пожал плечами, сунул пальцы под скрипучий ремень, согнал назад складки гимнастерки и снова склонился над папкой с протоколами.
Очная ставка
Порою слова служат для сокрытия фактов. Но никто не должен знать об этой уловке, а на случай, если ее все же заметят, надобно иметь под рукой убедительные оправдания.
Макиавелли, «Наставления»Но да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого.
Мф. V, 371
Из дневника Н. 3. Рубашова. Двенадцатый день заключения
…Инерция выбросила Михаила Богрова из жизни. Сто пятьдесят лет назад, в день штурма Бастилии, исторический маятник Европы снова сдвинулся с места. Оковы многовековой тирании были разбиты, и маятник, набирая скорость в революциях и войнах, пошел вниз, к разрушению прежнего общественного уклада, чтобы подняться потом до противоположной высшей точки, к либерализму и демократии. Около ста лет продолжалось это движение. Но скорость маятника постепенно уменьшалась, и вот, застыв на секунду, он опять двинулся вниз, к войнам и анархии, чтобы снова выйти на прежний уровень тирании. Тот, кто, подобно Богрову, не остановился вместе с потерявшим скорость маятником, был вышвырнут инерцией собственного сознания за пределы земного бытия.
Для того чтобы этого не случилось, надо знать законы исторического развития. Маятник истории постоянно движется от абсолютизма к демократии и обратно, набирая скорость в революциях и войнах, разрушающих социальные уклады.
Степень личной свободы индивида зависит от политической зрелости масс. А маятниковое движение Истории показывает, что политическая зрелость масс изменяется в зависимости от технического прогресса.
Политическая зрелость масс определяется их способностью осознавать собственные нужды. А для того, чтобы осознать свои нужды, массы должны разобраться в процессе производства и распределения материальных благ. Таким образом, чем яснее понимают массы социально-экономическую структуру общества, тем демократичнее оно может быть организовано.
Всякое техническое открытие приведет к изменениям в экономической системе, но массы далеко не сразу постигают сущность этих изменений. Каждый новый этап технического прогресса опережает сознание масс, а значит, их политическая зрелость неминуемо понижается. Очень часто новое состояние экономически осознается только следующим поколением, и, следовательно, только при нем достигается уровень демократии, предшествовавший открытию. Из вышеизложенного явствует, что политическая зрелость масс есть величина относительная и зависит она от исторического этапа, в котором находится данное общество.
Как только массы выходят на уровень понимания своей социально-экономической структуры, возникает демократическое правление. Оно существует до следующего этапа — скажем, до изобретения ткацкого станка, отбрасывающего массы к политической незрелости, — когда снова может или, точнее, должна возникнуть диктатура правителей.
Этот процесс можно уподобить поднятию корабля с одного уровня на другой в системе шлюзов. Сначала корабль находится на уровне, который ниже возможностей данного шлюза; он подымается до тех пор, пока не достигнет высшей точки. Однако понятие «высшая точка» является здесь условным: следующий шлюз расположен выше, и процесс повторяется снова. Стены шлюзов — это степень контроля над силами природы, то есть состояние технической цивилизации; медленно повышающийся уровень — это степень политического сознания масс. Было бы бессмысленно сравнивать уровень воды в шлюзе с так называемым «уровнем моря»: в настоящем случае важно, насколько стены шлюза выше уровня воды в самом шлюзе.
Изобретение паровой машины открыло эпоху стремительного технического прогресса, за которым не поспевало политическое сознание масс, а поэтому диктатура властителей становилась все жестче. Промышленная революция — качественно новое явление в мировой истории, и современная экономическая система до сих пор недоступна пониманию широких масс. Ясно, что уровень массового политического сознания любой установившейся эпохи — феодализма, например, — был выше нынешнего, ибо тогда массы лучше, чем сейчас, разбирались в социально-экономической структуре своего общества.
До сих пор теоретики социализма ошибочно утверждали, что политическая зрелость масс повышается постоянно и равномерно; они не учитывали относительности этого процесса. Отсюда — их неумение объяснить сегодняшний ход маятника. Теоретики — и я в том числе — полагали, что адаптация масс к изменяющимся условиям происходит непрерывно, однако исторический опыт показывает, что процесс этот дискретен и исчисляется не годами, а столетиями. Народы Европы и доныне не осознали последствий изобретения паровой машины. Капиталистическая система рухнет, прежде чем массы поймут ее экономическую структуру.
Что касается Родины Революции, то сознание масс и здесь развивается по тем же законам. Мы вошли в очередной шлюз, но находимся на его самом низком уровне. Новая экономическая структура совершенно непонятна массам. Наш корабль только начинает подниматься в шлюз, и подъем этот будет мучительно трудным. Весьма вероятно, что лишь третье или четвертое поколение поймет внутреннюю сущность тех невиданных изменений экономической структуры, которые произошли у нас в результате Революции, совершенной самими массами.
А пока что в нашей стране абсолютно невозможна демократическая форма правления — из-за крайней политической незрелости масс — и степень личной свободы индивида должна быть урезана до предела. Пока что наши руководители вынуждены править как самые жесткие диктаторы. Подобное правление, если судить его по классическим либеральным меркам, представляется чудовищным. И тем не менее все его ужасы являются лишь объективным отражением вышеописанных законов исторического развития. Эстеты и глупцы, которые видят только следствия, не желая разбираться в причинах, обречены на гибель. Но обречена на гибель и оппозиция, выступающая против диктатуры вождей в период политической незрелости масс.
Когда сознание масс достигает зрелости, оппозиция не только может — она должна апеллировать к народу. В другие периоды манипулирование так называемым «гласом народным» является чистейшей демагогией. Сейчас у оппозиционеров есть два пути: государственный переворот, который не будет поддержан массами, и уход во тьму небытия по инерции своего внеисторического сознания; это и значит «умереть молча».
Есть, однако, и третий, не менее последовательный, путь, который стал в нашей стране общепринятым: отказ от своих убеждений, если их нельзя реализовать. Поскольку мы руководствуемся единственным мерилом — общественной пользой, — публичное отречение от собственных убеждений ради того, чтобы остаться в рядах Партии, гораздо честней идеалистического донкихотства.
Размышления об усталости и неприязнь к победителям, вызванные слабостью человеческой природы, или мысли об унижениях и позоре, продиктованные личной гордыней, должны быть с корнем вырваны из сознания революционера.
2
Рубашов начал писать о маятнике сразу же после сигнала побудки; Иванов ушел часа два назад. Когда одиночникам раздали завтрак, он отхлебнул тепловатого чая и даже не притронулся к пайке хлеба. Его почерк, потерявший былую четкость, теперь опять стал более твердым, буквы уменьшились и как бы окрепли, в них появилась прежняя угловатость. Он заметил это, перечитывая написанное.
В одиннадцать часов он прервал записи: его, как обычно, повели на прогулку. Но теперь ему дали нового напарника — изможденного крестьянина в рваных сапогах. Рип Ван Винкль куда-то исчез, и Рубашов вспомнил, что во время завтрака не раздалось привычного призыва «всавать». Очевидно, Рип Ван Винкля убрали… хорошо, если просто в другое место; этот мотылек с обтрепанными крыльями, пережив отмеренный ему Историей срок, вспорхнул, бессмысленно и слепо, еще раз, чтоб теперь уж навсегда быть втоптанным в прах.
Крестьянин шлепал оторванными подошвами и порой искоса посматривал на Рубашова. Потом уважительно прокашлялся и шепнул:
— Меня привезли из Д-го края. Ты там бывал, ваше благородие?
Рубашов ответил, что нет, не бывал. Он смутно помнил, что Д-ий край расположен где-то далеко на востоке.
— До наших краев дорога дальняя, туда по чугунке никак не доедешь. А ты за политику, ваше благородие?
Рубашов подтвердил, что да, за политику. У крестьянина из дырок в старых сапогах торчали синеватые голые пальцы. Он часто наклонял жилистую шею, словно отвешивая поклоны на молитве.
— Я и сам за политику, — шепнул крестьянин. — Я, значит, ваше благородие, риктинер. Нам сказали, что всех риктинеров будут высылать на десять годов. Как ты думаешь, ваше благородие, меня, значит, тоже будут высылать?
Он кивнул и покосился на охранников, которые зябко топали ногами, предоставив заключенных самим себе.
— А что вы сделали? — спросил Рубашов.
— Мы показали свою звериную сучность, когда у нас начали колоть ребятишек. А к нам, значит, ездили господа Комиссары. Запрошлый год они привезли газеты и свои нарисованные на бумагах личности. Прошлый год — молотильную машину и щетки, люди говорят, для зубов. А потом привезли такие трубки из стекла, с иголками, и стали колоть ребятишек. Там была такая женщина, Комиссарка, в портках, как мужик, и она нам сказала, что будет колоть всех ребят подряд. Ну и вот, и когда она пришла к нам домой, мы заперлись и показали свою звериную сучность. А потом мы всем миром сожгли газеты и личности на бумагах и молотильную машину, и нам сказали, что мы риктинеры. А потом они приехали, чтобы нас высылать.
Рубашов пробормотал нечто неразборчивое и принялся додумывать свою работу о политической зрелости народных масс. Он вспомнил, что где-то читал или слышал про коренных жителей Новой Гвинеи, напоминавших по развитию этого крестьянина, но создавших на редкость гармоническое общество с поразительно развитой системой демократии. Они достигли высшего уровня в низшем шлюзе бесконечного канала.
Крестьянин принял молчание Рубашова за знак неодобрения и тоже умолк. Его голые пальцы посинели от холода, на лице выражалась покорность судьбе, он шлепал полуоторванными подметками и через каждые несколько шагов вздыхал.
Как только Рубашова привели с прогулки, он снова принялся за свои записи. Ему не терпелось поскорее закончить разработку нового важного закона — «закона относительной зрелости масс» — и он трудился очень напряженно.
К обеду работа была завершена. Он поел и удовлетворенно улегся на койку.
Он спал около часа, спокойно и без снов, а разбудил его вызов Четыреста второго — тому хотелось расспросить Рубашова, кто был сегодня его напарником. Однако Рубашов не стал отвечать. Улыбаясь, он отстукал дужкой пенсне:
капитулирую
и попытался угадать ответ.
Четыреста второй долго молчал; через минуту ответил:
я бы лучше удавился
Рубашов засмеялся и отчетливо выстукал:
каждый поступает по своему разумению
Он ожидал, что Четыреста второй разразится яростным потоком ругани. Но ответ прозвучал глухо и тоскливо:
был склонен считать что вы исключение неужели вам совсем наплевать на честь
Рубашов неподвижно лежал на спине и рассматривал поднятое над головой пенсне. Ему было уютно, тепло и покойно. Он неторопливо отстукал в стенку:
у нас с вами разные взгляды на честь
Сосед ответил быстро и твердо:
честь это верность своим идеалам
Рубашов так же быстро и точно возразил:
честь это полезность делу без гордыни
Сосед простучал громко и резко:
честь это никакая не полезность а порядочность
объясните значение слова порядочность,
неторопливо и со вкусом передал Рубашов. Чем спокойней становились рубашовские реплики, тем резче и беспорядочней отвечал поручик.
все равно не поймете, выстукал он.
Рубашов машинально пожал плечами и, устроившись койке поудобней, отстучал:
мы заменили порядочность полезностью
Четыреста второй ничего не ответил.
Перед ужином Рубашов прочитал написанное. Он сделал одну или две поправки, а потом, вырвав из блокнота лист, придал своим мыслям форму заявления. Оно адресовалось Генеральному Прокурору. Рубашов подчеркнул последние абзацы, в которых говорилось о трех путях современной оппозиции, и твердо приписал:
Придя к этим выводам, нижеподписавшийся Н. 3. Рубашов, бывший член Центрального Комитета Партии, бывший Народный Комиссар, бывший командир Второй бригады Народной Армии, награжденный Орденом Революции, решил полностью отказаться от своих прежних взглядов и публично признать свои ошибки.
3
Иванов, неизвестно почему, медлил: Рубашов ждал уже третий день. Он отправил заявление Прокурору точно в срок, назначенный Ивановым. Но тот явно теперь не торопился. Возможно, он изучал рубашовскую теорию об относительной политической зрелости масс, но, вернее всего, документ отослали в самые высшие партийные инстанции.
Рубашов с улыбкой думал о потрясении, которое вызовет его работа среди «теоретиков» Центрального Комитета. В годы предреволюционной борьбы и первое время после Революции, при жизни Старика с татарским прищуром, партийцы не делились на «теоретиков» и «политиков». Тактика момента в открытых дискуссиях выводилась непосредственно из революционной доктрины: вопросы стратегии на Гражданской войне, распределение земли, борьба с «мироедами», реквизиция зерна, перестройка промышленности, введение новых денежных знаков — словом, вся государственная политика была воплощаемой в жизнь теорией. Каждый участник Первого Съезда, запечатленный на старой групповой фотографии, разбирался в искусстве управления государством, политической экономии и философии права лучше, чем любой университетский профессор. Дискуссии в ЦК и на Съездах Партии достигали такой научной глубины, какая и не снилась ни одному Правительству за всю историю государственной власти: они напоминали теоретические споры узкоспециальных научных журналов — с той лишь разницей, что от их исхода зависела жизнь миллионов людей и судьба величайшей в мире Революции.
Но старая гвардия ушла из жизни. Революционная власть, по логике Истории, первоначально создав режим диктатуры, должна укреплять его все больше и больше, чтобы высвобожденные Революцией силы не обратились против самой Революции. Время философских Съездов миновало, групповые фотографии исчезли со стен, мятежную философию старых гвардейцев сменило верноподданичество новым вождям. Революционная теория, постепенно окаменев, обратилась в мертвый догматический культ с ясным, легко понятным катехизисом, а Первый сделался верховным жрецом. Его речи и по стилю напоминали катехизис: они состояли из вопросов и ответов, в которых события препарировались с простейшей, но совершенно неопровержимой для масс логичностью. Первый, как понял теперь Рубашов, инстинктивно опирался на неоткрытый закон относительной политической зрелости масс. Диктаторы-дилетанты во все времена принуждали своих подданных действовать по указке; подданные Перового по указке мыслили.
Рубашов с улыбкой представил себе, как отнесутся партийные «теоретики» к закону, изложенному в его заявлении. По нынешним условиям этот закон должен казаться весьма еретическим: Рубашов открыто говорил об ошибках давно канонизированных основоположников, называл вещи своими именами и даже священную личность Первого рассматривал с объективно-исторических позиций. Да, их скрючит, как чертей от ладана, этих несчастных современных теоретиков, которые только тем и занимаются, что объявляют постоянные зигзаги Первого новыми достижениями философской мысли.
Первый шутил с ними странные шутки. Однажды он поручил группе теоретиков, руководивших партийным экономическим журналом, провести анализ индустриального спада, охватившего Соединенные Штаты Америки. На это потребовалось несколько месяцев; наконец в специальном выпуске журнала, целиком посвященном Соединенным Штатам, теоретики доказали, что промышленный подъем, который якобы охватил США, есть всего-навсего пропагандистский трюк, что страна находится в глубочайшем кризисе и что спасти ее может только Революция; теоретики развили тезисы Первого в докладе на очередном партийном Съезде. Едва появился специальный выпуск, Первый принял американских журналистов и, попыхивая трубкой, энергично сказал:
— Ваша страна справилась с кризисом; дела у американцев идут нормально.
Теоретики, ожидая отставки и ареста, в ту же ночь изготовили письма с признанием своих «чудовищных ошибок, которые привели к созданию теории, объективно играющей на руку врагам»; они просили дать им возможность публично осудить свои заблуждения. Только Исакович, сверстник Рубашова и единственный из экономистов соратник Старика, предпочел не писать писем, а застрелиться. Впоследствии знающие люди утверждали, что Первый затеял эту историю с тайным замыслом уничтожить Исаковича, который, возможно, примыкал к оппозиции.
Все это походило на гигантский фарс: разговоры о «мощной руке врага» велись, по существу, для усиления диктатуры, а она, несмотря на всю ее тяжесть, была сейчас объективно нужна. Что ж, тем хуже для тех глупцов, которые, участвуя в этом спектакле, не видят свойственных ему условностей. Раньше вопросы революционной тактики решались на открытой сцене Съездов, теперь решения принимают за кулисами — и это тоже объективно оправдано законом об относительной зрелости масс.
Рубашову представился зал читальни, спокойный свет зеленых абажуров — ему не терпелось привести свой закон в соответствие с общей революционной теорией. Продуктивней всего как теоретик он работал в ссылках, когда его вынуждали прервать активную политическую деятельность. Он размеренно шагал по камере, думая о ближайших двух-трех годах, в которые будет отлучен от политики, — публичное отречение от собственных взглядов даст ему давно необходимую передышку. Внешняя форма капитуляции — мелочь: он поклянется в верности Первому и возгласит традиционное mea culpa столько раз, сколько будет нужно, чтобы распечатать во всех газетах. При нынешней политической незрелости масс этот ритуал совершенно необходим: упрощенная и бесконечно повторяемая мысль легче укладывается в народном сознании — то, что объявлено на сегодня правильным, должно сиять ослепительной белизной, то, что признано сегодня неправильным, должно быть тускло-черным, как сажа; сейчас народу нужен лубок.
Четыреста второму этого не понять. Его архаическое понимание чести вынесено им из ушедшей эпохи. Порядочность — всего лишь традиционная условность, рожденная правилами рыцарских турниров. Сегодня честь определяется иначе: сегодня истинно честный человек служит общему делу без гордыни и идет по этому пути до конца.
«Любая смерть лучше бесчестья», — наверняка сказал бы Четыреста второй, гордо подкручивая свои усишки. Вот она, слепая личная гордыня. Четыреста второй думал о себе; он, Рубашов, — об общем деле. Сейчас ему следовало во что бы то ни стало развить столь нужные Революции идеи — все остальное не имело значения. Ему потребуется несколько лет — ведь это будет фундаментальный труд — но зато история демократических систем впервые получит научное объяснение — сдвигами в политической зрелости масс; эти постоянные маятниковые сдвиги замечали многие правители-практики, но классическая теория классовой борьбы никак не объясняла почему они происходят. И Рубашов, улыбаясь, расхаживал по камере. Главное — получить возможность работать, все остальное не имеет значения. Он чувствовал нетерпеливую ясность мысли и прилив сил; зуб не болел. После ночного разговора с Ивановым и отсылки заявления Генеральному Прокурору прошло два дня, но его не тревожили. Две недели ивановского срока пролетели для Рубашова, как один день, а теперь время словно бы замерло. Минуты тянулись подобно часам. Он пытался разрабатывать свои идеи, но ему не хватало исторических материалов. Он около получаса стоял у глазка в надежде увидеть наконец охранника, который отвел бы его к Иванову. Но залитый электричеством коридор был пуст.
А иногда он тешил себя надеждой, что Иванов сам придет к нему в камеру и тут же покончит со всеми формальностями, — это был бы наилучший вариант. Тогда он, пожалуй, выпьет и коньячка. Ему в деталях рисовался их разговор, напыщенные фразы покаянного признания, которое они будут придумывать вместе, и едкие остроты циника Иванова. Рубашов с улыбкой расхаживал по камере, но каждые десять минут останавливался и внимательно смотрел на свои часы. Разве Иванов не сказал в ту ночь, что днем он вызовет его к себе?
Нетерпение нарастало и становилось лихорадочным; в третью ночь после казни Богрова ему совсем не удалось уснуть. Он лежал на койке, смотрел во тьму, прислушивался к шаркающим шагам надзирателя и поминутно переворачивался с боку на бок; этой ночью ему впервые вспомнилось спокойное тепло женского тела. Он пытался дышать глубоко и ровно, чтобы поскорее себя усыпить, но нетерпение усиливалось с каждой минутой, ему очень хотелось постучать в стенку и завести разговор с Четыреста вторым, который после беседы о «чести» ни разу не подавал признаков жизни.
В полночь, проворочавшись без сна часа три, Рубашов не смог побороть искушения и костяшками пальцев постучал соседу. Потом прислушался. Поручик молчал. Он постучал еще раз и замер, ощущая тошную волну унижения.
Четыреста второй продолжал молчать, хотя наверняка тоже не спал: он лежал за стеной с открытыми глазами, тоскливо пережевывая жвачку воспоминаний, — однажды в припадке откровенности он признался, что почти всегда засыпает под утро и не может справиться с мальчишеским пороком…
Рубашов бездумно смотрел во тьму. Тощий тюфяк был холодным и жестким, тонкое одеяло — тепловатым и волглым… Но, откинув его, он задрожал от озноба. Он докуривал седьмую или восьмую папиросу, пол камеры был усеян окурками. В корпусе не слышалось ни малейшего шороха, черная тишина поглотила время; Рубашов утомленно закрыл глаза; рядом с ним на койке лежала Арлова, темнота обрисовывала ее высокую грудь. Он забыл, что эта высокая грудь мертво свисала к каменному полу в тускло освещенном тюремном коридоре. Тишина давила на барабанные перепонки, как слитный рокот далеких барабанов. Сколько узников вмещали соты этого огромного каменного улья? Тысяч до двух, а может, и больше. Тишина набухала их неслышимым дыханием, неразличимыми снами, страхами и надеждами. Если История поддавалась расчетам, то чем исчислялись две тысячи кошмаров, помноженных на тысячи удушливых ночей, какую чашу весов они наполняли? Он дышал запахом арловского тела, покрывался испариной… Загрохотала дверь. Свет из коридора затопил камеру, болезненно надавил на опущенные веки.
Рубашов приподнялся и открыл глаза. Он увидел двух незнакомых охранников с пистолетными кобурами у поясных ремней. Один из охранников шагнул к койке. Он был высоким, жестколицым и хрипатым — его голос прозвучал неестественно громко. Он коротко приказал Рубашову встать; куда его поведут, он, разумеется, не сказал.
Рубашов нащупал под подушкой пенсне, надел его и медленно поднялся с койки. Когда его вывели в тюремный коридор, он почувствовал себя совершенно разбитым. Высокий охранник шел с ним рядом, он был на голову выше подконвойного; второй охранник шагал сзади.
Рубашов мимолетно глянул на часы: два; значит, он все же поспал. Они подошли к бетонной двери, отделяющей Одиночный корпус от Общего, — туда же уволокли и Михаила Богрова. Второй охранник приотстал шага на три. Рубашов вдруг ощутил холод в затылке; ему очень хотелось оглянуться назад, но он пересилил себя и не оглянулся. «Так не бывает, — подумалось ему, — какие-то формальности они должны соблюдать». Однако он не был в этом уверен. Его это, впрочем, не слишком и волновало — от хотел лишь, чтобы все поскорее закончилось. Он попытался понять, страшно ли ему, но не ощутил ничего, кроме физического неудобства от странно окостеневших шейных позвонков — он все время сдерживался, чтобы не оглянуться.
За парикмахерской показалась винтовая лестница, которая вела куда-то в подвал. Рубашов покосился на высокого охранника — не начнет ли тот замедлять шаги, чтобы оказаться у него за спиной. Он все еще совершенно не чувствовал страха — только любопытство и неестественную скованность; но, когда они спустились по винтовой лестнице, ноги у него вдруг сделались ватными, и он чуть не сел на каменный пол. Кроме того, он с удивлением обнаружил, что держит пенсне в правой руке и машинально потирает его о рукав — вероятно, он снял его, подходя к парикмахерской. «Себя не перехитришь, — подумалось ему.
— Рассудку-то можно приказать не думать, но естество — так сказать, нутро — не обманешь. Если они начнут меня бить, я подпишу все, что им будет нужно, но завтра же отрекусь от своих показаний».
А потом ему вспомнился его новый закон и решение капитулировать; он облегченно вздохнул, пытаясь понять, как это случилось, что у него вдруг начисто отшибло память. Охранник, поравнявшись с одной из дверей, остановился, открыл ее и отступил в сторону. Рубашова ослепила яркая лампа; когда его глаза попривыкли к свету, он увидел кабинет, похожий на ивановский. Стол стоял у противоположной стены. За ним, лицом к двери, сидел Глеткин.
Дверь кабинета резко захлопнулась, и Глеткин поднял на Рубашова глаза. «Садитесь, пожалуйста», — проговорил он. Этот ничего не выражающий голос запомнился Рубашову с их первой встречи так же, как и широкий розоватый шрам. Лицо Глеткина было в тени, потому что единственная, очень мощная лампа, напоминающая прожектор на железной ноге, стояла позади глеткинского кресла. Свет по-прежнему слепил Рубашова, и поэтому он лишь через несколько секунд разглядел третьего человека в кабинете — стенографистку, сидящую за маленьким столиком; она сидела справа от него, лицом к стене, отгороженная барьером. Рубашов медленно подошел к столу и опустился на высокую неудобную табуретку — только она и стояла перед столом.
— Мне поручено вести ваше дело, — объявил Глеткин, — так как следователь Иванов в настоящее время отсутствует. — Резкий свет лампы слепил Рубашова, но когда он отворачивал голову, в уголок глаза словно бы впивалась острая световая игла. Да и разговаривать, повернувшись к следователю в профиль, было глупо и унизительно.
— Я предпочел бы сделать заявление Иванову, — сказал он.
— Следователь по делу назначается компетентными органами, — ответил Глеткин. — А вы имеете право отказаться от дачи показаний. Это будет означать, что вы берете назад свое заявление, посланное два дня назад Генеральному Прокурору, и, таким образом, автоматически отпадает необходимость доследования. При такой ситуации я обязан отослать следственные материалы в Трибунал, который и вынесет заключение по вашему Делу.
Рубашов торопливо обдумывал услышанное. С Ивановым явно что-то случилось. Возможно, его срочно отправили в отпуск, или сняли с работы, или даже арестовали. Например, из-за прежней дружбы с подследственными или за его недюжинный ум и преданность Первому, основанную на логике, а не на слепой, безрассудной вере. Он был слишком логичен, слишком умен, он принадлежал к людям старого поколения — на смену ему уже пришли глеткины с их дубоватыми, но действенными методами… Что ж, мир праху твоему, Иванов. У Рубашова не было времени на жалость: ему следовало думать решительно и быстро. Слепящий свет мешал сосредоточиться. Он снял пенсне и на секунду зажмурился; он знал, что его близорукие глаза придают ему беспомощный и растерянный вид, а глеткинский ничего не выражающий взгляд обшаривал его оголенное лицо. Рубашов не находил путей к отступлению: упорство его неминуемо погубило бы. Глеткин внушал ему острую неприязнь — но глеткины сменили старую гвардию, с ними надо было договариваться или молча уходить во тьму, третьей возможности Рубашов не видел. Он вдруг почувствовал себя стариком — этого с ним никогда не случалось: он и не вспоминал, что ему за пятьдесят. Он надел пенсне и повернулся к Глеткину, стараясь посмотреть ему прямо в глаза; но свет слепил его, и он снял пенсне.
— Я готов сделать определенное заявление, — сказал Рубашов, отвернувшись от лампы; он надеялся, что не выдал своей неприязни. — Но с условием, что вы прекратите ваши штучки. Уберите этот дурацкий прожектор — применяйте свои устрашающие методы к жуликам, врагам и контрреволюционерам.
— Вы не правомочны ставить условия, — спокойно ответил Глеткин. — А я не могу подлаживаться под каждого преступника. Вы, видимо, до сих пор не осознали своего положения — и особенно того факта, что вас обвиняют в контрреволюционной деятельности. Вы уже два раза каялись, то есть публично подтверждали свою принадлежность к врагам народа и Партии. На этот раз вы так дешево не отделаетесь.
«Сволочь паршивая, — подумал Рубашов. — Боров с пистолетом». Он побагровел. Он знал, что его щеки наливаются кровью, и понимал, что следователь это видит. Сколько Глеткину могло быть лет? Вряд ли больше тридцати семи. Значит, на Гражданскую он пошел юнцом, а когда разразилась Великая Революция, он был просто сопливым мальчишкой. Он принадлежал к поколению людей, научившихся мыслить после Переворота. У них не могло быть ни памяти, ни традиций: они не знали ушедшего мира. Им не приходилось рвать пуповину, связывающую их с дореволюционной родиной. Но они, чистые в своей безродности, были сейчас объективно правы. И тот, кто родился с этой пуповиной — если он хотел служить Революции, — должен был не только ее оборвать: он должен был вытравить из своей памяти все представления старого мира с его пустопорожней сословной честью, тщеславной порядочностью и личной гордыней. Сегодня по-настоящему честный человек беззаветно служит общему делу и идет по этому пути до конца.
Злость Рубашова постепенно утихла. Все еще держа пенсне в руках, он опять повернулся лицом к Глеткину. Ему сразу же пришлось плотно зажмуриться — он словно бы до конца обнажился перед следователем, — но это его сейчас не волновало. Свет яркой электрической лампы болезненно всплескивался в глаза сквозь веки. Рубашов до сих пор ни разу не испытывал такого всепоглощающего и полного одиночества.
— Я сделаю все, — проговорил он, — что может послужить на пользу Партии. — Его глаза были плотно закрыты, в голосе не слышалось злобной хрипоты. — Прошу зачитать обвинение в подробностях. Я еще не знаю, что мне инкриминируют.
Он не увидел, а скорее услышал, как схлынуло сковывавшее Глеткина напряжение. Тот явно расслабился: скрипнули ремни, спокойней и размеренней стало дыхание. Глеткин торжествовал серьезную победу. То, что сейчас заявил Рубашов, сулило следователю блестящую карьеру, а ведь он, конечно же, заранее не знал, как поведет себя с ним Рубашов, — но прекрасно знал судьбу Иванова.
И тут Рубашов впервые осознал, что Глеткин целиком зависит от него так же, как он зависит от Глеткина. «Я держу тебя за горло, — подумал Рубашов, с иронической ухмылкой глядя на следователя, — мы оба держим друг друга за горло, и если мне захочется уйти во тьму, то ты, голубчик, отправишься туда же». Глеткин, снова подтянутый и собранный, уже рылся в пачке документов на столе; Рубашов, потешившись несколько секунд тем, что он может угробить Глеткина, преодолел искушение и закрыл глаза. Революционер должен отказаться от тщеславия, а разве попытка «умереть молча» — иными словами, совершить самоубийство — не есть изощренная форма тщеславия? Глеткин-то, разумеется, искренне уверен, что его штучки, а не доводы Иванова вынудили Рубашова пойти на капитуляцию; возможно, он убедил в этом и начальство, изловчившись таким образом утопить Иванова.
«Сволочь ты с пистолетом, — подумал Рубашов, но сейчас он не чувствовал злости к Глеткину. — Монстр, вскормленный нашей же логикой, первобытное существо новейшей эры. Ты не понимаешь, что ты творишь, а если поймешь, то будешь уничтожен». Слепящий свет стал еще резче — Рубашов слышал, что следователь может усиливать и уменьшать яркость лампы. Ему пришлось совсем отвернуться и вытереть рукой слезящиеся глаза. «Монстр, — снова подумал он. — Но сейчас нам нужны именно монстры».
Глеткин начал читать обвинение. Его высокий монотонный голос стал особенно неприятным и резким; Рубашов. слушал с закрытыми глазами. Он предполагал, что его «признание» — монолог из абсурдной, но полезной комедии — будет лишь формальностью, режиссерским приемом, но то, что сейчас читал ему Глеткин, звучало как горячечный, бессмысленный бред. Неужели Глеткин действительно верил, что он, Рубашов, впал в слабоумие? Что он на протяжении многих лет старался взорвать то самое здание, фундамент которого он и заложил? А старые гвардейцы с групповой фотографии, пришедшие в Революцию задолго до Глеткина, — неужели Глеткин действительно верил, что всех их скосило повальное слабоумие, и они, превратившись в продажных корыстолюбцев, годами мечтали только об одном — как бы поскорее похоронить Революцию, которая совершилась под их руководством? И эти искуснейшие в прошлом стратеги, судя по обвинению, использовали методы, почерпнутые из дешевых детективных романов…
Глеткин читал монотонно и медленно, тусклым, ничего не выражающим голосом, как человек, недавно одолевший грамоту. Рубашов услышал, что живя в Б., он продался силам международной реакции и замышлял контрреволюционный мятеж, чтобы реставрировать в стране капитализм. Упоминалось имя иностранного дипломата, с которым он якобы вел переговоры, а также место и время их встреч. Рубашов насторожился, напряг память. Да-да, был тогда один разговор с этим упомянутым в обвинении дипломатом, сразу же и забытый; он быстро прикинул, сходятся ли даты; даты сходились. Вот, значит, откуда тянется веревочка, которую захлестнут вокруг его шеи. Глеткин продолжал читать обвинение, выговаривая фразы с монотонной напряженностью. Неужели он действительно этому верил? Неужели не понимал, что все это бред? Теперь описывалась деятельность Рубашова, когда его «бросили» на легкие металлы. Глеткин зачитывал статистические данные, показывающие плохую организацию труда в этой новой области индустрии, которую развивали слишком поспешно: гибель рабочих из-за несчастных случаев, катастрофы при испытаниях опытных самолетов, сорванные сроки государственных заказов… И агент мировой буржуазии Рубашов искусно руководил этим дьявольским саботажем. Слово «дьявольский», среди цифр и сводок, звучало как-то особенно нелепо. Рубашов подумал, не рехнулся ли Глеткин, — эта смесь логики и горячечной фантазии напоминала навязчивый шизофренический бред. Однако обвинение-то составил не Глеткин — он лишь читал его, монотонно и спокойно, а значит, полагал, что все это правда или, по крайней мере, правдоподобно…
Рубашов повернул голову вправо и посмотрел на сидящую за барьером стенографистку — маленькую хрупкую женщину в очках. Она спокойно чинила карандаш и совершенно равнодушно слушала обвинение. Видимо, этот чудовищный бред казался и ей вполне убедительным. Ей было лет двадцать пять — двадцать шесть, она тоже выросла после Переворота. Фамилия Рубашова ни о чем не говорила этим неандертальцам новейшей эры. Сидит себе человек со слезящимися глазами, саботажник, продавшийся мировой буржуазии, а они монотонно читают обвинение и спокойно разглядывают его под прожектором — подопытного кролика на табуретке вивисекторов.
Обвинение, видимо, подходило к концу. Рубашов услышал, что он замышлял террористический акт — убийство Первого. Таинственный агент, упомянутый Ивановым на первом допросе, выплыл опять. Оказалось, что он был посудомойщиком в ресторане, где по будням готовили обеды для Первого. В этот «спартански скромный обед», постоянно прославляемый официальной пропагандой — по существу, это был не обед, а полдник, без горячих блюд, — агент Рубашова собирался якобы подмешать яд, чтобы отравить великого вождя. Чтение закончилось, Рубашов усмехнулся, открыл глаза и повернулся к Глеткину. Тот помолчал и, глядя на Рубашова, сказал по-обычному спокойным голосом:
— Итак, вы признаете себя виновным. — Это был не вопрос, а утверждение.
Рубашов попытался поймать его взгляд, но не выдержал ослепительно яркого света и зажмурился. Подавив злость, он сказал:
— Я признаю себя виновным в том, что я не понимал объективных законов, обусловивших нынешний партийный курс, а поэтому примыкал по взглядам к оппозиции. Я признаю себя виновным в том, что под влиянием абстрактно-гуманистических идеалов потерял представление об исторической реальности. За стенанием жертв классовой борьбы я не расслышал веских доказательств исторической неизбежности подобных жертв. Я признаю себя виновным в том, что вопрос о виновности и невиновности личности ставил выше интересов общества. И, наконец, я признаю себя виновным в том, что возносил человека над всем человечеством…
Рубашов замолчал и открыл глаза. Лампа заставила его отвернуться, и он перевел взгляд на стенографистку; наверно, он говорил необычайно тихо, потому что, когда он на нее посмотрел, она все еще продолжала напряженно вслушиваться и писала, совсем не глядя в блокнот; он видел только ее остренький профиль, но ему показалось, что она ухмыляется.
— Я знаю, — снова заговорил Рубашов, — что мои убеждения, воплоти я их в жизнь, были бы вредны для нашего дела. Оппозиция на крутых переломах Истории несет в себе зародыш партийного раскола, а значит, ведет к Гражданской войне. Мягкотелый гуманизм и либеральная демократия в периоды политической незрелости масс могут погубить завоевания Революции. Моя ошибка заключалась в том, что я стремился к гуманизму и демократии, не понимая вредности своих устремлений. Мне хотелось немного смягчить диктатуру, расширить демократические свободы для масс, свести на нет революционный террор и ослабить внутрипартийную дисциплину. Я признаю, что в настоящий момент такие устремления объективно вредны и носят контрреволюционный характер…
У него мучительно пересохло горло, голос стал сиплым, и он замолчал. В тишине слышался лишь шорох карандаша — стенографистка записывала его слова. Он немного приподнял голову и, по-прежнему не открывая глаз, закончил:
— В этом — и только в этом — смысле мое поведение контрреволюционно. А то, что вы мне тут сейчас читали, я категорически и решительно отвергаю.
— Выговорились? — спросил Глеткин.
Вопрос прозвучал так грубо, что Рубашов с удивлением посмотрел на следователя. Ослепительный свет четко очерчивал фигуру официально корректного чиновника — поведение Глеткина нисколько не изменилось. И сейчас Рубашов сформулировал наконец его краткую характеристику: «корректный монстр».
— Вы не первый раз это утверждаете, — сказал Глеткин резким, но невыразительным голосом. — В обоих ваших показаниях — два года и год назад — вы публично заявляли, что ваши взгляды «объективно контрреволюционны и противоречат интересам народа». Оба раза вы просили у Партии прощения и клялись поддерживать линию Руководства. В третий раз вам на этом выехать не удастся. Ваша сегодняшняя речь — очередная уловка. Вы признаете свои «контрреволюционные убеждения», но отрицаете преступные поступки, которые логически вытекают из ваших взглядов. Повторяю вам — больше этот номер у вас не пройдет.
Глеткин оборвал так же резко, как начал. Послышалось монотонное потрескивание лампы. Ослепительный свет стал еще ярче.
— Мои предыдущие заявления, — медленно выговорил Рубашов, — были продиктованы тактическими целями. Вы наверняка знаете, что тогда некоторых руководящих партийцев обязали выступить с публичным признанием своих ошибок — иначе их исключили бы из Партии. Сейчас я смотрю на это по-другому…
— То есть теперь вы раскаиваетесь непритворно? — быстро спросил Глеткин. В его голосе не было иронии.
— Да, — спокойно ответил Рубашов.
— А раньше притворялись — и, следовательно, лгали?
— Пусть будет так.
— Чтобы увильнуть от расстрела?
— Чтобы продолжить работу.
— После расстрела не поработаешь. Значит, чтобы увильнуть от расстрела?
— Пусть будет так.
В короткие промежутки между резкими вопросами Глеткина и своими ответами Рубашов слышал шорох карандаша — стенографистка вела протокол — и потрескивание лампы. Сноп слепящего света был удушливо теплым — Рубашов вынул платок и вытер вспотевший лоб. Он силился не закрывать слезящиеся глаза, но постоянно закрывал их, а открывал все реже и реже; ему неодолимо хотелось спать, и, когда Глеткин после серии отрывистых вопросов на несколько секунд умолк, он с равнодушным удивлением заметил, что его подбородок уперся в грудь. Следующий вопрос вырвал его уже из забытья — он не сумел определить, на сколько времени отключился.
— …Повторяю еще раз, — донесся до него глеткинский голос, — значит, в ваших прежних заявлениях вы просто лгали, чтобы увильнуть от расстрела?
— Я ведь признал это, — сказал Рубашов.
— И значит, с той же целью вы публично отмежевались от Арловой?
Рубашов молча кивнул. Ему казалось, что жесткие лучики света, прожигая правое веко, дотягиваются по нервам до «глазного» зуба — зуб опять начинало дергать.
— Вам известно, что Арлова просила вызвать вас как свидетеля защиты?
— Да, мне сообщили об этом, — ответил Рубашов. Зуб дергало все сильней.
— И вам, конечно, известно, что ваши показания, которые вы сейчас сами назвали ложью, легли в основу ее смертного приговора?
— Мне сообщали об этом.
Рубашов чувствовал, что его правая щека наливается нарывной болью. В голове гудело, она становилась все тяжелее, он с трудом держал ее прямо. Голос Глеткина ввинчивался в уши:
— Значит, возможно, гражданка Арлова была ни в чем не виновна?
— Возможно, — коротко сказал Рубашов; саркастический ответ застрял у него в горле отрыжкой кровавой желчи.
— И, возможно, ее ликвидировали, потому что вы лгали, чтобы увильнуть от расстрела?
— Возможно, — повторил Рубашов. «Упырь проклятый, — добавил он мысленно с дряблой и бессильной злобой. — Разумеется, все так и было. Тогда кто же из нас упырь? Но ведь он-то вцепился мне в горло, а я должен ему поддакивать, потому что не имею права умереть молча. Если бы он дал мне поспать… А то я, кажется, сейчас действительно замолчу — и угроблю нас обоих».
— И после этого вы требуете к себе уважения? — «Корректный монстр» по-прежнему держал Рубашова за горло. — Отрицаете, что вы преступник? Хотите, чтобы мы вам верили?
Рубашов уже не силился держать голову прямо. Разумеется, Глеткин не мог ему верить. Он сам порой с трудом ориентировался среди собственных уловок и лжи, в хитросплетениях правды и вымысла. Путь к абсолютной цели бесконечно удлинялся, а его кажущаяся бесцельность представлялась иногда почти абсолютной. Этот бесконечный и страшно извилистый путь вел к окончательному торжеству справедливости на земле, но какой духовной эквилибристики требовал он от первопроходцев! Нет, не было у него сил, чтобы убеждать Глеткина в своей искренности. Вечно ему приходилось кого-то уламывать, уговаривать, убеждать… а сейчас он хотел одного — уснуть, уйти во тьму от этого беспощадного света.
— Ничего я не требую, — сказал Рубашов, медленно подымая голову. — Я отрицаю только, что я враг Партии, и хочу еще раз доказать ей свою преданность.
— Для этого у вас есть единственная возможность, — прозвучал глеткинский голос, — чистосердечное признание. Ваши возвышенные речи никому не принесут пользы. Мы требуем чистосердечного и правдивого рассказа о ваших преступлениях, которые вы совершили в результате «контрреволюционных убеждений». Вы принесете Партии пользу, если покажете массам — на собственном примере, — в какое преступное болото заводит человека антипартийная деятельность.
Рубашову вспомнился холодный полдник Первого. Правая щека казалась ему онемевшей, но где-то в глубине, между глазом и зубом, воспаленные нервы пульсировали тупой болью. Когда он вспомнил о полднике Первого, его лицо искривилось невольной гримасой отвращения.
— Я не буду рассказывать о преступлениях, которых не совершал, — твердо проговорил Рубашов.
— И правильно сделаете, — сказал Глеткин. Сейчас в его голосе Рубашову впервые послышалась издевка.
Что было дальше, Рубашов помнил отрывочно и туманно. После фразы «и правильно сделаете», которую он не забыл из-за ее странного тона, в памяти зиял провал. Кажется, он уснул — и даже увидел очень приятный сон. Он длился, вероятно, всего несколько секунд — не связанные между собой туманные картины — мягкий ласковый свет, липовая аллея у дома его отца, затененная веранда, прозрачное облачко в небе…
Потом где-то вверху прогремел глеткинский голос — Глеткин стоял, принагнувшись над своим столом, — а в комнате был еще один человек.
— …Вы знаете этого гражданина?
Рубашов кивнул. Он сразу узнал его, хотя Заячья Губа был без плаща, в который он зябко кутался на прогулках. Рубашову послышался стук — знакомый ряд цифр: 5–6, 3–1, 2–1, 4–2; 1–3, 1–1, 3–2; 3–5, 3–6, 2–4, 1–3, 1–6, 4–2 — «…шлет вам привет». В связи с чем передал ему Четыреста второй это сообщение?..
— Где и когда вы познакомились?
Рубашов с трудом разодрал пересохшие губы; в горле все еще чувствовался привкус желчи.
— Я видел его из окна моей камеры, в тюремном дворе, — проговорил он.
— Так вы что — не знаете этого гражданина?
Заячья Губа стоял у двери, в нескольких шагах от Рубашова, ярко высвеченный мощной лампой. Его лицо, желтое днем, было сейчас голубовато-белым, рассеченная верхняя губа дрожала, приоткрывая бледно-розовую десну, нос казался тонким и заостренным, руки бессильно свисали вдоль тела. Он походил на покойника из страшненькой, но бездарной пьесы. Новый ряд цифр всплыл в рубашовском мозгу: 1–3, 5–1, 1–6, 3–6, 1–1; 3–5, 5–5, 4–2, 1–1, 3–1, 2–4 — «…вчера пытали». Забрезжила искорка воспоминания о живом двойнике этого мертвеца, об их давней встрече… но сразу же и угасла, не оформившись в четкую мысль.
— Я не могу сказать точно, — медленно выговорил он, — но сейчас мне кажется, что мы когда-то встречались.
Еще не закончив фразу, он понял, что поторопился. Глеткин не давал ему сосредоточиться, долбил быстрыми, отрывистыми вопросами, как стервятник, жадно клюющий падаль.
— Где и когда? Напрягитесь, ведь про вашу память рассказывают легенды.
Рубашов молчал. Он не мог совместить с реальностью тот залитый мертвым светом неподвижно-немой полутруп. Призрак облизывал бледным языком розоватый рубец на верхней губе, его взгляд метался от Глеткина Рубашову и обратно, но голова не шевелилась.
Стенографистка перестала писать, слышалось только потрескивание лампы да скрип глеткинских ремней — он уже сел в кресло и, плотно обхватив концы подлокотников, резко спросил:
— Так вы отказываетесь отвечать?
— Я не могу вспомнить, — ответил Рубашов.
— Ладно, — сказал Глеткин. Он привстал, оперся кистями рук о подлокотники и, нагнувшись над столом, приказал Заячьей Губе:
— Свидетель, помогите гражданину припомнить. Где и когда вы с ним виделись в последний раз?
Лицо Заячьей Губы, и без того голубовато-бледное, подернулось трупной белизной. Его взгляд остановился на стенографистке, которую он явно только что заметил, но сейчас же метнулся в сторону, словно отыскивая, куда бы спрятаться. Он снова провел языком по шраму на верхней губе и торопливо, на одном дыхании, произнес:
— Гражданин Рубашов подстрекал меня отравить вождя нашей Партии.
Поначалу Рубашов услышал только голос — поразительно мелодичный и ясный для этого полутрупа. Голос — да, быть может, глаза — вот все что осталось в нем живого. Смысл ответа Рубашов осознал лишь через несколько секунд. Он предвидел опасность и ожидал чего-нибудь в этом роде — и все-таки был ошарашен незатейливой чудовищностью обвинения. Он совсем повернулся к Заячьей Губе, и сейчас же сзади прогремел глеткинский голос, резкий и раздраженный:
— Об этом вас не спрашивают! Где и когда вы виделись в последний раз с подследственным?
Рубашов сразу заметил просчет: Глеткину следовало затушевать ошибку Заячьей Губы. Тогда бы я ее не заметил, подумал он. Его голова прояснилась, он почувствовал лихорадочное возбуждение. Актер спутал репертуар — запел не ту песню. Он усмехнулся своей аналогии. Следующая реплика Заячьей Губы прозвучала еще мелодичней:
— Я видел гражданина Рубашова в Б., у него на квартире, он склонял меня убить руководителя Партии.
Его затравленный взгляд метнулся к Рубашову и застыл. Рубашов быстро надел пенсне и с острым любопытством посмотрел свидетелю в глаза. Но взгляд Заячьей Губы не был виноватым — он требовал братского понимания, жаловался на невыносимые муки и даже укорял Рубашова. Рубашов не выдержал и отвернулся первый.
За его спиной опять прогремел голос Глеткина — удовлетворенный и грубый:
— Вы помните дату встречи?
— Да, точно помню. — Голос Заячьей Губы снова поразил Рубашова своей музыкальностью. — Потому что мы встретились после дипломатического приема в праздник двадцатой годовщины Революции.
Он все еще не отрывал взгляда от Рубашова и словно бы молил спасти его, избавить от страданий. Искорка разгорелась — Рубашов наконец вспомнил, где он видел Заячью Губу. Но он не ощутил ничего, кроме прежнего любопытства. Повернувшись к Глеткину, он прикрыл веки, чтобы защитить глаза от режущего света, и спокойно сказал:
— Он прав, и дата верна. Мы виделись один раз, когда он приходил ко мне со своим отцом, профессором Кифером — еще до того, как попал в ваши руки, — может быть, поэтому я его не сразу узнал: методы у вас весьма эффективны.
— Значит, вы признаете, что знакомы с этим гражданином, и подтверждаете дату встречи?
— Я ведь уже и признал, и подтвердил, — устало ответил Рубашов. Его возбуждение схлынуло, в голове гудело. — Если б вы мне сказали, что он сын несчастного Кифера, я бы давно его узнал.
— В обвинении указывается полное имя свидетеля, — напомнил Глеткин.
— Я знал только партийную кличку его отца — Кифер, — сказал Рубашов.
— Ну, это маловажная деталь, — подвел итог Глеткин. Он опять привстал и тяжело посмотрел на Заячью Губу. — Продолжайте, свидетель. Как и зачем вы встретились?
Еще один просчет, подумал Рубашов, преодолевая сонливость. Это вовсе не маловажная деталь. Если бы я склонял его к убийству — кошмарный все-таки идиотизм! — то узнал бы при первом же намеке, и с именем, и без имени. Но он слишком устал, чтобы пускаться в столь длинные объяснения; притом для этого ему пришлось бы повернуться к лампе. А так он мог сидеть к ней спиной.
Пока они спорили. Заячья Губа безучастно стоял у двери с опущенной головой и трясущимися губами; мощная лампа ярко освещала его мертвенно-бледное лицо. Рубашов припомнил своего друга, профессора Кифера — первого историка Революции. На групповой фотографии он сидел по левую руку от Старика. Над его головой так же, как и у всех участников Съезда, виднелся похожий на нимб кружок с цифрой. Кифер был помощником Старика в исторических исследованиях, партнером по шахматам и, пожалуй, единственным личным другом. Когда Старик умер, он, как ближайший к нему человек, был назначен его биографом. Однако биография, которую он писал десять лет, не была обнародована. Официальная трактовка революционных событий в корне изменилась за эти десять лет, а роли главных действующих лиц задним числом перераспределили между статистами; но старый Кифер был упрям, он не хотел принимать в расчет диалектических законов новейшей эры, начатой правлением Первого…
— Я сопровождал отца на Международный конгресс этнографов, — звенел между тем голос Заячьей Губы, — а потом мы заехали в Б., потому что отец хотел навестить своего старого друга гражданина Рубашова.
Рубашов слушал с грустным любопытством. Заячья Губа говорил правду: старина Кифер заехал к нему в Б. чтобы излить наболевшие обиды, а заодно и посоветоваться. Тот вечер был, вероятно, последним приятным воспоминанием Кифера о земной жизни.
— У нас в распоряжении был всего один день, — Заячья Губа неотрывно смотрел на Рубашова, как бы требуя у него помощи и поддержки, — день Праздника Революции, вот почему я так точно запомнил дату. Гражданин Рубашов был очень занят и днем смог уделить моему отцу только несколько минут, но вечером, после дипломатического приема в Миссии, он пригласил отца к себе на квартиру, а отец взял с собой и меня. Гражданин Рубашов казался усталым, он был в халате, но принял нас тепло и по-дружески. Он поставил на стол вино, коньяк и печенье, а потом обнял отца и сказал: «Пусть это будет прощальный ужин последних могикан-партийцев…»
Из-за спины Рубашова, прерывая мелодичный рассказ Заячьей Губы, проскрежетал глеткинский голос:
— Вы сразу заметили намерение хозяина напоить вас, чтобы втянуть в заговор?
Рубашову показалось, что по изуродованному лицу Заячьей Губы скользнула улыбка, — и он впервые заметил, что этот призрак напоминает его тогдашнего гостя. Но улыбка тут же исчезла, свидетель испуганно моргнул и облизал языком сухие губы.
— Он вел себя немного странно, но я не понял, какие у него планы.
«Несчастный ты сукин сын, — подумал Рубашов, — что же они с тобой сделали…»
— Продолжайте, свидетель, — снова раздался голос Глеткина.
Заячья Губа несколько секунд собирался с мыслями. Было слышно, как стенографистка чинит карандаш.
— Сначала гражданин Рубашов и мой отец вспоминали прошедшие годы. Они очень долго не виделись. Они говорили о дореволюционных временах, о Революции, о Гражданской войне, рассказывали друг другу про своих старых друзей, которых я знал только понаслышке, намекали на какие-то не известные мне события, шутили и смеялись, но я не всегда понимал — над чем.
— И много пили? — полуутвердительно спросил Глеткин.
Заячья Губа поднял голову и беспомощно заморгал. Рубашову показалось, что он едва заметно покачивается, как бы с трудом удерживаясь на ногах.
— Да, довольно много, — покорно подтвердил он. — За последние годы я ни разу не видел отца таким веселым.
— И через три месяца вашего отца разоблачили как контрреволюционера? — спросил Глеткин. — А спустя еще три месяца ликвидировали?
Заячья Губа облизнул языком розоватый рубец и, тупо глядя на лампу, промолчал. Рубашов безотчетно оглянулся на Глеткина, но режущий свет заставил его зажмуриться, и он медленно отвернулся, машинально потирая пенсне о рукав. Стенографистка перестала писать, и кабинет затопила тишина. Затем снова послышался глеткинский голос:
— Вы тогда уже знали о вредительской деятельности отца?
Заячья Губа опять облизнул розоватый шрам.
— Да, — проговорил он.
— И понимали, что Рубашов разделяет его взгляды?
— Да.
— Перескажите сущность их разговора. Без подробностей.
Заячья Губа убрал руки за спину и прислонился к стене.
— Потом мой отец и гражданин Рубашов заговорили про наши дни. Они ругали партийцев и обливали грязью партийных руководителей. Гражданин Рубашов и мой отец панибратски называли вождя Партии Первым. Гражданин Рубашов сказал, что с тех пор, как Первый оседлал Центральный Комитет, дышать там, под его задницей, стало нечем. Поэтому, дескать, он и предпочитает работать за границей.
Глеткин повернул голову к Рубашову.
— Если я не ошибаюсь, вскоре вы публично заявили о своей преданности руководителю Партии?
Рубашов скосил на него глаза.
— Вы не ошибаетесь, — сказал он.
— Они обсуждали это намерение Рубашова? — спросил Глеткин Заячью Губу.
— Да. Мой отец упрекал его и говорил, что честный партиец так поступать не должен. А гражданин Рубашов засмеялся и назвал отца наивным донкихотом. Он сказал, что им надо выжить и дождаться своего часа.
— Что он имел в виду, когда говорил «дождаться своего часа»?
Заячья Губа потерянно и почти нежно посмотрел на Рубашова. Тому даже почудилось, что он сейчас подойдет к нему и поцелует в лоб. Он усмехнулся этой мысли — и услышал мелодичный ответ:
— Того часа, когда вождь Партии будет смещен.
Глеткин, заметив усмешку Рубашова, сухо спросил:
— Вас, кажется, забавляют эти воспоминания?
— Возможно, — ответил Рубашов и закрыл глаза. Глеткин согнал назад складки гимнастерки.
— Значит, Рубашов рассчитывал, что руководитель Партии будет смещен? — обратился он к Заячьей Губе. — Каким же образом?
— Мой отец полагал, что терпение партийцев истощится и они переизберут руководителя или заставят его уйти в отставку; он говорил, что эту идею надо нести в партийные массы.
— Ну, а Рубашов?
— А Рубашов опять засмеялся и назвал его наивным донкихотом. Он сказал, что Первый пришел к власти не случайно и добровольно от нее не откажется, потому что непоколебимо убежден в своей непогрешимости, а поэтому абсолютно аморален; что он прирожденный правитель, и власть у него можно отнять только силой. Ничего, мол, с ним не смогут поделать и партийные массы, потому что все ключевые посты в Партии занимает верная ему партийная бюрократия, которая знает, что, если его сместят, она немедленно лишится всех своих привилегий, а поэтому будет верна ему до конца.
Несмотря на сонливость, Рубашов с удивлением заметил, что юноша необычайно точно передает его мысли. Сам он уже забыл подробности тогдашнего разговора, но общий ход его рассуждений Заячья Губа пересказывал поразительно верно. Рубашов изумленно поглядывал на него сквозь пенсне.
Снова прогремел глеткинский голос:
— Значит, Рубашов подчеркивал, что надо применить насилие против Первого — я имею в виду руководителя нашей Партии?
Заячья Губа кивнул.
— И его доводы, подкрепленные обильной выпивкой, произвели на вас глубокое впечатление?
Заячья Губа ответил не сразу. Помолчав, он очень тихо сказал:
— Я почти не пил. Но его доводы произвели на меня глубочайшее впечатление.
Рубашов невольно опустил голову. Страшная догадка пронзила его, словно физическая боль. Неужели несчастный юноша сделал практические выводы из его рассуждений, неужели в этом свидетеле, безжалостно освещенном лампой вивисекторов, воплощена его, рубашовская, логика?
Глеткин не дал ему додумать до конца свою мысль. Снова проскрежетал его голос:
— И после теоретической подготовки Рубашов стал понуждать вас к действиям?
Заячья Губа не ответил. Глеткин несколько секунд ждал.
Рубашов поднял голову. Свидетель беспомощно моргал, слышалось сухое потрескивание лампы. Потом раздался глеткинский голос — даже более монотонный и бесстрастный, чем обычно:
— Вы хотите, чтобы вам помогли припомнить?
Эти слова были произнесены с нарочитым равнодушием, но свидетель вздрогнул, как от удара хлыстом. Он облизнул губы; в его глазах мерцал тупой ужас затравленного животного. И вот снова зазвучал мелодичный рассказ:
— Нет, он начал понуждать меня на следующее утро, когда мы встретились тет-а-тет.
Рубашов ухмыльнулся. Несомненно, сам Глеткин перенес эту мизансцену на следующий день — даже в его неандертальском мозгу не укладывалось, что старик Кифер стал бы спокойно слушать, как сына склоняют к убийству. Рубашов уже забыл про свою страшную догадку; он обернулся и, помаргивая от яркого света, спросил:
— Надеюсь, обвиняемый имеет право задавать вопросы свидетелю?
— Имеет, — коротко ответил Глеткин. Рубашов повернулся к юноше.
— Насколько я помню, — проговорил он, — как раз перед этой поездкой вы защитили в Университете диплом?
Рубашов первый раз обратился прямо к свидетелю, и лицо Кифера снова осветилось надеждой на поддержку и помощь. Он кивнул.
— Значит, я помню правильно, — сказал Рубашов. — Кроме того, мне припоминается, что вы тогда собирались работать под руководством отца в Институте истории. Это ваше намерение осуществилось?
— Да, — ответил Заячья Губа и, поколебавшись, добавил: — Меня уволили после ареста отца.
— Понятно, — сказал Рубашов. — И вам пришлось подыскивать другую работу. — Он помолчал, а потом, оглянувшись на Глеткина, закончил: — Таким образом, когда мы встретились с этим юношей, ни он, ни я не знали о характере его будущей работы и, следовательно, не могли планировать отравления Первого.
Шорох карандаша мгновенно оборвался. Рубашов, не глядя на стенографистку, понимал, что она перестала записывать и повернула свое мышиное личико к Глеткину. Свидетель тоже смотрел на Глеткина, но в его глазах уже не было надежды: они выражали растерянность и страх. Рубашову вдруг показалось, что он легкомысленно прервал серьезный и торжественный обряд; радость победы тотчас увяла. Голос Глеткина, официальный и равнодушный, окончательно засушил ее.
— Есть у вас еще вопросы к свидетелю?
— Сейчас нет, — ответил Рубашов.
— Мы не утверждаем, что вы настаивали на отравлении, — спокойно сказал Глеткин. — Вы дали приказ убить, метод убийства мог выбирать сам исполнитель. — Он повернулся к Заячьей Губе: — Вы именно так нас информировали?
— Да, — с явным облегчением подтвердил тот.
Рубашов точно помнил, как Глеткин читал: «Подстрекал к убийству посредством отравления», — но ему вдруг стало на все наплевать. Пытался ли юный Кифер совершить это безумное убийство или только планировал его, признался ли он в своих намерениях или просто подтвердил выдумку истязателей, — дела не меняло: он, Рубашов, был виновен. Этот измученный юноша прошел до конца рубашовский путь — вместо самого Рубашова. Нет, не следователь, а подследственный пытался запутать юридическим крючкотворством ясное по существу дело. Следствие просто восстановило недостающие звенья логической цепи — оно было грубоватым и неуклюжим, но отнюдь не бредовым.
И все же, как представлялось Рубашову, один пункт обвинения был не совсем верен. Но он слишком устал, чтобы сформулировать свою мысль и высказать ее вслух.
— Есть у вас еще вопросы к свидетелю? — спросил Глеткин.
Рубашов отрицательно покачал головой.
— Вы можете идти, — сказал Глеткин Заячьей Губе и нажал кнопку звонка. Явившийся охранник защелкнул на запястьях Кифера металлические наручники. У двери Кифер еще раз повернул голову к Рубашову, и он вспомнил, что, возвращаясь с прогулки, тот всегда смотрел на его окно. Этот взгляд давил Рубашова, словно чувство мучительной вины, — он не выдержал, снял пенсне и отвел глаза.
Когда дверь захлопнулась, Рубашов понял, что почти завидует Заячьей Губе. Его уши уже опять сверлил глеткинский голос — обновление резкий, но по-прежнему официальный и монотонный:
— Вы признаете, что показания Кифера совпадают в основных пунктах с формулировкой обвинения?
Рубашову опять пришлось повернуться к лампе. В голове гудело, электрический свет процеживался сквозь опущенные веки горячими розоватыми волнами. Однако слова «в основных пунктах» не укрылись от его внимания Глеткин собирался исправить свой промах, сократив «подстрекал к убийству посредством отравления» до неопределенного «подстрекал к убийству».
— В основных пунктах совпадают, — проговорил Рубашов.
Удовлетворенно скрипнули глеткинские ремни; стенографистка, словно сытенькая мышка, завозилась на своем стуле. Рубашов почувствовал, что в их глазах он подтвердил свое заявление Генеральному Прокурору и окончательно признал себя виновным. Откуда этим неандертальцам знать его собственные представления о виновности, справедливости и правде?
— Вам не мешает свет? — неожиданно спросил Глеткин.
Рубашову стало смешно. Глеткин решил расплатиться. Вот оно, мышление неандертальца. И все же, когда слепящий блеск немного померк, он ощутил облегчение и чуть ли не благодарность.
Теперь — правда, все еще с трудом — Рубашов мог посмотреть на Глеткина. Он поднял голову и увидел круглый, гладко выбритый череп с широким шрамом.
— Но один весьма существенный пункт я хотел бы уточнить, — сказал он.
— Какой именно? — спросил Глеткин. Его голос опять прозвучал резко и официально.
«Он, конечно, предполагает, что я заговорю об утренней встрече с мальчишкой, которой не было, — думал Рубашов. — Для него это очень важно: его занимают истинные факты, даже если они не имеют значения. Впрочем, по-своему он, пожалуй, прав…»
— Пункт о насилии, — сказал он вслух. — Излагая свои тогдашние взгляды, я действительно пользовался этим словом. Однако я имел в виду не индивидуальный террор, а политическую активность масс.
— То есть Гражданскую войну? — спросил Глеткин.
— Нет. Легальную активность.
— Которая неминуемо переросла бы в Гражданскую войну, и вы это прекрасно знаете. А если так, то в чем же заключается ваше уточнение?
Рубашов не ответил. Только что этот пункт казался ему необычайно важным, но теперь он увидел, что разницы, и правда, нет. Если оппозиция могла добиться победы над гигантским бюрократическим аппаратом Первого только с помощью Гражданской войны, то почему это лучше, чем убийство одного Первого, — тем более что на войне погибли бы миллионы людей? Чем массовый политический террор лучше индивидуального? Это несчастный мальчик понял его не совсем верно — но, быть может, даже ошибаясь, он действовал гораздо последовательней его самого?
Оппозиция способна сломить диктатуру меньшинства только с помощью Гражданской войны. Тот, кто не приемлет Гражданской войны, должен порвать с оппозицией и подчиниться диктатуре.
Когда он писал эти простые фразы, полемизируя много лет назад с реформистами, ему и в голову не приходило, что он подписывает свой будущий приговор… У него не было сил спорить с Глеткиным. Решив, что проиграл, он сразу почувствовал облегчение: борьба закончилась, и с него сняли ответственность; больше всего на свете ему хотелось уснуть. Тяжкий груз в голове сливался с монотонным потрескиванием лампы; за столом вместо Глеткина уже сидел Первый, глядя ему в глаза с усмешливой и сатанински-мудрой иронией. Он вспомнил надпись на воротах кладбища в Эрани, где покоились обезглавленные Сен-Жюст, Робеспьер и шестнадцать их соратников: Dormir — спите.
А потом воспоминания Рубашова о допросе снова сделались отрывочными и туманными. Вероятно, он опять уснул — на несколько секунд или минут, — но снов, кажется, не видел. Глеткин разбудил его, предложив подписать протокол. Он взял ручку и с отвращением почувствовал, что она хранит еще тепло глеткинских пальцев. Стенографистка сидела не шевелясь, и кабинет заполняла спокойная тишина. Даже лампа перестала потрескивать, ее свет был неярким и желтоватым, а за окном занималось серенькое зимнее утро. Рубашов расписался.
Чувство облегчения не покидало его, хотя он и забыл, почему оно возникло; преодолевая сонную одурь, он прочитал документ, в котором признавался, что подстрекал Кифера к убийству руководителя Партии. Ему вдруг по чудилось, что все это — результат чудовищного и всеобщего взаимонепонимания; он хотел зачеркнуть свою подпись и разорвать протокол, но голова уже прояснилась, он отдал документ Глеткину и машинально потер пенсне о рукав.
Дальше в памяти зиял провал; он очнулся в коридоре, рядом с высоким охранником, который миллион лет назад отвел его к Глеткину. Глаза слипались; через несколько секунд он разглядел винтовую лестницу и, вспомнив свои страхи, сонно усмехнулся. Потом лязгнула дверь камеры, и он блаженно растянулся на койке; за мутным стеклом разливался серый рассвет, в верхнем углу окна подрагивал от ветра кусок газеты… он подложил под голову левую руку и мгновенно уснул.
Когда дверь снова открылась, рассвет за окном еще не успел разгореться в день — он спал едва ли больше часа. Сначала ему показалось, что принесли завтрак, но у двери стоял не надзиратель, а охранник. И Рубашов понял, что его опять поведут на допрос.
Он плеснул себе в лицо холодной воды над умывальником, надел пенсне и, заложив руки за спину, двинулся впереди охранника к глеткинскому кабинету — мимо одиночек, мимо общих камер и потом вниз по винтовой лестнице, ступени которой плавно поворачивали, — но он не замечал, что, спускаясь, кружит по спирали.
4
Все следующие допросы припоминались Рубашову, как один клубящийся мутный ком. Глеткин допрашивал его несколько суток подряд с двух-или трехчасовыми перерывами, но он помнил только разрозненные обрывки их разговора. Он потерял счет дням; видимо, все это продолжалось больше недели. Рубашов слышал о методе физического сокрушения обвиняемого, когда сменяющиеся следователи непрерывно пытают его изнурительным многосуточным допросом. Однако Глеткин никогда не отдыхал и сам, отняв у Рубашова пафос нравственного превосходства жертвы над истязателями.
После первых сорока восьми часов он перестал различать смену дня и ночи. Лязгала дверь, на пороге появлялся высокий охранник, и он вставал с койки, не понимая, рассвет ли сереет за мутным стеклом или угасающий зимний день. А тюремные коридоры, двери камер и ступени винтовой лестницы заливало мертвое электрическое марево. Если во время допроса серая муть за окном постепенно светлела и Глеткин в конце концов выключал лампу, значит, наступало утро. Если сумерки сгущались и лампа вспыхивала, — начинался вечер.
Когда Рубашов заявлял, что голоден, в кабинете появлялись бутерброды и чай. Но есть ему обыкновенно не хотелось; вернее, он испытывал приступы волчьего аппетита, пока еды не было, но как только ее приносили, к горлу подкатывала тошнота. Кроме того, Глеткин никогда не ел в его присутствии, и ему казалось унизительным говорить, что он проголодался. Вообще, все физические отправления становились при Глеткине унизительными, потому что сам он никогда не показывал признаков усталости, не зевал и не сутулился, не курил, не ел и не пил — официальный и подтянутый, сидел он за своим столом, а его аккуратно пригнанные ремни негромко и корректно поскрипывали. Наихудшей пыткой для Рубашова становилось желание выйти из кабинета по естественной нужде. Глеткин вызывал дежурного охранника, и тот конвоировал Рубашова в уборную. Однажды Рубашов уснул прямо на толчке, с тех пор охранник не разрешал ему закрывать дверь.
Сковывающая его апатия сменялась иногда болезненно механическим возбуждением. По-настоящему он потерял сознание только один раз, хотя все время пребывал на грани обморока; но остатки гордости помогали ему пересиливать себя. Он закуривал, на секунду поворачивал голову к слепящей лампе, и допрос продолжался.
Порой его поражала собственная выносливость. Однако он знал, что границы человеческих возможностей гораздо шире расхожего представления о них и что обычные люди просто не догадываются о своей удивительной жизнестойкости. Ему рассказывали, например, про одного обвиняемого, которому не давали спать почти двадцать дней, и он выдержал.
Подписывая протокол первого допроса, он думал, что доследование кончилось. На втором допросе ему стало ясно, что оно только начинается. В обвинении было семь пунктов, а он пока согласился лишь с одним. Ему представлялось, что он уже выпил чашу унижений до дна. Но выяснилось, что полный разгром может повторяться до бесконечности, а бессилие способно нарастать беспредельно. И Глеткин, шаг за шагом, гнал его по этому нескончаемому пути.
Конец, впрочем, всегда был рядом. Стоило ему подписать обвинение целиком или полностью отвергнуть его, и он обрел бы покой. Но странное чувство какого-то извращенного долга не позволяло ему свернуть с выбранной однажды дороги. Он шел по ней, перебарывая искушение сдаться, хотя раньше само слово «искушение» было для него пустым звуком, потому что он всю жизнь служил абсолютной идее. А сейчас это слово наполнилось конкретным смыслом, обрело форму беспрестанных унижений, гнетущую тяжесть бессонных ночей и невыносимую резкость ослепительной лампы — искушение, воплотившееся в реальность надписью на воротах кладбища для побежденных: «Спите».
Ему было очень трудно противиться этому мирному и мягкому искушению, оно опутывало туманом рассудок и сулило полнейший духовный покой. Глеткин громоздил бесчисленные логические доказательства его вины, а оно ненавязчиво, но постоянно напоминало совет записки, полученной в парикмахерской: «Умрите молча».
Иногда, охваченный апатией, Рубашов безмолвно шевелил губами. В таких случаях Глеткин прокашливался, сгонял назад складки гимнастерки под скрипучим ремнем, а Рубашов начинал потирать пенсне о рукав и безвольно кивал головой, потому что уже осознал в искусителе Немого Собеседника, которого, как ему казалось, он давно уничтожил в себе и которому здесь, в этом кабинете, было решительно нечего делать.
— Значит, вы отрицаете, что вели переговоры от имени оппозиции с представителями мирового капитализма, имея целью свержение существующего руководства в стране? Вы отрицаете, что за прямую или косвенную помощь обещали пересмотреть границы, то есть отдать интервентам определенные области нашей родины?
Рубашов решительно это отрицал; но когда Глеткин повторил ему дату и напомнил обстоятельства некоей встречи, в его сознании постепенно всплыл один незначительный, забытый разговор. Утомленно и растерянно слушая Глеткина, он сразу же понял, что тому не разъяснишь безобидности мимолетной светской беседы. Дело происходило в Торговой Миссии после официального дипломатического обеда. Рубашов разговорился с бароном 3., Секретарем Посольства той самой страны, где Рубашову недавно выбили зубы, о редкой породе морских свинок — оказалось, что отцы барона и Рубашова разводили этих экзотических животных, а поэтому были, вероятно, знакомы.
— И где же теперь, — поинтересовался барон, — содержится питомник вашего отца?
— Его разорили во время Революции: морских свинок пустили на мясо.
— А из наших наделали эрзац-консервов, — меланхолично сообщил Рубашову барон. Он не скрывал брезгливого отвращения к новому режиму в своей стране и оставался дипломатом только потому, что у властителей не дошли еще до него руки.
— У меня и у вас похожие судьбы, — отхлебнув кофе, проговорил барон. — Мы с вами оба пережили свое время. Теперь не поразводишь экзотических животных. Нынешний век — эпоха плебса.
— Вы забываете, господин барон, что я выступаю на стороне плебса, — улыбаясь, напомнил собеседнику Рубашов.
— Я говорю не о социальной позиции, — немного помолчав, возразил барон.
— Программа, выдвинутая нашим Усатиком, в принципе не вызывает у меня возражений — мне претит его пошлое плебейство. Человека можно послать на Голгофу только за то, во что он верует. — Они лениво попивали кофе, и через несколько секунд барон сказал: — Если у вас повторится Революция и вы сместите вашего Усача, постарайтесь не забыть о духовной вере или уж, по крайней мере об экзотике.
— Это у нас едва ли случится, — ответил Рубашов после паузы добавил: — Но у вас, судя по вашей реплике, все же допускают подобную возможность?
— Теперь допускают, — сказал барон. — На ваших последних судебных процессах вскрылись весьма интересные факты.
— И, видимо, у вас иногда обсуждают, какие шаги вам следует предпринять, если это невероятное событие все же случится? — спросил Рубашов.
Барон ответил быстро и точно, словно он предвидел рубашовский вопрос:
— В чужие дела мы вмешиваться не будем. Но сформированное Правительство — по его просьбе — можно поддержать… за определенную мзду.
Они уже стояли возле стола, и в руках у них были кофейные чашечки.
— Значит, если я вас правильно понял, вы обсуждали и размеры мзды? — Рубашов с легким беспокойством заметил, что небрежный тон ему не удался.
— Конечно, — спокойно ответил барон и назвал богатую пшеницей область, населенную одним из национальных меньшинств…
Рубашов забыл про этот разговор и никогда осознанно о нем не вспоминал. Светская беседа за чашечкой кофе — как он мог растолковать Глеткину, что она решительно ничего не значила?
Рубашов устало смотрел на следователя, по-обычному корректного и каменно-безучастного. Он, без сомнения, не интересовался экзотикой. Не пил кофе с баронами-дипломатами. Читая, он напряженно выговаривал слова, запинался и ставил неверные ударения. Его происхождение было чисто плебейским, и читать он научился уже будучи взрослым. Нет, ему никак не объяснишь, что разговор, начавшийся с морских свинок, может закончиться бог знает чем.
— Короче, вы признаете, что этот разговор все же имел место? — спросил Глеткин.
— Он был абсолютно безобидным, — устало ответил Рубашов и сразу понял, что Глеткин оттеснил его еще на один шаг.
— Таким же безобидным, как ваши чисто теоретические рассуждения перед юным Кифером, что руководителя нашей Партии надо сместить посредством насилия?
Рубашов потер пенсне о рукав. А действительно, была ли та беседа «абсолютно безобидной»? Разумеется, он не вел никаких переговоров, да и барона 3. никто не уполномочивал их вести. «Прощупывание почвы» — вот как это именуется у дипломатов. Но подобное «прощупывание» можно счесть и звеном в логической цепи его тогдашних рассуждений, а они опирались на проверенные практикой партийные традиции. Разве Старик в свое время не воспользовался услугами Генерального Штаба той же страны, чтобы вернуться на родину и довести начавшуюся Революцию до победы? И разве чуть позже, заключая первое перемирие, он не пошел на территориальные уступки, чтобы добиться передышки? «Старик меняет пространство на время», — остроумно заметил тогда один рубашовский приятель. «Безобидный разговор» столь прочно сомкнулся с другими звеньями общей цепочки, что Рубашов и сам теперь смотрел на него глазами Глеткина. Того самого Глеткина, который, читая, — а в общем-то, и думая — чуть ли не по слогам, приходил к простейшим, но неопровержимым выводам… весьма вероятно, именно потому, что совершенно не интересовался экзотикой. А как он, кстати, узнал о том разговоре? Вряд ли их с бароном могли подслушать — и значит, дипломат из аристократической семьи служил агентом-провокатором… Бог весть из каких соображений. Такое часто случалось и раньше. Рубашову была подстроена ловушка, неуклюже сляпанная примитивным воображением Первого, и он, Рубашов, попался в нее, словно слепой мышонок…
— Вы очень хорошо информированы о моей беседе с бароном 3., — сказал Рубашов, — а потому должны знать, что она не имела никаких последствий.
— Конечно, не имела, — ответил Глеткин, — благодаря тому, что вас вовремя арестовали, а все антипартийные группы в стране были разгромлены. Вам не удалось довести вашу измену до ее логического конца.
Чем он мог опровергнуть этот вывод? Сказать, что серьезные последствия были изначально невозможны хотя бы уже из-за его, рубашовской, дряхлости, которая мешала ему действовать последовательно, как того требовали партийные традиции и как повел бы себя на его месте Глеткин? Объяснить, что вся так называемая оппозиция давно выродилась в немощную трепотню из-за старческой дряхлости всей старой гвардии? Растолковать, что старая гвардия износилась и одряхлела, вымотанная жесточайшей подпольной борьбой, сырыми одиночками древних казематов и постоянным преодолением страха, о котором партийцы никогда не говорили друг с другом, так что каждому приходилось подавлять его в одиночку — многие годы, десятки лет? Рассказать, что старую гвардию вконец обессилили бесчисленные внутрипартийные распри и полнейшая беспринципность, непрерывные поражения и разврат абсолютной власти после победы? Стоило ли говорить Глеткину, что организованной оппозиции Первому никогда не существовало, что дело не шло дальше пустой болтовни и слабоумной игры с коварным, беспощадным огнем, что старая гвардия полностью исчерпала себя и поэтому ей, подобно мертвецам с кладбища в Эрани, остается надеяться только на вечный сон и оправдание потомков?
Так чем же он мог опровергнуть выводы этого неандертальского истукана? Его примитивная логика была совершенно неопровержимой, и, однако, он ошибался — потому что перед ним сидел не закаленный боец Рубашов, а его немощная тень. И благодаря этой единственной, но коренной ошибке Рубашова обвиняли в поступках, которые он отказался совершать. «Человека можно послать на Голгофу только за то, во что он верует», — сказал барон 3.
Прежде чем подписать протокол, чтобы, придя в камеру, рухнуть на койку и провалиться в тяжкое забытье — до следующего сеанса вивисекции, — Рубашов задал Глеткину посторонний вопрос. Он знал, что после каждой победы Глеткин ненадолго смягчался — платил по счету. Рубашов решил узнать о судьбе Иванова.
— Гражданин Иванов арестован, — сказал Глеткин.
— А можно узнать, за что? — спросил Рубашов.
— Гражданин Иванов проявил преступную халатность при расследовании вашего дела, — ответил Глеткин, — а в частных беседах он цинично утверждал, что обвинение недостаточно обосновано.
— Но, возможно, он действительно не считал его достаточно обоснованным, — возразил Рубашов. — Возможно, ему, и правда, казалось, что я не преступник?
— В таком случае он должен был заявить, что не может вести данное дело, и доложить компетентным лицам о вашей невиновности.
Рубашов не был уверен, что Глеткин над ним издевается. Его голос звучал так же корректно официально, как обычно.
В другой раз, когда стенографистка ушла из кабинета, а Рубашов собирался подписать очередное признание — еще теплой от глеткинских пальцев ручкой, — он спросил следователя:
— Можно задать вам еще один посторонний вопрос?
Произнося эти слова, он смотрел на широкий глеткинский шрам.
— Мне сказали, что вы ратуете за сильнодействующие методы, — у вас их, кажется, называют «жесткими». Почему же, допрашивая меня, вы ни разу не прибегли к физическому воздействию?
— Вы имеете в виду пытки, — полуутвердительно и равнодушно сказал Глеткин. — Как вам должно быть известно, они запрещены нашим законодательством.
Он помолчал. Рубашов расписался на последнем листе протокола.
— Кроме того, — заговорил снова Глеткин, — существует определенный тип подследственных, которые подписывают при физическом воздействии все, что угодно, а на публичном процессе отрекаются от своих показаний. Вы принадлежите именно к этому типу упорных, но гибких людей. Из ваших признаний можно извлечь политическую пользу на открытом судебном процессе, только если они сделаны добровольно.
Глеткин впервые упомянул о публичном процессе. Но устало шагая перед высоким охранником обратно в камеру, Рубашов обдумывал не приближающийся суд, а слова Глеткина про «упорных, но гибких людей». Помимо воли они наполняли его радостной самоудовлетворенностью.
«Я положительно впадаю в детство», — думал он, блаженно вытягиваясь на койке. И чувство самодовольства не покидало его, пока он не уснул.
Всякий раз, подписывая после упорных споров новый пункт обвинения — измученный, странно успокоенный и уверенный, что его разбудят максимум через два часа, — всякий раз он засыпал с надеждой, что Глеткин даст ему выспаться и прийти в себя. Он прекрасно знал, что эта надежда не осуществится, пока битва не будет доведена до ее логического конца, превосходно понимал, что в очередном бою потерпит очередное поражение, и не сомневался в горестном для него исходе битвы. Тогда зачем же он мучил себя, зачем обрекал на нескончаемые унижения, вместо того чтобы сдаться заранее и спокойно уснуть? Смерть давно уже потеряла для него свой метафизический характер, воплотившись в искусительное, ласковое, физически желанное слово сон. И все же странное чувство долга заставляло его бодрствовать и вести обреченную битву — хотя он знал, что воюет с ветряными мельницами. Но он продолжал сражаться, и Глеткин шаг за шагом заставлял его отступать, и ему было ясно, что, когда тот перекует последнюю несуразицу обвинения в аккуратное звено логической цепи, круг замкнется и он будет приперт — то есть поставлен — к стенке. Но выбранный однажды путь следовало честно пройти до конца. И только тогда, вступив во тьму с открытыми глазами и поднятой головой, он завоюет право на ничем не нарушаемый сон.
В продолжение этого многосуточного допроса менялся постепенно и Глеткин — впрочем, почти незаметно. Однако рубашовские лихорадочные глаза регистрировали даже самые незначительные перемены. Глеткин был по-прежнему подтянутым и сухо официальным, все так же ничего не выражал его взгляд, все так же корректно поскрипывали аккуратно пригнанные ремни — но мало-помалу в его словно бы механическом голосе появлялись человеческие нотки, а режущий свет лампы становился все спокойней и под конец сделался почти нормальным. Глеткин ни разу не улыбнулся — так что Рубашов не узнал, способны ли улыбаться неандертальцы новейшей эры, — и никаких чувств его голос не выражал. Но однажды, когда после нескольких часов допроса у Рубашова кончилось курево, Глеткин, который сам не курил, вынул из кармана пачку папирос и протянул ее через стол Рубашову.
Один пункт обвинения Рубашову удалось отвергнуть: он доказал, что не насаждал вредительства, работая руководителем Народного Комиссариата легких металлов. По сравнению с другими, уже признанными им обвинениями, этот пункт значил не много, но он боролся до последнего. Допрос продолжался всю ночь. Рубашов, сиплым от усталости голосом, последовательно разбивал все свидетельства его виновности, подкрепленные тенденциозно толкуемой статистикой, приводил чудом всплывавшие в памяти цифры и факты, убедительно опровергал подтасованные следствием данные, и Глеткин не сумел отыскать слабого места в его обороне. Дело в том, что уже на втором или третьем допросе они заключили между собой негласный договор, по которому Глеткин должен был обосновывать всякий пункт обвинения рубашовскими идеями — хотя бы исключительно теоретическими, — а сделав это, имел право домысливать недостающие подробности или, как сформулировал для себя Рубашов, перековывать несуразицы следствия в звенья логической цепи. Они бессознательно выработали четкие правила игры и считали, что поступки, которые Рубашов должен был совершить, следуя логике своих теоретических рассуждений, действительно совершены; они потеряли представление о границах вымысла и реальности, о разнице между логическими конструкциями и фактами бытия. Рубашов изредка замечал этот перекос, и в такие минуты ему казалось, что он очнулся от длительного наркотического сна, а Глеткину, по всей видимости, ничего подобного не приходило и в голову.
Под утро, когда Рубашов с очевидностью доказал, что не разваливал работу по производству легких металлов, глеткинский голос окрасился чуть заметным призвуком неуверенности — как и при первом неправильном ответе Заячьей Губы на очной ставке. Он резко усилил накал лампы, чего давно уже не делал, но, заметив ироническую усмешку Рубашова, опять пригасил лампу, задал несколько незначительных вопросов, а потом сказал:
— Значит, вы категорически отрицаете свою вредительскую деятельность во вверенной вам отрасли промышленности — равно как и наличие у вас преступных замыслов?
Рубашов кивнул и, преодолевая сонливость, стал ждать, как поступит Глеткин. Тот повернулся к стенографистке:
— Запишите. Следствие рекомендует снять данный пункт по недостаточности улик.
Рубашов торопливо закурил, чтобы скрыть охватившее его детское торжество. Первый раз он одержал победу над Глеткиным. Разумеется, это была грустная, ничего не решающая победа в проигранной битве — и все же он победил; вот уже несколько месяцев или даже лет не испытывал он подобного ощущения… Глеткин взял у стенографистки протокол допроса и по сложившейся у них традиции отпустил ее.
Когда они остались одни и Рубашов встал, чтобы подписать протокол, Глеткин, протягивая ему ручку, сказал:
— Оппозиция всегда с успехом использовала промышленное вредительство, чтобы создавать руководству временные трудности и разжигать недовольство среди рабочих. Почему же вы так упорно настаиваете, что не прибегали — и даже не намеревались прибегнуть — к этому проверенному средству?
— Да потому что это идиотизм — сваливать все неудачи на вредительство, — ответил Рубашов. — И потому что меня мутит от непрерывных процессов над вредителями, которые ни в чем не виновны.
Почти забытое ощущение победного торжества взбодрило Рубашова, и он говорил громче обычного.
— Вы вот считаете вредительство выдумкой, — возразил ему Глеткин, — а тогда в чем же, по-вашему, причина неудовлетворительного состояния промышленности?
— Непосильные нормы, нищенская оплата труда и драконовские дисциплинарные меры, — сейчас же ответил Рубашов. — Мне известны случаи, когда рабочих расстреливали как вредителей за пустячные ошибки, вызванные голодом и усталостью. За двухминутное опоздание человека увольняют с такой записью в Трудовой книжке, что потом его нигде не берут на работу.
Глеткин окинул Рубашова ничего не выражающим взглядом и спросил ничего не выражающим тоном:
— У вас были в детстве часы?
Рубашов ошарашенно промолчал. Он уже заметил, что новейшие неандертальцы начисто лишены чувства юмора — или, точнее, все они относятся к жизни с угрюмой серьезностью.
— Вам не хочется отвечать на мой вопрос?
— Были, конечно, — недоумевая, ответил Рубашов.
— В каком возрасте вы их получили?
— Н-н-ну… лет, может быть, в девять или восемь.
— А я, — по-обычному корректно и официально сказал Глеткин, — узнал, что час делится на минуты, в шестнадцать лет. Когда крестьяне моей деревни ехали в город, они просто выходили из дому на рассвете, а потом спали около станции, пока не прибудет поезд. Иногда он прибывал в полдень, иногда к вечеру, а иногда на следующее утро. И большинство наших рабочих — деревенские люди. Неподалеку от моей деревни, например, построили крупнейший в мире сталелитейный завод. И вот мои земляки, вчерашние крестьяне, загружали доменную печь и ложились спать. К ним пришлось применить высшую меру наказания. В других странах процесс индустриализации растягивался на сто или двести лет, так что крестьяне естественно и постепенно привыкали к своей новой жизни. У нас они должны освоиться с машинами и промышленной точностью в десять лет. Если мы не будем увольнять их и расстреливать за малейшие ошибки, они не отвыкнут спать у станков или во дворах фабрик, и страну охватит мертвый застой, то есть она вернется к дореволюционному состоянию. В прошлом году Республику посетила делегация женщин-текстилыциц из Манчестера в Англии. От них ничего не утаивали, и когда они возвратились домой, то написали несколько негодующих статей, в которых сказано, что английские рабочие просто не выдержали бы таких условий труда, как у нас. Я читал, что текстильной промышленности Манчестера около двухсот лет. И я читал также, какие условия труда были у английских текстильщиков двести лет назад. Вы, гражданин Рубашов, пользуетесь аргументами английских текстильщиц. А ведь вам известны многие факты, которых они не знают. Так что алогичность ваших аргументов вызывает удивление. Но, с другой стороны, вы отчасти похожи на них: в детстве у вас были часы…
Рубашов молча и пристально смотрел на Глеткина. Что это? Неандерталец решил раскрыться? Однако Глеткин был по-обычному корректным и подтянутым, а в его тоне и взгляде не выражалось никаких чувств.
— До некоторой степени вы, пожалуй, правы, — сказал наконец Рубашов. — Но раз уж вы сами затронули эту тему, то объясните мне, пожалуйста, зачем вам нужны козлы отпущения, если вы понимаете, что причины наших промышленных неурядиц носят объективно-исторический характер?
— Опыт учит нас, — ответил Глеткин, — что сложные исторические процессы надо разъяснять народным массам на простом и понятном языке. Судя по моим сведениям из истории, — человечество никогда не обходилось без козлов отпущения. Это — объективно-историческая закономерность, а ваш друг Иванов рассказал мне в свое время, что она опирается на религиозные воззрения древних народов. Он говорил, что это понятие ввели иудеи, которые ежегодно приносили в жертву своему богу козла, нагруженного всеми их грехами. — Глеткин замолчал и согнал назад складки гимнастерки под скрипучим ремнем. — Кроме того, существуют примеры, когда люди становились козлами отпущения добровольно. Лет в восемь или девять я слышал от нашего деревенского священника, что Иисус Христос называл себя агнцем, который взял на себя грехи мира. Лично я не верю, что один человек может спасти все человечество. Но вот уже две тысячи лет люди этому верят.
Рубашов пристально смотрел на Глеткина. Что он задумал? Зачем завел этот разговор. В каких лабиринтах блуждал его неандертальский ум?
— Однако согласитесь, что, по нашим-то воззрениям, народу следует говорить правду, а не населять мир новыми дьяволами-вредителями.
— Если моим землякам сказать, что они все еще отсталые и неграмотные, несмотря на завоевания Революции и успешную индустриализацию страны, это не принесет им никакой пользы. А если их убедить, что они герои труда и работают эффективней американцев, но страну лихорадит от дьявольского вредительства врагов, — это хоть как-то им поможет. Истинно правдиво то, что приносит человечеству пользу; по-настоящему ложно то, что идет ему во вред. В краткой истории для вечерних школ подчеркивается, что христианство зафиксировало высшую по тем временам ступень человеческого сознания. Правду ли говорил Христос, когда утверждал, что он сын бога и девственницы, нас не интересует. Мы имеем право вводить объективно полезные символы, даже если нынешние крестьяне воспринимают их буквально.
— Ваши доводы, — заметил Рубашов, — очень напоминают ивановские.
— Гражданин Иванов принадлежал, как и вы, к старой интеллигенции; беседуя с ним, я пополнял пробелы в своих исторических знаниях. Разница между нами заключалась в том, что я пользовался знаниями для службы народу и Партии, а Иванов был циником…
— Был? — спросил Рубашов и снял пенсне.
— Гражданин Иванов, — сказал Глеткин, глядя на Рубашова без всякого выражения, — расстрелян вчера ночью по решению Трибунала.
После этого разговора Глеткин отпустил его и не вызывал два часа. По дороге в камеру он попытался понять, почему смерть Иванова оставила его почти равнодушным.
Она лишь пригасила радостное чувство победы, и он опять впал в сонное оцепенение. Видимо, сейчас его уже ничто не могло взволновать. Впрочем, он устыдился своего победного ликования еще до того, как узнал о расстреле Иванова. Глеткин был настолько силен, что даже победа над ним оборачивалась поражением. Массивный, неподвижный и бесстрастный, сидел он за столом, олицетворяя Правительство, обязанное своим существованием старой гвардии. Их детище, плоть от плоти и кровь от крови, выросло в чудовищного, не подвластного им монстра. Разве Глеткин не признал, что его духовным отцом был старый интеллигент Иванов? Рубашов беспрестанно напоминал себе, что глеткины продолжают дело, начатое старой интеллигенцией. Что их прежние идеи не переродились, хотя и звучат у неандертальцев совершенно бесчеловечно. Когда Иванов прибегал к тем же доводам, что и Глеткин, в его голосе — отзвуком ушедшего мира — слышались живые и мягкие полутона. Можно отречься от своей юности, но избавиться от нее нельзя. Иванов до конца тащил на себе груз воспоминаний о старом мире, вот почему в его голосе звучала насмешливая грусть, и вот почему Глеткин называл его циником. На Глеткина не давили воспоминания, от которых следовало отречься: у него не было прошлого. Чистый в своей безродности, он не; ведал ни грусти, ни иронии.
5
Из дневника Н. 3. Рубашова
…По какому праву мы, уходящие, смотрим на глеткиных свысока? Не напоминаем ли мы обезьян, которые потешались над первым неандертальцем? Высокоцивилизованные обезьяны, изящно прыгая с ветки на ветку, наверняка поражались уродству и приземленности неандертальца. Утонченные и грациозно веселые, предавались они возвышенным размышлениям, а он угрюмо расхаживал по земле, сокрушая своих врагов суковатой дубиной. Он вызывал у обезьян насмешливое удивление, и они забрасывали его гнилыми орехами. Но иногда ужас охватывал обезьян: они чуждались насилия и ели исключительно фрукты, а этот монстр жрал сырое мясо и убивал даже своих соплеменников. Он валил деревья и сдвигал нерушимые скалы, восставал против древних традиций и посягал на вековечные законы джунглей. Да, он был грубым, хищным и коварным — с точки зрения обезьян. И мартышки до сих пор смотрят на человека с боязливым отвращением…
6
На пятый или шестой день, во время очередного допроса, Рубашов потерял сознание. Он сидел перед Глеткиным, пытаясь изменить последний пункт обвинения — о причинах его преступных действий. В обвинении говорилось о «действиях из контрреволюционных убеждений», и, между прочим, как нечто самоочевидное, упоминалось, что он был платным агентом мирового капитализма. Рубашов не соглашался с этой формулировкой. Допрос начался на рассвете, а часов около одиннадцати Рубашов медленно сполз с табуретки, упал на пол и не поднялся.
Когда через несколько минут он пришел в себя, то увидел покрытую страусиным пухом голову врача, который плескал ему в лицо холодной водой из бутылки и растирал виски. От тяжелого запаха черного хлеба и полупереваренного сала Рубашова вырвало. Врач ругнулся — у него был резкий крикливый голос — и сказал, что подследственного надо вывести на свежий воздух. Глеткинский взгляд не выражал никаких чувств. Он позвонил и приказал вычистить ковер, а потом вызвал высокого охранника, и тот отконвоировал Рубашова в камеру. Вскоре старик-надзиратель повел его на прогулку.
В первое мгновение свежий морозный воздух одурманил Рубашова. Потом он ощутил, что у него есть легкие, и принялся жадно, с наслаждением дышать. В бледном небе светило неяркое зимнее солнце, и было одиннадцать часов утра — в незапамятные времена, еще до того, как он утонул в мутном потоке бесконечных допросов, его в этот час каждое утро выводили на воздух. Какой же он был дурак, что не ценил это восхитительное благо! Неужели нельзя просто дышать и жить, чтобы ежедневно гулять по хрустящему ароматному снежку и чувствовать на лице ласковое тепло предвечернего солнца? Неужели нельзя оборвать мутно-слепящий кошмар, который ждет его в глеткинском кабинете? Ведь живут же другие люди без этого…
Его напарником опять оказался крестьянин в рваных сапогах. Он искоса посматривал на слегка запинающегося Рубашова, а потом уважительно откашлялся и, не выпуская из виду охранников, сказал:
— Тебя что-то давно не видать, ваше благородие. Да и с лица будто больной, уж не помирать ли собрался? Говорят, скоро война.
Рубашов не ответил. Он с трудом преодолевал искушение нагнуться и захватить в горсть немного снега. Медлительно кружилась карусель заключенных. В двадцати шагах от него, между белыми насыпями, брела предыдущая пара — два серых человека примерно одного роста; перед их лицами клубились белесые облачка дыхания.
— Пахота подходит, ваше благородие, — сказал крестьянин. — А у нас, как стают снега, овец погонют в горы. Их туда три дня гонют. Раньше их со всей округи в один день собирали — и в горы. Как бывало рассвет зачнется, так везде, на всех дорогах гурты, и раньше их в первый день цельными деревнями провожали. Ты, ваше благородие, столько овец за всю свою жизнь не видел и столько собак… а уж пыли-то, пыли — ровно все облака небесные на землю спустились, а собаки лают, овцы блеют… Эх, и счастливое же было житье, ваше благородие!..
Рубашов поднял лицо к небу — в солнечных лучах уже чувствовалось мягкое весеннее тепло. Над зубцами сторожевой башни, по-весеннему расчерчивая прозрачный воздух, кружили птицы. Рубашов снова услышал тоскливый голос крестьянина:
— В такой день, когда чуешь, как начинают таять снега, жить бы и жить. Да только всем нам пришла пора помирать, ваше благородие. Погубят они нас всех, потому что мы ректинеры и потому что старому миру, когда нам жилось по-счастливому, пришел конец.
— И вы действительно были очень счастливы? — спросил Рубашов, но ответа не расслышал. Он помолчал и снова обратился к напарнику: — Вы помните то место в Библии, где народы возопили к своим пастырям: «Для чего нам было выходить из Египта?»
Крестьянин энергично закивал, но Рубашов видел, что он ничего не понял. Вскоре прогулка закончилась.
Свежий воздух исцелил Рубашова всего на несколько минут — он уже опять ощущал свинцовую сонливость и головокружение; к горлу подкатывала тошнота. У входа в корпус он торопливо нагнулся, прихватил в горсть снега и потер им пылающий лоб.
Его повели не в камеру, а прямо к Глеткину. Тот недвижимо сидел за своим столом, как и в ту минуту, когда Рубашова уводили…
Сколько с тех пор прошло времени? Ему вдруг почудилось, что, пока он отсутствовал, Глеткин ни разу не пошевелился, даже не изменил позы. Шторы на окнах были задернуты, мертвый свет лампы заливал кабинет. Здесь, словно в недрах гнилой трясины, не двигалось даже время. Подходя к столу, Рубашов заметил на ковре мокрое пятно. Да-да, его ведь стошнило. И это случилось всего час назад…
— Будем считать, что вы пришли в норму, — сказал Глеткин. — Нам следует закончить с последним пунктом обвинения — о причинах вашей контрреволюционной деятельности.
Он с удивлением покосился на правую руку Рубашова — тот все еще сжимал в горсти полурастаявший комочек снега. Рубашов проследил за глеткинским взглядом, улыбнулся и приподнял руку. Они оба смотрели, как снег превращается в капельки мутной воды. Когда снег растаял, Глеткин сказал:
— Как только вы подпишете последний пункт обвинения, наша работа будет завершена…
Лампа горела почти полным накалом. Рубашову пришлось закрыть глаза.
— …И я оставлю вас в покое, — закончил Глеткин.
Рубашов приложил правую ладонь к виску, но она уже снова была горячей. «В покое, — мысленно повторил он последние слова Глеткина. — Покой и сон. Для чего нам было выходить из Египта?»
— Вам прекрасно известны причины моей деятельности. Вы знаете, что я не «действовал из контрреволюционных убеждений» и не продавался международному капитализму. Я делал то, что я делал, честно, повинуясь собственной совести.
Глеткин выдвинул ящик стола, вынул какую-то папку, раскрыл ее и монотонно прочитал:
— «Для нас субъективная честность не имеет значения. Того, кто неправ, ожидает расплата; тот, кто прав, будет оправдан… Таковы наши законы». — Он поднял взгляд на Рубашова. — Вы написали это в своем дневнике вскоре после ареста.
Электрический свет, прожигая опущенные веки, знакомо всплескивался в утомленные глаза. Собственная мысль, повторенная глеткинским голосом, показалась Рубашову грубой и обнаженной — словно исповедь, записанная на граммофонную пластинку. Глеткин снова заглянул в папку и, не спуская безучастного взгляда с Рубашова, процитировал:
— «Сегодня истинно честный человек служит общему делу без гордыни и идет по этому пути до конца».
На этот раз Рубашов выдержал взгляд следователя.
— Мне непонятно, — сказал он, — чем я помогу Партии, если втопчу себя в прах и покрою позором. Я подписал все, что вам требовалось. Я признал свои действия объективно вредными и контрреволюционными. Неужели этого мало?
Он опять надел пенсне, беспомощно зажмурился и закончил резким от усталости голосом:
— Так или иначе, имя Н. 3. Рубашова неразрывно связано с историей Партии. Втаптывая его в грязь, вы пятнаете Революцию.
Глеткин снова заглянул в папку.
— На это я тоже могу возразить цитатой из вашего дневника, — равнодушно проговорил он. — Вы пишите: «Упрощенная и бесконечно повторяемая мысль легче укладывается в народном сознании; то, что объявлено на сегодня правильным, должно сиять ослепительной белизной; то, что признано сегодня неправильным, должно быть тускло-черным, как сажа; сейчас народу нужен лубок».
Немного помолчав, Рубашов сказал:
— Я понимаю, куда вы клоните. Вам хочется, чтобы я сыграл лубочного дьявола, — мне следует скрежетать зубами, выпучивать белесые глаза и плеваться серой — да не за страх, а за совесть. От Дантона и его соратников не требовали добровольного участия в подобном балагане.
Глеткин захлопнул папку и, выпрямившись в кресле, согнал назад складки гимнастерки под скрипучим ремнем.
— Добровольно выступив на Открытом процессе, вы выполните последнее задание Партии.
Рубашов промолчал. Он закрыл глаза и попытался представить себе, что дремлет под горячими лучами летнего солнца. Но от глеткинского голоса он укрыться не мог.
— По сравнению с тем, что происходит у нас, именно Конвент можно назвать балаганом. Я читал про ваших Дантонов — они носили пудреные косички и заботились только о своей пресловутой чести. Даже перед смертью личная гордыня была им важнее общего дела…
Рубашов продолжал молчать. Глеткинский голос, ввинчиваясь в уши, сверлил и без того тяжко гудящую голову, долбил с двух сторон воспаленный череп.
— У нас впервые в истории Революция не только победила, но и удержала власть. Сейчас наша страна — передовой бастион новейшей эры. Этот бастион, как вы знаете, занимает шестую часть земной суши и объединяет одну десятую человечества…
Теперь глеткинский голос звучал за спиной Рубашова. Следователь встал и расхаживал по кабинету — в первый раз с тех пор, как начались допросы. Прерывистый скрип его сапог временами заглушал поскрипывание ремней; Рубашов явственно ощущал терпкий запах пота и свежей кожи.
— Когда у нас в стране свершилась Революция, мы думали, что нашему примеру последуют все народы. Но волна мировой реакции затопила страны Европы и подкатилась к нашим границам. Партийцы разделились на две группы. Одна состояла из авантюристов, которые предлагали рискнуть нашими завоеваниями, чтобы поддержать всемирную революцию. Вы примкнули именно к этой группе. Партия вовремя осознала опасность авантюристической политики и разгромила фракционеров…
Рубашов попытался поднять голову и возразить Глеткину. Но он слишком устал. Шаги следователя за его спиной отдавались в черепе барабанным боем. Он безвольно ссутулился на своей табуретке и ничего не сказал.
— Руководитель нашей Партии разработал мудрую и эффективную стратегию. Он осознал, что теперь все зависит от того, сумеем ли мы защитить первый революционный бастион и дать отпор мировой реакции. Он осознав что нынешний период может продлиться десять, двадцать или даже пятьдесят лет, а затем подымется новая волна всемирной революции. Но до тех пор нам придется сражаться в одиночку. И мы должны выполнить наш единственный долг перед человечеством — выжить.
Рубашов смутно вспомнил похожую фразу: «Революционер обязан сохранить свою жизнь для общего дела». Кто это сказал? Он сам? Иванов? Чтобы выполнить свой революционный долг, он пожертвовал жизнью Арловой. И к чему же он теперь пришел?..
— …Выжить! — гремел глеткинский голос. — Оплот Революции надо было сохранить во что бы то ни стало, ценой любых жертв. Руководитель Партии, выдвинув этот гениальный лозунг, последовательно и неуклонно проводил его в жизнь. Деятельность зарубежных партийных Секций следовало подчинить нашей государственной политике. Тот, кто этого не понимал, подлежал уничтожению. Нам Пришлось ликвидировать наших лучших бойцов за границей. Мы не останавливались перед разгромом отдельных зарубежных Секций Партии, если этого требовали интересы революционного бастиона. Мы не останавливались перед союзом с реакционными правительствами, когда требовалось разбить волну Движения, поднявшуюся не вовремя. Мы предавали друзей и шли на уступки врагам, чтобы сохранить Революционный Бастион. Мы были солдатами Революции и выполняли свой исторический долг. Мягкотелые интеллигенты и близорукие моралисты отшатнулись от нас. Но руководитель Партии с гениальной прозорливостью указал: победит тот, кто окажется выносливей…
Глеткин на секунду остановился и подошел к рубашовской табуретке. Его гладко выбритый череп покрылся каплями пота, широкий шрам выделялся сейчас особенно заметно. Ему, видимо, было неприятно, что он вдруг утратил обычную сдержанность. Тяжело дыша, он вытер голову носовым платком, потом строевым шагом подошел к своему креслу, сел за стол и согнал назад складки гимнастерки. Свет лампы сделался менее резким, и, когда Глеткин заговорил, его голос звучал по-обычному бесстрастно:
— Партийный курс определен абсолютно четко. Наша цель оправдывает любые средства — вот единственный закон, которому подчинена тактика Партии. И, руководствуясь этим законом, Государственный Обвинитель потребует вашей смерти, гражданин Рубашов…
— Ваша группа, гражданин Рубашов, разбита и уничтожена. Вы хотели расколоть партийные ряды, хотя знали, что раскол Партии вызовет Гражданскую войну. Вам ведь известно о недовольстве среди крестьян, которые еще не поняли необходимости возложенных на них временных жертв. Не сегодня-завтра международный капитализм может начать войну против нашей страны, и малейшие шатания в среде трудящихся масс приведут к неисчислимым бедствиям. Партии необходимо крепить сплоченность своих рядов. Она должна стать единым монолитом, который спаян железной дисциплиной и беззаветной преданностью Руководству. Вы и ваши приспешники, гражданин Рубашов, попытались расколоть партийное единство. Если вы действительно раскаялись, то поможете нам устранить возникшую трещину. Это, как я уже говорил, последнее партийное поручение…
— Ваша задача проста. Фактически, вы сами ее сформулировали: необходимо всемерно высветлить для масс то, что правильно, зримо зачернить то, что неправильно. Поэтому вам надлежит пригвоздить оппозицию к позорному столбу истории и показать объективную преступность антипартийных лидеров. Такой язык будет понятен народу. А если вы начнете говорить о сложных мотивах, которыми вы руководствовались в своих действиях, это внесет только путаницу в сознание масс. Кроме того, массы не должны испытывать к вам ни жалости, ни симпатии — это тоже входит в вашу задачу. Симпатия или жалость к оппозиции со стороны широких масс чреваты опасностями для страны в целом…
— Товарищ Рубашов, я надеюсь, вы понимаете, какое доверие оказывает вам Партия.
Впервые Глеткин назвал Рубашова «товарищем». Рубашов резко выпрямился на табуретке и поднял голову.
Его охватило волнение, с которым он не в силах был справиться. Надевая пенсне, он заметил, что его рука чуть заметно дрожит.
— Понимаю, — сказал он негромко.
— При этом Партия не обещает вам никакой награды. Некоторые обвиняемые согласились с нами сотрудничать после предварительного физического воздействия. Некоторых мы обязались помиловать или сохранить жизнь их родственникам, взятым в качестве заложников. Вам, товарищ Рубашов, Партия не предлагает никаких сделок и ничего не обещает.
— Я понимаю, — повторил Рубашов. Глеткин снова открыл папку, где лежал рубашовский тюремный дневник.
— Одно место в ваших записях произвело на меня сильное впечатление, — сказал он. — Вы говорите: «Я жил и действовал по нашим законам… Если я был прав, мне не о чем сожалеть; если неправ, меня ждет расплата».
Глеткин поднял голову и посмотрел Рубашову в глаза.
— Вы были неправы, и вас ждет расплата, товарищ Рубашов. Партия обещает вам только одно — после окончательной победы, когда это не сможет принести вреда, секретные документы будут опубликованы. Тогда весь мир узнает, что легло в основу того Процесса — или того балагана, как вы его называете, — в котором вы участвовали по велению Истории.
Глеткин замолчал, согнал назад складки гимнастерки под скрипучим ремнем и после секундного замешательства неуклюже добавил — причем его широкий шрам сделался совершенно красным:
— И тогда вы — а также некоторые из ваших друзей — получите от широких масс чувство жалости и симпатии, в которых вам отказано на сегодня.
Сказав это, Глеткин пододвинул к Рубашову последние листы его Дела и положил рядом свою ручку. Рубашов поднялся и с напряженной улыбкой проговорил:
— Меня всегда интересовало, на что похожа чувствительность неандертальца. Теперь я это знаю.
— Не понимаю вас, — сказал Глеткин; он тоже встал.
Рубашов подписал последний пункт обвинения, в котором он признавался, что действовал из контрреволюционных убеждений и был платным агентом мирового капитализма. Подняв голову, он случайно глянул на литографию Первого, и ему опять вспомнилась насмешливая, сатанински-мудрая ирония, мелькнувшая в глазах вождя, когда он пожимал ему руку при их последнем прощании, — вездесущий портрет отчасти передавал тот насмешливо-грустный цинизм, с которым Первый взирал на своих подданных.
— Вполне естественно, — сказал Рубашов. — Есть вещи, которые понятны только людям старшего поколения — киферам, ивановым, рубашовым… Теперь это уже не имеет значения.
— Я дам приказ, чтобы вас не беспокоили до открытия судебного процесса, — немного помолчав, сказал Глеткин в своей обычной официально-корректной манере. Его явно раздражала ирония Рубашова. — Есть у вас какие-нибудь дополнительные желания?
— Только одно, — ответил Рубашов, — уснуть. — Он стоял на пороге кабинета рядом с высоким охранником и казался низкорослым, усталым и малозначительным бородатеньким стариком в старомодных очках.
— Я дам приказ, чтобы вас не беспокоили, когда вы спите, — сказал Глеткин.
Дверь за Рубашовым захлопнулась. Глеткин подошел к своему столу и опустился в кресло. Несколько секунд он сидел неподвижно. Потом вызвал звонком стенографистку. Стенографистка бесшумно проскользнула на свое обычное место за барьером.
— Поздравляю вас с успешным завершением дела, товарищ Глеткин, — сказала она.
Глеткин уменьшил накал лампы до нормального.
— Эта вот штуковина, — он указал на лампу, — да недосып, да усталость — вот в чем все дело. Главное — правильно определить физическую конституцию подследственного.
Немой собеседник
Не только цель, но путь к ней укажи.
Путь к цели неразрывно связан с целью,
И отделять нельзя их друг от друга:
Путь изменив, изменишь ты и цель.
Фердинанд Лассаль. «Франц фон Зикинген».1
«…На вопрос Государственного Обвинителя подсудимому Рубашову, признает ли он себя виновным в контрреволюционной деятельности, подсудимый твердо ответил: «Да».
На вопрос Обвинителя, действовал ли подсудимый по заданию мировой контрреволюции, он тоже ответил: «Да», — но менее твердо…»
Дочь дворника Василия читала медленно, монотонно и отчетливо. Расстелив газету на столе, она водила по строчкам указательным пальцем и время от времени поправляла левой рукой цветастую головную косынку.
«…На вопрос Председателя Суда, желает ли обвиняемый, чтобы ему назначили Государственного защитника, он ответил отрицательно. Затем Председатель начал зачитывать обвинительное заключение…»
Дворник Василий лежал на кровати, повернувшись лицом к стене, и молчал. Вера Васильевна никогда не знала, слушает ли ее отец или нет. Порой он бормотал что-то неразборчивое. Она не обращала на это внимания, а вечерами читала ему газеты — «из воспитательных целей», как она говорила, — даже когда у нее на фабрике проводилось собрание партийной ячейки и она поздно возвращалась домой.
«…В обвинительном заключении подробно изложено, что виновность подсудимого полностью доказана неопровержимыми документальными данными, а также собственными признаниями подсудимого. На вопрос Председателя Суда, имеет ли подсудимый какие-либо ходатайства к суду, он ответил отрицательно и заявил, что все его показания даны добровольно, так как он осознал чудовищную преступность своей контрреволюционной деятельности…»
Дворник Василий лежал не шевелясь. На стенке, как раз у него над головой, виднелась цветная литографа Первого. Рядом торчала заржавевшая кнопка: до недавних пор здесь висела фотография командира революционной бригады Рубашова. Василий нащупал дыру в матраце — он прятал туда свою старую Библию, — но через несколько дней после ареста Рубашова дочь нашла ее и отнесла ца помойку — «из воспитательных целей», как она сказала.
«…Затем подсудимый Рубашов приступил к рассказу о том, как, начав с оппозиции партийному курсу, он неотвратимо скатывался к контрреволюции и предательству Родины. Подсудимый, в частности, заявил: «Граждане Судьи, я хочу рассказать, почему я капитулировал перед следственными органами и чем объясняется моя откровенность на этом публичном судебном процессе. Мой рассказ продемонстрирует массам, что малейшее отклонение от партийного курса оборачивается предательством интересов Революции. Каждый этап фракционной борьбы быд шагом на этом гибельном пути. Так пусть же моя чистосердечная исповедь послужит уроком для тех партийцев которые не отказались от внутренних сомнений в абсолютной верности партийного курса и объективной правоте руководителя Партии. Я покрыл себя позором, втоптал в прах, и вот сейчас, у порога смерти, повествую о страшном пути предателя, чтобы предупредить народные массы…»
Дворник Василий заворочался на кровати и уткнулся лицом в засаленную подушку. Он вспомнил бородатенького командира бригады, который умел так отчаянно материться, что ему помогала Божья Матерь, и его бойцы выходили победителями из самых страшных схваток с буржуями… Покрыл позором, втоптал в прах… Дворнике Василий горестно застонал. Библии не было, но многие места он еще с детства знал наизусть.
«…Государственный обвинитель прервал подсудимого чтобы задать ему ряд вопросов относительно судьбы его бывшего секретаря гражданки Арловой, расстрелянной по приговору суда за подрывную деятельность в стране. Из ответов подсудимого вскоре стало совершенно ясно что он, загнанный в угол неослабевающей бдительностью соответствующих партийных органов, коварно приписал Арловой и свои преступные действия, стремясь увильнуть от справедливого возмездия. Н. 3. Рубашов признался в этом чудовищном преступлении с беззастенчивым и откровенным цинизмом. На замечание Государственного Обвинителя: «Вы, очевидно, совсем потеряли представление о нравственности», — обвиняемый, нагло ухмыляясь, ответил: «Очевидно». Его поведение вызвало в зале Суда презрительное негодование, однако Председательствующий быстро восстановил тишину и порядок. Через несколько минут чувство справедливого возмущения сменилось у присутствующих сдержанным смехом, так как обвиняемый, прервав рассказ о своих дьявольских злодеяниях, обратился к Суду с просьбой отложить разбирательство дела «из-за невыносимой зубной боли». В соответствии с процессуальными нормами нашего судопроизводства Председательствующий, презрительно пожав плечами, объявил пятиминутный перерыв…»
Дворник Василий лежал на спине и вспоминал те дни, когда Рубашов вырвался живым от иностранных буржуев и его прославляли во всех газетах. Василий вспомнил, как Товарищ Рубашов произносил с трибуны пламенную речь и ему приходилось опираться на костыли, а вокруг развевались красные флаги, и народ, много народа, тысячи, приветствовал его, а он улыбался и потирал о рукав свои очки без оправы.
И воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк; и одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него… И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему.
— Чего ты там бормочешь? — спросила дочь.
— Ничего. — Василий отвернулся к стене. Он нащупал рукой дыру в матраце, но Библии не было. И фотографии не было. Когда дочь выдернула ее из-под кнопки, чтоб отнести на помойку, Василий промолчал: он считал себя слишком старым для тюрьмы.
Дочь сложила газету и, поставив на стол примус, принялась подкачивать его, чтобы вскипятить чайник. В дворницкой остро запахло керосином.
— Ты слушал, чего я сейчас читала? — спросила Вера Васильевна отца. Василий покорно повернулся к дочери.
— Слушал, — коротко ответил он.
— А если слушал, значит, тебе все ясно, — сказала Вера Васильевна, накачивая шипящий примус. — Он сам признался, что он предатель. Человек не стал бы на себя наговаривать, чего не было. Наша фабричная ячейка уже вынесла резолюцию по этому вопросу, и все подписываются.
— Много вы понимаете, — вздохнул Василий. Вера Васильевна вскинула на него глаза, и он поспешно отвернулся к стене. Всякий раз, замечая такой вот быстрый и словно бы оценивающий взгляд, он вспоминал, что ей очень нужна его дворницкая для семейной жизни. Три недели назад Вера Васильевна и молодой слесарь с ее фабрики зарегистрировались как муж и жена, но у мужа комнаты не было, и он жил в общежитии, а отдельную комнату на двоих им выделили бы только через несколько лет.
Вера Васильевна разожгла примус и поставила на него чайник.
— Секретарь ячейки зачитал нам резолюцию, и мы ее все единогласно одобрили. Там говорится, что мы требуем смерти для предателей Родины. Тот, кто проявляет к ним преступное благодушие, тот сам является предателем Родины и должен быть безжалостно осужден, — намеренно безразличным тоном пояснила отцу Вера Васильевна. — Рабочие обязаны проявлять бдительность. Нам каждому роздали по экземпляру резолюции, и мы собираем подписи.
Вера Васильевна вынула из кармашка блузки сложенный вчетверо лист папиросной бумаги и расправила его на столе. Старик Василий смотрел в потолок. Краем глаза он смутно видел торчащую из стены ржавую кнопку. Он повернул голову к дочери — бумага лежала на столе возле примуса — и сейчас же опять уставился в потолок.
Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня.
Зашумел чайник. Старик Василий задал дочери хитроумный вопрос:
— А те, кто воевали на Гражданской войне, они, значит, тоже должны подписывать?
Вера Васильевна стояла, склонившись над примусом.
— Никто ничего не должен, — проговорила она и опять окинула отца быстрым, словно бы оценивающим взглядом. — На фабрике, конечное дело, известно, что он жил в этом доме. Секретарь ячейки спрашивал меня после собрания — дескать, знался ли ты с ним до самого конца и много ли, мол, разговаривал.
Василий привскочил и сел на кровати. От резкого усилия он мучительно закашлялся, и на его тощей золотушной шее напряглись, как веревки, темные жилы.
Вера Васильевна поставила на стол два граненых стакана и ссыпала в них немного чая из бумажного пакетика.
— Чего ты там опять бормочешь? — спросила она.
— Дай мне твою проклятую бумажонку, — сидя на кровати, сказал Василий.
Дочь протянула ему листок папиросной бумаги.
— Прочитать тебе нашу резолюцию? — спросила она.
— Не надо, — угрюмо буркнул Василий и расписался. — Не хочу я ничего слушать… Дай мне чаю, — добавил он.
Дочь налила ему в стакан кипятку. Василий, беззвучно шевеля губами, принялся прихлебывать желтоватую жидкость.
Попив чаю, Вера Васильевна снова стала читать газету. Отчет о суде над Рубашовым и Кифером подходил к концу. Когда Председатель оглашал подробности замышляемого преступниками покушения на жизнь руководителя Партии, присутствующие несколько раз прерывали его негодующими возгласами: «Смерть бешеным собакам!». На вопрос Государственного Обвинителя, из каких побуждений готовил Рубашов это чудовищное убийство, тот, явно сломленный выявившейся на Суде тяжестью его гнусных преступлений, едва слышно ответил:
— Я должен признать, что мы, уклонисты, поставив себе целью сместить Правительство, искали наиболее действенные методы, которые приблизили бы нас к этой цели… и были бы такими же низкими, такими же предательскими, как сама наша цель.
Вера Васильевна, упершись ногами в пол, с грохотом отъехала от стола вместе со стулом.
— Нет, это просто омерзительно, — сказала она. — Меня просто тошнит! Это ж надо так юлить и ползать на пузе! — Она отложила газету и принялась шумно мыть стаканы. Василий наблюдал за ней. Горячий чай придал ему смелости.
— А ты больно грамотная, — пробурчал он. — Откуда ты знаешь, про чего он думал, когда говорил, что, мол, растоптал себя в прах? Все вы, партейцы, стали очень умные, вот от ума совесть-то и потеряли… А ты не дергай плечами-то, — добавил он мрачно. — Так оно в вашем мире и идет, что по совести живут одни дураки, а которые умные, им совесть без надобности. Все злодейства от умников. Потому что сказано: «Да будет слово ваше — да, да; нет, нет, — а что сверх того, так то от лукавого». Он лег и отвернулся к стене, чтоб не видеть, как дочь глядит его оценивающим взглядом. Обычно он боялся давать ей отпор. Она могла сделать бог весть что, особенно с тех пор, как ей захотелось миловаться в его комнате со своим мужиком. В ихнем мире надо жить по уму, а не то тебя живо выгонят из дома или, еще того хуже, засадят. По совести в ихнем мире не проживешь…
— Ну ладно, — сказала Вера Васильевна, — слушай, я дочитаю тебе про суд.
«…Затем Государственный Обвинитель задал ряд вопросов подсудимому Киферу. Подсудимый подтвердил все свои показания, данные им на предварительном следствии. На вопрос Государственного Обвинителя подсудимому Рубашову, хочет ли он уточнить показания Кифера, Рубашов ответил отрицательно. Этим закончился опрос подсудимых, и Председательствующий объявил перерыв. Когда судебное заседание возобновилось, слово взял Государственный Обвинитель…»
Василий не слушал речи Обвинителя. Он повернулся к стене и уснул. Дочь монотонно читала газету, водя пальцем по печатным строчкам; в конце столбца она делала паузу и приставляла палец к началу следующего. Василий, проснулся, когда Обвинитель потребовал высшей меры наказания. Возможно, дочь изменила тон, возможно, сделала паузу подлиннее — как бы то ни было, Василий проснулся и услышал заключительные слова Обвинителя:
«— Я требую расстрелять этих бешеных собак!»
Потом подсудимым было предоставлено их последнее слово.
«…Обвиняемый Кифер, обращаясь к Суду, умолял не приговаривать его к высшей мере наказания, так как он, по его словам, вследствие своей юной неопытности не понимал всей чудовищности своих преступлений. Основную тяжесть вины он перекладывал на подсудимого Рубашова — главного организатора преступных действий оппозиции. В середине речи обвиняемый Кифер начал заикаться, чем вызвал презрительный смех присутствующих. Однако Председатель быстро восстановил тишину и порядок в зале суда. Затем слово было предоставлено Рубашову…»
В газетном отчете красочно описывалось, как «Рубашов, зорко оглядев присутствующих и не найдя ни одного сочувственного лица, безнадежно опустил голову».
Речь Рубашова была краткой. Она лишь усилила презрительное негодование, вызванное его беззастенчивым цинизмом.
«…Граждане Судьи, — заявил Рубашов, — это мое предсмертное слово. Антипартийная группа разбита и уничтожена. Я вел объективно преступную борьбу — и вот, должен умереть как преступник. Если партиец уходит из жизни, не примиренный с Партией, с революционным Движением, то его смерть не приносит пользы. Поэтому я преклоняю колена перед партийными массами страны и мира. Маскарад открытых дискуссий и договоров, фракционной полемики и сговоров кончен. Политически мы умерли еще до того, как Обвинитель потребовал нашего расстрела. Даже память о тех, кто оказался неправ, развеется прахом на дорогах Истории. У меня нет оправданий — кроме одного: я честно выполнил свой последний долг. Тщеславная порядочность и остатки гордыни искушали меня умереть молча или бросить в лицо обвинителям слова обвинения… но я сдержался — и честно рассказал о своих преступлениях. Бойцу, побеждавшему во многих битвах, мучительно трудно сдаваться без боя — но я подчинился приказу Партии. Да, я исполнил свой долг до конца и считаю, что теперь расплатился за все, полностью завершил расчеты с Историей. Просить о снисхождении я не могу. Больше мне сказать перед смертью нечего…»
«…После короткого перерыва Председатель зачитал приговор. Сессия Военной Коллегии Верховного Суда Республики присудила обвиняемых к высшей мере наказания — расстрелу…»
Василий глядел на заржавевшую кнопку. «Да будет воля Твоя. Аминь», — пробормотал он и отвернулся к стене.
2
Итак, все теперь было кончено. Рубашов знал, что еще до полуночи он перестанет существовать.
Он размеренно ходил по камере — шесть с половиной шагов к окну, шесть с половиной шагов к двери — и вспоминал шумную суету суда. Когда он останавливался и замирал, вслушиваясь — на третьей черной плитке от окна, — его захлестывала волна тишины, поднимавшаяся словно из бездонного колодца. Ему еще было не совсем понятно, отчего вокруг так тихо и покойно. Но он знал, что этот покой теперь уже ничем не будет нарушен.
Он точно восстановил в памяти мгновение, когда его охватил безмолвный покой. Это произошло на судебном заседании, перед тем как ему предоставили слово. Он полагал, что давно избавился от остатков тщеславия и личной гордыни, однако, оглядев присутствующих в зале и не найдя ни одного приветливого лица, он ощутил неодолимую тоску по сочувствию или хотя бы жалости — ему захотелось растопить холод равнодушной, насмешливой и презрительной злобы, которую он видел на лицах людей. Он было совсем поддался искушению заговорить о своих заслугах перед Партией, встать во весь рост, разорвать путы, накинутые на него Ивановым и Глеткиным, крикнуть судьям, как когда-то Дантон: «Вы наложили руки на всю мою жизнь. Так пусть она прозвучит обвинением обвинителям!..» Он прекрасно знал отповедь Дантона судьям Французского Революционного Трибунала. Он мог повторить его речь наизусть. Он помнил ее — слово в слово — с детства: «Вы хотите, чтоб Республика захлебнулась в крови. Скажите же, доколе дорогу к свободе будут устилать человеческие кости? Тирания наступает с открытым забралом — и она шагает по нашим трупам!..»
Да, искушение было велико. Но оно умерло, едва родившись, и, когда он произносил последнее слово, его накрыл колокол безмолвия. Ему стало ясно, что время упущено.
Упущено время возвращаться назад по мертвому пути уступок и отступлений. Слова ничего уже не могли изменить.
Упущенное время не повернешь вспять, а старая гвардия его упустила. И когда обвиняемым предоставили слово, у них — ни у кого — уже не было сил превратить скамью подсудимых в трибуну, чтобы возвестить открытую правду и, подобно Дантону, обвинить обвинителей.
Одни молчали, страшась пыток, другие надеялись, что их помилуют, третьи хотели спасти родных, которые оказались в лапах у глеткиных. Лучшие молчали, чтоб на пороге смерти выполнить последнее партийное поручение, то есть добровольно приносили себя в жертву, — а кроме всего прочего, даже у лучших — у каждого — была своя Арлова на совести. Они погрязли в собственном прошлом, запутались в сетях, сплетенных ими же по законам партийной морали и логики, — короче, все они были виновны, хотя и приписывали себе преступления, которых на самом деле не совершали. Они не могли возвратиться назад. И вот уходили за пределы жизни, разыгрывая ими же начатый спектакль. От них не ждали правдивых слов. Они сами вырастили Главного режиссера и на пороге смерти, по его указке, скрежетали зубами и плевались серой…
Но для него со всем этим было покончено. Он сыграл свою последнюю роль. Ему уже не надо изображать дьявола. Теперь он действительно расплатился за все. У него нет даже тени прошлого, и над ним не властны никакие оковы. Додумав последнюю мысль до конца, он логически воплотил ее в жизнь; часы, отпущенные ему до полуночи, целиком принадлежали Немому Собеседнику, который обитал за пределами логики. Повинуясь нормам партийной этики, он все еще заменял этим странным псевдонимом первое лицо единственного числа.
Рубашов остановился возле стены, отделявшей его от Рип Ван Винкля. С тех пор как Рип Ван Винкля убрали, Четыреста шестая камера пустовала. Он снял пенсне, неуверенно огляделся и очень тихо простучал:
6-3
Потом прислушался и, по-детски смущенный, опять тихонько отстукал:
6-3
А потом отстукал то же самое еще раз. Стена мгновенно глушила звук. Он никогда не говорил «я» — по крайней мере, не говорил осознанно. А возможно, и вообще никогда не говорил. Он вслушался. Тишину ничто не нарушало.
Он снова принялся шагать по камере. Неожиданно попав под колокол безмолвия, он задался довольно странным вопросом — и пока время не было упущено, ему хотелось найти ответ. Вопрос звучал наивно и отвлеченно: как избежать бессмысленных страданий? Человека заставляет страдать природа — биологических страданий избежать нельзя, поэтому бессмысленными их не назовешь; но человек и сам себе создает страдания — социальные — и вот они-то бессмысленны. Единственная цель социальной революции — избавить человека от бессмысленных страданий. Но, оказывается, этого можно добиться, лишь ввергнув мир — разумеется, временно — в адскую бездну страданий биологических. И, значит, вопрос ставится так: можно ли оправдать революционное вивисекторство? Да, безусловно, и можно, и нужно — если говорить про абстрактное «человечество»; но как только речь заходит о людях — о живых людях из плоти и крови, массовое живосечение — вивисекторство — приобретает характер кровавой резни. В юности он свято верил, что Партия даст ему ответы на все вопросы. Сорок лет он служил Партии, но, став партийцем, тотчас забыл, во имя чего он хотел им стать. И вот теперь, через сорок лет, снова вернулся к вопросам юности. Партия требовала отдать ей жизнь — и никогда не давала ответов на вопросы. Никогда не отвечал и Немой Собеседник: какими бы мучительными, даже отчаянными, вопросы ни были, он глухо молчал.
Его пробуждали странные случайности — почему-то всплывшая в памяти мелодия, руки Мадонны, картинки детства… На них он отзывался, словно камертон, — и вызывал удивительное состояние психики: святые именовали это созерцанием, мистики — экстазом, а современные психологи ввели термин «океаническое чувство». Человек, охваченный «океаническим чувством», отрешался от своего индивидуального бытия и, растворяясь в общечеловеческом сознании, как кристаллик соли в Мировом океане, одновременно вмещал в себе весь мир, подобно тому как в кристаллике соли воплощен безбрежный Мировой океан. Растворенный кристалл нельзя локализовать в пространстве и времени. «Океаническое чувство» разрушало привычные логические связи, и мысль блуждала в потемках психики, словно луч света, летящий сквозь ночь, так что все ощущения и чувства — блаженство, радость, боль, страдание — оказывались составляющими этого луча, расщепленного призмой свободного сознания.
Рубашов размеренно шагал по камере. Еще недавно он постыдился бы предаваться таким несерьезным размышлениям. Но сейчас ему вовсе не было стыдно. Смерть обращала метафизику в реальность. Он машинально остановился у окна и прижался лбом к холодному стеклу. Вверху, над зубцами сторожевой башни, голубела полоска чистого неба. Эта полоска напомнила ему, как в детстве, лежа возле дома на лужайке, он смотрел в такое же бледное небо сквозь темную решетку липовых ветвей. Видимо, даже кусочек неба мог пробудить «океаническое чувство». Когда-то он читал, что современные астрофизики не считают мировое пространство бесконечным: Вселенная, хотя и не имеет границ, замкнута на себе, наподобие сферы. В те времена он этого не понял, а сейчас вот очень хотел бы понять. Теперь он припомнил, где и когда читал про Вселенную, — в германской тюрьме: товарищи сумели ему передать листок нелегальной партийной газеты, и там, под тремя столбцами отчета о забастовке на какой-то прядильной фабрике, была помещена небольшая заметка, в которой говорилось о конечности Вселенной; но нижний край листа был оборван вместе с концом этой маленькой заметки. Так ему и не пришлось ее дочитать.
Рубашов неподвижно стоял у окна и постукивал думкой пенсне в стену, отделяющую его от пустой камеры. В детстве он мечтал посвятить себя астрономии — и сорок лет занимался другим. Почему Государственный Обвинитель не спросил его: «Подсудимый, что вам известно о вечности?» Ему бы нечего было ответить — вот где источник его виновности. Может ли быть что-нибудь серьезней?
Тогда, прочитав газетную заметку — чуть живой после пыток, как и сейчас, в одиночке, — он вдруг ощутил странную экзальтацию: его охватило «океаническое чувство». На воле он со стыдом вспоминал об этом. Партия не одобряла подобных ощущений. Это был «мелкобуржуазный мистицизм», спасение «в башне из слоновой кости». Такое спасение именовалось изменой, «дезертирством с фронта классовой борьбы». «Океаническое чувство» по партийным законам квалифицировалось как контрреволюционная деятельность.
Потому что в борьбе, особенно классовой, надо твердо стоять на земле. И Партия разъясняла, что «это значит, Личность и бесконечность — как абсолютные величины — считались политически неблагонадежными. Партия признавала единственный абсолют — себя, и единственное мерило личности: множество индивидуумов в N миллионов, безлично поделенное на N миллионов.
Партия не признавала человека личностью, отрицала его право на свободную волю — и требовала добровольного самопожертвования. Отрицала способность человека выбирать — и требовала выбора правильных решений. Отрицала, что человек способен отличать правду от лжи, добро от зла, — и постоянно твердила про виновность и предательство. Индивидуумом управляли экономические законы, он был безликим винтиком механизма, на который совершенно не мог влиять, — так утверждала партийная доктрина, — но Партия считала, что безликие винтики должны восстать и перестроить механизм. В логических выкладках таилась ошибка: задача изначально не имела решения.
Сорок лет он пытался оздоровить экономический механизм, управляющий миром. Это был главный бич человечества, рак, разъедающий общество изнутри. Здесь требовалась социальная хирургия. Все остальное было дилетантизмом, буржуазной романтикой и дурным шаманством. Смертельно больной организм общества не могли спасти заклинания и реформы. Революционный нож и трезвый расчет — вот инструменты социального хирурга. Но нож, удаляя старые язвы, неизменно порождал множество новых. И задача по-прежнему не имела решения.
Сорок лет он подчинял свою жизнь велениям единственного абсолюта — Партии. Верил только логическим выводам. Яростно выжигал из своего сознания остатки старой буржуазной морали. Подавлял в себе «океаническое чувство» и заглушал голос Немого Собеседника. К чему же все это его привело? Опираясь на объективно верные постулаты и руководствуясь разумом, он пришел к бессмыслице; логические доводы Иванова и Глеткина заставили его принять участие в призрачном балагане публичного процесса. А что, если всякая человеческая мысль, доведенная до ее логического конца, неминуемо становится пустой и абсурдной?..
Небо под зубцами сторожевой башни расчерчивали черные прутья решетки. А что, если все эти сорок лет он был одержим — одержим разумом? Что если полная свобода рассудка, лишенного древних алогичных запретов «Ты не должен» и «Ты не смеешь», превращает жизнь человека в абсурд?..
Небо подернулось розовой пеленой, в камере стало заметно темнее; вверху, над зубцами сторожевой башни, медленно кружили черные птицы. Нет, задача не решалась изначально. Видимо, поставленная разумом цель и нож, как средство, не решают задачи — человек не дорос до опытов с ножом. Может быть, позже, гораздо позже… Сейчас человек слишком юн и неистов. Страшно и подумать, что он натворил на Родине Революции, в Бастионе Свободы! Глеткины оправдывают любые средства, которые помогают сохранить Бастион. И как же чудовищно это выглядит изнутри! Нет, в Бастионе Рай не построишь. Бастион-то будет и сохранен, и упрочен, но помыслы народов от него отвратятся. Режим Первого запятнал идею социально справедливого Революционного Государства, подобно тому, как Папы средневековья запятнали идею Христианской Империи. Флаг Революции задубел от крови.
Рубашов принялся шагать по камере. Сумерки сгущались безмолвной тьмой. Вероятно, скоро за ним придут… В логические выкладки вкралась ошибка. Нет, видимо, была неверной вся логическая система мышления. Вперые это пришло ему в голову, когда Рихарда объявили агентом-провокатором, но он не довел свою мысль до конца. Возможно, Революция была преждевременной — и поэтому обернулась кровавой бойней. Да-да, они ошиблись во времени. К первому веку до новой эры римская цивилизация окончательно исчерпалась, и лучшие граждане той древней эпохи решили, что настала пора перемен, — а потом прогнивший до основания мир агонизировал в течение пяти веков. У Истории невероятно медленный пульс: человек измеряет время годами, она — столетиями; возможно, сейчас едва начинается второй день творения. Эх, как это было бы замечательно — жить и разрабатывать новую теорию об относительной политической зрелости масс!..
Камеру заполняла темная тишина. Он слышал лишь шорох своих шагов. Шесть с половиной шагов к двери, откуда придут его забирать, шесть с половиной шагов к окну, за которым разливается ночная тьма. Да, скоро все будет кончено. Так во имя чего он должен умереть? На этот вопрос у него не было ответа.
Ошибочной оказалась система мышления; возможно, ошибка коренилась в аксиоме, которую он считал совершенно бесспорной и повинуясь которой жертвовал другими, а теперь вот другие жертвовали им — в аксиоме, что цель оправдывает средства. Она убила революционное братство и превратила бойцов Революции в одержимых. Как он написал в тюремном дневнике — «Мы выбросили за борт балласт буржуазных предрассудков, а поэтому вынуждены руководствоваться одним-единственным мерилом — разумом». Возможно, вот он — корень беды. Возможно, человечеству необходим балласт. И возможно, избрав проводником разум, они шли таким извилистым путем, что потеряли из виду светлую цель.
Возможно, наступает эпоха тьмы.
Может быть, позже, гораздо позже, подымется новая волна Движения с новым знаменем и новой верой — в экономические законы и «океаническое чувство». Возможно, создатели новой Партии будут носить монашеские рясы и проповедовать, что самая светлая цель оправдывает только чистые средства. Возможно, они ниспровергнут догму, что личность есть множество в N миллионов, безлично поделенное на N миллионов, утвердят другой арифметический принцип — умножения, и тогда не аморфные массы, а миллионы личностей образуют общество, причем «океаническое чувство» миллионов создаст безграничную духовную Вселенную…
Рубашов замер и оглянулся на дверь. В коридоре слышался приглушенный рокот.
3
Рокот походил на барабанный бой, доносимый издали порывами ветра, он звучал все громче; Рубашов не шевелился. Ноги отказывались ему служить, он чувствовал, как тяжкое земное притяжение подымается по ним. Он оторвал их от пола и, глядя в очко, отошел к окну. Потом перевел дыхание и закурил. Внезапно ожила стена у койки:
внимание пришли за заячьей губой он шлет вам привет
За Заячьей Губой… Ноги снова обрели подвижность, Он быстро подошел к металлической двери и стал барабанить в нее ладонями — ритмично и часто. Он был последним: Четыреста шестая камера пустовала, на нем обрывалась акустическая цепочка. Плотно прижавшись глазом к очку, он барабанил ладонями по массивной двери.
Коридор тонул в электрическом мареве. Он видел, как обычно, четыре камеры — от Четыреста первой до Четыреста седьмой. Рокот нарастал. Послышались шаги — шорох подошв о каменные плиты. Внезапно показался Заячья Губа, у него мелко тряслась челюсть, как и на очной ставке у Глеткина; руки, скованные за спиной наручниками, неестественно вывернулись локтями в стороны. Он не мог различить человеческого глаза, приникшего изнутри камеры к очку, и слепо обшаривал взглядом дверь, словно последняя надежда на спасение была у него связана с рубашовской камерой. Потом прозвучал невнятный приказ, и замерший арестант шагнул вперед. За ним появился высокий охранник с пистолетной кобурой на поясном ремне. Через секунду и охранник и арестант скрылись.
Рокот оборвался, наступила тишина. И сразу же послышался негромкий стук в стену у койки:
он вел себя достойно
С тех пор как Рубашов объявил, что сдается, Четыреста второй упорно молчал. Сейчас он сам продолжил разговор.
вам осталось минут десять как ваши нервы
Было очевидно, что Четыреста второй пытается облегчить ему последние минуты. В нем поднялась волна благодарности. Он сел на койку и медленно простучал:
хочется чтобы все уже было кончено
уверен вы не станете праздновать труса,
тотчас ответил Четыреста второй,
вы же чертовски мужественный парень… чертовски мужественный,
повторил он — только для того, чтобы заполнить паузу,
его сажают а он расписывает груди что чаши с пенным шампанским ха ха вы чертовски мужественный парень.
Рубашов оглянулся на дверь и прислушался. В коридоре было по-прежнему тихо. Сосед, видимо, угадал его мысли:
не прислушивайтесь я скажу когда они появятся… чем бы вы занялись если б вас оправдали
Рубашов подумал и твердо ответил:
астрономией
ха ха,
отстукал сосед,
я бы может тоже говорят на планетах тоже обитают живые существа разрешите дать вам один совет
конечно,
с удивлением отозвался Рубашов.
только не обижайтесь совет солдата отлейте всегда лучше чтоб заранее дух силен плоть немощна ха ха
Рубашов усмехнулся и подошел к параше. Потом сел на койку и отстукал:
большое спасибо прекрасная мысль а какие у вас перспективы на будущее
Четыреста второй отозвался не сразу. Через несколько секунд он медленно ответил:
почти восемнадцать лет одиночки точнее шесть тыщ пятьсот тридцать дней.
Он помолчал и негромко добавил:
я завидую вам.
И — после паузы:
хоть в петлю шесть тыщ пятьсот тридцать ночей без женщины
Рубашов задумался. Потом отстукал:
вы можете читать можете заниматься
не те мозги,
ответил поручик. И вдруг торопливо застучал:
идут
Рубашов медленно поднялся с койки, с секунду раздумывал и громко передал:
вы очень помогли мне спасибо за все
Заскрежетал ключ. Дверь распахнулась. На пороге появился высокий охранник и человек в штатском с какими-то бумагами. Штатский назвал Рубашова по фамилии и монотонно прочитал судебный приговор. Охранник завернул ему руки за спину и защелкнул на запястьях браслеты наручников. Выходя, он услышал торопливый стук:
я завидую вам завидую завидую прощайте
Коридор был наполнен приглушенным рокотом. Рубашов знал, что к каждому очку прижимается живой человеческий глаз, но он смотрел прямо перед собой. За бетонной дверью Одиночного блока прощальный рокот резко оборвался. Браслеты наручников врезались в запястья — охранник защелкнул их слишком туго. А когда он заводил ему руки назад, он их резко вывернул, и они болели.
Показалась лестница, ведущая в подвал. Штатский — у него были глаза чуть навыкате — остановился и равнодушно спросил Рубашова:
— Есть у вас какое-нибудь последнее желание?
— Нет, — коротко ответил Рубашов и начал спускаться по винтовой лестнице. Штатский молча смотрел на него равнодушными, немного навыкате глазами.
Ступени были узкими и скупо освещенными. Рубашов не мог держаться за перила и напряженно нащупывал ступени подошвами. Прощальный рокот сменился тишиной. Сзади, тремя ступенями выше, раздавались шаги высокого охранника.
Лестница спирально уходила в подвал. Рубашов нагнулся, чтобы глянуть вниз, — пенсне соскользнуло, послышался звон, и осколки ссыпались на последнюю ступеньку. Рубашов замер, беспомощно сощурился, но потом ощупью закончил спуск. Судя по звукам, охранник нагнулся и сунул разбитое пенсне в карман; Рубашов не стал оглядываться назад.
Теперь он практически почти ослеп, но под ногами был ровный каменный пол. Они оказались в длинном коридоре — его конца Рубашов не видел. Охранник шел на три шага сзади. Рубашов затылком ощущал его взгляд, но по-прежнему смотрел прямо перед собой. Медленно и напряженно переставляя ноги, он двигался к дальнему концу коридора.
Ему представлялось, что он шагает по этому коридору уже несколько минут. И ничего — решительно ничего не происходило. Пистолет у охранника, без сомнения, в кобуре — он услышит, как тот начнет его вынимать. Значит, пока что он в безопасности. Или они, по примеру дантистов, до времени прячут инструмент в рукаве? Он старался думать о чем-нибудь другом, но не мог переключиться: все его силы уходили на то, чтоб не оглядываться назад.
Странно, зубную боль как отрезало, когда он ощутил благословенную тишину, произнося на суде последнее слово. Возможно, абсцесс созрел и вскрылся. Что он сказал? Я преклоняю колена перед партийными массами страны и мира… Но почему? Чем он провинился перед массами? Сорок лет он гнал их через пустыню, не скупясь на угрозы, посулы и обеты. Так где же она — Земля Обетованная?
Существует ли она как конечная цель для бредущего по бесплодной пустыне человечества? Ему очень хотелось найти ответ, пока время не было окончательно упущено. Моисею не удалось ступить на землю, к которой он вел народы через пустыню. Но он взошел на вершину горы и воочию убедился, что цель достигнута. Легко умирать, когда ты знаешь, что данный тобою обет исполнен. Он, Николай Залманович Рубашов, не был допущен на вершину горы — умирая, он видел лишь пустынную тьму.
Удар в затылок оборвал его мысли. Он готовился к этому — но подготовиться не успел. Он почувствовал, что у него подгибаются колени и его разворачивает лицом к охраннику. Какая театральщина, подумалось ему, и ведь я совершенно ничего не чувствую. Согнувшись он лежал поперек коридора и прижимался щекой к прохладному полу. Над ним сомкнулась завеса тьмы, и черные волны ночного океана вздымали его невесомое тело. Полосами тумана плыли воспоминания.
Снаружи слышался стук в дверь, ему мнилось, что его пришли арестовывать, — но в какой он стране?
Он сделал последнее мучительное усилие, чтоб просунуть руку в рукав халата, — но чей это портрет?
Усача с насмешливо циничными глазами или Усатика со стеклянным взглядом?
Над ним склонилась бесформенная фигура, и он почувствовал запах кожи. Но что это за форма? И во имя чего поднят вороненый ствол пистолета?
Он дернулся от сокрушительного удара в ухо. На мгновение тьма сделалась безмолвной. Потом послышался плеск океана. Набежавшая волна — тихий вздох вечности — подняла его и неспешно покатилась дальше.
Вместо послесловия Трагедия «стальных людей»
После разрыва с коммунистами, сделавшего меня, можно сказать, изгоем партии изгоев, наступило критическое время — я остался наедине с темными глубинами собственной психики. Утрата привычного ощущения приобщенности искушала примкнуть к недавним противникам или, например, удариться в религию. Те из моих друзей, кто испытал подобное состояние и вышел из него с честью, сохранив ясность ума и душевное равновесие, были, как правило, творческими людьми: писателями, художниками, учеными, — и это помогало им выстоять.
В Париж в начале 1938 года я вернулся, имея на руках договор с лондонским издательством Джонатана Кейпа на издание моего первого романа «Гладиаторы». Я рассчитывал, что расплачусь с переводчиком из полученного от Кейпа аванса в 125 фунтов, а оставшихся денег мне хватит на полгода спартанской жизни, и я наконец закончу книгу, писание которой постоянно прерывалось — то из-за безденежья, то из-за политики, и все получилось именно так, как я рассчитал: в июне тридцать восьмого «Гладиаторы», отнявшие у меня в общей сложности четыре года, были завершены.
Я, разумеется, понимал, насколько благотворными были для меня периодические возвраты к людям и событиям I века до н. э., особенно в пору непосредственно перед разрывом с партией и сразу после, — они были своего рода трудотерапией, помогали как-то скреплять куски распадавшегося во мне времени, успокаивали, умиротворяли… До разрыва я мыслил себя рабом Истории, а свое писательство — работой на нее. Теперь я хотел стать профессиональным писателем, для которого писать — занятие самодостаточное. Поэтому, завершив «Гладиаторов», я вскоре взялся за «Слепящую тьму».
В краткой заявке, составленной для Кейпа, значилось, что это будет роман о четырех-пяти политзаключенных в одной тоталитарной стране. Приговоренные к смертной казни, они, переступив грань обыденного и трагического планов бытия, пересмотрят перед концом свое прошлое и увидят, что действительно виновны, хотя и не в тех преступлениях, за которые осуждены. Их подлинная виновность в том, что интересы человечества они поставили выше интересов человека, мораль принесли в жертву целесообразности, а средства — цели. И вот они должны умереть, ибо с точки зрения Истории их смерть целесообразна, умереть от руки людей, думающих одинаково с ними. Название предполагалось «Порочный круг».
Я взялся писать новый роман, не определив в точности развитие сюжета, и отчетливо видел перед собой лишь одного из героев. Видел: вот он шагает по камере взад-вперед — невысокий, коренастый, с козлиной бородкой — и потирает пенсне о рукав. Это большевик из «старой гвардии», по складу ума — сколок с Бухарина, по внешности и характеру — синтез Троцкого с Радеком. Я долго не знал, как назову его. Фамилия Рубашов возникла непроизвольно, я понятия не имел, с кем она связана, а сразу же принял ее, думаю, потому, что она напоминала мне вышитую русскую рубашку, в которой я любил покрасоваться по воскресеньям[1]. Позднее выяснилось, что Николай Залманович Рубашов — редактор газеты Палестинской трудовой партии «Davar»; лично я его не встречал, но имя, конечно, часто слышал в свою бытность в Палестине. Отчество (Залманович) превратило моего героя в еврея, чего я сам тогда не заметил, и никто не обратил на это моего внимания.
Итак, начало было определено. Когда за Рубашовым ночью пришли, он спал и видел во сне свой последний арест в другой тоталитарной стране и полусонным рассудком не сразу осознал, который из двух диктаторов добрался до него на этот раз… Странно, что таким образом я обозначил глубинное подобие двух диктатур — лейтмотив, проходящий по всему роману, — за год до пакта Сталина с Гитлером, когда на рассудочном уровне, еще продолжая симпатизировать Советской России, отверг бы даже возможность сравнения ее с нацистской Германией.
По написании сцены ареста мне больше не пришлось беспокоиться о сюжете, искать детали — оказалось, они давно накоплены под спудом воспоминаний семилетней давности, и стоило лишь ослабить давление, как они ожили во мне, впервые становясь для меня осмысленными. Надежда, Малютка Вернер, двое начальников из Баку, масса эпизодов, обрывочных реплик, случайных жестов, все то, чему внутренний цензор годами не давал выхода, хлынуло, как пробившийся поток. Я не определял развитие событий, я ожидал его — с ужасом и любопытством. Зная, к примеру, что в конце концов Рубашов капитулирует и признается в совершении мнимых преступлений, я тем не менее очень смутно понимал, в силу каких причин это произойдет. Причины — одна за другой — прояснялись по ходу допросов Рубашова, сначала Ивановым, затем Глеткиным. Вопросы и ответы, жестко предопределенные замкнутой структурой их психики, не импровизировались, они извлекались — посредством механизмов подсознания, облекшихся иллюзорной логичностью, — из глубин психики, на которых стиралось различие между следователем и подследственным, палачом и жертвой. Опираясь на одни и те же представления, эти люди и не могли говорить и поступать иначе, чем говорили и поступали.
Западному сознанию, далекому от этой психики и этих представлений, признания обвиняемых на московских процессах кажутся одной из крупнейших загадок современности. Почему старые большевики — руководители и герои революции, так часто игравшие со смертью, что сами называли себя «покойниками на каникулах», — почему, спрашивается, они признавали этот кошмарный бред, леденящий кровь? Если даже не принимать в расчет тех, кто, как Радек, просто-напросто спасал шкуру, тех, кто был деморализован, как Зиновьев, тех, кто надеялся выгородите родных, как, например, Каменев, по слухам, страстно любивший своего сына, то ведь были же среди них и «стальные» — люди типа Бухарина, Пятакова, Мрачковского, Смирнова и других, с десятками лет революционного стажа, ветераны царских тюрем и ссылок, и вот их патетически-безоглядное отречение от себя представлялось необъяснимым…
За основу ретроспективных эпизодов «Слепящей тьмы» — с Рихардом, Малюткой Леви и Арловой — я взял действительные случаи, разумеется, несколько обработав их. Методы и техника допросов в ГПУ подробнее, чем у меня, описаны в других книгах. Опасаясь злоупотребить вниманием читателя, я позволю себе задержаться на главном, то есть на причинах, заставлявших людей одного, строго определенного — «стального» — типа, полностью оставаясь в рамках логики, прийти к необходимости признаний, поражающих полной алогичностью; и, во-первых, сошлюсь на смысловую кульминацию моего романа — заключительный допрос Рубашова Глеткиным, а во-вторых, процитирую документ, остававшийся мне неизвестным, пока я писал роман, — я говорю о книге «Я был агентом Сталина», писавшейся Вальтером Кривицким примерно в то же время, что и «Слепящая тьма» мною.
Кривицкий, высокопоставленный разведчик, порвавший со сталинским режимом, удостоверяет, что для тех, кто подобно ему, в годы московских процессов находился «внутри сталинской машины власти», признания подсудимых на них отнюдь не были никакой загадкой. Хотя, говорит он, имели значение разные факторы, решающей для очень многих оказывалась потребность «в последний раз исполнить свой долг перед партией и революцией». Вот, скажем, каким образом были получены признания Мрачковского — осужденного по первому процессу большевика с 1905 года, героя гражданской войны, позднее оппозиционера.
«В июне 1936 года, — пишет Кривицкий, — заканчивалась подготовка к первому показательному процессу над оппозицией. Добились признаний от четырнадцати человек. Главные действующие лица — Каменев и Зиновьев — уже заучили свои роли и репетировали поведение в зале суда. Оставались двое, отвергавшие любые обвинения, — Мрачковский и Иван Смирнов, старейший большевик, командующий 5-й армией в годы гражданской войны.
Сталин не хотел начинать процесс без них. Их долго пытали — жестоко и безрезультатно. Наконец начальник ОГПУ вызвал моего товарища Слуцкого и приказал допросить Мрачковского и во что бы то ни стало сломить его. С тягостным чувством мой товарищ (кстати, глубоко чтивший Мрачковского) рассказывал мне, а я слушал, как он выступал в качестве инквизитора.
— Я побрился перед началом допроса, — рассказывал Слуцкий, — а когда все кончилось, у меня выросла борода. Его привели ко мне в кабинет. Он сильно хромал — еще с гражданской, и я предложил ему сесть. Он сел. Вот, говорю, товарищ Мрачковский, приходится мне допрашивать вас.
— Я отвечать не буду. Я не желаю с вами разговаривать. Вы в тысячу раз хуже царских жандармов. Докажите мне ваше право допрашивать меня. Что-то я не слышал про вас в годы революции. Птицы вроде вас на фронты не залетали. А их, — Мрачковский показал на ордена Красного Знамени на моей гимнастерке, — их вы, скорее всего, просто украли. — Он поднялся, расстегивая рубашку, обнажил глубокие шрамы на груди: — Мои-то награды — вот они! Не отвечая, Слуцкий подвинул Мрачковскому стакан чаем и папиросы. Тот сбросил их на пол:
— Купить меня надеетесь? Не надейтесь. Я ненавижу Сталина, так и передайте ему. Он предал революцию. Меня водили к Молотову — тоже хотел купить. Я плюнул ему в лицо.
Настало время переходить в наступление. Слуцкий сказал:
— Нет, товарищ Мрачковский, мои ордена я не украл. Я честно заработал их в Красной Армии, на ташкентском фронте, а командующим там были вы. Я не думал и не думаю, что вы преступник. Но вы же не станете отпираться — вы примыкали к оппозиции. Партия приказала мне допросить вас. А что касается ран, взгляните. — И Слуцкий в свою очередь обнажил искалеченную грудь. Потом продолжил: — После войны я работал в трибунале. Партия перебросила меня в органы. Я солдат партии и выполняю приказ. Если партия прикажет мне умереть, я умру[2].
— Вы переродились, — возразил Мрачковский, — вы больше не солдат партии, вы охранник, ищейка. — Но помедлив, добавил: — Хотя, кажется, в вас осталось что-то человеческое.
По словам Слуцкого, с этого момента между ними стал ощущаться ток взаимопонимания. Слуцкий заговорил о тяжелом внешнем и внутреннем положении Советского Союза, о капиталистическом окружении и врагах партии, подрывающих ее авторитет в массах, сказал, что нужно любой ценой спасать партию, которая одна способна спасти революцию.
Я заверил его, что, конечно, не думаю, будто он контрреволюционер. Но достал и зачитал показания других — продемонстрировал, так сказать, до чего можно докатиться в звериной ненависти к Советской власти. Мы проговорили три дня и три ночи. Все это время он ни минуты не спал. Я вздремнул часа три-четыре. Короче, он согласился, что в данный момент никто, кроме Сталина, не способен руководить партией. В партийных рядах нет достаточно сильной группировки, чтобы реформировать или сломать сталинскую машину власти. Да, в стране накопилось недовольство, угрожающее взрывом, рассуждал он, но объединение с людьми, посторонними партии, означало бы конец однопартийной системы, а он слишком сильно веровал в идею диктатуры пролетариата и не смел посягнуть на нее даже мысленно. Он был согласен, как и я, с тем, что настоящий большевик обязан подчинять собственные помыслы и волю помыслам и воле партии и, если нужно бестрепетно идти на смерть, а то и позорную смерть.
— Выматывая Мрачковского, — рассказывал Слуцкий, — я сам так измотался и перевозбудился, что расплакался вместе с ним, когда на третью ночь мы договорились до гибели идеалов революции — мол, только сталинский ненавистный режим еще несет в себе слабый отблеск надежды на светлое будущее, на алтарь которого мы оба обрекли себя с юности, и больше ничего не остается, совсем ничего, кроме как, спасая этот режим, постараться предупредить обреченный взрыв недовольства разочарованных, дезориентированных масс. Для этого партии нужно, чтобы бывшие лидеры оппозиции публично признались в совершении чудовищных преступлений.
Мрачковский попросил о встрече со Смирновым — старым соратником и другом. Произошла душераздирающая сцена: два ветерана Октября, рыдая, обнялись в моем кабинете.
— Иван Никитич, — сказал Мрачковский, — дай им, чего они хотят. Это нужно дать.
На исходе четвертого дня допроса он подписал показания, с которыми позднее выступил на суде. Он отправился в камеру, а я — домой и целую неделю не мог работать. Жить тоже не мог».
Книгу Кривицкого я прочитал лишь несколько лет «Спустя после окончания «Слепящей тьмы», так как, дописав свой роман, долго потом был не в силах прикоснуться к чему-либо, связанному с ним. Читая, я испытывал болезненное ощущение, называемое психиатрами deja vu[3]. Сходство с первым допросом Рубашова было совершенно поразительное. Дело не в идентичности логики Слуцкого и Иванова — она неудивительна, ибо и действительность, и роман определялись одним и тем же кругом представлений и фактов. Поражало совпадение деталей: в обоих случаях в начале допроса всплывали воспоминания о гражданской войне, причем следователь в то время был подчиненным подследственного; в обоих случаях один из них был тяжело ранен в ногу; наконец, в обоих случаях следователя тоже ликвидировали. Мне казалось, что я читаю о духовных двойниках Иванова и Рубашова, как если бы действительность в призрачных образах сублимировала непреложные данности моего воображения…
Объяснение признаний, предложенное в моем романе, стало широко известно как «рубашовская версия» и вызвало длительную полемику; я в ней не участвовал. Еще раз повторю, что методы, обеспечившие признание Бухарина, Мрачковского или Рубашова, были эффективны только применительно к типу старого большевика, чья преданность партии абсолютна. К другим применялись другие методы, каждый раз сообразно обстоятельствам. Говорю это потому, что в полемике о «Слепящей тьме» постоянно утверждалось, будто я все признания объясняю «рубашовской версией». Это совершенно не так. Из трех заключенных, описанных в моем романе, один Рубашов признается по велению жертвенной преданности партии. Заячья Губа не выдерживает пыток. Безграмотный крестьянин, не понимающий, в чем дело, и привыкший слушаться начальства, тупо повторяет, что ему велят… Однако и через много лет, в пору показательных процессов в так называемых «странах народной демократии», мои неугомонные оппоненты еще не перестали умозаключать, что раз кардинал Миндсенти или господин Фоглер не питали большой симпатии к коммунистической партии, «рубашовская версия», тем самым, неверна. С таким же успехом можно доказывать, что, если не только гвозди прилипают к магниту, но и мухи к липучке, неверна теория магнитного притяжения. Мне кажется, что причина этой несуразной аргументации — в большинстве случаев безусловно добросовестной — в присущей рассудку тяге обобщать и выискивать единое объяснение — что-то вроде lapis philosophicus[4] — загадочных и неоднородных явлений. И чтобы окончательно запутать наблюдателей, на каждом из процессов состав обвиняемых являл собой тщательно подобранную «амальгаму» из людей «стальных», деморализованных и просто провокаторов, и все они вели себя, в общем, одинаково, хотя и по весьма различным основаниям…
Я начал писать «Слепящую тьму» в сентябре 1938 года, в мюнхенские дни, а закончил в апреле 1940-го, за месяц до немецкого нападения и последующей капитуляции Франции. И снова — как было с «Гладиаторами» — работа то и дело прерывалась, и надолго, и писание романа уподобилось скачкам с препятствиями по дорожке времени и судьбы, ибо после Мюнхена я был уверен, что немцы вот-вот нападут на Францию, а Франция не продержится и нескольких недель.
В самый разгар работы я очутился без гроша в кармане. Для завершения романа мне требовалось около полугода, а чтобы заработать деньги на этот срок, два месяца — апрель и май тридцать девятого — пришлось убить на сочинение очередной — третьей и последней — книжки о сексе. Потом три месяца спокойной работы на юге Франции и новый барьер: 3 сентября началась война, а в октябре, 21 числа, меня арестовала французская полиция.
Затем последовала серия кафкианских ситуаций, описанная мною в «Земных подонках». Четыре месяца я провел в Пиренеях, в лагере для интернированных лиц. В январе 1940 года меня освободили, но оставили под надзором полиции, и несколько месяцев я дописывал роман, отрываемый от работы вызовами на допрос и обысками в квартире, денно и нощно трепеща, что, если опять буду арестован, роман неминуемо пропадет.
Но, видимо, добрый ангел не оставлял попечения о нем. На обыске в марте полицейские конфисковали большую часть моих бумаг, а на машинопись «Слепящей тьмы» почему-то не обратили внимания. Первый экземпляр лежал прямо на письменном столе — я положил его туда, следуя завету Эдгара По: скрываемый предмет держать на самом видном месте; одновременно, вопреки тому же завету, второй экземпляр я засунул на верхнюю полку книжного шкафа. В конце концов меня действительно опять арестовали, и немецкий оригинал романа пропал. Но к тому времени, к счастью, был закончен английский перевод и уже переправлен в Лондон — за десять дней до немецкого вторжения во Францию. Таким образом, книга проскользнула в узенькую щелку, оставленную судьбой.
Еще полгода спустя, когда и я следом тоже проскользнул в Англию, книга достигла стадии верстки. Верстка застала меня в лондонской Пентонвильской тюрьме, куда я был водворен тотчас по вступлении на британский берег. Тут обозначилось новое препятствие, так как заключенные в Пентонвиле не пользовались правом получения книг с воли: однако же, поскольку было неоспоримо доказано, что данную книгу написал сам заключенный, начальник тюрьмы, поразмыслив, согласился передать верстку мне. В Пентонвиле я впервые узнал английское название моего романа. Оно было подсказано строчкой Милтона: «О мрак, мрак, мрак среди сияния луны» и принадлежало переводчице Дафни Харди, молодой англичанке, бывшей по профессии вовсе не переводчицей — скульпторшей (в «Земных подонках» она фигурирует под инициалом X). Из Франции Дафни бежала раньше меня, и после долгой разлуки мы наконец встретились с ней в помещении свиданий Пентонвильской тюрьмы и в присутствии надзирателя чинно беседовали через проволочную сетку. Когда надзиратель повел меня обратно в камеру, он спросил, что это за книгу мы так долго обсуждали с моей приятельницей. Мою собственную книгу, ответил я, об одном заключенном в одиночной камере. «В таком случае вы, наверное, пророк», — сказал он, и дверь камеры, лязгнув, захлопнулась.
Я еще оставался в заключении, когда роман вышел в свет…
перевод В. Алексеева «Литературная газета», 3 августа 1988 г. № 31.Примечания
1
Очевидно, в СССР. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Так и будет полтора года спустя: объявят, что Слуцкий скоропостижно скончался.
(обратно)3
Уже виденное (франц.) — ощущение точного повторения событий, однажды уже происходивших.
(обратно)4
Философский камень (лат.).
(обратно)
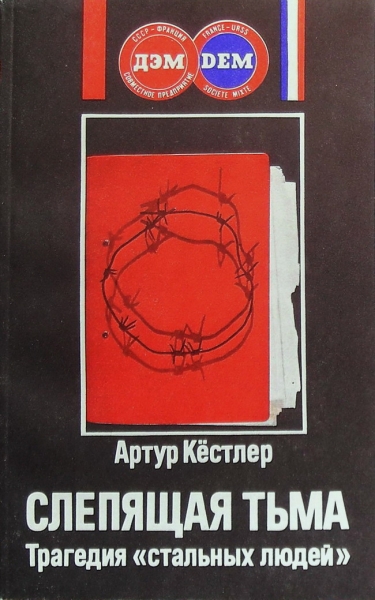



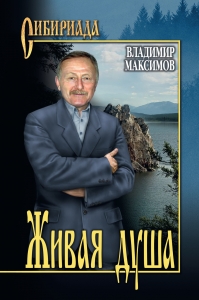

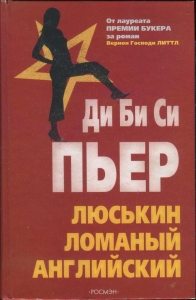



Комментарии к книге «Слепящая тьма. Трагедия «стальных людей»», Артур Кестлер
Всего 0 комментариев