Владимир Киршин Дед Пихто: Цикл прозы.
ЦАРЕВНЫ И СТРАНЫ Повесть
1. Рыбка
Ждали нас зря и царевны, и страны.
Голос свой слушаю — слабый, и странный.
Н. Болдырев
Так хорошо лежать на раскладушке в своей норе, так сладко. Так хорошо ничего не писать уже два месяца. Человек перемещается в пространстве от ощущения собственной неполноценности, а пишет от бессилия наладить свою жизнь. Стихи, проза, жалоба, донос — всё это литература, вторая реальность, всё это появляется, когда с первой реальностью нелады. Одному много горя, другому мало радости — хвать за перо и ну поправлять мир или выдумывать новый и жить в нём. Искусство — дьявола искус.
Мир украсить невозможно, он божественно красив. Его достаточно наблюдать: формы, цвета, горе, радость. Можно любоваться его переливами тысячи лет, не вставая с раскладушки. Именно не вставая — лёжа. Всё делать лёжа: добывать пищу, противостоять злу, творить добро — но лёжа, лёжа: в покое и неизменном равновесии духа, кому неясно. Да иначе и невозможно. Ну как можно, психуя, противостоять злу? Что за добро ты наваляешь в исступлении страсти?
Я безмятежен. У меня всё есть. У меня в достатке горя, передо мной море поводов для радости, я добываю
пищу без остервенения и легко делюсь ею с ближними.
Да, ближним мало. Они хотели бы иметь от меня больше.
Что поделаешь. Они вообще хотели бы получить от мира побольше и поскорее. Они недовольны нами — мною и миром. Мы с миром, на их взгляд, жестоки и равнодушны, потому что не даём им немедленно то, что они хотят. Милые, представьте, что будет, если все получат, что хотят!
Дерсу Узала, природный человек, жил в ладу с миром. Нет — пришёл Арсеньев со всеми заморочками цивилизации и сказал, что «неграмотность» — это плохо, а уметь писать прошения и читать поганые газеты — это хорошо. И вырвал человека из Божьего мира буквально. То есть, с помощью буквы, будь она проклята.
Иисус не писал книг. Он убеждал жизнью своей и смертью. Если бы книга могла передать истину, Иисус написал бы книгу.
Не буду писать. Не буду читать. Не буду мыслить: ведь Бог не мыслит — Он живёт. Он сама жизнь.
Молчание.
— Стёпа, — тихонько позвала из-за двери соседка. — Спишь?
— Сплю! — весело откликнулся Калачов. Год назад, в лихую минуту, он представился старушке «Стёпой» и с тех пор с удовольствием отзывался на это имя.
— Стёпа, тебе письмо, — спешила порадовать соседка. — Из Москвы.
— Спасибо, баб Лена.
В конверте лежала рукодельная открытка — маленький шедевр: восхитительное в своей природной корявости деревце ночью — всё из лунного света на тёмно-синем фоне горы. Гора — понятное дело, Фудзияма. Деревце — каскад прихотливых узких мазков какой-то неизвестной волшебной краской — блестящей и выпуклой, густой. И маленькая золотая рыбка вклеена — листочком на веточке.
Калачов уже понял, от кого открытка:
В этой бухте Вака,
Лишь нахлынет прилив,
Вмиг скрывается отмель,
И тогда в камыши Журавли улетают крича...
Она так продолжительно смотрела на Калачова, когда он в последний раз уезжал из Москвы. Его провожала толпа, все дурили, а она — смотрела. Конечно, это было приятно. Но она была красива и звали её Катей — поэтому Калачов выбросил её из головы. Калачов не любил красивых женщин, чуя в них обман, а имя Катя ему не нравилось с детства: девочку в садике при всех вытошнило, девочку звали Катей. Он знал, что несправедлив.
Калачов дисциплинированно перечёл японские стихи, всмотрелся в них, вслушался, затем, посчитав дело сделанным и вопрос закрытым, прикнопил открытку под старой афишей на стене и ушёл на кухню. Калачову было сорок лет, рыбку на дереве он уже где-то встречал.
На кухне он открыл бабы Ленин холодильник и взял со своей полки пластмассовую коробочку с маслом, открыл. Выбрал яйцо поненадёжнее, какое надо съесть раньше прочих, — осторожно пристроил рядом с коробочкой, чтобы не катилось. Набрал воды в красную кастрюльку, поставил на огонь. Полюбовался: плита чёрная, огонь голубой, кастрюлька красная, стена синяя и вверху белая — хрущёвский колорит, пленительные времена... Когда вода закипела, высыпал туда польский концентрат, подумал, сунул туда же яйцо. Через пять минут ложкой выловил из супа яйцо, подставил под кран — остудить и ополоснуть.
Почистил, разрезал пополам и обе половинки пустил в глубокую тарелку порезвиться. Когда они успокоились, залил их супом. На фанерке с сыновним автографом отрезал хлеб, положил на блюдечко, сел к столу с ложкой, посетовал, что нет сметанки. И вдруг почувствовал, что влюбился.
Будто пузырь лопнул. Рыбка вильнула — качнула деревце, деревце кольнуло веточкой некую сферу вокруг пожилого Калачова — раздался неслышный хлопок и снаружи хлынул пьянящий кислород. Свет сделался ярче и веселей, но при этом по коже пошёл нервный зуд — слабый, томительный электроток заструился по всему телу, а в груди... Калачову было сорок лет. «Ну вот, — произнёс он озабоченно, как перед насморком, — началось».
Дурь. Блажь. Я и не знаю её почти.
Господи, только бы никто не заметил — срам-то какой.
Только бы она не узнала. Только бы глупостей не наделать.
Ну вот, я уже пустую тарелку в холодильник ставлю. Забавно всё-таки. А как сладко, как больно...
Милая, где ты?
Начина-ается. Хорошо бы к утру всё прошло.
У неё такой голос. У неё такой волос.
Может, Люське позвонить? Надо что-то делать.
Надо на письмо ответить. Что же я напишу? «Катенька... Катюша... Котёночек... Рыбка...».
Калачов сложным, петлистым путём идёт в ванную. Долго держится за ручку крана, соображая, куда крутить. Долго и бестолково умывается: вода, руки, полотенце, мыло, вода, вода горячая, опять полотенце, наблюдение за струёй воды из крана, палец под струёй, подмышки, шея, весь залез под душ, выдавил зубную пасту на щётку вопросительным знаком, сунул в рот —
стояние со щёткой во рту, полоскание, омовение, вытирание, всматривание в пустое зеркало — удивление
— и через удивление возвращение лица: да, это я. Калачов пришёл в себя.
Оделся тщательно — уже для неё, для Рыбки. Теперь она была здесь, Рыбка, она плавала в комнате и наблюдала с любопытством за Калачовым — как он одет, как двигается, как говорит. Теперь он одевался, двигался и говорил — для Рыбки. Катюша далеко — Рыбка здесь. Не путать. И писать ничего не надо, ни в коем случае: Катюша тут ни при чём.
Ну а если не путать своих «рыбок» с чужими «катюшами», то никому и не повредит эта старая, глупая, сладкая песня:
милая, ты не представляешь, как я устал без тебя, сколько я выдумал теорий, оправдывающих одиночество, сколько сочинил историй, возвышающих его, я уже почти научился жить без тебя, научился терпеть и радоваться играм терпения, я уже не смотрю на дверь, в которую ты войдёшь, когда я дорасту до любви, я смирился...
— Баб Лена, я пойду поброжу. Придержите кота.
— Что, в поход? Сёдни-то ждать?
— Не знаю. Может, приду. Не решил ещё.
— Или чё не так? Или телевизер у меня громко?
— Да что вы. Всё отлично.
Я идеалист, я знаю. Я окружён подставными лицами — а идеал мой находится там, где ему и положено быть — в мире идей. Мы с ним никогда не встретимся, это невозможно. Я обречён. Я окружён подставными лицами, которые ни в чём не виноваты, — и я хочу их любить, как настоящих. Мне больше не нужны идеалы. Кто меня ими наказал? За что? Отрекаюсь. Хочу жить. И я зажмуриваюсь, я представляю, что всё и вся вокруг — настоящее, и... открываю стрельбу по банкам. Идиотизм. Знаешь, собираешься на охоту — снаряжение, маршрут, припасы, билеты
— добираешься до места, ночуешь, встаёшь на зорьке, крадёшься по мокрой траве, стылыми стволами водишь туда и сюда, слух, нюх, зрение таращишь во все стороны — и что? В этом леске пусто, пойду в тот. И в том пусто. И за оврагом. Где-то бабахнул выстрел, кому-то повезло. А может, блеф — но ты же не знаешь. И тогда стреляешь по воронам. Или по банкам на привале. Представляешь? Ехать двести вёрст на пяти транспортах, ещё двадцать вёрст пёхом в пудовых сапогах — чтобы добыть ворону. Или совсем уже банку.
Что за чушь я несу... Никакой я не охотник, ты не думай, я не в этом смысле!
«Нет, нет, я не думаю. Ты хорошо рассказывал. Расскажи ещё, что ты чувствовал без меня», — говорит Рыбка.
Калачов слабеет от умиления. У неё такой голос. У неё такое сердце! У неё такие глаза. Какого, кстати, они будут цвета? У Катюши в Москве они голубые — но это неприемлемо: декоративно.
В трамвае было много солнца и мало пассажиров. Калачов удобно устроился у окна. Мимо потёк городской пейзаж, потекли мысли — стройные ясные мысли обо всём вокруг и обо всём внутри себя по порядку, ладно так — точно и без мудрствований — а зачем? — рядом плыла родная душа, которой ничего не надо объяснять, а только называть — и Калачов называл свои мысли о встречных предметах и разные мелькающие воспоминания ухватывал и вплетал в свой рассказ, ни о чём особенно не задумываясь, — и не было на свете рассказа гениальнее, чем тот монолог Калачова для Рыбки.
Удивительный день. Восхитительная минута, целый ряд минут, много. Ну вот бывают же в жизни такие минуты, когда всё в порядке, когда ты сыт и ветерок ласкает кожу, и собеседница близка и тиха, как... Стоп, а где же она? Да вот же! И снова тёплая волна из-под сердца и до самых глаз: милая...
Милая, посмотри на меня — вот я выпрыгиваю из трамвая на остановке, вот поднимаюсь по ступеням концертного зала. Посмотри: меня, как дорогого гостя, встречает у дверей хозяин вечера — настоящий композитор Вальтер Лопушан. Посмотри, какие у меня друзья.
Калачов жмёт руку Лопушану, они обнимаются, говорят друг другу нежности. Вальтер Лопушан в бежевом смокинге и красной бабочке, сегодня у него праздник.
— Валюта, поздравляю, — говорит Калачов.
— Спасибо, родной, — отвечает Вальтер. Объятие, щетинистый поцелуй. — Ты у меня в тот раз носки оставил. Приди, забери.
— Ах они у тебя! Какая радость. Не зря я так сюда спешил.
— Носки свои чуял, кубыть.
— Я чуял положительные эмоции!
— Они с тебя слетели, когда ты свой рокендрол Свете показывал.
— Какой ещё рокендрол? Какая Света? — хохочет Калачов. — И вообще я не ношу носков — всё это буржуйские замашки.
И прочее такое.
Гостей было мало, можно было трепаться сколько влезет. Гостей было мало у Лопушана всегда: сложно пишет. Пишет, как слышит, а получается — для элиты. Он бы, может, и рад — ан нет, — ну и хорошо. Хорошо, когда в зале все свои. Хорошо, войдя в зал, махнуть рукой первому, на кого упадёт взгляд, подойти и плюхнуться рядом, не выбирая себе места — везде хорошо: мой зал. Моя раскладушка в моей норе. Мой Вальтер на моих скрипках играет мою любимую музыку. Хорошо.
Рядом оказался — Рыбка, посмотри! — настоящий кинорежиссёр Петя Денежкин. Мы с ним как-то раз гениальное кино снимали: он пригласил повеселиться, и как-то само получилось — кино. Увы, после вчерашнего Петя был заметно Безденежкин и сильно Хворо-бушкин. Дрожащие Петины колени упирались в спинку переднего ряда, руки блуждали, головы не было. Это — не голова.
— Калачов, — произнёс желудком Петя. — Калачов.
— Что, Петя, плохо?
— Калачов.
Вот такой фон для счастья Калачова (Петя, прости), такой контраст, и музыка. Музыку он слышал какую-то свою (и ты, Валёк, прости), она не совпадала с «наружной», и развращённый попсою слух искал механические ритмы, мелодические блоки, не находил их и дробил, дробил вещество музыки, рылся, снова дробил, измельчал его в пыль, в пудру, пудра искрилась, пыль струилась, разливалась рекой, текла долинами, пели ветры и со звоном из пыли рождались цветы — конечно, прекрасные, потому что мы все их так ждали...
— Калачов.
— Я здесь, Петя.
— Калачов, за мной!
Денежкин сунулся в проход и, не разгибаясь, помчался к дверям. Калачов нырнул за ним, удивляясь своей прыти и могуществу режиссёрской команды.
Влетев в буфет, Денежкин потребовал себе коньяку
— получив, выпил и резко окосел. При этом он стал уморительно похож на обкурившегося китайца.
Свежий, поющий внутренне Калачов смотрел на Петю с сожалением.
— Калачов, — китайским голосом произнёс Денежкин. — Позвони мне завтра в пять. Можно в Потсдам на халяву съездить. Тебе. Фильм на фестиваль отвезти. Каласо.
Калачов расхохотался громким здоровым смехом:
— Экий ты славный, Петя.
— Я серьезно. Поезжай. Больше некому. Я в Питере должен быть. Каласо.
Калачов насторожился. Да нет, не может быть, враньё. На всякий случай понурился:
— Да у меня и денег нет.
— Там всё оплатят. Отсюда мы тебе дадим. Там получишь марками — привезёшь, отдашь. Ну, решайся. Считаю до трёх: раз...
— Через Москву? — быстро спросил Калачов.
— Естественно.
Всё, Калачов оглох и ослеп. Ударил колокол, изнутри по рёбрам, как по ступенькам, щекоча и муча, побежали бесенята, и ноги сами заторопились куда-то, и руки вспорхнули, и рот вытянулся в глупейшей улыбке, — но Калачов усмирил геройски все свои члены, собрал, построил их и вернулся в зал в полном составе. Сел в кресло, замер неподвижно и ещё глаза полуприкрыл, как меломан будто, но все его мышцы трепетали. В Москву! В Потсдам!
НАДО:
Сфотографироваться срочно.
Нет, сперва постричься.
Сходить заполнить анкету и сдать куда следует.
Позвонить в Москву Катюше.
Позвонить московской тётушке насчёт ночлега: к Катюше неудобно. Или удобно?
Позвонить в Потсдам — как и чего там.
И где он вообще находится? Говорят, возле Берлина. Как добираться?
Позвонить в Союз кинематографистов.
Позвонить Денежкину насчёт денег.
Купить билет до Москвы.
Купить билет до Берлина.
Позвонить в посольство насчёт пропуска в консульство насчёт визы в Германию насчёт кинофестиваля, майн готт.
Найти немецко-русский разговорник, я же языка не знаю ни хрена!
Найти зонтик.
Брюки красные, майка «Be active», майка зелёная, кур-тка-климбер, кроссовки вымыть с мылом, плавки, носки у Лопушана забрать, сувениров побольше.
Фильм и монтажный лист к нему.
Денег занять у Жукова, у чумички и где только возможно.
Не заболеть.
Союз писателей: адреса, пароли.
Отнять деньги у Деньжищина — негодяй, наобещал и смылся, нет его.
Или не звонить Катюше, а так — экспромтом?
Деньги! Деньги!
Сумка дор.
Сумка — йок. Нет сумки, нет денег, паспорт не готов, без паспорта билет не дают, Деньгович укатил на презентацию «высокой моды». Зачем мне эти головные боли? Мне что ли нужен этот Потс-извините-дам?
Так было хорошо ещё неделю назад. Ведь вот ехал в трамвае и подумал: конечно, это блаженство кончится — но как? Чтобы быть готовым — как? Может, думал, заболею. Может, пьяный гангстер иномаркой задавит. Может, в тюрьму посадят за что-нибудь. Так ведь нет — самое невероятное сатана подстроил: Москву и Потсдам.
Может, отказаться?
Калачов. Прикрыл глаза. И два раза. Проделал. Процедуру «отказа».
Всё замедлил и сосредоточился на дыхании. Дышу. Что для человека важнее всего? Воздух. Воздух есть? Ну и отлично.
Калачов улыбнулся, успокаиваясь.
Ну зачем мне этот Потсдам? Принято считать, что загранпоездка — это хорошо. Но ведь это только для тех, кому здесь — плохо.
Кто в себе не уверен — тот ищет опоры вовне себя. Кому себя мало — тот мчится присоединять к себе ландшафты и людей — затем, чтобы освоить их, присвоить, расширить себя ими и укрепить себя. Он затевает путешествие, захватническую войну или беседу. Тусовка — тоже от неуверенности в себе, для укрепления. Если я в порядке, мне никого не надо. Я созерцаю, творю.
Я в равновесии.
Равновесие —космическая необходимость. Оно всегда восстанавливается само: опустел желудок — с неба валится пища, буксует разум — сами собой приходят книги, душа сохнет — Господь шлёт чудесную встречу (если, конечно, ты Ему интересен). И всё восстанавливается для созидания.
А экспансией укрепиться невозможно. Расшириться —да, укрепиться — нет. Экспансия, как и обжорство, ведёт к вечным танталовым мукам. Что мы и видим тут и там — гонку, суету невротиков. Общество потребления ненасытно в принципе. Его надо пожалеть.
Мне его искренне жаль. Я, не движась, имею то, чего оно никогда не достигнет.
Калачов со скорбным видом пожимает плечами: в этот их Потсдам он, конечно, поедет, но — не движась.
И к Кате зайдёт в Москве. Поблагодарит за открытку и, может быть, расскажет ей со смехом о своих горячечных фантазиях на её счёт. И они вместе посмеются и отцепят тяжёлую вагонетку глупых страстей и пустят её под откос. Пойдут налегке каждый своим путём.
Калачов пришёл в норму.
В норму.
В норму...
2. Не движась
Калачов пришёл к Люське.
— Люська.
— А?
— Ну ты чего, сниматься-то будешь или не будешь?
Насторожилась.
— Буду.
— Ну тогда дай поесть чего-нибудь. Нельзя же так относиться потребительски к художнику. Как сниматься, так — буду, а как хлеба подать... к борщу, например... У тебя что на обед сегодня?
— Курица есть.
— Вот видишь — курица. Вот и фигура у тебя будет
— как у курицы. Знаешь, что Мичурин говорил? Человек есть то, что он ест. Нельзя тебе курицу. Курицу мне можно: пусть я буду круглый и на тонких ножках. И свинью мне можно, и быка. А тебе надо в форме быть, Люська. Недосолила. Не любишь ты меня сегодня. Знаешь, как в Голливуде актёры живут? Вот он в простое год, два, три, посуду в барах моет, мусор подметает — а сам в форме, как пионер. Фортуна подвернулась, он её — цоп. И весь в «Оскарах». Двадцатый век, сама понимаешь, — Фокс. А в той кастрюльке у тебя что? Ммм, а я ещё думал, зайти к тебе или не зайти. Хороший ты человек, Люська, душа у тебя. Я про тебя с Денежкиным вчера весь вечер говорил. Да ты не режь их, не режь, давай так. Он рекламу снимает. Куда деваться. Козий сыр: Фергана ролик заказала. Козу сыграешь? Неправильно реагируешь, Люся. Знаешь, как этот — Ролан Быков сказал? Нет маленьких ролей — есть маленькие актёры. Гурченко козу играла! В «Маме»! Тоже, кстати, Люська. Парик тебе найдём такой же, текстовочку типа: «Ваша мать пришла, козий сыр принесла!» — и фуэте с корзинкой. Фуэте умеешь?
Сытый и добрый Калачов объяснил девушке, как делается фуэте, собственноручно покрутил ладную Люсь-кину фигурку. Расчувствовался. Обводя рельеф, молвил медленно:
— Ты, Люк, своего главного достоинства не знаешь. С тобой так врётся хорошо. Ты моя вдохновительница. Мы с тобой, Люк, огромные бы деньги делали на всяком вранье. Кабы не моя лень...
Люська обожала такие медленные речи сытого Калачова. Она таяла, грациозно стекая в сторону дивана. Снятые брюки Калачов сложил аккуратно.
Потом, после всего уже, он принял душ. Почему-то всегда получалось, что душ — потом. Ну не монтировался душ в середине эротической сцены. Иногда, правда, удавалось сделать его компонентом — тогда под душ становились оба и, как правило, уже не выходили из-под него до изнеможения. —Да, чуть не забыл. У тебя была такая жёлто-корая кофта. -Ну.
— Дай мне её сфотографироваться. На загранпаспорт: в Германию еду.
— Ой да ты что — в Германию?!
— Кофту, кофту.
— Ой да ты что, она такая страшная.
— Ничего, на чёрно-белом она весьма.
Порывшись в хламе, Люська выдала ужасную, осиной
жёлто-коричневой расцветки вязаную кофту. Калачов сунул её в свою торбу и, уходя, стырил на кухне две красных помидорки.
Мысленно покраснел: Рыбка.
Пришел к Валентине.
— Надо же, — приветствовала его Валентина и тотчас ушла на кухню.
— Сразу притих! — закричала она там на кого-то. — Сразу морду свою спрятал! А я вот тебе в следующий раз вот этой штукой — по башке! Паразит такой! — громко дыша, Валентина вышла из кухни, влезла на кресло с ногами и гневно закинула длинную полу халата себе на плечо. — Никакого покоя в собственном доме! Знаешь, этот гад во сколько пришёл?
— Который гад? — осведомился Калачов, входя в гостиную и осторожно присаживаясь на край кресла поодаль.
— Вон тот гад! Этот — паразит! А тот — гад! Все сволочи. Есть будешь?
— Я лучше позвоню. В Москву — не возражаешь?
Валентина пожала плечами.
Калачов сел за её стол, протянул руку к аппарату — тот завозражал.
Валентина вскочила: это меня! — следом метнулся чёрный кот, хватая её растопыренными когтями за пятки.
— Ай!! —дико взвизгнула Валентина. — Сволочь!!! — Пнула воздух, схватила трубку, пропела томно: — А л л о... А, дома. — Кинула трубку на стол, маршем пересекла комнату, распахнула дверь: — ТЕБЯ! — объявила тоном гоголевского Вия.
Вышел длинный, тощий юноша с двумя серьгами в левом ухе. Подобрал трубку.
— Поздоровайся с отцом! — приказала мать.
— Привет, — вяло бросил юноша не то отцу, не то трубке и надолго сгорбился над аппаратом, поминутно роняя «ну».
— Вот такие у них разговоры, — призвала Калачова в свидетели Валентина. — «Ну» и «ну». Хватит нукать! Мне должны звонить! Отцу надо звонить! Немедленно положи трубку!
— Заткнись, — вдруг сказал сын.
— Что?! Ах ты сволочь! — взвилась Валентина.
— Сама сволочь! — крикнул сын. Брякнул трубкой, бабахнул дверью. Валентина, отбиваясь от кота, устремилась за ним:
— Где твой плейер? Где мой плейер, который я тебе подарила? Где он, я хочу знать! Ты должен с ним поговорить, — она решительно повернулась к Калачову.
— Да это я взял плейер, — неожиданно вступил Калачов. — Послушать.
Валентина опешила.
— Как это... Ага. А бутылку из-под пива тоже ты оставил? А девки звонят — тоже твои?
— Девки не мои, — загоготал Калачов.
— Всё ясно. Звони давай. Если что — тебя разъединят. Это какой-то ад!
Калачов набрал номер немецкого посольства в Москве.
— Гутен таг. Пригласите, пожалуйста, Мартину Лау-зитцер.
Всё вокруг споткнулось, замерло и уставилось офонарело. Калачов говорил по телефону о визах, самолётах на Берлин, таможенных досмотрах, марках...
— Ты что, — равнодушным голосом спросила его Валентина, когда он положил трубку, — в Германию едешь?
— Да надо, — таким же и даже более равнодушным отвечал Калачов. — Надо фильм отвезти на фестиваль. Помнишь Петьку Денежкина? Мы с ним фильм сняли, ма-аленький такой. Ну то есть — он снимал, а я сбоку стоял.
— Тебе надо подстричься, — засуетилась Валентина. — А деньги у тебя есть? У меня есть сто долларов. Ты так с дыркой и поедешь? Давай зашью.
Рыбка моя, Рыбка...
Композитор Вальтер Лопушан жил также один, но не так же, а намного лучше. Так сказал себе Калачов, выходя из лифта на 16-ом постсоветской планировки этаже.
— А, господин барон! — приветствовал его Лопушан. — Вы за своими носками? Света их постирала, заштопала...
— Угу, вышила крестиком...
— Ноликом! Входи. Есть хочешь? Может, ты водки хочешь? У нас тут осталось.
— У вас осталось? Не верю.
В кухне.
— Ты, говорят, в Германию собрался?
— В Америку.
— Будь осторожен: одна съездила в Америку — калекой осталась на всю жизнь. Всё своей Америкой теперь мерит.
— Тут ещё хрен уедешь, — пожаловался Калачов. — Петяра куда-то пропал — а все педали у него.
— Петро? Так он здесь. (Калачов сорвался с места). Да ты сейчас-то не ходи! Он спит, всё равно толку не будет. (Калачов нехотя вернулся). Давай лучше я тебе кое-что новое покажу, — предложил Лопушан.
Они перешли в залу. В постсоветской планировки башне из слоновой кости была зала. В зале был паркет, музыкальный центр, баян, настоящая гуцульская трембита и пианино «Кама» с нотной тетрадью невероятных размеров на пюпитре.
— Садись осторожно: стул еле живой, — предуведомил композитор, мостясь к клавишам. — Это цикл такой будет из пяти миниатюр — «Улитка и Фудзи» называется.
Он застучал на клавишах что-то игрушечное в четвёртой октаве, потом вдруг ударил по басам отважно, громко, — Калачов скрипнул стулом в смущении, но скоро освоился и даже отметил, что Лопушану восточные мотивы к лицу. Что-то было в его чертах такое... драконье... Вот и движения головы, бровей...
— Женский голос! — вдруг объявил автор, не прерывая игры, и запел:
В этой бухте Вака,
Лишь нахлынет прилив,
Вмиг скрывается отмель,
И тогда в камыши Журавли улетают крича...
Ну может, и не эти слова он пел, может, какие-то совсем другие слова — только Калачова с головы до ног будто варом обдало, он перестал слышать и видеть, он поднялся с места, не в силах долее терпеть промедленье, и пошёл ощупью в гостевые апартаменты — будить Петю Денежкина. «Катя, Катя, Катерина», — стучало сердце.
Комната была залита весёлым солнечным светом. Между двумя пустующими диванами был на пол брошен гамак, поперёк гамака лежали три фигуры.
— Петя, — позвал Калачов, распахивая окно. — Пе-тя.
Одна из фигур разлепила глаз.
— Тебе чего, солдатик?
Калачов укоризненно сел на диван напротив.
— Вот, значит, ты где. А мне сказали, ты на презентацию «высокой моды» укатил.
— Ммм... Да, высокие морды... были. Они ушли. Нету.
— Пётр, нам надо поговорить.
Зашевелилась вторая фигура, пробасила:
— Только в присутствии адвоката!
От таких слов проснулась третья и запищала:
— Ну вот, так и не изнасиловали. Ждала, ждала всю ноченьку девушка, надеялась...
— Дак чё молчала-то, скромница.
Начался утренний похмельный цирк. Калачов взял у композитора денег, пошёл за пивом.
Через час умытый, причёсанный и надушенный Петя Денежкин сидел у телефона, пил пиво и нажимал на педали:
— Кукушкин! Алё, это Кукушкин? А где он? Ах это ты, Кукушкин. А я думал, это я — Кукушкин. Опять, наверное, водку пьянствуешь, Кукушкин? Ну ладно, ладно, только не говори мне, что ты там над квартальным балансом потеешь. Слушай, Саня, почему у нас Калачов до сих пор не в Потсдаме, ты не знаешь? Нет, тут он. Наехал на меня, спящего, как трактор бульдозер... Что, совсем нет что ли?.. Надо найти, Саня, мы же договорились... Ну хоть пару миллионов... А он что?.. А она?.. Дай мне её телефон... Я тебе перезвоню, а ты пока свяжись с Союзом кино — пусть для таможни бумагу приготовят на провоз фильма. Я буду в два, поедем брать Козлова.
Петя Денежкин положил трубку, решительно хлопнул себя по коленкам:
— Всё, больше не пьём. Меньше —тоже, хе-хе... Нет, нет, всё, кремень. Надо кино снимать, хватит хернёй заниматься. — И внезапный поворот: — А ты где раньше был, Калачов, почему раньше не улегурировал?
Немая сцена. Затемнение.
Красные штаны висели в школе ещё с зимы. Зимой Калачов изображал перед детьми Санта-Клауса. Натянул свои красные штаны до подмышек, плечи покрыл пышной белой юбочкой «снежинки» — как воротником жабо, на голову нахлобучил красный колпак Петрушки. После краткого раздумья навесил салфетку — «бороду» и на нос прилепил кружок фольги. По сигналу ведущей поволок огромный мешок с подарками в залу, приветственно выставляя ладонь навстречу скачущей в нетерпении детворе: «Из вис э скул?» — «Ес! Ес!» — отвечали дети. «Ай эм Санта! Хай!» — «Хай! Хай!»
— отвечали дети и двигали ладошками над головой, как настоящие американцы из телевизора, не в силах оторвать глаз от — красных калачовских штанов? — нет, конечно, — от гигантского мешка с подарками. Дети, что они понимают в штанах.
Калачов неслышно вошёл в прохладу школы.
— Здравствуйте, Виктор Николаевич! — обрадованно снялась с места дородная учительница. Калачов послушно остановился. Здесь он — Виктор Николаевич, не забыть. — Виктор Николаевич, у нас у розетки эта штука оторвалась — я так боюсь! Можно там что-то сделать? Ну и жара, с ума сойти можно, это что за год такой.
Калачов посочувствовал. Пообещав исправить розетку и жару (шутка), он отправился на кухню.
Только что начались летние каникулы. Дикие дети только что выкатились прочь, школа опустела и замерла в полуобмороке от счастья: тишина и покой, — боже, опустеть бы вот так же хотя бы разок...
Кухня ещё работала. Повариха Оля, нетрезвая баба с мужским голосом, подала Калачову белый халат на первое, две тефтели и гору лапши на второе, компот в фаянсовой безрукой кружке — на третье. Калачов накинул халат на плечи и сел за железный разделочный стол. Как хорошо, думал он, разделывая алюминиевой вилкой тефтелю, как хорошо. Главное в жизни — не спешить. Жизнь ведь — вот она, она уже идёт, она — сейчас. Не надо её торопить.
Помойка за окном, как всегда, была очаровательна. Жар от плиты стоял — как в самой дорогой сауне. Новенькая поварёшка Зина была загадочна: секс-бомба после взрыва и обратной сборки. Вся будто склеена из осколков. Тридцать лет на вид. Руки и шея в беспорядочных рубцах и шрамах. Кто она? Глаза отводит. Ладно. Я тоже — неизвестно кто. Повариха Оля навалила лапши неспроста — будет просить наточить ножи.
Калачов поел, сдал халат, взял ножи и пошёл к себе в «щитовую».
Бедная каморка с отпугивающей надписью на дверях «ЩИТОВАЯ» служила Калачову базой, опорным пунктом. Там, рядом с электрическим шкафом, у него был оборудован маленький верстачок, который можно было одним движением трансформировать в уютную коечку. Калачов выточил себе ключ от запасного выхода и теперь мог посещать свою «базу» даже ночью — если школу сторожил Костя-студент. В другие сутки тоже мог — но очень, очень тихо, прокрасться и залечь — чтобы не перепугать Костину сменщицу тётю Марусю. Лежать и думать, засыпая под шум вьюги или проливного дождя, о том, какое всё же это хорошее слово «щитовая»: щит, защита...
На ножи ушло десять минут. Обломок штепселя он выдернул из розетки вообще за одну секунду. Затем он взял свои красные штаны. Порылся в ящиках — нашёл комсомольский значок, старый гривенник (сувениры!), всё сложил аккуратно в торбочку и вышел вон.
Как хорошо, что столько дел! Без них ожидание отъезда было бы невыносимо. Вычет из жизни. Ожидание — вычет из жизни. Человек всегда чего-нибудь ждёт — исполнения планов, весны, трамвая, смерти. Минута, когда человек забывает, что он чего-нибудь ждёт, — и есть жизнь — полноценное, яркое, ясное, счастливейшее бытие, не отравленное никакими ожиданиями — пусть даже и чего-нибудь приятного. Как мало таких минут у человека. Да пошло оно всё к чёрту! Пусть ничто никогда не наступит — вот он мой день, хочу наслаждаться им, его суетой ни для чего, ни для каких целей и не для будущих дней — «не движась» и не думая, не думая о Рыбке.
Калачов наслаждался изо всех сил и не думал, не думал о Рыбке...
Милая! Да как же это возможно — не думать о тебе! Ведь стоит замедлить шаг — как сзади накатывает тоска. Она обволакивает тело, она кровушку пьёт. Милая, милая, душа плачет, как ты далеко.
Бред, короче.
Было жарко. Пожарного цвета бронированные киоски, казалось, гудели от зноя. Вяленые продавщицы, наплевав на безопасность, пораскрывали двери киосков и сидели там на коробках, лицами напоминая рыб.
Внезапно у одного из киосков Калачов увидел знакомую фигуру сына. «Боже, до чего худой», — подумал он и позвал:
— Тёма!
Артём обернулся.
— Привет.
— Здравствуй. Что берёшь? — спросил Калачов и с преувеличенным вниманием приник к пыльному стеклу:
— Что тут интересного, так.
— Да мне разменять просто. — Артём показал крупную купюру. — Мама дала.
— Может, тебе купить чего-нибудь?
— Да нет, спасибо, у меня всё есть.
— «Пепси», «Херши»? «Чупа-чупс» хочешь?—шутил отец.
— Не хочу.
— Ну ты чего такой? Ну-ка пойдём пройдёмся, — Калачов потянул парня в тень. — Ты из-за мамы? Из-за меня?
— Что? — удивился Артём.
— Ничего. — Калачов помолчал. — Ну хочешь, поедем вместе?
— Куда? В Германию?
— Н-нет, в Германию у меня приглашение на одного. В Москву. В Москву, а? Я тебя с моими друзьями познакомлю. С девчонками. Твоего возраста.
— Да нет, мне поступать надо.
— Да ерунда, поступишь. Там недобор, там у меня доцент знакомый. Поедем? На пару дней? А? Потом я — дальше, а ты — назад?
Поедем? Будем сидеть за столиком и глядеть в окно. Мимо будут плыть поля, деревни, столбы будут перелистывать пейзаж — правда, похоже? — как будто листают. В детстве я любил стоять у окна в коридоре. Знаешь, купейный вагон, коридор и — никого. Хорошо протянуть руку в приоткрытое окно и держать её крылом в упругом потоке ветра. Хорошо просто глядеть в окно, часами. Я тебе расскажу о своём детстве. Приключения... Много было всякого, разного... Я тебе расскажу о твоём детстве. Помнишь, я фотографировал тебя у фонтана, ты в него упал, но не испугался, а встал в воде столбиком — чтобы я не передумал тебя фотографировать. Ты боялся, что папа передумает снимать такого бестолкового, неуклюжего сына. А я в самом деле передумал — схватил тебя в охапку и помчался сушить. Наверное, надо было сфотографировать, ты так хотел... А помнишь, как мы с тобой катались на санках? С такой огромной горы и хохотали? А как ездили с моими друзьями на шашлыки?
Калачов очнулся и поглядел вокруг: трамвай разворачивался на кольце, он в вагоне был один.
Он вообще был один. И кругом неправ.
3. От печали
Плыли поля, плыли деревни, столбы перелистывали пейзаж. Горячий, остро пахнущий шпалами ветер через окно задувал на верхнюю полку. Там, на верхней полке, лежал в одних плавках Калачов. Придерживая рукой страницы разговорника, он учил чужой язык.
Это новый русский фильм, но о нём сразу заговорил и.//даст ист айн нойер руссишер фильм, абэр эр махтэ фон анфанк ан фон зихь рэйден.
Я бы сказал, что это хороший фильм.//ихь вюр-дэ загэн, эс ист айн гутэр фильм.
Хорошо, оставим это. Как говорится: о вкусах не спорят.///ут, ляссэн вир дас. ви ман зо закт: юбэр дэн гэшмакк лест зихь нихьт штрайтен.
Я сценарист.//ихь бин дрейбухаутор.
Я звукооператор.//ихь бин тонмайстер.
Я писатель.//ихь бин штрих... штифт... шрифтштэл-лер. Шрифтштэллер.
Я электрик.//ихь бин электрикэр.
Я частный предприниматель.//ихь бин приват-ун-тэрноймэр.
Я плохой предприниматель.//ихь бин шлехьт ун-тэрноймэр.
Извините.//энтшульдигэн битте.
Господин полицейский\Цхэрр вахтмайстэр.
Давайте на «тъ\»Ч//воллен вир унс дуцэн?
Я только хотел спросить.. .//ихь волльтэ нур фрагэн...
Ни за что!//ум кайнэн прайс!
Оставь меня в покое!//лясс михь ин руэ!
А вот это уже ни к чему!//дас дурфтэ нихьт коммэн!
Я надеюсь, что не сломал руку .//ихь хоффэ, ихь хабэ кайнэн армбрух.
Я бы хотел заклеить больное место пластырем. //ихь мёхьтэ ауф ди вундэ штэлле айн пфлястэр ауфклейбэн. Пфлястэр. Пфлястэр.
Сердце ноет. Калачов поворачивается на один бок, на другой. Нет покоя.
Знаешь, какая у меня мечта, Рыбка? Умыть тебя утром, своей рукой. Твой лоб. Твои щёки. Твои глаза без грима. Расцеловать тебя мокрую, протестующую. Знаешь, как...
Встречный поезд всё сминает к чёрту. Пфлястэр.
Пять часов пополудни. Время — осёл: чем сильнее погоняешь, тем медленне тащится.
Радио транслирует какую-то совсем уже псовую попсу. Язык вроде русский — но со сломанным супинатором.
Калачов откладывает разговорник, лёжа натягивает свои красные штаны, слезает. Попутчики, пожилая пара, едят курицу, предлагают Калачову присоединиться. Калачов вежливо отказывается. Он обувается и выходит в коридор, бормоча: «Пфлястэр. Пфлястэр». Отыскивает приоткрытое окно, суёт туда ладонь, вертит ею, морщится — кажется, тихо стонет.
У Калачова нервный зуд. Нервное желе. Он бы хотел обклеиться пластырем или подраться с полицейским. У него чесотка изнутри. Он сам себе тесен. Так бы и выпрыгнул и побежал бы по зелени рядом с поездом. Или поднял бы тяжёлую, тяжёлую гирю. За неимением гири и полицейского Калачов нападает на ручку окна, толкает её кверху, опускает книзу, снова кверху — так несколько раз. Останавливается, тяжело и удовлетворённо дышит.
Он не думает о Рыбке уже давно. Что ему Рыбка, он взрослый человек.
И тут, как в насмешку, как диверсия, как шестерка поверх туза, — песенка по радио:
От печали до радости —
Реки и горы...
Калачов обомлел : до чего верно. Нет, ну до чего верно! Ведь вот они — реки и горы...
От печали до радости —
Леса и поля.
И леса, и поля — вот они. Примитив ударил в яблочко. Калачов ослаб и потёк, будто остов вынул из него Антонов: возраст, опыт, правила жизни, посторонние обязательства — всё долой. Осталась глупая, доверчивая душа, в сто сорок первый раз готовая обмануться, устремиться, руша преграды, вслед за бесплотным виденьем.
От печали до радости —
Ехать и ехать.
От печали до радости —
Лететь и лететь.
И не долетать никогда. Цель достигнутая — смерть, душа умрёт на месте. Она исчезнет в сто сорок первый раз, ты же знаешь. Останется остов — опыт, движимый правилами и обязательствами, — пустой скелет.
Ехать бы и ехать... Но как вот ей объяснить?!
Отыгрыш пейзажа: переливы зелёного цвета сквозь слёзы умиления, пестрота солнечных пятен. Ворона, летящая вровень с окном. Там — трактор на склоне, тут — деревенька, баба в исподнем посреди огорода. Собака раскинулась в тенёчке, увесистые шпалы сложены штабелями, ослепительный «жигулёнок» качается на просёлке. Тёмно-зелёная речка в ярко-зелёном опереточном боа, внезапное мелькание ферм моста перед носом. И снова — синь... леса и поля...
И ничего ты ей не объяснишь. Она всегда лучше знает:
От печали до радости —
Одно лишь дыханье.
От печали до радости —
Рукою подать.
Это она гонит вагон вперёд. Это она, душа, гонит вперёд время. Это мы, влюблённые дураки, крутим колёса жизни — остальные люди к нам подсаживаются по пути и соскакивают в нужном им месте, так и не поняв, что к чему, откуда такая мощь у пароходов и как может нестись по небу груда металла с ничего не объясняющим названием — «самолёт». А это все мы, влюблённые дураки, наслушавшись дурацких своих песен, развиваем бешеную тягу — от печали до радости...
Классная, кстати, аллитерация: да-ра-да.
Калачов смотрит на винтик рамы окна и чувствует себя остро живым. Он не шевелится, боясь спугнуть драгоценное чувство: ничего нет, кроме этой минуты и меня в ней. Мы с ней совпадаем полностью. Исчезло прошлое и нет нужды в будущем — всё здесь, уже. Это и есть настоящее время, в обоих смыслах: время сиюминутное и подлинное. Всё остальное — блеф. Деньги-меньги, стра-сти-мордасти, тело, дело, хлеб, кров, секс, призы, аплодисменты — всё блеф и испарения. Но в любом из этих испарений может настать такая минута. А может и не настать — никакой гарантии. Можно накачаться наркотиками и не получить кайфа — вот облом. Придётся увеличивать дозу. Или учиться впадать в блаженство на голом месте
— при виде вот этого винтика, например.
Пока рассуждал, чувство ушло. Плохо быть умным. Зачем я умный.
Калачов нервно смеётся. Ему опять нехорошо — страшновато и голодновато — как первобытному дикарю.
Он возвращается в своё купе, и, когда беспрерывно жующие попутчики предлагают ему пирожки, — не отказывается. Откушав и побеседовав о кулинарии, лезет к себе на полку. Четвёртый пассажир лежит напротив в каком-то странном летаргическом сне. Жив ли? Веер сюжетов.
Пожилая чета попутчиков льёт в чайные стаканы водку, выпивает её молча и ложится спать. Калачов наблюдает их манипуляции с благоговением перед непостижимостью бытия.
4. Москва
В Москве Калачов не был ровно год. Он шёл по улицам, зорко глядя по сторонам: что нового? Ему почему-то не хотелось выглядеть провинциалом, — для маскировки пришлось разориться на баночку лимонада —образ «беспечного москвича» летом 1995 года: майка, просторные шорты «бермуды» и жестяная баночка лимонада в руке.
По части беспечности, кстати, дело обстояло из рук вон плохо. В каждом «бермудисте», вопреки его стараниям, чувствовалась закрученная пружина. Обратиться с вопросом к нему, конечно, можно было — но только в случае самой крайней необходимости и трижды перекрестившись.
Зато в городе стало больше стекла. Это хороший знак. Стеклянные витрины без ставен, окна без решёток, павильончики сверху донизу из тонированного стекла, стеклянные телефонные будки... И никто ничего не рушит. В чём дело?
Калачов стоял возле телефонной будки и не мог сдвинуться с места. Ум его механически развивал «стеклянную» тему, а сам он (без-умный) смотрел на трубку телефона и никак не мог поверить, что — всё уже, приехал.
Осталось поднять трубку и сказать: «Сейчас приду. Ставь чайник на рельсы». Это же тут, рядом, пешком можно дойти. Рукою подать. Боже, отчего такая слабость? Жара. Бессонная ночь. Голод. Хватило бы чего-нибудь одного.
Да и зачем, собственно, спешить? Мудрый побеждает неохотно. Калачов спустился в метро и поехал в Измайлово к старой доброй тёте Ане.
Кинул вещи, уважил тётушку беседой, поехал по делам.
В Союзе кинематографистов на Васильевской нашёл обаятельнейшую Риту Давидовну. Получил от неё официальное письмо на провоз фильма через границу и массу полезнейших советов на эту тему. Пообедал с ней в кафе Союза с большим удовольствием.
В Союзе писателей на Комсомольском напоролся на охранника в тропическом камуфляже. Занервничал и стал похож на террориста. С трудом обошёл охранника и двинулся по коридорам, дивясь, зачем нужен в городе тропический камуфляж? Только затем, очевидно, чтобы обратить на себя внимание. Парадокс камуфляжа. Писательский дом был населён бандито-коммерсантами. Калачов с трудом добрался до генсека Союза И.Ляпина, передал ему «привет от Н.Н.» и поспешил прочь.
В Содружестве писательских союзов на Поварской, где-то в бельэтаже “дома Ростовых”, нашёл всесоюзную няньку Наташу. Пожаловался ей на жизнь, получил членские билеты земляков и, уходя, забыл их там под фикусом. Когда Калачов вернулся забрать билеты, на его месте сидел такой же косматый, как он, только из Сыктывкара, и жаловался на жизнь. Калачов развеселился. “Дом Ростовых” изнутри был украшен гипсом.
О молоке с булкой Калачов начал мечтать ещё на Комсомольском проспекте: молоко, булка, о! По наводке няньки Наташи он отыскал в глубине квартала тихий продуктовый магазинчик с приемлемыми ценами — купил пакет молока и булку. Молоко прохладное, булка мягкая-мягкая и сытная-сытная — родная. И не надо мне ваших хот-догов и биг-маков, — жмурился, жуясь, Калачов, — они удовлетворяют тщеславие и любопытство и лишь в третью очередь — голод. Да. И тощую вашу пиццу уберите с дороги, и все эти бананы, киви, манго — всё это несерьёзно. Молоко с булкой — вот правда о вкусной и здоровой пище. Молоко с булкой — вот проверенное средство от всякого беспокойства. Что бы тебя ни тревожило, друг, — жара, холод, зубная боль в сердце, бледная немочь или, напротив, зверский творческий зуд —попей молочка из пакета, парень, потереби батон — и жизнь твоя станет легка и весела. И беспечна — вот чего и м не узнать никогда, не купить ни за какие баксы — твою минуту беспечности, привилегию нищего. Ты сыт, на твоих губах молоко, во взоре блаженство, чешуя забот облетает с твоего тела и уносится прочь тёплым понятливым ветерком. Ты снова юн, мой друг, ты юн и мудр одновременно — и этого богатства у тебя не отнять, оно всегда с тобой. Заберите всё, дураки, — главное останется при нас.
Солнышко блестело.
Шиповник цвёл и пах. Летали пчёлы.
Сонный московский дворик — всё тот же, что и двадцать, и тридцать лет назад, плюс свежая «ракушка» — автомобильная куколка.
Окна. За окнами — быт.
У ног лежит синяя торбочка, в ней — миллионы. И нисколько не жаль, что деньги чужие и потратить их нельзя. Нисколько не жаль, ей-богу, — Калачов прислушался к себе, проверил — нет, не жаль.
А что нам миллионы.
Калачову нравилось думать, что он умеет сам назначать себе режим существования: режим экономии, средней обывательский режим или режим разнузданного государства. Но вот ближе к вечеру он встретил на улице своего старого приятеля художника Костю Дра-гина и как-то неожиданно для себя оказался в престижном клубе «Мираж» за бокалом превосходного ирландского пива. Это хорошо, сразу сказал себе Калачов, это импровизация.
Но чужие деньги, между прочим, не тронул.
Сидели, болтали с Костей в струях кондиционированного воздуха. Потом встали, пошли в ЦДЛ на презентацию превосходного ирландского Джойса.
Там актриса Ж. читала рассказ Джойса о первой любви. Тотчас следом за ней актёр Б. вынимал из штанов свой пенис и заклинал его (пенис, пенис) именами великих ирландцев.
Калачов с любопытством вертел головой. Публика злобно, но неуверенно возражала. Взял слово мэтр — переводчик Джойса С.С.Хоружий. Он поднял с пола брошенный актёром Б. микрофон и мягко объяснил собравшимся, что такое Джойс и при чём тут пенис. Публика зааплодировала.
Москвичи живут нескучно, подытожил Калачов, покидая с Костей Драгиным Центральный Дом литератора.
Ночью спал плохо. Предстояли сразу два важных события: оформление визы в Германию и встреча с Катюшей. Они предстояли так мощно, что подавляли собой все предыдущие. Так надвигающаяся волна словно подтягивает под себя край берега, и мелкие камешки с шелестом бегут ей навстречу: ццл, союз, наташа, рита, джойс
— разноцветная мелочь перед вздыбленным валом.
5. Костя
Но вот ударил вал — и нет его, вала, где он? А камешки на месте. И всё это так странно...
Уже вечером, растерзанный, без визы, вывалился Калачов из германского посольства и, дрожа всем телом от негодования, кинулся к Драгину — чтобы поведать, а тот чтобы содрогнулся и исторг. Но ничего подобного не произошло.
Едва увидев Костю, Калачов предпочел успокоиться самостоятельно. Почему-то ему вдруг стало ясно, что Костю Драгина своим рассказом о злоключениях в посольстве он не удивит. Да и никого, пожалуй.
Они вышли купить чего-нибудь к чаю.
— «Штройзель», — прочитал Калачов на ценнике. — Что-то немецкое. Хочу «штройзель».
— Или еврейское, — предположил Драгин. — Да, кстати, ты в Германию-то едешь?
— Еду, — отвёл глаза Калачов.
— Визу уже дали?
— Нет ещё. Послезавтра.
— А-а.
— Сегодня целый день там бился, как регбист.
— Ну а ты как хотел.
И всё. И весь разговор.
Однако после него Калачов совершенно успокоился и даже повеселел. А чего? Всё нормально. Одной волной меньше.
Вернулись в мастерскую Пили чай со «штройзелем», перекладывали новые «картинки» Драгина.
— Ты непредсказуем, — вздыхал Калачов, разглядывая работы Драгина. — А я... Я расчётлив, удручающе расчётлив.
— Ты прозаик.
— Сам ты прозаик, — вдруг обиделся Калачов.
Драгин озадаченно поглядел на него:
— Ну извини. — И помолчав: — А ты кто тогда?
Калачов начал злиться:
— Кто, кто. А сам ты кто?
— Я — график!
— А-а.
— Ну?
— Ну я понял: ты — график.
— А ты кто?
— Слушай, график, ты мою книгу оформлял?
— Вот я и говорю: прозаик.
— Нет, ты в неё заглядывал? Про что в ней написано?
— Дак ить...
— Дак —чо? Я не прозой занят, Костя. Проза для меня
— это... отвертка. Инструмент. Один из инструментов.
Пауза.
— Ээ, батенька, — насмешливо протянул Драгин. — С этой хохмой вы у нас в Одессе долго не протянете.
— Ну и не надо.
— Здесь всё должно быть чётко. И без интеллигентских колыханий. Я — график, ты — прозаик. А кто мешает, тому— в бубен. И сам не подставляйся. Но — привыкни к мысли — здесь, как не вертись, а пять раз на дню тебя обязательно поимеют. Это — минимум, без него ты спать не ляжешь. А будешь подставляться — тебя будут трахать непрерывно. Это Москва.
Помолчали.
— Кость, — медленно проговорил Калачов. — А зачем тебе это? Ну — такая Москва? Ты же не извращенец.
— Начина-ается. Это вот эти ковыряния интеллигентские и есть извращение. А здесь —жизнь. Реальная, без выдумок. Я вспомнил, про что твоя книжка. Так вот: всё, что ты там пишешь, — это твой сон. К жизни он не имеет никакого отношения. Сон! Ты спишь!
— Ты как Кашпировский, едрёна мать.
Костя мгновенно остыл. Плюхнулся на кровать, закинул руки. Кровать у Кости была квадратная, важная, гостеприимная. В изголовье —шнурок выключателя. Напротив — музыкальный центр, телик. По стенам: гипсовое ухо, крест из веточек, нунчаки, мишень с дротиками, «картинки», гениальные совершенно кусочки ч е г о - т о. За ухом — фото: Драгин с женой и сыном, все трое голышом — дети цветов. На стеллаже — альбомы, кассеты. Бронзовая ступка. Заячья лапа. Пресс-папье.
— Да я и сам думал уехать отсюда, — неожиданно нарушил молчание Драгин. — Но куда? Назад — скучно.
— Ты в Америку хотел, — напомнил Калачов.
— Да нет никакой Америки. — Драгин рывком поднялся, сел. Покрутил чашку. — Всё это сказки для охламонов. Налить ещё чаю?
6. Рика
Ну и ладно, сон —так сон.
Калачов в своём любимом сне шагал по своей любимой Москве. Лет ему в эту минуту было — где-то от пятнадцати до двадцати. И Москва была — та, прежняя, простая, без буржуазных замашек, взволнованная присутствием где-то совсем рядом некоей Генеральной сверх-личности. Неважно какой. Ею мог быть царь или генсек, ею могло быть чьё-то частное божество с косичками. В Москве хочется любить. Москва — культовый город, она создана для обожания, — и горе, если обожать становится некого. Ад — это невозможность любить. В Москве в ту пору был ад.
Но Калачов опять был хитрее всех: он спешил на свидание со своей Рыбкой. Вся Москва для него в этот день была наполнена её волнующим присутствием, и Москве это мистическое присутствие удивительно шло —она молодела, хорошела, обретала величавость столицы.В руке у пожилого юноши трепетал маленький букет фиалок.
У станции метро с чудесным названием «Новые Черёмушки» ждал автобуса народ. Прямо под ногами у народа, разбросав в разные стороны лапы, морду и хвост, дрыхнул ничейный, свой собственный пёс. Народ вяло посмеивался.
В стороне на низкой чугунной ограде сидела, устало вытянув ноги, девица секретарского вида и презрительно курила.
Калачов, сияя, безо всякой цели примостился рядом с девицей.
— Сегодня среда, — сообщил он ей. — Улетел мой самолёт на Берлин.
Он полюбовался букетом.
— И я решил, что это — судьба! Вы верите в судьбу?
Девица фыркнула и обозначила попытку встать, но,
разморённая жарой, не двинулась с места.
— Иногда приходится верить в судьбу, — развёл руками Калачов. — Одна моя знакомая порвала колготки и не пошла в ресторан. В тот же вечер в том ресторане была перестрелка. Её подруге осколок фужера попал вот сюда.
— Что же, у вашей знакомой одна пара колготов? — язвительно поинтересовалась девица, по-московски удваивая «а»: «у ваашей знаакомой...».
— Да, — беспечно махнул рукой Калачов. — И те взяла на прокат. У мамы. Скандал был...
— Что, и у мамы одна пара?
— Ага.
— Только не говорите, что они достались ей от бабушки.
Калачов расхохотался. Девица погасила окурок об ограду и кинула его в урну.
— Скучно. Съём не удался — можете идти. Букетик можете оставить.
Калачов обалдело протянул ей букет фиалок. Девица взяла и поднялась навстречу автобусу. Калачов заметался в поисках другого букета, но поблизости цветов не продавали, а автобус был именно его, и следующий неизвестно когда — Калачов плюнул и вскочил на подножку вслед за девицей. Ушел сразу же в другой конец салона, чтоб не воображала лишнего.
Катюше он всё-таки накануне позвонил. Договорился на вечер и весь день находился в состоянии беспричинного счастья. Он купался в своём счастье, заплывая в невозможные его синие и розовые дали — но не теряя, между тем, из виду берег, зная: праздник этот кончится сегодня ровно в 18-00, когда Катюша отопрёт ему дверь. Ничего между ними нет, кроме пустяковой открытки. Его любовные фантазии находятся сбоку, повторял он себе, и не имеют к реальной Катюше абсолютно никакого отношения. Ни одним обертоном голоса, ни одним мускулом лица нельзя их выдать. Но это — с 18-ти часов, а пока... Пока что он плескался с Рыбкой в радужных водопадах любви и запоминал впрок, бродяга, как ему было хорошо. Чтобы потом когда-нибудь в лютую стужу, где-нибудь на дыбе, с иголками под ногтями, изрезанному в лапшу, удивить своих палачей мимолётной блаженной улыбкой: я пожил. И слава Богу.
Калачов вышел из автобуса на нужной ему остановке и направился к знакомой «китайской стене». Впереди, среди прочих попутчиков, он заметил знакомую девицу и замедлил шаг, давая ей уйти.
В полном одиночестве прошёл арку.
Вошёл в стеклянное парадное, вызвал лифт.
Поднялся на нужный этаж, надавил клавишу.
Пожалел, что без цветов. Отмахнулся: фигня. Ни одним обертоном, ни единым мускулом, — завёл шарманку, но это было уже лишнее, потому что — дверь отворила незнакомая или полузнакомая женщина. Катюша, та самая, но —чужая. От её приветливой улыбки Калачов ощутил в груди пробоину и услыхал лёгкий затухающий свист опустошения... Всё. Сдулся, как матрац. Ну и хорошо. В следующую минуту он был уже в норме — бодро шутил с хозяйкой, тряс руку какому-то заспанному чуваку с бородой, знакомился с гостями. Внезапно из туалета, как чёрт из табакерки, выскочила всё та же девица с остановки. Калачов зажмурился:
— Так не бывает.
— Вы — маньяк, — улыбнулась девица томно.
Она тоже была уже в норме — свежа и вполне дружелюбна. Звали её Ариной. На столике в глубине Катиной мастерской стояли калачовские фиалки.
Ну вот и славно. Уж здесь-то накормят, это точно.
— Ты получил мою открытку? — спросила Катюша.
— Сядь, посиди со мной, — попросил Калачов.
— Сейчас, только выключу газ.
Ушла. Пришла. Но вот позвонили — опять ушла. Через двери было видно — какой-то негр пришёл проститься, он целовал Катюше руки, обнявшись с бородатым чуваком, пел прощальную людоедскую песню. Ушёл. Пришла. Села. Молода, красива, как богиня.
— У тебя новая стрижка — вот что, — обрадованно заметил Калачов. — А я смотрю — что такое?
— Да, — повертела головой. — Как ты её находишь?
— Отпад. Что ещё нового? — Калачов поискал глазами чувака.
— Ты получили мою открытку? — снова спросила она.
Калачов кивнул. У него внезапно пропал голос.
Катюша промолвила с сожалением:
— Ну и хорошо... Скажи только: тебе идея не понравилась или сама открытка?
— Всё было превосходно, спасибо, — выдавил Калачов.
— Почему же ты не ответил? Все ответили.
— Кто это — все?
— Ну почти все — участники мэйл-проекта. Мы посылали штук сорок открыток по России и штук пятнадцать за границу. Пришли потрясающие ответы! Пойдём я тебе покажу.
— Н-нет, я не могу. Чуть позже, ладно?
— Будем делать выставку!
— Я рад.
Катюша насторожилась:
— Что-то не так?
— Нет, нет, всё великолепно. Просто я... голоден.
— Да? Я сейчас. Потерпи минутку, хорошо? У Игоря сегодня гости, я зажарила антрекоты. Как ты находишь Игоря?
— Пока никак.
— У тебя правда всё хорошо?
— Да, всё великолепно.
Она умчалась к антрекотам, а Калачов встал, сказал себе: «В сорок лет ума нет — и не будет», — пошёл осматривать Катюшину мастерскую.
Побродил вдоль стен, ничего не видя, потрогал какую-то вещицу. Застонал: «Боже, неужели это на всю жизнь?!».
— Как вы сказали? — обернулся к нему любезный молодой человек с эспаньолкой.
— Нет, нет... это я так... медитирую.
— Не буду мешать.
«Первым напьётся», — с неожиданной злобой подумал про любезного Калачов.
Когда позвали за стол, он отправился в ванную мыть руки. Долго купал ладони под краном, с любопытством оглядываясь по сторонам и вдыхая запах мыла. Потом вдруг сбросил с себя одежду и встал под душ.
Вышел к столу блестящий от влаги, гладко причёсанный. Там наливали уже по второй, все галдели, любезный был ещё трезв. Калачов напал на антрекот.
Потом все ушли курить. Катюша налила Калачову суп, он и его метнул. Она ему — добавки, он и добавку. Тогда она налила ему водки и велела:
— Теперь рассказывай.
Калачов медленно повернул голову к окну и произнёс, печально глядя вдаль:
— Мечта. Сокровенная мечта каждого идиота — чтобы его выслушали. Чтобы нашёлся где-то дом, где ему дадут супу, водки и скажут: «Ну, теперь рассказывай». И выслушают, не перебивая, его историю. И — всё. И ничего не надо больше.
Калачов хлопнул водки и воскликнул:
— А что, давай откроем в Москве “Центр выслушивания историй”! На коммерческой основе: хочешь облегчиться — плати! Разбогатеем. Психологический фон в столице улучшится. Под это дело правительство субсидию даст — соглашайся!
Катюша молчала. Калачов повесил голову:
— Извини.
Стали возвращаться гости. «Вам возвращая ваш вам-вам...». Калачов ушёл на балкон. Скоро к нему пришла Катюша — что-то на балконе поправила, села напротив.
— Знаешь, — сказала она, — ты для меня всегда был небожителем, богом.
— Я?!
Калачов оторопел.
—Да. Ты всегда был недоступен, закрыт для смертных.
— Я открыт и изъезжен, как Америка!
— Об этом лучше спроси меня. Ты знаешь как кто? Ты — тибетский лама на скале.
— Я Чебурашка! Я Винни-Пух! Я Крошка Енот—погладь меня! — страдальчески выкрикнул Калачов. — Я Барби...
Катюша смеялась весело и звонко.
Они помолчали.
— Давай я напишу тебе ответ на твою открытку, — предложил Калачов. — Прямо сейчас! Давай! Я оформлю её лучше всех твоих...
— Я знаю. Ты оформишь её лучше всех. Я очень надеялась на твой ответ. Но я не могла его заказывать: немота Рыбки — специфика проекта.
Калачова поцарапала «специфика», но он не возразил, поник послушно:
— Понимаю.
— Да и... нужен почтовый штемпель.
— Ах, штемпель... Нуда, тебе нужен штемпель.
— Такой жанр.
— Ну так я вышлю открытку тебе из Берлина — хочешь? Вот с таким штемпелем!
— Ты летишь в Берлин? —заинтересовалась Катюша.
— Да. Завтра.
— Я ничего не заказываю.
— Я всё понял: немота Рыбки.
Она улыбнулась и ушла к гостям.
Калачов зажмурился и слегка стукнул головой о стену. Стена была колючей. Калачов вздохнул и пошёл в туалет.
Из туалета навстречу ему выпорхнула девица с остановки — кажется, Арина, да, Арина, — уже косая.
— Мущина, когда мы с вами поговорим о судьбе?
— Я ещё не выкурил свою последнюю сигарету.
Туалет не запомнился. Снова комната. В комнате кипит концептуальная дискуссия:
— Тут тебе не там!
— А ты купи слона!
— Тут тебе не там!
— А ты купи слона, чё ты.
— Тут тебе не там! — кричит бывший любезный молодой человек с эспаньолкой на лице, теперь он растрёпан и пьян отменно. — Тут тебе не там!
Слона ему насмешливо рекомендует грузный старикан в майке с портретом леопарда на животе. Он вертит в руках блестящие наручники и обсуждает с бородатым Игорем их дизайн и эргономику.
Игорь — безнадёжный интеллектуал, назад ему хода
нет.
А вот Калачову — есть: и назад, и вперёд, и вбок — Калачов свободен. Он может позволить себе роль клоуна, а этот ваш Игорь — никогда. Жизнь Игоря — труба: только вперёд. Свою неволю он будет называть целеустремлённостью. Катюшу жалко.
Катюша счастлива. Ей кажется, что Калачов присоединился к гостям. Она обманывается. Калачов осушает чарку за чаркой, смеётся, что-то говорит —а сам чувствует себя ламой на скале. Хуже — отцом Фёдором, устремившимся за колбасой и позорно застрявшим.
Прибыл спасатель — лысый хиппи Серж. Ну правда: действительно —хиппи, но волосы вылезли напрочь — такая вот подлянка со стороны обожаемой природы. Драма.
Серж, как положено —обкуренный, сразу направился к Калачову, безошибочно чуя ауру «буддиста» (и именно в кавычках — т.е. облажавшегося).
Калачов тоже издалека оценил нового гостя. Запел форте «Стробэрри Филдс форэва», поднялся навстречу, обнял Сержа, как старого друга: «Ну, как там везер?» — «Файн», — отвечал Серж, даже не пытаясь вспомнить, знакомы ли они. Булькнула водка, потекла неспешная беседа на англо-блатном эсперанто.
Ступенька в сознании, и вот Сержа уже нет нигде, и это неважно.
Люди уходят, люди приходят — работа стоит.
— Что у тебя стоит? — хохочет Арина, да, это — она.
— Что надо.
— А-а, — хохочет ещё пуще. Настроение хорошее.
Они едут в автобусе обнявшись, потому что качает.
Калачова понесло, он чешет ватным языком, не умолкая:
— ...«Вовнутрь открывается» — это хорошо. Сказал Господь Бог и открыл дверь наружу. Нет, у нас в Германии всё не так. У нас — айнунтцванцихь фирунтзипцихь!
— лучше в руке синица, чем под кроватью «утка». Сказал один древний перс. В Персии утки водятся? Смотри — у меня рука к поручню примёрзла! Я вчера был на презентации Джойса, это психиатр известный, он себе обрезание сделал, чтобы смоделировать синдром Ван Гога, не привлекая лишнего внимания. Ну, ты понимаешь. После презентации хожу, мучаюсь в ожидании угощения. Подскакивает какая-то администраторша: «Ну вы едете или нет?!” — мне. Я: «Конечно! Давно пора». Она: «Слава Богу! Хоть один здравомыслящий человек остался», — это она мне говорит. Я сразу подрос на вершок, а она дальше: «Я беру билеты на 22-30. Где все ваши?». Я смотрю на неё вот так. А она: «О Господи, это Голгофа!». Чё к чему? Нет, Аринка, ты можешь мне объяснить? Хватает меня, голодного, суёт в тачку, везёт на Казанский вокзал и сажает в поезд к психитрам. Полный поезд психиатров! Прикинь, какой шизняк они там устроили. Ещё поезд от перрона не отошёл — я уже был сыт, пьян и почти кандидатскую защитил. Как это... Синкопы ассоциативного ряда слаборефлексирующего бомжа в режиме разнузданного гусарства. Овации — еле ушёл. Спрыгнул где-то возле Агрыза. Это какой город?
От Арины Калачов позвонил Катюше.
— Алё. Ты просила — я позвонил.
— Слава Богу. Мы волновались. Ты откуда?
— От Арины. Родионовны.
— Не ходи, пожалуйста, никуда больше. Ладно? Поздно уже. Рика тебя разместит. Пожалуйста.
— Катя.
— Что?
— Ка-тя...
— Что?
— Катюша...
— Я слушаю, слушаю.
— Сегодня был хороший вечер всё равно. Я ехал... долго... — Калачов замолчал. — Не получается. Немота
— ты права. Я лопну, наверное. Сойду с ума.
— Ты напиши лучше. Повесть.
— Ах, да. Ты славная. Ты меня уважаешь?
Калачов положил трубку и снял вторую кроссовку:
он сидел в коридоре полуобутым. Вошёл в комнату.
Рика стелила постель.
У неё была узкая, длинная, бесконечно длинная спина. Широкие плечи и обидно маленькая грудь. Зато поцелуй её был крепок, как ром: Калачов покачнулся и рухнул мимо кровати. Рика кинулась сверху, обрывая с себя тряпьё, Калачов с юношеским проворством снимал брюки без помощи рук.
Четыре секунды покоя — пауза для наслаждения первым вкусом. Первый вкус —самый верный. Первый вкус
— последнее человеческое желание: дальше — инстинкты, животные конвульсии, безумие страсти, захлёб. Тоже, конечно, — но не то. Четыре секунды китайского наслаждения кануном.
Потом были индийские игры. Ацтекские жертвоприношения. Набеги свирепых гуннов. Потом Калачов велел Рике надеть его майку и вяло ускользать, а сам играл с ней, как мазандаранский тигр с полуживой мышкой, — катал лапой по всей квартире и урчал.
Уснули в кухне.
На рассвете Калачов проснулся и обнаружил на себе плед, а рядом с собой — Рику, сидящую по-турецки с банкой тушёнки в руках. Она ела тушёнку с хлебом.
— Где я? — зашевелился Калачов. — Это Потсдам?
— Это психушка, — с набитым ртом ответила Рика и протянула ему банку. — Хочешь?
— Пить хочу.
Попил.
— Есть хочу.
Поел.
— Слушай, — сказал он Рике, — ты вся дрожишь, возьми плед.
— Мне не холодно, — сказала Рика. — Мне страшно.
Калачов задумался.
— Мужа боишься?
— Я ему не нужна.
— А чего боишься?
— Не знаю. Я, наверное, истеричка.
— Ты — птичка. Птичка Рики. Иди сюда.
Раннее, раннее утро. Лето. Город спит и солнце светит впустую. Солнцу нравится светить впустую, оно же — солнце. Ему нравится спящий город, оно бесится на цыпочках между домами — неподвижными белыми гиппопотамами. У одного гиппопотама открыт глаз. Любопытное солнце медленно приближается к нему, заглядывает внутрь
— там кубическое пространство, набитое хламом. На полу среди хлама, закутавшись в клетчатый черно-бурый плед, сидят два озябших первобытных человека. Сблизив косматые головы, они напряжённо смотрят на пустую консервную банку у их ног. Похоже, в банке прячется какой-то смысл, и человечки его выслеживают.
— ...а его и нет. В юности все боялась продешевить. Такая фигура, такие данные — куда бы всё это пристроить, чтоб дивиденды и всё такое. А все врут. У всех помойка, один вид только. Год за годом, год за годом. Думаешь: когда оно всё кончится-то, скорее бы. Фигура уже не та. Последний вот — хороший парень, безотказный: одел, обул, в Италию повёз. Италия... о... А здесь у него казино. Работа по ночам. Хозяин он там или гардеробщик—не добьёшься. Застрелят его. Или взорвут. И меня заодно. В подъезд вхожу, как на Голгофу. В машину не сажусь... в лифт... каждый угол в доме — враг. Гости уйдут—я, как дура, в ящик уставлюсь —и до рассвета. Пылесос гоняю по ночам, стиральную машину... От таблеток мне ещё хуже. И от вина — сначала хорошо, потом — ужас такой, знаешь, без причины. Ушла я от него. Он себе через неделю другую куклу завёл. Молодец. А я опять дура.
— А ещё галлюцинации бывают, — вставил Калачов, — со страху.
— Что?
— Ко мне однажды гость лез по вентиляционному колодцу.
— Серьёзно что ли?
— Я был очень удивлён. Стена — в локоть толщиной, прикинь, в ней вентиляция — ну, в ладонь, не больше. Не может никто лезь! А я вот слышу— лезет, кряхтит кто-то, совсем рядом. Трезвый был. Сперва вооружился, потом прикинул — ну не может этого быть! Посветил туда...
— Опять ты всё врёшь.
— Не веришь. Ну и зря.
Калачов, кряхтя, переменил позу.
— Ты нигде, а я — везде. А по сути разницы между нами — никакой: сидим тут два дурака под одним пледом... Сходи за меня в туалет, а?.. Да нет, я понимаю тебя: я ведь не всегда бродягой был. У меня всё было: дом, работа — что там ещё? — определённость. Я был определён. Сосчитан. Определённый — с чёткими пределами, значит. И всем вокруг это было удобно — моя определённость. А я в ней сомневался: я, вишь ты, книжки читал. Писал, то есть. Не помню, что вперёд. Сучья вошь
— литература, деревянный макинтош. Она мне жизнь спасла. После того, как развалила её.
— Чай поставить?
— Я занялся практикой дзен. Я отверг предметы, полюбив их дао. Слышала такую фугу — про дао? Я полюбил процесс. Я стал манить результат, а не гоняться за ним, вылупив шары, изо дня вдень, как это делаете вы. Я начал жить. Кончились пытки, я начал жить каждую минуту! Это было классно. Я отказался от всякой респектабельности —от определённости вообще. Я бросил городить фасад и взялся чистить свою помойку.
— И что?
— Всё отлично, как видишь. Я отказался от общества
— общество отказалось от меня. Всё превосходно, всё по нулям. Никакой зависимости. Никакого страдания. Никакого, слава Богу, комфорта. Меня больше ничто не заденет, меня нечем зацепить. Нечем! Я даже от имени своего отказался! Имя — якорь, ты-то хоть меня понимаешь?
— Пожалуй, да.
— А для них это — клиника.
— Пожалуй, да.
— Я стал неопределим. Это была моя цель, и я её достиг. Вершина моей свободы — кульминация их ненависти ко мне. Я их понимаю: трудно общаться с неопределённым человеком. Потусоваться с ним — прикольно. А жить каждый день — как? Облако в штанах. Какие у облака, извините, права и обязанности? И потом, неопре-делённость пугает. Облако раздражает вьючных своим кайфом. Понимаешь, я стал делать то же самое — но с удовольствием. Я понёс свой вьюк играя — это злило несчастных: значит, ты можешь больше — но не хочешь. Не хочешь ведь? Не хочу: два вьюка — это уже алчность. Ну и пошёл на фиг! Ну и пошёл. Трудно быть богом, Арин-ка. Чуть приуныл — и ты уже просто бомж. Я бомжую, я бомжую, я постель давлю чужую... Я запретил себе унывать. Я тружусь каждую минуту, я наслаждаюсь каждую минуту, я проживаю четыре жизни враз. Я меняюсь: завтра я буду уже другой. Я думаю о Боге... Всё и все обманут и уйдут, оставив извиваться червем, — и ладно, и хорошо: твой Бог всегда с тобой. Делай для них всё, что можешь, но не отдавай им душу. Ему отдавай.
А потом меня не стало совсем. Понимаешь: я зануда, я всё довожу до конца. И себя в этой игре я довёл до конца. Я кончился — и вот тогда ко мне в вентиляцию полезли друзья. Последний час: вот я поднимаюсь на девятый этаж — пешком: ночь, лифт не работает, темно. Иду, поднимаюсь по какой-то гулкой шахте. Чужой дом, чужие звуки. И с каждым шагом мне всё тяжелее идти — но не от усталости — мне всё больше чужеет здесь. Чу-жеет. Я креплюсь. Надеюсь, что это приступ уныния, всего лишь, это уже было, надо потерпеть, перетерпеть это, — уговариваю я себя, но уже знаю, что это — конец. Чужой дом, мне туда не надо — но больше идти некуда, и я иду. Ползу. На девятом этаже голоса, там компания подростков. Все знают, что такое компания подростков в беспризорном 94-ом году. Я вынимаю из-за пазухи припасённую на этот случай дверную пружину и закладываю её в левый рукав: конец мой будет весел. Я иду прямиком сквозь них. Не помню их... затаившиеся в полумраке зверёныши... и каждый из них — Артём — мой сын и кредитор... Стекляшка дешёвого вина —одна на всех, им мало, они алчут, разозлённые непрухой, тогда как все вокруг хапают и хавают и на тачках носятся... — и тут я им прямо в лапы. Дюжина Артёмов. Я иду сквозь строй, и мне почему-то всё равно. Меня здесь нет, меня уже нет нигде. Возможно, поэтому меня и не тронули. Не знаю, мне было уже не важно. Я отпер чужую дверь чужим ключом, вошёл. Сел на белую табуретку посредине чужой кухни и... умер. Перегорел. Слишком много всего. Я стал как-то неинтересен сам себе, перестал регистрировать мысли — и они встали. Тупость. И больше ничего. Пустая оболочка безразлично сидела на табурете и по какой-то чисто механической причине не падала. Даже скомандовать повешение было некому. Пусто. И вот тут, по известному правилу, ко мне и полез этот. Помощник. Но я не обрадовался — и это был решающий момент. Я мог бы расценить вторжение как помощь — принял бы беса, тот бы занял вакансию и пошел править бал. Он мог тихо сожрать меня изнутри. Мог направить по чужому следу с пружиной в руке. Мог учинить громкую вакханалию с битьём стёкол иномарок — и я бы был застрелен владельцами, как бешеная собака, — о, с каким бы наслаждением они пустили в ход свои цацки. Или повесился бы сам... Но я не обрадовался: бес был мне чужой, видимо, так. Я загляделся на свои кулаки. Они были исправны. Я с удивлением обнаружил, как замечательно исправны мои руки и ноги! Дурню достался превосходный аппарат, а он не сумел им с толком распорядиться — бросил. Хорошо ещё, не прикончил. Это была ревизия нового командующего, новый командующий принимал парад: здоровые, уже многому научившиеся руки; здоровые, столько раз выручавшие ноги; здоровое, безотказное сердце —здорово, орлы! Свиньёй надо быть, чтобы предать такую славную компанию. Я не предам вас никогда, я буду лечить вас, кормить вовремя и заботиться о вашем отдыхе. И мои генеральские проблемы вас не коснутся.
Виват! Виват! Виват!
В ту ночь я спал спокойно и торжественно. Та ночь
стала для меня точкой отсчёта, личным Рождеством Христовым. Я был сир, наг и точно знал, в какой стороне Бог. Вот так мне повезло: я начал вторую жизнь, не потеряв памяти о первой... кажется.
Вот именно. Калачову не мешало бы оглянуться по сторонам. Уже давно не было рядом собеседницы. Не было кухни. Он шёл по асфальту между домов, без конца объясняясь со своею судьбой и уверяя её в своей лояльности. В самый патетический момент его нежно толкнула бампером под зад иномарка. Калачов отскочил, но не обиделся, а с колотящимся сердцем поблагодарил судьбу за дружеский знак, читаемый ясно: полно врать-то, эк тебя растащило, парень. Неопределимый ты наш, — осклабилась иномарка и поехала дальше. Только и делаешь, что определяешься, — нахмурился сам на себя Калачов и пошёл прочь от этого болтуна.
Болтун (сельск.) — неоплодотворённое куриное яйцо. Из такого, сколь ни высиживай, всё одно толку не будет.
Такая вот похмельная синкопа.
Калачов купил в ближайшем киоске банку очищенных томатов в собственном соку. Вышел с нею на безымянную набережную безымянной реки. Нашарил в торбочке нож, аккуратно вскрыл банку. Медленно, с наслаждением катая во рту каждый кусочек томатной плоти, опустошил её. Замер надолго, глядя в воду. Безымянный. Спокойный. Как вода.
В стороне на газоне молодой атлет в белом костюме играл с собакой. Их игры были суровы и одновременно сердечны. Оба рычали, с любовью глядя в глаза друг другу. «А эти москвичи — хорошие ребята, — подумал Калачов вообще. — А что с лимонадом в руке прогуливаются — так ведь жарко».
Полный любви и покоя приблизился он в назначенный час к воротам немецкого консульства — чтобы получить, наконец, свою визу и улететь.
У ворот никого не было. По команде Зигфрида с талончиком в руке он вошёл внутрь.
Сбоку стола, по-домашнему, сидела улыбчивая девица в белой блузке с чёрным галстучком и запросто раздавала паспорта с визами. Люди брали, кланялись, радостно шутили с девицей и улетали счастливые. Прямо за порогом раскидывали руки — крылья, с треском и хлопаньем взмывали в белое от летнего зноя небо и улетали клином на запад.
Калачов волнообразным движением подал паспортистке свой талончик. Та порылась у себя и сказал почти по-русски:
— Вашей визы нэтт. Может быть, в понеделник.
И она прямым коротким движением вернула талончик Калачову. Охранник властно показал рукой на дверь.
Облом.
Облом. В понедельник фестиваль уже кончится.
Облом.
Короче и точнее не скажешь. Какое ёмкое слово — “облом”. Такое ёмкое, что никто не знает его полного смысла — кроме Калачова. Что эти утлые тинейджеры, щеголяющие словцом, понимают в настоящем стопудовом ОБЛОМЕ.
Облом, облооом. Жизнь кончена.
Мыкаться по России, обживать один угол, другой, третий, пятый, двадцатый, терять счёт квартирам, терять начало, терять контакт с населением, из последних сил гордо слыть пришельцем, странником, пророком, мля, украшением страны — которой, сам знаешь, ты не нужен, непонятен потому что, ты — чужак, немец, ехай давай, там твоя родина. Что-что? Там моя родина? Какая приятная нео-жиданость. А вдруг? А вдруг моя родина — там?
Кукиш с маслом, и никаких «вдруг». Нет вообще никакой родины. Драгин прав: всё это выдумки для охламонов.
Калачов, каменея лицом, вышел за ворота не нужного больше учреждения и побрёл прочь.
7. Сон о Потсдаме
И привиделся Калачову сон.
Будто идёт он прочь, убитый, волоча в пыли какую-то тряпку — может, и знамя, может, ещё что — неизвестно и неважно, и стыдно приподнять, чтобы взглянуть. Полный разгром. Лицо каменеет и обваливается кусками, конечности уже не сообщаются между собой и двигаются лишь по инерции. Разбитая армия ещё не распалась и не разбрелась по сёлам, она ещё идёт колонной, но смысл из неё уже вынут.
Что-то надо подписать — акт о капитуляции... Надо позвонить Пете Денежкину: фестиваль крякнул, билеты пропали, денежки плакали. Петя застонет. Ребята промолчат. Может, лучше утопиться?
Или не звонить, послать телеграмму из двух слов: «Облом, возвращаюсь» — а на сэкономленные деньги поесть?
Конечно, а чего. Всё уже. Накатался. Калачов почувствовал странное облегчение. Как будто бы снова умер
— но теперь по-другому: без мучений. Новая репетиция в новой трактовке: просто усоп.
И захотелось ему посмотреть, как там без него. Ну то есть, как там вообще.
Он вернулся к немецкому консульству, постоял тенью у дверей, покуда последний жаждущий визы, спотыкаясь и падая, на четвереньках не прошмыгнул внутрь. Потом спокойно, очень спокойно поднялся на крыльцо и медленно, с достоинством предъявил охраннику свой розовый талончик. Вот так надо, — покойный Калачов безмятежно улыбнулся охраннику. Тот закивал, заулыбался ответно и приглашающе повёл ладонью в сторону паспортистки. Калачов потрепал его по плечу и перешёл к девице. Послушал её пластинку: «Башей визы нэтт. Может быть, в понеделник». Возразил равнодушно: «Моя виза есть. Она там», — и указал подбородком на служебную дверь. Девица задумалась. Калачов молча её рассматривал. Голодные солдаты-калачовцы на дальнем просёлке обернулись и уставились с интересом.
Цокая каблучками, паспортистка удалилась, покопалась там у подножия паспортной горы и очень скоро воротилась с красной книжицей, украшенной радужной наклейкой. Виза! Как она красиво переливается: каждый охотник желает знать!
Какая ель, как ель, какие фыфечки на ней!
Калачов скупо улыбнулся. Его солдаты, побросав кур, мгновено сплотились, грянули оркестры, вздыбились усы
— полки двинули на запад.
ДРАНГ НАХ ВЕСТЕЙ!
Чудный, чудный сон.
Молоденький шереметьевский таможенник в белой рубашке прижимает перстень-печать к калачовской декларации: валюты нет, антиквариата нет, ничего нет.
Молоденький малицанерик в голубой рубашке сладко зевает, а на экране багажного контроля тем временем беспрепятственно проходит калачовский фильм, расфасованный по трём банкам — три мины, обязанные взорвать Европу.
Молоденький пограничник весь в зелёном, как кузнечик, просвечивает наклейку на паспорте ультрафиолетом; не выходя из кабинки, подозрительно оглядывает мирную худобу Калачова через зеркала.
Молоденькая девушка в синем проводит ватагу иностранцев к самолёту; с ними Калачов — плывёт, как рыба.
Пузатый аэробус с двумя огромными бочками турбин по бокам украшен надписью: «Diamond Sakha». Почему «Саха»? Саха —это Якутия, недоумевает Калачов, но не возражает: Саха — так Саха. В Берлин через Якутию
— а что, нормально. Такой сон. Весело смеясь, Калачов взбегает по трапу.
Сахатый джамбо внутри пуст — почему-то. В салоне бизнес-класса, напоминающем своими размерами кинотеатр, вместе с Калачовым пять человек. Калачов решает ничему не удивляться и все «почему-то» вынести раз и навсегда за скобки как общий множитель всего происходящего с ним в его замечательном сне. Сахатый джамбо внутри пуст, ну и хорошо — пять человек расселись по салону где кому вздумалось, юноша и девушка, появившиеся из-за занавески, оба неземной красоты, исполняют для них «танец стюардов». Звучит тихая музыка, на плечах танцоров блики света, на груди галстучки, в руках они держат кислородные маски и изящными жестами обозначают их надевание на лицо. Мягкие улыбки стюардов отвергают эти самые маски и заодно отвергают всякое беспокойство о безопасности полёта. Сладчайшая речь на немецком и на русском попеременно баюкает: «1700 километров... 10 ООО метров... 840 километров в час... Через два часа посадка в аэропорту Тегель...»
«Что будете заказывать?» — наклоняется к Калачову милая фройляйн в форменной блузе, легко подкатывая четырёхэтажную витрину, всю заставленную яствами. Калачов, полуприкрыв глаза, чтобы не испугать девушку их голодным блеском, медленно подаётся к повозке. Он вертит бутылки и любезным голосом заводит разговор об ирландском пиве, непременно тёмном, бочковом, «Гиннесс», в высоком бокале... «Гиннесс» только баночное, огорчается фройляйн, не беда, утешает её, дрожа, Калачов, давайте его сюда и орешков солёных, битте. Он медленно ест, медленно пьёт, но быстро хмелеет и замирает надолго с улыбкой на устах и красочным журналом на коленях... Из воздуха возникает другая стюардесса, ещё краше первой, щипчиками она подаёт Калачову с подно-сика влажную, нагретую салфетку. Калачов отирает салфеткой персты, не спеша налаживает столик, ждёт. Пожилую фрау в соседнем ряду обслуживает стюард. Наушники транслируют одиннадцать музыкальных программ и одну — не то стихи, не то псалмы. Что если снять туфли? Ладно, после обеда. Вот его уже несут. Калачов снимает прозрачную крышечку с блюда, нюхает и — стонет тоненько, в унисон с невидимым микромоторчиком под обшивкой. Нет, он знал, что у них вкусно, ему говорили, он готовился, он намеривался встретить западную еду достойно и не сомневался, слушая охи и ахи российских мещаночек с тонкой такой, грустной усмешкой, что уж его-то этим не проймёшь, уж он-то, да... И вот Калачов плачет — натурально рыдает над блюдом, роняя на пол прозрачные вилочки, роняя злые слёзы на сыр и зелень, ничего больше не видя от стыда и безнадёги собачьей своей жизни... Да это хмель, ерунда, просто он расслабился, это всё пиво на голодный желудок. Калачов встаёт, выходит в туалет умыться. Он вздыхает глубоко несколько раз и, развеселясь, вытирает морду женской гигиенической прокладкой из пластмассвого контейнера.
У них дизайн, конечно, эргономика, у них чемоданы на колёсиках: чуть приподнимут один угол и — катят спокойно до такси. Калачов уже в Тегеле. Вот он, навьюченный минами, стоит в очереди в кабинке паспортного контроля и щиплет себя за ляжку, силясь проснуться. Германия, однако. Если этот сон сейчас же не кончится, надо будет как-то добираться до Потсдама — а как? «Шпрехен зи дойч?» — пограничник любуется калачовой визой. «Найн», —отвечаете достоинством Калачов, и немец громко радуется шутке. Ему весело; Калачов сдержанно улыбается, но стоит на своём: с чиновниками — только на родном языке. Фриц зовёт коллегу, владеющего русским, тот затевает беседу: цель визита и т.п. — Калачов отвечает, привычно набычась. Но тут он замечает в конце зала юную пару странного вида — длинного худого парнягу в очках и богемную девицу, две белых вороны среди сплочённого импозанта. Свои, — умиляется Калачов. Он поднимает руку в приветствии — те обрадованно машут транспарантиком “КАЛАЧОВ”, и всё меняется: «Это за мной», — вальяжно говорит Калачов солдату, дерзко забирает у него свой паспорт и, широко улыбаясь, шагает к скачущей в нетерпении парочке; солдат желает вслед удачи.
«Херр Калатшофф?» — на всякий случай справляется парень. «Яволь!» — отвечает мэтр из России и хлопает парня по плечу, «Гутен таг», — он кланяется девице. Его сажают в «БМВ», его мчат по солнечной аллее и распра-шивают о России, а он рассказывает им о России по-английски — к собственному удивлению, ах да, все удивления — за скобки. «Зе литтл презент, джаст э моумент»,
— Калачов роется в торбочке, вынимает гривенник 1961 года и вручает девице: «Совьет коин — сувенир». Девица светится от счастья, лопочет что-то — Калачов кивает важно. Мимо проносятся залитые светом лужайки, сетки изгородей, особнячки. Их ритм нарастает, уплотняется, вот дома уже вплотную друг к другу, сплошь — «Из вис Потсдам?»—«Та, та, конешно!». Его высаживают, ведут к координаторам фестиваля. Там огромная, стриженная под мужика Ингрид выдаёт Калачову порцию улыбок, а также: каталог фестиваля, программу и конвертик с дойч-мар-ками плюс карту города с указаниями, где эти марки можно с удовольствием потратить. От конверта исходит ощутимое тепло. Банки с фильмом исчезают в направлении кинозала, сумка — в направлении отеля, могучую Ингрид разрывают на части прочие гости фестиваля — бэмц! — Калачов остаётся один.
Он выходит на крыльцо. Он один.
Вечернее солнце. Ступени. Шаг, другой, пятый. Его нога на немецкой мостовой. Как просто. Эти туфли он купил в ЦУМе за восемь тысяч. Хорошо бы присесть, — не успел подумать — глядь: скамейка на одного — чугунное кресло с деревянным сиденьем и удобной спинкой. Калачов садится. Ему тепло. Немного кружится голова. И ещё грустно. Ну вот она, Европа. Привет. Перед ним маленькая площадь. Справа, судя по карте Ингрид, Нико-лаикирхе — вот она. Напротив — Фильммузеум. За спиной — Альт-Ратхаус, а слева, прямо на мостовой, — лёгкие белые столики пол лёгким белым шатром — штрассен-кафе. Там: румяные колбаски, настоящий, без дураков, шницель, разноцветные, фигурно нарезанные, пересыпанные зеленью, пряностями овощи, ветчина и сыр, кофе с раскалённого песка и стакан холодной голубой воды для прихлёба, мороженое, фройляйн в микроюбочке счёт несёт, а вот и Калачов, сытый уже, развалился в белом креслице: а штройзель у вас есть? штройзель хочу. Алекс Типпих, кудрявый, улыбчивый, в очках, интересуется у Калачова, как там российское кино и вообще. Алекс Типпих — ведущий радиопрограммы «Мульти-Культи», в смысле — культурка и её много, Калачов понимающе кивает. Российское кино специфично, солидно произносит он, но не развивает мысль — встаёт, дарит Алексу на прощание календарик с рекламой своего фильма и соседям дарит налево и направо календарики. Приятные лица, но Калачов уходит, ему надо посмотреть всё: а вдруг где-то рядом от него прячут нечто изрядное. Немецкий закат, например, — алая черепица, рыжая мостовая и длинные тени на ней, музыка, немецкие тинейджеры на скейтах взлетают над бетонным кратером и падают обратно, взлетают и падают: там в кратере что-то кипит, должно быть, какое-то буйное варево восторга — кипит и брызжет молодыми телами. У борта столик, там две весёлые девчонки штампуют значки с именами. Как ваше имя? — Дитер Болен, — не задумываясь, отвечает Калачов. Девчонки хохочут — аппарат: склдым — ему на грудь прицепляют бляху «Дитер». Дитер-кондитер. В Альт-Ратхаусе фильм на шведском, в Фильммузеуме — на французском. Титры на английском, наушники — на немецком, — Дитер, ты куда? Вышел, качаясь. Уже темно. А ведь ещё утром был в Москве — ну и денёк, бо-оже. Плюхнулся в дежурный «БМВ»: «Спать —слип, слип». Мухой пролетели по вечерней раззолочённой штрассе, въехали в тёмный сад и вдруг сразу — в ярко освещённый патио гос-тинницы; встали. Тишина. На стекле стильно: «Art-Hotel». Арт-отель, блеск. Но сил уже нет. Шагнул к дверям — те отпрянули, распахнулись широко —облитый светом встал, как пугало, растерзанный гостеприимством бродяга с идиотской брошкой «Дитер» на груди. Шофёр сзади желает доброй ночи. Найн, найн, — пугается Болен, — ком, битте, битте, ком. Шофёр понимает, ведёт больного через вахту, потом наверх, по заглушенным, как в самолёте, коридорам, отпирает дверь его магнитной карточкой, включает свет, вот — кровать. Доброй ночи...
И сразу наступило утро.
И кончился сон. Дикий, несуразный сон, — Калачов улыбнулся ему вдогонку. Теперь всё по порядку.
Прекрасно выспавшийся Калачов открыл глаза и улыбнулся отлетающему суматошному сну. Потом он улыбнулся юному солнцу за окном и синеве. Потом — себе, свободному, всё успевшему вчера, несмотря ни на что, и теперь свободному. Так лежал и улыбался, оглядывая свой гостиничный номер. Безукоризненно ровные белые стены и коряво-коричневая балка для контраста, мебель изысканно-чудаковатой формы — арт-стиль, наверное. Телефон. Телевизор. Бар с холодильником рядом с постелью — так: набитый бутылочками. Постель — широчайший, мягчайший престол под девственно белоснежной простынёю, белоснежный валик с ленточками по бокам вместо подушки и невероятно лёгкое полупрозрачное одеяло: его подбросишь — оно медленно опадает. И снова. И ещё. Поиграв так с одеялом, Калачов с сожалением встал с постели и направился в туалет. Нажал на выключатель и... остолбенел. Нет, дизайном спальни Калачова не удивить, Калачов видал спальни и покруче. А вот чтобы так отделан был клозет... Нет, ну слов нет. И освещение, как в театре. И слив электронный. А это что? Регулятор температуры воздуха — поставим 26? С. Из щелки уголок салфетки торчит, потянешь — следующая салфетка так же уголочком выставится. Тут какая-то хитрость укладки. Калачов недёргал салфеток пол-корзины — так и не разгадал секрета, плюнул. В душевой кабине ручка — полусфера, и плафон — полусфера с ручкой: хочешь — сделай воду мелким дождиком, хочешь — крупным, хочешь — струйки в косички заплети. Ах, как любит Калачов мыться! И где только он не мылся, горделиво думает Калачов, в каких странных домах, в каких фантастических корытах, просто перечислить — книга получится, энциклопедия российской жизни. Что ни ванная
— то норов, что ни душевая — то характер. А если ни ванной, ни душевой, ни даже бойлерной никакой на пути? Тогда фляжку пристроишь на дереве, пробку чуть приот-винтишь — мойся. Можно и без воды: полстакана водки на тряпицу, оботрёшься весь — как новорожденный.
К тому же: чаще моешься — реже стираешь.
Калачов понюхал рубашку. Ничем. Годится.
Он оделся. Повязал на шею щёгольский платок и растрепал шевелюру. Арт-подготовка: русские идут. Прямой и важный, покинул номер. Горничная в коридоре поздоровалась первой: «Гутен морген». Приятно.
И портьерша с улыбкой: «Гутен морген».
Милые девушки. И вообще, немцы симпатяги, но язык у них какой-то гробовой: с утра все о морге.
Никогда их не любили на Руси — немтырями звали.
Ну что, где у них тут столовая? (Так держать — снисходительно, но не развязно).
Светлый зал ресторана. В глубине за столиком двое русских: Винтер и Кавычко. И тут подгребает к ним третий — такой же русский Амбарцумян. И они напиваются, естественно, как черти.
И нет здесь никакой игры слов, всё буквально: двое русских. Издалека видать наших в чужой стране: матовые они потому что, а те — глянцевые. Те — глянцевые, а наши
— матовые, пористые —всё впитывают, впитывают. И пусть один по фамилии — немец, а другой — украинец, всё равно они матовые ребята, и Амбарцумян — такой же. Как тут не напиться?
«Я тоже русский, можно к вам?» — как в разреженном пространстве кричит Калачов, дублируя сообщение жестами. Кругом вата чужого языка, и как сквозь вату: «Привет, привет... Я Винтер, а это — Кавычко из Киева. Олесь, ты же в Киеве сейчас?.. Да... Да... Я вот тоже тут фильм привёз, Пети Денежкина. Калачов — моя фамилия... Знаем, знаем, в каталоге видели... Завтрак —даром... Даром?! А ужин?».
О, даром! Безвозмездно! Калачов пружинистым шагом идёт к «шведскому столу». Там такая выкладка... Калачов набирает на блюдо деликатесов груду, сверху наваливает ещё одну груду, посыпает зеленью, прижимает сверху вазочкой бланманже, один мизинец просовывает с ручку кофейной чашечки, а другим подхватывает банан и идёт к «русскому» столу. Оттуда официант отбегает с горой грязной посуды, там Винтер и Кавычко развалились в креслах, ослабили пояса.
«Киношное дело — халява в законе», — рубает балык Калачов. Винтер и Кавычко согласно кивают, им нравится. «Жаль, что у них нет подносов», — Калачов делает вторую ходку к кормушке, набирает полную миску «тутти-фрутти» или как у них это называется — разноцветные кубики тропических фруктов в собственном соку, сгребает ещё что-то там в ярких пакетиках...
На улицу киношники выходят, как три жирные утки.
Солнце. По газону бродит юноша в клетчатом фартуке, клетчатой кепочке и с острой палкой в руках — ищет мусор. Увидит бумажку — наколет её на палку. Если нет бумажки — листик какой-нибудь опавший наколет.
Зато граффити, аэрозольная живопись, — везде, на всех заборах и столбах, сплошь и с большим изыском: знаки, буквы, буквы, символы. Красочная, но ведь чушь наверняка. Хорошо, когда не знаешь языка и живёшь не здесь,
— поглядел, порадовался пляске цвета и уехал нетронутый. А местным каково?
Бранденбургер-штрассе, уютный бульвар. Цветные домики — игрушки, кафе и магазинчики в ряд, кадки с зелёным вереском на тротуаре, люди гуляют, люди газеты читают в креслицах прямо посреди дороги, мимо едут на великах подростки, увешанные тряпьём (такая мода): сорок одёжек и все без застёжек — за плечами рюкзачок.
Нега разлита в воздухе, воля. Калачов громко и с удовольствием хохочет: «А я-то думаю, что за цирк? А это у него вместо намордника!». Он стоит перед жирным бульдогом, привязанным у велостоянки, у бульдога ведро на голове — прозрачное пластмассовое ведро без дна пристёгнуто к ошейнику — это воротник безопасности, вместо намордника, такой фасон. «А я решил уже, что с ума схожу, — веселится Калачов, — из ведра собака выглядывает!».
Это они уже выпили пива? Или ещё нет?
Каштаны, платаны, грабы, буки, веди — парк Сансуси, чудные аллеи меж дивных дерев, — это было когда? Это было уже с Анечкой.
Весёленький немецкий «Архи-кич». Итальянская мура про Геную. Французское кино из жизни педиков. Фильм русского Винтера. Фильм украинца Кавычко. А вот — фильм Пети Денежкина в соавторстве с Калачовым. И что? Темнота зала, бледные отсветы на лицах зрителей, ровное дыхание — немцы смотрят нашу жизнь. Калачов ревниво вслушивается, косит глаз. Нет, мимо. Наша жизнь проносится мимо них, не замутив их безмятежности ни в малой мере. Пару раз почудилось оживление, пару раз поднимались с мест и уходили — тоже реакция, но в общем — мимо. Ноль. Калачов подавлен. Мы им неинтересны, если копнуть. И весь этот фестиваль — большая ложь, если честно. Красивая сказка про то, как должны жить люди: ездить друг к другу в гости, обмениваться энергией, чтобы, значит, вместе двигать культуру и т.д. Чепуха. Благополучие — их цель, зачем им вникать в чужие проблемы? Нет, ну вот так, попросту: если моя цель —благополучие, зачем мне ваши другие цели? Мне интересно кино про разные пути к моей цели. Мне волнительны помехи на путях к ней. Мне болезненны утраты её, т.е. его — благополучия. Тогда отчего они так свистят рекламе «МММ»? Вот наша дама привезла на фестиваль подборку рекламных роликов приснопамятной конторы с глухонемым названием из трёх букв. Привезла с научной, понятно, целью — поговорить об эстетике жлобства и феномене её успеха на путях к вожделенному благополучию. А в ответ — дружный свист. Немцы не выдержали дебильного рефрена. Ну ещё бы — каждые 30 секунд: «АО МММ!» — десять раз подряд: «АО МММ!». Немцы не выдержали. Что русскому здорово, то немцу — смерть.
Может, я и в самом деле — немец?
Ничего я не понимаю в кинематографе, Матиас.
— Энд ми — ту, — вздыхает Матиас.
— И я, — вздыхает Юра Винтер.
— И я, — ржёт Олесь Кавычко.
И все ржут и чокаются стопками. А чего там пони-мать-то: кич, он и в Африке — кич. Олесь, переведи немцу.
— Он понял, — сдавленно сипит Кавычко, занюхивая свою горилку печеньем. Это было уже без Анечки, она уехала домой на трамвае.
8. Анечка
Ане Линке, координатор фестиваля, в свои двадцать лет кроме родного немецкого, владела английским, русским и шведским. И вот, где-то на второй день, в кафе, Калачову вздумалось заказать к пиву солёных орешков. Он подозвал официантку и принялся ей объяснять. Как будет «соль», он вспомнил на двух языках, а «орехи» — ни на одном не может вспомнить, ну хоть тресни, вот мука. И у Олеся заколодило. И никто вокруг не поможет, хотя Калачов так подробно и доходчиво объяснил им, дуракам, жестами уже три раза — как земляные орешки растут, как их выкапывают, как чистят и жарят с солью, как едят с пивом! Калачов собрал вокруг себя толпу восхищённых зрителей, но солёных орешков так и не получил. Они все сговорились, он потом понял, — чтобы он психанул, чтобы пошёл искать переводчицу, нашёл Анечку и влюбился в неё.
— Даст ист Бабилон! — трагически воздел руки к небу Калачов и уронил их обессиленно и поник головой под апло-дистменты собравшихся. Потом решительно поднялся и вышел.
Он скорым шагом пересёк площадь и вошёл в Альт-Ратхаус с единственной целью — узнать у мамаши Ингрид, как по-немецки «солёные орешки», и вернуться триумфатором. И объявить там, в кафе, свой заказ во всеуслышанье как победу над немотой. Это будет смешно: все уже забыли, танцуют, а он опять за своё, вторая серия. И это будет серъёзно.
Ингрид не было. На её месте хлопотала юная особа
— полная противоположность рослой мадам с измождённым тусовками лицом. Калачов замедлил шаг. Беленькая, голубоглазая, никаких следов горестного опыта ни в чём. Остановился. Ни в личике, ни в интонации, ни в жесте — стоит, говорит по телефону безо всякого жеманства. И не будет у неё горестного опыта, вдруг понимает Калачов, ей не надо, она свободна. Ей не надо плутовать, кокетничать, не надо утверждаться. Какое изумительно здоровое, природное существо! Какой грубый, глупый, нетрезвый я!
— Чем могу быть полезна? — она говорит по-русски.
— Эээ... Я тоже матовый, да?
— Простите?
— Как вы узнали, что я русский?
— Я видела вас днём...
— Да?!
— И вы говорили по-русски.
— Неужели... Где были мои глаза.
— Здесь была Ингрид.
— Бог с ней. Как вас зовут?
Её зовут Ане Линке, она изучает русскую литературу в Берлинском университете. Боже мой, русскую литературу! У неё взгляд непуганного эльфа, и она что-то хочет понять в русской литературе! Да это невозможно — без меня! Да, да, всё решено. Я проведу её жуткими закоулками, застенками и казематами русской души, в которых не утихают стоны, я подарю ей бесценный горестный опыт — ключ. Ключ: если не к литературе — то к жизни, если не к жизни — то к литературе, к чему-нибудь одному тот ключ обязательно подойдёт. Боже мой... литература... деревянный макинтош...
— Что с вами?
Кончается дежурство. Юная Ане спускается по древним ступеням Альт-Ратхауса и с непреклонной улыбкой следует мимо развесёлого балагана кафе, куда её тщетно манит златоустый демон Калачова. Нет, нет, мне пора.
Ну и правильно, радуется Калачов и отсылает демона на конюшню, а сам целомудренно провожает девушку домой. Они бредут ночным Потсдамом, они говорят о высоком искусстве, и бабочки немого восторга щекочут сердце своими лёгкими крыльями. Калачов мужественно переносит счастье. Он отмечает каждый свой шаг, запоминает как можно надолыие все звуки, цвета, запахи, зная подлинно, что это и есть — счастье, что вот сейчас он счастлив вполне, зная по опыту, что всё дальнейшее будет хуже и кончится вообще кислятиной, как кончаются все праздники, а сейчас — канун, взлёт и парение в потоках пред-чувствий. Они мощны и великолепны, пред-чув-ствия, котёл фантазии бурлит, клокочет, клубятся образы, теснятся под тёмными сводами тысячелетней пещеры — седой колдун лежит в кайфе, неподвижен его тусклый зрачок... Калачов держится молодцом, ничего снаружи не заметно, только дрожит он всем телом сильно — но они идут не под руку, девушке незаметно.
Ане весела, нет и следа усталости от работы: молодость.
Нет напряжения, опаски, поворот головы грациозен, глаза просторны — нет заслонов, стенок — у Калачова кружится голова: посмотри, это глаза влюблённой женщины! — шепчет ему демон. Вернулся с конюшни выпоротый и опять за своё: она ещё вчера тебя заметила, ты ведь такой яркий, выпуклый, русский — к тому же —литератор, языковая практика, опять же, русская литература, загадочный менталитет... От обилия козырей на руках Калачов шалеет, а тут бар, от неожиданности Ане соглашется, и они входят, точнее — оказываются внутри: здесь тротуары втекают в бары без ступеньки, без порожка — сам собой оказываешься внутри, как во сне. Как во сне, без размышлений Калачов заказывает себе и Ане водки и нахально обучает фройляйн, как пить «на брудершафт» — есть такой добрый русский обычай... Ане от изумления пьёт до дна, целуется с Калачовым и в следующее мгновение становится Анечкой...
Ну невозможное это имя — Ане! Кто? — Ане. Кого? — Ане. Кому? — снова Ане. Как неваляшка. То ли дело — Анечка. Склоняется по всем падежам, как миленькая. Ты ведь знаешь, что такое падеж, Анюта?
Демон ликует. Демон склоняет Анюту к падежу. Гадок бывает великий и могучий, но откуда Ане Линке-то это знать?! А демон пользуется, морочит ребёнка.
Будь Калачову двадцать лет, он пошёл бы дальше. А так —только до Брандербургских ворот. Там посадил девушку на трамвай, а сам остался со своим демоном один на один. Демон в ярости едва не придушил Калачова: упустить такой случай!!!
На Брандербургских воротах натянут огромный экран. Напротив, в грузовом «мерседесе», полыхает передвижная киноустановка. Между —толпа панков, хиппи на великах, пожилые фрау с мопсами на поводке — все глядят в одну сторону. Это ночной показ шедевров. Посередине торчит несчастный Калачов, съеденный бесом, он смотрит на грека Зорбу, а видит немку Ане Линке. Её губы... волосы... цветное колечко на пальчике...
Пустая ночь, в пустом тоскливом «Арт-отеле».
Воспалённое утро, пустой завтрак в препустейшей компании двух гениальных режиссёров. Вчера один из них проиграл другому двадцать «кукареков» и теперь по каманде «Должок-с!» в самое неподходящее время орёт с наслаждением: «Кукареку!». Вчерашние огненные испанцы сегодня без гитар, сидят смирно и никого из вчерашних друзей не узнают.
Калачов берёт корыто с полюбившимся фруктовым компотом “тутти-фрутти”, выходит на террасу. Садится на солнышке в плетёное креслице, ноги — на другое, замирает, глядя на залив.
Ему является Ане, неслышно садится рядом. Сидит рядом молча. Рядом. Молча. Яхта в речном заливе отчаливает от пирса, полощут её паруса, ловя ветер. Вода называется — Хафель. Земля называется — Бранденбург.
9. Дом без забот
Ну наконец-то! Калачов смеётся над путеводителем, довольный: нашёл! Вот он — Дом Без Забот, не зря ехал в такую даль.
Сансуси (в переводе означает «Дом без забот») —так назвал прусский король Фридрих II (17401786) свой загородный дворец. Сегодня под этим названием подразумевают парк площадью ок. 290 га с дворцами и другими зданиями, построенными в период с 1744 по 1860 г.г. Парк относится к самым замечательным произведениям немецкого садово-паркового искусства. Его главная аллея протянулась на 2 км и ведёт к Новому дворцу в конце парка. Расширяясь, аллея образует на своём протяжении круглые площадки, которые украшены статуями. На самой большой из них стоит Большой фонтан. Отсюда широкие лестницы ведут через искусственно сооружённые уступы вверх ко Дворцу Сансуси. Это одноэтажное здание в стиле рококо с богато украшенным фасадом и эффектной колоннадой построено в 1753 г. по проекту архитектора Георга Венцеслауса Кнобельсдорфа (16991753). Внутренне помещения отличаются роскошным убранством. Комната Вольтера напоминает о пребывании великого французского поэта и философа при прусском дворе 1750-1753 г.г.
Картинная галерея... собрание картин преимущественно 17 в.: Рубенс, Ван-Дейк, Тинторетто, Караваджо и др. В нескольких шагах отсюда — Г рот Нептуна... Одна из самых старых построек парка — Китайский чайный домик... собрание китайского фарфора. Театральный зал Нового дворца — один из красивейших залов того времени... коллекция старинных музыкальных инструментов. Исторический ресторан «Драхенхаус» — «Дом дракона». Дворец Шарлоттенхоф... рабочий кабинет и спальня Александра фон Гумбольдта. Замок Це-цилиенхоф... Сталин, Рузвельт, Черчилль.
Ане ждёт его у южных ворот парка Сансуси.
Что ни слово — то музыка: «Ане ждёт его у южных ворот парка Сансуси». Сидел в своём пыльном Ново-гаютинске, штопал носок, варил суп из пакета на чёрной жирной плите и вдруг: «Ане ждёт его у южных ворот парка Сансуси». Это где? Это в Потсдаме, недалеко от Берлина, рукой подать. Да ну, на что мне это «Сансуси». Ну съезди, неудобно же — девушка ждёт.
Милый, славный городок —тихий, солнечный, зелёный. Фрау, идущая навстречу, искренне огорчилась, что не знает, где южные ворота парка. Водитель фургончика в комбинизоне перетаскивал коробки — его Калачов отвлечь не решился. Пошёл по наитию и — нашёл. Картина: низкая, в рост человека, чугунная решётка парка, распахнутые настежь ворота в беззаботные кущи и
— никого, ни одного человека ни там, ни здесь, лишь одна девичья фигурка застыла у входа, бесконечно трогательная в своей неспособности к актёрству, к тактике выжидания и подачи себя. Это Ане, она просто ждёт Калачова, и всё.
Гигантский парк, потрясающие ландшафты. Зелёные лужайки, ручьи, мостики, утки. Кроны кустарников глянцево-зелёного, бурого, белого цвета смыкаются, как шарики разноцветного мороженого. Беседки, аркады, увитые цветущим виноградом. Дворцы... «Дворец великого герцога...»
— старательно выговаривает слова Ане. Она сегодня отчего-то смущена, зажата, нет вчерашней восхитительной лёгкости, свободы. Как пуглива свобода, сэр, блудливо усмехается демон, нуда её и не было никогда. Её вообще нет на свете, вашей свободы. Есть оранжерейное воспитание, вот и всё.
— Где конюшня? — хмурится Калачов. — Забыл?
Демон ретируется. Калачов мягко останавливает Ане:
— Ты хорошо рассказываешь, и речь у тебя правильная.
— Правда?
— Правильнее, чем у меня.
— Это плохо?
— Для гида — хорошо. Только я не турист, Ане, вот в чём дело. Я быстро забываю информацию, даже самую удивительную — забываю.
— Туристы тоже забывают, — смеётся Ане.
— Но я всю жизнь буду помнить другое... кору вот этого дерева, например.
Калачов кладёт ладонь на ствол исполинского вяза: его кора на вид — мрачные фьорды, как если бы глядеть на них с высоты. Правда, похоже? А на ощупь — тёплая небритая щека великана.
— Я экстрасенс, — улыбается Калачов. — Мне не нужны внешние данные, если что — я найду их в справочнике. Я ценю внутренние достоинства... ээ... предмета. — С этими словами он, естественно, берёт руку девушки и медленно подносит её к своим губам. Жест этот неизбежен сюжетно, и совершает его не Калачов, и даже не демон, а некий персонаж, и слабые попытки девушки освободиться — тоже сюжетны и не принимаются во внимание.
— Посмотри, какой грот, — шепчет девушке персонаж, и у Калачова отчего-то начинает болеть сердце, — какое романтическое место, сколько вздохов, безумных признаний (в кадре —натиск персонажа, полуобморок девушки), интриги, дуэли, шёлковый платок... с буквами... (и долгий страстный поцелуй в диафрагму).
Калачов приоткрывает глаза. Он обнаруживает себя стоящим посреди старинного немецкого парка вблизи нагретой солнцем каменной кладки грота. Кладка грубая, вкривь и вкось, местами разрушенная. Сверху, из-под шапки зелени, свешивает бледные пряди юная повилика, а навстречу ей карабкается старый облезлый плющ. Калачов улыбается ему как брату. Он любуется им. Сухие, отмершие плети на старом камне удивительно знакомы. Рубенс, Ван Дейк, Тинторетто... библейские драмы... Сухие ветви так значительны, так живописны, так талантливо мертвы — как дай Бог каждому из нас в своё время, думает Калачов и зачем-то радуется неожиданной мысли.
В следующее мгновение философ обнаруживает в своих объятиях прекрасную Гретхен. Она вся отдалась поцелую. Слушает, должно быть, пенье стихий в себе самой, Фауст как таковой ей не особенно нужен. Очнулась,
распахнула очи: где это я?
Он ласково обводит пальцем её лицо.
— Ты в раю.
— Я умерла?
— Нет, умер я. У! — пугает он.
Смеются.
Взявшись за руки, они поднимаются по ступеням к ветряной мельнице, похожей на огромную курицу Рябу. Целуются там. Калачов перестаёт соображать.
Ане щебечет что-то про рок-музыку, про то, как она пятого была на Темподроме, слушала Катрину и Волны — так она сказала: «Катрина и Волны» — ирландский фолк, фьюжн и ещё какой-то “мерсей-бит”. Калачов обожает «мерсей-бит», обожает неизвестную Катрину и все её волны до последней. Калачов обожает сестрёнку Ане Бобо и её маму Кристину, а также её швейную машинку и журналы мод. Ане, оказывается, сама шьёт — ну разве она не чудо!
Они ещё куда-то идут, что-то смотрят. Они опаздывают на дежурство в Альт-Ратхаус, получают взбучку от Ингрид и расстаются до завтра. Почему до завтра — до вечера! — Я полная, — сияет Ане, — я больше не могу. Он понял, он соглашается, целует ей мизинец и выходит. До завтра.
Сидит в темноте кинозала, смотрит с ненавистью на экран: там полная чушь, — встаёт, идёт прочь.
Находит в баре Винтера и Кавычко. Кидается к ним с безумными лобзаниями: у него любовный жар. А те, конечно, в пять секунд остужают пафос Ромео. На то они и режиссёры, затихает Ромео, чтобы остужать, вправлять и подтягивать, чтоб никакого «папосу» в обозримом пространстве нашего гиблого «фердипюкса». Се моветон. Йя, йя, натюрлихь.
Стаканчик доброго ямайского рому и наблюдение за приготовлением немецко-турецкого пирога «доннер-ке-бап». Это уже на улице. Три русских чувака, вытянув ноги, полулежат в плетёных креслицах, а на авансцене молодой турок безо всякого «папосу» квадратным ножом рубит ломтями красное мясо. Он нанизывает много-много ломтей на сверкающий меч и вставляет увесистую стопу вертикально в электропечь. Там стопа на мече вертикально вращается малой скоростью, а Кемаль сбоку плещет на неё разными коктейлями. Берёт из-под белой салфетки три румяных лаваша, мягких, как перина в «Арт-отеле», и рассекает их один за другим вдоль круглым ножом. Затем бросает круглый нож на салфетку и кривым беспощадным ятаганом состругивает готовое мясо с непрерывно вращающейся стопы. Набивает лаваш, как карман, струганым мясом, резаными томатами, луком, зеленью, заливает внутрь кому белый, кому красный соус и суёт его под горячий пресс. Через десять секунд выхватывает оттуда отформованное объеденье, подаёт его в кружевном пакетике и кланяется в пояс. 4 марки 55 пфеннигов — и голода можно не бояться 6 часов: «доннер-кебап». Тёмное «Пот-сдаммер бир» — ещё 4 марки. На лужайке наискосок резвятся панки с мочальными хвостами вдоль спины, как у кирасир.
Почему — как у кирасир? — недоумевает Калачов, но не находит ответа и отменяет все вопросы. Остаток дня решает провести в буддийском безмолвии — чтоб никаких компаний, никакого «папоса» — одно только Дао.
10. Сон о Берлине
Дао Калачова проходило через мост и упиралось в железнодорожную станцию «Потсдам».
И вот попадает он как будто на станцию и хочет ехать в Берлин электричкой, как это делает каждый день Ане, когда у неё нет каникул. А как купить билет? Айн момент. Открывает Калачов свою волшебную торбочку и вынимает оттуда разговорник, выписывает что надо, монтирует на бумажке и подходит к кассе. У кассы очередь, человек пять. Знакомое дело! — веселится Калачов, но люди друг за дружкой исчезают, и он остаётся один перед широким окном. За окном кассирша в белой блузке, Калачов говорит ей колдовское слово: «Битэ»
— и она замирает. Калачов поднимает бумажку повыше, откашливается, откидывает голову — кассирша начинает часто-часто моргать — и выразительно читает абракадабру: «Битэ айнмаль Берлин, Эс-драй цук, хин унт цу-рюкк». Кассирша бросается сразу во все стороны, нажимает клавиши обалдевших автоматов — выдаёт Калачову красивый билетик.
3,70 марки, а если каждый день, то дешевле.
Тут же подкатывает прямо к кассе электропоезд, всасывает Калачова внутрь, а заодно с ним всасывает полдюжины велосипедистов прямо на велосипедах: платформа вровень с салоном и опять никакого порожка. Двери закрываются, мимо окон униформисты катят пейзаж.
Особняки, ограды, эстакады знаментых на весь мир автодорог — всё как на картинке, только покрыто разноцветным лишайником граффити, сплошь. Хотя нет, не сплошь — разрисована одна лишь муниципальная собственность, к частной лишайник не пристаёт. Разрисованы автобусы, столбы, бордюры тротуаров; рисунки большие, маленькие, подряд и друг на друге и вдруг — щёлк — пошли чистенькие заборы частных вилл, такие гладенькие — так бы и прыснул аэрозолем, но нет — некоторые так и облупились чистыми.
За сеткой одной из вилл зеленеет поле для гольфа, за сеткой другой — игрушечная железная дорога с мостиками, тоннелями, малюсенькими деревьями, игрушечной автостоянкой, станцией и посёлком в дюжину ладненьких домиков под черепичными крышами, с цветами под окнами, в окнах загорается свет, струится уют, и мы, кукольные, сидим с Анютой, пьём чай...
Станция Цоо, Берлин. Калачов покидает вагон и окунается в неожиданно чуждую стихию. Сравнить эту стихию ему не с чем: в Потсдаме — мило, в Москве — больно, здесь в Берлине — никак. Здесь тебя нет, не было и не будет никогда. Калачова это устраивает. Незримой тенью сквозит он в пёстрой толпе вдоль нарядных улиц, любуется, дивится, силится постичь чужую поэзию чужого бытия. «Бите, во хэльт хир дэр аутобус нуммеэр хундэрт?»
— декламирует он по бумажке седому господину в очках. Тот улыбается, трясёт головой, лопочет что-то по-бельгийски. А может, по-голландски. Калачов холодеет: неужели в Бельгию попал? И как ему из этой Голландии выбираться? Мысль взять и проснуться не приходит ему в голову. Он повторяет своё заклинание снова и снова, в результате Берлин возвращается. К нему подкатывает огромный двухэтажный автобус № 100. Калачову нравится номер, нравятся низкие, над самым асфальтом, ступени. Вот он входит, протягивает щекастому водителю в белой сорочке при галстуке дойч-марки. Тот выдаёт ему ещё один красивый билетик с отметкой времени и места посадки, кладёт здоровенные руки на руль и трогает с места, продолжая прерванную беседу с двумя весёлыми девушками на первом диване. А Калачов стремится наверх, во второй ярус. Там пассажиров нет, и крыши — тоже! Второй ярус полон восторга и солнца, и Калачов едет, едет по Берлину один! Нет, он летит! Он поёт что-то про «наших казаков» на всю кипящую Кайзер-штрассе, и пушистые беленькие старушки во встречном омнибусе машут ему ладошками. Они его понимают, у них тоже нет крыши, уехала; транспорт со старушками похож на корзину одуванчиков.
Триумфальная арка. Под ней проводит свои войска Калачов. Войска проходят торжественным маршем, пыжа груди. Но что это? Миновав Арку — кульминацию триумфа — они попадают в волчью яму необъяснимости и кувырком падают вниз. На той стороне Арки исчезает привычный здравый смысл и возникает обратный — такой парадокс — ещё более здравый. На той стороне — ново-гаютинский рынок, только торгуют там не бакалеей, а амуницией армий всего мира, а заодно — наградами и деньгами всех времён и народов. На той стороне площадь Абсурда, шутки ради называемая Паризер-плац: знаки доблести и славы, предметы гордости, символы власти кучами лежат на брезентовых прилавках и плачут по родному Триумфу и хохочут: купи любой! поменяй на что хочешь! в любом количестве! почти даром! Полкило Золотых Звёзд Героя — на поленницу из Маршальских жезлов! Каски вермахта вкупе с советскими бескозырками
— на тонну поддельных кусочков великой берлинской стены! Блестящий генеральский мундир, снящийся воякам, висит на плечах обкуренной шлюхи: забирай обоих, что в придачу к чему — решай сам. Антитриумф. Триумфальная арка наизнанку. Рядом — рейхстаг без купола, ущипните меня. По обезглавленному параллелепипеду ползают человечки, заматывают его широченными лентами, бинтуют, называется
— арт-проект какого-то польского американца. Вокруг по газонам ходят немцы (по газонам — немцы!), ходят семьями и глазеют на человечков, жуя кукурузу и гогоча. Очаровательная француженка в красной шапочке Шарля Перро крутит ручку шарманки и поёт, притоптывая, пристукивая деревянными башмаками. Болгарская нестинарка под волынку пляшет босиком по битому стеклу. Джаз-бэнд из шести рыжих пыльных фраков уже отыграл и собирает манатки, ма-тюкаясь по-русски. «Привет, матовые», — говорит им Калачов. «О, земляк, дай закурить. Давно из России?» — «Сто лет».
11. Музей кино
Калачов заплакал и проснулся. Солнце стояло высоко, ромб света на стене лежал низко. «Арт-отель», 10-46 местного, потсдамского времени. Калачов решительно сдул с себя невесомое одеяло, прошёл в ванную. Выдавил на зубную щётку восклицательный знак. Брился особенно тщетельно. Ну, душ — как всегда.
Завтракал скромно. Трёх дней изобилия вполне хватило, чтобы насытиться. Взял кофе, сэндвичи и чашку фруктового компота на сладкое. Вышел на солнышко, присоединился к Олесю Кавычко; Винтера не было. Олесь завтракал с подружкой, оба обрадовались появлению нового лица, задвигались, заговорили — надоели уже друг другу за ночь. Подружка была из Будапешта, капризная, глаза маслинами. Калачова с неё мутило. Перед глазами стояла Ане, моя Ане, где ты, — без вопроса повторялась мантра на одной тоскливой ноте. Вслух он лениво шутил и имел ненужный успех, от этого шутил ещё ленивее и ещё успешнее. Олесь подбрасывал реплики и урчал. Подружка хохотала как безумная. За минуту до скуки они профессионально закруглились и встали.
Иллюзион. В кадре мастера: Лелюш, Эйзенштейн, Коппола, Феллини, Чаплин с тросточкой, Калачов с девушкой. Все неподвижны.
ДЕВУШКА. Ты веришь в сон?
КАЛАЧОВ. Не знаю.
ДЕВУШКА. Сегодня я видела плохой сон.
КАЛАЧОВ. Я тоже.
ДЕВУШКА. У нас с тобой нет будущего.
Пауза.
ДЕВУШКА. Почему ты молчишь? Скажи что-нибудь. Скажи!
КАЛАЧОВ. У нас с тобой есть настоящее.
Они целуются — долго и нежно, то с силой, то с грустью продолжается их немой диалог, летают их руки, скатываются и снова взлетают, накрепко пеленая тела страстью. Вопрос о будущем уже позабыт, и нет диалога — Дуэт; губ не разнять.
Они застывают в изнеможении, обнявшись. Мимо проходит пожилая чета, не замечая молодых. Молодые выходят из кадра, мастера остаются — они картонные, а на мониторе — как живые: такой аттракцион. Это «Филь-ммузеум», музей кино, здесь полно аттракционов.
Они целуются везде. У террариума с вещами Марлен Дитрих, в зеркальной гримуборной Марики Рокк, среди колючей проволоки нацистского периода, в декорациях дворца багдадского визиря. В закутке позади огромного антивоенного черепа он, вконец обезумев, раздел её и стал раздеваться сам. Как вдруг дёрнулся фантастический биоробот в углу и заговорил с ними по-немецки. На Ане это не подействовало никак, а Калачов, не зная языка, вообразил себе бог знает что невероятно смешное — и всё испортил. Точнее, он самонадеянно решил отложить всё на вечер.
Они покидают укрытие. Ане, дрожа, ищет пуговицы, её правая грудь ведёт себя своевольно и не хочет прятаться в блузку. Ане торопливо смеётся, она приводит себя в порядок и исчезает, не сказав ни слова.
Калачов с неопределённой улыбкой остаётся стоять перед расшитыми золотом туфлями Мука.
12. Конференция четырех
По городу флаги, плакаты, по городу шествие духового оглушительного оркестра, блестящего взвода за ним бравых барабанщиц — они завораживают зевак верчением барабанных палочек и согласными взмахами стройных ног в белых гусарских лосинах. Клоуны, акробаты на раскрашенной платформе, в небе —аэропланы, листовки, пурга листовок, бумажные шапочки, колпаки, носы на резинке, сласти. Трибуна со световыми эффектами, с трибуны —речи, выклики победителей, вручение призов. Закрытие фестиваля.
Калачов, причёсанный, стоит с бокалом шампанского в огромном зале со стрельчатыми окнами, игольчатыми лампами. Он глазеет по сторонам. Посмотреть есть на что — кругом иллюзионщики, мастера грёз и мастерицы-грёзы. Одежда —без протокола: карнавал, восхитительный произвол, фейерверк индивидуальностей. Всяк заявляет себя теперь в одежде: то ключевое, что было недосказано в фильмах, то любимое, что все дни почему-то бездарно провисело в шкафу, то ударное, что по строгому расчёту было оставлено на финал, — всё теперь на виду. Апофеоз. Калачов медленно панорамирует зал, тренированным глазом обирая детали. Но всё не впрок —сочные, яркие детали, мелькнув, исчезают, как ягоды в траве. Кузовок без дна: Калачову в действительности нужен только один человек — Ане Линке, Ане, где она? Калачов нервничает. Деликатно маневрируя, он движется по залу. Его окликают, заводят разговор — он улыбается, уходит.
Он находит её в конце зала за ширмой. Взмывают скрипки. Ане прелестна, она белокура, голубоглаза и пронзительно, мучительно свободна. Одной рукой она вскрывает прозрачные судки с закуской, а другой зачем-то тычет в клавиши комьютера — считает закуску?
— Когда ты освободишься? — спрашивает Калачов у абсолютно свободного существа.
— Завтра утром, — смеётся Ане. У Калачова ощутимо вытягивается лицо.
— Давай сбежим, брось всё, давай сбежим, — бормочет он чужой текст неизвестно откуда.
— Что? — переспрашивает Ане. У неё весёлые белые зубы.
— Ничего. Я буду на площади, в кафе. Приходи. Хотя бы ненадолго.
Она кивает. Он отходит.
Он ставит бокал на столик, пальцы занемели от стекла. Пора домой. Домой...
Перед ширмой играют скрипки, струнный квартет. Перед скрипками жуёт тартинки Олесь Кавычко, лауреат, сегодня он отхватил второй приз в номинации неигрового кино.
— Олесь, я в трауре, угости меня водкой.
— Айн момент! — по-братски откликается лауреат Кавычко. — Рули потихоньку в кафе. Там Винтер должен столик занять. Ты один? — Вопрос, как нож в сердце. — Ага, а я пока свои плёнки заберу, — смутившись, заспешил Кавычко. — Я только заберу, закину в гостиницу и назад — это где-то полчаса. Чтобы потом не дёргаться, верно? Спокойно посидеть.
Калачов находит на подносике водку или что-то похожее — опрокидывает в рот. Как вода. Девчонка на скрипке играет самозабвенно, враскачку. Асексуально — скрипка ей заменяет всё. Кругом ходят люди с бокалами и без, без конца окликают друг друга, заводят разговор, что-то записывают —адреса —и расходятся, рекомбинируют безлико. В сторонке стоит несчастное создание в нарядном шифоновом платьице и широкополой шляпе.
Никто не подходит к ней, и скрипки у неё нет, которая заменила бы всё. Фройляйн в жёлтой ужасной панамке, сунув руки в карманы «полусредних» — до середины голени — штанов, что-то длинно объясняет толстяку в клетчатом пиджаке. У толстяка чёрная бабочка зажата жирным подбородком, редкие приглаженные волосы потрясающе отчётливы. Всё остальное как бы размыто и большей частью утекло, а волосы остались и режут глаз. Чета в вечерних туалетах вот-вот закружится в вальсе — такие оба бальные. Как определить человека: можно по лицу — чем старше, тем точнее; можно по голосу, по кисти руки, по содержимому его торбочки — но только не по одежде. Её человек сочиняет, чтобы всех запутать.
— Ихь бин нихьт айнфэрштандэн. Ихь финдэдас грун-тзэтлихь фальш. — Этот типаж нарочито незаметен. Он в той же джинсовой паре, верно, что и на съёмках, и на рыбалке, и везде, и у канцлера на приёме он будет в той же паре во что бы то ни стало — он заставит всех уважать свою джинсовую пару. А вон сутулится настоящий охламон — ему действительно наплевать, во что он одет, божественная случайность во всех деталях; жаль, от него, наверное, воняет; вот он и закурил первым.
Прекрасная вентиляция: курят уже почти все, а дыма не видно. Огня — тем более. Калачова тянет на словоблудие.
Вот дама —ей лет сорок, колючий взгляд, волосы назад и чёрный бант на затылке — богема новогаютинско-го завода. После ста грамм водочки взгляд мякнет, но вскоре вступает печень...
Внезапно Калачов натыкается на... себя. Какой-то хищный тип шпионит из-за угла. Калачов от неожиданности зажмуривается — до того понятен ему этот цепкий вгляд исподтишка. Он немедленно поворачивается к типу спиной: он уверен, что и тот расшифрует его, стоит им только на мгновение встретиться взглядами. Этого он почему-то не хочет. Ему вообще не нужен двойник. Мысль о двойнике ему отвратительна, она повергает его в смятение, в инстинктивный страх, как если бы двойники неминуемо при встрече взаимно уничтожались. Первая мысль — бежать без оглядки, вторая — выпить ещё водки. Вторая оказывается сильнее. Выпив, Калачов успокаивается и решает посмотреть, что там. Он расслабляет лицо, напускает на него равнодушие и медленно поворачивается.
В толпе чужих лиц он находит «себя» быстро. Глядя мимо и ближе, якобы на долгоиграющую фройляйн в панамке, он боковым зрением изучает «свою персону» и с облегчением убеждается во внешнем несходстве с привычным изображением, поставляемом ему зеркалами. Брови не такие, и подбородок. Волосы, кажется, светлее. Кацавейка какая-то гуцульская, под ней оранжевая рубаха навыпуск — у Калачова никогда такой не было, но он хотел такую — это факт. На шее — полтора витка длинного тощего шарфика химического фиолетового цвета. Каждую деталь Калачов видит впервые, но всё в совокупности жутко знакомо: мой стиль. Калачов ревниво наблюдает за движениями двойника, ловит малейшее несоответствие жеста имиджу — и радуется и одновременно огорчается за него — как за себя. Его посещает шальная мысль — подкрасться и заговорить с двойником. Надеть одну из фестивальных масок и поиграть со своим двойником, просто чтобы поглядеть на себя со строны, это же интересно. Уникальная возможность реального, объёмного и отчётливого, опыта.
Ещё хлопнув водки для храбрости, Калачов напускает на себя вид самоуверенного негодяя, плейбоя-удаль-ца, спортсмена-парашютиста: «Я — парашютист» — Калачов, жуясь, раздвигает толпу импотентов иллюзионщи-ков и решительно направляется... А того типа уже и нет. След простыл, будто и не было. Парашютист сердится, а
Калачов ликует: это мираж, не было мальчика! Такой Калачов один на весь мир — ясно вам?
— Имидж —понятие онтологическое. Маска, приросшая к лицу — норма. Главное, правильно выбрать маску.
— Но не всякая маска прирастёт, — резонно замечает Мартин Резничек. Он югослав, у него первый приз за фильм «Сараево», они с Калачовым под руку выходят на воздух покурить.
— Резонно, — солидно кивает Калачов, стараясь быть экономным в мимике и жестах. Он нелогичен: изо всех сил сопротивляется действию водки, им же самим и выпитой. — Я ведь не парашютист. Ну какой я парашютист. Хотя мог бы им стать! Я — юрист. Я полномочный представитель торгового дома «Великан» по щам и борщам. Гляди! Матрац летит!
Киношники на площади запускают в небо пластиковый надувной матрац. Толстяк в клетчатом пиджаке прыгает, как заяц, ветер раздувает ему волосы, обнажая отчётливую лысину. Ветер подхватывает матрац, натягивает поводок — матрац стремительно взмывает выше ратуши, победно мотая прицепленным хвостом из кинолент. Закатное солнце делает его алым. «Хвост надо бы утяжелить», — бормочет Резничек. Калачов оглушительно свистит в четыре пальца, свист подхватывает вся площадь. Из дверей вываливается пополнение. Калачов, захваченный восторгом, поёт нутряным басом Поля Робсона: «Широка страна моя родная» — обеими руками при этом он обнимает весь Потсдам, всю Германию — Европу! Европа не возражает, Европа ждёт, не взлетит ли этот русский, как матрац, в синее небо: вот он уже и руки раскинул, и на ветер грудью лёг. Но нет, в небо со свистом взлетает разноцветная ракета и распадается в вышине на букет ослепительных брызг, следом приходит хлопок.
Все фотографируются.
Цветной свет. Проезд камеры между столиками кафе, изображение неустойчивое. Приглушённые разговоры на чужих языках слева и справа:
— Потрясающая небрежность парижан в одежде. Какое-то дачное отношение к жизни.
— А клошары — каждый с собакой.
— Обложка — одноцветный картон с тремя дырками. Никакого дизайна, ноль. Никаких иллюстраций, надписей. Но — бронзовые скрепки «Чикаго скримз» или скоросшиватель «Акко».
— И никаких объяснений оператору.
— Боже сохрани.
В кадре косо появляется сидящий в компании Олесь Кавычко. Таким его видит Калачов — это он пробирается между столиками. Калачов восклицает обрадованно:
— Черепашки! Вам пришёл конец! Я давно хотел это сказать.
— Э, да ты уже на кочерге, — с любовью говорит Кавычко.
Калачова подхватывают, усаживают. С ним пришла чернявая девица в широкополой шляпе и шифоновом платьице—сев, она принимает неудобную позу «любительницы абсента» и замирает. Калачов заказывает много пива и «этот, как его, скрундель, что ли». Несут. Калачов бережно принимает красивый бокал тёмного пива с белой пробкой пены, встаёт и обращается с Олесю Кавычко:
— На всех языках «палас» — это дворец, а у нас — просто половик. Олесь! За нашу победу твоего фильма!
Пьют, целуются. Два гитариста в стороне ненавязчиво играют боса-нову.
— Я тоже так могу. Юра, знаешь, кто такие гермениды?
— Знаю. Это глисты такие.
— Нет. Это племя в Африке. У них женщины общие и питаются они — львятиной!
Юра Винтер потрясённо выкатывает глаза, Калачов напротив — тоже. — Держать! Держать! — командует им Кавычко, и они держат паузу, пока «львятина» не набирает веса достаточно. Потом они дружно хохочут, чокаются, пьют и целуются.
На них с улыбкой смотрит молодая немка за соседним столиком. Минута на формальности — и вот она уже присоединяется к весёлой компании вместе со своим кавалером — саксофонистом, как сразу выяснилось. А сама Магда — вот поди ж ты — поёт im «Terrasenrestaurant Minsk» песни Владимира Высоцкого. — Кого?!... — Винтер с Калачовым снова замирают, потрясённо уставившись друг на друга. Магда польщена. Те отмирают, хохочут, пьют. Просят Магду спеть что-нибудь из Высоцкого. Она не упрямится — идёт на освещённый подиум, берёт гитару, садится уютно и очень мелодично поёт нечто отдалённо напоминающее. Очень красивая музыка.
Ну конечно, потом Калачов показал ей, как надо это делать — с рыком и кинжальной экспрессией, с неподдельной обидой на жизнь беспросветную. И со стопкой водки с размаху в распалённое песней нутро. Сел затем растроенный, сам не свой, отвернулся. Винтер и Кавычко солидарно закручинились. Немцы обеспокоенно зашептались, не зная, как себя вести. Ладно, проехали.
— В Казахстане есть пограничная речка Харгос, — начинает что-то Юра Винтер. — Она там по нескольку раз в сутки меняет своё русло. Так китайцы что придумали...
Входит Ане Линке. Удар грома.
Её сопровождают два молодца. Старое глупое сердце Калачова со стоном разваливается на куски. Ну а ты как думал, парень, чтоб такая девушка да без охраны?
Она его увидела, она ему помахала ладошкой. И ему
надо было махнуть, позвать её за столик. Тесно, конечно, но ей бы место нашлось. А можно было выйти и дерзко сесть с нею. Или отвести её за третий, нейтральный столик, вон он. Был столик, была секунда на решение, — то самое решение, за которым разворачивался новый сюжет, ещё более фантастический, чем этот, — с безумствами, колоссальными неприятностями и божественным презрением к ним. Воздушный коридор, полёт, джаз, дзен — надо было всего лишь оторвать задницу от стула. Надо было всего лишь быть искренним в вере.
А Калачов был всего лишь пьян. И ещё этот Высоцкий расслабил и придавил. И ещё эти двое с нею, один из них — тот самый тип, якобы двойник, а на самом деле он простой контрразведчик, охотник за парашютистами. И ещё она тут кому-то помахала в сторону. У неё тут сто человек таких знакомцев, как Калачов, и даже лучше, моложе, трезвей и джазовей.
Калачов поник.
— Гляди, Анечка пришла! — радостно завопил ему в ухо Олесь Кавычко.
Калачов вскочил и, пригнувшись, как в кинотеатре, выбежал наружу.
Уже стемнело. Ветер стих. У неба один край был чёрный, другой — зелёный. Зелёный край выглядел веселее. Зато на чёрном видны были звёзды. С точки зрения звезды огорчения Калачова казались ничтожными
— «Как всегда», — пробормотал он по-немецки и направился было по нужде к кустам, но, сделав два шага, упёрся в красивую белую кабинку известного назначения. «Как всегда!» — загоготал он по-английски: «Нет другого пути у русского в Европе, кроме как в гальюн!». Английский он знал лучше.
Переносной гальюн, очевидно, входил в комплект уличного кафе. Калачов клоунски вытер ноги у порога, вошёл. Ну, там, конечно, блеск. Калачов стоял перед писсуаром, озирался и бубнил на фестивальном англо-немецком слова восхищения. Отошёл (автомат немедленно сполоснул раковину), умылся, обсушился, поговорил с зеркалом. Когда вслух, сердцу легче. Нет, серьёзно, если что, если в сердце рана, — удались, поговори вслух, приятель, — всё пройдёт. Затем он положил в тарелочку 10 пфеннигов и вышел другим человеком — молодым, трезвым, джазовым.
Под тентом полуночного кафе спорили о важном.
Тент волновался. Он был похож на упавший киноэкран: по нему двигались тени, из-под него доносились голоса.
— Я не говорю, что итальянские фильмы лучше. Я говорю, что итальянское кино нам ближе. У итальянцев похожий менталитет.
— Не ругайся.
— У вас это слово тоже — ругательство?
Под тентом полуночного кафе зияла пустота: Ане Линке уже ушла. Куда?! С кем?! А это не важно. Ты слишком долго умывался.
Калачов рухнул в кресло и схватился за пиво. К лучшему: не будет продолжений, очарований, расставаний, пытки тоской по далёкой чужестранке. О, эта тоска по чужестранке! Её нет, всё. И не было никогда.
Оба её спутника, кстати, остались и даже переместились за столик к русским. Одного из них, в очках, звали Ральфом, он состоял в оргкомитете кинофестиваля. Другого, в длинном тощем шарфике, все называли — Матиас, он не состоял нигде. Вообще-то, он был фотограф... Но и фильмы тоже... На фестивале вот подрабатывал киноме-ханником, крутил фильм Денежкина — Калачова, между прочим (запомнил, фриц). Одет он был ярко, в диснеевской мультяшной гамме, но в плохой обуви, а правый башмак его вообще лопнул и был аккуратно забинтован липкой багажной лентой. Эта лента привела Калачова, скорбящего об утрате любимой, во внезапный восторг, он схватил ногу Матиаса и стал всем показывать, нахваливая. «Я бедный», — с усмешкой пояснил Матиас, осторожно освобождая ногу (“Ай эм пуэ мен», — сказал он). Вблизи он оказался рыжим и рябоватым — совсем не опасным, не-двойником. Калачов принялся хлопать его по плечу, брататься, произносить тосты, выпивать и расспрашивать нового друга про его жизнь. Тот охотно отвечал, развалясь в белом кресле с пустым бокалом в руке, закинув ногу на ногу и покачивая забинтованным носком башмака, будто любуясь.
Потом из цепи событий стали выпадать звенья. Плёнка всё шла, а изображение то пропадало, то возвращалось. Вот Калачов — стоя, в торжественной обстановке — прикалывает к шарфику Матиаса комсомольский значок. Появляется звук — галдёж восхищенных немцев: «Дедущь-ка Ленин, дедущька Ленин!», и вдохновлённый Калачов — крибле, крабле, буме! — извлекает из своей торбочки открытку с памятником вождю. Затем — юбилейный 1970го года рубль, авторучку с крейсером «Аврора» — и всё это дарит, дарит, а немцы вопят восторженно ему: «Сан-та-Клаус! Мистер Санта-Кпаус!». Затемнение.
Из затемнения: певицу Магду уводит из-за стола саксофонист. Вы куда? Вы куда? На работу, в Террасный ресторан «Минск», петь Высоцкого. Все в очередь целуют Магде руку и трубят «Прощание славянки» по партиям. Кажется, тотчас, следом, Юра Винтер уводит «любительницу абсента» к себе в гостиницу. Затемнение.
Из затемнения: четыре головы склонились над махонькой машинкой Олеся и внимательно наблюдают, как ловко она умеет скручивать сигаретки: вот Олесь вставляет в машинку бумажку, вот лижет край, сыплет табак, поворачивает валик — и сигаретка готова. Машинка старая, немецкая, ещё с войны. Как она к тебе попала? Украинец отвечает уклончиво. А у Ральфа есть пачка бумажек к ней «Эфка-Цигареттенпапир», можно —я? — спрашивает Ральф. Теперь Ральф — вставляет бумажку, лижет край, сыплет табак, поворачивает валик — и радостно хохочет. Калачов долго смотрит на пустые стаканы просто так. Затемнение.
Потом они вчетвером — Калачов, Кавычко, Матиас и Ральф — плывут по морю огней в шикарной иномарке. Машину ведёт некто пятый — трезвый и скучный, глухонемой инопланетянин. Калачову приходит в голову, что для Германии этот автомобиль никакая не «иномарка». И значит, вовсе не шикарная. И море огней — обыкновеннейшая Фридрих-Эберт-штрассе в дежурном ночном освещении. Он хочет сказать об этом друзьям, но вместо того медленно и грустно молвит: «Она была нетороплива... не холодна, не говорлива... Без взора наглого для всех, без притязаний на успех... Без этих маленьких ужимок, без подражательных затей... Всё просто клёво было в ней». Все замолкают, пронзённые печалью Калачова. Всё вокруг разом меняется, и даже улица выстраивается в тон: честно и правильно, без лишних огней и показного шика — добротные бюргерские особняки за низкой чугунной оградой, любовно отделанные сточные канавы перед ними, валуны у низких ворот, почтовые ящики на столбиках, скульптуры, цветные мхи мерцают в свете фар
— и своё название улица меняет на Цеппелин-штрассе. «Сейчас мы ей позвоним», — говорит молодчина Ральф.
Калачов срочно мобилизуется. Сейчас мы ей позвоним. Сейчас она придёт, и он должен быть в форме.
Куб света у дороги — ночной гешефт. Немцы заруливают прямо внутрь куба и, не выходя из машины, покупают шотландское виски со смешным названием «Дятел». Едут дальше, резвясь на тему «дятла» и деревянных собственных голов.
Почему-то именно в этот момент выясняется, что Ральф — западный, а Матиас —восточный немец. Как-то так перешли от «деревянных голов» к местным предрассудкам. «Нету, значит, равенства», — без вопроса говорит Кавычко. «Значит, нету», — равнодушно подтверждает Матиас. «Нету, нету», — сокрушается Ральф. «Встреча четырёх держав», — грустно замечает Калачов. — «Потсдамская конференция».
Конференция продолжается в «Арт-отеле», видимо так. Долго шли по спящим коридорам, устланным бесконечной дорожкой. Искали номер Калачова или Кавычко, чей-нибудь. Шли, шли, как внутри циклотрона, как меченые атомы какие-нибудь. На стомиллионном круге Калачов, споткнувшись, воскликнул: «Это здесь!» — и погрозил пальцем светящемуся номеру над дверью. Он довольно быстро нашёл в торбочке свою магнитную карточку-ключ и очень долго, неприлично долго попадал ею в щель терминала.
Попал. Раздался тихий мелодичный сигнал и дверь приоткрылась. Радостно гомоня и толкаясь, компания ввалилась в тёмный номер. Что-то грохнуло. «Шкаф переставили зачем-то!» — ушибленно возмутился Калачов. Кто-то с хохотом сел на постель и вдруг завизжал, как дурак, и шарахнулся. Все закричали на него сердито и зажгли свет. И увидели: в Калачовской постели лежала насмерть перепуганная какая-то неизвестная фрау. Она зевала, как рыба, тряслась и подпрыгивала. Это была не Ане Линке, нет, ничего похожего. Калачов остановился в раздумье. Ане Линке тут могла быть, конечно, — поджидать Калачова, например, — и это был бы номер первый класс. Но чтобы подложить вместо себя какую-то потёртую фрау... Нет, этот юмор не по силам Калачову. Зато Ральф ничуть не удивился — он давай подмигивать даме, помахивать бутылкой, щёлкать себя по горлу и гадким голоском предлагать даме «кло-кло». Затемнение.
Как-то вышли. Извинились и вышли, на выходе Калачов снова больно ударился о шкаф.
Снова брели по коридорам, ржали и плелись сто лет, пока не стало казаться, что это не они идут, а дорожка движется им навстечу — а сами они перебирают ногами на месте. Потом стояли перед дверью и сличали светящиеся цифры с напечатанными. Затемнение.
Сидели в номере Калачова, пили виски, трепались на всех известных науке языках. Ральф мурлыкал по телефону, а Калачов в отчаянии рвал трубку у него из рук.
Олесь вдруг решительно шагнул в сторону своего номера и сразу вернулся с бутылкой настоящей украинской «Горилки» с перчиком на дне, бьющимся в стекло, якчервона рыбка, як люта пиранья. Немцы взревели, как медведи, полезли со своими черепеньками, Олесь начислил, фрицы хряпнули и заколдобились. Кавычко хохотал злорадно, как Карабас-Барабас над своими дрессированными куклами.
Сидели, пели. Это было мощно. Кавычко хмуро заводил басом:
— Чёрный ворон, что ты вьёшься...
Калачов контра-басом вставлял:
— Мммммммммммм...
Кавычко:
— Над моею головой.
Калачов выводил пассаж:
— Ммм-ммм-мм!
И ударяли вместе:
— Ты добычи не добьёшься —
Чёрный ворон, я не твооой!
Бас с контра-басом в сумме давали победный львиный рёв, от которого дрожал пол в номере и оба немца. Ральф жался к Матиасу, было видно, как у них по коже ползают мурашки.
Жаль, что не было Анютки.
Или была?
Рассвет встречали вдвоём с Матиасом, это точно. Калачов в позе «Мыслителя» сидел на кровати, Матиас — зеркально на низком подоконнике, головы их соприкасались висками. Оба рассказывали свою жизнь, каждый свою, но попеременно, как в джазе, и оттого истории их переплетались, и жизнь получалсь общая. И жизнь при этом — такое чудо — не удваивалась, не утолщалась и не уплотнялась ничуть — она оставалась просто жизнью... Рассвет был тих. А дурацкая оконная рама не распахивалась во всю ширь, как в России, а лишь наклонялась — и это было не то.
Ждали нас зря и царевны, и страны. Голос свой слушаю — слабый и странный.
Ушёл и Матиас.
Калачов ещё постоял в задумчивости, слушая тишину и необъяснимое волнение счастья в тишине. Чему обязан, простите? Осипшим голосом он выразил удивление счастью, сдержанно приветствовал его. Поговорил с ним ласково по-английски и немножко по-немецки, потом извинился и стал собирать вещи в обратный путь. Потом бросил всё и закричал счастью великим пьяным русским языком, что ему, Калачову, уже сорок лет! И оно, счастье, могло бы прийти к нему и пораньше! Тогда бы и разговор мог быть иной! На это счастье не нашло что ответить, смутилось и тихо растаяло. А Калачов сел и схватил себя за волосы.
Но скоро успокоился. Ему было всего сорок лет.
Ложиться он не стал, боясь проспать самолёт. Сгрёб мусор в корзину. Скидал вещички в сумку. Встал под душ, выдавил на щётку белый вопросительный знак.
Позвонил шофёр. Калачов велел ждать, сам поплескался ещё, побрился и не спеша спустился к завтраку. Там сидел один Винтер. Хохол дрых: его самолёт вечером. Аппетита тоже не было, тоже, видно, дрых — Калачов поел через силу. Набил карманы гостинцами, прозрачную ложечку после тутти-фрутти облизал и сунул в карман — на память; гад Винтер следил за ним хищным режиссёрским взглядом. Шофёр всё приставал: едем да едем.
Ну поехали. Калачов велел рулить в «Альт-Ратхаус». Шофёр слабо завозникал, но подчинился. В оргкомитете он быстро нашёл Ане Линке. Ане, увидев его, отчего-то встревожилась, схватила за руку: «Что с тобой?» Будто за сердце схватила — сердце закричало заячьим криком и сразу будто испугалось —умолкло, заныло тупо, немо, глупо, совершенно неуместно и, главное, безнадёжно. Сели на диванчик. Калачов, дыша в сторону, сказал, что улетает далеко и навсегда. Ане тоже что-то сказала — но Калачов уже не слышал: свистели турбины. Весь раздуваемый ветром, он встал, вынул свою книжку с названием, некогда важным, хотел подписать солидно: на память, мол, от джинна Маймуна... А написал просто: «Забудешь?»
Вручил студентке для изучения, поцеловал кротко её пальчики, махнул Ингрид и был таков.
13. Сон о Веймаре
Радиола с волшебным зелёным глазком. Шкала подсвечена, на шкале — чужие города. За шкалой — музыка, у каждого города музыка своя.
Вечер. За странным, вытянутым вверх, окном странный сумеречный свет. Он льётся в тёмную комнату и пре-вращется в тихую музыку. Течёт время, текут очертания предметов, меняется свет — всё плавно, вкрадчиво — и лишь посередине зычно сверкает зелёный глазок и желтеет шкала. Они остаются гореть, всё утекает, а они остаются ослепительно гореть посередине темноты.
Это ангина. Это бред.
Глядеть на шкалу невыносимо, но не глядеть нельзя. Мальчик болен, ему то хорошо, то плохо, то снова очень-очень хорошо — так хорошо, что хочется плакать. Он лежит один в темноте и видит, чувствует чужой город. Виденье манит, влечёт его, оно имеет над ним непонятную власть. Непонятную: ведь город чужой — чужой неприятный язык... Но мальчик не может рассуждать, он снова и снова уносится в тот город, который вовсе и не город, а большой уютный парк с рядом красивых особнячков по краю. Домики с башенками, эркерами и мансардами, они чужие и в то же время бесконечно симпатичные. Они твои, но в них не войти.
Мальчик едет в Питер — там голландский стиль, там что-то похожее на его виденье: странный свет белых ночей, чугунные ограды во тьме и рыжие весёлые мансарды, глядящие на солнце, — всё одновременно. В Питере он был легче воздуха, он плыл куда хотел — хоть во тьму, хоть к солнцу. Он мог войти в любой дом, и он входил в любой дом, но... там жили другие люди.
Лето. За окном все оттенки зелёного на голубом. Немец-портной, на шее метр, на запястье подушечка с булавками. Головки булавок стеклянные — голубые, розовые, белые — чудо, а не головки, так бы и съел. Мать замечает у сына во рту булавку, белеет лицом, отбирает. Мальчик плачет, горько и безутешно плачет, навек непонятый. «Противный парень», — «Он просто устал».
Мальчик едет в Ригу за булавками. Там немецкий стиль, там много разноцветных булавок и мансарды. Мансарды глядят поверх улицы блескучими оконцами, всегда весёлыми, даже в дождь. Особенно в дождь. Когда дождь, нет места на земле уютнее, чем вон та мансарда. Наклонные, падающие, как в бреду, стены комнаты и абсолютное отсутствие потолка. Стопки книг, засохший букетик в мутном стакане, нитки, крем для рук и белый бюстик Шиллера с грязным носом. Жёлтый портрет Марлен Дитрих над дверью, рулоны обоев под койкой. И окошко. Окошко — это самое удивительное. Перебросить подушку и лечь так, чтобы было видно окошко.
Игрушечное. Маленькое, низенькое, с мокрыми, смеющимися стёклами, маленькой ручечкой и настоящим большим шпингалетом. Аза ним — улица сверху. Листва, мокрый асфальт, блестящие зонтики с ножками. И край чьей-то крыши, и небо... К небу надо уже наклоняться.
В Риге мальчик купил себе блок-флейту. Ему не хотели продавать, говорили, что он — русский. Но когда мальчик заиграл на ней, ему принесли извинения и разрешили: «Платитэ». Странные люди. Торбочка приняла флейту без расспросов.
Ещё был Таллин, Кенигсберг... Стремиться на Запад пошло, надо стремиться на Восток, как Герман Гессе.
И на Восток стремиться пошло, как выяснилось, и на юг, и на север. Надо стремиться к Альмутассиму, как Хорхе Луис Борхес.
Альмутассим, охапка сена перед носом ишака. Тоже противно. Ну ладно, главное мы поняли — не стоять.
Калачов дремал в машине, несущейся из Потсдама в Тегель. То есть, ни в коем случае не стоял.
«Не в Тегель, а в Шёнефельд», — уточнил водитель. Педант... Как в Шёнефельд?! Это же в три раза дальше!!!
«Да. Ваш самолёт вылетает из Шёнефельда. Не из Те-геля».
Будто ведро гвоздей на голову высыпал. Калачов опять всё перепутал. Калачов опоздал на самолёт! Мыл-ся-намывался, завтракал, выпендривался — когда надо было прыгать в машину и мчаться. Ну и пусть, решил про себя Калачов, поселюсь у Ане Линке, это судьба.
«В мансарду! Назад, в мансарду!» — громко захохотал он. — «Это судьба!».
Немец посмотрел на него дико и прибавил газу.
Ане Линке — булавка во рту. Что такое Ане Линке? Ане Линке — это опасная булавка во рту; она к тому же ещё и шьёт. Ральф ночью до неё все-таки дозвонился. И передал трубку Калачову. А Калачов, такой остроумный только что, не смог ей ничего сказать ни на каком языке. Он был пьян. Он был безутешен. Ральф сполоснул его и отвёл за руку к Ане домой. Там тоже праздновали. Их встретили аплодисментами: кто-то вспомнил, как Калачов изображал официантке солёные орешки, кто-то — как он пел на ратушной площади «Широка страна моя родная». Ральф подключился к празднику, а Калачов и Ане сбежали.
Они бродили по ночному городу вдвоём. Калачов нарочно выбирал самые пустынные и тёмные места и упорно называл Потсдам Веймаром. Ане сперва смеялась, а потом вдруг притихла. Что-то он знал об этом городе лучше неё, о чём-то важном шептал с жаром, останавливаясь и указывая рукой на тёмные силуэты домов на фоне неба, на единственное горящее окно под островерхой крышей. «Моя родина», — говорил Калачов. «Родина? Там?» — переспрашивала Ане. Она потрясённо вгляды-валсь в квадратик окна и... не понимала. Но в речах Калачова было столько веры, в его флейте — столько волшебства, и все дальнейшее происходило так естественно и необходимо, что возражать ей просто не пришлось, когда сам Господь Бог свёл над ними свои ладони.
Ночные цветы стали им ложем, цветочный аромат опустился на их тела невесомым покрывалом. Над ними горело единственное во всём мире окно, там жил маленький мальчик без имени — он один в целом свете, зачем ему имя? Пел сверчок, метались стоны. Руки женщины вырастали из земли, как цветы, и оплетали плечи Калачова и влекли его к земле и дальше, вглубь, обещая укрытие от жизни, от её маеты и печали, от искусной, виртуозной радости — грош ей цена, такой радости, и от страхов. Женщина была — земля. Он рвался уйти в неё весь, он бился об неё, крича в сладостной муке, пока сам не обратился в огненный смерч...
Дальше — разделение. Как всегда. Смерч ушёл куда-то с реактивным рёвом, не то в землю, не то к звёздам, а Калачова с собой опять не взял. Надо вставать и надевать штаны.
Тоскуя, Калачов поднял Ане с клумбы, отечески отряхнул ей спинку. Она что-то лепетала, ненужное, и отдалялась с каждым словом, и это было ему больно видеть. Он опять был один, и ничего поделать не мог. Она ушла. Из темноты возник Ральф, не в своих очках и сердитый, — и всё это было больно, больно навсегда. Мальчик проглотил-таки булавку...
Это ей потом он пел «Чёрного ворона». Это ей рассказывал свою жизнь. С ней слушал тишину и такое понятное волнение счастья в тишине. Он так не хотел улетать. Он так не хотел, что всё перепутал, и вот теперь самолёт улетает без него, он остаётся в Германии — это судьба.
Он в эпицентре своей судьбы.
Он пеленговал её всю жизнь и вот нашёл.
Он попытался её покинуть —ан нет. Самолёт улетает без него. Ну и правильно.
И ничуть не страшно. Там страшнее. А здесь — что? Он всё умеет, у него всё получится. Он электрик, сценарист, коммерсант — он всё подключит, напишет и выгодно продаст. Он построит здесь Дом Без Забот...
«Приехали»,—снова вмешался водитель. — «Вовремя».
Подлый всё же у тебя характер, инопланетянин, — подумал Калачов. Магнитное поле судьбы исчезло. Рассыпалась жизнь, только что такая ясная и внятная — превратилась в бессмысленную груду жалящих, как угли, воспоминаний.
«Спасибо, друг», — улыбнулся Калачов, вылезая из машины. Он крепко пожал водителю руку, зачем-то обнял его, потом закинул сумку за спину, как гармонь, и зашагал к аэровокзалу.
Рассыпалась жизнь — ну и ладно, не впервой. Клумбу жалко.
РАССОЛЬНИКИ Рассказ
Кажется, это все-таки случилось.
Артём включил телевизор и несколько минут стоял не шелохнувшись, безучастно глядя на трепещущий свет экрана. Потом забрался с ногами на диван и закутался в одеяло — настолько ему не хотелось ничего: ни того, что случилось, ни другого — вообще ничего.
По экрану двигались яркие цветные фигурки, связанные друг с другом невидимыми ниточками. Одна фигурка тянула за собой другую, и слова, звучащие с экрана, тоже тянули друг друга, так что каждое следующее звено этой цепи можно было угадать — и от этого делалось спокойно и надёжно. Смысл слов был не нужен — важно было спокойствие и надёжность: Артём смотрел в телевизор, как смотрят в печку — следя за игрой света и греясь. Именно по этой причине и не по какой другой он глядел все передачи подряд, но объяснить свою причину матери он не мог и не хотел — а мать, не понимая, воевала с телевизором за здоровье сына. Она вообще очень любила здоровье сына.
Вот сейчас она воевала с отцом, который выкладывал из сыновней дорожной сумки «лишние», как ему казалось, вещи. Лишние рубашки, брюки, шарфик. Отец выкладывал — мать запихивала их обратно, при этом оба излагали свои резоны одновременно, но мать — громче, и оттого отец скоро сдался.
Он все-таки пришёл, отец, как и обещал. Он жил от них с матерью отдельно, и вот пришёл взять сына в путешествие. Свершилось. Где же восторг?
Он жил отдельно много лет, и много лет Артём мечтал поехать с ним куда-нибудь далеко. А поехать всё не получалось. Отец приходил и опять уходил, а Артём оставался дома с телевизором и матерью, бродил по дому
— искал и не находил следов отца, в доме их не было. Отец жил в большом внешнем мире, он был его хозяином
— так казалось маленькому Тёме. Мать в этот «отцовский» мир лишь наведывалась, завив волосы в кудряшки и накрасившись, чтобы её там приняли получше, и очень сильно переживала и плакала, когда большой мир был к ней равнодушен и жесток. Школу к внешнему миру Артём не относил: там были такие же дети, как он, и учительница, как мать, — и там не было отца. Школу он не принимал всерьёз, и настоящих друзей у него не было. Была мечта о большом мире. Были грёзы — полеты, большие плаванья... Как подрос — гарем: гарем полон красавицами, Артём — их владыка, он качается на волнах неги и сладострастия... И тут является настоящий живой отец и по-настощему зовёт его в поход. В эту пятницу.
Артём промолчал, не зная что сказать, и тем самым как бы согласился, но когда отец ушёл, внезапно впал в бешенство — избил тапком кота до крови. Мать перепугалась не на шутку: такое она видела впервые и, главное,
— с чего бы?! Она потом долго выпытывала у него причину, втайне боясь уже не только за кота.
А Артём и сам не понимал. Будто отняли у него что-то... Или вслух сказали про тайное... Будто влезли и распорядились... Нет, всё не то. Никто к нему не влезал и не распоряжался. Разговор о походе был уже давно, и он сам этого хотел. Так в чём же дело? Да просто поздно уже! — пришла счастливая мысль. — Раньше надо было, вот! Мысль эта была настоящей находкой: простая и логичная, она прекращала разом все мучения, определяла их виновника и... отменяла сам поход: поздно уже — никуда он не поедет, подите все к черту. Артёму стало легче. Никуда не надо ехать, можно продолжать мечтать. По-истине счастливая мысль —она вернула мальчику мечту. Правда, ему уже не хотелось выглядеть «мальчиком». Да и сама возвращённая мечта повела себя странно: она будто почувствовала шанс быть воплощённой, отведала воли — обособилась и чего-то там требовала. Воплощения в жизнь, — чего же ещё может требовать мечта при малейшем шансе.
А с другой стороны — просто страшно куда-то ехать. А раньше было не страшно. Что же, с возрастом он стал трусливее?
Нет, надо ехать.
А может, ещё и погоды не будет. Может, он заболеет. Артём тотчас почувствовал недомогание, дурноту, шум в ушах...
— Ну мы едем или нет? — спрашивал отец.
— Ответь отцу! Ты что — глухой? — требовала мать. — Вот видишь — он и с тобой разговаривать не хочет! Как вы поедете?
Артём молчал, распадаясь и умирая на месте.
Отец на улице стал немножко меньше ростом. Но при этом заметно повеселел, оно и понятно: здесь он был дома. Оба эти обстоятельства успокоили Артёма, придали ему уверенности. Он даже зарифмовал иронически: «Отец — как солёный огурец» — и впервые, тайком, посмотрел на сморщенного, бодренького предка снисходительно.
На вокзале отец первым делом отправился в «камеру хранения» и оставил там половину сыновних вещей — все, которые он счёл лишними. В «камере» было тихо, тревожно, там стояли «сейфы» рядами, и взведённый, как курок, охранник, казалось, читал Артёмкины мысли. Отец велел запомнить код замка — Артём категорически отказался и потянул отца прочь.
С лёгкой сумкой вышли на перрон; отец нёс на плече хипповый рюкзачок, сшитый из старых джинсов и набитый разными неожиданными предметами, — отец называл свой рюкзачок «торбой». Артёму это слово понравилось, оно показалось ему каким-то грузинским именем или греческим («Торба... Торба...») — и вот уже на перроне их стало трое: отец, сын и друг Торба. Причем, Торба — главный, потому что едет на отце, как на коне.
Они сели в вагон последними. Подошла электричка, сжав сердце Артёма своим тяжким накатом, все кинулись к дверям, а они — нет. Отец не спешил. Это была ещё одна мечта Артёма — хотя бы раз в жизни не кинуться к дверям, а войти в них шагом. И вот они — во главе с классным Торбой — переждали давку, спокойно вошли, «как белые люди», и сели на хорошие места.
Артём был счастлив, впервые в жизни он был «белым». Он прятал своё счастье, потому что его никто бы не понял: он думал, что для счастья принято иметь какие-то веские основания (как в телесериалах: наследство, победа над врагом и т.п.), при отсутствии оных счастье считается незаконным, а его обладатель — идиотом. Артём-ку распирало «неправильное» счастье, от натуги на его глазах выступили слёзы — и он надел тёмные очки.
Торба выдал карту, отец, как фокусник, поймал в воздухе ручку и стал показывать сыну их маршрут: вот мы
— вот деревня Рассольная... Сын боялся капнуть из-под очков на карту.
Из окна электрички город виделся совсем по-другому. Может быть, стук колёс по рельсам отстранял городской пейзаж, может быть, присутствие отца делало неправдоподобным вообще всё происходящее. Под насыпью тянулась длинная-длинная чёрная крыша многих гаражей, и на этой крыше лежала белая «Волга» без колёс
— как лягушка, на пузе. Артём с лёгкостью представил «Волгу» мягкой, прыгающей на длинных лапках. И все другие автомобили, спешащие по дороге, он представил живыми и немножко мыслящими. А скорее всего, даже не немножко, а в высшей степени мыслящими, — вторжение «высшего разума». В этом случае люди, держащиеся за руль, выглядели жалкими глупцами: они думали, что чем-то управляют. Артём так про себя никогда не думал — выходит, он был умнее. А вот: у дороги на пустыре столб с вывеской «Шашлыки», под вывеской лавка, на лавке три мужика — и больше ничего. Шашлыки. Артём мысленно рассмеялся. А они с отцом едут в Рассольную — значит, они «рассольники». Были засолены — теперь рассоли-лись.
Миновали заводы, пригороды, потянулись поля позади железнодорожных мелькающих насаждений. Поля нравились Артёму, но раздражали насаждения, и он отвернулся от окна. Через три скамейки наискосок от него сидела девочка. Скамейки были заполнены скучным народом, и оттого девочку иногда было плохо видно. Артём отвернулся, с задумчивым видом снял очки, повёл глазами как бы вскользь — девочка была приблизительно его возраста, с чёлкой, лицо обращено к окну и светится. Во что она одета, Артём позабыл посмотреть, как всегда. Скоро опасность встречи взглядами сменило желание встречи. Артём дерзко уставился на попутчицу. Переменил позу. Надел тёмные очки. Снял их. Приготовился, как только она взглянет, показать ей своё ухо. Там у него на мочке блестели две маленькие серёжки — самое значительное завоевание в борьбе с матерью. Он сел боком и скосил глаза. Взгляд от этого стал менее пронзительным — зато ухо вперед. Чтобы скрыть позицию глаз от посторонних, снова надел тёмные очки. Застыл, охотник. И вот, когда уже все три лавки оценили юношу, и четвёртая оценила, и пятая, и весь вагон, казалось, заёрзал и нахмурился на девочку неодобрительно: ну взгляни на парня, что тебе стоит! — тогда она вздрогнула и посмотрела. Йес! Аплодисменты. Победно усмехаясь, Артём снял очки и стал глядеть на девочку прямо в упор и не моргнул, когда она посмотрела вновь, и когда попыталась выдержать его взгляд, и когда сдалась и в смущении потянулась к своей мамочке якобы с вопросом — в то время как по её губам порхала улыбка, которая к маме ни-ка-ко-го отношения не имела — это уже Артём знал наверняка. Вот он, вкус победы: он едет с отцом, он едет как «белый человек», и все дочки-матери в смятенье — ну что они могут против их мужского корпуса: несчастные, они и в пустой вагон садятся с дракой. Вагон потому что тоже — наш, и вокзал наш — мужской, и лес. Верно, Торба?
Леса Артём не видел. Он брёл за отцом по дороге, потом без дороги, долго, пока отец внезапно не остановился и не произнёс нараспев: «Интересно». Артём вгляделся, но ничего интересного впереди не увидел. Он устало опустился на траву. Стало тихо. По травинке, в панике, спотыкаясь, бежал паучок. Бежал, бежал, потом вдруг распустил невесть откуда взявшиеся прозрачные крылышки — и улетел. Странный паучок.
— Посиди туг, — сказал отец строго. — Никуда не уходи, понял?
А Артём бы и не смог. У него не было сил даже ответить. Как вовремя они заблудились, можно достойно полежать в траве.
Ждать было делом привычным. Мать всегда и всюду брала его с собой, и, пока она что-то там покупала, лечилась, выправляла документы, жаловалась приятельницам на жизнь, Тёма был при ней и в то же время — один. Никогда ему это не нравилось: притащат куда-то против воли, выпустят в незнакомую обстановку: осваивайся. А зачем? И главное — на сколько? На пять минут? На час? На всю жизнь? Сидишь, пережидаешь пять минут —а проходит час. Знал бы, что в твоём распоряжении час, — встал бы со стула, прошёлся, заглянул бы туда и сюда, глядишь, что-нибудь и понял. Или наоборот — расположишься на всю жизнь, кинешься ловить жуков под камнями, рвать шиповник, бросать камни в воду, а тебя через пять-минут хвать — и все твои планы насмарку, хоть заревись.
Вот и отец такой же. Вообще, родители таковы — притащат в жизнь, а зачем и на сколько — сами не знают.
Артём нарочно в самой глупейшей позе валялся под кустом, как куча мануфактуры, и сам себе удивлялся — своей ненужности, случайности, категорической неуместности. Это было эффектно, но не могло продолжаться дольше трёх минут, как ни жаль. Соломинка колола шею, ныл комар над ухом, мешала кочка, мешала мысль, что где-то «мануфактура» может быть вполне уместна и даже необхо-диа. Другими словами — ты должен быть сейчас где-то не здесь. А где? Артём встал.
Тотчас из-за куста появился отец.
— Ура, — сказал он с довольным видом, — мы заблудились. Какая удача. — Он подобрал свою котомку, закинул за плечо и, скомандовав: — Пошли, — двинулся прочь.
Артём не пошевелился.
— Артём! — через несколько шагов позвал отец.
— Куда? — вскипел сын и принялся терзать свою сумку—дёргать её за лямку, встряхивать, закидывать бестолковую за спину, чертыхаться. Отец стоял и смотрел с любопытством. Под его взглядом раздражение скоро обмелело и иссякло.
Они вышли на край незнакомого поля. Отец показал кучу соломы и сказал:
— Сухая, я смотрел. Сиди, отдыхай —я за дровами. А то пошли со мной?
— Куда? — снова — теперь уже жалобно — отозвался сын. Он бросил сумку и присоединился к отцу в знак протеста: пусть мне будет хуже.
Отец отыскал в лесу высохшую ёлку, без видимого усилия повалил её и потащил к месту ночлега, по пути показав сыну вторую такую же. Артём толкнул дерево, но оно, вместо того, чтобы упасть, с неожиданной злостью хлестнуло его веткой по лицу. Из глаз немедленно брызнули слёзы, Артём, превозмогая боль и обиду, вступил с деревом в единоборство. Он принялся раскачивать его во все стороны, крутя и бранясь, топчась, подпрыгивая и зависая. Он победил — ёлка пала, Артём выволок её из леса вслед за отцом. Там они споро обломали руками сухие ветки и вершинку; ствол ломали ногами — пару раз — дальше из-за толщины ствола дело не пошло, и они его бросили. И так дров навалом. Отец навертел из берестяных плёночек запал, прикрыл его наполовину горстью тонких веток и протянул спички сыну. Артём, волнуясь, чиркнул одной, поднёс—огонь не подвёл: полыхнул, жёлтым быстрым языком ощупал чёрные ветки, довольно крякнул и захрустел ими весело и жарко. Быстро занялись дрова.
Стало темно. Артём почувствовал голод. Отец насадил дольки сосисок на ветку, наклонил над костром. Через две минуты получилось такое объеденье, что Артём сгрыз его вместе с веткой и только затем сметал гору кусков хлеба, всё время забывая откусить от помидорки, которую то и дело подсовывал ему отец. Хлеб вызвал жажду, и он (не без колебаний) принял от отца бутылку пива: воды у них не было.
Бутылку он не допил. Ему стало казаться, что их бивак накрыл чёрный купол с нарисованными — можно дотянуться — звёздами в обрамлении теней деревьев. Тёплая юрта. Ему стало уютно, как в одеяле перед телевизором. Он беспричинно засмеялся и полез в солому — спать.
— Погоди, погоди, — засуетился отец. Ставший вдруг очень-очень близким, смешным папкой, он заботливо надевал на сына свою куртку, хлопотал и приговаривал с давно позабытыми, «папкиными», интонациями: — Ночью холодно будет. А ты вот так вот — капюшон. Здесь застёгивается: тут липучка, а тут кнопки: «пинк-синк» — не по-нашему на кнопках написано. Хорошая куртка. У меня все вещи — друзья. Вот. Нашему Тёмке будут потёмки.
Какую-то чепуху городит, — смеялся Артём и страстно желал продолжения — чтобы отец хлопотал над ним подольше, уминал его в своей просторной, душистой, надёжной, как отчество, куртке, чтобы тискал его и тетёшкал, как маленького.
— Кулиску мы ослабим, а подол подтянем. У неё ещё вот здесь регулируется. И тёплый жилет подстёгивается, с карманами. Люблю карманы везде. Во-от. Добрая вещь. Для доброго Тёмки...
Утром Артём проснулся в куртке весь с ногами, как в мешке: ночью от холода втянул ноги и спал так — в позе зародыша. С трудом разогнулся и вылез — родился из отцовой куртки ножками вперед.
Сперва он ослеп от солнца и содрогнулся от свежего воздуха, потом приморгался — увидел тлеющий костёр, отца возле на корточках. Приблизился, щурясь.
Отец уже нашёл где-то воду и согрел её в золе. Он подал сыну чумазую бутылку, отломил краюху от каравая, кивнул на соль.
Вода была чистая и тёплая, хлеб — неописуемого, сказочного вкуса. И всё вокруг казалось сказочным спросонья—безмятежным и беспечным, без воспоминаний, без надобностей — просто лес. А они — лесные беспричинные жители. Они здесь живут всегда. Артёму не хотелось покидать это место, и отец не спешил. Просто сидели на валежине, жмурились на солнце — отогревались с ночи, как две мухи.
Невольно вспомнилась мать. Уж она бы тут не рассиживалась, — Артём усмехнулся. Конечно смешно — мать в лесу: безостановочные команды, безумная спешка, суета. Да она и не заблудится никогда. Да она весь лес повалит, чтобы только дитя на дорогу вывести. Не то что отец. Хорошо это или плохо?
— Вон на том краю поля мы с твоей мамой в соломе ночевали, — внезапно оживился отец, даже привстал. — Ровно восемнадцать лет назад. Звёзды были...
Он замолчал, а у Артёмки вдруг ни с того ни с сего перехватило дыхание: сдвинулись горы у него на душе, сдвинулись с привычного места, и сразу дали себя знать их невероятная тяжесть и гигантские размеры — годы, горы, горе — за что? Исчезли привычные виды — а с другой стороны открылись новые удивительные дали...
— А может, это не то поле, — бормотал отец, вглядываясь в собственные дали. — Похоже. Ладно, пойдём. Отсюда до Рассольной верста, не больше. Там живёт мой отец. Там будет твое отечество. Это приказ, — добавил он и рассмеялся.
ЛАМБАДА В ФАРТУКЕ И ГИПСЕ Киноповесть
«Эпизод 1. Крупно: рука размешивает ложечкой в стакане белую жидкость, по виду напоминующую сметану. Передаёт стакан в женскую руку. Женщина подносит стакан к губам и по приказанию из-за кадра делает звучный глоток. Крупно: лицо мужчины с бородкой, он сосредоточенно глядит перед собой (на экран рентген-аппарата). В кадре негативное рентген-изображение женщины — пищевод, желудок — по пищеводу катится порция проглоченной «сметаны»: идёт рентгеноскопия желудка при помощи бариевой смеси. Мужчина с бородкой — герой фильма рентгенолог сельской больницы Рудомётов».
Дима Монькин, кудрявый, сидит на краешке стула, читает киносценарий. Говорит Калачову уважительно:
— Я тоже хочу сценарий написать. Я Маркеса люблю.
— Дело хорошее.
— А с чего начать? Вы не посоветуете?
Калачов молчит. Похоже, думает. Ему на вид лет сорок, он худ и лохмат, глядит тревожно.
Голос из коридора: «Ну мы едем или нет?».
Дима Монькин Калачову:
— А?
Тот:
— А?
Дима сызнова:
— Я говорю — хочу сценарий написать. Я Маркеса люблю.
— Ну?
— А с чего начать — не знаю.
— А для кого сценарий?
Дима открывает рот, потом понимает, что это ответ, и радуется: а-а.
Двухэтажный кирпичный дом купеческой замысловатости, старый, чёрный, страшный, с могильным провалом арки. К арке медленно, словно сопротивляясь судьбе, приближается старенький микроавтобус белой масти. Здесь всё чуждо его автомобильному разуму: и стены тоннеля, которые и не стены даже, а какая-то жуткая комбинация чёрных кирпичей, нарочно устроенная, чтобы обвалиться однажды на бедного старика и похоронить его навечно; и этот кошмарный уклон въезда во двор; и зловредная ступенька поперёк въезда; и мёртвый остов невезучего «газика» там, во дворе...
Из кабины микроавтобуса выпрыгивает Михалыч, фирменно джинсовый с головы до ног. Он хлопает дверцей и уверенным шагом спускается в подвальное помещение страшного дома, там — киностудия.
Киношный хлам по пути Михалыча: корявый пень, груда коробок из-под спирта «Ройал», скелет ёлочки с остатками новогодней мишуры, вертолётные колёса, человеческая нога (вблизи — пластмассовая), королевский бархат занавеса, газовый баллон с надписью «иприт», детская кроватка, наполненная проросшей картошкой. Направо — комната с Димой Монькиным и Калачовым. Михалыч, не замедляя шага, идёт дальше.
Телефон, забинтованный синей изолентой. Над телефоном Петя Денежкин и Лейбниц. Петя Денежкин, поджарый, в чёрной майке и джинсах, шипит Лейбницу:
— Убийца. Набери еще раз.
Лейбниц, в белой сорочке, лысый и в очках:
— Петя, не набирается, ну что я сделаю.
— Убийца. Лучше бы ты себе руку отрубил. Или ногу. Лучше бы ты повесился.
— Петя, ну давай завтра поедем.
— Ты соображаешь?! Каждый день —три миллиона!
— Петя, ну давай поедем сейчас, а по дороге позвоним.
— Куда? А если его нет?
Лейбниц пугается:
— Как? Вообще, в природе?
Входит Михалыч.
— Вы всё о природе, а караул, между прочим, устал. — Садится. — Ну что, не отзывается? Так может, не поедем? А?
Все задумываются. Михалыч в джинсовой паре, операторской кепке и со значком Союза кинематографистов на груди.
— Широкоугольник взял? — тихо спрашивает его Петя Денежкин.
— Обижаешь, начальник.
—Ладно, едем.
Михалыч переглядывается с Лейбницем. Все встают разом.
«ЕрАЗ» — микроавтобус Ереванского автозавода, Михалыч любя зовёт его «армяном». «Армян» только снаружи маленький, а внутри он огромен, как «боинг». В нём помещается: большая кинокамера «Кинор», малая кинокамера «Конвас», чемодан с оптикой, аккумуляторная батарея, деревянный штатив,
четыре «яуфа» — круглых контейнера с киноплёнкой,
осветительные приборы — «бэбики»,
штативы к ним,
электрический кабель,
портфель с инструментами,
еще три «яуфа» с киноплёнкой — про запас,
чемодан с магнтофоном «Ритм-Репортёр» и плёнкой к нему,
чемодан с микрофонами,
кухонная электроплита на две конфорки,
коробка с утварью,
коробка спирта «Ройал»,
ящик вина «Изабелла»,
ящик картошки,
канистра бензина (сено «армяну»), запасное колесо, самовар электрический, канистра с питьевой водой,
Петин спиннинг, волейбольный мячик,
афиши, буклеты, кассеты, значки, другие подарки туземцам, шампуры в чехле, транспарант «КИНОСЪЁМОЧНАЯ», пять сумок личных вещей,
пять человек команды: Петя Денежкин, Михалыч, Лейбниц и Калачов — четверо. Значит — четверо. Чья это сумка?
Хлопают дверцами и трогаются в путь, а несчастного Монь-кина опять, как и в прошлый раз, оставляют на телефоне.
«Эпизод 2. Общий план: коридор сельской больницы, очередь в рентген-кабинет. Обшарпанные стены, приглушённый разговор. Идёт приём больных, больные — сплошь люмпены, персонал с ними бесцеремонен. Детали кабинета: свинцовая перчатка, свинцовый фартук —для защиты врача от излучения, снимки кистей, ступней и рёбер сушатся в ряд. Обращения медсестры к герою: «Доктор... Эдуард Филиппович...» — образ героя безукоризнен. Он терпелив и лоялен, крупные планы невозмутимого лица накладываются на перебранку персонала с больными пьянчугами — те ещё не «просохли» и переломов своих не чувствуют. Реплика Рудомётова: «Сегодня понедельник —
день рёбер». На стене кабинета — женский портрет».
Первым делом киногруппа едет пить пиво в Семени-хино. Там же берут пятого — второго. В смысле: пятого члена команды — второго кинооператора по фамилии Власов; он уже заждался и начал нервничать. Власов — крупный, осанистый мужчина, он курит, как пьёт, — прогнувшись.
— Познакомься, кстати, — говорит ему Петя Денежкин, влезая в машину. — Это Калачов — наш сценарист и звукооператор по совместительству.
— Где? A-а, очень приятно.
— Наш язык и уши, так сказать, — продолжает Петя Денежкин, удобно устраиваясь и начиная млеть от выпитого. — Так: язык — есть, уши — есть, два глаза — на месте. Лейбниц, ты будешь — нос. Держи его по ветру.
— Петя, а ты у нас — кто?
— Я? Ммм...
Компания оскорбительно гогочет.
— Ни слова, господа офицеры! — кричит Петя Денежкин. — Я — ваша ум, честь и совесть!
Снова гогот.
— Я с вами только до двадцать пятого, — сердито подаёт голос Михалыч. Он за рулём, ему пиво нельзя, он молчит и злится.
— Это почему?!
— У меня съёмка «Кудели».
— Вот блин! Какого хрена! — кричит Денежкин. — Никаких «Куделей» — контракт есть контракт! Михалыч! Ты джентльмен или хвост собачий?
Михалыч отчасти удовлетворён. Бормочет примирительно:
— Увидим.
За окошком плывет степь, табачные поля, ряд пирамидальных тополей в знойном мареве лета.
Остановка в Старотитаровке. Плетни, виноград, чучхе-ла, гипсовый Ленин перед коммерческим банком, обочины дорог усыпаны абрикосами. Огромный чёрный ворон сидит на кабинке туалета. Завидев ворона, Петя Денежкин подсылает к нему Власова с «Конвасом». Массивный Власов крадётся, смешно отставив зад, целит кинокамерой из-за плетня. Петя зверским шёпотом зовёт Калачова, чтобы тот записал на магнитофон крики птицы, но чёртов звуковик его не слышит. Вот так всегда: звуковик не слышит, оператор не видит, режиссёру всё только нравится — фильма нет. Вот так и работаем, плюётся Петя. Ворон, конечно, не дался, улетел.
Из банка возвращается Лейбниц, с важным видом выдаёт каждому аванс. Компания гурьбой идёт в универмаг. Обнаруживают там удивительно низкие, ещё доперестроечные цены на жидкость для чистки канализации под названием «Эльф», победитовые свёрла и польские презервативы. Каждый покупает себе флакон «Эльфа», сверло и презерватив.
— Плохая примета, — озабоченно качает головой Власов: — Как презерватив купишь — так сглазишь.
Калачов вместо жидкости для чистки канализации купил себе ботинки. Дешёвые, но вполне пригодные, подрезал только сбоку немного, чтобы не тёрли, и пошёл. Старые выбросил — повеселел.
— Калачов.
— Что, Петя?
— Завтра съёмка, а сценария-то — нет.
— Как нет? — меняется в лице Калачов.
— Нет сценария. Конфликт нужен. Нет конфликта.
Расстроенный Калачов садится рядом с Денежки-
ным под каштан, начинает думать вслух:
— Так. Конфликт. Столкновение. Полярные стихии. О! Стихи! Пусть он пишет стихи!
— Для камеры картины лучше.
— Или картины. Тогда с одной стороны будет творчество, а с другой...
— Пусть он будет карлик, — говорит Петя Денежкин сурово. — Художник карлик.
«...На стене кабинета картина — женский портрет яркими красками в манере народного примитива.
Эпизод 3. Отъезд камеры: женских портретов множество, навалом, — это уже мастерская художника. Эдуард Филиппович Рудомётов, оказывается, — художник, он пишет сейчас обнажённую натуру. Перед ним — модель, в ней можно узнать медсестру районной больницы. Модель капризничает, не хочет раздеваться, Рудомётов (всё крупные планы) потчует её вином, осыпает экспромтами, он галантен, остроумен, он в ударе — но женщина не может преодолеть в себе какой-то барьер и вскоре покидает мастерскую художника. Художник остаётся один. Отъезд камеры — оказывается, он плешив, горбат и потрясающе мал ростом.
Эпизод 4. Он варит себе какао. Это его реакция на неудачу. Он не хнычет, не курит на диване (Рудомётов вообще не курит), не проклинает судьбу за своё уродство — он делает простое привычное дело. Лицо его отчуждённо, он двигается по своей захламлённой мастерской, как сомнамбула, часто зевая в глубокой задумчивости. Переживания его скрыты, и зрителю даётся полная свобода воображения. Поначалу зритель приходит в себя от шока, вызванного открытием внешности Рудомётова, и отдыхает в тишине от обилия слов предыдущего эпизода. Только после этого он будет в состоянии оценить пронзительное одиночество маленького человека, затем — его самообладание и жизненную силу, и наконец — магический источник его силы. Ибо Рудомётов — маг. Его действия просты только для обычных людей, для горбуна они — ритуал. Вот горбун варит какао (жуть!). Вот достаёт что-то сверху, ловко вскарабкавшись на стеллаж (огромное количество старинных книг); вот подпрыгивает к выключателю (сальное пятно вокруг и ниже выключателя); вот он ворочает рамы с холстами. Вот наконец он погружается в свою живопись. Постепенно возбуждается, входит в экстаз — машет кистью, вытирает её под мышкой, спешит, — и зритель начинает догадываться, что никакой он не художник, а — колдун, и «картины» его — это цветные заклинания реальности».
— Литература! — Петя Денежкин презрительно возвращает Калачову исписанные листы, но тут же забирает их обратно. — Ты мне покажи его, покажи! Где он? Я его не вижу!
«Зрителю неизбежно бросается в глаза, что гигантские для роста Рудомётова предметы им не освоены и не могут быть им освоены никогда. Он в квартире чужой — ловкий маленький тролль. На общих планах его возня среди отчуждённых предметов жутковата. При переходе на крупный план, когда он задумывается, закинув голову и касаясь взъерошенным затылком горба, он трогателен».
Выжженная солнцем равнина, поросшая мелкими, пыльными колючками. Расплавленное шоссе, по нему плывёт в мареве по самую крышу белый микроавтобус с пластырем под глазом: «КИНОСЪЁМОЧНАЯ».
За рулём — Михалыч. Тормозит.
— Всё, приехали.
— Заклинило?
— Нет ещё. Но через три метра заклинит.
Выползают по одному — все в плавках, вялые, грязные, — садятся на корточки в тень «армяна». Бесполезно: от асфальта жар тот же, нет спасения.
ВЛАСОВ (тусклым голосом). Где мы?
МИХАЛЫЧ. В Африке. Я сказал — я с вами до двадцать пятого: у меня — «Кудель».
ЛЕЙБНИЦ. А может, лучше позвонить по телефону куда-нибудь?
ВЛАСОВ. Спятил.
МИХАЛЫЧ. У тебя воды не осталось, Лёха? А в термосе?
ПЕТЯ ДЕНЕЖКИН. Калачов.
КАЛАЧОВ. А?
ПЕТЯ ДЕНЕЖКИН. Ты не знаешь, почему мы здесь?
КАЛАЧОВ. Ты же сам сказал: надо море.
ПЕТЯ ДЕНЕЖКИН. Твоимать. И где оно?
КАЛАЧОВ. Там. И там. Здесь два моря — Аральское и Чёрное. Петя, в чём дело, ты мне вообще Венецию заказывал — забыл?
ВЛАСОВ. «Изабелла» еще осталась?
ПЕТЯ ДЕНЕЖКИН. Я вообще-то думал, что этот хрен будет проживать где-нибудь в средней полосе. Спиннинг взял.
КАЛАЧОВ. Здесь двенадцать километров до станицы Фанагорийской. Там кефаль. Помидоры — вот такие. Чача. Селянки. Раскопки древнегреческие.
ПЕТЯ ДЕНЕЖКИН. А Рудомётов у нас — кто? Археолог?
ЛЕЙБНИЦ. Рентгенолог.
КАЛАЧОВ. Можно переквалифицировать.
МИХАЛЫЧ (раздражённо). Мне, конечно, наплевать
— но всё это делается заранее!
ВЛАСОВ. Вот именно.
МИХАЛЫЧ. Поиски жанра, бля.
ЛЕЙБНИЦ. А я, кстати, говорил — рано едем.
ПЕТЯ ДЕНЕЖКИН. Калачов.
КАЛАЧОВ. Что?
ПЕТЯ ДЕНЕЖКИН. Лучше бы ты отрубил себе руку.
«Эпизод 5. Панорама заснеженной натуры средней полосы России. В чистом поле — занесённый наполовину деревянный дебаркадер с крашеными полуколоннами в стиле пролетарского классицизма. На дебаркадере под баграми сидит маленький горбатый художник Рудомётов. Смотрит вдаль. Ест снег».
— А тут — гармошка, свист и топот! — вмешивается Петя Денежкин. — Срочно наступает лето, река размораживается, на реке —лодки с парочками. И сквозь них, как ледокол, плывёт эээ... военный катер!
— А на нём — Рудомётов в пиратском наряде, — форсирует неожиданную идею Калачов, — и с саблями в руках! С огромными саблями!
— Ну да, и с полыми актрисами — как всегда, — иронически фыркает Власов.
— Кета™, да! На баке—кордебалет варьете с плюмажами!
— Варьете нас разорит, — суётся с дёгтем счетовод Лейбниц. Его не слушают.
— Гарсон во фраке пробирается с золотым псдносиком. На подносике шампанское в хруслалях...
— Лучше — спирт «Рояль» в эмалированных кружках.
—Шампанское, сигары...
—Сигары! Сигары! Записывай, Лейбниц! Пошёл сценарий!
«Эпизод 6. Сигары. Морские фуражки. Плюмаж, актрисы. Советское шампанское. Спирт «Ройял». Гармошка. Гармонист без зубов. Пиротехника. Рация. Флажки разноцветные. Гирлянды цветов. Гигантские плакаты «Водная феерия» с жирными русалками. Местные жители — восторг. Шашки, шахматы, греко-римская борьба, гиревики, ВИА, пончики, самовары, кокошники, Петрушка (Макс), учёный медведь, селянки, спонсоры, гаишники, День кино — творческая встреча населения с кинорежиссёром Петром Алексеевичем Денежкиным, лауреатом международных фестивалей в номинации неигрового кино».
— Имею право!
Оживлённый разговор на фоне роскошного заката. Из двух спорящих виден и слышен только один — Петя Денежкин. Его оппонент загорожен «ЕрАЗом». Театр теней — Петин силуэт спорит с силуэтом микроавтобуса:
— Неигровое кино — субъективная кинодокументалистика! Субъективная! Я художник, а не регистратор: имею право сгущать краски. Спрессовывать время. Трансформировать пространство. Организовывать ситуацию, чёрт побери! Жульничать, да! Главное, чтобы никто этого не заметил.
Оппонент молчит. Закат полыхает. Петин силуэт злится:
— Кино —это иллюзия, ты забыл? Иллюзион, и ничего больше! Хочу и буду! И никто мне не запретит, ещё премию дадут.
Со знойными степями покончено. Сельский пейзаж средней полосы России, вид с горки. Вдали синяя река, вблизи старый деревянный зерноток с башенкой, вокруг него — будто взрывом разбросанные части сельскохозяйственных машин. По шоссе к селу катится белый микроавтобус, упорно именуемый в женском роде — «КИНОСЪЁМОЧНАЯ». В боковом окошке микроавтобуса чьи-то весёлые физиономии; озорники дружно крестятся на зерноток, как на церковь.
Муравьиная тропа проходит по порогу распахнутой двери. Муравьи бегут не дальше, не ближе — а по самому порогу от косяка до косяка и далее, в траву, они бегут двумя встречными потоками, перемешиваясь, сталкиваясь. Муравьи встревожены: над ними проходит людская тропа — огромные башмаки перешагивают через Муравьёв, но иногда наступают, и тогда — море крови, десятки увечных, жалкие угрозы небу оставшихся бойцов...
Потрясённый их трагедией Калачов сидит на корточках возле двери сельской гостиницы, свесив голову к порогу. Мимо него Михалыч и Власов в неодобрительном молчании таскают аппаратуру и пожитки из машины в гостиницу.
Затащив всё и заняв египетскими пирамидами два четырёхместных номера, Михалыч и Власов падают на койки и несколько минут лежат без движения. Затем Власов подаёт голос:
— Ну что, Михал Михалыч, — тощаковую?
После непродолжительного раздумья Михалыч отвечает в тон:
— А я бы, знаете, Константин Терентьевич, сопротивляться бы не стал.
Власов пружинисто вскакивает с постели, вытягивает из-под кучи вещей бутылку «Изабеллы», пару стаканов располагает на чемодане между койками и наливает вино: в каждый стакан на две трети. Выпивают молча, с наслаждением.
После этого Власов немедленно закуривает, а Михалыч задумчиво хрустит маковой сушкой.
— Лепота.
— Так вот и я о том же.
В номер влетает Петя Денежкин. Он драматически восклицает:
— Дождь! — и падает на койку, сражённый бездарностью небесной канцелярии. — Это будет моя худшая фильма.
Сочувственное молчание.
— Винца не желаете, гражданин начальник? — осторожно предлагает Пете Михалыч.
Тот неожиданно соглашается. Появляется третий стакан.
Потом появляется четвёртый: возвращается с бумагами Лейбниц, у него мокрая от дождя лысина.
Потом появляется вторая бутылка.
Потом — третья: возвращается с головы до ног мокрый Калачов. Он тащит обрубок дерева, отдалённо напоминающий женский торс, и радостно кричит:
— Тут рядом река!
Все наскоро чокаются, пьют, бегут купаться под дождём. Песня восторга толчками, как гигантская водомерка, скользит над взъерошенной водой:
— Солнце всхо-всхо-всходит И захо-хо-ходит...
Из небытия зловеще выплывает голубой дебаркадер с белыми деревянними полуколоннами в стиле пролетарского классицизма.
Крашеная синим стена гостиничного номера. Посередине стены — серое цементное пятно в виде африканского континента с бегущим по экватору тараканом. Накурено.
Заплетающиеся слова:
— Пусто, батенька, пусто. Ноль.
— Как это пусто? Какой такой ноль?
— А вот такой ноль — круглый. Баранка, значит, сушка. Сушку видишь? Ам — и нет сушки, пусто. Нет героя, батенька, нету.
— Как это нет? Я его чуствую. Чу! Вот он уже ноги вытирает.
— Не знаю, что он там вытирает. Нет ге-ро-я! Нету!
Нет фильма.
— Как это нет?! — Калачов возмущённо вскидывается: он лежит головой на коленях рыжей девицы позднего комсомольского возраста. — Столько превращений: этот... рентгенолог! художник! горбун!! колдун!!! Скажи ему! — апеллирует он к девице.
— Тише, тише, — девица цепкими лапками возвращает Калачова на место.
— Давайте в бутылочку, чё вы как эти-то! — кричит вторая гостья, вся в пуделяшках. Она сидит в обнимку с растерзанным Петей Денежкиным и курит сигарету без фильтра. Петя строит ей рожу и сложным движением поворачивает голову обратно к Калачову. Находит его глазами и повторяет:
— Нету. Фильма. Это телепередача, дядя. Конфликт, конфли-икт — где? Пусть ему морду побьют.
— Кому?
— Рудомётову.
— Он же карлик!
— Во-от. Из ревности. Он сексуальный маньяк.
— Это перебор.
— Ты жизни не знаешь, дядя. Ещё в писатели записался. Все карлики — сексуальные маньяки. И всех бьют. Пусть ему руку сломают.
— Так вы мафия что ли? — гнусаво пищит Петина девица. — Обожаю мафию.
Калачов протестующе вырывается из комсомольских объятий, направляется к двери, вслед ему летят штаны.
За всеми окнами, куда ни сунься, — дождь.
В соседнем номере щекой на столе лежит, посвечивая лысиной, пьяный Лейбниц — без очков неузнаваемый.
— Лысый, вставай! — командует он Власову.
Власов, сидя на койке, киснет от смеха: лысый в комнате только один — Лейбниц. Получается, Лейбниц командует сам себе.
— Лысый козёл! — злобится на Власова пьяный Лейбниц. — Баран. Чикатило. Очкастый негр.
Входит расстроенный Калачов. Без спросу берёт чьи-то сигареты, закуривает, садится напротив Власова со словами:
— Достал меня Деньгович.
— Это он умеет, — зевает Власов.
— Еще один лысый козёл, — сообщает Лейбниц. Калачов, как ужаленный, разворачивается к Лейбницу, глядит на него секунду, потом ухмыляется: а, это пьяный Лейбниц.
Калачов шепчет Власову про Петю, округляя глаза:
— Он уже руку сломал герою.
— Это он умеет.
— Зачем?!
— О-хо-хо, — не то вздыхает, не то зевает Власов. Он курит сидя, развернув плечи, сигарету подносит ко рту не напрямик, а по космической параболе.
— Нет, зачем так грубо?! Грубо-то зачем?! Не понимаю.
— Ты —как Паниковский, ей-богу.
Калачов качает головой:
— Мы творим уродов. Мы творим уродов.
— Меня мучит другой вопрос, — скребёт щёку Власов.
— Ты не знаешь, Калачов, чьи это туфли?
— И ничем даже не компенсируем, — гнёт свое Калачов. — Ты понимаешь, кто мы после этого?
— Представляешь, — удивляется Власов, — Спускаю ноги с постели — дамские туфли. Откуда? Дамы вроде не было. Или была?
— Это твои вожделения выпали в осадок, — ехидничает из-за стола пьяный Лейбниц.
— Неужели тебе всё равно?! — не отстает от Власова Калачов.
— Да, мне всё равно. — Власов невозмутим. — Мне скажут: туда фотографируй — буду туда фотографировать. Мне дочке платьице надо на день рожденья купить. У меня дочка куклу Барби просит.
Входит Петя Денежкин, запирает за собой дверь на ключ. С той стороны умоляющие рывки — Петя тоненько смеётся. Подходит к столу. Трогает Лейбница:
— Жив? Коньяк есть?
Лейбниц ему дерзко:
— Лысым не отпускаем.
Петя:
— Напился, лохматый. — С опаской нюхает «Ройал».
— Почему коньяка нет? — Выпивает, хрипит: — Лейбниц, убийца! Лучше бы ты повесился. — Садится, обнимает Лейбница: — Знаешь, какая твоя проблема, Лейбниц? Ты слишком честный. Ты не Лейбниц даже, ты — Кукушкин. Я так и буду тебя звать — Кукушкин. Почему коньяка нет, Кукушкин? Потому, что ты не воруешь, Кукушкин. А ты воруй! Но чтоб коньяк — был!
— Петя, — укоризненно, с восточным акцентом начинает Калачов. —Ты маленький был? У тебя папа-мама был? Ты почему такой злой, Петя?
— Это что? Это наезд?
— Ты зачем герою руку сломал? Зачем его горбатым сделал?
— Все ясно. Ты уволен! Все уволены!
— Мы творим уродов, — бросив акцент, мрачно заявляет Калачов.
Петя Денежкин задумывается.
— Сейчас ты мне про карму будешь вкручивать политграмоту... знаю я тебя... Это не мы, это жизнь творит! А мы её, блин, отражаем. Мы — зеркало русской елдорай-ской революции! Неигровое кино из всех искусств является честнейшим! Потому, что ничего не надо выдумывать. Потому, что всё равно страшнее жизни ничего не выдумаешь.
— Девкам иди рассказывай про зеркало, — грубит Калачов. — Ты вожделения свои отражаешь, а не жизнь. Населяешь мир своими монстрами и ещё нас в это дело втягиваешь. Ты сатаноид!
— Ну всё! Хватит! Никто тебя больше не втягивает! Мотай отсюда! Где твои вещички?
Власов:
— Чё вы тут разорались. Идите вон на улицу.
Но Калачова понесло. Он разворачивает стволы на Власова:
— А ты — оператор — живешь зажмурившись! Все над тобой режиссёры! Барби, кстати, — это тоже сатанизм! Блеф! Опиум! Насос для выкачивания денег из твоего кармана!
Власов, грозно:
— Ты Барби не трогай. У моей дочки и так ничего нет, кроме мечты. Так что ты, учитель, заткнись лучше, а то ударю.
Лейбниц:
— Я же говорил — все козлы.
Тьма. Голос Пети Денежкина во тьме:
— Господа алкоголики, подъём! Через двадцать минут — съёмка!
Вспыхивает утро. Падают стены гостиничного номера, обнажается интерьер с койками, чемоданами и мусором — всё заливает солнечный свет и свежий воздух. Ночной срам виден всему миру. Пряча лица, киношники подбирают одежду, Михалыч, сидя на койке, с недоумением рассматривает бильярдный кий, накрепко зажатый у него в руке.
— Так... — что-то вспоминает. — Так... Ага...
— Ё-моё, — Власов, опухший и взъерошенный, натягивает брюки. — Ремень лопнул... Вот вчера спирту напился — аж ремень лопнул.
— Господа, — треснутым голосом молвит Лейбниц.
— У меня есть эксклюзивная мечта — опохмелиться.
— Щас тя Деньгович опохмелит.
Стены помещения восстанавливаются в парусиновом варианте —белыми, пересечёнными солнцем, приятно колышущимися от ветерка. Внутри уже чисто, уютно, Лейбниц тащит самовар. Михалыч что-то режет, Власов жует, Калачов с виновато прижатыми ушами из-за стола еле виден.
Бравурная духовая музыка. К крыльцу с муравьиной тропой подползает, раздвигая листву, гигантский сверкающий автобус, из него выпрыгивает Макс — шустрый малый в рубахе-«расписухе» и маленькой нахимовской фуражке на темени. Он не умолкает ни на минуту:
— Так: девочки, становись, смирно, вольно, можно оправиться и закурить: оправиться туда, закурить сюда — прошу не путать! О соле, о соле мио! Се грандотель, се грааандотеель!
Автобус сочится народом: выпрыгивают и немедленно закуривают актрисы в бикини; счастливый Дима Монь-кин тычется туда и сюда со стопкой разноцветных флажков; бородатые Петины гости из города вытаскивают коробки шампанского, сигары, удочки, ласты, маски, шезлонги, надувные матрацы; блаженно щурясь, сходит спонсор с пейджером, следом — его пышноволосая жена и две дочки в миленьких шляпках; разбредаются приехавшие на съемку фоторепортеры областных газет; подоспевший редактор местной многотиражки приглашает Петю Денеж-кина вечером «на щуку». «Ловить?» — свысока уточняет Петя. «Нет, есть», — редактор жестами, как иностранцу, показывает Пете, что щука уже поймана и нафарширована. Петя в режиссёрской робе, меченой Барселоной, с козырьком на лбу и рацией через плечо вид имеет геройский.
Гомон и суета нарастают. Макс уже пляшет «яблочко», девчонки что-то пьют, Лейбниц бегает, как угорелый, все утрясая и улаживая.
А на той стороне реки — тишина, кузнечики. На той стороне реки сидит в засаде Калачов. Теперь он звукооператор. Перед ним маленький катушечный магнитофон, на голове —большие наушники, в руках — странная штука, похожая на гранатомёт, — микрофон с ветрозащитой. Калачов не один: неподалеку жуёт травинку Михалыч в обнимку с большой кинокамерой «Кинор» на треноге.
Рация на бедре Михалыча шкварчит голосом Пети Денежкина:
— «Берег», «Берег», я «Катер», как меня слышно? Приём.
—«Катер», слышу тебя хорошо. Приём,—отвечает Михалыч.
— «Берег», сейчас мы идём вверх по течению метров сто, разворачиваемся, врубаем музыку, дымы, моторы — жарим мимо вас. С тебя, Михалыч, общий план на фоне села. Как понял? Приём.
— Понял — общий план на фоне села на обратном ходе.
— Михалыч! — шипит со своего поста Калачов. — Михалыч! Скажи ему, что его голос в микрофон попадает. Пусть помолчит.
— Петя, тут Калачову твой голос мешает. Приём.
В ответ раздается такой мат, что мембрана рации залипает и лишь пищит и тренькает, не в силах передать всей Петиной экспрессии. Калачов никнет, Михалыч трясётся от хохота.
Рация выключена.
Арендованный у военных катер увешан флажками и плакатами, разрисован весь, от топа до ватерлинии, яркими звёздами, стрелами, рыбами и вражескими буквами, он сдан, осквернён и обесчещен, но ко дну не идет — он не «Варяг», нет, он не «Варяг» — ноя сиреной, послушно отваливает от деревянной пристани и во всём этом диком клоунском наряде да с полуголыми штатскими на борту дефилирует мимо села. Заливает волной берег и злорадничает втихомолку.
Вот катер проходит сто метров вверх по реке, там разворачивается и теперь чешет вниз, стреляя во все стороны сигнальными ракетами, дымя цветными дымами, брызжа шутихами. Вот он проходит вблизи — на палубе тарарам: верещит гармошка, девки пляшут, скачут бородатые гости, на баке орёт стихи маленький головастый Рудомётов, трубит в горн Макс, спонсор, разгорячась, стреляет из пистолета в небо. «Алё! Стой!» — кричит им с берега Михалыч; его никто не слышит.
— «Берег», «Берег», как снято? Приём, — вскоре включается рация.
— Да как — брак: перфорацию порубило, — сердито жалуется Михалыч.
— Твоимать. Ладно, второй дубль.
Второй дубль. Катер в молчании проходит вверх (на палубе сосредоточенно разливают), разворачивается. И тут в тыл к Калачову, нацелившему свой микрофон на объект и затаившему дыхание, заходит какой-то чумазый деревенский пацан несомненно дебильной наружности. Парень движется напрямик, не разбирая пути, тянет вперёд руки. Добравшись до Калачова, хватает его за рукав и произносит громко и радостно: «Папа!» — Калачов роняет микрофон и дико смотрит на пацана. Тот в совершенном восторге оглядывает его амуницию: магнитофон, наушники, сетчатую трубу микрофона — и шевелит пальцами, не зная, что цапнуть в первую очередь. «Дай!» — требует он и каким-то образом хватает всё сразу одновременно. Завязывается борьба. Михалыч обалдело замирает, забыв про камеру, и когда рация Петиным голосом требует доклада — чертыхается и вопит:
— Брак по звуку! Третий дубль давай!
Рация снова пищит и тренькает. Мапьчик-дебил исчезает, как похмельный кошмар, Калачов трясущимися руками восстанавливает аппаратуру. Катер заходит на третий дубль. Но это, конечно, уже не то. Выдохлись дымовые шашки, кончились ракеты, девицы окосели и устроили на палубе свалку. Рудомётов в фуражке Макса барахтается среди них и, как тот пацан, умудряется лапать всех сразу. Макс охрип, горн утопили, спонсор вымазал белые штаны о трос.
— Всё отлично! — кричит Петя Денежкин, спрыгивая с катера на пристань. — Крупные планы — потрясающие. Чарку Власову!
Власов гордо выносит свою вторую камеру с корабля на берег. Вот поди ж ты: снято.
«Эпизод 7. Судебное заседание. За барьером под присмотром милиционера — скучный рыжий парень по фамилии Радостев. На трибуне перед судьёй — потерпевший Рудомётов — маленький, горбатый, он стоит на ящике из-под кинокамеры, левая рука в гипсе, держится независимо. Судья — женщина: мантия, строгий вид, волосы кольцами от бигуди. Перед нею — явно киношный микрофон, провод уходит за кадр.
СУДЬЯ. Слушаются показания потерпевшего.
РУДОМЁТОВ. Ну чё, зашел я после работы в пивбар, взял две кружки пива, а там этот — Радостев выступает. В смысле: он уже подшофе и разговаривает, значит. Ну, я сел в сторонку, а Радостев ко мне подходит и деньги за икону требует. А у меня денег нет...
СУДЬЯ. Что за икона, поясните.
РУДОМЁТОВ. Да он мне в том году принёс икону, за бутылку, я же художник — они все, алкоголики, мне иконы носят и книги строгановские: ну выпить-то охота, чё. Я ему бутылку поставил — тогда, сразу же, хотя иконы и не просил никогда, — а нынче он опять. Услышал где-то, будто иконы дорогие. Я ему: забери, говорю, свою икону обратно. А ему не икону надо. Он говорит: тебя в кино снимают, миллион заплатили. А кто мне платил?! Никто мне не платил! Чё, дурак что ли, — это я ему говорю. Я думал, ему денег надо, а ему и не денег надо. Я думал, может, просто так, скандалит, — тихо, говорю, я сейчас уйду. А у него, оказывается, ко мне классовая ненависть — он берёт кресло...
СУДЬЯ. Что за классовая ненависть, поясните.
РУДОМЁТОВ. Так я же художник, чё тут непонятного. Они все меня ненавидят. Я как белая ворона. Я всегда жертва. Я жертва по жизни — это видно невооружённым глазом за километр. А где жертва, там и палач. Ну вот. Полный комплект теперь. К тому же у него вольты подозрительности на почве пьянства, сцены ревности: он свою жену по селу гонял — это все видели.
СУДЬЯ (в изумлении теряет такт). Ревности? К вам?!
РУДОМЁТОВ (как ни в чём не бывало). Ко мне, а к кому ещё. Он же думал, что его жена на корабле со мной плавала, что там вообще всё село плавало, кроме него, разумеется, он в своем пивбаре всё пропустил.
СУДЬЯ. Так. Так. Ладно. И что: вот Радостев берёт кресло...
РУДОМЁТОВ. Ну и кинул его в меня, чё. У меня звёзды из глаз. Калеку, говорю, бьёшь, фашист. Он берёт другое кресло и — меня ловить. А я маленький — проскочил под ним и побежал по улице, как заяц. Прямо в больницу. Я в больнице работаю. Вот — гипс.
В зале уважительная тишина: вершится правосудие. Публика в плащах и ватниках. За окном — серый ноябрь».
На фиг ноябрь. Обратно лето.
Дивный вид села с высоты птичьего полета. Парашютисты приземляются на пустыре у реки. Один из них — Михалыч с малой кинокамерой «Конвас» на груди. «Чарку Михалычу!» — голос Пети Денежкина. Всеобщее ликование: лето, праздник. Всё село на берегу. У голубого дебаркадера — большой военный катер на привязи, по нему лазят деревенские мальчишки — скачут, кривляются, обрывают флажки. На спуске к реке —транспарант, с изнанки читается: «ШИНИФ». К нему бежит добрый молодец, рвёт грудью ленточку, следом бежит ещё один, а там — ещё и ещё. Вопят болельщики.
Рассредоточившись, киногруппа снимает жанр в две камеры. Калачов бродит с микрофонным штативом наперевес — пишет звук. Вот духовой оркестр играет с подъёмом нечто военно-латиноамериканское, на помосте девочки в коротеньких расфуфыренных юбочках с большим чувством исполняют танец освобождённых россиян — «ламбаду». Танцуют без мальчиков, мальчиков нет, все мальчики — на военном катере. Девочки извиваются по-хорошему, спортивно, кроме одной, самой рослой, — она как-то не замечает, что уже выросла, — делает то же самое, что подружки, и простодушно радуется всё возрастающему вниманию мужиков к их танцевальному коллективу. Мужики выстроились в ряд перед сценой и застыли в молчании, у каждого в правой руке — бутылка пива.
На волейбольной площадке — выставка Рудомётова, к сетке прицеплены холсты в рамах. По площадке, как по ярмарке, движутся нарядные селянки, на цветистых холстах местного живописца ищут знакомые физиономии; находят и шумно радуются. Такой аттракцион. «Уважаемые односельчане! — Лариска из клуба вещает по радио. — Кто хочет покататься на самолёте, идите на стадион. А в пять часов на заливе будет заплыв. Заплыв! Мужчины, берегите силы!». Парни отзываются дружным рёвом. На помосте Макс с большим успехом пародирует Горбачёва: «Товарищи, я категорически заявляю. И там вот это вот, и тут. Переструйке нет артельнативы, как это некоторые подбрасывают, вот».
Сельское начальство сдержанно улыбается. Оно степенно беседует с кинорежиссёром Денежкиным о культуре.
Подбегает Лариска, заговорщически зовёт в клуб.
Здание клуба тревожно знакомо, оно что-то напоминает — дебаркадер! Тот же голубой цвет, тот же ложноклассический стиль: накладные пилястры в два яруса, портики, фронтоны, деревянные колонны с капителями и кри-венько нарисованными белой краской каннелюрами. Клуб
— это выползший на берег и сильно раздувшийся дебаркадер. Кажется, он тащит за собой перевёрнутый и вымазанный в глине катер — так реален и убедителен в яростном сиянии дня его вид. Что-то происходит с пространством. Фантастическая греко-римская базилика посреди русского села никому не кажется кошмаром, но поскольку вместе они существовать не могут, то село уступает, обращается в мираж, в картины Рудомётова. Торжественно наступает Дебаркадер — везде.
Нутрь его.
Там, в боковом нефе, накрыты разномастные столы, на столах: пироги, солёности, разнообразные холодные закуски — именуемые все как одна «салатом», снова пироги, морсы в кувшинах, дешёвая водка, новомодные пластиковые баллоны с иностранной газировкой. Вдоль столов —длинные деревянные лавки. На них рассаживается элита, «сливки общества». Лавки коварны, они косят солидность званых персон, как траву: перешагнуть лавку с надутым видом невозможно, нужна усмешка как минимум, женщине хорошо при перешагивании охнуть или взвизгнуть. Садятся, оглядывают столы, оживлённо что-то передают, кого-то кличут, наливают.
Череда типажей за столом. Однозубый гармонист в синей кепке «Речфлот»; директриса школы в вечернем туалете и с потрескавшимися от прополки огорода руками; накрашенная Лариска — клубная методистка; клубный тренер Витя в новом спортивном костюме с рукавами разного цвета; библиотекарша Милка, похожая на матрёшку; герой — художник-рентгенолог Эдуард Филиппович Ру-домётов, сидящий на подвернутой ноге — и всё равно маленький; директриса сельского музея с янтарным пауком на груди; театральный худрук уже «под мухой»; весёлый рыболов — редактор многотиражки; запевала хора — разбитная бабёнка с двутональным, как у полицейской машины, голосом; озлобленный перестройкой ветеран войны; непоседа-фотокор с «Зенитом»; тучная дама с «халой» на голове — зав районной культурой; председатель райисполкома Егор Иваныч собственной персоной в белой рубашке без галстука; чьи-то босые дети. Все друг друга знают наизусть, тема застолья давно протухла, но тем не менее все рассаживаются с необъяснимой детской надеждой на приятные чудеса. С любопытством поглядывают на мостящихся к столу киношников.
Петя Денежкин, пересчитав соратников, посылает Лейбница за опальным Калачовым. Творческая встреча работников искусств начинается с представления киногруппы.
Песчаный бережок широкой реки. У самой воды стоит на четвереньках худой мужчина с косматой головой — пародия на льва. «Калачов!»—тревожно вскрикивает Лейбниц, подбегает — но нет, всё в порядке, Калачов в здравом уме.
— «Куриного бога» ищу, — поясняет он, трогая мокрые камешки. — Бывает такой — камешек с дыркой — приносит счастье. Тебе надо счастье, Лейбниц? Присоединяйся.
— Тебя зовут, — сообщает Лейбниц. — Там в клубе культура гуляет, тебя зовут. Без тебя никак.
— Культура гуляет? Это ты хорошо сказал, Лейбниц, это надо записать. Культура — гуляет.
— Там все наши, там предрайисполкома. Пойдем, а, Калачов.
— А вот как ты думаешь, Лейбниц, кто главнее — «куриный бог» или председатель райисполкома?
— Блин... — Лейбниц оглядывается в отчаянии. — Ну, Петя зовет, ну.
— Ага, боишься Петю своего. Выше «бога» начальника ставишь. Ты, Лейбниц, — раб. Вот давай — найдем «бога», после пойдём к Пете. Всё должно быть по порядку, иначе счастья нам точно не видать.
Лейбниц со стоном садится на корточки рядом с Калачовым и, как курица лапой, гребёт мокрые камешки — ищет «куриного бога».
Клуб-Дебаркадер, в котором «гуляет культура». Пока ещё всё чинно, но уже слышны игривые бабьи выкрики: «Егор Иваныч, вы нам споёте сегодня?». Егор Иваныч томно кладет руку на грудь и качает головой. Петя Денежкин, прилежно закусывая, то и дело наклоняется к уху председателя и, указывая на привезённого из города гостя, со значением шепчет:
— А вон тот вон, во-он тот, бородатый с носом, — художник Зиновьев, тот самый.
— Тот самый? — поражается Егор Иваныч. — Я в санатории видел его картину.
— Всё сходится, — кивает Петя.
Распахивается дверь. С криком «Нашёл! « входит Лейбниц, он счастлив: на гордо выпяченном животе его болтается маленький камешек на белой нитке — «куриный бог». Но «бога» никто из присутствующих не замечает, все относят победный возглас к идущему следом Калачову. Наступает тишина, все смотрят на Калачова.
— А это, — произносит вслух Петя Денежкин, — писатель Калачов, тот самый.
Он произносит эти слова нарочно попроще, дабы снизить возникшую вдруг нечаянную торжественность и убрать ложный пафос, а получается наоборот, что-то вроде: а это просто — Ленин. Общая растерянность и — аплодисменты. Причём, каждый думает на соседа, что тот в курсе, кому хлопают, и не хочет отставать —аплодисменты усиливаются. Калачов кланяется, принимая их как должное, что укрепляет ладони публики. Хмель довершает дело
— начинается разнузданная овация. «Кто такой? Кто такой?» —тормошит соседа Егор Иваныч. Петя силится что-то сказать, Егор Иваныч вдруг кивает и начинает аплодировать громче всех, сияя радушной улыбкой, — навёрстывая.
Калачову сулят штрафную, вручают стакан, наливают в него водки «стогом», требуют тост. Калачов обводит глазами общество и, видимо, решает, что пора произносить давно заготовленную нобелевскую речь.
—Дамы и господа! — молвит он, и тётки приосаниваются.
По равнине безлюдного Божьего мира сквозит безликий, безымянный, бездомный демон скуки и сам себе надоедает бесконечным нытьём. И когда он сам себе надоедает до последней крайности, он отчебучивает некоторую экстравагантность — и тем живёт. А однажды он отчебучил вот что. Взял и изобрёл кроссовки «адидас». А к кроссовкам изобрёл ноги, к ногам —туловище, руки, немного поколебавшись — голову, к ней — еду, Союз демо-нографистов, фестивали, Канны, доллары себе изобрёл, призы. Затем измыслил жертву поприкольнее и воплотил её в Божьем мире при помощи двух кондитерских шприцев, называемых важно —«Конвасом» и «Кинором». Ими же, шприцами, он соорудил для жертвы маленькое разноцветное царство, из них же выдавил фигурки всяких жителей и зверюшек. И сам залез туда — пожить. Вместе с кроссовками «адидас».
Мёртвая тишина за столом. Верный Лейбниц смотрит на Петю Денежкина с вопросом — ждёт команды блокировать бунтовщика. Режиссёр, криво улыбаясь, медлит.
— Но нет ему покоя! — беспрепятственно продолжает Калачов. — И тогда он включает репродуктор и вещает собравшимся открытым текстом:
— ВЫ ВСЕ СУЩЕСТВУЕТЕ ПОТОМУ, ЧТО Я ЗАХОТЕЛ ВАС УВИДЕТЬ!
Немая сцена. Общий ступор, собравшиеся не шелохнутся. Маленький Рудомётов шепчет соседке — библиотекарше Милке: «Хочешь, покажу, где Иисус родился?». Тихонько уводит её из-за стола.
Все отмирают. Нетерпеливый выкрик весёлой бабёнки:
— Егор Иваныч! Спойте нам, спойте!
Выкрик множат разные голоса. Егор Иваныч, не в силах отказать народу, поднимается с места, упирает подбородок в могучую грудь и гудит:
— Из-за оооо!..
Бабёнка счастливо верещит:
—...страва на стрежень!..
Все подхватывают вразнобой, но с громадным воодушевлением. Голосит музей, методотдел, школа; ревмя ревёт спорт; ловит терцию пресса. Босые дети, будто наскипидаренные, с визгом носятся от стены к стене.
Петя Денежкин утомленно закрывает глаза и щёлкает пальцами. Всё исчезает.
В пустом пространстве остается один Калачов. Он стоит понуро, как царевич Алексей перед венценосным папашей. Стоит долго.
Маленький Рудомётов приводит библиотекаршу Милку в чей-то хлев. Оглядывает улицу, запирается изнутри с Милкой.
Декамерон.
Прошло два года.
Город. Зимний день, безлюдный переулок. Каркас телефонной будки оранжевого цвета, внутри — Петя Денежкин крутит замёрзшим пальцем погнутый диск телефона. Телефон упрямится, Петя прыгает в будке, как мячик, вертится. Замечает сзади знакомую фигуру. Это Калачов, он несёт под мышкой венский стул.
—О, привет!—машет рукой Петя. — Погоди, ты мне нужен.
Калачов послушно останавливается. Пообщавшись с аппаратом, Петя Денежкин выпрыгивает из будки, наклоняется к стулу.
— Что это у тебя?
— Да вот — стул нашёл. Почти целый. Венский — теперь такие не делают.
— Делают, еще лучше делают. Ну что, куда ты пропал? Как дела, давай рассказывай.
— Всё превосходно, — механически отвечает Калачов. — У меня всё превосходно. Всегда.
Беседуя, они медленно идут по переулку, входят в заснеженный парк. Петя Денежкин садится на качели, Калачов ставит рядом в снег свой стул, усаживается — руки на колени. Вид у Калачова кислый. Оба глядят вдаль.
— Н-да, — молвит Петя Денежкин. — Хреново. Ну ничего, что-нибудь придумаем. Не бери в голову.
— А я — что? — выпрямляется Калачов. — Я в порядке. У меня за полгода — три публикации. Я в порядке.
— Ну и правильно.
Молчат. Калачов вдруг:
— Да, а как с тем фильмом? Там мне ничего не причитается? Ну, про художника? Помнишь, два года назад снимали?
— Нет, там всё выбрано подчистую. Классно вышло, между прочим, зря ты не остался.
-Да?
— Недавно по ОРТ крутили. А одну картину Рудомё-това я втетерил англичанам — это был прикол! А ты чего не остался на монтаж? Или тебе не передали?
— Не знаю. Были дела, наверное, — Калачов отворачивается. — Как там Михалыч? Снял свою «Кудель»?
— Давно уж. Он сейчас рекламные ролики печёт. Дима Монькин ему сценарии пишет. Знаешь Монькина?
— Да. Молодец, в гору пошел. А Власов?
— А Власов — что? Он сам — гора, ему никуда ходить не надо.
— Как там Лейбниц? Трудится?
— Лейбниц женился.
— Да ты что! А-ха-ха-ха. — Калачов смеётся через силу. — «Куриный бог», я же говорил.
Калачов вынимает сигарету, закуривает. Петя замечает, что он курит, как Власов — глядя в небо.
— Короче, дядя, — Петя Денежкин вскакивает, он замёрз. — Надо новый сценарий писать. Я деньги выбил, почти, будем развивать неигровое кино, это такая ниша — Клондайк! Целина, ёлы-папы! Давай, соглашайся.
Денежкин с каждым восклицанием легонько пинает сапог Калачова — тот медленно отодвигает ногу.
— На что я тебе, Петя. Монькина вон запряги.
— Какого еще Монькина?! Это же не реклама! Тут жизнь надо знать, любить её, суку, несмотря ни на что.
— Да уж, насчёт этого... Чего другого... Живу, знаешь, как в татарском плену, Петя, — вырывается у Калачова.
— Опять ты... Какой там плен. Нет никакого плена — есть рамки жанра.
— Оно конешно.
— Ну вот и смени ракурс — нет плена, есть условия игры: сочинить гениальный рассказ, и чтоб все слова — на букву «о». Или «ё». Причем, сидя в яме с подрезанными пятками. Или — сценарий.
— Да, хм. Это —для нас, для титанов.
— Все так живут, не ты один. Все без пяток и на букву «ё». Без денег фильмы снимаем: то, что мы тратим, — это не деньги.
-Да?
— А ты как думал. С деньгами снять всякий дурак сумеет. А ты вот без денег... Нет, тебе-то мы как раз заплатим, ты не сомневайся! Я уже договорился—для тебя деньги будут.
— Да? Хм. Деньги — это хорошо. Деньги — это актуально. Хм. Хм. Только ты же без сценариста прекрасно обходишься. А, Петя? Зачем тратиться?
— Да, прекрасно, всё прекрасно. Слишком прекрасно
— элемент безобразия нужен.
— То есть —я?!
— Ты, ты, — Денежкин ржёт.
— Э... — Калачов немеет в восхищении от Петиного нахальства. Потом подхватывает с иронией: — А, ну это
— да! Это сильно! Когда приступать?
— Немедленно. Скажи, как тебя найти, ты где сейчас? Живёшь, в смысле?
— Не знаю. Через Валентину можно. Через Людку. Через Лопушана — я у него часто бываю...
— Ладно, пока.
— Пока.
Они расходятся.
Через пятнадцать шагов Калачов оборачивается и кричит:
— Петя! Я подарю тебе этот стул! Раскрашу и подарю! Когда у тебя день рождения?
Петя Денежкин машет рукой и бежит к трамваю. Он лёгок и прыгуч, интересно — успеет ли на трамвай? Успевает.
ДРУГОЙ ГЕРОЙ Кинопроба
Лето. Город. Поздний вечер.
Петя перепрыгивает лужу и берется за ручку двери.
Смена кадра: полумрак подъезда. Качаясь, вплывает в кадр серый дверной проём, на его фоне робко, ощупью движется растопыренная фигура молодого человека в черной обвислой майке и джинсах, поднимается по лестнице, трогая ногой каждую ступеньку. Это кинорежиссёр Петя Денежкин.
Экономно дыша, он отсчитывает нужную квартиру, нашаривает кнопку звонка, нажимает несколько раз — безрезультатно, звонок не работает. Петя стучит — сперва по фанере, потом по обвязке двери. Молчание. Петя шёпотом матюкается и толкает препятствие — вваливается в такое же тёмное помещение и буквально грудью налетает на плывущую ему навстречу ослепительную свечу.
Лругои wpoii
— О, — отдергивает огонёк женщина, и её сразу становится видно: красивая женщина зрелых лет. Она свободной рукой запахивается, ощипывается, подтыкает волосы. — Петя? Заходи. Не пугайся... Да не снимай, не снимай! Проходи. У нас видишь что — у нас свет отключили. И в подъезде — да? — темно. Ну, как всегда. А у нас денег нет, год не платили, они пришли — меня не было, а Рубахину все до фени...
—До лампочки! — уточняет голос из комнаты. — Кто там?
— Петя пришёл, Денежкин.
— Ооо! Режиссёры Натальины двери ломают. Режиссёры двери ломают, антрепренёры через каминную трубу лезут, фотографы за обоями шуршат...
— Сволочь ты, Рубахин, — обрубает Наталья. — Садись, Петя, я сейчас.
— Да ничего, ничего, я вообще-то вон — к Боре... — церемонится Петя, но допускает какую-то ошибку. Лицо хозяйки каменеет. Метнулись тени, грохнула дверь, шваркнулся на плиту чайник — раздосадованная женщина удалилась на кухню. Вместе со свечой. Снова потёмки.
Петя Денежкин идёт вдоль стенки на Борин голос. Они там вдвоём зажигают огарок в банке — отчаянно белеют крошки на столе и скомканные бумажки, всё остальное делается еще мрачнее.
— Ты всё испортил, — заявляет Боря Рубахин, падая обратно куда-то в темноту — предположительно, на диван. — Я не знаю, с каким делом ты пришёл, но считай, оно уже проиграно. Ты должен был явиться с кинокамерой, пожужжать маленько перед Натой, пообещать ей рекламу, ангажемент, гонорары — а потом уже спрашивать, дома ли её муж.
— Ах ты чёрт, — огорчается Петя. — А можно я задним числом пожужжу, и без кинокамеры? Всё равно у вас света нет.
— Ты изобретателен, как настоящий режиссёр. Ладно, жужжи задним. Только надень на голову железную какую-нибудь кастрюлю, а грудь прикрой вон тем словарем. И так подкрадывайся к Наталье — и жужжи, жужжи...
— Гениально! - хохочет Петя. — Вот ты-то мне и нужен! Поехали кино снимать!
— Ты только не ори, — морщится Рубахин. — И потом
— у Наты новый номер. Она теперь пародирует Пугачёву. Один парик ей в семь тысяч встал, а ты — «поехали»...
— Он теперь даже пива не пьёт, — внезапно раздается грубый голос из темного угла.
Петя вздрагивает. Там кто-то есть.
— Это Прокудин. Ты не знаешь Прокудина? Он самородок.
Петя косится на остальные углы, готовый к явлению целого сонмища «самородков».
— Я теперь на службу устраиваюсь, — сообщает Рубахин. — Вам на киностудию сторож не нужен? Мы бы с Прокудиным посменно...
— Какой сторож! Мы на твой фильм запустились уже! Едем давай!
— Опять он орёт.
— Едем! — шипит Петя. — Машина ждёт.
— Я вообще не слышу, когда громко. У меня очень узкий слуховой проход — крупные звуки застревают. А этот Прокудин мне толстым голосом всё время что-то вещает...
— Пойдём попьём пива, — подземно гудит «самородок».
— ...А я ничего не слышу. Мне надо, чтобы тонким голосом и не спеша. Может, у тебя, Петя, лучше получится?
— Мудак ты, — отвечает Петя.
— Вот, вот, примерно в этой тональности.
— Ты что, всё забыл что ли? Ну помнишь, мы подава-
Другой герой
ли заявку на документальный фильм? О Коляскине? Ну тот, который Диоген, в хлеву живёт?
— Диогена помню. Коляскина тоже. Но это же было «Эссе о колбасе» — диагностика тоталитарного сознания...
— Коляскин — классный мужик, я с ним уже договорился. Деньги добыл. Звукаря из Иркутска выписал, — гонит коней Денежкин.
— ...Колбаса варёная на месте мускулистого античного фаллоса, — застревает Рубахин.
— Античность и колбасность, — гудит Прокудин.
— Нет, главное — характер, — правит Петя. — Живой герой в живой его жизни. Там такие детали смачные! Зритель на уши встанет. Но этого мало — герою нужен антагонист.
— Бочка! — внезапно включается Рубахин.
— Нет, нужен — враг! Такой, чтобы не давал герою жить, дышать не давал. Враг, с которым не разминуться,
— только убить.
— А его нет, Петя. Это же Коляскин. Его принцип — аморфность. Его стратегия — уход от столкновения, от борьбы. Он не герой, Петя.
— Колбаса, — гудит Прокудин.
— Вот именно.
— Тогда врага ему надо выдумать.
Тишина.
— Ну, то есть — нащупать и извлечь, — поспешно поясняет Денежкин. — Катализировать конфликт. Всем же станет лучше, когда он разрешится, конфликт. — Молчание. — Ну хорошо, пусть он уйдёт от столкновения, но пусть он это покажет! У меня есть один тип на примете — вылитый враг. Едем. Вставай.
— Нет, я так быстро не могу. Да куда — на ночь глядя,
— отбивается Рубахин.
— Пойдём за пивом на в о к з а л, — гудит Прокудин.
— Хорошо, я тебя оформлю сторожем. Продукты наши будешь сторожить, сгущёнку. Едешь?
— Он ещё кочевряжится, — раздается из темноты Натальин голос. — Он ещё отбрыкивается. Я тебе велела картошку купить, — она медленно приближается к Руба-хину. — Где картошка?
— Ну ладно, я пойду, — Петя встает и идёт к дверям.
— Внизу подожду. Пять минут. До свидания, Наташа.
— Где картошка, барбосина? — во рту Натальи светит, накаляясь, вставной зуб.
Петя аккуратно прикрывает за собой дверь, и спускается, стараясь не касаться перил, по лестнице. Выходит во двор. Сверху летят клочья бедного Рубахина.
Петя подходит к белому микроавтобусу, бодро дергает дверцу, садится. Ему навстречу голос изнутри:
— Ну что там?
— Сейчас выйдет. Я думаю — выйдет.
Из дверей подъезда выходит пожилой мужчина в свитере. Сутулясь, идет к микроавтобусу, останавливается у окошка водителя.
— До вокзала не подбросите?
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФЛЕЙТЫ рассказ
Весна. Квадраты солнца на полу, груда игрушек, и среди них — серенькая пластмассовая дудочка с белым мундштуком, ценой, кажется, в 20 копеек. Поднять? Рассмотреть?
Если выяснится, что она строит с гитарой, учинить ей грандиозную презентацию. А именно: сводить жену в загс, расписаться с ней, с женой, в конце концов, и обменяться кольцами. Потом купить много шампанского и одну розу — одну, но большую, огромную, исполинскую розу величиной с капустный кочан. Позвать гостей: Славу, Наташу, Володю. Слава сделает себе клыки из сырого картофеля, Наташа натыкает помадой веснушки, раскрасим Машку под «хохлому», а Володе просто дадим в руки зонт. Нарядимся дико и пойдём всей труппой — куда? — ну конечно, к Лёне, он у нас солидный председатель важного профсоюзного комитета, член КПСС, — с кем ещё так повеселишься? Для этой цели год закажем: 1985-ый, и пусть дверь в Лёнину квартиру будет только одна, а не три, как нынче. Я тогда приставлю дудочку к замочной скважине и пущу туда трель. Лёня не будет смотреть в глазок, он откроет сразу. Выйдет в «олимпийке», жуясь, — молодой, козырный, — и замрёт при виде. А мы ввалимся и прямо в прихожей, не давая хозяину опомниться, раскатим свой номер: я затяну плаксивое вступление на флейте, Славян, ощеря клыки, будет аккомпанировать мне на гитаре, а Володя — он поэт и адвокат, он два метра ростом: вверху поэт, внизу адвокат, или наоборот: внизу поэт, вверху адвокат, когда как, — короче, мы попросим его просто постоять рядом. Ему ничего не надо делать, пусть просто высится в прихожей, держа в руке раскрытый зонтик и глядя в беспредельность своего дождя. А когда я кончу вступление, вперёд выйдет пятилетняя Машуля, возьмётся пальчиками за подол платьица и запоёт тощим голоском на полном серьёзе:
— Ах, зачем эта ночь Так была хороша —
Не болела бы грудь,
Не страдала б душа...
Лёнька с недожеванным куском во рту оглянется на Ирину — та будет невозмутима, как самурай. Из кухни выплывет с фужером в руке роскошная Наталья и подхватит романс своим великолепным сопрано. Лёня, как по команде, отомрёт, захохочет, принесёт с кухни подаяние—мы степенно примем, поклонимся разом и свалим, гогоча и толкаясь.
Да.
Если она будет строить — тогда конечно. Я тогда просверлю ей ещё одно, седьмое, отверстие и буду всюду брать её с собой.
Мы поедем с ней на запад и на север. Я буду прятать её на дне сумки: она так застенчива, моя флейта. Я буду доставать её, когда никого нет. Ну или когда никого нет посторонних. Я буду насвистывать друзьям рок-н-роллы, сипеть на ней блюзы. А один я буду играть на ней пастораль —одну-единственную пастораль, неисчерпаемую, как атом.
Она будет плакать вместо меня на похоронах моей мамы. Когда это будет? Когда-нибудь это будет. Пусть тогда сядет рядом мой брат — у меня будет брат — и пусть у него окажется такая же дудочка в руках и такая же, или хоть немного похожая на мою, душа. Мы тогда сыграем вместе, и у нас всё получится.
Мы уедем с братом далеко-далеко, туда, где пески. Заберёмся на самую высокую дюну, где одну щёку студит ветер с моря, а другую жарит солнце, где горизонт круглый, как обруч, где всё подлинно: ветер — так ветер, солнце — так солнце. Мы сядем бок о бок с флейтами в руках и... не будем играть. Так посидим. И пусть с нами будет Юлька.
А сыграем мы где-нибудь на озере, в немецком парке, под немецким, в три обхвата, клёном. Или на руинах лютеранского храма, на его руинах так много неба.
Или на Сылве. Да, на Сылве: пустим вечером парусники в залив и сыграем им вслед, чтобы семь футов под килем, чтобы зажжённые нами свечки посреди залива не погасли. Чтоб этот бесов Джек облопался своим элем и отрубился хотя бы на часок, шкаторина ему в глотку.
Или на крыше отцовского дома в Рассольной. Хорошо бы там оказалась цела балалайка. Мы возьмём балалайку, флейту, дурацкие колпаки, пришпилим бубенчик к штанине, а потом влезем на крышу и грянем чушь в стиле кантри. Будет стадо идти с пастбища, будет рыжий закат, и рыжий хлопец внизу разинет рот и забудет про свой велосипед.
А сколько будет «джемов»!
Ну, перво-наперво — с Филом и его незабудками. На застойную кафедру автоматики и телемеханики Старый Фил придет с новой двенадцатистрункой и красивыми девушками при маракасах. Мы с ними сбацаем на бис диксиленд «В лесу родилась ёлочка», после чего встанем и быстро уйдем, спасаясь бегством от кафедрального спирта. Хотя обещать не могу, может быть, я и останусь.
Будет «джем» в ДК Михал Иваныча Калинина. Соберутся со всего города записные джазмены, начнут, как водится, где-нибудь в углу, оперевшись ногой на урну. Один примется разогревать сакс, другой, слышь, возле на кларнете уже подхватывает невзначай. И поехало. Публика по одному из зала в коридор перекочёвывает, к урне. Подопрут стены, опустят очи долу — слушают. В зал уже потом. Остап — художник, он меня предупредит накануне: «Дудку захвати, оттянемся» — это мою-то, за 20 копеек! Ну я захвачу, конечно. И не утерплю, естественно, когда Саша с блок-альтом медитировать начнет в японском вкусе. Встану, наверное, сбоку от Саши и скромно так, без микрофона, задую как бы для себя. А он мне — микрофон, будьте любезны. Ну куда деваться — выложусь. Там же полный состав, с басовкой и ударными, за клавишами — мастер дзен, мы с ним в вопросы и ответы поиграем. Аплодисменты. С подиума сойду шатаясь, Остап пододвинет ко мне холодный кофе, хлопнет по плечу: «Классно вообще!». Примется знакомить с кем-то...
Отчего всегда бывает совестно, когда поиграешь на людях? И чем лучше играешь, тем стыднее — будто проболтался, тайну выдал?
Не буду играть на людях. Разведусь с женой и поеду на «Камазе» в Москву. Буду есть с шофером консервы из банки, ночью спать под рулём, утром умываться из канистры, положив её на бампер, и опять ехать, со свистом разматывая вдоль трассы чего накрутил в башке за десять лет. Ой, много. Хватит до Москвы и еще на обратную дорогу останется. Но раскручу, на обратном пути закажу Нерль. И точно, на мосту машина сломается. Витька-во-дила, матерясь, полезет под капот, а я — лёгкий, свободный, с младенчески пустой, раскрученной головой — соскочу, не спеша, на горячий, трудовой асфальт. Разомну спину. Медленно, медленно, ступая степенно, спущусь с дороги к речке. Открытая взору Нерль будет виться меж былинных холмов, покрытых майской зеленой шерсткой и переложенных вечерними тенями. Я подойду к ней близко, суну палец в быструю воду и скажу: “Здравствуй, Дон”, и настанет —Дон. Будет тёплый вечер, безлюдье, я вытяну из-за пояса флейту и выпущу на простор два-три звука, не больше. Посмотрю, как они летят. Может быть, выпущу ещё один.
«Будьте как птицы», — учил Назареянин. Но я не смогу. Покалеченный цивилизацией, я непременно нагружу свою песню смыслом, и она рухнет с божественной высоты на землю. «Естердей, — станет выговаривать моя флейта, — олл май траблз симд соу фар эвей». Публика обалдеет. «Нау ит луке аз вер ахер ту стей — заковыляет моя флейта, —Харе Кришна, Харе Рама». Ну, в том смысле что — Кришна-Кришна, Харе-Харе. Это будет уже Джан-ма-Аштами: красны девицы обернутся вайшнавицами — сари, тулоси, тилака, дал — и примутся за махамантру. И тут я со своей дудкой. Я же не могу, чтобы праздник — и без меня.
Карнавалы, карнавалы... Нина мне книжку даст — «Народная смеховая культура»: раблезианство, поэтика низа и т.д., — я буду стоять посреди бесовского шабаша в эпизоде «Корабль уродов» на съёмках фильма про художника Рудика, вокруг меня будут мелькать пьяные рыла, ляжки, фуражки, дудки, гармошки, будут стелиться по реке цветные дымы, жёлтые, красные, зелёные ракеты будут разлетаться во все стороны, и разгулявшийся спонсор будет палить из пистолетов — а я буду стоять на звукозаписи, как на стрёме, вспоминать Нину и оправдывать, оправдывать уродов «Народной смеховой культурой», раб-лезианством и поэтикой низа. Я умный, буду твердить я себе, я под чё хошь базу подведу, без базы не останусь. А Карло, меж тем, изрубит кинжалом все подушки, разденет всех девок, обляпает их компотом и перьями, потом подожжёт гирлянду флажков и встанет на голову (Брейгелю), дрыгая ножками. «Браво, маэстро! — завопит Паша-режиссёр. —Стоп —снято! Спасибо всем! Горилки мне, в крынке!». И я брошу звукозапись, вытащу из-за пояса мою флейту и засвищу «Яблочко» что есть мочи во все российское раблезианство, а Макс, капитан разврата, пустится в последний свой пляс...
Через год и четыре месяца он утонет, Макс.
В титрах фильма напишут, что соавтор сценария — я. Мне нечего будет возразить.
Из далекой Дании приедет датчанин Густав с миссией «Next Stop Soviet» и нечаянно сядет на мою флейту и раздавит её.
Я замолчу.
Но, ушибленный цивилизацией, конечно, не утерплю.
Я склею несчастную и подую ей — как бы — на раны, а затем — как бы невзначай — в её белый обкусанный мундштук. Чуть-чуть так, еле слышно, где-нибудь в лесу. Голос, конечно, у неё будет уже не тот. Прокуренный будет голос, зажатый, и тон неверный, но лес меня поймет. Я сыграю ему пастораль, и из малинника выйдет Маринка с ягодами в маленьком кулачке. Но это будет мираж.
Я сяду в поезд, я поеду в Кунгур. Поеду ни за чем, просто так, даже в ледяную пещеру не спущусь. Буду как птицы.
В вагоне встречу Галку, она скажет: «Сыграй здесь, при всех», — и я заиграю в вагоне при всех пассажирах, как играл мой герой Леший девять лет назад, когда я был инженером и ничего не знал про музыку, но написал Ле-шего-саксофониста, и все это сбывается, и все сбудется
— я скажу Галке, что люблю её, как сорок тысяч братьев, и у неё в руках окажется такая же флейта, как у моего брата, и мы заиграем вместе для всех людей и для себя на двух флейтах, и coda наша будет изумительно точной, как будто мы репетировали всю жизнь.
Вот она лежит в куче игрушек — серенькая пластмассовая дудочка с белым мундштуком. Поднять? Или не надо?..
КАМЕИ
Толстая девочка. Вокруг неё вьются мальчишки, как мухи вокруг лампочки: непонятно зачем.
— Это же шедевр! — закричал я Маку. — Это шедевр!
— На том стоим, — сипло ответил Мак и шарахнул из арбалета в сосновую плаху, прибитую к дальней стене его чердака.
Обморочно запищала свеча на столе, смутилась под нашими взглядами и замолчала.
— Пусть она тут будет. — Я бережно прислонил «Толстую девочку» к банке с огурцами и взял новую карточку.
Китайская кухня. На первое — поклоны тростника, на второе — стук семечек в тыкве — горлянке, на третье — запах нагретого солнцем старого можжевельника.
К Маку легко скатиться: его дом в логу. Трудно пройти мимо Макова дома и не скатиться к нему. Но вот катишься, катишься и замечаешь, что дом растёт и растёт. Подлетаешь к подъезду, ловко избегнув помойки, закидываешь голову кверху и думаешь: а зачем это я к нему качусь? Но не ползти же в гору обратно — ползёшь вперёд: по ступенькам, долго, трудно, нудно, пыхтя на весь подъезд, сыпля чертей. Подползаешь к его дверце, дергаешь за коклюшку — где-то далеко отзывается колокольчик. Шаги: «Кто там?» — «Я». Отворяется дверь, а за ней... еще одна лестница. Чёрт, отвесное железо. Снова ползёшь, а куда деваться.
Зато как приятно войти в его мастерскую, повесить авоську с портвейном на велосипедный руль, переобуться, а если хочешь — и переодеться в сухое.
— Эту шляпку здесь Люська оставила. Помнишь Люську?
Помню ли я Люську, гм.
Хорошая работа. У Люськи хорошая работа в учреждении — заполнять бланки «почетных грамот», норма — 300 штук в неделю. Норма, а чего.
— Хе, — сказал я, — действительно.
И прислонил карточку к банке.
— Ты на слова не смотри, — захрипел простуженно Мак. — Ты между слов смотри.
— Где это ты простудился, — сказал я.
На нём была синяя детская курточка — рукава по локоть, драные между ног джинсы, персидские вышитые туфли на ногах, а на голове — зелёная дамская шляпка таблеткой. Он, сопя и кашляя, мыл стаканы, поливая на них из чайника и выплескивая воду в камин. Из заднего кармана свисал хвостом грязный носовой платок.
— Все самое главное — между элементами, — жутким разбойничьим хрипом вещал он в каминую трубу, что-то там высматривал, какие-то, должно быть, «элементы».
— Всегда — между. Есть хочешь?
Люська — язычница. Люська вкладывает душу в пирог, а пирог вкладывает в милого — и поселяется в нем, в милом, счастливая.
Мак все делает просто так. Вот он нахлобучил себе дамскую шляпку. Зачем? Да просто так: лежит шляпка — он надевает её себе на голову: шляпа — голова, простое движение простого человека. Он прост, он не наряжается почудней — он так живёт. Ему просто.
Предметы его любят. Они липнут к нему, как гвозди к магниту.
— Это знаешь что? — говорит он. — Это сталь. Только очень ржавая: это заклепка ворот соляного амбара, восемнадцатый век, всю разъело, видишь. А эту саблю я подобрал на дороге, просто на дороге — никто не верит.
— Я верю.
Но Маку всё равно, верю я или нет, ему надо не это. Вот когда я немею в восторге от крылышка скарабея на кварцевом песке, он умолкает и сидит тихо, как будда, и сияет. И я сияю, блики кругом.
Похоже, он прав: главное —в соединении: крылышка с песком, Мака со мной.
И приходить к нему надо просто так. Придёшь по делу
— получится ерунда. А без дела — гору дел напечёшь.
Новая карточка:
Городской пёс. Рыжий, весёлый, тощий, бежит куда-то рысцой по своим делам, нос книзу, обнюхивает углы небрежно. А то вдруг замрет на месте, поднявши голову и насторожа уши, глянет пронзительно куда-то вдаль — а куда? Ничего там не видно. Только пёс в это мгновенье чертовски красив, не иначе, как что-то там всё-таки есть.
Я давай хохотать.
— Хватит ржать! — закричал сердито Мак. Он что-то держал на ладони, священное.
— Это сердолик, — говорил он. — Некоторые утверждают, что это агат, но это — сердолик, я знаю. Ты только послушай, какое слово: сердо-лик. Я, наверное, никогда не смогу из него ничего сделать: он совершенен. Я умираю, когда на него смотрю. Мне его подарила женщина.
— Люська? — черт меня дернул.
Мак бледнеет. Люськами он зовет простолюдинок. Разве может Люська подарить сердо-лик\ Или даже вот этот янтарь! Разве может! Мак машет перед моим носом кулаками — в одном зажат сердолик, в другом — янта-рик-бастард, он готов меня убить. Я перестаю улыбаться. Он остывает.
— Ну, вообще-то, может, — говорит он и чешет в затылке.
То-то же.
Мы тихо пьём мирный портвейн.
Дождь кончился, когда все уже решили, что он навсегда. Дождь кончился под вечер — из-за крыш плеснуло закатным светом, стены засветились оранжево, и на театральной площади заиграл духовой оркестр.
Неожиданно быстро стемнело. Когда пьёшь вино, темнеет быстро, как в тропиках. Мак затеплил огонёк в «гиперболоиде», висевшем над столом на брючном ремне, и направил луч неяркого оранжевого света на маленькую фарфоровую японку, застывшую рядом с моим стаканом в позе кокетливого ужаса. Я перестаю дышать, я вижу чудо. Мак ничего не выдумывал, он просто встал зажечь свет —зажёг самый малый, деликатный, поискал, куда бы направить, и направил на крохотную статуэтку, случайно оказавшуюся возле моего стакана, — и всё. А получился театр. Маленькая японка в грациозном испуге отшатывается от огромного грубо ограненного стаканища, полного чёрного вина. Комедия на первый взгляд, драма — на второй, античная трагедия — на третий: вот жестокий Рок —грани его плоски, рёбра тупы, креплёные Силы Зла последнего урожая требуют немедленной жертвы. Одно движение Мака — и готов шедевр, в этом весь Мак. Маг. Магнит. Мак, ты клёвый чувак. Жизнь расставляет предметы — он наводит на них свет. И всё.
Он кладёт краски на холст.
Он аккомпанирует им на цитре.
Учёная Люська с густой побелкой на лице
Танцует брейк под цитру.
Я смотрю.
Все заняты делом.
Еще он пишет тексты на карточках. Каждый текст — световое пятно, наведённое на пустяк и взрывающее его скрытую энергию. Мак тасует карточки и сдает их гостю по одной. А тот выкладывает из них пасьянс. Или увешивает ими Люську, как ёлку флажками. Гость просит подарить ему одну — Мак дарит, никогда не оставляя себе копий. Он называет тексты камеями.
Ещё он режет из камешков камеи и называет их текстами.
Миниатюрная трёхмерная пластика обычно называется объёмной резьбой. При высокорельефной резьбе фон рисунка или узора сильно углубляется — изображение получается выпуклым, часто многоплановым, богатым светотеневыми контрастами. Плоскорельефная резьба требует неглубокого фона — изображение получается невысоким, близким к силуэту. Нередко оно обрабатывается дополнительными порезками. Края рисунка часто закругляют, «заоваливают». Гпавное достоинство «за-оваленной» резьбы — мягкий и сочный рисунок на слегка углублённом или же совсем не тронутом резцом фоне. В этом случае фон образует как бы своеобразную подушку. Он так и называется — подушечный. (Энциклопедический словарь юного художника)
Однажды Мак уснул раньше меня. Приходили две Люськи, утомили нас своими танцами, потом растаяли в дыму табачном. Я полез открывать окно, чуть не упал, Мак подавал советы снизу. Сперва бранил меня, потом затих. Я заинтересовался, что это он молчит, слез — а он спит.
Я рассматривал его лицо с отвращением.
Чужое лицо.
Мак — это почти я. И вот у меня — не моё лицо. Какие-то буераки, колдобины, гадкие складочки, морщинки, щетинки — и всё это не на месте. Так бы и ободрал всё это безобразие, соскоблил бы вот этим ножичком.
Нож у него с деревянной изогнутой ручкой, сделанной из елового сука. Сук был в своё время талантливо обглодан короедами, и ручка из него получилась как бы резная, вся в таинственных письменах, иероглифах.
Я рассматривал ручку в бинокуляр целый час: ползал там по огромным, ярко освещённым короедовым траншеям туда и сюда, сам как исполинский короед.
У Мака хороший бинокуляр, сильный, на массивном штативе. Я выбрал прозрачную камею, положил её на окошко предметного столика и свет везде погасил. Потом начал понемногу вводить подсветку. Сперва бледно, потом всё ярче засветилась камея — углубления, те, что всегда были в тени, разгорелись пожаром.
Я отошёл. В кромешной тьме застыл посреди мирового пространства пылающий камень...
Нет, не то.
Жёлтый цветок,
Чьей-то шаловливой рукой
Воткнутый в шевелюру спящего в трамвае
Пьяного бомжа.
Удары ветра, удары волн, грохот развала мирозданья
— две головы прыгают на волнах северного безлюдного моря, вопят от восторга, исчезают, выскакивают вновь, мелькают руки, спины, разинутые рты. Прибой сводит с ума своими дикими играми, медленными, как в кошмарном сне, бросками, медленными откатами. Прибой — край смирительной рубашки огромного чудовища, распластанного земным тяготением, но не сдавшегося — рычащего в глубине, волнующего горизонт. Земля — вода, миллион лет — пустяк для их поединка. Земля, вода, время — все это сталкивается здесь, в полосе прибоя, — как туда не сунуться двум глупышам, рассуждающим — подумать только — о Вечности. Но едва сунувшись, они понимают, что им туда не надо: Вечность для них ужасна — но лишь она подлинна, и они вновь устремляются к ней: Вечность похожа на смерть — но лишь вблизи неё кипит жизнь. Г рань узка, выбор грандиозен, двое безумцев вскакивают на грань, чтобы выскочить из себя, выскочить — но не потерять, нет, потерявшего себя стихия расшибёт о дно, потащит по убитому до базальтовой плотности песку, накроет новым ударом и тогда уже присвоит себе навечно. Надо скорее вскочить на ноги и бросить отяжелевшее тело в поддых волне — пронзить её и выйти с той стороны — и взлететь сразу же на гребень новой и скатиться по её спине — а там уже следующая подтягивает пловца под себя, шевелит высоко в небе косматым гребнем, — тут можно нырнуть уже спокойно, пропустить волну над собой, а можно попытаться взойти к её гребню — запечатлеть: гаснущий закат, зелёное небо, зелёные буруны вспаханного ветром моря — и вдруг увидеть прямо под собой новую пропасть — и ухнуть в её темень, помирая от ужаса и оря всем нутром, всей требухой своей оря с наслаждением, как никогда на берегу не оралось, — а рядом подвывает в терцию брат, отец ли, сын, святой ли дух — нет никакой разницы: море.
Ну, вот это получше.
/
Давеча наслаждался покоем. Лежал на диване и наблюдал единение Прошлого с Будущим: с надутыми губками они приблизились друг к другу, сцепились мизинчиками: «Мирись, мирись...» — и исчезли. Осталось —я.
II
Не знаю, чего хочу. Всё есть...
III
У нас молоко в наборе с водкой продают:
1 бутылка водки -I- 5 пакетов молока. Сон.
— Ну и волнюги! Экая силища!
— Ну ничего, мы им тоже дали.
— Ха-ха-ха! А в море не холодно, заметь.
— Зато на берегу — НКВД сплошное.
— Айда бегом!
Мы заскочили в бар, взяли кофе, срочно, коньяку — отогрелись. Примолкли.
Мысли встали.
Бубнил телевизор, скользила барменша, шкура на стене пахла табачным дымом. Крошки на скатерти складывались в аккуратную кучку. Потом — ногтем — в полумесяц. Потом выстраивались в линию, а линия изгибалась морской волной. В правом ухе была вода. «Понимаешь,
— морщил лоб Мак, — уже вторая аватара без любимой. Без единственной. Тяжело, опять невстреча — понимаешь?».
Долго, трудно, нудно взбираешься по ступенькам, пыхтя на весь подъезд, твёрдо бросаешь курить. Подползаешь к его дверце, дёргаешь за коклюшку — где-то далеко отзывается колокольчик. Шаги: «Кто там?» — «Я».
ПОСЛЕ ЧАЮ
Ещё одно удовольствие — посидеть в одиночестве у раскрытого окна.
Летний вечер, длинные тени на зелёной траве, группами — клёны, тополя. На вершине старшего тополя трепещут листья — как в детстве.
Детство: мне девять лет, я стою, разведя руки, посередине комнаты, а мать примеряет на мне недошитый костюм: вертит мной, обкладывает со всех сторон лоскутьями пахучей материи, смётывает их, поддёргивает край
— а он опускается, мать сердится и говорит мне грозно: «Стой прямо. Ну? Так сколько будет восемью восемь?». И я отпечатываю в памяти навек: восемью восемь — шестьдесят четыре — нынешний год, шестьдесят четвёртый. За окном лето, я смотрю с тоской на залитые солнцем тополя: лето, оно так быстро кончается, зачем мне этот костюм, зачем таблица умножения... «Стой прямо, кому сказала! Восемью девять?». Тут мне проще вычесть: 80 — 8 = 72. Семьдесят два, обиженно отвечаю я матери. И пока она дёргает края ткани, гляжу с тоской на часы и на вершины тополей за окном. Пять часов вечера, зачем-то отмечаю я, — вот такие тополя, вот такой шестьдесят четвертый год — надо запомнить.
И я запомнил.
Зачем? Хорошо помню внезапное ощущение важности текущего мгновения —торжественное, высокое чувство, странное для девятилетнего мальчишки. Оно оказалось пророческим: я пришит к тому времени навсегда. Его приметы стежками то и дело объявляются в нынешних днях, и я радуюсь и волнуюсь, слыша те запахи, те звуки. Я верю только им, они крепят ткань моей жизни, вечно сползающую модную ткань, которая никогда не будет сшита
— я это уже понял, она будет сползать ВСЕГДА. Я каждый день, как проклятый, буду сшивать её, модную, а она будет расползаться, а я буду сшивать, сшивать — пока не кончатся нитки. Тогда мне всё надоест, и я умру. Неужели я догадался об этом в девять лет?!
Под окном по траве бредёт на костылях паралитик. Движения его сложны и, наверное, мучительны, но бредёт он не по дорожке, где легче, а по густой траве. Он давно уже не ребёнок, но ему почему-то важно пройти по траве. Почему? Страдания учат мудрости, — быть может, он мудр и ценит простые вещи — траву? По-детски не думая — чует в траве истину? Родственная душа, умиляюсь я. А паралитик, тем временем, извиваясь и загребая ногами, заходит за куст, неверными движениями рук расстёгивает ширинку и мочится в траву в аккурат под моим окном. Привет.
Моё окно во втором этаже. В детстве я жил на первом, в молодости — на пятом, теперь я — на втором. Такая вот моя биография вкратце и весь мой духовный путь: первый — пятый — второй. Надо позвонить Галке.
ДРАМА
На меня надевают новые башмачки. Они отвратительно блестят, жмут и стучат по полу твердыми кожаными подошвами. Мне всего четыре года, но я уже точно знаю, что это неприлично — новая обувь.
«С гольфами!» — железным голосом отметает все мои протесты мать. Она стаскивает с моих ног блестящий мой позор и выхватывает из ящика шкафа ещё и два белых получулка — два белых праздничных гольфа посреди обычного, моего, дня. Всё, это конец. Слёзы утраты целого дня застилают всё вокруг, я вою осиротело, я горько и безнадёжно рыдаю, а мать суровыми рывками натягивает на мои ноги гольфы, башмачки. Я капризный, по её словам, парень, и меня не следовало бы отпускать к соседям смотреть телевизор. А я и не просил. Вернее, я просил утром, но потом были жуки и пчёлы, потом мы с ребятами играли в песочнице и так дружно готовили из одуванчиков обед, после этого был ещё дома настоящий обед с непереносимо горячим супом и непосильного размера котлетами, потом я спал — с трудом уснул, следя за квадратами солнца на полу, и нате — будят. Куда? Смотреть мультфильмы. И в белых гольфах обязательно, и в новых башмачках: соседи не должны думать, что мы бедные. Драма.
Но вот я унят, умыт и причесан. Мама дает мне попить тёплой воды, чтобы я не всхлипывал, и смотрит с выжидательной лаской: перестал? Ну иди.
В подъезде моего детства прохладно и таинственно. Там редкие звуки и отсветы, как в храме. Там внизу вечный часовой Борька с огромным велосипедом (якобы чинит): он влюблен в нашу Майку со второго этажа. Как-то раз мне вздумалось подразнить безмолвного рыцаря
— он взглянул на меня так, что свой стыд я помню до сих пор.
А вот мультфильмы не помню совсем.
НОВЕНЬКИЙ
Стоит, бедняга, с краю и не знает, как голос подать. Скажешь тихо — не услышат — срам. Скажешь громко — могут и накостылять. Тем более, если ты аккуратно одет и говоришь правильно. Вон они все какие —блатные, запылённые. С мячом.
Шара делится на две команды. Делится, как рой: двое постарше, Чук и Гек, объявляют себя «матками», остальные разбираются попарно, загадывают между собой, кто будет кто, и подходят к «маткам» в очередь и непременно обнявшись: «Матки, матки, чьи отгадки?». «Мои», — говорит Чук, стуча мячом об асфальт. «Железо или золото?». «Железо», — выбирает Чук, и один из пары — который «железо» — становится на его сторону, другой — на сторону Гека.
Порядок незыблем. Все покушения на него пресекаются. Вот подходят в обнимку два зубоскала: «Солнце на закате или х... на самокате?». «Материться нельзя!» — орут все. «Идите, перегадывайте», — отправляют нарушителей «матки». Матерись сколько хочешь, но не перед «матками». Перед «матками» материться нельзя.
Новенький топчется, хочет уйти, но не знает, как. И вдруг сбоку выныривает большой, ростом с Гека, парень: «Эй, будешь играть?». «Эй» теряет дар речи, но парень уже закидывает руку ему на плечо и тащит к «маткам»: «Ты — штаны, я — пряжка, понял?». Который «штаны», еще ничего не понял, но он счастлив, что его взяли, он трясет головой в знак согласия, благодарности, обещания дружбы и преданности до гроба этому замечательному парню, чуткому, зоркому и прозорливому. Теперь он должен закинуть свою руку на плечо парню — но не может решиться и не успевает — они уже перед «матками».
«Штаны или пряжка?» — спрашивает парень и подмигивает Геку, при этом он как бы невзначай трогает пряжку на своем поясе. У новенького вспыхивают щеки: его взяли не для дружбы, а чтобы всучить другой команде, всучить что поплоше — то есть его, новенького, — чтобы выиграть. Он — дрянцо. Потому его так нахально обнял этот большой парень, оттого он так глумливо улыбался во все стороны, когда тащил. Новенький начинает чувствовать свои уши — они делаются огромными, красными и ещё, кажется, гудят, чтобы все на них посмотрели.
«Ты с кем делишься?» — гневно толкает в грудь парня Чук, и вся его команда орёт: «Нечестно! С мамсиком делится!». «А с кем мне делиться-то, с кем?» — вопит парень.
Новенький красен уже весь, вся голова набрякла краской. Но тут небеса посылают ему спасение —
над двором, в синем небе
жёлтый с красной стрелой на боку,
весь ярко освещённый вечерним солнцем
низко-низко
пролетает — «кукурузник»!
Он оставляет за собой мерцающее облачко. «Листовки! Вона!» — слышится крик, и вся шара срывается с места — ловить листовки.
Новенький слепнет от слёз.
ДОБРОЕ УТРО
Битый кирпич, вывороченная сетка обнажённой арматуры, осколки бетона, обрезки горбыля, проволока, снова битый кирпич — ни одного целого, цементная пыль по щиколотку, пыльные кроссовки, изогнутые ноги в новеньких спортивных штанах с лампасами, белыми по голубому, — это застарелый майор ворошит обломленным черенком пёструю землю, ищет полезное ему ископаемое.
Утро. Сторож спит и сипло дышит выжженным нутром. Благородно отсвечивает окошко его бытовки, дверь заперта. Тишина и солнце. Майор нагибается и тащит кусок белого провода. Наматывает его на крупный рыжий кулак, шагом выбирается на дорогу. Оглядывается: строительного мусора уменьшилось на полтора метра провода — и бежит трусцой дальше.
Сейчас он добежит вон до того дома, поднимется в лифте и выйдет на балкон. Там он будет совать моток туда и сюда, оглядываться и соображать, потом найдёт ему место и тогда закурит, навалившись на перила и покойно свесив рыжие кисти рук.
А я усну.
Бегун трусцой миновал сужденный мною ему дом, миновал и следующий, и всё бежал, бежал, уменьшаясь... Всё равно он мародёр.
А у меня всё хорошо. Только вот зуб раскололся на дискотеке, и теперь ранит язык.
Ещё постояв пососав ущербный зуб, я тяжело отваливаюсь от подоконника и стаскиваю вторую штанину.
Взвизгивает раскладушка, но я её уже не слышу. Я сплю.
МАРМЕЛАНДИЯ
В семьдесят пятом году я был весёлый человек. Жизнь была прекрасна, дали светлы, и абсолютная истина лежала у меня в бумажнике между рублёвкой на обед и абонементом в бассейн «Комсомолец».
Там мы плескались и орали на всю купальню, подныривали под девчонок и хватали их, холодных и вёртких, за упоительные груди, прыгали в голубую воду с самой маленькой вышки, как со стометровой калифорнийской скалы, и плыли брассом, брассом. Это называлось —группа здоровья.
Потом на обеденный рубль мы пили пиво тут же в буфете и покупали девчонкам пирожные. Пьяные мухи слонялись по столу и откусывали то здесь, то там; глаза девчонок, от хлорки красные, блестели; блестели мокрые, причёсанные волосы, а солнце, от зависти зелёное, ломилось к нам с улицы в маленькое оконце и не влезало и просовывало к нашим янтарным стаканам свои горячие сухие лучи.
В семьдесят пятом году я был весёлый человек. Поэтому ко мне магнитились шизофреники всех мастей, их тогда вокруг было невероятное количество, теперь куда-то подевались: или это мой магнит ослаб, или глаз привык — не знаю.
Приходил сосредоточенный человек, садился рядом и молчал. Я молчать не мог, не умел, если в компании делалось тихо, я считал это бедствием и непременно лез выручать бедствующих: пел, показывал фокусы, рассказывал анекдоты. «Ты отчего такой дурак?» — с состраданием в голосе спросила меня одна особенно притянутая ко мне «сосредоточенная». Я был не дурак, поэтому не обиделся. У нее над переносицей, она рассказывала, была дырка. Дырка была то большой, то маленькой — в зависимости от разных причин — но всегда простому глазу невидимой. Через эту дырку, она считала, в нее влетала «тонкая энергия» и наполняла ей душу. Положительная энергия была жёлтого, красного, зелёного цветов и несла вдохновение к жизни, а отрицательная — чёрная, фиолетовая — это вдохновение глушила. Первая к ней шла от солнца, вторая — от людей. Я ей посоветовал повесить на лоб оранжевый светофильтр от людей. Она выслушала серьёзно и ответила со вздохом, что тогда для неё не будет фиолетового, а фиолетовый — её любимый цвет, она без него жить не может. И поцеловала меня. «Это в смысле, что я фиолетовый?» — «Нет, ты — моё солнышко»...
Еще был врач-хирург. Он, стыдясь, приносил мне свои взятки, и мы их с отвращением пропивали. За полночь медик начинал плакать и бредить некоей страной Мар-меландией, в которой всем шизикам хорошо, и женщины там, когда не против, втыкают себе в волосы цветок и, действительно, против не бывают.
Бредил он захватывающе. Я пару раз пробовал вставить что-нибудь от себя, но мои фантазии против его грёз были бледными — неискренними потому что. Ну в самом деле, какая там Мармеландия, на что она, когда в холодильнике ещё одна бутылка стынет, а на работу завтра можно не ходить?
У него была милая привычка — перед отходом ко сну прятать свои очки. Он их очень берёг, и потому наутро никогда не мог найти. Так и уходил без очков — слепой, мятый, несчастный.
А я покупал пельмени и обнаруживал очки в морозилке.
РЕПОРТАЖ ТАКОЙ
Если бы я имел достаточно времени, я написал бы о тусовке Петрушина в библиотеке имени Максима Писку-шина, ну той, что на улице всем известного Благодушина. Но не о самом Петрушине, художнике, вздумавшем выставить не свои, а подаренные ему друзьями офорты, литографии, открытки, а также разные штуки, вроде берестяных рогов, латунных копыт и расписных крышек от унитаза, рассказал бы я, хотя и акция его для нашего города необычна, и сам он замечателен своим любвеобилием и беспримерным хамством одновременно: напился после открытия выставки, как зюзя, орал на дирекцию и на всех своих сподвижников орал, гадко сипел под гитару прекрасные песни, широко разевая при этом мокрый, отвратительный, беззубый рот и вздувая жилы на тощей шее — и все это с любовью, посреди любви и под грустные тосты про любовь, — но не о нём и не о гостях его рассказал бы я, хотя была там одна такая леди, из тех, что не встретишь в трамвае — они никуда не ездят, не встретишь в магазине — они никуда не ходят, такие леди, они живут на тусовках, это их среда обитания, вне этой среды они просто не могут существовать — поэтому, когда я начал склонять её к необдуманным поступкам и повёл её к моему другу Сказкину, и мы уже вышли, уже сделали пять шагов, глядь — моей леди уже и нет: и убойный наряд ее поблёк, и сама она как-то потускнела и — растаяла, а я уже про неё и забыл — так что, что писать-то? Еще Громоздило был, скульптор, и жена его —тихая старушка, назвалась Тамарой, швеёй она была всю жизнь: обшивала скульптора и детей его, торговцев красками обшивала, и торговцев холстами, и торговцев молочком маленько, ну а картошку-то уж сама сажала, и как мы пережили тот год — одному Богу известно, зато сам великий Конёнков Тимоше руку жал — и ойкнул: такая у Тимоши рука крепкая. А Тимоша стоит былинно, ни черта не пьёт, и перед ним торговец керамикой в тёмных очках вертится, приседает, локоток трогает — а Тимоша стоит. Ему: кес-ке-се мулине мои плезир эбаут Америкен лайф, — а он стоит,
недвижим, как дуб! — нечёсаны рыжие баки, и трубку не вырвать из зуб, как кость у голодной собаки!
Надёжа наша. Да нет, и не про него, и не про дирекцию Пискушинки, непривычно покладистую, настораживающе ще-щедрую — так бы и дал в глаз! — орал Петрушин на все Благодушино: — Не верю! Так не бывает! — Дирекция виновато вздыхала, — интеллигенты, что про них писать, нет в них жизни — одни мечтания. А на-пи-сал бы я о стареньком седом тапёре, который в уголке зала над клавишами ворожил: старичок, седые патлы, он Гершвина играл. Я подошёл, учтиво поклонился, выразил восхищение. Старик голову поднял и странненько так захихикал: он был джазово пьян. Мало того, он был лётчик, и одна рука у него была джазово сломана. В конце вечера он ушел в петрушинском пиджаке, а свой оставил — в нем были обнаружены: мятый платок, мятая рублёвка и две терракотовых статуэтки — злодей похитил их с витрины.
ВОЛШЕБНЫЙ ВЕЧЕР
Волшебный вечер.
Я один. Я чувствую приближение минуты покоя и готовлюсь встретить её основательно: выношу на балкон мягкий стул и несколько раз хлопаю его по обивке — летит пыль, я отступаю, пережидаю пыль, затем устанавливаю стул боком к перилам и возвращаюсь в комнату.
Там я раскрываю балконное окно и выставляю на подоконник тарелочку, на тарелочку ставлю рюмочку, в рюмочку наливаю коньяк. Любуюсь: коньяк и не здесь, и не там, и не дома, и не на улице — он на границе — темнеет грозно, схваченный золотыми ободьями рюмки. Я чувствую пленённую его мощь и отвожу глаза.
Улыбаясь, режу пошлый лимон, посыпаю дольку сахаром и кладу на тарелочку рядом с рюмкой.
Немного подумав, нахожу в аптечке хорошую сигарету — кладу с другой стороны, аккуратно, чтобы не замочить её лимонным соком.
Беру спички и выхожу на балкон.
Сажусь. Сажусь на стул боком к перилам, вытягиваю ноги и размещаю руки привольно. Замечаю в одной из них спички и отбрасываю их на подоконник. Размещаю руки привольно и замираю.
Теперь всё.
Я смотрю на небо: оно бирюзовое. Справа оранжевое — там присело солнце, а вверху синее — оттуда уже спускается ночь. Небо, солнце, ночь — всё на месте.
Все в сборе.
Медленно, не меняя позы, я отвожу руку в сторону и беру коньяк: дикий зной плещется в стекляшке, заколдованный дикий зной. Я пропускаю его внутрь без задержки и только потом, уже после глотка, мысленно заглядываю в шахту пищевода и вижу там багровые отсветы освобожденной энергии и слышу победный её рёв.
Опасливо пячусь.
Еще один ленивый рейс руки, и я кладу дольку лимона сахаром на язык. Лимон взрывается соком во рту.
Тихий вечер, ни ветерка. Невероятный вечер: ни мух, ни комаров, юная листва, ничего не знающая о пыли, замерла в изумлении при виде этого лучшего из миров. Май.
Смешной месяц, высокомерно думаю я, но мысль эта стара, скучна и недолго занимает меня. Я смотрю на свою комнату с балкона через открытое окно и вижу свою жизнь в ней издалека, как в кино: вот я хожу туда и сюда... с чайником... с книжкой... Вот я сутулюсь в раздумье, а вот машу руками и прогибаюсь — делаю зарядку. Вот мой стол, вот самодельный абажур с нарисованным цветком, на столе — любимые предметы. Обласкав их взглядом, я медленно поворачиваю голову.
Пепел моей сигареты падает за борт и пропадает из виду. Но одна чешуйка пепла не хочет падать, она колышется в восходящих потоках на уровне моего лица, не падает и не взлетает — стоит на месте, и я схожу с ума от счастья: это стоит время.
Но стоит мне дунуть — и оно, время, помчится прочь.
А если я наклонюсь — я его съем.
Я смотрю на небо и вдруг вижу высоко-высоко в вечернем небе след самолёта и вспыхивающий сигнал на его острие. Я понимаю сигнал: это и есть та самая минута покоя, которую я ждал. Я чистил сиденье — она летела из-за горизонта на встречу со мной, я забавлялся с посудой — она летела, шутил со временем — она недоумённо замирала, а потом летела ко мне вновь. И вот мы встретились. Я поднимаю ладонь к небу и говорю: «Привет».
«Привет», — отвечает мне звёздочка и скрывается за домом.
Удовлетворённый, я забираю стул и покидаю балкон. В кухне вздыхает кран — кажется, дадут воду.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РУЧЕЙНИКОМ
Коллекция фраз. То же, что коллекция речных камешков—маленьких, случайных и ничем, кроме речных струй, друг с другом не связанных. Как говорит мой младший: «Приколись».
— Квартеронки очень красивы.
— Завяжи узел на платке или хотя бы покушай.
— Смотри: таракан залезть не может.
— У меня есть знакомый в Париже — не тот, который умер, а тот, который жив.
— Идём, идём, медведя увидишь.
— Заходишь на завод-то?
— Да забегаю иногда.
— Угу. Он уже полгода закрыт.
— Давай скорее, я замёрзла.
— Пока, бой. Люби маму, слушайся папу. Не перепутай!
— Вот — кто мы такие?
— А из норки стоит шестьсот восемьдесят.
Камешки, конечно, случайны, но —отобраны, выходит
— случайны не вполне. И друг с другом они как-то связаны — не по смыслу, но — по цвету. Как говорит мой младший: «Приколись. Прикололся? Теперь фигей». Фи-гею:
— Квартеронки очень красивы, а если руки холодные, то ребенок замёрз.
— Убери ружьё, это грешно.
— Всё, всё, пора. У меня сейчас туфелька в тыкву превратится.
— Ну... это можно только из кубиков сложить.
— Поставь по-нормальному.
— Ты уже кончил?
— А я тебя не спрашиваю — ешь давай.
-Ну и что? Он же не обещал нам жить вечно.
— Коза как жертва обстоятельств.
— А вот — Марио, он служит в местном госпитале, его летательный аппарат построен из четырнадцати негодных костылей!
— Откушу-ка я ему голову!
Занятие такое — наблюдение за ручейником. Если долго смотреть на бегущую воду нашей речи, то на дне, среди разного лесного мусора, можно увидеть живого обитателя
— крохотного и юркого. Нарочно не скажу, как он выглядит. Только надо не шевелиться — а то спугнешь. Как говорит мой младший: «Пофигел? Теперь обломайся».
— Квартеронки очень красивы, а ножи от горячей воды тупеют.
— От хуанхуан пищевого уксуса родится насекомое цзюю, от цзюю — насекомое моужуй, от моужуй — вошь на тыквах.
— Я смотрел на это сквозь зубы.
— Распишитесь вот здесь.
— Иди полежи, я сказал.
— Оставленный без присмотра, сумеет прогрызть дыру и удрать.
— Как, как штаны называются, в которых вчера Люся была?
— Это полагается распространить на всю страну.
— Горячей-то так и нет?
— Это какой-то ад!
— Пригласили девушку сниматься — напоили, обыграли в карты и спрашивают: ты чего так материшься?
— Картошка лопнула — в ожидании вас!
— Куда я екое урево-то пущу?
— Я ведь тебе объяснял, а ты внимания не определила настоящего.
— Бох есть дух.
— А то.
— Ты меня вчера стукнул об люстру? Стукнул. Ну и всё.
— Кому, кому ты дала: моему врагу-у!
— Ничё.
— Тут самое время обратиться к блузке в точечку.
ДОЖДЬ
Дождь, я в реке по шею, вода кругом кипит, капли выпрыгивают кверху шахматными фигурами: королями, ферзями, слонами — коней нет, я за коней за всех отдуваюсь и ржу и гогочу — я плещусь в реке в грозу: то выпрыгиваю из воды по пояс, как шах, то замираю глазами вровень с королями, хищно, как мат, — дождь заливает мне глаза, но я все равно таращу глаза перед собой и во все стороны жадно, чтобы ничего не пропустить и не забыть. Дик, Дик, Дик! — кричит мне женщина с берега, она сидит на берегу в голубой курточке под зонтом, зонт качается взволнованно. Тебя убьёт молния! — кричит она мне, и тогда я выхожу из воды, обвиваемый струями: большой, сильный, мокрый. Знаешь, какая самая глупая в мире шутка? — кричу я ей, и голос мой безудержен и весел, как гром. — Это выйти из воды и облапить сухую молодицу, сухую и сердитую, как комсомолка! Ну иди, — покорно опускает она передо мною зонт. Капли бьют её по плечам, но мне надо сердитую, а где же я тебе сердитую найду, говорит она мне, светясь от счастья, и тянется, тянется ко мне, а я уже отвернулся и шарю руками под перевёрнутой лодкой и чувствую, как женщина горячей ладонью стряхивает с моей спины воду. Мокрое днище лодки блестит под дождём, я ставлю посередине блеска бутылку вина и рядом прозрачную невесомую рюмку и распрямляюсь. Я хочу двигаться, я остро жив, я восклицаю, декламирую, шалю, пою — потому что вина мне не надо, и женщины этой я не хочу, и солнце мне не обязательно — всё это у меня уже есть. Я остро жив, я полн собой и наконец-то свободен, могу нести чушь полнейшую, мокрейшую, дождейшую, долгожданнейшую чушь и двигаться в ритме взбаламученной ливнем природы — о восторг! я гол! Я наг и мокр, и бояться мне больше нечего. Скажи, Долли, чего люди боятся? Молчи, Долли, люди боятся, что одежда их плоха, некрасива и промокает. А я сме-ме-меюсь над ними! Дай-ка мне твою куртку, что-то я замёрз поче-чему-то как-то...
Свеча. Я лежу на диване в читальном зале и дремлю. Глаза мои полуприкрыты, мыслей нет, я вижу складку шторы, и все. Мимо неслышно ходит Долли, она где-то там запирает двери библиотеки, зачем-то заставляет их стульями, задергивает шторами окна. Со спины Долли восхитительна. Спереди многое отвлекает: взгляд, смущенная улыбка, слова — а со спины ничего этого нет. Долли заваривает чай с липовым цветом и что-то мне рассказывает про него, про липовый цвет, какие-то справочные сведения, — я прошу тишины, и она послушно замолкает. Но сладкая дремота не возвращается, и я поднимаюсь с дивана, сажусь. Диван хороший, с дорогой обивкой, я грубо ласкаю его теплые формы. Поднимаю голову. Кругом стеллажи с периодикой. Темные портреты в золотых рамах. Всё солидно. Хорошо. Где ещё заниматься любовью писателю, как не в читальном зале? Всё правильно. Огромное пространство зала не смущает меня, надо только внести в его структуру свой компонент — композит — я композитор: я направляюсь к журнальному столику в углу, разгружаю его, составляю на пол горшки с цветами и тащу столик к дивану. Долли замирает в немом (как приказано) восхищении, потом несётся протереть столик и водрузить на нём наш скромный светильник. Ты умница, Доленька, ты всё понимаешь без слов, это книги испортили тебя, ты не виновата, ты — чудо, и имя твое — дольче, и катается оно на языке, как конфетка: Доленька, леденчик, подожди, подожди, я закончу свою композицию: постелю на середину столика белый лист, поставлю на него наше вино и рядом — прозрачную невесомую рюмочку, одну на двоих, и всё это — в жёлтом свете свечи. Ну вот. Долюшка моя...
УМЕЛЫЕ РУКИ
Подвал. Столы. Над столами в жёлтом свете синий дым. За столами трое мальчиков в красных галстуках — ЖЕКА, ЛЁХА, КОЛЯ — выжигают на фанерках портрет Льва Толстого. Это кружок «Умелые руки». Напротив них худой, в очках, СУХОБЛИНСКИЙ сочиняет план-отчёт. Это руководитель кружка. Молчание.
КОЛЯ. Чо-то у меня глаз подвинулся.
Молчание.
ЛЁХА. Ну и чо.
Молчание.
ЖЕКА. А у Илюхи-то Колька берет, блин, помидорку-то и — тиу! — Лёхе в глаз!
ЛЁХА. Ага, не в глаз, а вот сюда! Не видел дак!
ЖЕКА. Мне этот тоже зафигарил. Зелёные—твёрдые...
КОЛЯ. А чо, пойдём сёдня ещё?
ЛЁХА. Женька, ты пойдёшь?
ЖЕКА. К Илье-то? Пошли-и! Зыканые помидорки! Как даст этому в глаз!
ЛЁХА. Да не в глаз, а вот сюда!
СУХОБЛИНСКИЙ. Тихо там. Вы чего это.
Молчание.
ЖЕКА. Этому в глаз попали. Зелёненьким, твёрдень-ким, помидориком. w
СУХОБЛИНСКИЙ. Что за помидориком? Какой еще Илья?
ЛЁХА. Да Илья! У него помидоры.
КОЛЯ. Дозревают.
СУХОБЛИНСКИЙ. Так. Это вы были в гостях у Ильи и кидались там помидорами. Понятно. Дети, вы поступили дурно. Вы подвели своего товарища, ему влетит.
ЖЕКА. Чо ему влетит-то, он сам бабушке очки разбил.
СУХОБЛИНСКИЙ. Э... это кто? Это у него родители-то есть? А? Отец есть у него?
ЖЕКА. Нету.
ЛЁХА. Есть!
КОЛЯ. Нету!
ЛЁХА. Есть!!
КОЛЯ. Нету!!!
ЛЁХА. Он просто в командировку уехал, понял!!!
СУХОБЛИНСКИЙ. Это что, это что. Уехал — и ремень с собой увёз, да?
ЖЕКА. Хе-хе.
КОЛЯ (задумчиво). Меня тоже на днях пороли... Я его расплавлю, ремень, там на помойке у нас огонь горит
— я его там расплавлю.
СУХОБЛИНСКИЙ. Больно хлопотно. Может, не шалить—лучше?
КОЛЯ. Не, лучше расплавлю.
СУХОБЛИНСКИЙ. Нуты даешь, брат.
КОЛЯ (взрывается). Да, а чо она, тёхана, разоралась: карман её девке порвали!.. Меня ловили, я, это, мордой в лужу упал — вот так вот всё забрызгал... В милицию, говорит... Разоралась: пятьдесят рублей, карман порвали...
СУХОБЛИНСКИЙ (считает в уме — с сомнением). Пятьдесят рублей за карман?
ЛЁХА. Импортная, наверно, куртка.
ЖЕКА. Да не. Он, блин, эту девку вот так вот взял за капюшон и давай вертеть вокруг — капюшон и оторвался на фиг. w
СУХОБЛИНСКИЙ. Не ругайся. Значит, еще и капюшон! Тогда конечно. Тебя вот возьмёт какой-нибудь здоровенный восьмиклассник за шкирку да начнёт вертеть над головой...
КОЛЯ. Я этому восьмикласснику...
ЖЕКА. А я этому восьмикласснику как пёрну — он меня сразу бросит.
ЛЁХА (вскакивает). Тебе же сказал учитель, чтобы ты не ругался!
ЖЕКА. А чо такова-то.
СУХОБЛИНСКИЙ (в шоке). Лев... Лев... Лев Толстого делай вон, Лев Толстого.
ВПРЯГА
Это была настоящая бойцовая собака, несмотря на молодой, ещё щенковый возраст. И порода подходящая
— боксёр, и имя — Лорд. Как положено боксёру, у него был широкий «грудак» и чёрная кровожадная морда с широко расставленными немигающими глазами. Как водится у лордов, он задирал нос. Если посмотреть сбоку
— морда такая спесивая, чистый лорд. Но самое красивое место у щенка было — зубы. Когда прежний хозяин задирал ему брылья, обнажались такие сабли — держись, Костян.
Костян — бандюган из соседнего подъезда, всех пацанов достаёт. Илюшу тоже. Илюша как-то проходил по двору и вдруг слышит:
— Эй!
У Илюши сердце упало. Не помня себя, дошёл до угла, не оборачиваясь, свернул направо — и как чесанул по улице... Ночью Илюше приснился Костян. У него была страшная бритая голова, страшная растянутая кофта и ужасные штаны с идиотскими лампасами. Он шёл навстречу и ухмылялся, и ухмылка его была такой жуткой, что остального лица даже не было видно. Илюша проснулся в поту и до утра соображал, как ему быть в следующий раз, когда его Костян окликнет. По-любому выходило, что без собаки — никак. «Впряга» нужна — ну, то есть, кто-нибудь, кто бы за Илюшу в разбор пошёл. Старший брат, допустим, или пистолет — да где их взять? А собака — вон, на рынке продают, и недорого. С собакой такой разбор классный получался — загляденье. Надо собаку.
Ну ладно, привезли с матерью Лорда домой, — и что-то он такой маленький оказался... Спустили на пол — а он завертелся на полусогнутых, уши прижал и... лужу сделал. Илюша в расстройстве рухнул на диван. Лужу вытерла мать.
И всё с тех пор делала мать: варила Лорду овсянку, выгуливала его, чистила уши. Нравится ей в ушах у всех ковыряться, — злился Илюша, — вот и ко мне с ваткой пристает. Он пробовал воспитывать собаку, учить её командам по книжке. Ничего не понимает собака. Хуже того
— всех боится! Стул переставишь — шарахается от стула, от самой маленькой собачки — наутёк. В той же книжке Илюша нашёл описание породы и понял, что Лорд и не боксёр вовсе, а помесь какая-то. Понятно, почему им щенка так дёшево отдали. Никому не нужен потому что. И так стало грустно Илюше — хоть плачь. Он и заплакал. Слёзы покатились у него из глаз и прямо в ухо: он на боку лежал. Полное ухо слёз. Слышит другим ухом — клац, клац когтями по полу — подходит к нему Лорд и слёзы лижет. Язык у Лорда тёплый, шершавый. И ничем не пахнет. И морда у Лорда на ощупь мягкая, плюшевая, а шея крепкая, и вообще он хороший пацан. «Трус только — как и я. Так и будем жить —два труса», — решил Илюша, затащил щенка к себе под одеяло, обнял его и уснул.
Стали звать «боксёрскую собаку»: мать — Лорушкой, сын — Лошкой или Лохом, по настроению. Когда настроение было хорошее, Илюша тискал Лошку и целовал его в плюшевое лицо, а когда злился, бил Лоха по лбу кулаком — лоб у того был крепкий, как панцирь у черепахи. И лапы крепкие и тяжёлые, как кулаки у Мохаммеда Али. А пасть — чемодан, с зубами-саблями, полено перекусит. Всё при нем, а вот поди ж ты — трус. Бракованный, что с него взять. Зато ласковый, игрун. Любимая игрушка у Лошки — колбаса резиновая. Дождётся Лошка, когда у Илюши настроение появится, хвать колбасу и хозяину в руки тычет: давай поиграем. И начинается у них битва за колбасу. Всегда Лошка побеждает. Стоит с отнятой игрушкой над поверженным Илюшей — рычит, как зверь, кукишем своим — остатком хвоста — крутит, и из зубов колбаса торчит, как сигара. «Колбасатая собака» — картина называется. Еще гальку любит гонять по полу — лапой! Носом! Глазом! Ухом! Спиной валяется на гальке. А потом возьмёт гальку в рот и сидит так. Рот полуоткрыт. Глаза на закате. И не реагирует. «Галькомания» — называется. Камень отнимут — опять нормальная собака.
Конечно, Илюша теперь стал с Лошкой гулять. И вот идут они однажды с прогулки, а навстречу им — бритоголовый Костян, тот самый бандюган в лампасах! У Илюши от страха уши заложило. Начало он пропустил, как к нему Костян привязался — вспомнить не может, помнит только: Костян взял его за плечо и повёл за трансформаторную будку. Там Костян поставил Илюшу по стойке «смирно» и стал у него карманы один за другим выворачивать. Илюша стоял ни жив ни мёртв. И Лошка сперва оробел, отбежал от чужого. Потом подошёл понюхать. Тут Костян его и пнул по животу. Лошка взвизгнул, лапы у него подломились, и он ткнулся лицом в пыль. Илье жар в голову ударил.
— Ты!! —закричал он вдруг басом на Костяна. Такого голоса никогда прежде у него не было. — Ты!! — заревел Илья медведем.
Он схватил Костяна за кофту и начал трясти и таскать его во все стороны, как куклу. Костян оторопел. Лицо у него сделалось детским, бровки встали домиком, губы сложились буквой «о». Но драчун он был опытный, в считаные секунды собрался и стал сопротивляться, тыкать кулаками Илью. Тут незнакомым голосом заорал Лорд! Пацаны обернулись оторопело — чемодан с саблями летел на грудь Костяну. Удар Мохаммеда Али — и обидчик в нокауте. Лорд схватил Костяна за кофту, пятясь, поволок
— заголился пуп у крутого, худые ребра.
— Убери собаку! — взвыл Костян. — Илья-а!
Илья оттащил Лорда за ошейник, Лорд бился в ярости, хрипел, чёрная полоса вздыбленной шерсти шла волной от носа до кукиша хвоста.
Кое-как угомонились.
Лорд, не сводя глаз с чужого, сновал туда и сюда на привязи поодаль, втягивал воздух носом, фыркал. Илья отряхивал спину бывшему врагу. Костян сам себе отряхивал коленки, озирался на собаку и говорил уважительно:
— Ничего у тебя впряга. Какая порода?
Илья отвечал солидно:
— Боксёр. Не видишь, что ли?
ДОЖДЬ КОНЧИЛСЯ
Дождь кончился, когда все уже решили, что он навсегда. Дождь кончился под вечер — заголубело вдруг небо, из-за крыш плеснуло закатным светом, улицы засветились оранжево, и на театральной площади заиграл духовой оркестр.
Пожилые пары кружились в вальсе. Дамы в нарядах ушедшей молодости, дамы в плащах, оказавшиеся здесь случайно, дамы, никогда не имевшие нарядов и обычно гонимые отовсюду, — здесь все они кружились в полном и прочном согласии, и меж ними возвышались два кавалера: один в новых брюках и старом пиджаке, другой в настоящих белых штанах, чёрной блузе при белом гал-стухе и с орденскими планками на груди. Все они были важны и торжественны.
Зато были полны весельем два городских дурачка-«дауна». Один дурачок был умный — он топтался возле танцующих с банкой «Пепси» в руке и, весь бурля возбуждением внутри, снаружи уморительно серьёзничал и порицал дурачка глупого, который самозабвенно отплясывал свой собственный фантастический танец перед трубами и барабанами оркестра. Глупый дурак скакал и весь развевался в упругом потоке музыки с невыразимым блаженством на лице, а умный «даун» громко подавал советы музыкантам и подчёркнуто не желал иметь с дураком ничего общего.
Музыканты улыбались. Громко аплодировали зрители. Юный бандит в щёгольском костюме вынул бумажник, купил две коробки бананов и раздал их девушкам.
Дождь кончился. Да его и не было никогда.


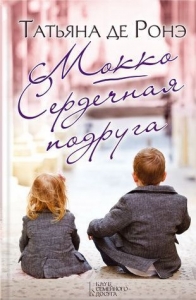







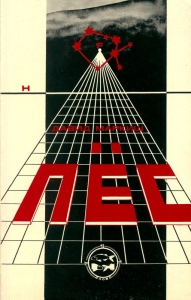
Комментарии к книге «Дед Пихто», Владимир Александрович Киршин
Всего 0 комментариев