Валтасаров пир. Лабиринт
ТРУДНЫЙ ПОИСК ГЕРОЕВ
Однотомник Тадеуша Брезы (1905—1970) позволит нашему читателю познакомиться с многообразием творческой индивидуальности писателя, ощутить его талант в движении, в развитии: поздний роман «Лабиринт» (1960), уже публиковавшийся на русском языке, предваряется здесь более ранним произведением — «Валтасаров пир» (1952).
Если до сих пор Т. Бреза был известен нам как великолепный и тонкий знаток Ватикана, сложную структуру которого он анализировал помимо «Лабиринта» и в «Бронзовых вратах», тоже переведенных на русский язык, то роман «Валтасаров пир» целиком посвящен послевоенной Польше.
Написанный, что называется, по горячим следам событий, «Валтасаров пир» несет на себе определенную печать времени. Для самого Брезы, однако, «Валтасаров пир» имел важное, этапное значение. Одним из первых в послевоенной польской литературе он, «одержимый тоской по текущему», выражаясь словами Достоевского, стремился запечатлеть здесь приметы новой действительности, отразить те процессы, что совершались в жизни, равно как и сдвиги, происходившие в сознании людей.
Как литератор Т. Бреза начинал еще в конце 20-х годов, будучи студентом вначале Познанского, а позже Варшавского университета, где он изучал философию под руководством выдающихся ученых Вл. Татаркевича и Т. Котарбинского. Уже тогда он выступает со стихами и рассказами и даже получает премии на университетских конкурсах.
Вслед за этим Т. Бреза провел несколько лет на дипломатической работе в Лондоне, где продолжал свои углубленные занятия философией в библиотеке Британского музея, внимательно изучая классиков английской эссеистики XVIII века (вероятно, именно с тех пор у него на всю жизнь сохраняется особая любовь к этому жанру, искусством которого будущий автор «Бронзовых врат» овладел в совершенстве).
С дипломатической работой были связаны в ту пору и поездки Т. Брезы в Голландию, Италию, Австрию, Турцию, Чехословакию, Румынию. И хотя писателя всегда тяготила дипломатическая служба, отрывая его от главной жизненной цели — литературного творчества, он окончательно не порывает с дипломатией и позже: в 50-е годы Бреза несколько лет исполняет обязанности советника по делам культуры в посольстве ПНР в Риме, а позже в Париже.
Но тогда, в начале 30-х годов, Т. Бреза, вернувшись из Англии на родину, со страстью отдается журналистике, успешно пробуя свои силы в разных ее областях — от судебного отчета до рецензий на книги и театральные постановки.
Основные же свои силы он отдает работе над романом «Адам Грывальд», который появляется в 1936 году и сразу обращает на молодого автора внимание критики.
Тогдашнюю критику удивила нетрадиционная форма произведения: автор как бы намеренно отказывался от сюжета, обнажал перед читателем многие «тайны ремесла» романиста и т. п. Впрочем, непривычной представлялась не только формальная сторона произведения, но и его интеллектуально-философская структура. Писатель занимается в этом произведении исследованием характеров, внимательным изучением той среды, в которой пребывают персонажи. Он рисует ограниченный буржуазный мирок, представители которого уже на грани вырождения. Поэтому всякого рода духовные, нравственные, психофизические отклонения здесь — обычное дело и никого, собственно, не удивляют. Однако рассказчик отстраненно регистрирует все происходящее и стремится дать каждому «феномену» чисто научное, философское объяснение (даже таким явлениям, как модный в ту пору в европейской литературе гомосексуальный мотив). При этом картина подчас приобретает черты гротеска. Современные исследователи, продолжая оживленный после переиздания «Грывальда» в конце 60-х годов спор, отмечали, что бихевиористская философия, дань которой автор отдал в этом романе, — регистрация очевидных, видимых фактов человеческого поведения и игнорирование всякого рода внутренних, психологических и психических процессов, — нанесла определенный урон Брезе-писателю. Помешала ему сделать более широкие обобщения, подсказанные произведенным им анализом.
Однако, вопреки сковывавшей его философской концепции, автор «Адама Грывальда» оказался достаточно проницательным художником. Не случайно М. Спрусинский, один из молодых исследователей творчества Т. Брезы, перечитывая его книгу сегодня, как бы свежим взглядом, констатировал:
«…Изменения в жизни, которые обрекли на гибель мир Грывальда, не замкнули роман в строго ограниченных исторических рамках. Они только резче обозначили их… Жизнь протекает под колпаком в социальной и политической пустоте… В «Грывальде» жизнь лишена будущего. Действительность застыла в странном, безумном, маниакальном жесте поколения отцов, в сценах флирта и сплетен, инсценированных поколением молодых».
Словом, в этом дебюте уже как бы угадывалось зерно будущей дилогии Т. Брезы («Стены Иерихона», «Небо и земля»), которую он начал в годы оккупации, а завершил и опубликовал вскоре после освобождения. В ней писатель развернул широкую социально-политическую панораму предвоенной Польши, изобразил жизнь той общественной верхушки, тех военных кругов, которые привели государство к сентябрьской катастрофе 1939 года.
Дилогия эта — итог многолетних раздумий художника над причинами поражения старой, санационной Польши — как бы подводила черту под безвозвратно канувшей в Лету эпохой. Вместе с тем она явилась и своеобразным рубежом в творческой биографии самого писателя: отошел в прошлое целый мир, уходили из сферы авторских интересов и символизировавшие его литературные персонажи. Романиста влекли уже новые люди, новые конфликты, порождаемые окружающей его действительностью, которая властно приковывала его внимание.
…Трудности послевоенного периода в Польше, только освободившейся от фашистской оккупации, усугублялись тем, что процесс восстановления нормальной жизни сопровождался решительной ломкой старого социального уклада, а этому всячески противились силы, стремившиеся его сохранить.
Перевод страны на новые рельсы сопровождался многими драматическими конфликтами, которые разыгрывались как в самой действительности, так и в душах людей. Далеко не каждому и не сразу удавалось найти свое место в круто менявшейся жизни.
Эти острые коллизии и стремилась показать польская литература тех лет, выявляя, сколь разными были пути и сколь мучительными подчас оказывались поиски, сопутствовавшие приобщению человека к новой действительности.
Главный персонаж «Валтасарова пира» Анджей Уриашевич, приехавший в Варшаву из Парижа, как будто еще связан со старым миром и происхождением и взглядами, но, по существу, уже ничто, за исключением далекой родни да редких, оставшихся в живых школьных друзей, не привязывает героя к нему.
Анджей, бывший участник Варшавского восстания, закончившегося поражением повстанцев и гибелью польской столицы, после освобождения американцами из фашистского концлагеря оказался на Западе. Теперь он приезжает в Варшаву ненадолго. Его визит сугубо делового свойства. Однако истинную его цель он вынужден скрывать. Франтишек Леварт — последний отпрыск некогда знаменитых варшавских промышленников (с этой семьей был связан отец героя, работавший на их фабрике управляющим) — упросил Анджея доставить ему из Варшавы фамильную реликвию — картину Веронезе «Валтасаров пир». И хотя Анджею не очень по душе такое предприятие, он соглашается из соображений чисто практических: Леварт дает ему деньги. Поначалу кажется, что, помимо поисков укрытой в тайнике картины, ничто не интересует Анджея ни в родном городе, который поднимается из руин, ни вообще в Польше.
Такой редкостной для молодого человека политической, общественной пассивности дано психологически верное объяснение: Анджей, подобно тысячам других повстанцев, глубоко пережил трагедию поражения. Авантюризм эмигрантских политиканов, отдавших из Лондона соответствующий приказ и тем самым обрекших столицу и ее жителей на муки и гибель во имя призрачных, «высших» соображений, заставил его разочароваться в самой программе, выдвигавшейся руководителями восстания, на долгое время вызвал неприязнь ко всякого рода политическим декларациям и призывам. Само понятие родина в опустошенной душе Анджея не вызывает поначалу никакого отзвука, кажется всего лишь пропагандистским лозунгом новой власти.
Не удивительно, что известная пассивность отличает многие действия героя. Даже в поисках драгоценной фамильной реликвии Левартов Анджей не проявляет энергии и изобретательности.
Некоторые поступки Анджея на первый взгляд как будто лишены всякой логики. Уже завладев картиной, герой романа не спешит, однако, привести в исполнение вторую часть своего плана — переправить «Валтасаров пир» за границу. Буквально бросив эту вещь в Варшаве на произвол судьбы, Анджей на неопределенное время покидает столицу, оседает в маленьком приморском городке Оликсна, где его давний приятель по политехническому институту Биркут занят восстановлением разрушенного немцами при отступлении порта. Именно в Оликсне, где его инженерный талант пришелся к месту, Анджей утрачивает свою пассивность, с увлечением принимается за работу.
Подобный поворот в судьбе главного героя заставил некоторых рецензентов упрекнуть автора «Валтасарова пира» в схематизме заключительных глав книги и выразить сожаление, что Т. Бреза к остросюжетной поначалу фабуле «подверстал» эпилог производственного романа.
В статье, посвященной «Валтасарову пиру» и его оценке критикой, Т. Бреза оспорил такого рода прочтение книги. Обращаясь к «портовой части» романа, он пишет:
«Некоторым критикам эти страницы, попросту говоря, кажутся схематичными. Действительно ли за мной водится такой грех, в чем меня обвиняют не в одной рецензии на «Пир»? Пожалуй, нет. Как эту проблему рассматриваю я сам? А вот как: поскольку тема книги не школьная и не портовая среда, а сам Уриашевич и его перерождение, я вправе из молодежной и производственной среды взять только те моменты, под воздействием которых Уриашевич изменился. Если бы я написал книгу в форме дневника самого Уриашевича, упомянутые упреки отпали бы сами собой».
То, что некоторые главы, особенно в последней части романа, выполнены как бы методом «замедленной киносъемки», — это не просчет неопытного автора, а сознательный прием. Ведь развитие характера Уриашевича определяется не острыми, динамичными ситуациями, а иными, более глубокими причинами. Приезд Анджея в Польшу — лишь первый шаг в процессе его становления.
Поэтому, думается, сюжетные перипетии и все, связанное с картиной Веронезе, исподволь как бы вытесняется на периферию романа: главный герой словно «передоверяет» прежние свои «прожекты» другу детства Хазе, который в них давно и полностью посвящен. Но как человек, исполненный вероломства, Хаза реализует их по-своему, преследуя откровенно корыстные цели. Реализация эта оказывается неудачной. Хаза гибнет в водах Балтики вместе с похищенной картиной. Автор, однако, далек от того, чтобы на примере Хазы преподать Анджею наглядный урок.
Эта сюжетная линия скорее призвана дискредитировать в глазах героя некоторых людей, их взгляды, жизненные позиции, тем самым способствуя тому, что Анджей делает следующий, важный для него шаг. И картина Веронезе служит своего рода лакмусовой бумажкой, помогающей герою четко определить свое отношение ко всему этому.
Любое подлинное произведение искусства — это в первую очередь эстетическая ценность. Но в мире Левартов, где единственным «богом» всегда были деньги, картина Веронезе оценивалась с чисто коммерческой стороны. В годы преуспевания старик Фридерик Леварт даже переплатил за нее ради того, чтобы, украшая его гостиную, эта вещь служила своеобразным доказательством «солидности фирмы». Последнее, впрочем, не помешало его сыну Станиславу после смерти отца тайком (даже от своих близких) продать «Валтасаров пир» зарубежному музею. Ведь картина сама по себе у такого мота и гуляки, как Станислав Леварт, никогда не будила высоких эмоций. Заменив в фамильной гостиной оригинал копией, Леварт-младший рассчитал правильно: сохраняя за собой славу респектабельного промышленника, он в то же время положил в карман солидную сумму, когда-то затраченную отцом на приобретение картины.
Всю эту «подноготную» герой романа узнает в ходе своих поисков. Он узнает и многое другое. А именно, что некоторые из членов семьи Левартов отлично ладили с оккупантами, тем самым извлекая для себя немалые выгоды, но тщательно скрывали это от окружающих. Вполне естественно, что Анджей очень скоро отказывается от всяких попыток вернуть картину прежним владельцам и думает о передаче ее в музей.
Тема искусства, различного восприятия художественных творений разными людьми — от восхищения ими до корыстного, чисто потребительского к ним отношения — всегда волновала Брезу. В «Бронзовых вратах», говоря о недостойном, низменном отношении к шедеврам человеческого гения, писатель охарактеризовал его как «игру злых сил вокруг произведений искусства». В «Валтасаровом пире» он каждым новым поворотом сюжета добивается как бы своеобразного «отлучения» от картины Веронезе всех (от Леварта до Хазы), кто, видя в ней лишь предмет купли-продажи, не способен наслаждаться ее созерцанием бескорыстно.
Тадеуш Бреза, думается, вполне сознательно до конца романа умалчивает о том хитроумном трюке, который некогда проделал с «Пиром» покойный Станислав Леварт. Тем беспощаднее в финале откровенная авторская насмешка: ведь копия (в отличие от оригинала), даже будь она благополучно переправлена за границу, ничего не стоила бы! В результате давняя чисто финансовая «операция» с картиной Леварта-отца теперь больно ударила бы по его сыну и всем, кто поспешил в качестве посредников примазаться к новой афере со знаменитым полотном.
Не лишне добавить, что картина «Валтасаров пир» — вымышленная вещь, отсутствующая в списке работ Веронезе. Романист, естественно, волен в своей фантазии. Он вправе приписать одному из титанов Возрождения любой шедевр. Но в самой этой мистификации скрыта доля писательской издевки над профанами, далекими от искусства, которые не прочь разбогатеть за его счет…
Итак, на мой взгляд, не эта остросюжетная линия особенно важна для понимания происшедших в сознании героя сдвигов. Гораздо большую роль играют здесь как раз относительно «статичные» главы. Главы, где Анджей пытается как-то осмыслить события, происходящие в Польше, разобраться в собственных поступках, сделать выводы на будущее. Один из таких поворотных моментов — это приезд его в Оликсну. Именно здесь Анджей впервые осознает свою сопричастность с окружающей его жизнью. Момент такой «иллюминации», если воспользоваться названием фильма польского режиссера К. Занусси, то есть озарения, наступает у героя далеко не сразу.
Не случайно этот высший миг он переживает в Оликсне, на древних пястовских, позже надолго онемеченных и лишь недавно возвращенных Польше землях, переживает, осматривая стены замка, которые сохранились здесь с тех давних времен. Анджей с волнением ощупывает замшелые камни этой твердыни, обнаруживая на ней изображение грифа — полустершийся герб пястовских князей. При этом он сам как бы восстанавливает утраченные связи с родиной, обретает корни.
«Валтасаров пир», как уже говорилось, был для Брезы этапным произведением. Обращение к новому жизненному материалу отразилось и на языке романа. Рафинированный, утонченный, подчас усложненный язык предыдущих романов Брезы здесь уступил место другому — более свободному, непринужденному, почти разговорному языку. Писатель не стремился намеренно «опростить» его. Сама динамичность действия, многочисленные диалоги и скупые, близкие к ремаркам лапидарные авторские описания — все это во многом предопределило саму манеру повествования. После «Валтасарова пира» Т. Бреза уже никогда — ни в «Бронзовых вратах», ни в «Лабиринте» — не вернется к «барочной» стилистике своих ранних вещей. «Валтасаров пир» как бы подготовил в этом отношении будущую афористическую краткость и классическую ясность «Бронзовых врат».
Но Бреза-романист понес в «Валтасаровом пире» и определенные потери. Сила Брезы-художника, начиная с «Адама Грывальда» (это, впрочем, подтвердили и более поздние его вещи), состояла в углубленном, длительном, неторопливом исследовании явления, события, характера, которые писатель изображал несколько отстраненно, словно с некоторой дистанции. Эти особенности своего таланта Бреза сам сформулировал в одном из интервью, когда на вопрос журналистки о том, что он посоветовал бы молодым прозаикам, ответил: «Наблюдать и описывать». Именно этим «методом» пользовался он сам, создавая «Адама Грывальда», «Стены Иерихона», «Лабиринт».
В «Валтасаровом пире» Бреза иной раз, будто торопясь запечатлеть то или иное явление, описывал увиденное, так сказать, еще в ходе самого наблюдения, не успев достаточно основательно постичь его суть. Поэтому глубокое художественное осмысление некоторых сторон послевоенной польской действительности подменяется здесь чисто журналистским, очерковым изображением. Это относится, например, к той части, где автор повествует о неудавшейся попытке героя испытать свои силы на ниве просвещения. Будни сельского учителя в такой трудный для польской деревни период представлены довольно эскизно, невыразительно. Романист то принимается чисто внешними средствами искусственно драматизировать события в Ежовой Воле (вооруженное нападение бандитов на близлежащий завод, засада, в которую попадают едущие по шоссе инспектор и директор школы), то рисует почти идиллические сценки жизни и быта учащихся.
Словом, роман написан неровно. Но, наряду с отдельными авторскими просчетами, в нем немало отличных, запоминающихся страниц. Удивительно поэтична вся лирическая партия книги. Рассказ о любви Анджея к юной и прелестной воспитаннице балетного училища Галине Степчинской как бы освещает всю вещь неким внутренним светом. Их крепнущее чувство на пути к тому, что Стендаль называл «кристаллизацией любви», проходит разные стадии. Их любовь переживает неизбежные взлеты и спады (дают себя знать и разность характеров, и конфликты, порожденные недостаточным сперва взаимопониманием, порывистостью молодости), но каждая новая фаза в отношениях героев вместе с тем как бы отражает новый этап в становлении их характеров. Ведь именно под воздействием своего первого настоящего чувства к такому цельному человеку, как Анджей, Галина, эта поначалу довольно поверхностная, своенравная кокетка, постепенно превращается в сильную, глубокую, волевую натуру. Наряду с этим любовь оказывает существенное влияние и на дальнейшую судьбу Анджея, на его решение остаться на родине.
Завершая разговор о романе «Валтасаров пир», небезынтересно будет напомнить, что история полотен Веронезе не переставала занимать писателя и позже. Почти через десятилетие в «Бронзовых вратах» Бреза вновь уделил немало места одному из поздних шедевров итальянского мастера — «Пиру в доме Левия», картине, вызвавшей гнев священной инквизиции своим еретическим духом. Бреза приводит подробный протокол допроса художника на этом судилище, его ответы и обстоятельно анализирует уникальный документ, где с поразительной ясностью зафиксирована борьба независимого, свободного творческого духа с косными, догматическими воззрениями инквизиторов, стремящихся умертвить в зародыше все, что способно разбудить живую человеческую мысль.
Эта тема единоборства, не закрепощенного католическими догмами сознания, так отчетливо вырисовывающаяся в протоколах Венецианского трибунала, осудившего за «ереси» великого мастера, созвучна одной из центральных идей «римского дневника» Брезы.
Исследуя в «Бронзовых вратах» природу Ватикана, его воздействие на окружающий мир в прошлом и настоящем, когда апостольская столица уже вынуждена как-то «сообразовываться» с веяниями времени, Бреза показывает, как римская курия, то несколько ослабляя (по чисто тактическим соображениям) свое «идеологическое наступление», то усиливая его, по существу, сводит все свои усилия к одному — к попыткам обуздать разум человека, подчинив его мертвящему официальному канону.
Знаменательно высказывание, завершающее эту великолепную книгу. Рассказывая в последних главах о кончине главного догматика — Пия XII, целые десятилетия противившегося всем реформам церкви, и об избрании нового либерального папы — Иоанна XXIII, Бреза приводит суждение одного итальянского театрального режиссера насчет только что избранного главы римско-католического мира:
«Общий замысел роли будет другой, но роль останется той же самой».
Правда, в «Бронзовых вратах», где подводится своего рода итог эпохе Пия XII, подобная фраза звучит еще скорее как предположение. Кажется, что после продолжительного, мрачного и бесславного периода «тоталитарного» правления Пия XII апостольская столица все же пойдет на какие-то существенные внутренние реформы, что церковь эта станет менее догматической, менее отрешенной от конкретных, насущных нужд верующих.
Однако «Лабиринт» Т. Брезы невольно рассеивает подобные надежды. Если в «Бронзовых вратах» автор дал своего рода «общий слепок» церковного ведомства, обозначил его основные контуры, то в «Лабиринте» он исследует работу этого механизма как романист, показывая, насколько медленно, но и неумолимо проворачиваются шестерни и как они, вращаясь, прокатывают по человеку, ломают его жизненные планы.
В «Лабиринте», однажды названном Брезой «беллетристическим дополнением» к «Бронзовым вратам», свою мысль о догматизме церковников писатель выразил по-иному: используя возможности романа, он показал это на конкретной судьбе отдельного человека.
Молодой поляк-католик, историк по профессии, прибывает в римскую курию ходатайствовать за своего отца, консисториального адвоката, подвергшегося несправедливым притеснениям местного епископа. Епископ Гожелинский, желчный, озлобленный человек, возненавидел адвоката, так как тот принадлежал к числу «мягкотелых» — так Гожелинский именовал тех католиков, которые оставались лояльными в отношении новой власти. Своей непримиримостью к «мягкотелым» Гожелинский напоминает другое духовное лицо — приходского священника Споса из «Валтасарова пира».
Центральный персонаж «Лабиринта», хотя он мил, честен, искренен в своем стремлении добиться для отца справедливости, горячего участия и симпатии не вызывает. Он, пожалуй, довольно ординарен как личность. О чем, кстати, говорил и сам Бреза, заметив однажды, что «меньше всего ему импонирует главный герой», позволяющий римской курии «столь долго водить себя за нос». Будь он иным, продолжил свою мысль писатель, «то стукнул бы кулаком по столу или удалился, громко хлопнув дверью, и возвратился на родину через неделю, а я остался бы… без романа».
Замечание Брезы подтверждает, что выбор такого инфантильного героя не случаен, так же как не случайно и то, что он ни разу не назван по имени. Перед нами просто один из тысячи смиренных просителей-пилигримов, прибывающих в апостольскую столицу по личным делам. А он к тому же еще приехал из Польши, «из-за железного занавеса», выражаясь языком представителей римской курии. Значит, он должен быть вдвое, втрое смиреннее, если хочет надеяться на какую-то поддержку в Ватикане.
То, что герой позволяет «столь долго водить себя за нос», как раз и помогло романисту скрупулезно исследовать весь извилистый лабиринт «небесной канцелярии». Центр тяжести в книге как бы перемещается с героя на сам объект — Ватикан, который оказывается своего рода «действующим лицом» произведения. Примечательно, как в связи с этим автор искал заглавие, наиболее емко выражающее идею вещи. В периодике публиковавшийся с продолжением роман назывался «Миссия». Потом, стремясь подчеркнуть, что его больше занимает сама ватиканская бюрократическая машина, которая, по словам Брезы, «служит прообразом всех настолько же гигантских и отчужденных от человека учреждений», писатель в отдельном издании озаглавил книгу «Ведомство». И, наконец, для русского перевода предложил более выразительный вариант — «Лабиринт».
Объяснение подобному символу — в тексте романа. «Римская курия, — говорит поляку-просителю один из высоких отцов церкви, удостоивший его аудиенции, — это лабиринт. Механизм с сотней, с тысячей неизвестных». Подробно, день за днем прослеживает автор скитания героя по бесконечным коридорам ватиканского лабиринта, повергая его из одной крайности в другую — от разочарования к надежде, от радости — к полному отчаянию, сталкивая его с самыми разными людьми, занимающими различные посты на иерархической лестнице.
Вот старый друг отца героя — Кампилли — его однокашник по «Сан Аполлинаре» — римской юридической школе, которую они некогда вместе кончали. Ныне Кампилли один из адвокатов Священной Роты — ватиканского трибунала. Отлично знающий свое дело юрист, он, в отличие от молодого поляка, давно постиг все тонкости папского ведомства. В его лице ходатай из Польши, казалось бы, обретает надежного, опытного советчика. Но Кампилли — это старый, хитрый лис, который вовсе не собирается рисковать своим положением, своей безупречной в глазах курии репутацией. Кампилли — человек-флюгер. Его отношение к сыну давнего друга определяется не душевным расположением, а тем, как продвигается мемориал, поданный молодым поляком, по незримым бюрократическим инстанциям «небесной канцелярии». Вот другой былой отцовский приятель, де Вос, — милый, отзывчивый старик. Наконец, вежливый, корректный монсиньор Риго, один из высших «функционеров» Священной Роты.
Все они как будто по-своему принимают большее или меньшее участие в молодом поляке, выслушивают его, направляют, дают советы. И вместе с тем как бы образуют единый, замкнутый круг, в пределы которого герой никак не может пробиться. Любопытная деталь, связанная со всем замыслом романа: проситель из Польши наряду с хлопотами по отцовскому делу намерен заняться историческими разысканиями в ватиканской библиотеке. Ведь он историк в области права. И ему хочется найти здесь документальное подтверждение своей гипотезе о происхождении названия Священной Роты. Правда, герою так и не удается по-настоящему изучить этот вопрос. (Святые отцы, полные недоверия к поляку-католику, довольно скоро лишают его доступа к рукописям.) И все же он успевает установить, что «Рота» означает «круг», который изображен на самых старых оттисках печати, сохранившихся на отдельных документах священного трибунала, а вовсе не некий вращающийся пюпитр для бумаг и папок, призванный облегчать работу членов Роты, как утверждал это официальный ватиканский историк. На первый взгляд как будто чисто академического свойства вопрос. Однако в сложной образно-смысловой структуре романа — это важная деталь. Замкнутый круг, как эмблема высшей судебной инстанции в папском государстве, пороги которой тщетно обивает молодой поляк-проситель, приобретает довольно мрачный смысл, если учесть еще, что итальянское слово «рота» в далеком прошлом имело также и другое значение: так назывался круг, на котором инквизиторы истязали свои жертвы, добиваясь от них необходимых признаний во всевозможных «ересях». Надо думать, перед автором «Пира в доме Левия» маячил грозный призрак именно такого «круга», когда священный трибунал допытывался, как он посмел на картине религиозного содержания «намалевать шутов, пьяниц, собак и прочую мерзость».
Для героя «Лабиринта» эта сперва отвлеченная историческая «реалия» печать-круг — символ Священной Роты — постепенно приобретает зримые, почти реальные очертания. Вначале «огромный вращающийся пюпитр и вместе с тем карусель», на которой кружится он сам, — это лишь навязчивый сон-кошмар. Но в заключительной сцене романа, когда печатью Роты секретарь скрепляет окончательное — негативное — решение по делу консисториального адвоката, этот сон под воздействием внезапной психологической травмы, пережитой героем, как бы материализуется:
«Голова моя не перестает кружиться… Стараюсь прийти в себя. Положить предел догадкам и подозрительности. Отбросить все неправдоподобное и пустое. В конце концов доводы и мотивы, которые курия могла принять во внимание, вихрем проносятся передо мной, движутся по кругу, обретя зримые формы, вращаются, распятые на крыльях гигантского пюпитра, и в определенный момент меняют очертания; теперь они кружатся в пестрых, разноцветных лодках карусели. Взгляды и точки зрения олицетворяют люди, живые и умершие, занимающие важный пост либо собирающиеся занять его. Среди них нет только одного человека: ни на одном крыле, ни в одной лодке я не вижу моего отца. Вероятно, потому, что в этом ведомстве соображения, связанные с личностью моего отца, не сыграли никакой роли в его собственном деле».
В этом финальном эпизоде, как справедливо отметил в свое время польский критик Тадеуш Древновский, «между печатью эпохи средневековья, которую разыскивал наш герой, и печатью, скрепившей приговор, что предопределил судьбу его отца, заключена вся правда о ватиканском заколдованном круге, где нет места для справедливости в отношении к человеку».
Повествуя о злоключениях своего героя, автор вводит в роман фигуру провинциального итальянского священника Пиоланти. Священник этот, потрясенный нищетой крестьян в своем приходе, их недоверием к церкви, которая, как он хорошо понимает, не в состоянии облегчить их участь, написал об этом горькую книгу. В ней Пиоланти дал волю своим сомнениям. Книга вызвала недовольство в Ватикане и была изъята из обращения.
Пиоланти тоже ищет в римской курии справедливости. Но здесь равнодушны к терзающим его сомнениям. Ему предложено в канонических текстах из ватиканской библиотеки найти не подтверждение справедливости своих мыслей, выраженных в «крамольной» книге, но обоснование аргументов, какими он «желал бы руководствоваться» в будущем. Иными словами, Пиоланти должен доказать самому себе, что он якобы не прав и его отступление от официальной доктрины — ошибка, ересь, всякое воспоминание о которой следует вытравить из собственного сознания. У Пиоланти нет иного выхода, кроме смирения. Оставаясь священником, он не может вырваться из этого круга. Ему, видимо, предстоит испить горькую чашу до дна: вернуться в свой приход, где его ждут одни унижения. Пиоланти — трагический образ. Знакомство с ним, с его судьбой усиливает ощущение замкнутости того мира, по кругам которого автор проводит своего юного героя.
Парадоксально, но вместе с тем этот глубоко верующий итальянский священник как бы помогает просителю из Польши освободиться от напрасных надежд, связанных с «небесным ведомством», понять, что добиться здесь справедливости для простого смертного невозможно.
Книга Брезы написана мастерски. Исподволь, едва уловимо возникает в ней атмосфера духоты, затхлости. Мимолетное упоминание в самом начале, что в Риме немилосердно палит солнце, переходит в отчетливый рефрен. И нам начинает казаться, будто мы сами бродим по бесконечным коридорам фантастического папского ведомства. «Роман» героя Брезы с римской курией завершился поражением героя, так как в результате его ходатайства отца перебрасывают в другой приход, в другой город, словно и впрямь он чем-то запятнал свою репутацию. Но потрясение, пережитое в апостольской столице молодым католиком из Польши, не начало ли его духовного прозрения?
Об этом невольно думаешь, дочитывая последние страницы книги. От перрона римского вокзала отходит поезд, увозящий молодого краковского историка обратно, на родину. Он открывает окно, чтобы бросить последний взгляд на Вечный город. И впервые за все это время дышит полной грудью, с облегчением. Его наконец покидает неотступное ощущение духоты. Кажется, будто с его души спали какие-то оковы.
Эволюция героя «Лабиринта» от слепой веры к трудному, но неизбежному прозрению характерна для персонажей целого ряда произведений польской литературы последних полутора-двух десятилетий. Любопытно при этом заметить, что и «Лабиринт», и некоторые другие романы современных польских авторов об Италии — это произведения о крахе каких-то несбывшихся надежд. Достаточно хотя бы напомнить, помимо романа Брезы, уже известные нашему читателю книги: «Путешествие» Ст. Дыгата, «Грустная Венеция» В. Кубацкого.
Путешествие в Италию для всех этих персонажей как бы освящено определенной литературной традицией. Они не просто отправляются в зарубежную поездку, а будто следуют маршрутом своих знаменитых поэтов-романтиков, едут теми же дорогами, через те же города, созерцают те же памятники культуры прошлого, что и Мицкевич, Красинский, Словацкий, Норвид.
Известная романтическая «настроенность» героев этих книг при столкновении с нынешней грубой «прозой» итальянской жизни, естественно, приводит к крушению определенных иллюзий. Но, переживая своего рода очистительную «драму идей», они возвращаются на родину духовно более зрелыми, обогащенными новым знанием, чтобы у себя дома после периода трудных поисков начать новый жизненный этап.
В этом смысле в судьбах главных персонажей обоих публикуемых в этом томе романов Т. Брезы угадывается известная общность, некие точки соприкосновения. Анджей Уриашевич возвращается на родину, хотя и не из Италии, но с немалым и горьким опытом эмигрантских скитаний. Его окончательное духовное прозрение тоже во многом подготовлено длительным пребыванием на чужбине.
Итоги такого рода путешествий, как бы свидетельствуют своими книгами польские романисты, иногда оказываются поучительными. И это естественно: «большое видится на расстоянье».
С. Ларин
ВАЛТАСАРОВ ПИР Роман
Перевод Н. ПОДОЛЬСКОЙ.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Ветер задул со стороны развалин и, вздымая тучи кирпичной пыли, понес их к дворницкой. Кроме этого каменного строения, от бывшей фабрики и большого жилого дома Станислава Леварта, не уцелело ничего. Дом, четыре фабричных корпуса, гаражи, склады, два флигеля: левый, бывшая лаборатория, и правый, где жили прежде Уриашевичи, — все обратилось в груды кирпичей. Не пощадила судьба и вторую дворницкую — точное подобие первой. Когда все уже было позади, налетевший ночью ураган обрушил на нее поврежденную бомбежкой фабричную трубу. В единственной уцелевшей постройке с грехом пополам можно было жить. И вот после войны там поселились люди; с утра до вечера перед глазами у них маячили руины. Конечно, не в такие минуты, когда окна застилало густой кирпичной пылью.
В комнате потемнело. Старуха Уриашевич подняла глаза от пасьянса.
— Я знаю, — сказала она, — я уверена: вам что-то известно.
Старуха была обижена. Это чувствовалось по голосу. Но Ванда отнеслась к словам матери так, будто та просто заупрямилась.
— Нет, мама, ты ошибаешься. Мы от тебя ничего не скрываем.
Уриашевич перевела взгляд с Ванды на Тосю — и у той в волосах уже серебрилась седина. Тося шила, сидя на кровати, шила, упорно в продолжение всего разговора, и это показалось матери тоже подозрительным. Она долго смотрела на младшую дочь. Но тщетно. Тося не поднимала глаз от шитья. В этой скованности было что-то неестественное.
— Ну, как хотите!
Теперь в голосе ее прозвучала такая печаль, что нервы дочерей не выдержали. Ванда тотчас очутилась у постели. А Тося, которая за минуту перед тем была так поглощена работой, что, казалось, ничего не слышала, отбросила свое шитье и, воздев руки, воскликнула:
— Ну, почему тебе, мама, в голову приходят такие мысли! Просто уму непостижимо!
Вскочив с места, она встала рядом с Вандой. Теперь обе старались поймать взгляд матери, обе, точно сговорившись, нежно, любовно заглядывали ей в глаза, стремясь убедить в своей искренности. Но старуха снова взялась за карты, задумавшись бог весть о чем. Она уже много лет не вставала с постели. Дрожащие руки — все в коричневых пятнах, ноги — в незаживающих язвах: последствия диабета. Но страшнее всего было повышенное давление: чем это грозит — известно. Пани Уриашевич взяла карту из колоды, перевернула, но даже не посмотрела на нее. Кажется, закрыла глаза. Заснула или от боли? А может, опять на минуту сознание потеряла? Но нет.
— Чего вы надо мной стоите? — не поднимая головы, спросила она.
— Мама, ты стала такая мнительная, — с упреком сказала Тося.
Упрек — следствие разговора, а не ответ на вопрос матери. Поэтому, наверно, в голосе больной и слышится ирония:
— Думаете, если будете торчать возле меня, мне это поможет?
Тося вспыльчива и не любит такого обращения с собой. Кроме того, она религиозна до фанатизма, и пасьянсы матери вызывают у нее какое-то тревожное и ревнивое чувство. По мнению Тоси, это непорядок. Она вообще против всяких суеверий и гаданий. И, забыв, что подошла к матери с намерением ласково, примирительно посмотреть ей в глаза, говорит сердито:
— Все оттого, что ты картам веришь.
— Нет. Но и вам тоже не верю.
Она поморщилась. Явно от боли. Дочери понимали: на сей раз это страдания только физические. Мать откидывается на подушку, повернув набок голову, широко открыв глаза с желтыми белками и пробуя переменить положение ног, но все ее попытки ни к чему не приводят. Вот сейчас застонет громко. Дочери в отчаянии переглядываются. Одно и то же, вечно одно и то же. Матери то совсем худо, то чуть полегчает, но состояние ее тяжелое. С каждым днем старушка становится все раздражительней, а силы уходят, она слабеет. Надо ее щадить, а она волнуется из-за всяких пустяков. Угодить ей невозможно, и она мучает дочерей, но что гораздо хуже — себя; нервничает, переутомляет сердце, которому и без того немного нужно, чтобы перестать работать. А какой рассудительной и уравновешенной была всю жизнь. И даже еще полгода назад.
— Мама, так нельзя. Доктор строго-настрого запретил трогать повязки.
Пани Уриашевич от боли поджала ноги, пытаясь поправить или сдвинуть бинты. Спеша помешать этому, Ванда мягко удержала ее своими изменившимися до неузнаваемости синими, загрубелыми руками. Это не стоило ей больших усилий: мать не вырывалась, она совсем ослабела и только вытягивала руки, теребя чехол от перины. Карты, лежавшие на перине, посыпались на пол. Ванда нагнулась, чтобы поднять их. Но, опустившись на колени, позабыла о картах и губами прильнула к материнской руке. Она то целовала руку, то старалась ласково успокоить мать:
— Сейчас Тося сделает тебе укол. Потерпи минутку!
Старуха наморщила лоб. Видно было, как глазные яблоки вращаются под ее опущенными веками. Но глаз она не открывала — ни разу не посмотрела на дочь. Ванде тяжело было думать, что мать все еще сердится на нее. И она, как заклинание, стала твердить слова, которые уже не раз повторяла:
— Мама, ты нам дороже всего на свете! Мы только ради тебя и живем!
Отрадного в этих словах было мало. И утешением они могли служить, если только вкладывать в них какой-то особый смысл. Видимо, такой смысл вкладывала в них Ванда, считая, что и мать разделяет ее мнение: она всегда улыбалась Ванде мудрой, всепонимающей улыбкой. Но сейчас она не улыбалась; может, слова дочери просто не доходили до ее сознания. Язвы на ногах жгли с каждой минутой сильнее. В последние месяцы она чуть ли не через день часами кричала от боли. И укол не всегда приносил облегчение.
— Сейчас, сейчас! Еще минутку!
Тося поспешно вынула шприц из кипятка. Развернула марлю, насадила иглу, успев, однако, перед тем обжечься о кастрюльку. Она всегда торопилась. А сейчас особенно, хотя заранее знала, что без укола сегодня не обойтись. Даже если не будет сильных болей. Так они порешили с Вандой, не видя иного выхода из положения.
После укола боль проходила не сразу. Иногда облегчение наступало через четверть часа, иногда и позже. В конце концов измученная мать забывалась сном. В ожидании этого дочери с ней обычно разговаривали. Но сегодня говорила одна Ванда. У Тоси слова застревали в горле. Она вообще не любила щекотливых ситуаций и, хотя умом понимала, что они порой неизбежны, мирилась с этим неохотно, через силу. До того неохотно, что, услышав, о чем Ванда говорит с матерью, повернулась к ним спиной и стала вытирать пыль с фотографии на стене. Она уже вытирала ее утром. А сейчас снова принялась за это занятие, стараясь растянуть его подольше. Кроме фотографии, на стенах больше ничего не было.
— Тебе, мама, кажется, будто мы что-то от тебя скрываем, — тихим ровным голосом объясняла Ванда. — Поверь, мы говорим тебе все. А если молчим, значит, нам нечего тебе сказать, потому что мы сами ничего не знаем: такова наша жизнь после катастрофы.
Под катастрофой подразумевала она и войну, и разрушение Варшавы, смерть брата в тюрьме, разрыв с дядей Конрадом, обращенную в руины фабрику, на которой работал брат, разбомбленную квартиру, где она родилась и прожила столько лет, разлуку с родными и близкими, и прежде всего с Анджеем. Она имела в виду все, вместе взятое.
Наконец Ванда поднялась и постояла неподвижно. Мать перестала стонать вот уже несколько минут. Укол подействовал. Теперь надо набраться терпения и спокойно ждать, пока она заснет. Тося обернулась. Застыв с тряпкой в руке, смотрела она на мать. Но, заслышав ее голос, тотчас отвернулась и снова принялась протирать фотографию. Большая раскрашенная фотография под стеклом, изображавшая прелата в фиолетовой сутане, с митрой на голове, никогда так не сверкала, как сегодня.
— Кто там, наверху? Вы же сказали, пани Климонтова уехала, а там кто-то ходит!
Старуха пробормотала это в полусне, не открывая глаз и морщась, как человек, который к чему-то прислушивается.
— Значит, вернулась, — как ни в чем не бывало ответила Ванда.
Уриашевич открыла глаза, потом рот. Она вся обратилась в слух. Наверху царила полная тишина. Но, не считаясь с этим очевидным фактом, она сказала:
— А может, и не возвращалась, шаги-то совсем не ее!
Еще с минуту смотрела она в потолок, прислушиваясь. И когда Ванда попыталась ей что-то объяснить, сердито отрезала:
— Не мешай!
Тогда Тося вторично прервала свое занятие и глазами сделала Ванде знак не перечить матери. Наступило молчание. Веки больной медленно опустились, прикрыв пожелтевшие от старости белки. А рот так и остался открытым. Наконец старуха заснула, дыша громко и тяжело, изредка всхрапывая.
Ветер унялся, и плети дикого винограда, выросшего уже после войны, перестали раскачиваться за окном. Ванда уставилась в него невидящим взглядом. Казалось, она не замечала ни остатков стен, ни искореженных железобетонных конструкций. Картина была ей слишком хорошо знакома. Она продолжала смотреть в пространство, даже когда Тося, подойдя к окну, открыла его. В руке у Тоси была метла. Ничего удивительного: она всегда поддерживала в доме чистоту. И когда стихал ветер, сметала с подоконника пыль и листья. Для этого она пользовалась той же метлой, которой подметала, — маленькой метелки в доме не было. Но в этот раз, сметя сор с подоконника и затворив окно, она, не выпуская метлы из рук, прошептала:
— Тс-с! Теперь можно?
— Можно, — очнувшись, кивнула Ванда.
Тогда Тося высоко подняла метлу палкой вверх и трижды стукнула в потолок у себя над головой. Негромко, но отчетливо. Потом еще два раза и еще. После чего поставила метлу и вместе с Вандой подошла к двери. Услышав шаги, те самые, не похожие на шаги Климонтовой, они приоткрыли ее. Спускавшийся по лестнице человек старался ступать как можно тише. Сестры впустили его в комнату.
— Анджей, только, бога ради, ни слова! — попросила Ванда.
— Наши голоса маму не разбудят, а чужой может разбудить, — пояснила Тося.
Сказала и спохватилась, поняла, что совершила оплошность. Как это угораздило ее назвать Анджея чужим! Она хотела объясниться, но раздумала и промолчала. Анджей не отрываясь смотрел на больную. Он так и остался стоять в дверях. А они не решались пригласить его в комнату. Их взгляды были прикованы к племяннику, которого они знали с младенческих лет. Ванде вчера удалось поговорить с ним полчаса, Тося обменялась несколькими словами, но разве это можно назвать разговором! Обе приглядывались: как будто и не изменился и в то же время совсем другой человек. Все выжечь внутри, а внешность не тронуть — это была одна из особенностей минувших лет. На Анджее были куцый полушубок, из-под которого выглядывала зеленоватая куртка, тоже куцая и узкая, и брюки в обтяжку. Может, это военная форма? Тетки в мужской одежде не разбирались, особенно теперешней, а в заграничной — тем более. Одежда у Анджея была лагерная. Из лагеря его освободили американцы, а потом сами посадили за колючую проволоку. Теткам хотелось с ним поговорить, рассказать обо всем, но он ни о чем не спрашивал и вообще, казалось, не замечал их. Его так и подмывало подойти к бабушке. Она его воспитала после смерти матери и была ему, пожалуй, ближе отца. Но он даже посмотреть на нее пристальнее не решался. Как сдала! До чего же она сдала! Он поглядел по сторонам. Направо, налево. Тетки велели ему обождать наверху, пока не постучат, — в комнате какой-то Климонтовой, похожей на их собственную. Но та комната не производила неприятного впечатления. А эта, в которой жили его родственницы, показалась ему отвратительной.
Три кровати, на бабушкиной — крестьянская перина, в углу раскладушка, тут же, в комнате, плита, табуретки. Голые, обшарпанные стены в трещинах. Большая фиолетовая фотография викарного епископа Крупоцкого, бабушкиного брата, — безвкусная, уместная разве что в домишке приходского ксендза, неизвестно откуда взявшаяся. Дома Анджей никогда раньше ее не видел. Он опустил глаза. Пол дощатый, выщербленный, как в сельской школе. Положив берет, который он держал в руке, Анджей полез за сигаретой. Но Ванда его остановила.
— Возьми берет, а то забудешь еще. После тебя не должно оставаться никаких следов.
— Даже запаха дыма! — прибавила Тося и отобрала у него сигарету.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Наверху ему разрешили закурить. Это тетки предложили Анджею подняться в комнату Климонтовой; разговаривать внизу было невозможно. Обе сели на кровать, он возле них, на стул. До войны они тоже любили вот так притулиться рядышком и слушать его, особенно после долгого отсутствия. Бывало, они то смеялись, то ужасались, когда он рассказывал про свои приключения во время каникул или экскурсий. И то и дело призывали друг дружку в свидетели, что в жизни, мол, ничего подобного не слыхали. Но с тех пор, видно, немало наслушались всякого, потому что сидели молча, безучастно, не издавая никаких восклицаний. Когда он кончил, Ванда дотронулась до его руки.
— Ты не сердишься, что тебе пришлось вернуться из-за нас?
Анджей хотел было поцеловать теткину руку, протянутую в безотчетном порыве. Но та быстро отдернула ее.
— Нам одним это не под силу, — прибавила Тося. — Ты должен нас понять!
— А на произвол судьбы бросить все было бы с нашей стороны нехорошо, — сказала Ванда. — Ведь у нас в прошлом столько связано с Левартами и плохого и хорошего. Да и сейчас как-никак мы живем в их доме. Фаник первый написал нам и просил поддерживать с ним связь.
Фаником называли они, как и все Уриашевичи, Франтишека, сына Станислава Леварта, у которого много лет работали отец Анджея и двоюродный брат отца, Конрад.
— Когда ясно стало, какой оборот принимает дело, — продолжала Ванда, — мы немедля дали ему знать, чтобы он приехал или прислал кого-нибудь. Сами заниматься этим мы не в состоянии.
— Вы по почте его известили?
— Нет, что ты!
— Вы часто встречались с Фаником в Париже? — спросила Тося.
— Нет, тетя.
— А до войны ведь неразлучными друзьями были.
Анджей развел руками. Леварт перед самой войной послал сына в Швейцарию. И Фаник не испытал ни лишений, ни опасностей. А молодой Уриашевич провел всю войну в Варшаве.
— Во всяком случае, — сказала Ванда, — он оказал доверие тебе. Мы так и думали, что он к тебе обратится.
— Что ж тут удивительного? — Анджей пожал плечами. — Ведь я ее прятал. И знаю, где искать.
Ванда не спускала глаз с племянника; лицо его не выражало радости. Он приехал сюда ради Франтишека Леварта. Но говорил о нем без восторга. И без восторга относился к делу, за которое взялся по его просьбе. Ванде показалось, что она понимает его состояние. Наверно, винит их в глубине души за свой вынужденный приезд.
— Пойми, самое большее, что мы могли взять на себя, это написать письмо! — вырвалось у нее. — Мы целиком предоставлены себе, а в каких условиях живем, ты сам видишь!
В прежние времена у нее была привычка жестикулировать, но сейчас ее смущали огрубевшие руки. К тому же от них пахло хозяйственным мылом.
— Мы вышли из горящего города, в чем были, с больной старой матерью. По очереди толкали с Тосей кресло на колесиках. А оно ломалось то и дело. Что мы тогда пережили, передать невозможно.
— Не надо, он же все знает, — попыталась остановить сестру Тося.
Анджей знал кое-что из писем, рассказов очевидцев, которых встречал за границей, но не от самой Ванды. И для нее это было не одно и то же.
— Невозможно передать, что мы тогда пережили. Перезимовали в простой деревенской избе, потом вернулись в Варшаву. И поселились в этом домике — все-таки крыша над головой. Последнее мамино кольцо пришлось продать, мои серьги. Привели кое-как жилье в порядок, и вдруг у нас отбирают вторую комнату. И вселяют эту Климонтову!
— Но ведет она себя вполне прилично, — сочла нужным сказать ей в оправдание Тося. — Позволяет пользоваться своей комнатой, вот как, например, сейчас. Иногда я или Ванда ночуем здесь, даже когда она дома. Потому что мама во время сильных болей так стонет, что глаз нельзя сомкнуть. А новальгин для уколов достать не всегда удается.
Анджей слушал с унылым видом. Надо бы сразу сказать теткам, что он, не в пример прочим, не привез денег из-за границы. Он это чувствовал. Но язык не поворачивался их огорчить. И чтобы поддержать разговор, он из приличия спросил:
— А кто она, эта Климонтова?
— Учительница, — сказала Тося. — Работает в системе народного образования. Кажется, инспектором. Часто уезжает.
В конце концов Анджей превозмог себя и сказал, краснея:
— Мне бы очень хотелось вам помочь, но с деньгами сейчас у меня туговато.
— Что ты, детка, это же понятно!
— Увы, — вздохнул он. — Из лагеря я приехал в Париж без гроша. Пытался устроиться — и там, и в провинции. Вначале еще удавалось. Но теперь все иначе: если наличных нет или капитала в банке, а только руки да голова, дело плохо!
— Ты, значит, не сердишься, что пришлось вернуться из-за нас? — повторила Ванда вопрос, который задала в начале разговора.
Анджей снова запротестовал. Несмотря на это, Ванда еще раз привела свои доводы, несколько изменив их.
— У Фаника, по-моему, ничего ценного не осталось из отцовского имущества, кроме этой вещи.
— У него вообще больше ничего нет, — уточнила Тося. — Эта вещь — все его имущество…
— И землю под строительство новой трассы забирают, — поддержала Ванда сестру.
Анджей знал об этом. Участок, на котором до войны стояла фабрика Леварта, пересечет большая коммуникационная артерия. А на остальной площади предполагалось разбить парк.
— Значит, из всего состояния у него сохранилось только то, что ты замуровал в стене, — сказала Ванда. — Сначала мы думали за это взяться сами, ясно было, что Фаник ни в коем случае на родину не вернется, но побоялись ответственности. Что он подумал бы о нас, если бы дело сорвалось! Чего доброго, еще властям сообщил бы, и тогда нам несдобровать! И вообще легко сказать: сами! Мы просто физически не справились бы. А что значит полагаться в наше время на посторонних — сам знаешь. На людей нашего поколения рассчитывать нечего, они такие же беспомощные, а молодым веры нет. Как, впрочем, после всякой войны! И вот мы вспомнили про тебя и в том же письме, где сообщали про эту злополучную трассу, намекнули, что ты наверняка не откажешься ему помочь.
Анджея раздражало, что ему приписывают такую роль в этом деле. Приехать и взяться за это рискованное предприятие он решил не из привязанности к Леварту и отнюдь не бескорыстно.
— Он предложил мне выгодные условия, — твердо заявил он, — и я принял их.
Тетки посмотрели на него с осуждением. Но, понимая, что возражать бессмысленно, промолчали. И Ванда вернулась к главному предмету разговора.
— Если бы дядя Конрад так не изменился, он сам бы уладил это дело.
О том, что дядя Конрад отрекся от всех и всего, с чем был связан до войны, Анджей узнал из первых же писем из дому. Вместе с отцом Анджея он много лет работал у Левартов, занимая высокую должность; в начале оккупации добывал деньги для себя и Леварта, который ни в чем не привык себе отказывать. А в последние годы ударился в политику и довольно значительную роль играл в делегатуре[1]. В Париже Анджей узнал, что дядю прочили на пост вице-министра просвещения, но ему не повезло: по дороге в Люблин его схватили немцы. На следствии ему выбили глаз, был он в Майданеке и других лагерях и в живых остался лишь благодаря наступлению Советской Армии. Это, наверно, на него и повлияло.
— Ты, конечно, знаешь, — нахмурясь, спросила Тося, — что он придерживается теперь совсем других взглядов?
— Мы не желаем с ним иметь ничего общего, — сказала Ванда со злостью.
— И он с нами тоже, — дополнила ее сообщение Тося.
— Новой власти продался. На автомобиле разъезжает, — продолжала Ванда. — Не постеснялся даже в партию их вступить, вот до чего докатился!
— Не в самую худшую, правда, — поправила ее Тося. — В какую-то второстепенную.
— Какое это имеет значение! Все они от лукавого, как сказал ксендз Завичинский! — выкрикнула Ванда.
— Так он уцелел? — обрадовался Анджей.
— Уцелел, уцелел! И церковь наша тоже уцелела!
От радости, что может сообщить приятную новость, Тося улыбнулась — впервые с тех пор, как пришел Анджей. Но это была не прежняя Тосина улыбка. У нее недоставало нескольких верхних зубов с одной стороны. И улыбка получилась сдержанной. Зато о ксендзе и костеле рассказывала она с воодушевлением.
— Помогает нам, как может, только сам он, бедняга, нуждается: костел-то теперь на голом месте стоит. Зато он рассказывает всем о нашем бедственном положении.
— Видел внизу фотографию дяди Крупоцкого? — спросила Тося с благоговением. — Это ксендз Завичинский для нас раздобыл.
— А зачем она вам? — поморщился Анджей.
— Ничего ты не понимаешь, мой мальчик. Дядя Крупоцкий хорошую память оставил по себе. И теперь он как бы опекун наш, покровитель. Он уже многим нашим просьбам внял.
Ванда относилась к делу более практично.
— Пускай люди видят у нас его портрет.
Чтобы покончить с этим, Тося доверительно сообщила Анджею:
— Письмо Леварту переправить, в котором Ванда писала о тебе, тоже Завичинский помог. С одним монахом-салезианцем за границу переслал.
— Ведь это он тебя крестил, помнишь? — спросила Ванда, переносясь мыслями в далекое прошлое.
Этого Анджей, конечно, не помнил, зато помнил, что ни одно семейное событие не обходилось без старого ксендза. Многое связывало его с Уриашевичами. Когда-то он учился в семинарии с братом бабушки, ксендзом Крупоцким, впоследствии викарным епископом, который умер еще до войны. Венчал родителей Анджея. Он же хоронил его мать, которая скончалась, когда Анджею было два года. Проявив отвагу и упорство, добился у немцев выдачи тела его отца, расстрелянного как заложника, и предал его земле.
— Никого из близких у нас не осталось. Во всей Варшаве хоть из конца в конец пройди… — И Ванда, не кончив фразы, горестно замолчала.
— Но дядя Конрад?! — недоумевал Анджей.
Хорошо зная дядю, он не мог взять в толк, что с ним произошло.
— Потерял небось все, что за оккупацию скопил, а жить-то надо! — высказала свои соображения Ванда.
Тося язвительно засмеялась.
— Не беспокойся, птичьего молока он у них все равно не получит. Очень скромно живет.
— Какая разница, скромно он живет или нет, лишился сбережений или нет? Захотел бы, так мог бы за нас похлопотать перед властями, а он не хочет, — пожаловалась Ванда.
— А вы к нему обращались?
— Обращались. Он сказал, чтобы мы не рассчитывали на него.
— Сказал, что с прошлым покончено, — прибавила Тося. — Совсем очерствел!
— Все старые знакомые от него отвернулись. Ведь он новой власти продался. Если бы ты знал, какие он речи произносит! Публично! То ли он помешался, то ли его лукавый попутал!
Ванду душила злость.
Тося из двух зол выбрала меньшее — болезнь.
— По-моему, он помешался.
— Знаешь, что сказала про него пани Рокицинская? Что второй глаз, который ему в гестапо не выбили, должны выбить теперешние наши правители. Тогда у него будет объективный взгляд на вещи.
Тося в ужасе закрыла руками лицо.
— Ванда, разве можно так говорить?
— Это не мои слова. Я только повторяю, что люди говорят.
Тося перевела разговор на другую тему — тоже невеселую.
— Боже мой, не верится даже, что все было когда-то иначе. И совсем еще недавно. Как будто только вчера. За год до конца войны! Когда твой отец и Леварт были живы. Мы жили в своей квартире, а рядом — Леварты в своем роскошном доме, как всегда, широко, шумно.
— Чересчур даже! — заметила Ванда не без едкости.
— Не надо так говорить!
— Я только повторяю то, что ты сама же говорила во время войны. И отец Анджея был того же мнения. Станислава Леварта не заботило, что о нем люди думают.
— Оставь ты его в покое, хоть на том свете. Он же умер. Все кончено.
В комнате воцарилось молчание. Ванда сидела неподвижно, отвернувшись к окну. Она была зла на себя и на весь мир. Потрескавшиеся руки саднило. Мази, обещанной в «Caritas»[2], ей сегодня не дали. Даже простого глицерина. А за продуктами, которые получала она каждую неделю, велели зайти завтра. Она не могла даже предложить Анджею остаться поужинать. А переночевать — и подавно.
— А как Фаник? Все такой же деликатный и благовоспитанный? — расспрашивала Тося: ей хотелось как можно больше узнать о Левартах. — Что он поделывает?
— Ничего. Без денег сидит.
— А пани Роза?
— Замуж вышла.
— Роза Леварт, мать Фаника, вышла замуж? — опешила Тося.
— Да.
— Слышишь, Ванда?
— Слышу, я ведь не глухая. Овдовела, вот и вышла, что же тут особенного.
— Какая была холеная. Всегда в роскоши, комфорте… — размышляла вслух Тося. — Знаешь, а она ведь наша ровесница.
— Муж ее австриец, кажется, — припомнил Анджей.
— Военное знакомство небось?
Внезапная печаль вытеснила злобу из сердца Ванды. Она подумала о прошлом, которого не воротишь, о настоящем, таком непонятном, обо всех мелких будничных неприятностях, от которых никуда не денешься, и из глаз ее выкатились две слезинки.
— Детка, — дрожащим голосом произнесла она, — разве такими ты нас представлял? И свое возвращение?
Но, заметив, что ее настроение передалось Анджею, который приуныл, взяла себя в руки и сказала потеплевшим голосом:
— Какое счастье, что ты вернулся!
— Если бы еще и мама могла тебя увидеть! — вздохнула Тося.
Они уже вчера объясняли ему, с каким это связано риском. Правда, после последнего сердечного приступа непосредственная опасность миновала, но всякое волнение для больной еще опасно. Соображения, как подготовить мать к встрече с внуком, целиком поглотили сестер. Некоторое время они спорили, как это лучше сделать.
— Мама столько месяцев ждала этого! — воскликнула Тося.
— Лет, а не месяцев, хочешь ты сказать, — перебила Ванда.
И вдруг то, что она старалась подавить в себе с самого начала, прорвалось наружу. Не обращая внимания на предостерегающий взгляд сестры, заломив руки, которые ото всех прятала, она воскликнула:
— Боже мой, зачем ты привез с собой в Варшаву Иоанну!
Анджей был поражен. Более нелепого упрека он не ожидал.
— Что вы, тетя! Скорей уж она меня привезла, если на то пошло, а не я ее!
Тося обняла сестру. Она полностью разделяла ее чувства, но на сей раз сдержалась.
— Ну ладно, ладно, — сухо, измученным голосом сказала Ванда. — Мне дела нет до этой женщины. Не хочу о ней больше говорить. Слышать даже не желаю!
— Интересно, бабушка вспоминает ее когда-нибудь? — подумал Анджей вслух.
— Давай не будем говорить об этом! — решительно прервали его мысли тетки.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Иоанна Уриашевич, младшая сестра Тоси и Ванды, прошла мимо старушки, продававшей фиалки на Маршалковской, потом вернулась, купила букетик и попыталась приколоть к отвороту жакета, но булавка, которую дала ей старушка, оказалась негодной.
— Бабушка, а другой у вас нет?
— Теперь все такие!
Тогда Иоанна, порывшись в большой сумке, извлекла английскую булавку, в отличие от обыкновенных — цветную.
— Заграничная? — поинтересовалась старушка.
Иоанна откинула волосы со лба. На дворе стоял март, и она была без шляпы. Впрочем, она не носила ее и зимой.
— Заграничная, — ответила она. — Я и сама заграничная!
На душе у нее было и грустно и радостно. Грустно оттого, что маленький и грязный город — таким она его смутно помнила — превращен был в руины. А радостно оттого, что она начинала в нем новую жизнь и встретили ее здесь приветливо. Засунув в карманы руки, большие и сильные, как у всех Уриашевичей, пошла она дальше легкой, пружинистой походкой. И на каждом углу приостанавливалась: тщетно искала табличку с названием улицы. Но табличек не было. Не хватало кое-где и самих углов, а то и целых домов.
— Первая Журавья, вторая Вспольная, — считали вслух прохожие, которых спрашивала Иоанна, — пятая, что поперек пойдет, она и будет.
Вот она, пятая улица. Иоанна свернула направо. Нашла нужный номер, сверилась с бумажкой — сходится. Только самого дома нет. Но оказалось не так. Пройдя во второй двор, Иоанна увидела другое, уцелевшее строение. При свете спички отыскала звонок. На каждой двери их было по два, по три. На лестнице темень, хоть глаз выколи, окна забиты фанерой.
— Пан Уриашевич здесь живет?
— Нет!
Через минуту, когда глаза привыкли к темноте, Иоанна увидела перед собой дядю Конрада.
— Нет! — повторил он. — Здесь проживает гражданин Уриашевич.
— Это я, Иоанна. Дядя, вы, наверно, не узнали меня.
Тот не произнес ни слова, не предложил войти. Только отступил в сторону, как бы пропуская ее. Комната в конце коридора — большая, с высоким потолком — была вся заставлена мебелью. Он указал Иоанне на кресло. А когда протянул ей сигареты, Иоанну неприятно поразили его глаза. Один — закрытый черной повязкой, второй — холодный, умный, испытующий.
— Я читал в газетах, что ты собираешься остаться в Польше.
— Да, собираюсь.
Она повторила ему, что уже говорила в интервью. Что хочет поделиться своим опытом с коллегами на родине.
— Гм. И сама тоже будешь танцевать?
Иоанна рассмеялась резким, гортанным смехом.
— Посчитайте, дядя, сколько мне лет! — Она была моложе Ванды, но и ей было уже около сорока. — Можете не волноваться! Балерины рано оставляют сцену. Я еще до войны перестала танцевать.
По его лицу было видно: старается сосчитать, сколько ей. Но это не входило в ее планы. Ей нужно только, чтобы он принял к сведению этот факт, а не раздумывал над ним.
— Начну преподавать. Может быть, открою балетную школу. А в театре… в театре роль моя сведется к тому, что балеты буду ставить.
Он терпеливо все выслушал. И критические замечания о польском балете, и в чем причины его упадка, и оценку отдельных талантов: польский балет всегда ими блистал.
— Если я правильно тебя понял, — заключил он, — ты пришла меня успокоить относительно твоих выступлений. Благодарю. Но если ты переменишь свое решение, не считай себя ничем связанной. Пожалуйста, танцуй. Танцуй открыто, как в Париже. И можешь не приходить и не объяснять, почему ты не сдержала слово. Вообще я освобождаю тебя от родственного долга навещать меня.
Он был еще неприятнее, чем представлялось ей по воспоминаниям. Нетерпимое, враждебное отношение ко всему, о чем ни заходила речь, вывело ее из равновесия. Но она сделала над собой усилие.
— Нет, дядя, вы ошиблись! Я к вам с просьбой пришла.
Не давая сказать, в чем же просьба, он перебил:
— Единственное, что я могу для тебя сделать, это избавить от унижения.
— Не понимаю.
— Получать отказ, по-моему, унизительно. А я всем отказываю, всем подряд, кто только ни просит меня о протекции в расчете на мои политические связи и служебное положение.
Иоанна засмеялась было, но тотчас смолкла. Мысль о просьбе, которая привела ее к дяде, не настраивала на веселый лад.
— Нет, нет, — сказала она тихо. — Я хотела попросить вас совсем о другом.
Но стоило ей заговорить, как уверенность покинула ее. Запинаясь на каждом слове, кое-как изложила она главное: ей кажется, пора уже родным с ней помириться. Столько лет прошло, из близких мало кто в живых остался, все переменилось. Мать с сестрами могли бы уже предать забвению ее опрометчивый шаг.
— И ты считаешь, я могу быть в этом деле посредником?
Да, она так считала. Он ничего не ответил. Только посмотрел в ее сторону. Иоанне показалось, что он глядит сквозь нее на какой-то неведомый предмет.
— Счастья этот шаг мне не принес! — прибавила она.
— Слышал. Кажется, и следующие шаги тоже?
Она покраснела. На глаза у нее навернулись слезы. Она достала носовой платок. Трудно было понять, заметил ли он, какое впечатление произвели его слова на Иоанну. Но бесстрастный тон рассеял все ее иллюзии.
— Мое вмешательство только еще больше осложнило бы твои отношения с семьей, — промолвил он и встал, давая понять, что разговор окончен.
Иоанна попрощалась. В коридоре он приостановился и показал на многочисленные визитные карточки на дверях.
— Теснота обязывает соблюдать определенные правила, иначе жизнь в этой квартире стала бы сущим адом. Гостей, в частности, мы почти не принимаем. Прощай!
Выйдя на улицу, Иоанна была приятно поражена. Но чем? Она и сама не знала. Только спустя минуту сообразила, что ее удивили свет и солнце. Было еще рано, но после визита к дяде естественней было бы очутиться в ночной темноте и мраке.
* * *
Доехав на такси до Банковской площади, она пешком пошла к Старому городу, где, как ей помнилось, был костел, куда они ходили с матерью. Здесь, поблизости от их прежнего дома, ориентироваться стало легче. Она ускорила шаг. Было пустынно, вокруг громоздились развалины. Иоанна нервничала, издали всматриваясь в женщин и каждую принимая за ту, которую не хотела бы встретить.
Костел оказался заперт. Иоанна обошла его кругом. Он уцелел, но война не пощадила и его. В ограде, где прежде росли деревья, валялись перевернутые надгробья, куски стен — обломки соседних домов, листы жести. Иоанна еще раз подергала за дверную ручку.
— Вам кого?
— Я хотела бы узнать, где живет ксендз Завичинский?
— Вон там!
Старичок, заговоривший с нею, по виду нищий, показал дом на другой улице. Между этим домом и костелом все было разрушено. Иоанна пошла было напрямик, но нищий остановил ее.
— Так вы не пройдете.
И вызвался ее проводить. Дорогой он рассказал, что просит возле костела милостыню и ксендз ему покровительствует, он ведь ни на шаг от костела не отходит, сторожит его от воров.
— Тяжелые времена! — Он покачал головой. — Ксендз наш молится о ниспослании перемен. Может, услышит господь его молитвы. Он — святой человек.
Она ни за что не узнала бы ксендза. Зато он узнал ее сразу. Маленький, седенький, он погладил ее по голове, когда она склонилась к его руке.
— Вы узнали меня?
Иоанна была приятно удивлена.
— Узнал, узнал! А как ваша фамилия?
Знакомые черты не ассоциировались у него ни с какими определенными воспоминаниями.
— Уриашевич Иоанна, та, что…
Теперь он действительно узнал ее и сразу принял неприступный вид.
— С нами его святая воля! Откуда вы здесь? Приехали или как? — задавал он вопросы, чтобы прийти в себя.
Иоанне показалось странным, что он не знает о ее приезде.
— Об этом во всех газетах писали.
Пресса уже давно не проявляла интереса к ее особе, и заметки в варшавских газетах произвели на нее впечатление.
— Проглядел! — признался ксендз.
На самом деле он просто читал только один лишь «Церковный вестник», а там о балеринах не писали. Но ксендз был так потрясен, увидев Иоанну, что ему даже не пришло это в голову.
Комната, в которую они вошли, была залита солнечным светом. Ксендз, опасаясь воров, перенес сюда из костела ризы, покрывала, чаши, дароносицу и даже некоторые самые ценные иконы и фигуры святых. Серебро, золото, яркие краски слепили глаза. Иоанна отколола фиалки и положила возле какого-то святого.
— Слушаю вас! — Ксендз Завичинский остановился, держась за спинку кресла.
По мере того как Иоанна говорила, самообладание к нему возвращалось, и он уже знал, как должен поступить. Перед глазами его вставало прошлое, позор, пережитый из-за нее, когда она убежала из дома с мужчиной. Сколько страданий причинила она дорогим его сердцу Уриашевичам, этим почтенным людям и примерным прихожанам, лучшему его другу епископу Крупоцкому. Он не мог себя превозмочь и не предложил Иоанне сесть. И хотя ноги у него стали уже неметь, стоял и сам, выпрямившись, непримиримый и ожесточенный, только повторяя время от времени:
— Да, я слушаю. — И наконец, когда счел, что причина ее прихода ясна, воскликнул: — Ты хочешь, чтобы я с матерью тебя помирил, а с богом ты помирилась? Здесь бог твоих слов не услышит. Богу угодно, чтобы ты произнесла их во храме.
Иоанна развела беспомощно руками. Этого она не ожидала. В бога она давно не верила. И давно не придавала значения подобным условностям. А о том, что ксендзам положено верить в бога, как-то не задумывалась.
— А что ты собираешься делать здесь? Мужа у тебя, кажется, нет? — продолжал ксендз.
Как перед тем дяде, она рассказала ему о своих планах. Но при первом же упоминании о школе он ее перебил:
— Учить?! Ты хочешь, чтобы этот легкий заработок, погубивший тебя, и других тоже погубил?
Его душил гнев. Порождением дьявола были в его представлении балетные школы. Если бы не они, не было бы этой скандальной истории в семье Уриашевичей. Крупоцкий предостерегал сестру, предостерегал ее и он, ксендз Завичинский. Но после смерти главы семьи, старика Уриашевича, отца трех дочерей и сына, говорить стало, собственно, не с кем.
— Если так, ступай и не возвращайся, покуда не одумаешься. И оставь навсегда надежду увидеться когда-нибудь с матерью. Это мое последнее слово!
Произнося свою угрозу, ксендз приподнялся на носки и от этого казался выше ростом. Возмущенная Иоанна направилась к двери. На пороге она обернулась и сказала сквозь зубы:
— Может, вы и святой, но человек нехороший!
Внутри у нее все клокотало от возмущения. В голове теснились какие-то мысли, доводы, опровержения. Но, кроме упомянутого замечания, она ничего больше не сказала. На улице заметила, что букетик фиалок каким-то образом снова очутился у нее в руке. Отняла, значит, у святого. И от этого бессознательного поступка на душе стало легче.
— К черту! Пропадите вы все пропадом! Плевать я на вас хотела!
Эти слова относились к ее сегодняшним собеседникам.
Так шагала она по улице, бормоча про себя ругательства и покрепче.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Збигнев Хаза, у которого поселился Анджей, то спал до полудня, то вскакивал чуть свет и мчался в гараж ремонтировать автомобили: он был владельцем небольшой мастерской. После обеда он принимал у себя знакомых дам, иногда они оставались на ночь, и тогда Анджей переселялся на кухню. Но чаще предпочитал уходить из дома и часами слонялся по городу.
Хазу он знал с детства (бабушка Хазы и мать Конрада Уриашевича были родными сестрами), они учились с ним в одном классе, встречались и после школы, хотя Анджей поступил в политехнический институт, а Хаза — в университет, на юридический. В Варшаву Хаза вернулся с группой офицеров, освобожденных из немецкого лагеря армией Рокоссовского. И с места в карьер, словно спеша наверстать упущенное, вступил в некую организацию, действовавшую на освобожденной территории. Но ее вскоре выловили. Хаза каким-то чудом уцелел и на сей раз приехал в Варшаву с большими деньгами. За ними никто не явился — ни в первый месяц, ни позже. Тогда он со спокойной совестью вложил капитал в дело. Но после объявления амнистии почувствовал себя значительно хуже. «Что толку от этой амнистии, — рассуждал он сам с собой, — если сперва надо всю подноготную о себе выложить. Вот загвоздка!» Незадолго до приезда Анджея он в конце концов уладил это дело и получил на руки соответствующий документ. Как уж он оправдался перед комиссией — неизвестно. Но нервы у него явно сдали. И он старался забыться, как умел.
— Я убедился, что методы борьбы у нас были идиотские, — кратко заявил он Анджею.
— А по-твоему, есть другие, разумные? Или вообще нужно что-то совсем другое?
— Нет, — решительно сказал Хаза и, пристально глядя на Анджея своими близко посаженными глазками, прибавил: — Впрочем, мы еще потолкуем об этом.
Но разговор так и не состоялся. И времени не было, да и не тянуло Анджея обсуждать серьезные проблемы. Чем больше бродил он по городу, тем меньше желал раздумывать над «принципиальными» вопросами. Разрушенная Варшава причиняла неутихающую боль. Это он сам, своими руками разрушал ее, стремясь защитить. Простой рядовой, глупый и несознательный, он плохо разбирался тогда в обстановке, настолько же плохо, насколько хорошо разбирались те, чьим интересам он невольно служил. Но об этом думать не хотелось. Что же до себя самого, то он считал, что у него все уже в прошлом. И борьба, и высокие идеалы. И все прочее.
Первый вечер провел он на Мокотове, обследовав четырехугольник, образуемый улицами Нарушевича, Олесинской, Аллеей Независимости и Бельведерской. Но где проходили их позиции, так и не смог установить. До́ма на Урсыновской улице, откуда они делали вылазку в первый день восстания, тоже не нашел. Не было и люка, через который он спустился в канализационную трубу и пробрался в центр города, не желая складывать оружия, пока другие еще дерутся. Могилы его командира тоже не оказалось в сквере Одынца; там они предали земле сначала туловище, потом голову и правую руку — то, что осталось после разрыва мины. Останки перенесли на кладбище, щебень убрали, в домах, которые удалось отремонтировать, поселились люди. Что было, то прошло навсегда!
А развалины на площади Наполеона? Здесь в доме номер десять застрял он случайно на ночь, благодаря чему сам уцелел, но потерял отца. В тот раз засиделись допоздна — наступил комендантский час, и он позвонил домой, что не придет ночевать. А под утро на квартиру к ним нагрянули с обыском и нашли в комнате Анджея пистолет, спрятанный, казалось, так надежно, что лучше нельзя. Через несколько дней отец значился в списках заложников, расклеенных в городе. На самом же деле расстреляли его сразу, авансом, так сказать. Об этом Анджей тоже узнал на этой площади, в доме четыре, где нашел временное пристанище. Всюду, куда ни посмотришь, встают воспоминания.
Правда, не все они такие печальные. Вот Мазовецкая: ресторан, последний серьезный разговор с отцом; замотанный на работе, задерганный дома вечно раздраженными женщинами, отец не имел даже своего угла, где мог бы спокойно поговорить с сыном. А вот Королевская улица: Рокицинские, первая романтическая любовь. Гостиница на Козьей: первая любовь с успешным исходом. Польная: политехнический институт, блестяще сданный вступительный экзамен, отличное свидетельство о прослушанном курсе. Отрадные, дорогие воспоминания! Но и они вызывали грусть.
В один из первых дней после приезда Анджей поехал на Повонзки. Трамвай медленно тащился между разрушенными кварталами, средь бесконечных, как море, руин, среди людских толп, которые сновали по проложенным поверх развалин дорожкам, копошились у вновь возводимых зданий. У ворот кладбища Анджей купил несколько веточек оранжерейной сирени — больше было не по карману. Где семейная могила Уриашевичей, он знал хорошо. Там похоронена мать, которой он не помнил, отец, на чьи похороны не пошел: побоялся гестапо — гитлеровцы иногда устраивали ловушку, выдавая тело родственникам. Но, выждав немного, стал наведываться на отцовскую могилу. Сразу за воротами находился фамильный склеп Левартов, и Анджей, как всегда, остановился перед ним. Здесь покоился Ян Кароль Леварт — основатель химической фабрики; отец Станислава — Фридерик, человек волевой и честолюбивый, известный в Варшаве тем, что небывало расширил предприятие; это он построил рядом с фабричными корпусами особняк — семейную резиденцию, а на аукционе после смерти последнего из Вишневецких, который состоял в родстве с королевской фамилией, не моргнув глазом, купил музейную редкость — картину Веронезе «Валтасаров пир», ловко обставив заграничных конкурентов. Лежал тут и Станислав, сын Фридерика, любивший пожить в свое удовольствие. Этот жил на широкую ногу, как говорится, не по средствам, особенно в первые годы после смерти отца, пока не научился выкачивать из фабрики деньги, не доводя дела до полного банкротства. Умер он от разрыва сердца за год до восстания. Постояв немного возле склепа, Анджей двинулся дальше.
Свернув в последний раз, он увидел то, что искал, и обомлел. Между поредевшими деревьями зияли воронки в пять, в десять метров глубиной. Там и сям торчали покалеченные памятники. Поваленные, разбитые. Несколько человек с ломами и лопатами приводили все это в порядок. Анджей со всех сторон обошел место, мучительно соображая, не перепутал ли. Но ориентиром служили уцелевшие могилы. Сомнений не было: ближайшая огромная воронка находилась на месте их семейной могилы. Рабочий, стоя в яме, ломом разбивал обломок цоколя: он был слишком тяжел, чтобы вытащить его из могилы целиком.
— Где останки, что здесь лежали? — крикнул Анджей рабочему.
Но тот не расслышал. В яме стоял грохот. И на вопрос Анджея пискливым старческим голосом ответила кладбищенская сторожиха, которая копалась в нескольких шагах на соседней могиле, где были посажены цветы.
— Останки? Да они переселились!
— И адреса не оставили! — не без злорадства прибавила вторая, тоже, как видно, остроумная старушонка.
Обозлясь, пошел он обратно. «Вот идиотки!» Он кусал губы, хотя понимал: подобный вопрос с его стороны — тоже идиотизм. Что сталось с гробами и всем прочим после такого взрыва, ясно. Тем не менее из упрямства направился он к кладбищенской конторе. А там поджидали таких с нетерпением. Не с намерением сообщить нужные сведения: откуда им было взяться, а чтобы предъявить претензии за просроченные платежи. Несколько раз контора давала объявления в газетах, призывая родственников заняться могилами. Из семьи Уриашевичей никто не откликнулся, и контора сама взялась за наведение порядка.
— Вы счет имеете в виду? — спросил Анджей. Молодой румяный блондин, который с ним разговаривал, потянулся к картотеке.
— Да, таковой имеется!
Анджей взглянул на счет.
— Все на могильщиков идет, — пояснил блондин. — Мы даже конторских расходов покрыть не можем.
Сумма была небольшая. Но она в несколько раз превосходила возможности Анджея.
— Сейчас я не располагаю деньгами!
И, покраснев, пробормотал еще что-то насчет своего положения.
Блондин выслушал сочувственно, согласился на отсрочку, но предостерег на прощанье:
— Только не думайте, пожалуйста, что кладбище будет ждать бесконечно!
Выйдя за ворота, Анджей решил как можно скорей попасть на бывшую фабрику Левартов. И хотя торопился, направился туда пешком. Хотелось немного прийти в себя. Он был по горло сыт воспоминаниями. Не ради них приехал он сюда. У него была другая цель. И чем быстрей он ее достигнет, тем лучше для него же. Чем скорей перестанет кружить по собственным следам — военным и довоенным, — там полезней. Так ему казалось.
Место, где была расположена фабрика, пострадало от бомбежки не сильно. Сгорел жилой дом Левартов, пристройка, где квартировали Уриашевичи, и часть складов. Фабричных корпусов пожар не коснулся. Но после восстания Räumungskommando[3] вывезла машины и оборудование, Sprengkommando[4] взорвала здания.
Миновав два больших корпуса, Анджей оказался у осевшего флигелька, бывшей лаборатории, которая процветала, пока Фридерик был жив, но при Станиславе влачила жалкое существование: тот предпочитал старые, испытанные средства новым, требующим денежных затрат. Однако отец Анджея, невзирая на сопротивление хозяина и насмешки брата, всячески старался спасти лабораторию от окончательного упадка. Сейчас на самой земле лежали лишь остатки длинной островерхой крыши. Вот и все, что уцелело. Анджей наклонился в одном месте, в другом и покачал головой.
— Да, нелегко будет докопаться!
Он продолжал осмотр. И решил, что все к лучшему. Непохоже, чтобы кто-нибудь пытался проникнуть в подвал. Да, но ему-то надо проникнуть во что бы то ни стало. Оказалось, не все подвальные оконца засыпало. Анджей заглянул в одно из них. Увидеть ничего не увидел, только в нос пахнуло тошнотворной гнилью.
Самому не справиться. Это ясно. Допустим, удастся открыть окно, выпилить решетку, спуститься вниз и откопать то, за чем он приехал, но как все это провернуть одному, без посторонней помощи?..
— Нужен кто-то еще! — несколько раз повторил он.
Придя к такому выводу, он покинул фабричный двор. Ни к чему здесь крутиться понапрасну. Он свернул на прилегающий участок, делая вид, будто что-то ищет. Пришлось сделать крюк; от лазанья по камням болели ступни; он весь изгваздался, устал, поэтому, увидев какой-то ресторанчик, не устоял и зашел. Войдя, глянул на часы. Обед у Хазы через полтора часа. Значит, еще не скоро. А коли так, можно позволить себе этот непредвиденный расход.
Он заказал солянку. Заведение было низкого пошиба, пропахшее табаком и пивом. Но когда официант поставил перед ним дымящуюся тарелку, Анджей перестал всем существом ощущать окружающее убожество. Обжигаясь, с жадностью набросился он на еду, и блаженное тепло разлилось по его телу. Отступили тревожные мысли о предстоящем деле и связанных с ним трудностях. Вдруг он вздрогнул. Нет, он не ошибся. Перед ресторанчиком остановились двое мужчин. Анджей низко склонился над тарелкой. Что за наивность! Ведь зал совершенно пуст. Что, если они войдут!
Едва успел он выскочить из-за стола, как те двое уже вошли. Анджей отступил к двери в уборную. Они его не заметили. Дрожа от волнения, закрылся он в кабинке.
— Вот это да! Вот это да! — твердил он.
С одним из них Анджей никогда не встречался, хотя знал, кто он по профессии, зато второй, помоложе, Антось Любич, тоже искусствовед, был школьным товарищем Уриашевича и тем единственным человеком, который мог расстроить его планы.
— Вот это да! — стуча зубами, повторял Анджей.
Он выглянул в щелку. В этом жалком заведении никто не дежурил в уборной, и Анджей, не боясь навлечь подозрений, мог делать, что ему заблагорассудится. Он приоткрыл дверку пошире. Еще не ушли, но пьют, к счастью, прямо у стойки. Значит, не собираются засиживаться.
Когда он вернулся в зал, солянка совсем остыла. В ожидании, когда ее подогреют, он заказал стопку водки. Под молчаливым нажимом официанта Анджей решил, что за доставленное беспокойство надо взять что-нибудь к водке. Стоя возле буфета, искал он закуску подешевле, и взгляд его остановился на маленьком помидоре, одиноко лежащем на тарелке. Поспешность, с какой официант его принес, не предвещала ничего хорошего. Так и оказалось: из-за этого дурацкого помидора (зато парникового!) у Анджея едва хватило денег, чтобы расплатиться.
С купленной на кладбище сиренью в руке (не выбрасывать же, коли она так дорого стоит!) Анджей позвонил в квартиру Хазы. Дверь открыл сам хозяин.
— Цветы? — удивился он, но, вообразив, что угадал, воскликнул: — А, понимаю! Спасибо, что подумал обо мне. Но сегодня они мне как раз не понадобятся. Так-то вот: один день без женщин.
И он потащил Анджея к столу.
— В таком случае, может, сегодня поговорим, — сказал Анджей и, в упор глядя на Хазу, добавил: — Дельце есть к тебе.
ГЛАВА ПЯТАЯ
— Тридцать тысяч долларов! Вот холера! — бледнея, прошептал Хаза.
Они сидели в дорогом ресторане, — подавали изящно одетые, надушенные официантки. Разговор за обедом так и не состоялся, и они приступили к нему только вечером. Анджей начал было, но к Хазе явился кто-то насчет автомашины. И после обеда Хаза исчез, а вернувшись, не хотел даже слышать о том, чтобы ужинать дома.
Хаза уставился на Уриашевича своими невыразительными, близко посаженными глазками. Лишь время от времени с губ его срывались короткие проклятья, означающие удивление.
— Вот холера! Вот холера! — повторял он.
— Сумма эта не с потолка взята! — сам приходя в волнение от ее величины и слегка краснея, пояснил Анджей. — Уж Фаник небось не пожалел сил, чтобы узнать ей истинную цену, можешь мне поверить. Да я и сам проверил по каталогам все, что он мне сообщил. И у антикваров справлялся.
— А сколько за нее заплатил старик Леварт? — не то что не веря, а из любопытства спросил Хаза.
— Сорок тысяч рублей! Но он переплатил. Во что бы то ни стало хотел, чтобы картина в стране осталась. И самолюбию льстило: единственный обладатель Веронезе в Польше. Не князь какой-нибудь, не магнат, а он — фабрикант, торговец. Страшно тщеславный был на этот счет.
Уриашевич покосился на соседние столики. Никто не обращал на них внимания. Тем не менее он колебался.
— А ты уверен, что здесь можно разговаривать свободно?
— Абсолютно! И чего это вы все из-за границы такие пуганые приезжаете? Говори смело. — Хаза, однако, отодвинулся, освобождая на диване местечко рядом с собой. — Коли ты нервный такой, садись поближе, — сказал он, приготовясь слушать.
— При жизни пана Станислава, — начал свой рассказ Анджей, — картина висела в гостиной. Гостиная Левартов была тогда местом самым безопасным: гарантию ей давала фабрика, которая нужна была немцам. С паном Станиславом они считались, как, впрочем, и он с ними. Но едва он умер, а до того арестовали еще дядю Конрада, у которого повсюду были связи, положение изменилось. Отца моего к тому времени уже не было в живых, из всей дирекции остался один старик Кензель. И вот он посоветовал вдове Станислава, пани Розе, картину спрятать. Но она не приняла его совета всерьез. Уж очень любила себя красивыми вещами окружать. К тому же картина принадлежала не ей — наследником был сын, Фаник, так что ее это, собственно, прямо и не касалось. Тогда Кензель решил посоветоваться со мной.
Уриашевич достал из кармана авторучку и на бумажной салфетке стал набрасывать план.
— Смотри: вот Белянская, вот Длугая, здесь сгоревший дом Левартов, здесь уцелевшая дворницкая, — показал он свой чертеж. — Ориентируешься?
Хаза кивнул. У Анджея вырвался судорожный вздох.
— Тут вот флигель стоял, где мы жили, а тут, где крестик, видишь?..
— Вижу.
— На этом месте второй флигель был, лаборатория. У Леварта никогда к ней не лежала душа. До войны работало там всего двое-трое, так, для проформы. А в оккупацию и вовсе один. И большие подвальные помещения всегда пустовали. Валялось там битое стекло да разный хлам. И вот по планам мы с Кензелем убедились: в одном из подвалов легко устроить отличный тайник. Смотри! — На второй салфетке Анджей набросал, как все это получилось. — Ловко?
Хаза не возражал.
— Устройство тайника Кензель взял на себя, — продолжал Уриашевич. — И все сделал за одну ночь. А мне поручил другое. Антося Любича помнишь?
— Еще бы!
— В войну он работал в Национальном музее. И вот я попросил его как специалиста помочь нам по всем правилам упаковать картину перед тем, как замуровать. Оказалось, для этого нужен картонный цилиндр и еще специальный футляр. Цилиндр — это ерунда, а вот футляр из оцинкованного железа достать было нелегко. Когда все было готово, с пани Розой не понадобилось даже разговаривать; за несколько месяцев до восстания она уехала из Варшавы и больше не вернулась. — При воспоминании о том, как прятали знаменитое полотно, сердце у Анджея забилось сильнее. — Я скрывался тогда и дома бывал редко, а в ту ночь пришел. Хотел Кензелю помочь, ну и ради Левартов сделал это. Любича привел с собой. Кензель…
— Долговязый такой?
— Да, да! Душой и телом предан был Левартам! Если бы не он, фабрика наверняка бы к немцам перешла после смерти пана Станислава. Особенно когда у нас в доме оружие нашли, отца моего расстреляли — он ведь был одним из директоров, а второго, дядю Конрада, арестовали! Но Кензель сумел как-то выкрутиться, вышел из положения. И в ту ночь — тоже не представляю себе, как бы мы управились без него! Было совсем поздно, прислуга Левартов уже спала, когда мы с Любичем стали наворачивать картину на этот картонный цилиндр, пустой в середке, только фанерными кружками укрепленный изнутри. Потом обшили ее холстиной, засунули в футляр, приладили крышку и запаяли на совесть. Часа два на это ушло. А ведь надо было еще перетащить эту штуковину — в сорок кило весом, метр восемьдесят длиной! Темень полнейшая, идешь — спотыкаешься, а в тишине малейший шорох слышен. И потом замуровать ее. Без Кензеля — старик в проходной устроил тем временем скандал, чтобы отвлечь внимание, — нам нипочем бы не обделать это дело втайне так, что о нем знают только трое.
— Ну, теперь я — четвертый, — уточнил Хаза.
— Именно с тобой трое. Любич, ты да я! Старик в восстание погиб.
Анджей на минуту задумался, соображая, сколько всего посвященных.
— Еще о самом факте и тайнике слышали кое-что в общих чертах мои тетки. Но они не в счет.
— Ясно! — буркнул Хаза.
Кивком головы подозвал он оказавшуюся поблизости официантку и заказал пиво. Официантка улыбнулась ему дерзко и насмешливо, но, не дождавшись, к своему удивлению, ответной улыбки, повернулась на каблуках и отошла. А Хаза шепотом быстро задал Анджею несколько вопросов один за другим.
— А Франтишек Леварт заинтересован в этом деле?
— Еще бы!
— Но сам за картиной не приедет?
— Нет!
— Тебя послал?
— Да!
— Чего ж так поздно?
— Да по разным причинам, — сказал Уриашевич. — У молодого Леварта были сначала другие планы. Рассчитывал вывезенную немцами фабрику восстановить. В Париже встретился с одним англичанином, тот до войны был связан с химической промышленностью и знал фирму Левартов. А теперь делал что-то в западных зонах по поручению английских химических трестов и вызвался Фанику помочь. Взял его с собой в Ганновер — там у него была контора. За поиски принялся всерьез и в конце концов раздобыл опись левартовских машин и оборудования. Они должны были находиться в Гессене во французской зоне на одной фабрике. Сам туда ехать Фаник побоялся и послал меня. Понимаешь, что за тип? Я приехал: никакой фабрики. Ее попросту больше не существовало, одни развалины. При виде развалин можно было еще, конечно, сомневаться. Но после осмотра машин места для сомнений уже не оставалось. На исковерканном сепараторе и герметической сушилке я обнаружил медные пластинки с заводскими клеймами, серией, номерами. Так я их, конечно, не помнил, но по описи все сошлось. Поездка против ожиданий оказалась неопасной и неутомительной, но совершенно бессмысленной.
Анджею хотелось еще поделиться с Хазой впечатлениями от зрелища искореженных машин, но тот перебил его:
— Да ладно! Не твоя печаль!
Оказалось, что не совсем так. Поездка влетела Анджею в копеечку. А Фаник отказался возместить расходы.
— Зато теперь отыграешься! — засмеялся Хаза. — Как вы уговорились? Ты в доле с ним или процент получишь?
— Третью часть выручки!
— Холера! Десять тысяч долларов! — Хазу даже дрожь проняла. — Что ты будешь делать с такими деньжищами? — и, хохотнув, ответил за него: — Жизнь прожигать!
— Нет! — возразил Уриашевич. — Поселюсь где-нибудь в уютном домике на юге Франции, подальше от людей, и пореже постараюсь бывать в Париже.
Хаза резко повернулся и плечом так двинул Уриашевича, что тот чуть не свалился с дивана.
— Где? — вскричал он. — А я-то, осел, думал, — и опять громко рассмеялся, — что ты здесь ее собираешься продавать!
— Тише! — взмолился Анджей.
Хаза перестал смеяться и одобрил план приятеля.
— Правильно, — заявил он. — Там ты в несколько раз больше получишь. Погоди, я сосчитаю!
Но Уриашевич остановил его. Он давно уже все высчитал. Сейчас его интересовало другое.
— Я хочу чехословацкую границу перейти и через американскую зону махнуть в Париж. Но вопрос в том, как картину переправить? Я слышал, в Варшаве кожно с иностранцем каким-нибудь договориться. Говорят, это сравнительно просто.
— Раньше! Раньше было просто, а теперь нет! — возразил Хаза угрюмо. — Картины и ковры они вагонами отсюда вывозили. А сейчас эту лавочку прикрыли.
Он вздохнул, но вскоре опять воспрянул духом.
— Ничего, что-нибудь сообразим. Я перевожу вещи на своих грузовиках разным дипломатам. Попрошу оказать мне эту услугу. А из подвала когда ты собираешься извлекать свой «Пир»?
— Как можно скорей! Хоть завтра!
— Здорово! — потер руки Хаза. — Конечно, помогу. И подходящего иностранца буду присматривать, не откладывая в долгий ящик.
Обдумывая все это чисто теоретически, Анджей не испытывал неприятного чувства, но, когда заговорил с Хазой, ему стало не по себе. Коробило от циничного отношения Хазы к делу. Анджей даже пробормотал что-то по этому поводу. Но Хаза решил, что тот нервничает, и глянул на него снисходительно.
— Возьми себя в руки! Тоже мне рискованная операция! Тетки под боком, и даже «пушка» не требуется. Все заранее известно, пойдешь себе спокойненько, как со своей законной собственностью. Ты бы вот, брат, натерпелся страху…
Он провел рукой по лицу, щелкнул пальцами, словно отгоняя сравнения, просившиеся на память.
— Ну да ладно! — заключил он, сам кладя конец этой теме. — Теперь счет — и домой!
Он расплатился, и оба встали.
К Уриашевичу вернулось прежнее беспокойство.
— А ты уверен, что нас никто здесь не подслушивал?
— Абсолютно! Только не оставляй эти бумажки на столе.
Уриашевич разорвал салфетки, на которых начертил план, бросил клочки в пепельницу и для верности поджег. Хаза уставился на огонек и долго не отводил глаз.
— Присядь-ка на минутку, — помрачнев, сказал он вопреки только что принятому решению и потянул Уриашевича к дивану.
— Завидую я тебе, — вздохнул он. — Никто к тебе не посмеет вязаться. На собственные деньги, на честные проценты с них будешь жить-поживать, и плевать тебе на всех.
— А тебе разве не плевать? — удивился Уриашевич.
И впервые задумался: откуда взялись у Хазы деньги на покупку автомашин? До войны жил он довольно скудно, во время войны сидел в концлагере, состояния у отца его не было. Хаза угадал его мысли.
— Вернулся я из лагеря, — проговорил он, глядя на стакан из-под пива, который вертел в руках, — и столкнулся с порядками, тебе известными. За что только я не брался поначалу, даже на работу устроился. Но через несколько месяцев понял: все это не по мне. Вы во время оккупации невероятные вещи проделывали. Вот я и решил: теперь наш черед — тех, кто не испытал ничего подобного.
Говорил он так тихо, что Уриашевич не все разбирал. Но все-таки достаточно громко, чтобы понять: Хаза вступил в группу особого назначения, которая подчинялась какой-то подпольной организации. Та вскоре прекратила свое существование, но группа еще держалась. В конце концов ее тоже выловили. Спастись удалось одному Хазе. С простреленной ногой остался он лежать у органиста.
— Мне дали на сохранение кассу, — продолжал он, — она и уцелела.
— Кассу организации? — Уриашевича передернуло: «Вот, значит, откуда у него грузовики и возможность принимать меня так гостеприимно!» — Что еще за касса?
— Как что? Касса и касса.
Произнеся эти ничего не значащие слова, Хаза пристально посмотрел на Уриашевича и разразился вдруг продолжительным смехом.
— Эх, ты! — счел он нужным наконец объяснить причину своей внезапной веселости. — По твоей физиономии вижу: вообразил обо мне невесть что! Ни общих денег, ни добытых в результате какой-нибудь операции там не было. Хранились просто деньги одного из наших, человека, до войны очень богатого. Вот я и держу их у себя, пускаю в оборот, ведь это никому не возбраняется.
Ни малейшего следа улыбки на его лице теперь не было.
— А что с этим человеком?
— Как что? Сидит.
— А остальные из твоей группы?
— Кто под амнистию попал после указа, кто вообще легко отделался. По-разному…
Он перестал вертеть стакан и заглянул Анджею в широко раскрытые глаза.
— А ты бог весть что обо мне подумал!
Сказал и потянулся так, что кости хрустнули.
— Мне твоя тайна известна, тебе — моя, — прибавил он, хотя это противоречило тому, в чем он только что заверил Анджея. — Вот мы и квиты. А теперь молчок, ни слова больше.
Уриашевич заметил, что официантка, которая перед тем подавала им пиво, все поглядывает на Хазу, кокетливо и фамильярно улыбаясь. Стараясь не думать о том, что услышал, Уриашевич кивнул в ее сторону и прошептал:
— Вы знакомы, наверно, и довольно близко. Она бывала у тебя?
— Кто?
— Вон та!
Хаза рассеянно посмотрел на женщину, не в силах сосредоточиться.
— Эта? Не помню, — сказал он, а на улице прибавил: — Не помню, хоть убей! Говорю это не из галантности, чтобы тайну сохранить, а просто на самом деле не припомню. Ну их всех к черту! Я что-то не в своей тарелке сегодня.
И до самого дома не сказал больше ни слова.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Полковник Венчевский предъявил свое удостоверение портье в гостинице при сейме и, получив пропуск, осведомился, где лифт. Перед триста одиннадцатым номером он остановился и посмотрел на часы. Да, здорово опоздал. Несмотря на это, он отошел в глубь коридора, поставил набитый портфель на подоконник и, открыв его, тщательно отобрал бумаги с таким расчетом, чтобы их было не слишком много, но и не мало. И только после этого приблизился к двери и громко постучал.
Иоанна притворилась, будто не слышит. Ее самолюбие было уязвлено. Какой-то полковник разбудил ее в восемь утра, попросил разрешения прийти в девять, в половине десятого позвонил, сказав, что будет через час, а в назначенное время пришлось из-за него опять бежать к телефону в другой конец коридора, чтобы услышать, что он, к сожалению, опаздывает. На этот раз полковник сдержал свое обещание: опоздал, что называется, солидно.
— Entrez[5], — откликнулась она, когда он постучал вторично, но на вошедшего не взглянула.
— Пани Уриашевич?
Она обернулась, вскинув голову, чтобы светлые рассыпавшиеся волосы не заслоняли лба. Вид офицера привел ее в недоумение.
— Это ни на что не похоже! — Она покраснела от злости. — Я сейчас ухожу и не желаю видеть никакого полковника Венчевского!
Перед ней стоял худенький, узкоплечий молодой человек — очевидно, адъютант, присланный сообщить, что встреча опять откладывается.
— Это я! — пролепетал полковник, чье высокое звание совершенно не соответствовало моложавому виду. Но он привык к подобным недоразумениям. — Прошу простить за опоздание!
И принялся объяснять, почему так получилось. Думал утром только заглянуть на строительство, а там свалилась на него куча важных, неотложных дел. Его любезность обезоружила Иоанну. Она взглянула на него внимательней: худой, круги под глазами, держится просто, хотя официально. И слово «строительство» произносит как-то особенно значительно. Иоанна, как приехала из Парижа, только и слышала везде это слово. Но в устах полковника оно звучало несколько странно.
— Все вы здесь что-то строите! — сказала она.
— К сожалению, не все! — ответил полковник. — Еще далеко не все!
«Если он связан со строительством, — подумала Иоанна, — чего ему надо от меня?» Это было непонятно.
— А вы, полковник, что же строите?
Молодой полковник ответил спокойно и вежливо, как всегда:
— Восстанавливаю здание Варшавской оперы.
— Оперы?
— Да, Оперы.
Столь грандиозное предприятие не вязалось в представлении Иоанны с особой скромного молодого полковника. И она рассмеялась. Он никак не отреагировал на ее смех. Разве что слегка помрачнел.
— Простите, — понизила голос Иоанна, почувствовав, что обидела его.
— Ничего, — тихо ответил Венчевский. Подобный смех был ему не в диковинку. И раздражал его. Не сам смех, а то, что крылось обычно за ним. — Ничего!
Он растолковал Иоанне, что пришел по поручению министерства обороны. Армия обязалась восстановить комплекс варшавских театральных зданий между бывшей улицей Фоха и Вербной.
— Армия? — В глазах Иоанны опять вспыхнула насмешка: что может быть общего между армией и восстановлением театров.
— Да, армия! — спокойно и вежливо, по своему обыкновению, подтвердил полковник, испытующе глядя на балерину. — В продолжение десяти лет театры будут находиться в ведении армии, а уже потом перейдут к властям гражданским, к городскому совету. И отныне каждый воин, будь то солдат или офицер, будет поддерживать связь с театром. Вы, конечно, понимаете, как это приобщает к культуре.
— Любопытно! — протянула Иоанна.
Слова полковника ни в чем не убедили и не разуверили ее, но усмехаться она перестала.
— Вот планы, взгляните!
И он разложил заранее приготовленные бумаги на свободном краешке стола. Теперь речь его потекла свободней, вопрос был знакомый, его часто приходилось обсуждать в разных инстанциях. Чтобы завоевать расположение Иоанны, он принялся выкладывать все, слышанное от архитекторов, и даже сам вдохновился, начав описывать здание Оперы и особенно сцену и подсобные помещения.
— Вот поглядите, к примеру, сколько места отводится балету!
Венчевский развернул рулон.
Иоанна взяла в руки план этажа, который был отведен под балетное училище, репетиционные залы и танцклассы.
— А вот сцена! Смотрите, как великолепно оборудована! Здесь все есть. До сих пор наши балетные сцены…
— Сцена, но кто на ней будет танцевать? — перебила его Иоанна. — Долгие годы понадобятся…
— Вот поэтому я к вам и пришел! — не выдержав, перебил ее, в свою очередь, полковник. — Если понадобятся долгие годы, — выпрямился Венчевский, — тем более нельзя мешкать! Надо немедля браться за дело и в день открытия нового, восстановленного театра показать жителям Варшавы балет. И в дальнейшем эту работу продолжить.
Иоанна засмеялась — без иронии, но скептически.
— Уж слишком просто вы все это себе представляете!
— Пожалуйста, конкретней! Что вы имеете в виду? — спросил с горячностью полковник.
— Замечательные польские танцоры всегда были! — оседлала она своего любимого конька. — И у Джуса, у Бюзи, у Иды Рубинштейн! Нижинский, Нижинская, Кшесинская, Сулинская, Олькин — это все поляки! Но вот балет польский, как таковой, — где он?
Венчевский разглядывал ее. Лицо массивное, преждевременно состарившееся, но глаза необыкновенные! Она то и дело встряхивала головой, пальцами отводя падавшие на лоб волосы. Говорила быстро, часто смеялась, к месту умела и чертыхнуться.
— Может, вы думаете у Кавальканти не было поляков? — Она указала Венчевскому на большую цветную фотографию, которую всюду возила с собой и вешала на стену там, где останавливалась на более длительное время. На фотографии Иоанну окружала группа девушек в трико оранжевого и золотистого цвета. Девушки изображали пламя, а она, с глазами, поднятыми к небу, в голубом с серебряными лилиями камзоле, — Жанну д’Арк на костре, в самой эффектной сцене балета, который ее прославил. — Были, были! Под сценическими псевдонимами — итальянскими или французскими, как я, например. А вы, наверно, и не подозревали об этом?
Действительно, полковник Венчевский об этом не подозревал. О балете Ральфа Кавальканти, как и о существовании Уриашевич, он только вчера узнал из газет, а сегодня явился к знаменитой балерине. Фамилии нескольких польских танцоров, о которых упомянула Уриашевич, доводилось ему слышать и раньше, но теперь он не без удовольствия отметил про себя, что их было гораздо больше. Вот уже год, как он с головой ушел в театральное строительство. А несколько месяцев назад пришлось в связи с восстановлением Оперы взять на себя еще заботы о балете. Влачивший до войны жалкое существование и пришедший в полный упадок во время оккупации, он срочно нуждался в опытном наставнике. И мысли об этом не давали в последнее время покоя полковнику Венчевскому.
— Кто хотел выдвинуться, тот эмигрировал, — продолжала Уриашевич. — У нас на это рассчитывать не приходилось, не было условий.
— Да, плохо было! — кивнул полковник. Тема знакомая, кое-что ему было известно, и в причинах, в подоплеке всего этого он немного разбирался, но вдаваться в общие рассуждения не стал, а просто обратился к Иоанне: — Сейчас многое зависит от вас!
— От меня? — Иоанна была приятно удивлена.
Полковник глубоко вздохнул.
— Я был бы счастлив, если бы удалось привлечь все лучшие силы, какие есть в стране.
И посетовал на ее коллег. Подвизаются они и в цирке, и в ночных дансингах, и в разных недолговечных театриках, только его, Венчевского, не дарят своим доверием. Их привлекают большие заработки, быстрый и шумный успех, а в Варшаве, где нет жилья, что может их прельстить? Одни обещания, радужные перспективы, пожалуй, заманчивые, да уж очень отдаленные; им кажется, это все на воде вилами писано.
— Ваше имя перетянуло бы чашу весов! — воскликнул он. — Я уверен, вашему примеру последовали бы многие. — И обрисовал ей ситуацию: — Министерство не может мальчишкам и девчонкам из кордебалета платить больше, чем генералам. Но никто из ваших младших коллег не хочет этого понять, не говоря уж о старших — у них, когда речь заходит о жалованье, претензии ни с чем не сообразные. Никак не могут решиться. Поговоришь с ними, вроде бы все понимают, а на другой день приходят и отказываются. Или вообще не приходят, но это дела не меняет. Они предпочитают первое попавшееся, самое ничтожное эстрадное бюро в Катовицах, которое поставляет танцоров для кабаре или поездок в сельскую местность. Конечно, когда есть ангажемент, они по сто тысяч злотых зарабатывают и больше. Но ведь и без работы по многу месяцев приходится сидеть, вот чего они не учитывают.
Иоанна ему поддакивала. Все это вещи ей знакомые. Полковник продолжал излагать свои соображения. Говорил, как представляет он себе постановку балетного дела, о ближайших задачах и перспективах настоящего балета, упомянул и о балетном училище. И тут Иоанна вспомнила, что слыхала от знакомых о каком-то военном в высоком чине, который с некоторых пор проявляет интерес к балету. Так это он, Венчевский! И снова в ней ожила строптивость.
— И балеринам будут читать в этом училище лекции по диалектике? — съязвила она.
Полковник хмуро глянул на нее. Не любил он эту манеру разговора у артистов: все бы им вышучивать да сомнению подвергать. Он полагал, что после всего сказанного Уриашевич оставит этот тон.
— Так, по крайней мере, говорят! — смеясь, продолжала Иоанна.
— И правильно говорят! — ответил полковник сухо. — Конечно, если иметь в виду существо дела, а не то, как вы себе это представляете. Да, учебной программой предусмотрены лекции, которые должны формировать мировоззрение.
— У артистов? — сделала большие глаза Иоанна. — А на кой черт оно им?
— А для того хотя бы, — сдерживая раздражение, ответил сквозь зубы полковник, — чтобы понять разницу между настоящим искусством и кабаре!
Она умолкла. Он понял, что приструнил ее, и немного погодя вернулся как ни в чем не бывало к прерванному разговору, сообщив в заключение, что пока располагает только двумя залами для занятий и репетиций. Разумеется, не в здании будущего театра, а в доме военного ведомства.
— Может, хотите взглянуть?
— А почему бы и нет!
Вежливо, сдержанно подал он ей пальто. И пока она искала сумочку, зонтик и перчатки, наблюдал за нею. Странные люди эти артисты! Чего угодно он от них ожидал, только не того, что так трудно будет их увлечь.
Когда они спустились на лифте, Иоанна обнаружила, что потеряла перчатку.
— Она в коридоре, наверно, или у двери! — крикнула она вдогонку полковнику, который отправился на розыски.
Перчатка лежала под дверью. Венчевский нагнулся за ней, и тут, не заметив его в полутьме, на него налетела коридорная.
— Где пани из триста одиннадцатого? — Она так спешила, что едва извинилась. — Ее по междугородному вызывают из Катовиц!
— Из Катовиц?
— Из Катовиц! Из Катовиц!
— Пани, с которой я только что вниз спустился? — уточнил полковник.
— Да, да!
— Скажите, пожалуйста, что она ушла. Пусть позвонят через час.
Он не удержался и послушал, повторила ли она его слова.
Внизу Иоанна весело сказала, увидев перчатку:
— Спасибо, полковник! Вы прекрасно справились с заданием!
— Вы очень любезны! — поклонился Венчевский.
Перед гостиницей его ждала машина, они сели в нее, и по дороге он спросил:
— Анджей Уриашевич не родственник ваш случайно?
— Племянник мой. Мы вместе приехали из-за границы.
— Отлично! До войны он, кажется, учился в политехническом институте? Пусть непременно зайдет ко мне, у меня есть для него интересная работа. Мы ведь одноклассники!
Иоанна удивленно посмотрела на него.
— Сколько же вам лет, полковник?
— Ровно столько, сколько Анджею.
— Двадцать девять?!
Услышанное напомнило ей недавнее столкновение с полковником. Оно, видно, не давало ей покоя.
— Двадцать девять лет! — пожала она плечами. — А вы еще поучать меня беретесь, что нужно и не нужно нам, артистам, — мне, артистке, которая выступала, когда вас и на свете еще не было! Да, да, уже выступала!
Теперь он окинул ее удивленным взглядом.
— Быть этого не может!
— Еще как может! — Голос у нее повеселел. — Да я вам в матери гожусь! — воскликнула она со смехом.
— В матери?
— Вот именно! Я ведь четверть века назад из дома убежала с одним молодым красавцем из труппы Ральфа Кавальканти.
— Сколько же вам тогда было лет?
Она привычным жестом откинула назад свои красивые золотистые волосы.
— Шестнадцать! А ему двадцать один!
— Где же он теперь? — вырвалось невольно у полковника.
— Оставил сцену. Кажется, в санатории сейчас. Он был морфинистом, пил. У нас, у артистов, свои слабости есть.
Она произнесла все это легким, небрежным тоном, однако предпочла переменить тему.
— О чем это мы говорили?
— О том, что нужно артистам. Я утверждал: прежде всего идейные устои, а вы…
— Ладно, оставим это.
Неприятное чувство, которое ее преследовало с той минуты, когда она замолчала, сраженная доводом полковника, прошло. Должно быть, горестные воспоминания его оттеснили.
— Когда же мы наконец приедем? — спросила она.
— Уже приехали!
Машина круто развернулась. Венчевский подал Иоанне руку, и по перекинутой доске они вошли в недостроенное здание. Один коридор, второй, третий…
— Где же ваши залы? — тронула Иоанна за рукав идущего впереди полковника.
Наконец они добрались до свежепобеленных, еще пахнущих известью помещений. Иоанна шагами измерила их. В одном машинально потрогала палки: они были укреплены прочно, не крутились. Посмотрела, как с освещением. Все оказалось хорошо. Залы, в общем, ее удовлетворили, и полковнику стало даже неловко, словно он хвастается перед ней.
— Конечно, это не какой-нибудь дворец! — признался он чистосердечно. — Не какие-нибудь зеркальные залы!
— Ага, кстати! Артист во время репетиций и упражнений должен проверять свои движения в зеркале. Без зеркал никак нельзя!
Она подошла к свободной стене, где не было станков.
— Здесь должны быть зеркала. Большие, во всю стену, и правильно смонтированные.
И она стала подробно объяснять, какой они должны быть высоты.
— Когда партнер поднимает балерину, она должна видеть себя в зеркале. Понимаете?
— Понимаю. Зеркала будут такие, как вы хотите.
Полковник достал из кармана блокнот и карандаш.
Он записал ее пожелания, сверяясь с рекомендациями специальных журналов. Все полностью совпадало. Но умолчал, что зеркала уже заказаны, такие именно, какие нужно, — с большой поверхностью. Пусть чувствует себя хозяйкой, пусть знает: в устройстве этих залов есть и ее вклад.
— А раздевалка где?
Она помещалась направо по коридору.
— А здесь душ!
— О, смотрите-ка! Без душа всегда плохо, а тут целых пять кабинок!
— Шесть!
Не поверив на слово, она пересчитала и вернулась в первый зал.
— Бр-р! Как сыро! У меня все кости ломит. — Она поежилась. — В Париже во время оккупации у меня был тяжелый артрит. До сих пор дает о себе знать!
С этими словами перешла она в следующий зал, потом осмотрела все сначала. И главный зал с покатым полом, который похвалила. И классы, и раздевалки, и комнату для балетмейстера. Предоставленный себе Венчевский посмеивался. «Дрожит от холода, а не уходит, — подумал он. — Значит, клюнула!»
На улице Иоанна остановилась и, растирая руки, подняла глаза кверху. Она уже приняла решение и обдумывала теперь, как быть дальше.
— Прежде всего надо переговорить с министерством культуры и искусства. Они мне оплатили проезд из Парижа, номер предоставили в гостинице. Возможно, у них есть какие-то виды на меня.
— Исключено!
Решительность, с какой это было сказано, можно было истолковать и как неуважение к этому учреждению. Но на самом деле слова полковника означали лишь, что, по его мнению, это не доводы. Он считал, что уже убедил Иоанну.
— Все зависит только от вас, — сказал он, — с министерством можно договориться.
— Тогда решено! — протянула ему руку Иоанна.
— Решено! — повторил обрадованный полковник и протянул ей обе руки. И хорошо сделал — рука у нее была большая.
— Да, вот не знаю еще, как с Лидией Тарновой, — вспомнила не без досады Иоанна.
— А что ж такого? Если вы обещались преподавать у нее, пожалуйста, никто вам не мешает. Но мы у вас должны быть на первом месте.
Уже в машине полковник предложил:
— Заедемте ко мне на работу, уладим необходимые формальности?
Но Иоанна была занята и освобождалась только через час: она спешила как раз к Тарновой, с которой условилась на это время. Полковник подвез ее, помог выйти, заметил номер дома, чтобы через час прислать шофера, и, сказав, что не прощается, раз они еще сегодня увидятся, вернулся к машине.
Иоанна взбежала по лестнице. На площадке первого этажа на нее налетела спешившая вниз черноволосая девушка с большущими картонными коробками и выбила у Иоанны сумку из рук. Буркнув что-то под нос, она было пронеслась мимо, но сердитый голос Иоанны заставил ее остановиться.
— Что мне ваше «извините»?! Лучше бы сумку подняли!
— А чем? — насмешливо спросила девушка и повела плечами, показывая, что у нее обе руки заняты.
— Надо смотреть!
— Надо дорогу уступать нагруженному человеку!
— Нечего сломя голову лететь!
— Нечего ползти, как черепаха!
Взбешенная Иоанна резко повернулась, непроизвольно взмахнув рукой, и девушке показалось, будто та хочет ее ударить. Одним прыжком перемахнула она через несколько ступенек.
— Эй, рукам воли не давать, а то как двину!
— А чем? — повторила Иоанна ее вопрос и повела, передразнивая, плечами.
— А вот чем! — воскликнула та и вскинула ногу под нос Иоанне.
Ее черные, гладко причесанные волосы не шевельнулись, лишь губы приоткрылись слегка от напряжения, и за ними блеснули зубы.
— А, балетная пташка! — прошипела Иоанна. — Только батман делается вот как!
И, подавшись всем телом вперед, чуть опираясь на перила, как на станок в танцклассе, сама выбила ногой у девушки коробку из-под мышки.
Та поспешно поставила и другую коробку, выпрямилась и, одернув клетчатый жакет, медленно стала подниматься по ступенькам. Белая как мел остановилась она перед Иоанной, не в силах вымолвить ни слова.
— Извините! — выдавила она наконец. — Ой! Ой!
И, не зная, как быть, протянула Иоанне руку. Та ничего не понимала.
— Мы ведь, кажется, уже поздоровались другими конечностями, — возразила она насмешливо.
— Ой! Как же я вас сразу не узнала! Ведь у меня целая коллекция ваших фотографий.
— Ну, и кто же я?
— Вы — мой идеал. Вы Иоанна Дюрсин.
— Дюрсен! — поправила Иоанна.
С новым приглушенным восклицанием девушка стремительно наклонилась, поцеловала Иоанне руку и, повернувшись на одной пятке, скакнула вниз, подхватила свои коробки и бросилась бежать.
* * *
В дверях Иоанна спросила у Лидии Тарновой:
— Это от тебя только что вылетела хорошенькая такая чернявая фифочка с прилизанными волосами, в клетчатом костюме?
— Это ученица моя, Галина Степчинская, очень способная. Но как это ты сразу ее приметила?
— Вот, представь себе, приметила! — засмеялась Иоанна. — Приметила!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Вечером, после десяти, Збигнев Хаза и Анджей на грузовике подъехали к бывшей дворницкой, где жили теперь сестры Уриашевич с матерью. Стараясь не шуметь, вошли они в дом; Анджей нес брезент, веревку, инструменты, Хаза — комбинезоны, лопаты и кирку. На лестнице их уже поджидала взволнованная Ванда, чтобы передать ключ от комнаты жилички. Осторожно сложили они в угол все, что принесли с собой. В лабораторию решено было идти, когда стихнет все вокруг. С картиной можно было провозиться и не один час. И Хаза, который боялся надолго оставлять машину ночью без присмотра, сказал, что поставит ее в гараж и тотчас вернется. После его ухода Ванда внезапно расплакалась.
— Представь, ксендз Завичинский проболтался маме!
Анджей с недоумением посмотрел на тетку.
— Проболтался про Иоанну! — И, с трудом сдерживая слезы, она продолжала: — Явился, когда меня дома не было, а Тося вышла за углем; дверь ему открыла Климонтова.
— И обо мне рассказал? — спросил Анджей, и сердце у него забилось.
— О тебе — нет, это-то мы ему втолковали, и он дал слово молчать. А про Иоанну вообще речи не было. Мы ведь не знали, что она приезжает. А он — старый человек, сам не догадался. И что теперь будет?
— Как бабушка? Хуже ей? — встревожился Анджей.
— Трудно сказать, но очень уж она возбуждена. И мы волнуемся.
— А как она к этому отнеслась?
— Ни словом не обмолвилась, что знает. Завичинский сам признался во всем.
Рассерженная и удрученная Ванда комкала, перекладывала из руки в руку носовой платок. Наконец, овладев собой, встала и спросила уже спокойнее:
— Может, еще раз спустишься или уже запомнил, который подвал наш?
Футляр с картиной решили временно спрятать в подвале, принадлежащем Уриашевичам. Еще утром Анджей отгреб картошку в угол, освобождая место для картины и инструментов.
— Теперь попрощаюсь с тобой, ты сиди здесь тихо, а то мама на каждый шорох внимание обращает.
Ванда прикоснулась к лицу Анджея: хотела погладить, но отдернула руку, вспомнив, какая она шершавая.
— Располагайтесь, как дома, комната до утра в вашем распоряжении, Климонтова только завтра к вечеру вернется. А напачкаете, я приберу. — В дверях она посмотрела на часы. — Скоро и за «Пиром» пойдете. Как все это грустно!
Но Хаза пропал куда-то. Анджей высунулся в окно. Тихая бархатистая ночная тьма с лунным серпиком вверху. Справа, точно острые уступы скал, высились стены сгоревших домов. Время от времени, как камни в горах, скатывался с них комок извести или обломок кирпича. Слева и прямо перед Анджеем простирался неровный пустырь, в тот час совершенно безлюдный. Можно было начинать, но Хаза не появлялся.
Анджей спустился вниз и, чтобы успокоиться, решил заранее прикинуть, с какой стороны удобнее подойти к дворницкой с тяжелой ношей, когда все уже будет позади. Кратчайший путь — через изрытый снарядами двор — оказался неподходящим. Лучше уж сделать крюк, хотя и там он то и дело спотыкался. Вдруг кто-то схватил его за рукав: Хаза! Но Анджей нисколько не обрадовался, напротив, ему стало страшно: что, если, несмотря на темноту и безлюдье, их так же вот захватит кто-нибудь врасплох.
Первым делом надо было убрать обломки, которые преграждали доступ к подвальному окну и мешали выпилить решетку. Они расстелили брезент и, улегшись на него в комбинезонах, бесшумно стали откладывать в сторону кусок за куском. Из подвала тянуло смрадом, особенно невыносим сделался он, когда они принялись за решетку. Вслепую работать теперь было уже нельзя, поэтому они встали на колени и укрылись с головой брезентом из опасения, как бы их не выдал свет. Один пилил, другой светил. Когда очередь светить была за Анджеем, он, извиняясь, гасил то и дело фонарик, чтобы впустить под брезент свежего воздуха: от смрада его мутило. Они попытались было отодвинуться немного от стены, но тогда свет рассеивался; ничего не поделаешь, пришлось оставаться у этого смердящего оконца под брезентом, как под одним одеялом. Но самое неприятное было, что Анджею предстояло спуститься туда, откуда исходил этот отвратительный запах, несомненно, трупный: так воняло из подвалов многих сотен домов, разрушенных в восстание. Вонь ужасная, но картины, которые рисовало воображение, были еще ужасней.
Когда решетка наконец подалась и упала в подвал, увлекая за собой щебень и мусор, который долго сыпался вниз, Анджей попросил Хазу обвязать его веревкой, которую они прихватили на случай, если придется вытаскивать картину наверх через подвальное окно. Хаза, не отвечая, посветил фонариком внутрь и заглянул: глубок ли подвал?
— Неглубокий! — сообщил он. — Уцепись за остатки решетки и спускайся. Веревка тебе ни к чему, да и не выдержит она: слишком тонкая.
— Зато длинная! Это для связи с тобой. Я каждую минуту буду дергать за веревку. Прекратятся рывки, значит, со мной что-то случилось!
— Давай лучше я спущусь!
— Я быстрее тайник найду. Ничего не поделаешь!
Коснувшись пола, он долго ощупывал носками ботинок грунт, прежде чем встать на ноги, а потом попросил фонарик.
— У тебя ведь есть, — напомнил Хаза.
— Дай второй! Я верну сейчас.
Зажав в каждой руке по фонарику, словно револьверы, Анджей двинулся вперед. Он шел, поминутно дергая веревку, освещая все закоулки. Ни скелетов, ни разложившихся трупов; вообще никаких неприятных неожиданностей. Только пустые бутылки кругом, битые реторты, металлические тигли, покрытые то ржавчиной, то зеленью, негодные термометры, части приборов — старый, ненужный хлам, но и его немного. Вещи все знакомые! Он заглянул в соседнее помещение, в следующее — везде одно и то же. Все по-прежнему. Разве что пыли чуть больше, налет известки на всем, да кое-где кирпичи повыпали из стен под напором взрывной волны. Той самой, наверно, которая разрушила лестницу из лаборатории в подвал, обломками завалив и проход к тайнику, где хранился «Пир». Беда невелика!
Анджей огляделся — здесь ему был знаком каждый уголок, это единственное, что уцелело в неприкосновенности от всей фабрики, от особняка Левартов, флигелей, складов, пережив сентябрь, войну, восстание. Анджей остановился и покачал головой: вот ирония судьбы, почему сохранилось именно это место, а не другое. Из задумчивости его вывел Хаза. Не получая сигналов, он нетерпеливо дернул за веревку. Анджей очнулся и тем же путем пошел назад. Под оконцем фонарик осветил дохлую кошку — ее присыпало мусором, когда они высадили решетку. Это она и воняла так. Впрочем, теперь уже меньше: только голова, кончики лап да хвост виднелись из-под пыли и щебня. Анджей протянул Хазе фонарик.
— Ну, как, порядок?
— Порядок!
Анджей отвязал веревку, до смешного ненужную в этом привычном месте. Но Хаза настоял, чтобы он оставил ее.
— Я уже испугался за тебя, — сказал он. — На тебя что, столбняк напал? Увидел что-нибудь?
— Да нет! — ответил Анджей и протянул руку за киркой и одной из лопат.
Придя на место, он закрепил фонарик на поясе и стал откидывать лопатой куски кирпича и штукатурки. Дело в том, что не все подвальные помещения под лабораторией находились на одном уровне: следствие изменения проекта в ходе строительства. Из того помещения, куда через окно проник Анджей, вели в другое вниз три ступеньки. Так, что над подвалом повыше было пустое пространство, подобие очень низкой и глубокой ниши, устье которой было заделано, — попасть туда можно было, лишь убрав ступени. Действуя по указанию Кензеля, который заранее взломал и сдвинул ступеньки в сторону, Анджей всунул тогда футляр с картиной в отверстие, поставил ступени на место, а щели зацементировал.
Сейчас он очищал лестницу от обломков. Фонарик болтался на поясе, и толку от него было мало. Уриашевич погасил его. И тогда заметил, что там, где он орудует лопатой, чуть светлей, чем в остальной части подвала. Задрав голову, он увидел прямо над собой в крыше разрушенной лаборатории пробоину, а в ней — клочок неба с мерцающими звездами. Лопата скрежетала по цементу, обломки с грохотом отлетали в сторону; за веревку дергать нужды не было: доносившиеся звуки лучше всяких сигналов убеждали Хазу, что все в порядке. Анджей прервал работу и направился к окну.
— Привяжи где-нибудь веревку, — сказал он, — и выйди на улицу, покарауль. А в случае чего дай знать. А то, сдается мне, шум этот за версту слышно.
— Хорошо!
Хаза исчез в темноте.
Анджей вернулся обратно и тщательно очистил лестницу, чтобы легче было действовать. Потом посветил фонариком, стараясь припомнить, где Кензель советовал поддеть киркой. Ага! Между порогом и ступеньками зияла щель, видно, толчок при взрыве был изрядный. Уриашевич ударил, поддел — и готово! Все оказалось проще, чем он предполагал. Доступ к картине был свободен, но самой картины не было.
Уриашевич почувствовал, что его сейчас вырвет, и судорожно стал глотать наполнившую рот слюну. Потом опустился на колени, несколько раз вздохнул, чтобы успокоиться, и поглубже заглянул в отверстие под ступеньками. Картину могло ведь и отбросить взрывом. Но зачем обманывать себя! Низкая ниша была пуста. И никаких следов, даже царапин на том месте, куда он вложил в свое время картину. Ее украли! Не могла же она сама вмуроваться в стены или врыться в землю, как крот. Немцы наткнулись на нее, когда вывозили машины, и забрали. Ясно как божий день.
И хотя сомнений не оставалось, Анджей не уходил. Он присел на ступеньки, вертя фонарик в руках, потом примостился на другом месте, откуда хорошо виден был весь тайник. По временам он наклонялся, заглядывал внутрь, черенком лопаты шарил по земле. Ничего не поделаешь, на этом надо поставить крест!
Подойдя к оконцу, Анджей свистнул — сначала тихонько, потом погромче.
— Збышек! — позвал он приглушенным голосом. — Гоп-гоп! — Ему почудилось, будто кто-то идет. — Хаза?! — не то оклик, не то вопрос прозвучали в его голосе.
Но никто не ответил. Послышалось, значит. Пришлось выкинуть наверх кирку и лопату, потом, уцепившись за раму, подтянуться и вылезти наружу. Только тогда перед ним вырос Хаза.
— Прости, но по улице шла такая…
— «Пира» нет! — перебил его Уриашевич.
— Нет?
— Нет! Нету!
Вокруг было темно и тихо. Хаза положил руку ему на плечо.
— Ну что ж, в жизни всякое бывает! — изрек он. — Я как раз этого и боялся. После освобождения тут все подвалы обшарили. Может, это Любич, его рук дело?
— Нет! — подумав, сказал Уриашевич. — Кто-то раньше сделал это. Кто-то, кто шнырял тут после капитуляции, но еще до того, как город разрушили окончательно. Это могли быть только немцы. Ход в тайник засыпан обломками, значит, это произошли до взрыва.
— Верно, — согласился Хаза. — Какой-то немец умыкнул ее у тебя.
— Какое значение имеет, кто, когда и при каких обстоятельствах, — проговорил Анджей в раздумье. — Ее нет! Она пропала!
Они стояли в абсолютной тьме. На небе — ни звездочки, в спящем городе — ни единого огонька.
— Не горюй! — обратился Хаза к Анджею со словами утешения. — Найдутся у меня для тебя и работа и деньги. Раньше я не предлагал, но помнишь, говорил тебе, что не всякие методы борьбы… что есть такие методы…
Все, не имеющее отношения к картине, Анджей в одно ухо впускал, а в другое выпускал. Он не проронил ни слова. И лишь когда подошли к дому, предложил:
— Давай переночуем наверху. Лучше не ходить по Варшаве ночью. Говорят…
— Ты что, с ума сошел! Вы там, за границей, я вижу, сбрендили совсем со страха. Женщины и те одни по городу ходят, — прибавил он, — а ты! — И, выпустив руку Анджея, перестал его уговаривать. — Дело твое, я побегу!
Он торопливо зашагал прочь, выругался, споткнувшись, но не замедлил шага, — ему не терпелось уйти поскорей. А Уриашевич открыл дверь ключом. У него совершенно вылетело из головы, что инструменты и брезент надо снести в подвал, и он потащился со всем этим наверх. Постелил себе на кровати Климонтовой и лег. Но через час встал. Одолевавшие его мысли не давали покоя. Взял одну книгу, отложил, взял другую. Читал с трудом, будто заставлял себя есть сухую, несоленую кашу. Лишь на рассвете глаза у него стали слипаться. Он лег и моментально заснул.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Проснулся он с головной болью. Спал плохо и отдохнувшим себя не почувствовал. Раз десять снилось ему одно и то же: будто он не успел прибраться у теток в подвале. Он открыл глаза, осмотрелся: в комнате царил полумрак, на улице моросил дождь. Надо вставать и, несмотря ни на что, начинать новый день, хотя все мечты и надежды развеяны. Он сел в постели.
И вдруг замер. Возле плиты в другом конце комнаты кто-то спал на составленных у стены стульях. Анджей приблизился на цыпочках: девушка. Стульев не хватило, и голова ее лежала на корзине, на голых прутьях, — сползла с импровизированной подушки: с набитого книгами и обернутого платком портфеля. Ясное дело, вернулась, когда он спал.
«Идиотки! — подумал он о тетках с раздражением. — Глупее положения не придумаешь!»
Босиком, в одной рубашке — в комнате незнакомой женщины, которая, к счастью, спала как убитая. Как можно тише стал он натягивать нижнее белье, надел костюм в надежде улизнуть незаметно. Но когда потянулся за ботинками, на глаза ему попались сложенные у двери инструменты. Так и не надев ботинок, подкрался он к двери, решив первым делом отнести в подвал кирку, лопату, комбинезоны и прочее. Но веревки и брезента на месте не оказалось. С величайшей осторожностью обошел он всю комнату. И наконец нашел, что искал. Брезент Климонтова подстелила под себя, а веревкой связала ножки стульев. Пришлось это оставить.
Захватив, что было можно, он выскользнул на лестницу, потихоньку спустился в подвал и свалил все возле картошки. На обратном пути приоткрыл дверь на улицу. Лил дождь. Во дворе в воронках от бомб стояла вода; след от грузовика, на котором они вчера приехали с Хазой, терялся в луже у самого порога. Не обрадовался он даже трамваю, который зазвенел где-то совсем рядом.
— Бр-р!.. — поежился Анджей. — Пока до него добежишь, вымокнешь до нитки! Да что поделаешь, — прибавил он безропотно.
Когда он поднялся наверх, комната оказалась запертой. Не веря себе, он еще раз нажал ручку.
— Минуточку! — послышался из-за двери женский голос.
Анджей нагнулся и приложил губы к замочной скважине, чтобы на лестнице не было слышно.
— Я только вещи возьму. Простите, ради бога!
— Минуточку! — все так же бодро, спокойно повторила Климонтова и, приоткрыв дверь, выставила ботинки Анджея, после чего опять заперлась на более длительное время.
— Не знаю, как мне оправдаться перед вами! Я и понятия не имел, что так получится, — начал снова Анджей, но тут дверь открылась, на сей раз, кажется, окончательно.
— Прошу! — сказала Климонтова. — Может, мне теперь выйти?
Она была ниже ростом, чем ему показалось, когда он увидел ее лежащей на стульях. Ладная, губы пухлые, лоб высокий. И прическа красивая. Взглянув на нее, Анджей спохватился, что сам толком не одет, не умыт, и попытался пригладить волосы рукой.
— Входите, входите! — повторила она просто. — Не стесняйтесь. Я все понимаю.
Анджей хотел объяснить, почему он не может спуститься вниз, но она перебила:
— Я немного в курсе дела. Ваши тетушки меня посвятили.
— Но как они могли! — вскричал он. — Меня ведь уверили, что вы вернетесь только к вечеру. Представляю себе ваше удивление, когда вы у себя в комнате, мало того — в собственной постели обнаружили постороннего человека!
Она посмотрела на него внимательно. Он был так подавлен и растерян, будто невесть что случилось.
— Конечно, я удивилась, но удивление было разложено на части, как плата в рассрочку, — ответила она не без юмора. — Подумала сначала, что это опять одна из ваших тетушек снизу, а когда заметила лопаты, кирку, брезент и подошла к кровати, поняла: это вовсе не тетушка, а вы, о ком они мне столько рассказывали.
Услышав о кирке и лопатах, Анджей покраснел. А при мысли, что́ она могла подумать, увидев эти орудия, похолодел. Возмутила его и бесцеремонность теток: занимали ее кровать, не будучи даже уверены, что она не вернется ночевать.
— Хорошенькое дело! — Он побледнел. — Они же просто невыносимы!
Но Климонтовой не хотелось разговаривать о его тетках. Во всяком случае, сейчас и в таком тоне. Эти две еще не старые, неработающие женщины были для нее загадкой.
— Вода для умывания в чайнике. Только потом долейте его, пожалуйста, чтобы можно было чаю выпить, — распорядилась она и встала.
Приведя себя в порядок, он открыл дверь, еще раз поблагодарил за все, но от завтрака отказался. Вид у него был какой-то потерянный.
— А вы не больны случайно? — спросила она. — У вас глаза блестят. Я бы на вашем месте обязательно выпила чего-нибудь горячего. Хоть здесь, хоть в кафе: по времени одно и то же. Но, может быть, вы спешите?
— Мне некуда спешить, — неожиданно для себя брякнул он и умолк.
Климонтова, ничего не ответив, продолжала стоять у плиты, будто не расслышала. И больше к этому предмету они не возвращались, но при виде подноса с завтраком, поставленного перед ним, ему стало ясно: она все поняла. По рассказам теток Уриашевич представлялся ей совсем другим.
— Так вы еще не работаете?
— Я несколько дней назад приехал, — ответил он не сразу.
И, почувствовав на себе ее взгляд, опустил голову и снова замолчал. Хлеб не лез в горло. Зато чай выпил он с удовольствием и поблагодарил за поданный ему второй стакан. Но так к нему и не притронулся, — сидел как в воду опущенный.
— Вы вчера долго очень читали. Часов, наверно, до трех?
— До трех? — как эхо отозвался он.
— До трех, до трех! Я в четвертом часу вернулась, а лампочка еще не остыла, вот откуда мне это известно. Чтобы свет не разбудил вас, я газетой стала оборачивать лампу, а она еще теплая.
Анджей поднял глаза на Климонтову, и на лице его изобразилось подобие улыбки. С ней легче, чем было бы сегодня с тетками, Хазой или в кафе наедине со своими мыслями, но все равно он чувствовал себя прескверно. Все еще не мог в себя прийти после ночного разочарования. Стоило только подумать о постигшем его ударе, и к глазам подступали слезы, а удавалось забыть о картине, начинала нестерпимо болеть голова и клонило в сон. Он сознавал: его присутствие должно Климонтову тяготить, тем более что на вопросы отвечал он односложно, отрывисто, как бы через силу. Но поделать с собой ничего не мог. А когда она упомянула о книгах, которые он вчера брал с полки, вообще промолчал. Ему нечего было сказать, он забыл, о чем читал, даже названий не запомнил.
— Ну, пойду, — сказал он. — Дождь уже перестал.
— А тетушки? Может, спуститься, позвать одну из них?
Он не в состоянии был сейчас выслушивать то, что они могли сказать ему в подобных обстоятельствах. Лучше сообщить им о случившемся письменно, а увидеться, уже придя немного в себя. Написав о постигшей его неудаче, он отдал записку Климонтовой. Та взяла ее и положила на книжную полку.
— Вниз отнести или просунуть в щель под дверью нельзя, — объяснила она. — От вашей бабушки ничего не укроется. Поэтому я оставлю ее здесь. В условленном месте.
Машинально взглянул он, куда она положила записку, и тут только заметил стоящую на полке фотографию. Вчера вечером ее не было здесь! Иначе бы он ее обязательно заметил! На увеличенной любительской карточке изображен был молодой мужчина в ватнике, какие носили советские солдаты, и лыжной шапочке; лицо казалось удивительно знакомым. Кто это мог быть? Уриашевич подошел поближе. В левом углу под стеклом наискось — две орденские ленточки: его, значит, нет уже в живых. Анджей вгляделся пристальней. Нет, это ошибка, этого человека он не знал. Но кого-то он ему очень напоминал. Но кого? Спрашивать Климонтову он ни о чем не стал и не объяснил, почему рассматривал фотографию так внимательно; обернувшись, Анджей поймал на себе ее холодный, хмурый, отчужденный взгляд.
— Еще раз спасибо за все, — сказал он. — И еще раз простите.
Он взялся за ручку двери и замер на миг: куда же теперь?
— Подождите, — раздался за его спиной голос Климонтовой. — Я выйду с вами, мне надо в магазин, на уголок. У меня кофе кончился.
— Кофе? Вы любите кофе?
— Я возвращаюсь из поездок чуть живая!
Ему захотелось вдруг выпить кофе и при мысли, что сейчас он останется один, стало тоскливо.
— Я устаю очень, — продолжала Климонтова, — сообщение, как правило, неудобное, да еще на лошадях трясешься и не высыпаешься, а приеду — сразу же за отчет, пока свежо все в памяти. Выпью чашку крепкого кофе и — за работу.
— Но разве на службу вам сегодня не надо?
— В отдел народного образования? Нет, что вы! После такой поездки у меня всегда свободный день. Я дома работаю. Но сегодня примусь за дела после обеда. Надо отдохнуть!
За разговором они дошли до угла, где была продовольственная лавчонка.
— Давайте выпьем кофе где-нибудь, — попросил вдруг тихим голосом Уриашевич. — Ну, пожалуйста!
Она колебалась, и тогда он привел ее же слова, сказанные полчаса назад:
— Какая разница, где пить, дома или в кафе: по времени одно и то же.
Но так как она все не могла решиться — менять планы было не в ее привычках, прибавил:
— Мне бы хотелось поговорить с вами о моих родственницах. Как они, собственно, живут?
Наконец на Замковой площади, обращенной в сплошные руины, набрели они на маленькое кафе, где было всего несколько столиков.
— Вам большую чашку или маленькую? — спросил Анджей.
— Увы, большую! Я возвращаюсь домой еле живая, — снова повторила Климонтова.
Однако усталой она не выглядела. Больше того, едва упомянула о своих поездках, как сразу посвежела: глядя на нее, можно было только позавидовать ее здоровью. Видно, тема эта живо ее интересовала. Только на миг оживление ее угасло, сразу же после прихода в кафе, когда Уриашевич, который краем уха слышал о низких окладах учителей и сравнительно высоких командировочных, безо всякой задней мысли заметил:
— Вам, наверно, много приходится ездить, чтобы подработать!
В душе она возмутилась, но не подала вида, — колкости говорить не хотелось, а оправдываться перед ним тем более. Если не понял сразу некоторых вещей, все равно, значит, не поймет. И пояснила кратко:
— Я бываю часто в командировках, потому что работы невпроворот. Особенно после амнистии, когда в школы пришла молодежь, скрывавшаяся в лесах. Главным образом в сельскохозяйственные техникумы, которые подчиняются министерству, где я работаю. Да и в самом министерстве после выборов произошли наконец перемены. Теперь поле деятельности широкое.
Анджей слушал, неподвижным взглядом уставясь на мраморную доску столика. В кафе он пригласил ее под тем предлогом, чтобы расспросить о родственницах. Но едва зашла о них речь, пожалел об этом. Климонтова выражалась осторожно. Но сквозь сочувствие к его теткам проглядывало и осуждение. Не то чтобы она была ограниченной, просто взгляд на вещи у нее был какой-то особый. Но какой, Анджей уловить не мог. Вообще он был не в состоянии разбираться в чем-либо или что-то решать. Он еще ниже опустил голову.
— Конечно, — вяло повторял он время от времени. — Ага.
— Я не раз с ними говорила, но пожилые люди посторонним не доверяют. Многое сейчас зависит от вас.
— Да, конечно.
Он боялся, что его односложные ответы наскучат ей и она уйдет, оставив его в одиночестве. И попросил ее еще что-нибудь рассказать о своих школах. Слышать о вещах посторонних все-таки легче, чем о непосредственно тебя касающихся и причиняющих боль.
— Школы! Школы! — улыбнулась Климонтова. — Это вся жизнь моя!
Она заговорила о том, как перегружены учителя и в каких трудных условиях приходится им работать, о совершенно новом типе ученика, — о людях, которые давно вышли из школьного возраста, но тем не менее снова садятся за парты, начиная с азов. О вернувшейся в школу после многолетнего перерыва молодежи, о вечерних курсах, о том, что не хватает помещений и занятия проводятся с утра до ночи, о тяге к ученью.
— Интересно, правда? — повторяла она время от времени, чтобы перевести дух.
— Интересно, — соглашался Уриашевич.
А когда она привела слова одного человека, который вернулся в школу, чтобы научиться читать и писать, и, покидая ее, сказал: «Всегда буду с благодарностью вспоминать это место, где я вновь стал себя уважать», — Уриашевич почувствовал, что у него сердце стало оттаивать, чего он в последнее время всячески избегал.
— А много уже этих сельскохозяйственных школ? — спросил он. — Таких, которые вы инспектируете?
— В Варшавском воеводстве — тридцать. Квалифицированных же учителей едва на десять наберется, наглядных пособий, учебников, пригодных помещений — с грехом пополам на пять школ. А желающих учиться — на все триста.
— И когда же сеть этих школ будет полностью укомплектована?
— Через четыре года.
— А на сколько их теперь больше, чем до войны?
— В нашем воеводстве — на одиннадцать.
— А через четыре года их триста должно быть?
— Через четыре года будет триста.
— Уровень преподавания — высокий?
— Как где. — Она долгим отсутствующим взглядом посмотрела на Уриашевича и, словно его вопрос всколыхнул то, что ее мучило, стала размышлять вслух: — Иногда приходится одну школу обделять за счет другой, которая сумеет этой помощью лучше воспользоваться. Но, с другой стороны, ставить отдельные школы в привилегированное положение тоже не годится: получатся оазисы в пустыне.
«Так оно и есть», — подумал Анджей.
Он встал. Но расстались они не сразу. Выпитый кофе сил не прибавил, а сон прогнал: Климонтова знала, что не заснет теперь. И пошла куда глаза глядят.
— Вы не домой?
— Хочу немного пройтись!
Они направились в одну сторону — к центру, по спаленному, разрушенному Краковскому Предместью с сохранившимися кое-где фасадами. Уцелели, и то не полностью, примерно один из десяти. Там и сям возвышались леса, возле предназначенных на слом домов суетились люди. Одни, стоя высоко, под самым небом, скидывали вниз кирпичи, другие сортировали их, третьи с криками: «Раз-два, взяли! Еще взяли!», валили полуразрушенные стены, натруженными руками вцепясь в натянутый, как струна, канат. Грохот обвалов, стук падающих кирпичей заглушали слова, которыми обменивались Уриашевич с Климонтовой. Свернув на Ординацкую, они по улице Фоксаль вышли на Новый Свет. Повсюду — внизу, наверху, под самыми облаками — кипела работа.
— Смотрите! — то и дело останавливалась и восторженно восклицала Климонтова: — Какой размах!
После очередного такого восклицания он присмотрелся внимательней и увидел небольшую кучку людей. Устремил взгляд налево — то же самое.
— Людей вот только кот наплакал!
— Где?
— Да тут, например!
— А вы помножьте их на тысячу таких мест, где сейчас идет работа в Варшаве, — терпеливо объясняла она.
Тогда, не долго думая, он повторил слышанное от Хазы и от тетушек:
— У меня такое впечатление, что ремонтируют и приводят в порядок магазины и дома в основном в центре и если это не требует больших затрат. И на этом поставят точку!
— А Новый Свет? — с раздражением спросила она. — Посмотрите, что от него осталось, а по плану он через три года будет восстановлен.
— А что еще? — спросил Уриашевич.
И, словно принимая за чистую монету этот вопрос, заданный издевательским тоном, она сказала серьезно:
— И много еще чего! Пойдемте-ка! Увидите сами.
И они пошли, посмотрели, где будет стоять здание министерства промышленности и торговли, где построят железнодорожный мост, виадук, тоннель, Силезский мост; осмотрели, наконец, кварталы, по которым пройдет большая уличная магистраль — она пересечет Замковую площадь и устремится дальше. Энтузиазм Климонтовой был ему непонятен. Не было ни мостов, ни зданий, ни магистралей, на площади Трех Крестов еще только нивелировали местность, на месте будущих мостов и тоннеля вообще ничего не происходило, а кучки людей за костелом святой Анны казались такими жалкими на фоне каменной громады: остатков Замка.
— Через два года! Через год! — называла Климонтова сроки. — Магистраль будет готова к июню сорок девятого.
— И вы верите, что все это будет? И так скоро?
— Вера тут ни при чем, я просто знаю и вижу. Это тем, кому не суждено было дожить и своими глазами увидеть, какие силы таятся в народе и какие у нас возможности, — это им ничего другого не оставалось, как только верить и надеяться. Ну а я…
— Там, откуда я приехал, — перебил ее Уриашевич, — располагают гораздо большими возможностями и опытом. И там, в Англии или во Франции, вам сразу бы сказали: «Это нереально!»
— Вот видите! — воскликнула она. — Потому что сначала условия должны коренным образом измениться. — Она внезапно погрустнела и повторила: — Это не вопрос веры. Вера осталась уделом тех, кто, как мой отец, не дожил, или кто дожил, но кому не суждено было этого увидеть. Зато мы…
Он вспомнил фотографию на полке; фотографию молодого мужчины, сделанную сравнительно недавно, — значит, не отца. И промолчал. Впрочем, продолжать разговор было бесполезно. Все поворачивала она по-своему. Если он пытался оспорить что-нибудь, ссылалась в доказательство на стройки, которые только еще предполагалось начать, говоря о них, как о чем-то безусловном и чуть ли не завершенном. Разговор возвращался к исходному пункту. И Анджей решил, что спорить с ней не стоит.
Но когда они шли вдоль Вислы по набережной Костюшко и у Беднарской улицы им преградила дорогу толпа, все-таки не выдержал.
Это армия передавала в дар городу только что сооруженный понтонный мост. Кто-то произнес речь, потом был парад саперных катеров, — описывая круг перед трибуной, они проплывали мимо по реке. Контраст между действительностью — этим вот деревянным мостом — и магистралями, зданиями, металлическими конструкциями, существовавшими в воображении Климонтовой, был настолько разителен, что Анджей не вытерпел и указал на мост.
— Вот они, ваши миражи!
Они двинулись дальше, переговариваясь все реже, и наконец круг их утренней прогулки замкнулся на задворках бывшей фабрики Левартов. С соседнего пустыря на подводах вывозили битый кирпич, обломки. Вдоль тротуара, напрягшись так, что спина выгнулась, лошадь тащила в гору по выбитой мостовой телегу. Они остановились.
— Смотрю я на такую вот лошадь, — проговорила Климонтова, — и думаю: она лучше понимает, что происходит в городе и в стране, чем некоторые люди.
Уриашевич слегка покраснел. Внезапно ему захотелось рассказать ей о себе. И хотя она оскорбила его и постоянно рассуждала о вещах далеких ему и чуждых: о вере, убежденности — своей, своего отца и прочих, — он заговорил о себе, не очень понимая, почему в присутствии этой чужой девушки, которая ему совсем не нравилась, у него развязался язык.
Благодаря ей начал он свой рассказ. И прервал его из-за нее же, из-за невзначай оброненного ею замечания. Когда, прохаживаясь по двору разрушенной фабрики и бессвязно вспоминая о доме, семье, Левартах, он сказал, что немцы перед тем, как взорвать фабрику, вывезли оборудование, Климонтова удивилась:
— Немцы? А не дирекция?
— Что вы! Моего отца тогда уже не было в живых, дядя сидел в лагере, а третий директор, Кензель, погиб во время восстания. А почему вы думаете, что это сделали не немцы?
Когда она стала объяснять, он почувствовал, что бледнеет.
— Один рабочий говорил, который здесь раньше работал и присутствовал при демонтаже фабрики. Как-то я выносила мусорное ведро, он мимо проходил, остановился и спросил, кто в дворницкой живет, а потом рассказал, что приезжал сюда со своим директором сразу же после капитуляции, до того, как фабрику взорвали.
— С каким директором? — срывающимся голосом спросил Уриашевич.
Она посмотрела на него растерянно.
— А как выглядел этот директор, он случайно не сказал? — с мольбой протянул к ней руки Анджей. — Не описывал его наружности?
— Кажется, нет. Хотя постойте! Он сказал, что был сильный мороз и больше всех замерз директор — «тощий такой верзила».
Кензель! Ведь он же худой и высокий. Выходит, он был жив. А если жив, то именно он и взял картину из тайника. Но куда она девалась потом? Немцы забрали? Тогда — едва ли. Он слышал, что немцы после капитуляции Варшавы, вывозя все станки, все товары, прибегали при этом к помощи бывших владельцев, членов правления, директоров, позволяя им в награду за услуги брать личные вещи, даже мебель, меха, ковры, — их интересовали только сырье да машины. Итак, если немцы не отняли у Кензеля картину, куда он ее девал? Почему после освобождения не дал о себе знать ни дяде, ни теткам? Понимал же он, что рано или поздно Леварты свяжутся с ними. Почему не подавал никаких признаков жизни? Если же он умер, то произошло это значительно позже, чем все предполагали. И вообще, если неизвестно время его смерти, может, и сама она еще не факт? Живет себе где-нибудь и бережет картину честный, душой и телом преданный Левартам старик.
— Ну, мне пора! — протянула ему руку Климонтова.
Он ничего не в силах был ей сказать на прощанье. Так молча и расстался и побрел к дому Хазы.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
— Мама, так продолжаться не может! — крикнула Ванда.
Сестры в растерянности стояли у постели. Пять дней назад ксендз Завичинский, не сдержав слова, проболтался матери о приезде Иоанны, которую та не видела больше двадцати лет, с тех пор как она убежала из дома. И мать знает обо всем, но молчит! Ни намеки, ни наводящие вопросы не помогали: мать делала вид, что не понимает. О чем уж она там думает — неизвестно.
— Мама, с тобой иногда так трудно! — нервно восклицает Тося.
Об Иоанне никогда в доме не говорили. Только о Париже, городе, где она жила, расспрашивала мать после войны. Но когда Анджей, встретив там Иоанну, сообщил, что она жива, пани Уриашевич опять словно забыла о дочери.
— Ты все время думаешь о ней! Мы чувствуем это!
Мать не возражала.
— Зачем ты это делаешь? — Ванде больших усилий стоило заговорить об этом прямо. — Она испортила нам с Тосей жизнь. После скандальной истории с нею и нас, сестер, стали сторониться, а когда в обществе об этом забыли, нам уже поздно было замуж выходить. Мы никогда ей этого не простим!
— Зачем так говорить! — перебила Тося сестру. — Конечно, жизнь наша могла бы сложиться иначе, но зато мы остались с мамой. Разве это не самое главное? Да, мужей, сыновей, дочерей у нас нет, зато есть мать. Иоанне мы не простим, что она маме причинила горе. Когда она убежала из дома, ведь ты, мама, после того, первого, приступа чуть не умерла. И до сегодняшнего дня так и не оправилась.
Мать избегала их взглядов. И смотрела то на цветную фотографию брата, то в окно.
— Может, она там разбогатела, — цедила сквозь зубы Ванда, — а мы до крайней нищеты дошли. Ну и что? Не станем же мы у нее милостыню просить?
При этих словах ее даже передернуло. Ванда непрерывно думала о сестре, хотя и упрекала за это мать. О прежней, красивой Иоанне, хорошо одетой, у которой она, Ванда, такая, какой стала теперь, просит помощи для матери. Подобные видения были сущей пыткой для нее.
— Был у нее ребенок, — она его погубила. Мужчин меняла без конца. В свое удовольствие жила. Стыдно в глаза было смотреть всем приезжавшим из Парижа, — столько позорных историй рассказывали про нее. Могла бы после всего, что было, хоть святую-то Иоанну не танцевать. Да, впрочем, что говорить, ты сама прекрасно знаешь.
Тося поджала губы, желая прекратить этот разговор, но Ванде надо было услышать мнение матери.
— Мы с Тосей считаем, что ее приезд ничего не меняет. Но у тебя, мама, на этот счет, кажется, иное мнение? — повысила она голос.
— Разве я что-нибудь сказала? — прошептала старуха и откинулась на подушки, закрыв руками лицо.
Дочери отошли от кровати. Тося направилась к плите и взяла ведро для угля.
— Оставь! — потянулась за ведром старшая сестра. — Я сама принесу, тебе нельзя тяжести поднимать.
Но младшая не отдавала.
— Посмотри на свои руки, — возразила она. — Они у тебя все в ссадинах из-за того, что ты уголь колешь и таскаешь тяжести. Я больше не позволю тебе ходить в подвал.
На лицах их не было улыбки; они тревожились друг за друга, злились на себя за разговор с матерью, нервничали из-за создавшегося положения. Ванда глазами показала Тосе на дверь, и они выскользнули в коридор.
— Может, уступить? — деревянным голосом спросила Ванда. Опыт последних дней убеждал их, что они преувеличивают. Но при одной мысли, что сюда может прийти Иоанна, все в них против этого восставало, и они решили не пускать ее, сославшись на здоровье матери.
— Это просто каприз! — сказала Тося. — Завтра передумает.
Ванда задумалась, а потом спросила:
— У тебя тоже такое впечатление, что она этого хочет?
— Лучше уж ей сказать про Анджея! — вместо ответа предложила Тося. — Смотри, как она приняла известие об Иоанне. Мы, боясь за ее здоровье, никогда бы ей не решились этого сказать. А она ничего, выдержала.
— Хорошо, — подумав, согласилась Ванда, — скажи ей про Анджея. Скажи, будто я слышала, что он скоро приедет, но я, мол, известный скептик, ни во что не верю, а тебе сердце подсказывает, что на этот раз сбудется.
Они спустились в подвал. Тося наложила в ведро угля, набрала картошки. Ванда отнесла все наверх и поставила около плиты. Потом стала собираться в город: приготовила рюкзак и, насовав туда банок и жестяных коробок, присела на минутку к окну, проверяя по записной книжке, куда надо пойти.
— Ты будешь сегодня у тех поляков из американской миссии? — спросила Тося.
— Да, я записана на двадцатое.
— Ни о чем для меня не проси. Ты знаешь, что я имею в виду. Не надо!
От американской Полонии они получили уже много белья, продуктов, лекарств. Но сейчас Тося имела в виду другое: искусственные зубы, которые за счет той же миссии вставили Ванде.
— А как же я? — воскликнула Ванда и, раздвинув губы, продемонстрировала два ряда белоснежных зубов. — Это несправедливо!
— Ты — другое дело, — проговорила Тося, не разжимая рта, чтобы не видно было щербин. — Мы тем только и живем, что ты добываешь в городе. У тебя должен быть приличный вид, иначе от тебя будут отделываться жалкими подачками. А я дома и без зубов обойдусь. Пока дают, постарайся выпросить у них побольше дорогих лекарств для мамы.
С этими словами она отвернулась к плите, собираясь заняться готовкой. Но молчание длилось недолго; рассыпав по полу картошку, она сказала в сердцах:
— Что такое! Какая я нескладная! — И, подбирая картошку, пробормотала в свое оправдание: — Все сегодня из рук валится. И не удивительно.
* * *
Анджея Ванда не застала — вообще у Хазы никого дома не оказалось. Тяжело дыша — пришлось подниматься на пятый этаж, — Ванда вырвала листок из записной книжки и, приложив к двери, написала Анджею, чтобы приходил завтра. Кончив, вспомнила про утреннее послание Анджея о том, что он не нашел картины. На их жизнь — ее, сестры и матери — исчезновение «Пира» никак не влияло, но для Анджея это был удар. Надо выразить ему сочувствие: искренне, сердечно, но чтобы посторонний, прочтя записку в двери, не догадался ни о чем. В конце концов она нацарапала что-то на бумажке, сопровождая каждую букву звоном банок и жестянок в мокром от дождя рюкзаке.
Оттуда направилась она к сестрам-грегорианкам. В бывшем доме ксендза, где монахини нашли приют после того, как лишились монастыря и костела, поселился и один из варшавских викариев. Он жил внизу, в задних комнатах за приходской канцелярией. А монахини — на втором этаже дома, куда набилось еще множество разных католических организаций и учреждений, которые Ванда частенько посещала. Во дворе Ванда остановилась, поправила рюкзак, чтобы оттянуть время. Потом вошла в подъезд и, тщательно вытерев ноги, позвонила три раза.
— Слава Иисусу Христу! — приветствовала она монахиню, открывшую ей дверь. — Какая у вас чистота всегда! Не нарадуешься просто.
И остановилась на пороге.
— Проходите, пожалуйста! Проходите! — приглашала ее монашенка, молоденькая, розовощекая, с чуть приметным горбиком. И чепец, и головная повязка, и подкладка у покрывала — все было на ней белоснежное, накрахмаленное. — Сюда пожалуйте, на диванчик.
Комната была перегорожена ширмой, за ней стояли кровати, перед ней в некотором отдалении от двери — диванчик, у окна — стол и лавки.
— Вот и весь наш монастырь! — обвела монашенка комнату рукой.
— Тут и спальня, и трапезная, и приемная! — в тон ей прибавила Ванда.
С этими словами обе улыбнулись. Ванда с грустью, монашка — с христианским смирением. Они уже не раз обменивались улыбками, но у Ванды получалось искусней: она-то всем улыбалась одинаково, а монашкам приходилось приноравливаться к каждому.
— Сейчас позову настоятельницу! Присядьте хоть на стульчик!
Ванда взяла стул у нее из рук и поставила возле двери. Пол в комнате, заменявшей целый монастырь, блестел, как зеркало. И кто хотел завоевать расположение монашек, тот в глубь комнаты, к диванчику, проходил, только если на дворе было сухо. А не в такую мокрядь, как сегодня. Ванда никогда об этом не забывала.
К сожалению, настоятельница не сможет выйти и просит извинить ее, передала все та же монашка. Она статую богоматери в порядок приводит — подарок для их часовни.
— У нас, кроме этой комнаты, еще каморка есть — келья настоятельницы и часовенка в бывшей ванной.
Ванда заявила не без гордости, что знает. И поинтересовалась из вежливости, откуда статуя. Оказалось, кто-то привез с Западных земель.
— Для нас это большая радость! — призналась монашенка. — Видите, как тут пусто и голо!
В самом деле, на стенах комнаты, служившей одновременно монастырской приемной, спальней и трапезной, почти ничего не было. Взгляды гостьи и хозяйки невольно устремились в одном направлении — на портрет ксендза Крупоцкого, написанный маслом. Крупоцкий, которого позже увенчала митра викарного епископа, начинал свою духовную карьеру скромным капелланом в монастыре сестер-грегорианок.
— Прекрасный портрет! — прошептала Ванда. — Какое счастье, что он уцелел!
— Жаль, что самого епископа нет в живых, — ответила монашенка. — Слишком рано ушел он от нас!
Затем, как наказывала настоятельница, осведомилась о здоровье пани Уриашевич и помогла Ванде развязать рюкзак. Пустые банки и мешочки были заменены полными.
— Настоятельница посылает вам тут всякую всячину. Она каждый раз говорит: пока в Польше существует костел, сестра давнего пастыря нашего не должна голодать.
Приношения наполнили рюкзак до половины.
— А вот тут большая редкость — рис! Это для немногих только, тех, кто нам особенно дорог.
— В последний раз вы насчет белья говорили…
Но белья опять не было. И лекарств тоже.
— Лекарств вообще не обещаю, — сказала на прощанье монашка. — А за бельем зайдите в следующий четверг, найдем что-нибудь, — повторила она, как обычно.
На нижней площадке Ванда остановилась, заглянула в мешочек с рисом.
— И правда рис! — обрадовалась она, пересыпая в руке крупные, гладкие, точно из матового стекла, зерна. — Наверно, китайский, настоящий!
Во дворе она замешкалась, делая вид, будто поправляет лямки у рюкзака. На этот раз в окошко выглянул капеллан викария и крикнул:
— Его преосвященство желает знать, как здоровье вашей уважаемой матушки?
В прошлый четверг викарий такого желания не выразил и в позапрошлый тоже, но она не могла поручиться, сидел ли он тогда за столом у окна, следя, как обычно, за всеми проходящими.
Ванда попросила поблагодарить викария за внимание и успокоенная вышла на улицу.
— А я-то боялась, что слишком часто прихожу сюда.
И вздохнула с облегчением.
* * *
В американской Полонии Ванду принял директор, которого она не знала. Представительство занимало апартаменты в «Бристоле». Директор, седой полный мужчина, недавно приехавший в Польшу, предложил Ванде сесть в кресло, а сам с трубкой во рту расположился за столом и окутался клубами табачного дыма.
— Да, да! — перебил он, поняв, кто она, и сразу переходя к делу. — Я получил письмо из курии. Чем я могу помочь сестре светлой памяти епископа Крупоцкого?
Ванда изложила свою просьбу. Советом сестры она пренебрегла.
— Гм! — задумался директор. — Это большой расход! — Он выдвинул ящик стола, вынул какую-то бумажку и, все еще колеблясь, протянул Ванде. — Вот тут в соответствующих графах напишите, пожалуйста, о чем вы просите, для кого, по какой причине, поставьте дату, сообщите биографические сведения и так далее. И распишитесь.
Он пробежал глазами заполненный Вандой бланк.
— Вы для матери просите?
— Для матери.
— Значит, вы — дочь? Ваш заработок? Профессия?
— Я ухаживаю за матерью.
— А до войны?
Ванда, поколебавшись, ответила:
— Жила у брата.
Директор вышел в соседнюю комнату и немного погодя вернулся с кислой миной.
— Небольшое недоразумение, — сообщил он. — Сестра епископа уже получала у нас искусственные зубы.
— Это для меня! — Ванда покраснела до корней волос и приоткрыла рот. — Мама уступила их мне, но сейчас…
Видя, что он не слушает, она замолчала. Директор взял письмо из курии по делу Уриашевич и, сдвинув брови, еще раз внимательно просмотрел его. Потом махнул рукой.
— Ну ладно!
Он придвинул к себе бланк, написал направление в зубоврачебный кабинет, который финансировало представительство, подписал, приложил печать и вручил Ванде. Но когда она уходила, лишь кивнул небрежно седой головой, не вставая, и заслонился клубом дыма.
С неприятным чувством покинула она гостиницу и побрела домой. Но всего через несколько шагов остановилась как вкопанная перед афишной тумбой. На ярко-малиновой, свежей, влажной еще афише бросилась ей в глаза фамилия Уриашевич! Лидия Тарнова извещала, что в ее школе преподает Иоанна Дюрсен-Уриашевич, знаменитая исполнительница роли Жанны д’Арк в получившем всемирную известность балете Ральфа Кавальканти. Закусив губы и молча негодуя, Ванда медленно, осторожно, чтобы не порвать, стала сдирать афишу.
— Вы что делаете?
Она обернулась. Сзади стоял милиционер. Дрожа от страха и унижения, что оправдываться приходится именно таким образом, Ванда заговорила:
— Эта женщина, — она показала на афишу, — моя сестра. — Я хочу отнести афишу старушке матери.
Он взял у нее афишу. Внимательно посмотрел, прочел и рассудил так:
— В этой школе и надо было попросить, вам бы дали. А не срывать то, что наклеено не для вас одной. Как это можно!
— В школе я была! — солгала Ванда. — У них нет!
И вынув из сумочки паспорт, протянула милиционеру: пусть убедится, что фамилия у нее та же. В конце концов он отпустил ее и даже афишу отдал. Она показала ее дома, уже не стараясь сдерживаться.
— Вот, смотри! — негодовала она, разворачивая под носом у сестры свою добычу. — Опять взялась за свое!
Этот инцидент окончательно вывел ее из равновесия.
— Прочла? — повысила она голос. — Теперь маме прочти!
И, не дожидаясь, пока Тося кончит, вырвала лист у нее из рук, скомкала и швырнула в плиту.
— Не надо! Что вы делаете! — раздался стонущий голос матери.
Но было поздно, афиша вспыхнула и сгорела. У матери на глазах занялась она огнем и мигом обратилась в пепел.
Сестры подбежали к постели матери, опустились на колени.
— Ты плачешь? — вскричали они испуганно.
Но глаза у старухи, все в красных прожилках, были сухи.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Хаза после непривычно сытного обеда растянулся на тахте и, положив ноги на служившую изголовьем тумбочку, стал вслух размышлять о неожиданном открытии Анджея после разговора с Климонтовой.
— Ну что ж, вполне возможно, — рассудил он. — Сейчас сплошь да рядом в живых оказываются те, кого уже считали мертвецами. Смотайся-ка ты лучше к дяде, он все тебе расскажет.
Анджей по приезде навестил дядю. Тот принял его любезно, угостил чаем, но в гости заходить не приглашал. Анджей обратил внимание Хазы на это обстоятельство.
— А какая тут связь? — пожал плечами Хаза. — Ты же не в гости идешь, а по делу. Может, он просто не любит, когда у него время напрасно отнимают.
— В таком случае придется раскрыть перед ним карты. — Анджей был в нерешительности. — Невозможно ведь свести разговор только к особе Кензеля.
— На твоем месте я был бы с ним откровенен.
— Но не настолько, чтобы в мои планы насчет заграницы его посвящать.
— Это само собой. — Хаза закряхтел: он объелся. Глазки его слипались. — Сбегай к дяде, и все сразу станет на место, — сказал он в заключение. — А я малость вздремну.
План Хазы удался только наполовину. Поспать, правда, он поспал: Анджей послушался и сразу же ушел, но через час вернулся ни с чем, так как не застал дядю дома. И на другой день с утра отправился к нему на службу. Не хотелось откладывать, раз уж он решил последовать совету Хазы.
Дядя работал в «Польхиме» — большом государственном экспортно-импортном объединении, которое было создано главным образом для обслуживания национализированной химической промышленности, но иногда имело дело и с довоенными предпринимателями, используя их прочные деловые связи. На вопрос Анджея, можно ли видеть Уриашевича, секретарша ответила, что он на совещании.
— Подождите! — бросила она коротко.
Непонятно, то ли это приказ, то ли предложение. Впрочем, ей было не до него. Едва вставив в машинку чистый лист, она уже печатала где-то внизу, потом ловким взмахом перевернула страничку — раз, два, и письмо готово. Вынимая его, она одновременно отдала распоряжение курьеру:
— Срочно отнесите на подпись к генеральному директору и сразу же возвращайтесь обратно — будет еще письмо.
Когда и третье письмо было готово, секретарша на минутку остановилась, чтобы перевести дух, и бросила взгляд на Анджея. А он словно прирос к полу, ошеломленный всем этим и растерянный.
— Ждите в коридоре! — распорядилась она.
В дверях он столкнулся с другой служащей. До его слуха донесся короткий диалог.
— Ты чего такая загнанная? Уриашевич твой тоже уезжает?
— Нет. — Он узнал по голосу секретаршу. — Генеральный директор один летит.
— В Швецию только или еще куда-нибудь?
— Нет, только в Швецию.
— Тоже неплохо! Я просто с ума схожу, как подумаю, что такой вот тип летает себе туда-сюда целый год, а ты, как пришитая, на месте сидишь.
— А я схожу с ума, как подумаю, что он уедет и вся корреспонденция останется неподписанной.
И снова пальцы застучали по клавишам. Затем послышался треск энергично повернутого валика. Еще одно письмо готово.
— Был бы наш директор хоть немного на Уриашевича похож, — сказала секретарша со вздохом. — Этот никогда с работы не уйдет, пока всего не сделает, всех писем не прочтет, посетителей не примет. Тогда и не было бы такой спешки. А тот, едва часы начнут бить три, сразу в дверь и с третьим ударом уже в машине сидит. Отъезд, не отъезд — ему все нипочем.
— А по мне уж лучше он, чем Уриашевич этот. Придет всегда, наклонится вот так и зырк, зырк одним своим глазом змеиным по столу. Тьфу!
Из этого разговора Анджей понял только, что пришел не вовремя. Поэтому, войдя в комнату, сказал секретарше:
— Кажется, сегодня не имеет смысла ждать? Лучше я завтра зайду.
— А что передать пану директору?
— Скажите, что заходил его племянник, Анджей Уриашевич. И что я буду у него завтра.
Наступило неловкое молчание. Женщины поняли, что он все слышал. Первой нашлась секретарша:
— Директор с минуты на минуту должен вернуться.
Анджей машинально глянул на часы, словно не зная, на что решиться.
— Пройдите, пожалуйста, в кабинет.
Любезностью она хотела сгладить неприятное впечатление и, покончив с этим, поскорей вернуться к работе.
— В таком случае, — решил наконец Анджей, — я, пожалуй, немного подожду.
Он закрыл за собой дверь с толстой обивкой, прошелся по комнате, рассеянным взглядом скользнул по висевшей на стене карте, усеянной разноцветными большими и маленькими кружочками, остановился перед ней и стал читать пояснения, относящиеся к развитию химической промышленности на ближайшие три года. Сейчас это его нисколько не интересовало. Наконец облюбовал себе кресло: подальше от стола, в уголке. Сел в него и погрузился в свои мысли. Из задумчивости его вывел громкий голос дяди:
— Вот видите, коллега, а вы уже поставили крест на этом деле.
Говоря это, Уриашевич потирал руки. Приземистый, лысый мужчина, к которому он обращался, говорил в свое оправдание:
— Так ведь Америка нам отказала!
— Не только нам! И чехам, и Украине, и Белоруссии, и Венгрии тоже!
— Но согласитесь, что в этих условиях надо было похоронить мечту о производстве отечественного пенициллина.
— А я вам все время повторял: ничего в планах не меняйте, продолжайте строительство, потому что та часть оборудования, которую ЮНРРА хотела сначала предоставить нам бесплатно, а потом даже продать отказалась, найдется в конце концов.
— Но, логически рассуждая, где? Америка пускает и ход все средства, чтобы не давать лицензий на поставки нам.
— И тем не менее выход из безвыходного положения нашелся.
Возвращаясь с совещания, они обсуждали его результаты, — Конрад Уриашевич их предвидел, а для его собеседника они оказались полной неожиданностью. Из торопливого, отрывочного обмена мнениями Анджей прежде всего заключил, что совещание секретное.
— Простите, дядя, — сказал он, чтобы привлечь к себе внимание, — я к вам.
Дядя, который за минуту перед тем плотно прикрыл за собой дверь, прежде чем приступить к дискуссии, хотя ему явно не терпелось поскорей высказаться, оторопел от неожиданности при виде Анджея.
— Это уже переходит всякие границы! — Он повернулся спиной к племяннику и пожаловался: — Даже в собственном кабинете нельзя спокойно поговорить. Терпеть не могу, когда ко мне на службу являются с визитами!
— Я по делу.
Когда они остались вдвоем, Уриашевич сухо сказал:
— Итак, какое дело тебя привело ко мне? Я слушаю. — Но стоило Анджею произнести фамилию Кензеля, перебил: — Оставь ты Кензеля в покое! Его нет в живых! Мне это известно из достоверных источников!
Анджей стал приводить доводы, которые, на его взгляд, говорили о противном. Извлечь из тайника картину Левартов мог только тот, кому доподлинно было известно, где она спрятана. Потом рассказ инспекторши Климонтовой, жившей в одном с тетками флигеле, — о рабочем, который, по его словам, приезжал демонтировать фабрику с «высоким и худым» директором. Упомянул, наконец, случаи, когда свидетельства очевидцев чьей-либо смерти впоследствии не подтверждались.
— В войну и оккупацию наверняка погибло гораздо больше, чем мы предполагаем, — продолжал он, — но, с другой стороны, среди числившихся погибшими кое-кто и уцелел.
Начатый Анджеем разговор привел Уриашевича в еще большее раздражение, но постепенно он успокоился, не перебивал его, не отзывался ни единым словом, а когда Анджей кончил, даже некоторое время молчал, тупо уставясь на угол стола своим единственным глазом.
— Все это пустые фантазии! — заявил он наконец и нервным движением поправил черную повязку, прикрывавшую выбитый в лагере глаз. — Хочешь, дам тебе дельный совет? Устраивайся-ка на работу! Или прекрати всякие поиски и, не откладывая, возвращайся туда, откуда приехал, если это входило в твои планы.
— Но, дядя, я вовсе…
— Что, разве это не входило в твои планы? И ты хочешь меня в этом убедить? Не трудись, сделай одолжение. Верю тебе на слово. Тем более что это интересует меня не больше, чем заботы и надежды самих Левартов. А теперь, извини меня, я должен работать.
Выйдя на улицу, Анджей долго не мог прийти в себя.
«Откуда он взял?»
Намеки и догадки дяди относительно его намерений так потрясли его, что он забыл и думать о цели своего визита и о том, что ушел не солоно хлебавши. Потребовалось немало времени, чтобы опомниться и взять это в толк. Он остановился перед какой-то витриной, держась за железную поперечину перед стеклом. Постоял, постоял и пошел куда глаза глядят. К Хазе обедать — слишком рано, к тетушкам — тоже не время. Быстрым шагом прошел он от площади Унии до угла Аллеи — путь неблизкий. Это утомило его и немного успокоило. Только увидев, куда его занесло, он устыдился нелепой этой спешки. И дальше побрел не торопясь. Когда проходил мимо кафе, кто-то постучал в стекло, чтобы привлечь его внимание. Это была Иоанна.
— Здравствуй, тетя! — громко сказал он.
Вот нежданная встреча. Они привыкли разговаривать шутливо, и при виде Иоанны ему сразу стало веселей. Да к тому же он любил ее.
Она скорчила недовольную гримаску: не то рассердилась на самом деле, не то притворилась.
— Почему это мужчины считают своим долгом во всеуслышание заявлять, в каких они отношениях с женщиной, даже если эти отношения чисто родственные.
Он извинился и еще раз поцеловал ее крупную руку. Заданный ею тон рассеял его мрачные мысли. Во всяком случае, на время разговора.
— Ты сама виновата, — сказал он. — Сколько раз я в Париже говорил, что ты моя кузина, а ты брякала: нет, тетка. Подозреваю, что ты кокетничаешь своим возрастом. Однако выглядишь ты прекрасно.
— Твоя галантность и проницательность делают тебе честь, — иронически ответила она на его последние слова и, отвернув рукав жакета, показала теплее егерское белье, про которое уже говорила как-то, рассказывая о своих мытарствах во время оккупации в Париже.
— Видишь вот, опять суставы болят. Хожу, как в коконе. И чувствую себя препаскудно. Поэтому не удивляйся, если меня не забавляют шутки насчет моего возраста, а напоминания, что я уже не так молода, как прежде, выводят из себя. Особенно когда это делается при свидетелях.
— Хорошо, не буду больше публично называть тебя теткой, — проговорил Анджей.
— И наедине в этом тоже нет нужды. Кровосмесительство — это, кажется, единственное, что меня никогда не соблазняло. — Она откинула назад свои пышные золотистые волосы. — Я даже радикальное предохранительное средство изобрела против этого: подрастая, порывать с семьей. Я так и сделала. — Ненатурально засмеявшись, она переменила тему разговора. — Доволен, что вернулся? Я страшно рада! Новые, незнакомые люди — и старое, любимое занятие. А почет какой! Тебе известно, что я живу в гостинице для депутатов сейма, карточки получаю, как университетский профессор, а жалованье — генеральское? Кстати, не очень-то на него разгуляешься. Женщине в моем возрасте его, по крайней мере, не хватает. То есть женщине, которая должна уже одеваться сама.
Она рассказала, что видела помещение для будущей балетной школы, и о Венчевском. Заговорили о полковнике.
— Упорством-то он всегда отличался, — заметил Анджей, — а вот любить его не очень любили.
— Почему? — удивилась Иоанна.
— Скрытный был, принципиальный до мелочности, резкий.
— Значит, он изменился. Впрочем, есть в нем что-то такое настораживающее. Но до чего энергичный! С утра до вечера занят, всюду поспевает, сам лично за всем следит. О том, чтобы вечером его куда-нибудь вытащить, и речи быть не может. Ночь наступила, и как сквозь землю провалился. Чем он, собственно, занимается?
Анджей не имел ни малейшего представления. Он с ним после возвращения даже еще и не виделся. И вообще мало с кем встречался.
— Ты неважно выглядишь, — заметила в ответ на это Иоанна.
— Бездельничаю. Шатаюсь просто так по городу, — сказал Анджей уклончиво.
— Тогда загляни прежде всего к Венчевскому, он просил тебя зайти. Да и у меня есть для тебя кое-что.
Анджея позабавила уверенность, с какой она это сообщила.
— А что? Работа?
— Женщина! Я таких безработных, вроде тебя, насквозь вижу. Влюбиться тебе надо, тогда ты горы своротишь!
Иоанна пристально посмотрела на него, но взгляд ее выражал на этот раз не заботу о его здоровье и настроении, а нечто другое.
— Ты не совсем в моем вкусе, но я допускаю, что такие мужчины даже у взбалмошных женщин имеют некоторые шансы на успех.
— А какие мужчины в твоем вкусе? — перебил ее развеселившийся Анджей.
— Те, которые мне еще не надоели.
Вдруг она зябко повела плечами. Кто-то, выходя из кафе, забыл закрыть дверь, и на них повеяло холодом. И шутливое настроение пропало.
— А кто эта женщина? — спросил Анджей. — Ты меня заинтриговала.
Красивые глаза Иоанны загорелись.
— Красавица, молодая, очень способная и характер отвратительный, — все необходимое, чтобы тебе понравиться. Начинающая балерина. — И как бы между прочим Иоанна ядовито заметила: — Надеюсь, ты не испытываешь такого же отвращения к балету, как твои родственники? — В глазах ее вспыхнули злые огоньки. Потом она вернулась к разговору о балерине: — К тому же, хотя тебя это вряд ли может растрогать, ты ведь как-никак Уриашевич, она меня считает своим идеалом. Приходи сюда сегодня к пяти. Я ее приведу.
— В пять не могу. Может, вечером? — предложил он.
Вечером не могла она.
— Отговорись как-нибудь, — рассердилась Иоанна. — Куда это тебе вдруг приспичило?
Он сказал, что к тетушкам. Помолчав, она промолвила совсем тихо:
— Только не говори им, что я хочу тебя познакомить с балериной. Сердиться будут.
Анджей пообещал, что не скажет. И чтобы успокоить ее, брякнул:
— Я думаю, о тебе речь вообще не зайдет.
Иоанна помрачнела.
— Это верно!
Они снова стали обсуждать ее предложение. Но на ближайшие дни о встрече так и не удалось договориться. Как-то ничего не получалось.
* * *
Было еще совсем светло, когда в пять часов Анджей подошел к дворницкой, где жила бабушка. Звонить не пришлось: тетя Тося поджидала его и, увидев в окно, выбежала во двор.
— Тебе придется минутку подождать, пока Ванда оденет ее. Только помни, больше, чем полчаса, не сиди. Надо щадить ее сердце.
Она взяла его за обе руки, заглянула ласково в глаза, желая выразить ему сочувствие и как бы призывая покориться судьбе.
— Что же делать, мой мальчик! — философски сказала она со вздохом о тщете человеческих усилий и надежд. — «Пир» да «Пир», а «Пира»-то и нет!
— Прошу! — торжественно пригласила их в комнату старшая сестра.
Но перед дверью снова пришлось остановиться. Старуха вдруг потребовала, чтобы задернули занавески. Тогда Ванда совершенно машинально хотела было зажечь свет, но мать решительно запротестовала.
— Не надо! Ни к чему ему видеть, как я опухла и что глаза у меня красные, как у кролика. Пусть постепенно привыкает к тому, что я теперь развалина. Оставь комнату неосвещенной.
Но когда Анджей вошел, попросила его сесть ближе, чтобы разглядеть получше. Он послушно сел. И вмиг забыл, что неделю назад уже видел ее — дряхлую, погруженную в старческий сон. Забыл и о том, какими ужасными, неподобающими показались ему условия, в которых она живет. Сейчас это отступило на задний план, и все было, как прежде.
— Ну-ка, покажись! Встань! Пройдись по комнате! — оживилась она.
Он встал, сделал несколько шагов, но она, спохватясь, его остановила.
— Ладно, перестань. Сколько времени прошло, ты столько пережил, испытал, а я тебя вертеться да прохаживаться заставляю, как прежде, когда ты ко мне в новом костюмчике являлся. Это уже не то!
Она расспрашивала, он отвечал. Слова шли сами. Ни с кем не говорилось ему так легко, как с бабушкой. Может, многолетняя привычка сказывалась или то, что она всегда разговаривала с ним, как со взрослым. Полчаса пролетело незаметно. Он склонился к ее рукам, подставил лоб для поцелуя. Она прижала к себе его голову, и он услышал шепот:
— Пусть она передаст что-нибудь через тебя. Хочется иметь от нее на память что-нибудь, но сама пусть не приходит.
Она бросила взгляд на дочек. Анджей глазами машинально последовал за ней: оба проверяли одно и то же. Ванда с Тосей стояли достаточно далеко.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Радуясь за Анджея, но прежде всего гордясь собой, Хаза с нетерпением поджидал приятеля.
— Кензель нашелся! Помнишь Нацевича? Так вот он виделся с ним. Поздравляю. Мне спасибо скажи!
Доцент Нацевич был до войны лаборантом в университете на кафедре неорганической химии и, получая там мизерное жалованье, подрабатывал на фабрике Левартов.
— Он с ним виделся два не то три месяца назад, — хвастался Хаза своей осведомленностью. — Вот его адрес, держи!
И жестом победителя швырнул бумажным шариком в Анджея, — дурачась, он скомкал бумажку, где был записан адрес. Анджей расправил ее, прочел раз, другой и разочарованно протянул:
— Так это адрес Нацевича?
Он был недоволен, что не получил сразу адрес Кензеля, но тут же устыдился. Отказываться от победных лавров Хаза, однако, не собирался.
— Никакого нюха у тебя на такие дела, вот что! — парировал он. — Я давно уже понял, что ты допускаешь ошибку: нельзя искать так близко, на поверхности. Я в таких случаях всегда говорю товарищам: не шарьте у себя под носом, ищите подальше! Ты вот к тетушкам да дядюшкам без толку ходил, а я прикинул, сообразил и — к Нацевичу двинул. И вот, пожалуйста! Хотя, конечно, я и везучий еще!
Но, видно, везенье Хазы на других не распространялось. Когда на другой день Анджей пришел к Нацевичу и сослался на разговор с приятелем, доцент поспешил внести поправку:
— Я сказал, что «видел» директора Кензеля, а «не виделся» с ним. Видел из окна вагона, как он газеты покупал в станционном киоске.
Но самое ужасное, что доцент не мог вспомнить названия станции. С уверенностью мог он только утверждать: она на линии Варшава — Познань. Подумав немного, он прибавил неуверенно:
— И, кажется, ближе к Варшаве.
— Ближе к Варшаве, чем к Познани?
— Пожалуй, да.
Но доцент на своей гипотезе не настаивал.
Он просто ехал на поезде, выглянул в окно и возле киоска увидел Кензеля. Тут поезд тронулся. Вот и все.
— А это наверняка был директор Кензель?
— Несомненно!
Несмотря на это утверждение, Уриашевич разочарованный, даже подавленный вышел от доцента. Тот факт, что наконец-то он встретил человека, который своими глазами видел Кензеля, не воодушевил его. Что Кензель жив, он не сомневался. Но от Нацевича надеялся получить сведения, которые пролили бы свет на все это дело. И вот был обманут в своих ожиданиях, как и вчера, когда Хаза громогласно заявил, что нашел Кензеля. Анджей начинал уже терять терпение. Особенно выводила его из себя мысль о неуловимом Кензеле, который объявился вдруг неведомо на какой станции.
«Это насмешка судьбы!» — направляясь домой, твердил про себя злой и раздосадованный Анджей. Время от времени вынимал он из кармана групповой снимок фабричных служащих, среди которых был Кензель, — ему подарил его Нацевич и, перед тем как отдать, взглянул пристально на исчезнувшего директора и уже тверже повторил: да, тот, на станции, несомненно, был Кензель. «Ну и что? — вздыхал Анджей. — Практически это мне ничего не дает!»
А ведь ничего более определенного ему не удалось узнать с тех пор, как он в Варшаве! В следующие три дня он обошел всех, кто хоть что-то мог знать и помочь ему разгадать тайну Кензеля. Побывал у дальних родственников Станислава Леварта, у директоров и владельцев фирм, которых связывали с фабрикой деловые отношения. Все единодушно повторяли известную Анджею версию, будто Кензель погиб. Но при каких обстоятельствах он скончался, никто не знал. Мертвым его тоже никто не видел; все припоминали только, что слышали об этом сразу после восстания. Но разве мало тогда ходило слухов, которые потом не подтвердились.
С близким к отчаянию чувством возвращался Анджей домой после таких визитов. И причиной была не бесполезность расспросов, а то, что приходилось попутно выслушивать. Знакомые принимали его радушно, как человека, недавно вернувшегося из-за границы, заметно оживлялись, когда он приходил. Но стоило заговорить о тамошней жизни, как его перебивали, будто лучше него были осведомлены. А при упоминании, что во Франции или Англии не хватает того или другого, переводили разговор на условия жизни здесь, в стране. И на все лады повторяли одно и то же: на руководящих постах подонки, невинные люди в тюрьмах, объявленная недавно амнистия — фикция, а легализоваться — значит, самому в ловушку лезть. Эти разговоры выбивали Анджея из колеи. Он понимал: надо вырваться из замкнутого круга, понять, как обстоит дело в действительности. Но как раз этого он и боялся больше всего. Ему не хотелось ничего знать, не хотелось принимать решений. Единственным его желанием было как можно скорее раздобыть то, за чем он приехал, выколотить обещанную ему сумму и найти местечко, где можно наслаждаться тишиной и покоем.
Жил он по-прежнему у Хазы. У него и спал и столовался. С той только разницей, что спал теперь не на роскошной тахте, которую Хаза уступил ему в порыве великодушия, а на полу на матрацах. Анджей сам настоял на этом. И деньги в долг по-прежнему брал он у Хазы. В первый раз взял, не испытывая неловкости, будучи уверен, что скоро отдаст, но уверенность эта постепенно ослабевала, и хотя кров и стол ему были обеспечены, в городе, само собой, без денег было трудно обойтись. Хаза давал взаймы безотказно, был все так же гостеприимен, но с каждым днем все меньше им интересовался. Все это, вместе взятое, действовало на Анджея угнетающе. Он больше не думал о будущем, о загранице, о том, как переправить картину, его занимало только одно: разыскать «Пир». Он не ожидал, когда брался за дело, что натолкнется на такие трудности. И нервы начинали сдавать. Трудно было даже подумать о новых мытарствах, на которые придется добровольно обречь себя, если картина найдется. И постепенно он расстался с мыслью об отъезде. И как-то даже обмолвился об этом Хазе.
— Наверно, я здесь останусь, — сказал он. — Только бы картина нашлась, а продать можно и тут.
— А Леварт согласится?
— Ему ничего другого не останется. Впрочем, мы предвидели и такую возможность.
Хаза прищурил свои маленькие, близко посаженные глазки и, полагая, что отгадал психологические мотивы, побудившие Анджея принять такое решение, спросил насмешливо:
— Что, поклялся остаться в народной Польше, если «Пир» отыщется? Где и кому дал ты клятвенное обещание, признавайся? — И прибавил, похлопав его по плечу: — Неужто в костеле? Святые небось животики со смеху надорвали. Забавный ты тип!
* * *
— Анджей! Посылочка для мамы со вчерашнего дня тебя дожидается. Разве так можно!
Анджей поднял опущенные глаза. Он возвращался со своего очередного — но на сей раз уж окончательно и бесповоротно последнего — визита. С Иоанной с той встречи в кафе они больше не виделись. Забежав к ней после разговора с бабушкой и не застав дома, он написал записку, предлагая оставить пакет у портье, но не пришел за ним. И вот на площади Трех Крестов столкнулся нос к носу с возмущенной Иоанной.
— Разве так можно! Ведь это же срочно!
— Я шел как раз к тебе, — сказал Анджей.
Она взглянула недоверчиво.
— Стоит встретить мужчину на улице, и он обязательно скажет: «А я как раз к тебе», — но дома его никогда почему-то не дождешься! — Выговорившись, она немного смягчилась: — Ну, не буду тебя задерживать. Беги и сегодня же маме передай!
Сейчас это было бы рискованно. Для такого деликатного дела самым подходящим временем было утро, когда Ванда уходила по делам, а Тося возилась у плиты.
— Завтра обязательно!
— Как, только завтра?
Теперь у Иоанны не было сомнений, что Анджей шел не к ней, но раз он уверяет в обратном, надо поймать его на слове. Она тяжело оперлась на его руку.
— Не бойся, я не заигрываю с тобой и на добродетель твою не посягаю, просто плохо себя чувствую. Проводи меня!
И, выпрямясь, с высоко поднятой головой, откидывая время от времени назад свои пушистые золотистые волосы, она решительно двинулась вперед. Только шла она, пожалуй, медленней обычного, и походка у нее была не такая упругая.
— Все Париж дает себя знать: оккупация, нехватка угля, болезнь! И так некстати!
Самое правильное сейчас — это вернуться домой и лечь в постель, она сама признавала, но едва Анджей стал ее уговаривать, сразу рассердилась. Сегодня в школе Тарновой — итоговый концерт, а потом молодежь пойдет с преподавателями в ресторан: отказываться от этого она тоже не собиралась.
— Но ведь ты не обязана туда идти! — воскликнул Анджей, узнав, почему она больная вышла из дома.
— Конечно, не обязана! Никакие обязанности не вытащили бы меня сегодня из постели. Просто мне это доставляет удовольствие.
Он чувствовал, что ей нездоровится. Она шла, тяжело опираясь на его руку.
— Неужели тебе доставляют удовольствие такие вещи, как концерт, посещение ресторана вместе со школой? — удивился он. — А может, ты не для удовольствия идешь, а потому, что вокруг тебя будут увиваться? Ты ведь звезда!
— Угадал, именно поэтому! — сухо ответила Иоанна.
Недостатки у артистов, если открыто в них признаваться, перерастают в нечто достойное уважения. Так, по крайней мере, считала Иоанна.
— Тебе что, в Париже не хватало почестей? — не унимался Анджей. — За столько лет!
С такой постановкой вопроса она, в свой черед, была не согласна.
— Конечно, хватало! Но не в последние годы!
Перед домом, первый этаж которого занимало училище Тарновой, Иоанна вспомнила, что хотела познакомить Анджея с юной балериной. Нельзя было упускать случай. Балерина участвует в концерте. А потом наверняка пойдет со всеми в ресторан.
— Только принимайся за дело поэнергичней! Вокруг нее всегда целый рой!
Небольшой зал, куда они вошли, был набит битком. На сцене стояло пианино, в глубине висел занавес, заменявший декорации. Сейчас он поминутно колыхался, осторожно раздвигаемый, и чьи-то глаза выглядывали в щелочку, рассматривая публику. Взяв Анджея под руку, Иоанна направилась к узкой дверке справа от сцены. Спустившись по ступенькам, они неожиданно очутились в толпе молодых артистов, уже одетых для выхода. На Анджея устремилось множество девичьих глаз. И сам он перебегал взглядом с одного лица на другое. Но чей-то возмущенный голос заметил, что посторонним вход за кулисы воспрещается, хотя Анджей был не один. Иоанна круто повернулась и вышла. В зале нашла она свободное место для племянника и на минутку присела рядом, этим привлекая к нему внимание танцовщиц и танцоров, которые разглядывали зал из-за занавеса.
— Желаю приятно провести время, да смотри не зевай. Девушку, о которой я тебе говорила, ты узнаешь сразу: она выделяется среди остальных! Черная, гладко причесанная, с головкой маленькой, как у змейки, и улыбается очаровательно. Зовут Галиной. Фамилия Степчинская. Впрочем, имя тебе ни к чему: программы все равно нет. После концерта не убегай, пойдешь с нами в ресторан, — сказала она и встала.
Тут подбежала Тарнова, приглашая Иоанну в первый ряд.
Он огляделся. Ни одного знакомого лица. До войны ему приходилось бывать в театрах, в концертах, на выставках, и хотя знакомых в этом мире у него не было, но в лицо он знал многих завсегдатаев премьер и вернисажей. То ли за годы его отсутствия они переменились, то ли черты их изгладились из памяти — так или иначе, он почувствовал себя совсем одиноким. Хотел подойти в антракте к Иоанне, но вокруг нее толпился народ. Хоть бы Венчевский пришел — он не без оснований надеялся с ним здесь встретиться. Но его нет, как назло.
Знатоком балета он не был, поэтому для предстоящего разговора с Иоанной отмечал про себя, какие выступления ему понравились и какие нет. Зал на все реагировал с одинаковым энтузиазмом. Анджей тоже хлопал. Сначала просто так, из приличия, а потом восторг окружающих передался ему, и он стал аплодировать вполне самостоятельно. Скоро понял, что хлопающие особенно самозабвенно все в каких-либо отношениях с Лидией Тарновой или с ее учениками, — словом, это почитатели, которых имеет каждая школа. Но тем временем и сам не отставал от тех, кто хлопал без удержу. Приятно было ощущать свою принадлежность к определенному кругу, разделять его пристрастия.
Молодая балерина, о которой говорила Иоанна, выступала во втором отделении, почти в самом конце. Она была невысокого роста, плотного сложения, с прекрасно обрисованной мускулатурой, иссиня-черные, гладко причесанные волосы и правда сообщали очертаниям ее головы нечто змеиное. Танцевала она уверенно, без усилий, легко неся голову и непринужденно улыбаясь, ножки ее с изяществом выделывали всевозможные па, а движения рук, несомненно отработанные, были свободны и ничуть не скованны. Тем не менее в исполнении было что-то ученическое — прежде всего чрезмерная старательность; может, виной был обязательный «Умирающий лебедь», который не вдохновлял на поиски оригинальных решений и явно не соответствовал ее темпераменту. Однако Анджей решил сказать Иоанне, что выступление девушки с прилизанными волосами оставило самое яркое впечатление. И он бешено ей аплодировал. Пыл его отчасти объяснялся тем, что балерина, поворачиваясь лицом к нему во время танца, бросала в его сторону красноречивые взгляды. Так, во всяком случае, ему казалось. Хлопая изо всех сил, он и совсем уверился, что не ошибся: исполненным грации жестом благодаря публику за овацию, юная балерина одновременно послала чарующую улыбку — причем уже явно ему.
Он продолжал хлопать стоя, в гардероб ему было не к спеху. Он подумал, что после такой улыбки, пожалуй, стоит пойти со всей компанией в ресторан. Но тут же спохватился, что у него нет ни гроша. Когда надо было просить взаймы, Анджей всегда откладывал до последнего. И до тех пор, пока в кармане оставалось хоть несколько злотых, не мог заставить себя одолжить денег у Хазы. И вот теперь это обернулось против него: приходится отказать себе в удовольствии приятно провести вечер. Ничего не поделаешь! Он выругался про себя и двинулся в гардероб.
— Степ-чин-ска-я! Га-ли-на! Степ-чин-ска-я! — скандировали в зале молодые люди, вызывая на «бис» балерину.
В знак того, что ждут они напрасно, свет в зале погасили. В это время Анджей незаметно выскользнул из училища. Спустившись вниз по улице, он остановился на углу и оглянулся. Постоял, постоял, сунул руки в карманы и, насвистывая мелодию «Умирающего лебедя», решительно зашагал домой. И хотя ему безусловно было неприятно, что нельзя пойти со всеми в ресторан, вечером он остался доволен и в итоге почувствовал себя бодрей.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Хаза остался после обеда дома; он корпел над счетами.
До сих пор он еще не подавал декларации о доходах. То некогда было, то котелок не варил, но сегодня взял себя в руки и решил с этим покончить. Считал, подбивал итоги, вписывал цифры в нужные графы. С непривычки уставала рука; то и дело откладывая перо, он прикидывал в уме, сколько денег придется взять из неприкосновенного запаса для уплаты налога. С этой необходимостью он давно уже примирился, сказав себе: лучше так, чем с фининспектором связываться или судебным исполнителем. Когда раздался звонок, Хаза прикрыл черновик счета газетой и пошел к двери. Но прежде чем открыть, спросил: «Кто там?» Услышав знакомый голос, машинально открыл дверь и — побледнел. Он не предполагал, что когда-нибудь еще приведется встретиться с Дубенским. Во всяком случае, на этом свете.
— Барон! Ты жив? — пролепетал он.
Дубенский действительно был бароном. И титул стал его кличкой.
Да, он был жив. Хотя выглядел неважно: отощал, лицо с синюшным отливом, а роскошной шевелюры и в помине нет. Он снял пальто, почти приличное, но не по сезону легкое. Зато костюм был на нем дрянной, заношенный и с чужого плеча. Хаза, глаз с него не сводя, не спрашивал ни о чем. Дубенский воскрес и снова на свободе — вот что важно сейчас. Немного придя в себя, он спросил, кто еще из прежних дружков попал под амнистию.
— Все, только из тюрьмы никто не вышел, — заявил Дубенский. — Слишком суровый приговор был.
— А ты как же? — еще больше удивился Хаза.
— Очень просто! Срок получил небольшой.
— Как же это тебе удалось?
— Да вот так! — И, дерзко, вызывающе глянув на Хазу, он продолжал: — Помнишь приятеля своего, органиста, без которого ты бы ноги протянул? Так вот, он по сей день сидит, хотя провинился лишь в том, что жизнь тебе спас и еще кой-кому, а ты никого не спас, даже наоборот, а порхаешь себе, как пташка. Вот и мне выкрутиться удалось.
Хаза расчувствовался и протянул Дубенскому обе руки. В нем шевельнулось что-то вроде нежности. Грубый, наглый тон Дубенского, нелепо претенциозная манера выражаться — все это было так хорошо знакомо, вызывало в памяти столько воспоминаний, и Хаза забыл на миг, какими последствиями чревата для него эта встреча.
— Я просто ошалел, увидев тебя, ведь когда вас судили, я в бреду лежал и только потом узнал, что многих приговорили к смерти и надежды на помилование нет. Я думал, ты влип основательно.
— Не влип только благодаря тому, что ни на следствии, ни на суде не всплыла наша операция под Замостьем. — И, кинув на Хазу дерзкий взгляд, который не раз вызывал между ними ссоры, спросил: — Может, ты заявил об этом? — и рассмеялся ему в лицо. — Можешь не отвечать, знаю, что нет. Дорого бы тебе обошлось такое признание. А по слухам, делишки у тебя идут неплохо.
Хазе было не по себе в присутствии Дубенского. Хотя был Хаза на целую голову выше и одной рукой мог бы с ним справиться, нельзя было не считаться с этим маленьким, живым, как южанин, язвительным и нахальным человечком. Хаза тупо уставился на него своими близко посаженными глазками.
— Грозил военно-полевой суд, это было самое страшное, — сказал Дубенский, — но как-то пронесло. Когда вы орудовали под Живцем, я болел, а про Замостье, как ты слышал, они не пронюхали. А дальше все пошло как по маслу, и дали три годика. Прости, пожалуйста, что тебе не прислали никакого faire-part[6] о столь тебя интересующем светско-уголовном происшествии, но сам я не имел возможности, а родных у меня не осталось.
Они заговорили о планах Дубенского. На более далекое будущее он их не строил, а на ближайшее имел весьма конкретные: привести себя в порядок, приодеться и махнуть в горы — сил набраться. Выслушав его, Хаза заметил вскользь, что может одолжить ему немного денег.
— Немного? — склонил Дубенский голову набок. — А я собираюсь тратить много. Спасибо, конечно. Только зачем мне брать в долг, когда свои есть!
Хаза достал из стола бутылку особой. Сунул ее в руки Дубенскому — пусть полюбуется, а сам пошел на кухню. Когда он вернулся с рюмками и тарелкой с бутербродами, гость изучал его счета. Хаза хмыкнул. Дубенский обернулся и заявил с ледяным спокойствием:
— Ты отлично управляешь нашим предприятием! Мерси.
Хаза побагровел. После амнистии он допускал возможность подобной встречи и мысленно готовился к ней, однако наглость Дубенского захватила его врасплох, и он растерялся. Не в силах вымолвить ни слова, он впился в Дубенского ненавидящим взглядом.
— Что, наглядеться на меня не можешь? — сказал Дубенский.
— Барон, не дразни меня! — прорвало наконец Хазу. — По доброй воле дам тебе кое-что, но насильно ты у меня ничего не получишь.
— А чтобы фамилия твоя не фигурировала ни на следствии, ни тем более на суде, думаешь, это просто было? Или ты воображаешь, из любви к тебе мы молчать сговорились?
— Сказал ведь, что дам, — буркнул Хаза, — но столько, сколько сочту нужным. Деньги спас я! Они у меня для общего дела. Я это предприятие для отвода глаз основал, чтобы заниматься кое-чем поважнее.
— Чем же, позволь спросить?
— Политической работой!
— Политической? Какое ты-то имеешь отношение к политике!
— Политика, диверсия — существенной разницы нет. Я не сложил оружия!
— Молодец! — похвалил его Дубенский довольно кисло. — Но что ни говори, а живешь ты по-царски!
Хаза назвал сумму, которую готов был дать Дубенскому. Тот скривился презрительно.
— Можешь один из моих костюмов взять и перешить, — сказал тогда Хаза.
— А ну, покажи куртку, которая на тебе!
Хаза шагнул к нему, но тот прошипел предостерегающе:
— Не подходи! Брось ее!
Позеленевший от злости Хаза снял куртку, свернул и бросил. Дубенский поймал ее на лету. Но разглядывать не стал — обшарил только карманы и, найдя ключи, швырнул куртку на пол. Тогда Хаза двинулся на него, сжав кулаки.
— Не подходи! Слышишь, что тебе говорят? — Это была уже не просьба, а угроза. Дубенский давал ему понять, что он вооружен. — А теперь ложись! Вот так! Вниз лицом, как в гестапо!
Говорил барон тихо, с паузами между словами. Он нервничал, но был готов на все. Хаза почувствовал это и сначала опустился на колени, потом распростерся на полу. Самое трудное было для Дубенского позади.
— Только без фокусов! Лежи смирно, тогда расстанемся по-хорошему.
Он обогнул стол и, держась от Хазы подальше, направился к тахте. Пинком вытолкнул ее на середину комнаты, нагнулся и опрокинул вместе с постелью на Хазу.
— Прости, что такую тяжесть взваливаю на тебя. — Знакомые нотки зазвучали опять в его голосе, те самые, которые незадолго до того пробудили у Хазы столько воспоминаний. — Приходится принимать меры, чтобы несчастного случая не произошло.
И он принялся все подряд отпирать его ключами. Перерыл шкаф, письменный стол. А когда обнаружил дубовый ящичек в стене и стал к нему подбираться, пришлось припугнуть Хазу револьвером. Тот попытался вскочить на ноги, и Дубенский, отбежав к двери, прицелился из-за притолоки. Усмирив Хазу и на всякий случай набросив ему на голову одеяло, он спокойно принялся за дело. Догадка его не обманула: здесь Хаза хранил свои капиталы.
— Отлично! — облегченно вздохнул он и стал распихивать деньги по карманам. Затем, ногой подвинув стул поближе к Хазе, сел и, отогнув край одеяла, попенял ему в свое оправдание: — Умей ты держать себя в руках и соображай побыстрее, не пришлось бы разыгрывать эту комедию с револьвером. Но, к сожалению, ты всегда был такой: сначала убить, а потом уж подумать. Разве не так?
Хаза молчал. В памяти вставали разные поступки Дубенского, и, отдавая себе отчет, на что тот способен, Хаза сдался, но в разговоры с ним вступать был не намерен: бешенство душило его, причиняя почти физическую боль. Он знал, облегчение ему принесло бы лишь одно, и ни о чем другом думать был не в состоянии. Дубенский между тем продолжал невозмутимо и вежливо:
— Помнишь, что было под Замостьем? Я предупреждал тебя, заранее зная, чем это кончится: не трогай уполномоченного, не зарься на его деньги. Но ты не послушался. И пришлось нам срочно сматываться, так как мы восстановили против себя население, а под Живцем нас сцапали, один ты уцелел и с тобой — касса. Так что нечего нос задирать!
Но Хаза и не думал задирать нос, он бормотал про себя проклятия, сжимая и разжимая свои толстые бесформенные пальцы, и упорно молчал, испытывая от этого удовлетворение. Не выдержал, лишь когда Дубенский стал распространяться о том, как он представляет себе их отношения:
— Буду твоим компаньоном. Располагая капиталом, буду контролировать предприятие. Заправлять будешь по-прежнему ты, потому что я ни черта в этом не смыслю. А после возвращения загляну к тебе.
— Убью! — выдавил сквозь стиснутые зубы Хаза.
Дубенский ничего не ответил. Не спуская с него глаз, он взял пальто и шляпу и, приоткрыв дверь на лестницу, сказал напоследок:
— Боже тебя упаси! Я оставил у своего исповедника письмо, в котором изложил насчет тебя кое-какие подробности, и просил его передать в органы госбезопасности, если со мной что-нибудь случится. Так что ничего ты мне не сделаешь, пальцем не тронешь. Наоборот, моим ангелом-хранителем будешь всю жизнь!
— Думаешь, в госбезопасности плакать станут, если я разделаюсь с тобой? — не стерпев, прошипел Хаза.
— Плакать, конечно, не станут, но они любят порядок и не позволят вмешиваться в их прерогативы. — И крикнул уже с порога: — Salut, vieux copain[7], на, держи! — Хаза услышал, как рядом со стулом упал какой-то предмет. — К чему это нелепое оружие таким друзьям, как мы с тобой?
Когда Хаза вылез из-под тахты, Дубенского след простыл, а на полу лежал обыкновенный невинный пугач. Действительно нелепость! Хаза поднял пугач и выбросил в окно на мостовую с пятого этажа. Но легче от этого не стало. Пугач был последней каплей, и уничтоженный Хаза протянул руку к бутылке. Выпил стопку, и тут на глаза ему попалась ваза куда вместительней, — несколько дней назад Анджей поставил в нее сирень. Цветы еще не завяли. Но Хазе было не до них, он выплеснул содержимое прямо на пол и, наполнив сосуд до краев, выпил залпом.
— Погоди, я еще укорочу ее, твою жизнь, какая бы она долгая ни была, — прохрипел он злобно.
* * *
Напевая мелодию, под которую танцевала улыбавшаяся ему девушка, Анджей вошел в квартиру и увидел пьяного Хазу без куртки, перевернутую тахту и в комнате страшный кавардак. Но, зная повадки своего приятеля, Анджей не придал этому особого значения.
— Что здесь такое? Оргии устраиваешь? — брезгливо спросил он.
— Не твоего ума дело! — огрызнулся Хаза.
Они молча привели комнату в порядок, и Анджей не спрашивал больше ни о чем. А когда пили чай, рассказал о концерте и заметил как бы между прочим, что будет подыскивать себе работу.
— На картине можно поставить крест. Надо заняться чем-нибудь, а то и свихнуться недолго.
Хаза слушал с безучастным видом. А когда Анджей попросил взаймы — сумму на этот раз солидную, отозвался со сдавленным саркастическим смехом:
— Ничего себе, подходящий выбрал момент! — и все твердил, захлебываясь от смеха: — Ничего себе, момент подходящий!
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Проснувшись утром, Анджей нашел на полу возле себя записку.
«Я проигрался вчера в пух и прах, — писал Хаза, — поэтому и был не в своей тарелке. Придется теперь продать один грузовик. А это скоро не делается. Поэтому, если деньги нужны тебе срочно, послушайся моего совета, хотя, по-твоему, может, смешного. Сходи к дядюшке Конраду. Он — чудак, но денег тебе даст».
Анджей пожал плечами; совет был не смешон, а глуп. О дядюшке и его недоброжелательном, даже враждебном отношении к тем, с кем он был связан до войны, он достаточно наслушался и не имел ни малейшего желания безо всякой надежды на успех идти к нему и нарываться на неприятность. Оба прошлых свидания тоже не настраивали оптимистически. Однако, одеваясь, он еще раз пробежал глазами записку и за завтраком тоже. А перед уходом полез в карман, вытащил какую-то мелочь, — но это разве деньги… И решил попытать счастья.
— Значит, если я правильно понял, на Кензеля ты решил махнуть рукой? — спросил дядя, выслушав его просьбу. А когда Анджей передал ему рассказ доцента Нацевича, решительно сказал: — Бред! Вранье или ошибка! — и, сдвинув на лоб повязку, потер зияющую пустотой глазницу. К просьбе Анджея он отнесся благосклонно. — Могу дать тебе двадцать долларов золотом. Но не в долг, а подарить — давай называть вещи своими именами. Из чего ты будешь их отдавать?
Анджей почувствовал, что должен подробнее посвятить дядю в свои планы. И заговорил о том, что хотел бы устроиться на работу где-нибудь под Варшавой, но старший Уриашевич перебил:
— Под Варшавой или не под Варшавой, это меня не касается. Осталось вот у меня немного долларов после оккупации — они к твоим услугам. Какие у нас насчет этого строгости, тебе известно. Торговля валютой запрещена, и заниматься подобными махинациями я не намерен, а ты поступай как знаешь: обменяй или отложи на случай отъезда.
Опять про этот отъезд! Но Уриашевич не дал племяннику даже вставить слово.
— Ни на службе, ни дома я валюты не держу. Слишком много народу крутится. Завтра я занят. Так что принести тебе обещанную сумму смогу послезавтра. В пять приходи…
Он задумался. В кафе он не бывал и поэтому сразу согласился встретиться в первом же, предложенном Анджеем месте.
* * *
У бабушки Анджей узнал, что о нем справлялся адвокат Рокицинский. Папский камергер, известный юрист, еще петербургская знаменитость, он был другом отца и отцом девушки, первой любви Анджея, — как мог он о нем забыть! Сразу же после обеда, радуясь предлогу уйти из дома, — Хаза был все еще не в духе и со вчерашнего дня двух слов с ним не сказал, — он отправился к Рокицинскому.
Но адвоката не оказалось дома, его ждали к семи. Дверь открыла его сестра, и Анджей осведомился у нее про остальных членов семьи, про детей Рокицинского.
— Судьба разбросала их по всему свету, — ответила она. И, перечислив, кто теперь в Италии, кто в Канаде, кто в Турции, добавила: — А младший сын на Западных землях.
— А пани Рокицинская?
— В тюрьме! — И сообщила, не дожидаясь расспросов: — За разговоры в кафе! — От возмущения она повысила голос: — И не разрешили даже до суда остаться на свободе! Это жене адвоката! Слыханное ли дело!
— Что же она сказала такого?
Анджей не мог в себя прийти от удивления.
— Сказала, что ксендзов сажают! На Поморье, в Силезии, на Познанщине. Все духовенство — в тюрьме! Вот что!
— Не может быть! — сделал Анджей большие глаза.
— Тем не менее ее за это арестовали. Только за эти слова!
— Но сам факт невероятен! — не унимался Анджей. — Возможно ли это?
— Если Рокицинскую сажают ни за что, так что же о ксендзах говорить? — заключила она с неотразимой логикой.
Разговор кончился. Анджей простился до вечера. У бабушки он уже был утром, возвращаться к Хазе не хотелось, с Иоанной они вчера виделись, и вообще он был сыт по горло всякими встречами и визитами. И пошел куда глаза глядят.
— А, черт! — выругался он, поймав себя на том, что уже в третий раз проходит мимо кафе, в котором сидел как-то с Иоанной, и заглядывает в окно.
И внезапно понял, что делает это не случайно, хотя бессознательно. В этом кафе Иоанна обещала познакомить его с девушкой, которая вчера ему улыбалась.
— А, черт! — выругался он еще раз.
Глупым ребячеством показалось ему заглядывать в окна, зная, что за этим кроется. Но одновременно догадка эта наполнила его не менее глупой радостью.
Рокицинский принял Анджея очень радушно. Услышав в прихожей его голос, вышел к нему, обнял, оглядел с ног до головы.
— Возмужал, похорошел! — провозгласил он. — На отца как будто и не похож, но чем-то его напоминаешь.
Жил он на той же роскошной вилле, дорогую мебель и ковры ему тоже удалось сохранить. И в нескольких комнатах, которые остались у него после уплотнения, обстановка была прежняя. Хозяин увлекался шахматами. Приход Анджея как раз прервал партию.
— Продолжайте, пожалуйста! — сказал Анджей.
Но прежде чем снова приняться за игру, хозяин убедился, что Анджей никуда не торопится и останется выпить чаю.
— Вы, молодежь, прибегаете, как на пожар, а хотелось бы поговорить.
— С радостью.
— Эх, — невесело улыбнулся адвокат, — радости-то мало. Осиротел я!
— Знаю, знаю!
— Разбросала детей судьба по всему свету! С женой меня разлучили!
Анджей намекнул, что и это ему известно. И причина ареста тоже.
— Ее обвиняют еще в распространении каких-то брошюр. Ничего такого я у нее не видел. Но не будем говорить о вещах неприятных. — И представил Анджею своего партнера: — Он хорошо знал твоего отца.
— И дядюшку вашего, пана Конрада, тоже знавал, — прибавил тот.
— Именно «знавал», это вы правильно прошедшее время употребили, — едко заметил адвокат. — Я тоже знал его когда-то, но теперь не знаю и знать не хочу! Ты не обижаешься, Анджей, что я так говорю? — И продолжал, не дожидаясь ответа: — Ну захотелось человеку сделать карьеру — делай на здоровье! Но зачем же в вопросах политических быть с ними заодно?
Рокицинский попробовал сосредоточиться на шахматах. Но мысли о Конраде Уриашевиче мешали, не давали покоя. И сдерживаясь лишь ровно настолько, чтобы избегать резких выражений, адвокат стал приводить выдержки из его статей и выступлений.
— Материала на него для передачи прокурору больше чем достаточно, дай только срок.
Конраду Уриашевичу по разным поводам приходилось выступать от своей партии: и перед референдумом, и перед выборами, и на съезде работников химической промышленности. В одном из докладов он заявил, что в довоенной Польше всеми химическими фабриками до единой управлял иностранный капитал.
— И у него хватает наглости так говорить! — выкрикнул адвокат. — Ведь сам же уговаривал Станислава Леварта ликвидировать лабораторию и пользоваться иностранными патентами! — Он дотронулся кончиками пальцев до шахматной фигуры, и она опрокинулась: руки у него дрожали. — Слишком я любил твоего отца, потому и говорю тебе прямо в глаза. Недалек тот день, когда дядюшку твоего повесят за сотрудничество с советскими оккупантами. Ты должен с ним порвать!
Анджей разозлился — прежде всего на самого себя; опять поддался искушению, отправился в гости к людям, от которых уйдет, словно одурманенный, подавленный упрямой слепой и бессильной ненавистью, с какой не раз уже сталкивался.
— Человеку с такими заслугами стоило только немного подождать, — вмешался в разговор шахматный партнер. — Но, видно, до войны ему надоело быть пешкой, и он предпочел предать забвению заслуги оккупационных лет, чтобы поскорей пробиться к власти. Как вы считаете?
Вместо ответа Анджей спросил про Кензеля. Он пришел, правда, не за этим, но ломать себе голову над поведением дядюшки тоже не собирался. Дядюшка — дело десятое, проблема совсем в другом, но об этом думать не хотелось. Спросив про Кензеля, о котором они, может, никогда и не слыхали, он прибавил в объяснение:
— Я о нем всюду справляюсь.
— Знаю!
Сказано это было таким тоном, что Анджей удивленно посмотрел на адвоката. Тот красноречиво прищурился в ответ, а когда партнер склонился над шахматной доской, сделал Анджею выразительный знак: поднял палец и приложил к губам.
* * *
— Знаю, знаю! — повторил он, когда партия закончилась и они остались вдвоем. — Поэтому я и передал через теток, чтобы ты зашел. Зачем тебе Кензель?
Анджей всем говорил одно и то же: ищет Кензеля, потому что очень к нему привязан.
— Неужели бегать по всей Варшаве и расспрашивать о нем заставляет тебя только чувство привязанности?
О картине Анджей никому ни словом не обмолвился — так он решил и не отступал от этого. Он помолчал, обдумывая ответ.
— Неужели только из-за этого? — недовольно переспросил Рокицинский.
— У него на хранении одна очень ценная вещь, — понизив голос, сказал наконец Анджей.
— Откуда она могла у вас взяться? — не сдавался адвокат. — У тебя и у родственников твоих?
Анджей проглотил слюну.
— Меня Франтишек Леварт прислал.
— И поручил взять ее у Кензеля? А сам-то получишь от этого какую-нибудь выгоду?
— Я очень на это рассчитывал, — ответил Анджей тихо.
— Так я и думал!
Адвокат встал и прошелся несколько раз по комнате. Он явно был в затруднении, даже руками развел.
— Ты сын моего лучшего друга. Но чтобы помочь тебе, я должен выдать тайну этого бедняги, а он ведь в некотором смысле мой клиент.
— Почему он держит у себя чужую вещь и не отдает, а если она пропала, почему не сообщит об этом? — горячился Анджей.
— Он делает это без злого умысла, за это я ручаюсь, — твердо сказал Рокицинский. — Кензель — кристально честный человек.
— Тогда почему он не дает о себе знать?
— Значит, у него есть на то свои причины.
Какие, он знал. Но все еще колебался. Видя это, Анджей предложил компромиссное решение:
— Может, вы сами обратились бы к нему по этому делу?
Рокицинский покачал головой.
— Лично мне это было бы затруднительно. Чтобы точно установить местопребывание Кензеля, нужно много недель потратить на розыски, а то и месяцев.
— Может, объявление дать? — предложил Анджей.
— Боже тебя упаси! Вот уж, что называется, удружил бы ему! Подставил бы под удар человека, а он и в беду-то попал, может, только из-за преданности своей Левартам. Дай-ка руку.
Наморщив лоб и страшно нервничая, Рокицинский всерьез потребовал от Анджея поклясться, что он никому ничего не скажет о том, что сейчас услышит.
— Фамилия твоего Кензеля теперь Грелович, Ян Грелович. И живет он где-то под Сохачевом, недалеко от станции Мостники на железной дороге Познань — Варшава…
— Правильно! — перебив адвоката, радостно воскликнул Анджей.
Еще раз повторив, что дело это непростое, Рокицинский в заключение сказал:
— Придется тебе поселиться где-нибудь в окрестностях и с величайшей осторожностью начать о нем разузнавать.
Он позвонил, велел подавать ужин и позвать к столу сестру, которая после ареста жены переехала к нему, а тем временем еще раз вернулся к разговору о Кензеле.
— Обещай мне не расспрашивать его ни о чем и постарайся сделать все, чтобы его успокоить, — ведь он перепугается, убедившись, что его можно разыскать. Мне жаль беднягу!
За столом шел обычный разговор: сестра Рокицинского жаловалась и негодовала, адвокат предавался воспоминаниям. Петербургские времена сравнивал с довоенными, довоенные — с теперешними. А под конец воскликнул с нескрываемым озлоблением:
— Да, дорогой Анджей, одно ясно: на сей раз наши попытки вернуть Польше независимость ни к чему не привели!
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Вернувшись домой, Анджей долго пытался отпереть ключом входную дверь. В конце концов пришлось позвонить, так как она оказалась закрыта на засов. Хаза отворил не сразу. Босиком, в одних пижамных штанах, распространяя запах пота, стоял он в прихожей.
— Тебе я на кухне постелил, — не зажигая света сказал он извиняющимся тоном. — Знакомая ночует. Так уж вышло.
— Пустяки, — буркнул Анджей. — Спокойной ночи!
Хаза удержал его.
— Хочешь, приходи к нам. Она не будет возражать.
Анджей поблагодарил за приглашение и за все остальное — водку, бутерброды, виноград — и попросил у Хазы карту шоссейных дорог, которую видел у него на столе. Хаза фыркнул и, протягивая карту, заметил насмешливо:
— На, праведник, попутешествуй! На бумаге.
Анджей сел на кухне за стол и, подперев голову кулаками, стал разглядывать карту. Ему казалось, с картой легче наметить план действий, но не удалось сосредоточиться. Кензель не выходил у него из головы. В окрестностях Сохачева и станции Мостники — там где-то и видел его, наверно, доцент Нацевич — рассыпалось множество кружочков побольше и поменьше: села, поселки, хутора. И в одном из них скрывался Кензель. Интересно, в каком именно и вообще чем это вызвано?
— Загадочная история!
Там, в одном из этих населенных пунктов, предстояло поселиться и ему. Что другого выхода нет, он с Рокицинским сразу согласился. Но в качестве кого поедет он туда, на какие средства будет существовать? Это еще надо обмозговать. Перспектива жизни в деревне или захолустном городишке его не пугала. Большие города плохо на него действовали после восстания. И Варшава, с ее несколькими сохранившимися улицами и уцелевшими кое-где домами, тоже, хотя на свой лад. Тем не менее, определив по карте, что до Сохачева всего пятьдесят километров, он обрадовался. Это его удивило. Он закрыл глаза, заткнул уши. И так в задумчивости просидел с четверть часа, совсем как после капитуляции Варшавы в концлагере. Но тогда у него перед глазами стояли улицы, полыхающие огнем, а сейчас мелькали люди, автобусы, повозки, улицы, где он недавно был, дома и квартиры, которые посетил после возвращения. Даже кафе припомнилось не то, куда он заходил во время оккупации, а другое, где они с Иоанной разговаривали о Галине Степчинской. При мысли о юной балерине его в жар бросило.
— Какого черта я думаю о ней!
Он же собрался уезжать. Подумаешь, улыбнулась; она, по словам Иоанны, пользуется успехом, значит, просто из кокетства. Но, несмотря на эти доводы, Анджей вдруг понял, что не двинется из Варшавы, пока с ней хотя бы не познакомится.
— Ну, путешественник, далеко уехал? — положил ему Хаза руку на плечо. — Я уже два раза обернулся.
Заглянул он на кухню за кофейником, но уходить не торопился. Развалившись на матраце Анджея, прислонился голой спиной к стене, вытянул босые ноги. И зевал поминутно.
— Напрасно ты отказался, блондиночка что надо!
— Твоя знакомая?
— Угу! — И он так отчаянно зевнул, что Анджей с трудом разобрал его вопрос: — Зачем тебе карта понадобилась?
— Да так просто. Хочу на работу устроиться в провинции где-нибудь…
В наступившей тишине Хаза громко пукнул.
— Перед сном все равно проветривать будешь, — оправдываясь, сказал он и прибавил: — А работа, связанная с риском, с эдакими сильными ощущениями, тебя не привлекает?
— Нет.
Наконец Хаза решился и встал.
— А что это за работа? — поинтересовался он.
— В школе, по-видимому, — неожиданно для себя самого ответил Анджей.
Хаза зевнул во весь рот, словно даже мысль о подобной перспективе нагоняла на него тоску.
— Хочешь кофе?
Анджей поблагодарил, но отказался: после кофе он плохо спал.
— Эх, не понимаешь ты, в чем смак! И зачем ты только на свете живешь? — засмеялся Хаза.
Он подтянул пижамные штаны и с кофейником под мышкой и электрошнуром через плечо вышел из кухни.
* * *
Утром Хаза разбудил Анджея: готовил завтрак для себя и своей знакомой.
— Не спишь? — спросил он. — У меня к тебе просьба.
— Да, слушаю.
— Я спешу очень: надо дамочку отвезти, а потом — в гараж, будь он неладен! Приведи, пожалуйста, немного в порядок комнату.
Женщина, которая приходила к нему убираться и готовить обед (Хаза очень любил ее стряпню), с неодобрением относилась к визитам подобного рода и ни к чему не притрагивалась, если в комнате оставались следы ночных оргий. Поэтому Хаза обычно сам приводил все в божеский вид.
— Может, и ты торопишься?
— Ничего, успею, — буркнул Анджей.
Он встал и, когда шаги Хазы затихли на лестнице, первым делом настежь распахнул окно. Комната пропиталась приторно-сладким, чуть тухловатым запахом духов. Уриашевич вышел на кухню, дожидаясь, пока комната проветрится. Сделав то, о чем просил его Хаза, он оделся и, с трудом проглотив завтрак, выскочил на улицу. Но отвратительный, тошнотворный запах преследовал его и здесь.
— Уриашевич!
Метрах в ста из очереди на автобусной остановке кто-то махал ему рукой. Анджей посмотрел: Биркут! Широкоплечий, чуть-чуть косящий детина с угреватой кожей и зычным голосом. Он, он! Анджей заторопился.
— Ба! Никак, ты адмиралом стал! — воскликнул он.
Ян Биркут, инженер и уже старший ассистент в политехническом институте, в ту пору когда Уриашевич поступал туда, уволенный за радикальные убеждения, а накануне войны арестованный в Гдыне, был в морской форме.
— Адмиралом? — засмеялся он и, заметив свободное такси, остановил его. — Садись, подвезу, — не спрашивая куда, бросил он, освобождая Анджею место рядом, и назвал шоферу адрес. — Вырвешься на сутки какие-нибудь в Варшаву, а время так и бежит. — Он взял Анджея под руку, притянул к себе дружески и, вспомнив его слова, хлопнул по колену. — Адмиралом не адмиралом, а капитаном — это точно! Начальником порта в Оликсне! Да вот беда, начальник функционирует, а порта все нет! — И, окинув Анджея быстрым, но пытливым взглядом, добродушно пробасил: — Смотри, плохо будет, если не знаешь, где эта Оликсна!
Уриашевич стал оправдываться, что месяц всего как вернулся.
— А где же твоя прежняя любовь к морю? — сделал Биркут большие глаза. — Небось и новую карту побережья еще не удосужился посмотреть? — Он прищурился: — Что, угадал?
И засмеялся — по-прежнему безудержно, громко, весело, но уже не так искренне, как вначале. Потом сообщил, что вчера только приехал и прямо с поезда отправился в поход по разным министерствам, ведомствам и учреждениям. Клял всех и вся, но из его слов явствовало, что он преисполнен надежд выколотить для своего порта все необходимое.
— Это не порт, скажу я тебе, а мечта!
— Ты хочешь сказать, он был таким?
— Не был, а будет! — И, чтобы наглядней представить, как выглядит порт в Оликсне, положил одну руку на правое колено, а другую — на левое, так, чтобы они не касались пальцами. — Вот, смотри: здесь два мола, — принялся он объяснять, — между кончиками моих пальцев — несколько затопленных кораблей, на молах — сплошные ямы, выбоины, а там, где мой пупок, то есть на набережной, тоже, кстати, порядком разрушенной, ни тебе подъемного крана, ни эллинга, ни складских помещений. Вот во что немцы порт превратили, когда отступали.
В Оликсне застрял он в сорок пятом году. Первое время их было всего пять человек, и никаких ассигнований, машин, оборудования, словом — ничего. С тех пор ноги стали болеть, и нервы истрепаны, и сердце пошаливает — вот чего стоила борьба: сначала со смертниками из разбитых немецких соединений, потом с мародерами, потом с покидавшими город жителями — бездействующий порт не мог обеспечить им средств к существованию.
— А я торчу, понимаешь ли, в управлении порта и начальником называюсь, да только начхали все на такое управление!
— Зачем же ты там сидел?
— Приказали, вот и сидел.
— А приказали-то зачем?
— Ба! — В маленьких глазках Биркута вспыхнули озорные огоньки. — Для поддержания духа! — И он лихо сплюнул в открытое окно такси. — Вначале волынка страшная была. При наших средствах и таких разрушениях работа подвигалась черепашьим шагом — ну как воду из океана пипеткой переливать. Но для города она имела свое значение, и опыт показал: лучше было иногда ее переоценить, чем недооценить, чтобы люди не теряли надежды — в недалеком будущем они опять смогут рассчитывать на порт. — Такси снова огласилось его заразительным смехом. — Что ж тут такого, — сказал он примирительно, — не у каждого хватает мужества, надо иногда его и у других позаимствовать, как говорит наш портовый боцман, пан Чечуга. Ты спросил, зачем нам приказали сидеть в бездействующем порту. Понял теперь?
На первых порах восстановление портов шло полным ходом в Гдыне, Гданьске, Щецине: крупных объектах, пригодных для перевалки массовых грузов. Туда бросили все наличные плавучие средства, специалистов, квалифицированных рабочих и деньги ассигновали. Для портов же поменьше ничего не осталось.
— А работать для вида, для отвода глаз, — продолжал Биркут, — очковтирательства этого я органически не переношу. По мне, лучше правду-матку резать, чем людей за нос водить. До сих пор с души воротит, как возню эту всю вспомню с разными нытиками да паникерами. Но постепенно до меня кое-что стало доходить. Помню, Чечуга все настаивал, чтобы взяться за восстановление маяка. Немцы тротила не пожалели, разнесли там все вдребезги. Но вот прошло какое-то время, Чечуга откопал где-то призму — смехотворно слабенькую, а я — лампу ей под стать. Под Вавелем в Драконьем Логове это бы еще сошло с грехом пополам, но для навигации — это все равно что светлячком бальный зал освещать. И, однако, даже нам, не говоря уж об Оликсне — обо всех тех, кто приехал в этот портовый городок, где порт бездействует, — жить с маяком стало как-то веселей.
Такие ухищрения были ему не по душе, но он понимал их необходимость.
— И министерство не оставляло нас своими заботами. Циркулярами просто засыпало. А в них, как правило, ничего конкретного — так, вроде капель успокоительных. — В метко бесцеремонных словечках он себе не отказывал, желая подчеркнуть свое отношение к происходящему. — «Баю-бай» — укачивало нас министерство. — Шутка, впрочем, не вызвала у него улыбки: уж больно невеселые времена напоминала. — А мы, в свой черед, убаюкивали разных маловеров да неврастеников, нытиков да слабаков и вот перебились кое-как. Из этого ложного положения выручил нас уголь, верней, не уголь даже, а все перемены, вместе взятые, — их с каждым месяцем, с каждым днем, можно сказать, накапливалось все больше.
Рост производительности труда, соревнование, технические усовершенствования, а в последнее время массовое возвращение шахтеров-реэмигрантов с чужбины — все это сказалось на увеличении угледобычи, на расширении экспорта. А возможность в перспективе еще больше его расширить не могла не повлиять и на судьбу портов.
— И вот наконец дошла очередь и до нас. До Дарлова, до Устки, до Колобжега и Оликсны. Как на ближайшее будущее, так и на более отдаленное, есть уже разные планы. Со временем мы, может, перейдем на мелкотоварный вывоз. Во всяком случае, постановление об этом имеется, и уголь поможет нам встать на ноги.
Оказалось, Уриашевич не только с новой картой Польши не знаком, но и газет не читает. Для него было новостью, что на днях из Франции и Вестфалии на родину выехало несколько тысяч шахтерских семей.
— Да ведь об этом все газеты трубят! — воскликнул Биркут.
— Я как-то не обратил внимания.
— А твои знакомые? О чем же вы разговариваете? И вообще, с кем ты компанию водишь? — Он еще раз хлопнул его по колену и, по-прежнему смеясь, хотя и с меньшим добродушием, прибавил: — Других друзей заведи, Уриашевич! Не то плохо будет! — Он любил повторять это выражение.
Вместе с Биркутом вошел Анджей в министерство морского флота. Биркут усадил его на стул в коридоре.
— Вчера я тут до обеда проканителился, почти все уладил, вот только еще к одному типу заскочить надо, черт его понес вчера не то на съезд, не то на конференцию. Пойду узнаю, примет ли сейчас, а нет, так вернусь, и поболтаем.
Дверь он притворил неплотно, и было слышно, как просит, чтобы о нем доложили. Вскоре он вышел, извинился и попрощался с Уриашевичем: директор департамента, которого накануне Биркут не застал, требует его немедленно к себе.
— Дорогуша, сколько я тут понасиделся, под этой дверью! — Поежился он при одном воспоминании. — А теперь стоит появиться в коридоре, и тебя, как пылинку в пылесос, в этот кабинет затягивают! — Биркут положил Анджею руку на плечо, заглянул в глаза и сказал без улыбки: — Я не спросил тебя, чем ты занимаешься, но раз молчишь, значит, похвастаться тебе нечем. Из тебя отличный инженер выйдет, приезжай ко мне. Не таким, как ты, предлагал я это, нам люди позарез нужны! А тебя, Уриашевич, я, как родного брата, приму. Тебя море ждет, порт, работа, славный городишко, ну и дружба моя. И в придачу — мизерное жалованье, но замечательное будущее. Будущее у нас с тобой — прекрасное. Ты подумай об этом. А лучше — без долгих размышлений приезжай!
— Может, позже приеду, — уклончиво ответил Анджей.
Ему не хотелось расставаться с Биркутом, и он задержал его руку в своей. Столько надо ему рассказать! Но дело, которое целиком его поглощало, Биркута едва ли могло заинтересовать.
— Может, потом, попозже, — повторил он.
— Смотри, не опоздай! — сказал капитан на прощанье. — Когда порт заработает полным ходом, будет уже совсем не то.
* * *
Войдя в кафе, Анджей снял кожух, взял у гардеробщика номерок и только тогда окинул рассеянным взглядом зал. Для дяди еще рано. Иоанны тоже нет и вообще никого из тех, кого бы хотелось видеть. Он занял столик недалеко от входа. Но от двери дуло. Поискав глазами, куда бы пересесть, он заметил другой зал в глубине и, захватив газеты, которые купил, расставшись с Биркутом, перекочевал туда. На пороге он помедлил: и тут никого! А он так ждал встречи! Сжав зубы, сел к стене. Напротив мужчина толковал что-то молоденькой девушке, которая слушала его с улыбкой на сияющем лице. Уриашевич развернул газету. Но и сквозь газету ощущал присутствие этой пары, видел улыбку, которая напоминала ему другую. Разозлившись, что не может взять себя в руки, он вскочил и в третий раз поменял столик.
«Совсем спятил, — подумал он с раздражением. — Веду себя, как последний дурак!»
И снова уткнулся в газету. Как всегда, он безучастно пробегал глазами заголовки. Сообщения о легализации гражданских лиц, о конференции в Москве, о восстановлении страны. Ничего особенного, то же, что вчера и позавчера, так, по крайней мере, ему показалось. Но вот на третьей полосе статья о том, что говорил Биркут. Об угле. О неуклонном росте добычи и перспективах экспорта. Он прочел ее одним духом и пробормотал: «Интересно. Даже очень! Особенно если вдуматься».
Из задумчивости вывело его появление дяди. Он стоял перед ним в шубе, со шляпой в руке и, едва успев поздороваться, сунул два пальца в жилетный карман.
— Может, присядете? — спросил Анджей.
— Нет! — отрезал тот. — А впрочем, ладно.
Анджей попросил подать еще чашку кофе.
— Предоставь это, пожалуйста, мне, — прошипел он и бросил официантке: — Стакан чаю!
Но когда Анджей предложил ему снять шубу, не стал протестовать. Протиснувшись с номерком обратно к столику, Анджей застал такую картину: дядя пил чай, не обращая внимания на официантку, которая стояла рядом, держа вазу с пирожными. Склонясь над стаканом, наблюдал он за залом, целиком, казалось, поглощенный этим занятием. Взгляд был у него сосредоточенный, настороженный, и сам он весь как-то подобрался и замер. Это не укрылось от Анджея. Он понял: за спиной у него происходит что-то из ряда вон выходящее, и обернулся. В зале царило замешательство.
— Облава! — сдавленным голосом произнесла официантка.
Поставив вазу с пирожными на середину стола, она выхватила из-под фартучка сложенную вчетверо долларовую бумажку, уронила на пол и придавила туфлей.
— Валютчиков вылавливают! — услышал Анджей тихий шепот.
Испуганно взглянул он на дядю: ведь из-за него тот мог попасть в пренеприятную историю. Первая его мысль была о дяде.
— Прости меня, пожалуйста! — шепнул он.
— Потом поговорим! — процедил старик сквозь зубы.
Он отодвинул стакан и выпрямился с непроницаемым лицом. И только когда рядом кто-то стал возмущаться, крича, что он депутат, дядя презрительно усмехнулся. Когда очередь дошла до него, он, не проронив ни слова, спокойно позволили себя обыскать и держался при этом безукоризненно. Ни один мускул не дрогнул на его лице, когда его попросили снять с глаза повязку. Он снял и показал, что под ней ничего нет. Обыск производился очень тщательно.
Хотя у Анджея ничего не было, он страшно волновался. Поблизости истерически закричала женщина, когда милиционер обнаружил доллары, засунутые между сиденьем и спинкой дивана. Он волновался, слыша, как люди переругиваются с представителями финансовых органов. Волновался, видя, как с пола подбирают золотые монеты и бумажные купюры. Дядины доллары, если он их принес, тоже там. Когда стало известно, что задержана большая группа, он пришел в полный ужас: ведь дядя мог оказаться среди них! Впечатление было такое, что облава длится целую вечность, но, когда все кончилось и он отпил глоток кофе, оно было еще теплым.
— У меня что-то аппетит разыгрался! — объявил Уриашевич-старший и, едва за последним милиционером закрылась дверь, потянулся за пирожным. — Попробуй-ка.
— Спасибо, не могу! — ответил Анджей; ему кусок не лез в горло. — Дядя, простите меня, пожалуйста!
— Потом поговорим! — повторил тот.
Он взял еще одно пирожное. И, не проронив больше ни слова, будто не замечая племянника, съел еще несколько штук, а перед уходом попросил завернуть остальные. На улице же вручил коробку с пирожными растерявшемуся Анджею.
— Смотри ешь только осторожней, а то зуб сломаешь! — сказал он.
Анджей ничего не понимал.
— Я засунул монету в пирожное с кремом. Теперь сам ищи. Я и так съел их предостаточно.
— Простите, дядя, — прошептал Анджей, когда они оба немного успокоились. — Я прекрасно понимаю, как вам было неприятно.
— И до сих пор неприятно, — сухо и надменно ответил старик. — Не думай, что я с моими убеждениями пошел на это ради спасения двадцати долларов. Я скомпрометировать себя боялся. Вот чего я не могу допустить!
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
— Конечно, вполне возможно, — сказала Климонтова, выслушав Анджея. — У нас так не хватает людей.
— Значит, вы считаете, я смогу получить место учителя в одной из школ, о которых вы говорили?
— А почему же нет?
Она показалась ему сейчас много моложе и интересней, чем в то утро, когда он с ней познакомился, проведя ночь в ее комнате и не подозревая о ее присутствии. У нее был красивый рот и яркие пухлые губы; глаза, не замутненные усталостью, смотрели на Анджея приветливо, и лоб она не морщила поминутно, как тогда.
— Только почему именно в окрестностях Сохачева хотите вы работать? — поинтересовалась она, между прочим.
— Или Мостников, — уточнил он.
— «Или Мостников», — повторила она, как эхо. — Но это ваше личное дело. — И прибавила немного погодя: — Если потому, что близко от Варшавы, тогда понятно.
Они сидели за тем самым столом, за которым Анджей в ту ночь пытался читать, чтобы успокоить нервы, а утром пил с нею чай. На полочке у окна стояла фотография под стеклом с орденскими ленточками в нижнем углу. Рядом с ней, там, где Климонтова оставила записку Анджея для тетушек, высилась кипа разноцветных папок. Климонтова взяла одну с краю и вытащила из нее пачку бланков.
— Вот посмотрите, это мои инспекторские отчеты.
Перебирая их, она прочитывала только одну графу.
— В Млечах нет преподавателя географии и естествознания, в Корытнице — директора школы, — перечисляла она. — В Шлешовицах — специалиста по сельскохозяйственным машинам и ветеринарному делу, в Ежовой Воле — физика, химика и математика. И так далее и тому подобное. Всюду одна и та же картина.
— Можно мне посмотреть?
— Конечно! А я пока кофе приготовлю. Надеюсь, оно будет не хуже, чем тогда в кафе.
Но она не сразу отошла от стола. Не могла оторваться от формуляров. Стояла молча, не спуская с них глаз, верней, следила, как Анджей их просматривает.
— Вот увидите, вы не пожалеете о своем решении, — сказала она наконец. — Почувствуете, как вы нужны.
Уриашевич углубился в чтение. И перед его мысленным взором проходила школа за школой. Не хватало помещений, учителей, книг, учебных пособий, скамеек, столов, — словом, самого необходимого. Кое-где положение было лучше. Записи Климонтовой о школах, совсем благополучных, Уриашевич просматривал по нескольку раз. И в эти минуты на второй план отступало все, ради чего стал он просматривать ее отчеты. Ближе к Сохачеву или дальше, на правом берегу Вислы или на левом — это теряло решающее значение. Он читал с возрастающим интересом и последние листки прочел от первой до последней строчки. А перелистав всю папку, задумался.
— Знаете, чего я боюсь? Бесконечных формальностей. Это очень сложно? — спросил он.
Климонтова улыбнулась.
— Чтобы приступить к работе, никаких формальностей не нужно. Можете начинать хоть завтра. Только вот с зарплатой придется немного подождать, но отдел сельскохозяйственных школ выплатит вам потом за проработанные часы.
— Понятно.
Тут она вспомнила первый их разговор и его слова, что при такой маленькой зарплате, наверно, приходится часто ездить в командировки, чтобы подработать. Она тогда оскорбилась. Но, пожалуй, и хорошо, что ему заранее известно, сколько получают учителя. По крайней мере, не будет этих удивленных восклицаний, которые приходится выслушивать каждый раз от желающих устроиться в школу. Такая усталость охватывала, когда после этих ахов и охов приходилось объяснять, убеждать. Усталость и злость. Только бессердечные люди не способны понять, что восстановление требует жертв, и подчас немалых.
— Жалованье у нас маленькое, — сказала Климонтова.
— Это не важно.
— Вот и хорошо! — повеселела она.
Они пили кофе, и Уриашевич, глядя на ее гладко причесанные волосы, открывавшие высокий лоб, внимательно слушал обстоятельный рассказ.
— Мы в школьном отделе стараемся идти навстречу тем, кто хочет завершить свое образование, — говорила она, — но, с другой стороны, направлять в одно место слишком много таких преподавателей тоже не годится. Ведь им нужно регулярно ездить в институт, и с этим нельзя не считаться, но плохо, если в школе из-за отсутствия учителей срываются занятия и воцаряется хаос. По опыту школ, расположенных близ Варшавы, мы уже знаем, к чему это приводит. Но я убеждена, что в конце концов для вас найдется школа недалеко от Варшавы, где не слишком много преподавателей, которые продолжают учиться.
Он опустил голову. Только сейчас дошло до него, чем объясняет она его желание работать поближе к Варшаве.
— Уж лучше утомительная дорога, чем физическая работа, — продолжала Климонтова. — Совмещать с ней учебу вам было бы не под силу.
— Что вы имеете в виду?
Недоумевающий Анджей вспомнил, что́ обнаружила она у себя в комнате в ту ночь. Естественно, при виде лопат и кирки ей пришло в голову, что Анджей занимается физическим трудом. Но сказать правду он не мог и потому не стал ее разубеждать.
— Может быть, вам неприятно, что я сомневаюсь на этот счет, — сказала она. — Может быть, вы и справитесь. Но это потребует огромного напряжения. У вас ведь нет навыка к физической работе, вы с детства к ней не приучены. Зачем же рисковать будущим, если, работая в школе, вы добьетесь в учебе больших успехов? Важен ведь конечный результат. Раз вы уж проучились несколько лет в институте, не надо этим пренебрегать. Нам потребуется много инженеров.
Он не в состоянии был отозваться, хотя понимал, что нужно. Даже улыбнуться не мог себя заставить и слушал с каменным лицом.
— Тетушки много рассказывали мне о вас. — Взгляд ее голубых глаз устремился на Анджея. — После большого перерыва трудно снова браться за учебу, кажется, будто мозги ржавчиной покрылись, но это пройдет. И скоро вам опять все будет легко даваться, как раньше, когда вы экзамен за экзаменом сдавали на круглые пятерки. Вот увидите!
— Может быть, — уклончиво ответил Анджей.
Помолчав, она опять заговорила, теперь о себе.
— Учиться, учить других, ученье — это для меня вообще нечто священное. — В ее голосе послышалось волнение. — Отец мой работал трамвайным кондуктором, нас, детей, у него было пятеро, и всех он отдал учиться. Помню, бывало, получит кто-нибудь хорошую отметку, отец ничего не скажет, только целый вечер все подмигивает то одним, то другим глазом и еле сдерживает довольную улыбку. Таким я его запомнила навсегда.
— Ваш отец давно умер? — спросил Уриашевич.
— Его расстреляли.
— В Варшаве?
— В сорок четвертом году. Всю их группу арестовали на квартире, на улице Гротгера. Никто не уцелел.
Она назвала некоторые фамилии. Уриашевичу они ничего не говорили. Только одна показалась словно бы знакомой. Минуту спустя он сообразил почему.
— Ах, это какой-то, чьим именем названа улочка за Банковской площадью. Как же она раньше называлась?
Оставив этот вопрос без внимания, она подтвердила:
— Да, его именем… С этим «каким-то» и погиб мой отец.
Ответ против ее воли прозвучал резко. Но перевоспитывать Уриашевича она не собиралась и тут же сдержалась.
— Не дожил отец! И они не дожили. Значит, не суждено! — сказала она. — Трудно с этим смириться!
Анджей машинально перевел взгляд на фотографию у окна.
— Брат? — тихо спросил он.
— Нет.
— Кто-нибудь погибший?
Она на миг утвердительно прикрыла глаза и кивнула. Невозможность для нее примириться с фактом, что многие не дожили, относилась и к человеку на фотографии. Уриашевич сразу это понял.
— Родственник?
— Жених.
Всякий раз, когда речь заходила о его смерти, она долго не могла успокоиться.
— Всю оккупацию в партизанах был, — сказала Климонтова, — потом в армию вступил, с боями прошел тысячи километров от Хелма до Берлина, а кончилась война — погиб от руки соотечественников.
Она поднялась, убавила газ и еще что-то сделала, стоя спиной к Анджею, потом взяла чашки и налила кофе.
— Вы свободны завтра утром? — спросила она.
— Конечно.
— Тогда приходите, пожалуйста, к десяти в министерство сельского хозяйства. Воеводский отдел сельскохозяйственных школ в том же здании. Я пойду с вами, представлю вас заведующему, и подумаем вместе, в какую школу вас направить.
— Спасибо!
— А где находится министерство, вы знаете?
— Найду в телефонной книге.
Она написала на листке бумаги адрес и сказала, чтобы не потерял.
— Спасибо! — повторил он.
С самого начала разговора он испытывал чувство неловкости. Было оно вызвано и недоразумением с его учебой, и доброжелательным отношением Климонтовой к его планам, которые она приняла на веру. Рассказ о смерти жениха прогнал эту скованность, но на смену явилось куда более гнетущее чувство. Он понимал, что это был за человек, если его убили, и кто — убийцы. Внутри у него все содрогнулось при этой мысли, но он не желал думать ни о чем таком. И вздохнул с облегчением, когда Климонтова подробно стала обсуждать его устройство на работу.
— Да, вот еще что, — сказал он, беря у нее адрес министерства. — Мне бы хотелось, чтобы никто не знал о моем решении. Даже мои родственницы.
— Может, это и лучше.
— Почему?
Она снова истолковала слова Уриашевича по-своему.
— Я тоже, когда принимаю важное для себя решение, не люблю распространяться об этом и доказывать свою правоту. Берусь за дело — и все! Ваши тетушки все подвергают такой критике! — немного погодя прибавила она. — Ко всему относятся так скептически! Просто руки опускаются! Поезжайте, я ничего им не скажу, вы сами с ними поговорите, когда убедитесь, что поступаете правильно.
— Я вам бесконечно благодарен, — сказал Уриашевич едва слышно.
И с превосходящим простую благодарность смущением поднес к губам обе ее руки. Они были шершавые, неухоженные. Растроганный Анджей целовал их дольше, чем следовало, — с неподдельным чувством, которое должно было заменить невозможную между ними откровенность.
Внизу хлопнула дверь и заскрипели ступеньки.
— Одна из ваших тетушек идет сюда, — сказала Климонтова.
Не успела она договорить, как в дверях выросла запыхавшаяся, возбужденная Ванда. Она была так взволнована, что забыла постучаться. Анджей выпустил руки Климонтовой.
— А, это ты! — вскричала тетка. — Не ожидала, что застану тебя здесь.
Только сейчас они заметили, что за ней волочится по полу что-то длинное, переливающееся.
— Как ты мог это сделать, Анджей? Как ты смел!
Двумя пальцами брезгливо подняла она свисавшее до полу трико, похожее на егерское, но с серебристым отливом и очень тонкое. А в левой руке держала короткий корсаж темно-синего бархата, вышитый лилиями.
— Ты маме это принес? — набросилась на него тетка.
Что было в свертке, который Иоанна передала для бабушки, он не знал.
— Лучше не отвечай, а то еще соврешь!
Она смотрела на него, как в детстве, когда он, бывало, набедокурит.
— Стыд и позор! Вступать с нею в тайный сговор. И приносить эту мерзость маме!
Она швырнула на стол корсаж и трико и обратилась к Климонтовой:
— Не потерплю этого у себя в доме! Тем лучше, что я застала здесь Анджея. Пусть забирает эти тряпки и вас тоже избавит от них.
Что касается Иоанны, Климонтова была немного в курсе дела: Ванда просила ее не упоминать при матери о заметках в газетах и расклеенных афишах.
— Просто стыдно перед вами. — Возмущенный голос Ванды стал жалобным. — Я не решалась до сих пор рассказать вам всю правду о сестре. Вот ее балетный костюм — она изображала в нем святую, а на деле мужчин приманивала.
И мысли и взгляд ее прикованы были к костюму Иоанны.
— Лилии! — Голос ее задрожал. — Но из какой они трясины! Все это осквернено нездоровыми взглядами, похотливыми прикосновениями, бесстыдными объятиями! В Париже, в Америке, всюду. Никому, нигде не было отказа!
Внезапно она расплакалась.
— И все это обнаружила я в маминой постели. Помимо всего прочего, это же просто негигиенично!
Анджею стало жаль тетку. Она всегда избегала говорить с ним об Иоанне. И вдруг ее точно прорвало. Но обстоятельства не благоприятствовали разумному объяснению, и Анджей не пытался ни оправдываться, ни защищать Иоанну, а просто хотел успокоить Ванду. Но едва он попытался ее обнять, она оттолкнула его.
— Думаешь, мне удовольствие доставляет вытаскивать из-под матраца и насильно отнимать у мамы эти тряпки. Но я делаю это ради самой мамы, ради прежней физически и умственно здоровой мамы, она бы никогда нам не простила, смалодушничай и помирись мы с Иоанной, предав забвению все случившееся!
Носового платка у нее не оказалось, слезы текли по щекам, и она размазывала их по лицу красными, потрескавшимися руками, которые обычно стыдливо прятала.
— Думаешь, мне приятно просить панну Климонтову, чтобы она взяла эти тряпки, которые каждая порядочная женщина сожгла бы в печке, что я и сделала бы, не закричи мама так страшно…
И она выбежала из комнаты. А они стояли, ни слова не говоря. Первой нарушила молчание Климонтова.
— Панна Ванда заблуждается. Бабушка ваша в здравом уме. И прекрасно все понимает. — Поколебавшись, она превозмогла себя и сказала: — Школа школой, но жалко все-таки, что вы не можете жить со своими. Комнату, которая наверняка предназначалась для вас, заняла я. Но вам я не могу ее уступить — комната закреплена не за мной, а за школьным отделом, а там огромная очередь ждущих жилья в Варшаве. Я уже справлялась.
— Зачем вы это говорите, — перебил он, смутившись.
— Да, конечно, — сконфузилась она еще больше. — Если ничего нельзя сделать, так незачем и говорить. Итак, до завтра, — напомнила она на прощанье.
Внизу у двери его поджидала тетка. Она схватила Анджея за руку.
— Боже, я не могла предостеречь тебя при ней, ведь это же касается ее, — послышался в темноте теткин голос. — Вчера у нас, к счастью, был ксендз Завичинский. Он справлялся, что из себя представляет эта Климонтова. Ей нельзя доверять. Она еще до войны была коммунисткой.
Он понимал: спорить с ней бессмысленно. И только воскликнул с возмущением:
— Тетя, нельзя же так!
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Теперь он уходил из дома утром и возвращался не к обеду, как раньше, а поздно вечером. Целый день бегал он по делам: то в отдел сельскохозяйственных школ, где его приняли очень хорошо, то к старым институтским преподавателям, которые его помнили и могли проставить отметки. Свидетельство Анджея пропало, архив политехнического института сгорел во время восстания. Ему было уже известно, что направляют его в Ежовую Волю, откуда до Мостников рукой подать. Познакомился он даже с директором школы Томчинским, нервным пожилым человеком с бородкой и в сапогах до колен. Климонтова отзывалась о нем с большим уважением. Уриашевич не чувствовал к нему особой симпатии. Директор довольно прохладно отнесся к тому, что в школу направляют преподавателя по точным наукам. Видно, у него других забот хватало.
Когда Анджею случалось дожидаться Климонтову, заведующего или служащих, которые занимались его оформлением, он невольно прислушивался к разговорам в отделе. Говорили, о зарплате, тарифной сетке, о карточках и пайках, упоминали какие-то незнакомые ему книги, обсуждали статьи, напечатанные в газетах, название которых он впервые слышал. Неподалеку от министерства обнаружил он читальню. И стал заглядывать туда, если дела складывались так, что приходилось вторично наведываться в отдел: читал кое-что, просматривал, — отчасти для того, чтобы быть в курсе событий, а отчасти из любопытства. Но в разговоры не вступал. Даже оставаясь наедине с Климонтовой, никогда не заговаривал первый и мнения своего не высказывал. С жадностью ловя каждое ее слово, никаких вопросов не задавал и не просил о новом свидании. Впрочем, она была очень занята. И встречались они только по делу.
О картине он старался не думать. Что она найдется благодаря встрече с Кензелем, он не сомневался точно так же, как после рассказа Климонтовой о рабочем, приезжавшем демонтировать фабрику с тощим долговязым директором, уверовал, что Кензель жив. «Так ведь оно и оказалось! — говорил он себе. — А уж там видно будет, что дальше делать».
Конечно, вся эта затея — сущее безумие: как иголку в стоге сена искать. И сколько придется здесь пробыть, тоже неизвестно. Поиски, на взгляд Рокицинского, могли продлиться не один месяц. Значит, надо запастись терпением. Из знакомых лишь ксендзу Завичинскому сообщил он, куда и зачем едет. Ему пришлось открыться, так как у Анджея была к Завичинскому просьба в связи с пребыванием в деревне, — просьба, от которой многое зависело. Ксендз согласился ее выполнить и обещал молчать. С Хазой Анджей, напротив, избегал всяких разговоров о своей работе в школе. Он не мог себе простить, что вообще ему проговорился. Бабушку и теток тоже не хотел посвящать в свои планы. Все, что касалось картины и Кензеля, хранил он в строжайшей тайне. Такое условие поставил Рокицинский, и он отнесся к этому со всей серьезностью, решив ничего не говорить даже теткам — отчасти из-за Климонтовой. Они не умели держать язык за зубами и вполне могли ей проболтаться, что он-де не случайно согласился уехать, у него-де на это особые причины. Нечего сказать, хорошего бы она была мнения о нем!
На другой день после сцены с Вандой позвонил он Иоанне. Но ее не было в Варшаве. Это его огорчило. Не теряя времени помчался он в гостиницу узнать, когда она вернется. Оказалось, через неделю; значит, скоро; тем не менее настроение у него лучше не стало. Он понимал: не оттого, что не сможет ей рассказать про Ванду, а потому, что она обещала его познакомить с юной балериной. Он спросил гардеробщика в кафе про Степчинскую, тот осведомился, что ей передать. С первого слова догадался, о ком речь. Значит, она бывает здесь, и довольно часто. Только от этого нисколько не легче.
В последнее время он повсюду — дома, в трамвае, в читальне, в кафе — ловил себя на том, что, закрыв безотчетно глаза, пытался воскресить в памяти ее образ. В такие минуты он не мог думать ни о чем другом, сердце начинало бешено колотиться, к горлу подкатывал комок. Перед глазами, как в тумане, появлялись ее руки, склоненная головка с гладкими черными волосами, легко снующие в танце ноги, улыбка. Не улыбка даже, а смутное о ней представление, настолько она уже стерлась из памяти. Но едва образ ее всплывал в воображении, он терял власть над собой. Часами просиживал в кафе — иногда до самого закрытия. Анджей старался держать себя в руках — ходил к назначенному времени к институтским профессорам, к Климонтовой и вообще делал все, что надо, но, освободясь, сломя голову летел в это кафе и злился на себя, на Степчинскую, проклиная свое невезение. День отъезда между тем приближался. Однажды он чуть не сделал глупость, но, дойдя до дверей балетного училища, повернул обратно: не решился вызвать Степчинскую с урока. Хорош бы он был! А Иоанна не приезжала.
Наконец все было улажено, и он мог ехать, больше того, должен был ехать. Но попросил отсрочку на один день, потом еще на один. Написал Степчинской письмо и разорвал на мелкие клочки. Всякий раз делал он крюк, чтобы пройти мимо училища. Кровь стучала у него в висках, он стискивал зубы и, стараясь побороть волнение, дыша ровно, глубоко, повторял вполголоса слова, заранее приготовленные на случай встречи. Им целиком завладело решение во что бы то ни стало повидаться с ней перед отъездом; порой собственное упорство смешило его, порой приводило в бешенство. Выходя утром из дома, он каждый раз был исполнен решимости покончить с этим самым естественным образом — оставить в кафе или в школе записку с просьбой о свидании. Придет — хорошо, не придет — еще лучше, двум смертям не бывать, а одной не миновать! Но в последний миг его охватывали сомнения: а вдруг он все испортит.
— Что — все?! — повторял Анджей вслух, злясь на себя, но ничего не мог с собой поделать и помимо воли, вопреки здравому смыслу, строил далеко идущие планы.
Дело кончилось тем, что записку он так и не оставил.
— Ну и втрескался! Вот это да! Совсем сдурел!
* * *
Они сидели в том самом ресторане, где месяц назад Анджей посвятил Хазу в тайну картины, а тот кратко рассказал, как партизанил. Сейчас с ними была еще Иоанна.
— Ты прекрасно выглядишь! — глядя на нее, не переставал удивляться Анджей. — Что, суставы перестали болеть?
— Сняло как рукой! — Иоанна, тряхнув головой, откинула волосы со лба. — Ты не представляешь, как гнусно я себя чувствовала! Особенно в тот день на школьном спектакле у Тарновой. А потом и вовсе расклеилась!
Она несколько часов как приехала. А он на следующее утро чуть свет уезжал из Варшавы. Что откладывать отъезд больше нельзя, Анджей сам понимал. И уже послал в Ежовую Волю телеграмму, поставил в известность школьный отдел, нанес визит теткам, пообедал с Климонтовой, а Хазу пригласил поужинать на прощанье в ресторане. Приняв решение, он сразу успокоился. И всю вторую половину дня укладывал вещи, штопал, чистил и в кафе даже не заглянул. Но по дороге в ресторан не утерпел и завернул в гостиницу — в последний раз справиться об Иоанне. Оказалось, она вернулась.
— В Кракове замечательные врачи, — рассказывала Иоанна, сидя в ресторане с Хазой и Анджеем. — Душу из тебя вытрясут, но на ноги поставят. Это уж точно!
И смерила Хазу тем же взглядом, что при встрече. Пожалуй, даже слишком холодным и высокомерным для него.
— Точно! — повторила она и, обернувшись к Анджею, оживленно заговорила: — Велели только быть поосторожней. Никаких экстравагантностей! Зато разрешили снять шерстяное белье, которое я из Франции привезла. Помнишь, сколько на мне было наворочено, а теперь — гляди!
И, засучив рукав костюма, она продемонстрировала, что вместо шерстяного белья и толстого свитера на ней один тоненький.
— А мне можно посмотреть? — спросил Хаза.
— Что именно?
Ее тон по отношению к Хазе начинал Анджея раздражать. Он и сам с некоторых пор чувствовал, что между ним и Хазой нет прежней близости. Что-то мешало Анджею относиться к нему по-дружески, как в первые дни после возвращения. И хотя он старался не думать, чем это вызвано, причина была ему ясна. Но почему Иоанна-то с первого взгляда почувствовала к нему предубеждение? Он ведь был их дальним родственником, другом Анджея, в доме часто бывал, а теперь вот Анджей пользуется его гостеприимством, живет у него. Все это Анджей сказал, когда знакомил их, и повторил потом, видя, как Иоанна его третирует. Но тщетно!
— Можно вам еще водочки налить?
Она не отказалась. А когда Хаза наливал, молча разглядывала его большие, сильные жилистые руки.
— Тебе и пить, наверно, нельзя? — заметил Анджей. — Правда?
— Объясни это пану Хазе, — с гримаской пожала она плечами. — У вас что, способ такой ухаживать за дамами? — обратилась она к Хазе, криво усмехаясь. — Небось не одну с помощью водки покорили?
— Чего ты пристала к нему? Неужели тебе это доставляет удовольствие?
— Колоссальное! — весело откликнулась она и сказала загадочно: — Только это не имеет прямого отношения к пану Хазе. — И чтобы прекратить этот разговор, спросила Анджея: — Как мама? Ты передал ей?
Понизив голос, стал он рассказывать, что произошло. Придвинувшись поближе друг к другу, они тихо переговаривались между собой. Она опустила голову. И волосы упали на лицо, закрыв его совсем.
— Прости нас, пожалуйста, — извинился Анджей перед Хазой. — Тут, знаешь, дела семейные.
Иоанна отстегнула брошку с бирюзой и робко подвинула ее к Анджею.
— Ты не зайдешь к маме перед отъездом?
— Нет.
Иоанна повертела брошку в руках, потом приколола обратно и потянулась за рюмкой.
— Когда ты вернешься?
О своей поездке он сообщил ей то же, что и остальным: едет, мол, на Познанщину к своему приятелю, лесничему.
— Месяца через два-три, — прибавил он в дополнение к уже сказанному.
— Неужели ты мог уехать, не попрощавшись со мной!
— Я справлялся о тебе ежедневно. Разве тебе не передавали в гостинице?
Она хлопнула в ладоши.
— А я-то себе голову ломала, кто это так меня домогается! Оказывается, ты!
Она посмеялась немного над Анджеем, но больше над собой. И, наклонясь к нему, чмокнула его по-родственному в щеку и зашептала на ухо:
— Спасибо тебе! Это самая приятная неожиданность, твои телефонные звонки. Мы же как-никак из одной семьи.
Она старалась пить меньше, изредка поднося к губам рюмку и отхлебывая глоточек. Но выпитая водка все-таки оказывала свое действие. Смех ее звучал громче и чаще. Хаза пил много, становясь все более серьезным и предупредительным: присутствие Иоанны его стесняло. Он внимательно слушал ее рассказы о Париже, о знаменитых актерах и балеринах. Время летело незаметно. И когда официантка принесла им счет перед закрытием ресторана, они очень удивились:
— Как, уже одиннадцать? Не может быть!
Хаза предложил пойти в ночное заведение. Он знал их наперечет, каждое охарактеризовал в отдельности, а одно рекомендовал особенно усиленно.
— А ты что на это скажешь? — обратилась Иоанна к Анджею.
— Может, в самом деле пойти куда-нибудь?
— Но куда, я спрашиваю? Куда?
Она так откровенно не желала считаться с мнением его приятеля и так бесцеремонно давала это понять, что даже Хаза, который на женщин не имел обыкновения обижаться, оскорбленно замолчал.
В дансинге он почувствовал себя уверенней. Не только оттого, что в результате они отправились именно туда, куда он хотел, и не от выпитой водки. Просто здесь мешала разговаривать оглушительная музыка. Иоанна и Анджей молча оглядывали зал, а Хаза, который знал почти всех посетителей в лицо, охотно давал пояснения. Осмелев, он попросил разрешения рассказать анекдот. Второй рассказал уже без разрешения. Потом стал приставать к Иоанне, предлагая с ним потанцевать.
— Нет, все-таки боюсь, — поколебавшись, ответила она.
— Меня?
— Еще чего! Боюсь за свои суставы. Мне запретили делать резкие движения.
— Вот жалость-то! — заржал Хаза.
Иоанна устремила на него все тот же холодно-любопытный, неприязненный, немного вызывающий взор, приглядываясь к его глазам, форме головы, к носу и рукам, снова наливавшим ей водку. Потом попросила у него сигарету. Но у Хазы все вышли, и он направился к буфету.
— Кажется, он тебя раздражает? — шепнул Анджей.
— Нисколько! — повторила Иоанна. — Он очень забавен.
— Ты шутишь!
— Нет, правда. Он вульгарен, глуп, у него, как у обезьяны, близко посаженные глаза и руки убийцы. Твой Хаза до смешного напоминает мне человека, по которому я когда-то сходила с ума. И внешне и внутренне похож — те же жесты, те же словечки. Боже, как я страдала из-за него! Какой я была дурой! — И докончила, когда Хаза вернулся с сигаретами: — А теперь вот смотрю на его подобие — и ничего, только смешно. Ты не представляешь, какое это облегчение!
В зал вошли новые посетители — стройная молодая женщина в обществе нескольких мужчин. Женщина поклонилась Иоанне, та погрозила ей пальцем.
— Не узнаешь? Она тоже танцевала тогда на вечере. Задам я ей завтра перца за то, что шатается по ночам. У нее еще достаточно времени впереди. Чем раньше женщина начинает вести такую жизнь, тем скорей она ей надоедает. Не понимаю, зачем таскать за собой столько мужиков? Степчинская — помнишь, такая хорошенькая и талантливая, я говорила тебе о ней, — в этом отношении ничуть не лучше.
Он не поддержал разговора о Степчинской; ему взгрустнулось, но не из-за отъезда. Просто захотелось поскорей очутиться в вагоне. Он взглянул на часы.
— Уже пятый час! А поезд в семь.
— Времени у тебя еще достаточно! — заметил Хаза.
— Да нет, побриться еще надо, ванну принять. Мне пора!
— В таком случае, чтобы достойно закончить вечер, пойдемте завтракать ко мне! — глядя на Иоанну, воскликнул Хаза.
Дома нашлась бутылка коньяку, Хаза, беспрерывно остря и первый же заливаясь смехом, с помощью Анджея приготовил кофе. Он был доволен собой и тем, как они провели ночь.
— Тетка у тебя мировая! — сообщил он Анджею на кухне. — Правда, не в моем вкусе. И старовата для меня. По мне, лучше уж совсем зеленая, чем такая перезрелая. Но баба она мировая!
Когда, по расчетам Анджея, пора уже было выходить, он запер свои чемоданы и вынес их в переднюю.
— Шесть часов! К сожалению, я должен идти. А ты? — обратился он к Иоанне.
— В таком случае, чтобы достойно закончить вечер, — смеясь, повторила она слова Хазы, — проводим его на вокзал.
Хаза встал с тахты, потянулся и сказал со вздохом:
— Конец невеселый! Ну, что поделаешь!
* * *
Прибыли утренние поезда; Анджей, Иоанна и Хаза двигались навстречу людскому потоку. Вокзал гудел, как пчелиный улей.
— А ты что тут делаешь?
Анджей обернулся, и чемоданы чуть не выпали у него из рук. Иоанна здоровалась со Степчинской.
— Пан Хаза, — представила она его первым, так как он стоял ближе. — А это мой дорогой племянник, о котором я тебе говорила.
Ладонь у Степчинской была узкая и мягкая, рукопожатие энергичное. Выглядела она иначе, чем на сцене, — гораздо интересней. Улыбка у нее была удивительно милая и естественная. Вблизи Анджею показалось, будто перед ним сестра той танцовщицы, только во сто крат красивее.
— Вы что уставились друг на друга? — спросила Иоанна. — Успели уже познакомиться?
— Нет! — замотала Степчинская головой.
— Нет! — повторил Анджей.
На ней была шапочка оранжевого цвета, из-под которой виднелись черные блестящие волосы. Руки она засунула в карманы подбитого мехом пальто. Губы были чуть приоткрыты.
— Что ты тут делаешь? И почему молчишь, когда тебя спрашивают? — допытывалась Иоанна.
— Просто так!
— Что значит «просто так»? Я спрашиваю тебя, что ты тут делаешь, а ты молчишь. Это что, секрет?
— Простите, я вас не поняла, никакой не секрет. Встречаю маму.
Хаза побежал за перронными билетами. В ожидании, пока он вернется, они стояли втроем и разговаривали. Верней, говорила главным образом Иоанна: сообщила, что Анджей уезжает и куда именно, что они прокутили всю ночь и что Галина считает ее своим идеалом. Степчинская отвечала односложно.
— Что с тобой? Такая болтушка всегда, а сегодня слова из тебя не вытянешь.
— Так просто, — снова повторила Степчинская.
Оказалось, им нужно на одну и ту же платформу. Оба пути были пока свободны: поезд, которым приезжала мать Степчинской, опаздывал, а состав Анджея еще не подали. Дул пронизывающий ветер. И чтобы согреться, они стали прогуливаться по перрону — до конца и обратно к вокзальным строениям. Прохаживались парами: Хаза с Иоанной, Анджей со Степчинской. У Анджея колотилось сердце. Он поминутно отводил глаза в сторону, боясь показаться навязчивым. Но взгляды их то и дело встречались, и это приводило его в замешательство. Слова, заранее приготовленные на случай встречи, вылетели из головы. Он чувствовал, что теряет драгоценное время.
— Тогда на вечере…
— Не будем об этом говорить! — перебила она. — Я вела себя как последняя идиотка!
— Но…
— Довольно об этом! Хватит.
Произнесла она это резко, без тени кокетства или заигрывания. Руки в карманах напряглись, подбородок вздернут кверху. Она была раздражена, — видно, со школьным вечером связаны у нее неприятные воспоминания, и она даже слышать о нем не хотела. «Не может простить себе улыбку», — промелькнуло в голове у Анджея.
— Я думал, что никогда с вами не увижусь.
— Я тоже, — призналась она.
— А мне безумно хотелось этого!
Степчинская промолчала, но благосклонно выслушала, как бегал он в кафе, искал ее повсюду и хотел даже оставить записку у гардеробщика или в училище. Но стоило ему опять упомянуть о вечере, как она тотчас перебила, рассердившись на сей раз уже на него, а не на себя.
— Кажется, я достаточно ясно сказала, что не желаю об этом слышать. Прошу со мной этой темы больше не касаться, а то я никогда не буду с вами разговаривать. Учтите, никогда в жизни!
— Да нам, собственно, и некогда! — воскликнул он.
К перрону медленно подходил познанский поезд. Люди бросились к вагонам занимать места. Хаза лез вперед, всегда готовый услужить, когда можно похвастать своей силой. Иоанна издали делала Анджею знаки взять чемоданы. Анджей со Степчинской как раз поравнялись с какой-то стеной — недавно побеленная, она была уже замызгана, заляпана грязью, исписана именами, фамилиями, разными словечками и непристойностями. От расстройства и злости, что вот, вместо того чтобы до самого отправления поговорить спокойно со Степчинской, надо втискиваться с чемоданами в вагон и занимать место, он вдруг ни к селу, ни к городу заговорил об этой стене.
— Вот бескультурье! Посмотрите, что за надписи!
А она, увидев, что пора прощаться, вынула из сумочки губную помаду. Улыбнулась сетованьям Анджея и, перестав подкрашиваться, написала на стене алыми буквами: «Жду письма».
— Спасибо! — прошептал он горячо и взял ее за руку, но она вырвалась и закричала:
— Бежим, а то поезд уйдет!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
«Дорогая Галина! — неделю спустя писал Анджей из Ежовой Воли. — Наконец-то пишу вам! Собирался это сделать сразу после приезда, но не получилось. Вспоминаю нашу встречу, уготованную словно самой судьбой, и милую вашу просьбу написать. Но я страшно закрутился. Надо было и устроиться, и оглядеться немного в совершенно незнакомой обстановке. А в таком состоянии трудно собраться с мыслями и сесть за письмо. Так что поймите меня, пожалуйста, правильно. И еще у меня к вам большая просьба. Не говорите никому, откуда вы получили письмо. Дело в том, что пишу я не из познанского лесничества, а из сельскохозяйственного училища в Ежовой Воле, в пятидесяти километрах от Варшавы, которое помещается в красивой усадьбе, окруженной парком в несколько гектаров.
Я буду здесь работать учителем. Никто из моих близких об этом не знает. Даже Иоанна. На вокзале, когда она сообщила вам, куда и зачем я еду, не было ни времени, ни возможности объясниться. Впрочем, я вынужден здесь поселиться по причине не совсем обычной. Расскажу подробнее при встрече: я время от времени буду наезжать в Варшаву. А пока прошу хранить это в тайне ото всех. Включая Иоанну.
Как долго я здесь проживу, пока неизвестно. Мне предстоит заняться преподавательской деятельностью, чего я никогда в жизни не делал. Может статься, что у меня нет призвания, и потом я не уверен, сумею ли приспособиться к здешним условиям. А если окажется, что мне это не по плечу или сам я по собственному желанию решу отсюда уехать, то не хотелось бы, чтобы все узнали о моей неудаче. Вот в общих чертах, почему я так настаиваю на тайне.
И еще одно. Раз вам теперь известно, где я, надеюсь, вы будете снисходительны и к тому, на какой бумаге это письмо написано. Поскольку я ни с кем не рассчитывал переписываться, то и бумаги с собой не захватил. А тут ни в лавочке, ни в школьном киоске ничего нет, кроме тетрадей. По этой причине и пишу вам на листках, вырванных из ученической тетради в клеточку. Может показаться странным, что я уделяю столько внимания пустякам, но пусть у вас не закрадывается и малейшего подозрения, будто это вызвано недостатком уважения к вам. Ничего подобного, уверяю вас! Да и как можно с неуважением относиться к тому, от кого зависит исполнение твоих самых горячих желаний. А мои непременно, во что бы то ни стало должны исполниться! Я имею в виду весточку от вас. Она доставила бы мне огромную радость!»
Анджей отложил в сторону исписанную страничку и, вынув с помощью перочинного ножа вторую, склонился над ней.
«Впечатлений множество! — писал он дальше. — Когда я с вами попрощался и очутился в битком набитом купе, мое внимание сразу привлек разговор двух пассажиров, хотя кругом говорили одновременно о самых разных вещах. Я сообразил, что речь идет о школе, подобной моей. Мне захотелось принять участие в разговоре, и я пересел поближе. Но я больше слушал, чем говорил. Так доехал я незаметно до своей станции. В Мостники за мной выслали лошадь. Директора на месте не оказалось, и какой-то парень провел меня в канцелярию. Началось ожидание. А тем временем в соседнюю комнату, которая предназначалась для меня, втаскивали кровать: каким-то чудом удалось ее раздобыть. Потому что мебели здесь вообще не хватает. До войны ее тоже было немного: владельцы Ежовой Воли жили не здесь, а в другой усадьбе и все, что получше, отсюда позабирали. Остальное довершила война. А средств на приобретение новой мебели нет. После обеда у директора, а живет он в отдельной, переделанной из двух больших комнат квартире с кухней в том же крыле дома, где канцелярия и моя комната, обошел я классы и спальни девочек и мальчиков. И всюду не хватает чего-нибудь, скамей только полно — крестьяне снабдили ими школу в большом количестве. А вот топчанов и шкафов… Учеников по сравнению только с прошлым годом вдвое больше, а в последнее полугодие и еще прибавилось. Мебели тоже, но она прибавляется значительно медленней.
Директор — он здесь с сорок пятого года, — рассказывал, с чего пришлось начинать. Не было ни окон, ни дверей, крыша протекала. Жил он не в главном здании, а во флигельке, где раньше помещалась контора, в хозяйственных же пристройках и в парке хозяйничали кто и как хотел. Правда, не совсем, потому что директор и несколько человек из деревни, кто его поддерживал, дежурили то по очереди, то все вместе, пытаясь хоть что-то спасти. Благодаря им уцелели, например, деревья в парке.
Томчинский (директор) и его люди пытались убеждать тех, кто приходил рубить деревья, а они пускали в ход топоры, иногда револьверы и обрезы. Возьмут и выпалят, чтобы отделаться от надоедливых уговоров. Так погиб один бывший батрак из имения, — сейчас сын его учится в нашей школе.
Изо всех передряг директор вышел цел и невредим. Симпатичным его не назовешь. Слишком он сух и резок. До войны служил он на почте где-то у восточной границы, хотя и окончил высшую сельскохозяйственную школу. Мне кажется, он относится ко мне с предубеждением. Может, оттого, что меня не было здесь с самого начала? И явился я, так сказать, на готовенькое, когда жизнь более или менее наладилась. А может, потому, что мне чужды дела и идеи, служению которым он посвятил свою жизнь, и притом не со вчерашнего дня. Предчувствие его не обманывает. Я действительно чужой. Не в том смысле, что враг или мне все безразлично. Просто я воспринимаю его слова так, будто только вчера родился. Я имею в виду не школьные дела, а его взгляды вообще, его мировоззрение. Что бы он ни сказал, первое ощущение такое, будто речь не о нашем мире, а о другой, неведомой планете. Но оказывается — о нашей. Впрочем, может, я ошибаюсь, что он ко мне относится сдержанно. Но иронически — это точно, хотя и старается это скрывать.
Утром иду на занятия. Сижу с ним на чужих уроках и слушаю. Часа два, три. Томчинский в тетради, аккуратно расчерченной на графы, делает заметки. Потом в учительской растолковывает мне, что к чему. Учить — дело непростое. Это целое искусство: суметь так объяснить, чтобы внимание учеников не рассеивалось и им не было скучно. Прописная истина? Конечно, но как добиться этого на практике? Особенно при неоднородном составе учеников. Образование получают они одинаковое, соответствующее двум классам гимназии, как во всех подобных школах. Но я имею в виду другое: разный уровень подготовки и огромную разницу в возрасте. В одном классе может оказаться пятнадцатилетний парнишка и мужчина двадцати пяти лет. У нас есть такой двадцатипятилетний ученик. Инвалид, хромой, скрываться перестал после амнистии. Есть и бывший милиционер. Его угнали на строительные работы в Германию, потом он работал в Силезии, был в армии, служил в милиции, а теперь вот учится у нас. Пишет каракулями, но память — феноменальная. Прочтешь ему страницу, и без запинки повторит слово в слово. Очень симпатичный, спокойный такой парень. Родом откуда-то из-под Мостников, мечтает поселиться в деревне и работать в каком-нибудь сельскохозяйственном кооперативе или товариществе по обработке земли. Отец крестьянин у него. Но в семье пятеро детей, а земли всего два гектара. Поэтому рассчитывать на то, чтобы отделиться и хозяйничать самостоятельно, не приходится. Его заветная мечта — стать дипломированным специалистом. Вот и зубрит ночи напролет.
Он не исключение. Таких энтузиастов — человек пятнадцать. Сидят по вечерам в пустых классах и занимаются. Учат уроки, пишут, чертят, вместе разбираются в трудном материале и — спорят. Изо всех сил стараются подтянуться. Помогают друг другу «на началах коллективной ответственности», как выражается мой директор. Хорошие ученики отвечают за слабых. Долг каждого успевающего — помочь отстающему. Так постановили они на собрании молодежной организации, называется она «Борьба молодых», и принимают в нее самых активных. Но кого к кому прикрепить, решает не молодежная организация, а школьный выборный совет, который непосредственно отвечает за успеваемость. Однако конкретно, какую кому оказать помощь, уже дело класса. В самоуправление вовлечены, таким образом, все ученики, сверху донизу.
Как бы ни относился ко мне директор, с ним приходится сталкиваться чаще всего. И с его женой, пани Марией, которая делила с ним в Ежовой Воле все невзгоды. На ее уроках я не был, она ведет практические занятия, а это значит, и методика и подход у нее иные, и, по мнению директора, ничего мне не дадут. Она у нас как живая летопись: помнит все до мельчайших подробностей, стоит завести разговор о том, что происходило здесь год или два назад.
Я часами готов ее слушать. Действительно, хлебнули они горя. Я уже упоминал о грабежах и вооруженных нападениях, но это еще не все. Занятия то и дело прекращались; напуганные учителя, не успев устроиться на новом месте, спешили, покуда целы, поскорей унести отсюда ноги. Учеников — раз-два и обчелся! Отдел сельхозучилищ никаких средств школе не выделял, а требовать с нее требовал. И все время грозились ее закрыть. Осенью, когда приехало всего десять человек, а от остальных, подавших заявления, месяца два не было ни слуху ни духу, все висело на волоске. Пусто было, голодно, тревожно, и каждый день кто-нибудь из учеников приносил новость — то, дескать, мельник со своими приспешниками не сегодня-завтра дом купит на слом и парк вырубит, то якобы директора поклялись убить в отместку за школу, а главным образом за политические убеждения. С грехом пополам перебились до первых морозов. Но тогда уже ни у кого сомнений не осталось, что школе конец. Не завезли топлива! Чем топить? Недели через две ученики и не скрывали, что хотят разъезжаться по домам. Еще день-два, и школа прекратит свое существование. И вдруг как-то вечером вспыхнул пожар. Молодежь погасила его — и осталась. Больше никто и не заикался об отъезде. Пани Томчинская множество таких подробностей помнит.
Или вот, например, как встретили первую ученицу-девочку. Она прибыла с большой партией детей из Германии, куда их угнали; тех, у кого родных не оказалось, репатриационное бюро распределило по школам-интернатам. Когда стало известно, что одну направляют в Ежовую Волю, директор, его жена и все учителя сочли это добрым предзнаменованием. Если центральное репатриационное бюро в Варшаве с согласия министерства сельского хозяйства направляет девочку к ним, значит, школу не только закрывать не собираются, но и вообще она на хорошем счету, иначе не доверили бы им опеку над сиротой. Не один, не два, а десять раз успели это обсудить в учительской, а о Яблонской (фамилия девочки) ни слуху ни духу. «Простая задержка или за этим что-то скрывается?» — недоумевали за плотно закрытой дверью учительской. И вдруг однажды после обеда с криком вбегают ребята:
— Тереза приехала!
— Кто? — переспросила пани Томчинская.
— Да Тереза! Тереза Яблонская!
В спальнях переживали не меньше, чем в учительской, по секрету делясь друг с другом своими соображениями, огорчаясь, что она не едет, — и так сжились с мыслью о ней, что по имени ее называли.
Я с ней познакомился. В этом году она заканчивает школу и как будто остается в Ежовой Воле. Будет работать в канцелярии и помогать нашему животноводу, пану Жербилло, старику в пенсне и неизменной ермолке; ему уже за семьдесят, он был когда-то инспектором по скотоводству в Могилевской губернии, а после первой мировой войны — управляющим в Ежовой Воле; в своей области это крупный специалист и степень получил давно, еще в Германии. Одет в лохмотья (его обчистили до нитки во время нападений на усадьбу), но вежлив со всеми до церемонности; стипендиатов — их у нас несколько — величает «пансионерами», школьное здание — «дворцом», клуб у него — это «fumoir»: во время оно, когда здесь еще помещик жил, это курительная была. В январское наступление сорок пятого года ему ногу зацепила шальная пуля. Ранение не тяжелое, но из-за него он застрял в Ежовой Воле. Пан Томчинский, назначенный сюда директором, всячески его опекал, а поняв, какой это знаток, предложил преподавать. Старик очень удивился, когда ему предложили учить мужицких детей. И до сих пор ребят из других школ — их в нашей округе несколько: пщеларская гимназия, ну и начальные — он иначе не называет, как «гаменами». А про своих учеников говорит ласково: «детвора». Лет ему много, к тому же он прихрамывает. Вот и решили назначить Терезу Яблонскую его помощницей, чем-то вроде ассистентки. Пан Жербилло, оценив ее способности, вызвался дополнительно с ней заниматься французским.
Но ветеринарное дело преподает не он. Ветеринарию, механизацию, сельское строительство и зоологию ведет пан Пахура, правая рука директора и в школе и в деревне по общественной работе. До войны — сельский учитель, всегда в одном и том же черном костюме, который у него совсем залоснился, он окончил бесчисленное множество разных курсов и преподавать может все, что угодно. Знания у него неглубокие, но уроки ведет он мастерски — в отличие от Жербиллы. Беседуя с обоими об их достоинствах и недостатках, директор отдает должное и глубоким познаниям одного, и умению другого, при отсутствии таковых, преподнести материал, чего не умеет первый. Старика Жербилло мнение директора вполне устраивает, Пахура же, слыша это, вешает нос.
Я не сказал еще о польском языке и об истории старой и новой Польши. Это сфера пана Смелецкого, студента третьего курса исторического факультета, который каждую неделю уезжает на воскресенье и понедельник в Варшаву. Человек он, несомненно, образованный, но поговорить с ним пока не удалось, очень уж он занят. Работает много, спит мало — заключаю это из того, что в щели (между нашими комнатами есть дверь) всю ночь виден свет. Через месяц у него экзамены, вдобавок он много читает. Директор очень его ценит. В частности, за то, что Смелецкий занимается с отстающими из второго класса: они в этом году должны были бы кончить, но у них много задолженностей и пробелов. Таких наберется с десяток. Когда Жербилло застает его в классе в неурочные часы, то говорит: «Смотрите, как бы сами на второй год не остались!» — «Я один, а их десятеро!» — отвечает Смелецкий. Директор ставит ему в упрек только одно: что он слишком слепо придерживается довоенных учебников, а в них многое трактуется неверно. И рекомендует ему разные книги и брошюры, кстати, мне — тоже. Но у меня благодаря химии, физике и математике более выгодное положение.
Уроков я пока еще не давал. Завтра первый. Нагрузка у меня двадцать часов в неделю. То есть примерно по три в день. А в первую неделю, по настоянию Томчинского, всего два. И никто, по его распоряжению, в том числе он сам, не будет в первый месяц приходить ко мне на уроки. По его мнению, не следует меня смущать, пока я еще не освоился. Но он ошибается, если думает, что мне будет неловко перед учениками. Со здешней молодежью отношения у меня хорошие, дружеские. Ко многим я испытываю симпатию, надеюсь, взаимную.
Вчера директор привел меня на собрание школьного совета. Это главный орган школьного самоуправления. Совет делится на много секций. Одна из них — бытовая, причем ребята все делают самостоятельно. Собирают с учеников деньги, сами ими распоряжаются. Ездят за продуктами, распределяют стипендии, выделяемые школе воеводским отделом народного образования. Согласно уставу, им приходится самим принимать серьезные решения. Так, за месяц до моего приезда местный мельник пригласил школьный оркестр, который организовала пани Томчинская, на крестины своего сына.
Она передала собравшимся (в основном это дети окрестной бедноты) просьбу мельника и, воздержавшись от собственного суждения, удалилась. Ребята отказались играть у мельника.
Такие порядки и право самостоятельно принимать решения — особенность не только нашей, но и всех подобных школ. Вчера обсуждались вопросы второстепенные — о чистоте в помещении, во дворе и парке. Приняли соответствующую резолюцию. Вел собрание Бронислав Кулицкий, председатель совета, парень лет семнадцати, сын того батрака, которого убили, когда они с Томчинским отстаивали деревья в парке. Мы участия в прениях не принимали. Педагоги присутствуют на заседаниях на правах гостей.
Собрание мы обсудили с директором, как и уроки, на которых я присутствовал. Он объяснял мне, чему учит ребят самоуправление и как помогает исправить веками сложившуюся историческую несправедливость. А такое самоуправление, как у нас, в сотнях школ, не только сельскохозяйственных, но и других. Потом директор поинтересовался, какого я мнения об этом. Разговор зашел о деревне. Я сказал, что мне нравится здесь. Что особенно тишина и покой мне по душе. И в этом смысле ожидания мои оправдались. Он не перебивал меня. Я сам замолчал: почувствовал, что мои слова его раздражают.
Сейчас вечер. Пишу я, сидя у открытого окна, и думаю, что вот всего неделя как приехал, а кажется, будто прошла целая вечность. И причиной тому школа. Она целиком поглощает человека. О своих делах и хлопотах, которые отравляли мне жизнь в Варшаве, вспоминаю теперь с неприятным чувством, но, кстати, они и тут, в Ежовой Воле, не оставляют меня в покое, требуя, так сказать, твердых дальнейших шагов. Но я со дня на день их откладываю, хотя понимаю, что это не выход из положения. Как вы можете заключить из моего письма, я с головой ушел в школьные дела, потому и пишу с таким запозданием…»
На этом месте Анджея вдруг охватило беспокойство. Он стал перечитывать письмо. Одна, две, три страницы — и все о школе. Он закрыл глаза и постарался представить себе Степчинскую.
— Такое послание навряд ли ее заинтересует, — прошептал он.
Это навело его на мысль закончить первую страничку иначе, а остальные, про школу, адресовать Климонтовой: все равно надо ей написать.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Узнавать про дорогу не пришлось. Случайно Анджей услышал в школе, что деревня между Мостниками и Ежовой Волей, которую он проезжал, и есть Струмень. И как-то после обеда наконец выбрался туда. Найти деревню и костел труда не составляло. Возле костела он приостановился, отыскивая дом ксендза. И тут в двух шагах от костела за забором, увитым диким виноградом, обнаружил маленький домик. Отворив калитку, Анджей увидел деревенских баб, сбившихся в кучу вокруг тучного пожилого ксендза; при виде постороннего тот замолчал.
— Виноват, у меня письмо к вам, — сказал Анджей.
— От кого?
— Вы ксендз Спос?
— А сами вы кто?
— Я? — Анджей поколебался немного и, понизив голос, сказал: — Я от ксендза Завичинского.
— Из Варшавы? — спросил ксендз недоверчиво. — Давайте письмо!
Он ухватил его толстыми пальцами и вскрыл, не спуская глаз с Анджея. Наконец достал сложенный вчетверо листок и стал читать. Женщины, смотревшие на Анджея, тоже уставились на бумагу. Прочтя письмо, ксендз смягчился.
— Здравствуйте! — Он протянул Уриашевичу руку. — Простите, что отнесся к вам с недоверием. Такое уж время, что в каждом или представителя власти подозреваешь, или кого похуже. Идемте в дом.
Но перед тем обернулся к женщинам и, сдвинув брови, сказал многозначительно, не повышая голоса:
— Обо мне не беспокойтесь; да свершится его святая воля. Оставайтесь с богом!
Но они не двинулись с места. А стоявшая поближе сморщенная, сгорбленная старушонка выкрикнула со злобой:
— Оставайтесь, оставайтесь, а пана ксендза возьмут и заберут. Вот и останемся не с богом, а с этими дьяволами!
— Не богохульствуйте, — мягко возразил ксендз.
— Все хуже и хуже с каждым годом, — не унималась старуха. — Видно, господь совсем забыл о нас.
— Не богохульствуйте, — повторил ксендз. — И грешно это и глупо. Или вы думаете, у господа других забот нет, кроме нашей Польши! — и, положив старушке руку на плечо, сказал, смягчившись: — Молиться приходите почаще да следите, чтобы все в деревне костел не забывали, тогда не заберут меня.
В ответ послышался голос другой женщины — дородной и опрятно, добротно одетой:
— Уж коли начали пастырей забирать, так и всех до единого позабирают. Подчистую! На Поморье, в Силезии, в Познанском воеводстве всех забрали и угнали невесть куда. В Варшаве одна женщина говорила нашей деревенской, которая на базар туда ездит.
— Слышал! Слышал! — опустил голову ксендз.
— И в книжке, что ей та женщина дала, так написано!
— Читал я эту книжку. Читал!
Чтобы Анджей не наткнулся на что-нибудь в темных сенях, он взял его под руку. В тесном кабинетике усадил Анджея в старое клеенчатое кресло, а себе подвинул стул. Потертая сутана с расстегнутым воротом была ему тесновата, щеки обросли щетиной.
— Итак, вы с Запада, дорогой мой? — Видно, именно это в письме Завичинского произвело на ксендза особенное впечатление. — Ну, и что слышно там про интервенцию?
Он подразумевал активное вмешательство Англии или Америки, поскольку результаты выборов в Польше их не устраивали. Анджей в политике не разбирался, и у него на этот счет не было собственного мнения, но в Варшаве в последнее время его стали раздражать люди, которые со дня на день ждали вооруженного вторжения. Однако восстанавливать против себя ксендза не хотелось, к тому же он понимал бесполезность подобных споров. И прежде чем ответить, Анджей помолчал немного и нахмурился.
— Ничего не слышно, — заключил ксендз Спос по выражению его лица. — Значит, опять прошляпили! — вырвалось у него. Он встал и закрыл окно в сад. — Терпения больше нет, — заговорил он, тяжело дыша. — Были ведь у нас в правительстве люди, не подкупленные Москвой, так сами же у них почву выбили из-под ног. И зачем им эти выборы понадобились, чего они, собственно, ждали? Опять чуда на Висле? Что в Варшаве толкуют?
Но он не дал Уриашевичу договорить: первое же слово вывело его из себя.
— Разрядка?! Как бы не так! Хаос полнейший, а теперь он еще усилится, потому что люди совсем голову потеряли, когда ясно стало: ни своими силами, ни с помощью извне дела не поправишь. Но не одни земные силы существуют, — продолжал он с горячностью. — Кроме естественных, есть силы сверхъестественные. Существует церковь! После несчастья, которое на нас обрушилось, люди не утратили веры, они сплотились вокруг костела, как никогда прежде. Даже те, кто много лет его порога не переступал. На колени они встать не встанут, потому что в бога еще не уверовали, зато уверовали в церковь! Или взять хотя бы верующих, которые все обряды формально соблюдали, но деньги на нужды церковные жалели. А теперь в любое время дня и ночи проси чего хочешь и сколько хочешь, не поскупятся. Вот как мельник из Ежовой Воли, где вы живете. У него сейчас доллар золотой легче получить, чем в оккупацию фунт муки. — Но не торжество, а скорее беспокойство послышалось в его голосе. — Только бы власти мстить церкви не вздумали за то, что народ сбирается под ее святые знамена. — Он поскреб в затылке, посидел с унылым видом, помолчал и махнул рукой, словно покорясь судьбе. — Что поделаешь! На все воля божья!
Уриашевичу пришло на память дело Рокицинской, арестованной за распространение слухов и запрещенных изданий. Вспомнил он и разговор перед домом ксендза, невольным свидетелем которого оказался. И спросил, как обстоит дело в действительности.
— Вот-вот! — поморщился ксендз. — До тех пор каркать будут, пока беды не накличут. Зачем власти дразнить такими разговорами!
— Значит, аресты — это выдумка?
Ксендз не ответил и, как бы продолжая свои размышления, закончил смиренно:
— Ну и пусть говорят! Видно, так надо!
Он снова взял письмо и еще раз прочел его. В свое гремя ему не раз приходилось сталкиваться с дядей Анджея, викарным епископом Крупоцким, о котором упоминалось в письме. Он рассказал о встречах с ним, а потом заговорил о самом Завичинском.
— Держится молодцом, и в церкви служит, и приходом управляет — вот поди ты! Помощник небось есть?
Уриашевич знал со слов теток, что нет. Ксендз Спос покачал головой.
— Это в его-то возрасте?! Восьмидесятилетний ксендз — немыслимое дело в прежние времена! Но как быть, если война столько духовенства унесла; что ни говори, лучше древний старец на амвоне, чем никто. Странно, почему курия не назначит ему помощника. — Он нахмурился и процедил с внезапной яростью: — Хотя иной раз попущением божьим от помощника помех больше, чем помощи. Но вернемся к делу, дорогой! — Он придвинул стул поближе к Уриашевичу. — Значит, я должен помочь вам найти некую личность, которая скрывается в наших местах?
— Совершенно верно.
— Фамилия его вам известна?
— Настоящая — Кензель, сейчас — Грелович.
Ксендз закрыл глаза и задумался.
— Насколько я помню, среди моих прихожан такого нет. — Потом принялся внимательно рассматривать Кензеля на фотографии, полученной Анджеем от доцента Нацевича. — И физиономии такой тоже не припомню. — Он перевел взгляд с фотографии на Уриашевича. — А точно ли, что он здесь, в наших местах?
— Абсолютно! Недавно его видели в Мостниках.
— Э-э! — махнул ксендз рукой. — На станцию приезжают издалека. Так или иначе человека, которого вам приказано разыскать…
— Приказано? — спеша возразить, перебил Анджей, чей слух резнуло это слово.
— А что тут такого? — вскинулся ксендз. — Я вас ни о чем не расспрашиваю, но и голову себе морочить не позволю!
— Что вы! — растерялся Уриашевич. — Я охотно всю правду скажу, но с условием, что это останется между нами. От этого зависит спокойствие многих людей!
— Спокойствие! И безопасность! И жизнь! И свобода! — передразнивал ксендз со смехом. — Подумаешь, новости! Знаю, что дело деликатного свойства, иначе зачем бы обращаться ко мне.
— Человек, которого я разыскиваю…
— Да ладно, ладно! — воскликнул ксендз. — Письма Завичинского мне вполне достаточно, подробности меня не интересуют. Успел уже в последние годы наслушаться!
Ему стало душно и, подойдя к окну, он распахнул его, потом вернулся на прежнее место.
— Я разыщу тебе этого человека. — В глазах его снова вспыхнуло упрямство. — Не в моем приходе накроем его, так в соседнем. Не огорчайся, что сегодня уйдешь от меня ни с чем. Дай-ка мне эту фотографию; пущу-ка я ее по рукам — от ксендза к ксендзу. Говоришь, Грелович его фамилия? — Он вынул из кармана записную книжку и взял в толстые пальцы карандаш. — Смотришь, что фамилию записываю? Не бойся, у меня никто не прочтет. Не попадусь, не таковский! От ксендза к ксендзу, — повторил он в задумчивости. — Видишь, какие настали времена, какую сеть плести приходится. Думаешь, крепкая она, эта сеть, нигде не рвется? Как бы не так! Теперь и среди ксендзов разные попадаются. Есть тут у меня один. Он-то просто дурак, но находятся и такие, которые умниками себя считают, а сами из трусости или по малодушию в какой-то modus convivendi[8] верят. Иногда, правда, и просто потому, что жизнь их замучила. А у некоторых от большой учености ум за разум заходит. С одним таким я столкнулся: профессор католического университета в Люблине, ксендз, так он их порядки и политику философией Гегеля оправдывал. Знаешь, что я ему на это сказал? — Он откинулся на спинку стула и заметно повеселел. — «Теорию, по которой тезис и противоположность его — антитезис дают синтез, то есть философию Гегеля, я отлично знаю. Жаль только, что они не знают ее и не применяют. Ибо, если они — это тезис, а антитезис свой они на корню уничтожают, какой же может получиться синтез?» — Вспомнив свой ответ, он рассмеялся добродушно, но тут же снова стал серьезным. — Знаешь, что все это такое, по-моему? Новое столпотворение вавилонское! И как в библейские времена, бог в конце концов покарает гордыню человеческую. Он будет взирать, как этаж за этажом возводится это царство благополучия на земле, царство гордыни, дерзко отвергающее промысел божий, которому и превратности судьбы, и кара небесная нипочем. Будет взирать, а после трах — и конец! Но до этого еще дожить надо.
В окно видна была стена костела. Ксендз Спос указал на нее.
— Посмотри, сколько таких храмов воздвигло человечество. Таких и во сто раз краше. Сколько монастырей, часовен, сколько крестов понаставлено на земле. А скромных обителей, вроде той, где ты сейчас сидишь, сколько капитулов, коллегий и простых приходов!.. Не счесть. И для чего, спрашивается? Чтобы все это досталось людям, которые в бога не веруют и от которых бог отвернулся? Или просто обветшало, обратилось в руины? Как разные древние кумиры и святыни? Нет, церковь никогда этого не допустит! И никогда не перестанет существовать! Такая сила! Такая организация!
Несмотря на эти уверения, во взгляде ксендза проступила озабоченность. От недавнего самодовольства не осталось и следа.
— Твой дядя это понимал, голубчик! — И Спос ударился в воспоминания. — Он не вступал в переговоры с врагом, будь то дьявол, отребье рода человеческого или коммунизм. Когда до борьбы доходило, он белых перчаток не натягивал. После той войны — Крупоцкий тогда еще приходским ксендзом был, вроде меня, — как безжалостно истреблял он плевелы на ниве своей, считая, что для этого все средства хороши! А со строптивыми не церемонился. В этом случае он даже поддержкой светских властей не гнушался. Понимаешь меня? А против сомневающихся и слабых духом умел всю деревню восстановить. А проповедник был какой! Заслушаешься! Побольше бы нам сейчас таких, и мужики были бы покладисты, ко всяким посулам равнодушны. Мало сказать равнодушны — враждебно бы их встречали! Как только мужики умеют. Камнем, цепом и косой! Не удивительно, что дядя твой в гору пошел!
Ксендз встал и, подойдя к Анджею, уперся руками в подлокотник кресла. Анджей почувствовал на своем лице его горячее дыхание.
— Вот ты о разрядке говорил! Голубчик, это не так, поверь мне. Во всяком случае, в деревне. Мне это известно лучше. На исповеди много чего наслушался, да и не только на исповеди. Правда, последние события поколебали кое-кого. Пришлось-таки потрудиться, вредоносные эти всходы из сердец повырывать, дух ослабевший укрепить. Вот так-то. Одних убедить, что ждать надо терпеливо, других на борьбу вдохновить. И ободрить: годы ведь идут, а жизнь не налаживается. Обнадежить, что скоро конец, иногда просто по душам поговорить, пошутить. Словом, дуть, раздувать, чтобы пламя не заглохло! И есть отклик в душах, есть! Мужики не остаются глухи к нашим словам. Значит, не даром мы, священнослужители, хлеб свой едим. Понадобится, так в деньгах отказа не будет. В случае чего и укрыться есть где. Пока не перевелся в деревне добропорядочный, зажиточный мужик, в любом деле нам поддержка обеспечена. Только бы на Западе предприняли наконец что-нибудь конкретное. Пусть это интервенция будет, или экономический нажим, или на Москву бомбу пусть сбросят, все едино. А они на месте только все топчутся… Как с этими выборами, к примеру, — не вышло ничего, они и ручки сложили. И каждый раз так. А Москва прицелится и выстрелит. И всегда в точку попадет. Caute et diligenter[9]. А Запад бабах — и мимо! Бабах — и мимо!
* * *
Вернувшись в тот день в Ежовую Волю, Уриашевич заглянул после ужина к Томчинским. Разговор, как часто по вечерам, зашел о первых годах существования школы, о том времени, трудном и героическом, когда приходилось начинать буквально на пустом месте, голодать, холодать, тушить пожары и защищаться от вооруженных налетов.
— Но теперь, после амнистии, кажется, все спокойно? — заметил Анджей.
— Абсолютно! — подтвердила директорша.
— Я бы этого не сказал, — возразил директор. — Не дальше как неделю назад ограбили и подожгли сельскохозяйственную артель в Киянах.
— Пан Анджей о ближайших окрестностях спрашивает. А до Киян тридцать километров.
— Ну, это не так уж далеко.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
— Лучше вам поехать со мной. Все равно я мимо фабрики еду. На месте обо всем с ними и договоритесь. Сколько у вас еще уроков сегодня? — И директор, знавший расписание на память, сам ответил: — Химия во втором классе! — И обратился к жене, которая вышла его проводить и стояла возле повозки: — Подмени сегодня пана Анджея, а завтра он за тебя с твоими ребятами займется.
Потом помог Уриашевичу взобраться на телегу и дернул поводья.
— Но! — крикнул он. — Но, Сивка!
Выехав за ворота и повернув к Мостникам, директор снова заговорил о курсах для лаборантов на фабрике, которая строилась в километре от городка.
— У них машина есть, — говорил он. — Договоритесь, чтобы ее за вами присылали. И время выиграете, и уставать будете меньше. А мы со своей стороны постараемся распределить занятия так, чтобы освобождать вас на это время. Все как-нибудь образуется.
Уриашевич поблагодарил.
— Не за что! — Томчинский улыбнулся, и всегда суровое лицо его прояснилось. — Только, чур, меня потом не проклинать! — прибавил он.
— За что же?
— А удастся ли вам работу на курсах и в школе со своим институтом совмещать? — спросил директор.
В мыслях Уриашевич все чаще возвращался к учебе. В Варшаву можно было бы ездить регулярно. Стоило подумать об этом, как сердце начинало бешено колотиться. Он тосковал. Но твердо решил раньше, чем через месяц, не ездить никуда. Сначала надо со своими школьными обязанностями освоиться.
— Попробую, — отозвался он и спросил немного погодя: — Вот вы говорите, у них там много инженеров. Почему же они сами не могут с лаборантами заниматься, а предпочитают, чтобы это делал я?
— Курсы и без того отнимут у них массу времени. А они и так в запарке. Лекции по микологии, химическому машиностроению, технологии производства они распределили между собой — тут их заменить никто не может. А вот математику, химию, физику в объеме школьной программы зачем им брать на себя, с этим отлично справится любой преподаватель. Вы, например! — Он улыбнулся. — Да, да, пан Анджей, мы возьмем вас в оборот. Оглянуться не успеете, как главной вашей заботой станет то, что на работу остается всего каких-нибудь жалких десять — двенадцать часов в сутки. В наше время это не может не заботить каждого настоящего человека.
Они выехали из леса, и перед ними предстал струменский костел. Уриашевич залюбовался его белизной и совершенной формой. Но думал он не об архитектуре, даже не о Кензеле и «Пире». И не о ксендзе Спосе. Директор перехватил его взгляд.
— Красивый! — буркнул он.
— Жалко, не нашего прихода, — сказал Уриашевич первое, что пришло на ум.
— Вот уж нисколько!
Вдруг Томчинский натянул поводья. Лошадь остановилась. Он указал кнутовищем на что-то темное перед самыми ногами лошади.
— Крот? — спросил Анджей.
— Крот. Черный, слепой, а роет да роет. Как-никак — живая тварь!
Он подождал, пока крот переползет через дорогу, потом чмокнул лошади, и они поехали дальше. Скоро поравнялись с костелом.
— Красивый! — повторил Томчинский. — Жаль только, что ни здесь, ни во многих других таких местах не повторяют одной мудрой древнекитайской молитвы: «Боже, когда строю свой дом, отыми часы от ночи моей и прибавь их ко дню моему!»
Деревня осталась позади. Недовольное выражение исчезло с лица Томчинского. Они снова заговорили о строящейся фабрике.
— Им во что бы то ни стало нужно в этом году дать готовую продукцию. Министерство здравоохранения и Центральный комитет ППР их торопят, никаких отсрочек не дают. Потому что положение создалось довольно тяжелое. Запасов пенициллина хватит у нас на несколько месяцев. А купить его сейчас не так-то просто. Не во всех странах он есть, а у кого есть, так цену взвинчивают, разные условия ставят. Пользуются возможностью политическое давление на нас оказать. Благодарим покорно! И вот чтобы нам совсем без этого лекарства не остаться, они и спешат тут, из кожи вон лезут. На строительстве заняты все без исключения, от подмастерьев-каменщиков, монтажников, водопроводчиков, слесарей вплоть до ученых, специалистов в этой области. Впрочем, сами увидите!
— Специалистов? Разве есть они у нас? — удивился Анджей.
— И даже не один. Несколько профессоров и доцентов из Варшавы и Кракова, которые не один год изучают эту проблему, в качестве стипендиатов ЮНРРА работали для усовершенствования на предприятии по производству пенициллина — производственный процесс и технологию изучали.
— В Соединенных Штатах?
— Нет. На сей раз ЮНРРА направила их в Канаду.
— Наверно, они там времени даром не теряли! — вырвалось у Анджея.
— Они бы и больше набрались опыта, — заметил директор сдержанно, — если б не всякие ограничения и запреты. Запрещалось вести записи наблюдений, опытов. Не разрешалось выносить из лаборатории никаких научных материалов. А если что и выдавали, то лишь ничтожную долю и, как правило, без фотографий. Всюду гриф: «Совершенно секретно». Но и это бы еще с полбеды, если б не разные уловки. То лекциями пичкали по целым неделям, хотя об этом можно в научной литературе прочесть. То подолгу знакомили с отдельными операциями, не давая, однако, освоить процесс в целом. Словом, в прятки играли!
— Странная тактика!
— Нисколько! — возразил Томчинский. — Весьма последовательная.
— А оборудование откуда у нас? — поинтересовался Анджей.
— То, что есть, мы получили от ЮНРРА.
— Значит, и оборудование они нам предоставили не полностью?
— Разумеется.
— Ничего не понимаю!
Директор пожал плечами. Для него это было ясно как божий день.
— Конечно, не полностью. Причем во всех пяти комплектах, предоставленных ЮНРРА пяти строящимся фабрикам пенициллина в Восточной Европе, не хватает одних и тех же приборов. То есть в Польше, Чехословакии, на Украине, в Белоруссии и Венгрии невозможно ввести эти предприятия в строй. Вернее сказать: чтобы невозможно было ввести их в строй, пока не дадут недостающего оборудования. Во всяком случае, даром.
— А купить нельзя?
Задав этот вопрос, Анджей вспомнил разговор в кабинете у дяди Конрада, невольным свидетелем которого он оказался. Речь шла как раз о производстве пенициллина и запрете, наложенном на вывоз из Соединенных Штатов оборудования, необходимого для пуска заводов в только что перечисленных странах.
— Купить? То-то и оно! Но, Сивка, но!
Томчинский взмахнул кнутом. Лошадь еле тащилась, хотя песчаная дорога уже кончилась.
— То-то и оно! — буркнул Томчинский. — ЮНРРА — это средство нажима. Пенициллин — тоже. Много их, этих средств оказывать нажим. А смысл один. И назначение и применение одинаковое. Дадут попробовать и еще пообещают — в награду за послушание. Пенициллин для этого — приманка самая подходящая. Патент английский. Производство американское. Кто заодно с ними, получит этот бальзам, а кто против — на, глотни, а там хоть подыхай. — Он показал кнутовищем на видневшиеся невдалеке фабричные постройки. — Вот она, фабрика наша! До войны здесь был большой пивоваренный завод, оснащенный по последнему слову техники. Немцы его уничтожили, а котельную решили взорвать напоследок: заводская электростанция весь город снабжала током. Да не успели! А такая вот котельная по теперешним временам — настоящий клад! И вода в Мостниках, какая нужно, — хорошая, чистая, нежелезистая.
У ворот они остановились. Томчинский достал из бумажника листок с фамилиями инженеров — организаторов курсов — и протянул Уриашевичу.
— Когда с делами покончите, — сказал он на прощанье, — найдете меня в комитете крестьянской партии или в отделе народного образования. Тот и другой — на рыночной площади. Пятнадцать минут хода отсюда. Обратно поедем тоже вместе.
— Вы к кому? — спросил Уриашевича в воротах сторож с винтовкой.
Анджей назвал фамилии, и стороне, пропустив его, приоткрыл дверь в будочку сейчас же за воротами. Анджей очутился в проходной. Здесь он снова повторил все три фамилии и, к ужасу своему, узнал, что ни одного инженера нет сейчас на фабрике. Один — в Мостниках и вернется только к трем часам, двоих других вызвали сегодня в Варшаву.
— Вот незадача!
От неожиданности он остался стоять на месте. Стоял и вертел бумажку, которую с такой надеждой взял у Томчинского и которая ничуть ему не помогла. В конце концов решил он оставить записку. Бумага в дежурке нашлась, но ни конверта, ни ручки, один только чернильный карандаш.
— Я могу одолжить вам ручку!
Уриашевич обернулся. Только сейчас дошло до его сознания, что в проходную кто-то вошел и остановился рядом, — занятый своими мыслями, он не обратил на это внимания. Человек средних лет, в рубашке с отложным воротником, в очках с толстыми стеклами уже протягивал ему авторучку. Должно быть, здесь работал: у него не спрашивали, к кому он. Замешкавшись в проходной, услышал, вероятно, конец разговора.
— Большое спасибо! — сказал Анджей.
Он написал несколько слов и, возвращая ручку владельцу, еще раз поблагодарил его и представился:
— Уриашевич.
— Уриашевич! — просиял незнакомец. Он снял очки, потом неловко, каким-то судорожным движением опять надел их и назвал свою фамилию, которой Анджей, впрочем, не расслышал, присовокупив к ней магистерское звание. — Очень рад познакомиться. — Он еще раз пожал Анджею руку и снова поклонился. — Вы, конечно, из Варшавы?
— Да, — подтвердил Анджей. — Но, к сожалению, не застал никого из инженеров…
— Быть этого не может! — возбужденно, взволнованно перебил его магистр. — Главный инженер у себя в кабинете, директор и администратор тоже на месте. Я только что от них.
Анджей нахмурился и глянул на магистра подозрительно. Его преувеличенная любезность с самого начала показалась ему странной. А последние слова и прямо смахивали на издевку. Такие важные персоны — и станут с простым преподавателем о курсах договариваться? Они мелочами не занимаются. Только спустя минуту ему стало все ясно.
— А вы к нам с хорошими вестями? — задавая вопрос, собеседник Анджея понизил голос. — Я, правда, лицо непосвященное, но слышал все-таки, как в лаборатории упоминалось ваше имя в связи с экстракторами и прочим, — мы ведь без них не можем приступить к выпуску продукции, а «Польхим»…
— Вы меня за Конрада Уриашевича приняли! — вскричал Анджей. — Это мой дядя!
Когда недоразумение выяснилось, Анджей к слову рассказал магистру, зачем пришел. Но тот ничем не мог ему помочь. Без инженеров, хотя бы одного из тех, кому дирекция поручила организовать курсы, узнать подробности было не у кого.
— Ну что ж, — развел руками Уриашевич. — Придется завтра или послезавтра еще раз к вам заглянуть.
Они вместе вышли из проходной. Наружи, при ярком свете дня, магистру сразу бросилось в глаза, что Уриашевич слишком молод, чтобы быть тем большим начальником, за которого он его принял.
— У вас очень редкая фамилия, — оправдывался он, — поэтому совершенно непроизвольно, автоматически и связываешь ее со здешними делами.
— А дядя мой тут бывает?
— Конечно. Но мне с ним сталкиваться не приходилось.
Вопрос был исчерпан. Магистр, однако, не торопился уходить. Оглядевшись по сторонам, он указал Анджею на одно здание.
— Занятия, наверно, там будут вестись, — предположил он. — Это клуб.
— А на сколько рассчитаны курсы?
— На три месяца.
— А потом?
— Кто их окончит успешно и проявит способности, будет зачислен инженером.
— Сразу, с места в карьер?
— Сразу, сразу! Через три месяца фабрика вступит в строй.
Анджей бросил взгляд направо, налево, посмотрел перед собой. Здания были готовы. Только двор весь изрыт и не убран. За проходной возвышались кучи железного лома: ржавые трубы, рельсины, колосники, жестяные чаны со вдавленными боками и еще какие-то баки поменьше и в столь же плачевном состоянии.
— Это все лом. Остался от пивоварни. Скоро его отсюда вывезут.
В самом большом корпусе посередине на минуту приоткрылись широкие ворота. За ними блеснули в нескольких местах ослепительные лилово-синие огни, разбрызгивая снопы искр. Еще шла сварка.
— Вот вывезем лом, расчистим, разровняем двор, посадим деревья, клумбы разобьем, — говорил магистр, — и будет наша фабрика, как игрушечка, и внутри, и снаружи!
— Через три месяца, — размышлял Уриашевич вслух.
Он, можно сказать, вырос на химической фабрике. И представлял себе поэтому, какой это огромный труд — разрушенную, сожженную пивоварню, пусть даже предприятие вполне современное в недавнем прошлом — превратить в фабрику пенициллина, препарата, производство которого требует особо точной и сложной аппаратуры. Вид фабрики, близкий срок пуска, борьба вокруг этого и шантаж (о чем намекнул Томчинский) — все, вместе взятое, произвело на него глубокое впечатление, и он стоял, широко открыв глаза, не двигаясь с места, хотя делать тут ему было нечего.
— Да, через три месяца, три месяца — крайний срок. Что до нас, то мы в лаборатории закончили подготовительные работы уже в апреле. Лабораторным путем получили препарат, проверили сырье, есть у нас собственный штамм — высококачественный, продуктивный, не уступит лучшему — Q 176, который, кстати, нам так и не удалось получить из Америки. Может, хотите взглянуть на нашу лабораторию?
Они направились к небольшому двухэтажному домику. Проходя мимо главного корпуса, магистр хмуро заметил:
— Вот только с аппаратурой затруднения. Сейчас, как я уже сказал, приняв вас по ошибке за вашего дядюшку, подбельняки эти ждем, должны привезти.
— Подбельняки?
— Ну да, экстракторы Подбельняка. Отличные! Американские!
— А кто такой Подбельняк?
— Инженер, по национальности чех, живущий в Америке. Лучшие в мире экстракторы сконструировал и запатентовал. По договоренности с паном Уриашевичем мы в расчете на них оборудуем цех — подсобные установки, вытяжные шкафы, общее расположение и так далее, и тому подобное.
— А вы наверняка их получите?
— «Польхим» в этом не сомневается!
Магистр взялся уже за ручку двери в лабораторию, но тут его окликнули.
— Пан магистр! Пан магистр!
Они обернулись. За ними вдогонку бежал сторож.
— А пропуск?
— Совсем помешались на этих пропусках! — рассердился магистр.
Однако вернулся с Уриашевичем в дежурку. Там взял он у Анджея паспорт. Но, оказалось, получить пропуск не так-то просто. Подписи одного магистра для этого было недостаточно.
Случайно глянув в окно, магистр обрадовался:
— О, пан поручик здесь! — И остановил уходившего с фабрики поручика. — Поручик Кушель, — представил он. — Пан Уриашевич.
Узнав, в чем дело, поручик принял непроницаемый вид.
— Об этом и речи быть не может, — сказал он. — Фабрика не Вавель! Здесь не место для экскурсий.
— Но пан Уриашевич — не посторонний человек. И потом фабрика еще бездействует. К производству пока не приступили.
Поручик вздохнул. Он считал совершенно бессмысленным вести такие разговоры.
— Не пытайтесь меня переубедить, — сказал он. — У меня на этот счет точная инструкция.
— Но ведь это значит из мухи делать слона, — упорствовал магистр, не желая признать себя побежденным. — Я не первый год работаю на химических предприятиях, и, поверьте, наша фабрика ни для кого интереса не представляет. Шпионам здесь делать нечего. Ну что такого может из этого выйти? Право же, это просто глупость!
Кушель устремил на магистра внимательный, спокойный, непреклонный взгляд.
— Мы во всем руководствуемся одним старым золотым правилом. — Он улыбнулся. — Надеюсь, пан магистр, вы согласитесь, что оно не лишено мудрости!
— Какое же это правило?
— Береженого бог бережет! — ответил Кушель, обнажая свои белые зубы.
Они помедлили еще немного, так как магистр продолжал настаивать на своем.
— Обратитесь к директору, — предложил Кушель. — Я — лицо подчиненное. Если он разрешит, я вам хоть десяток пропусков выдам. Поговорите с ним.
— Это неудобно.
— Ну, вам видней.
Поручик откозырял, Уриашевич, тоже попрощавшись с магистром, пошел прямо по улице. Найти Томчинского оказалось нетрудно, но пришлось довольно долго ждать его в повозке. На обратном пути разговор опять зашел о пенициллине, о фабрике, об Америке. Подъезжая к Ежовой Воле, директор сказал веско и кратко, как бы подводя итог:
— Страна, как и человек, который продается врагам: в первую минуту, может, и выгодно, но потом — позорный конец!
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
По вечерам после звонка в Ежовой Воле свет гас не во всех комнатах сразу. Тишина воцарялась в интернате, в темноту погружались спальни и административные помещения, зато окна классов, столовой, а чаще всего клуба светились допоздна.
Директор, любивший пройтись перед сном по парку — тут он без помех мог по душам поговорить с преподавателями или товарищами по партийной работе, — нет-нет да и поглядывал на освещенные окна, чиркал спичкой, пытаясь разглядеть циферблат, хмурился, но до поры до времени терпел, откладывая свое вмешательство.
— Пан Анджей, будьте любезны, загоните-ка спать полуночников из столовой, — попросил он однажды вечером Уриашевича, с которым разговаривал о делах. — Ведь уже скоро двенадцать!
Анджей направился к дому, но Томчинский его остановил.
— Кто это там устраивает бдения по ночам? — спросил он.
— Бронек Кулицкий, — ответил Анджей и прибавил в объяснение: — Он пана Пахуру предупредил, что они попозже посидят.
— Хватит с них на сегодня! — буркнул Томчинский. — Пора спать!
Уриашевич обогнул дом. Фасад, не освещенный луной, тонул во мраке. Но, очутившись после света в темноте, Анджей не замедлил шагов. Уверенно обошел он клумбы у стены, не споткнулся и на ступеньках. Сразу нашел дверную ручку. Ему здесь уже все было знакомо. Хотя он и приехал только месяц назад, дела у него в школе шли хорошо. С лекциями на пенициллиновой фабрике он тоже справлялся. На последнем педсовете взял слово, и Томчинский согласился с его предложением. И хотя обсуждался вопрос второстепенный, Уриашевичу это было приятно. Томчинский относился к нему по-прежнему. Опекал его, всегда был готов помочь, но держался сдержанно, даже несколько насмешливо. Ну что ж, одним доверяет, другим — нет. Но Уриашевич чувствовал, что мнение директора о нем, каково бы оно ни было, может еще и перемениться.
Мысли о Варшаве посещали его редко. Просто не до того было. Затянул водоворот школьных дел. Занят был Анджей по горло. А тут еще самолюбие заговорило. Хотелось все делать как можно лучше. Школа оказалась именно тем, чего ему не хватало в жизни. Довольно уже с него скитаний, неуверенности в завтрашнем дне, сознания своей ненужности. Здесь он, по крайней мере, хоть пользу приносит. Несколько дней назад пришло письмо от Климонтовой; она сообщала, что еще до конца учебного года заглянет в Ежовую Волю. Получил он письмецо и от Галины Степчинской; из десятка наспех нацарапанных слов явствовало, что она ждет его приезда. Он поднес письмо к губам — порыв простительный, если радость нежданно-негаданно обрушивается на человека.
Несмотря на это, Анджей все откладывал поездку в Варшаву. Получить письмо ему было очень приятно. Не проходило дня, чтобы он не вспоминал о Галине. И хотя можно было отпроситься у Томчинского на день, на два, он не делал этого. Стоило подумать о Варшаве, и сразу вспоминалось, какой жалкий, замученный, потерянный бродил он по ее улицам. Даже на день не хотелось появиться таким перед Галиной. И вообще хотелось стать совсем другим человеком: здоровым и телом и духом. Нормальным.
В темной прихожей повернул он направо и открыл дверь в столовую.
— Ну, хватит полуночничать! — крикнул он. — Пора спать!
— Нам пан Пахура разрешил.
— А вам известно, который час?
Часов ни у Кулицкого, ни у его товарищей не было. По собственному побуждению решили они повторить с самого начала весь курс ветеринарии и животноводства, чтобы иметь в дипломе пятерки по этим предметам. Анджей слышал об этом от Жербиллы. Собираясь по нескольку раз в неделю, повторяли они материал, спрашивали друг друга, объясняли. Время летело незаметно — так самозабвенно они занимались. И на здоровье тоже пожаловаться не могли. Откуда же им было знать, который час.
— Двенадцать! — объявил Уриашевич.
— Ой-ой! — воскликнул высокий веснушчатый блондин, сидевший рядом с Кулицким.
— Не ойкать надо, а спать!
— Да мы еще и половины не успели повторить! — схватился за голову Кулицкий.
— Половины чего? — не понял Уриашевич.
— Половины того, что сегодня хотели пройти.
— Значит, сил не рассчитали.
Кулицкий, щуплый, небольшого роста черноглазый паренек с красным, словно обветренным лицом, стал возражать:
— Не в том дело, что не рассчитали. Просто поздно начали. В следующий раз пораньше надо собраться.
Уриашевич слышал уже эти обещания, хотя преподавал совсем недавно.
— Старая песня! — проворчал он. — Каждый день одно и то же!
— Да ведь каждый день что-нибудь мешает!
— Что же вам сегодня помешало?
— Нам-то ничего, а вот Кулицкому…
— А что с Кулицким стряслось?
— Доклад у него, — шепотом, точно подсказывая на уроке, напомнил веснушчатый блондин, закадычный друг и родственник Бронека.
Уриашевич, к стыду своему, забыл об этом.
— Верно, верно!
Послезавтра на торжественном вечере Кулицкий в самом деле должен был делать доклад.
— Завтра у меня наверняка свободного времени не будет, — сказал Кулицкий. — Поэтому решил вот написать все сегодня.
— Ну ладно! — Уриашевич не стал возражать. — А теперь — спокойной ночи!
Но не ушел — дождался, пока ребята выйдут.
— Спокойной ночи! Спокойной ночи, пан учитель! — Один за другим прощались они.
Последним направился к двери Кулицкий. Уриашевич остановил его.
— Я прогоняю вас спать, — сказал он, — потому что так далеко не уедешь, если ночь в день обращать.
— Знаю.
Едва Кулицкий отвлекся от занятий, как нервное напряжение спало, и, быстрым движением поднеся руку ко рту, он зевнул в кулак. Но Уриашевич не заметил.
— До конца года еще шесть недель, — продолжал он, — успеете все повторить.
— Надо успеть, — согласился Кулицкий и потянулся за тетрадями и книгами, которые положил на стол, разговаривая с Уриашевичем.
Одна книга была особенно толстая.
— По ней занимаетесь? — спросил Уриашевич. — Не слишком ли объемистая?
— Нет, не по ней… Это немецкая, пан Жербилло нам дал. Здесь иллюстрации мировые.
С этими словами он вытащил из-под мышки книгу. Вместе они склонились над ней. Перед глазами Уриашевича замелькали изображения племенных быков с толстыми загривками, породистых дойных коров. Кулицкий переворачивал страницы, с немым восхищением разглядывая картинки.
— Ну, хорошенького понемножку! — сказал наконец Уриашевич и выпрямился. — Спать так спать!
Кулицкий взял свою тяжелую книгу. Но, перед тем как уйти, поделился некоторыми занимавшими его мыслями:
— До войны здесь в усадьбе отличный скот был. Коровы — как на подбор, каждая не меньше двадцати — двадцати пяти литров молока давала. Могли бы и сейчас такие быть на деревне, даже больше и лучше, а вот почему-то нет их. Одно званье, что коровы. Дает три-четыре литра коровенка и — слава богу. В деревне даже предпочитают таких, породистых боятся: уж больно, мол, нежные. Так продолжаться не может!
Когда все вышли, Уриашевич погасил свет. Но к Томчинскому в парк вернулся не сразу: в прихожей он заметил тоненькую полоску света под дверью бывшей гардеробной, комнатушки без окон. «Первый час, для болтовни, пожалуй, поздновато», — подумал он и в недоумении остановился на пороге.
— Что вы тут делаете?
Девушки мастерили флажки. Одни разрезали бумагу, склеивая ее так, чтобы флажок получился красный с обеих сторон. Другие прикрепляли к ним палочки. Руководила всем Тереза Яблонская.
— Иначе нам никак не успеть.
— Панна Тереза, — нахмурился Уриашевич, — директор вас за это не похвалит.
— Иначе мы не успеем.
В уголке одна из девушек красными бумажными цветами украшала большой толстый лист бумаги. Уриашевич подошел ближе. Она отодвинулась, и он увидел, что за лист бумаги принял по ошибке портрет юной основательницы Союза борьбы молодых, которую убили 19 марта 1943 года гестаповцы. Послезавтра — пятая годовщина ее смерти. И школьная молодежная организация решила по этому случаю устроить вечер. Уриашевичу это было известно.
— Жаль, что вы заранее не подумали о приготовлениях.
— Подумать-то подумали, — сказала девушка, украшавшая портрет.
— Подумали, а работу отложили на самый последний момент.
Тереза Яблонская объяснила, почему так получилось.
— Не в каждом доме разрешат делать красные флажки. Интернатские девчата давно сделали свою часть и теперь вот за деревенских работают.
— А почему вы именно гардеробную-то выбрали?
— Тут уютней, — пропищал чей-то голосок.
— Только не говорите, пожалуйста, пану директору — он не любит, когда мы сидим по ночам, — попросила другая.
— Да он сам увидит, что у вас свет горит.
— Гардеробная без окон!
— Ах, вот в чем дело! — рассмеялся Уриашевич.
Томчинского, с которым не кончил разговора, разыскал он в липовой аллее, неподалеку от стола со скамьей, с четырех сторон окруженных толстенными деревьями. Отсюда, с небольшого возвышения, даже сейчас, в серебристом сиянии луны, был виден весь парк. Это было любимое местечко директора.
— Ну что?
— Прогнал всю братию спать, — сообщил Уриашевич. — Кулицкого с компанией.
— Чем они там занимались — ветеринарией? Животноводством?
— И тем и другим.
— Они после окончания в животноводческий техникум собираются, — сказал Томчинский. — Поэтому им нужны хорошие отметки. Об университете даже помышляют!
— Честолюбивые какие!
— Из чего вы это заключили?
— Из их планов!
— По-моему, это еще ни о чем не говорит. Вот когда человек ради какой-то цели добивается аттестата, диплома, хороших отметок, тогда про него можно сказать: честолюбив. Правда, и у них есть цель. Я чувствую.
— Какая же?
Томчинский протянул вперед руку, всю в узорчатых тенях и лунных бликах.
— Деревня, — произнес он, как бы размышляя вслух. — В самом общем виде это можно определить, пожалуй, так: деревня.
Определение и правда было довольно общо, но директор не стал его уточнять и заговорил вместо этого о самой деревне. О том, какие трудности приходится преодолевать выпускникам таких вот школ, как в Ежовой Воле, и даже высших учебных заведений.
— А ведь они у нас солидные, глубокие знания получают, — продолжал он. — Но любая попытка применить их на практике встречает сопротивление. Современная наука учит, как с наибольшей выгодой использовать водоемы, леса, луга, как ухаживать за скотиной, чтобы получить доход побольше. Но все это требует затрат. И связано с разумным риском. В крупных масштабах это окупается, как показывает статистика, но в отдельных случаях, в тех или иных индивидуальных хозяйствах, может и не оправдать себя. Мужик наш, как огня, боится всяких новшеств. Сколько веков за малейшую промашку был расплатой голод, поэтому любой, самый незначительный риск ему уже страшен. Пугают его и всякие затраты, и вложения впрок, с дальним прицелом. Слишком дорого обходились ему попытки выбиться из нужды. И он привык довольствоваться малым, но зато уж верным.
Томчинский замолчал, вглядываясь в темную громаду школы. Все окна уже погасли.
— Есть в деревне определенный слой, который понимает необходимость капиталовложений или мелиорации, — снова заговорил он. — У моего отца было очень мало земли, и той порядочный клин совсем никуда не годился, плохо родил. И вот, чтобы собрать с него хоть что-то, отец землю туда, бывало, носил в мешке или корзине, хотя дожди опять смывали ее. Деревенские жители чем ниже стоят на социальной лестнице, тем и находчивей, трудолюбивей, энергичней. Чем тяжелее мужику, тем активнее его отношение к земле и труду. Беда в том, что активностью этой никто не руководит, изобретательность скована, и жизнь разные помехи ставит на пути.
Вокруг царила мертвая тишина. Не слышно было ни ночных птиц, ни обычного в Ежовой Воле об эту пору собачьего лая.
— Им надо сверху оказать поддержку, и самую широкую. Направлять активность деревенской бедноты таким образом, чтобы энергия ее, сметка и трудолюбие проявились в полную силу. Чтобы не мешок да корзина служили извечному стремлению поднять свое хозяйство, повысить урожаи, а орудия получше. И тут на помощь придут выпускники сельскохозяйственных школ, люди хорошо подготовленные. И уж не должно быть места страху, что тот, кто их послушается, насидится весной без хлеба. Иначе даже от таких вот Кулицких мало будет проку!
Анджей посмотрел на школу. Бывший помещичий дом сиял ослепительной белизной в лунном свете.
— Но теперь-то в деревне ведь лучше живется, чем прежде? — спросил он.
— Конечно. Да надо, чтобы не лучше было, а хорошо, — ответил Томчинский.
Он сдвинул манжет у рубашки и посмотрел на часы. Не понадобилось даже спички, так ярко светила луна.
— Поздно-то как! Других в постель загоняю, а вам спать не даю.
— Я очень вам благодарен за эти беседы. Они для меня много значат, — ответил Анджей с чувством.
— В таком случае, дорогой, — положил ему директор руку на плечо, — минутку потолкуем еще о ваших уроках и закроем наше совещание.
Он вернулся к разговору, который вел, перед тем как Анджей отправился по его распоряжению наводить порядок в столовой. Вот уже несколько дней, решив, что уже пора, посещал он уроки Уриашевича. И сейчас поделился с ним своими наблюдениями.
— Так вот я вам уже сказал: вы можете быть довольны своими первыми шагами на новом поприще. Урок проходит живо, интересно, видно, что он продуман, а это особенно важно и требует особого труда. Очень важно самому не отвлекаться от темы и учеников держать в напряжении. Это вам вполне удается. Тем не менее хотел бы обратить ваше внимание и на кое-какие недостатки, в общем пустяковые.
— Я вас слушаю.
— Например, когда все списывают с доски, нельзя одновременно раздавать таблицы или другие наглядные пособия. Это отвлекает внимание. Сначала лучше задать вопрос, а потом уже вызывать ученика. А не наоборот. Это заставляет весь класс сосредоточиться и обдумывать ответ. Не надо также слишком близко подходить к ученику, когда он отвечает, это его смущает.
От частных замечаний директор перешел к более общим. Он говорил сам и заставлял высказываться Уриашевича. Так прошло с полчаса. Беседа подходила к концу. Вдруг на полуслове директор всем телом подался вперед.
— Слышите? — прошептал он. — Что это?!
— Я ничего не слышу!
— Вот опять!
Теперь и Анджей различил какие-то глухие, отдаленные звуки. Короткие и отрывистые — не то гром, не то треск.
— Выстрелы?
— Ну да! Вот опять!
Директор кинулся к воротам. Уриашевич — за ним. Хотя к месту, где стреляли, это их нисколько не приблизило, но усидеть на скамейке было невозможно. Как в деревне, случись что-нибудь, все высыпают на улицу, так и они инстинктивно устремились на дорогу. Через некоторое время они увидели телегу. Она подвигалась медленно — дорога здесь шла в гору и колеса вязли в глубоком песке. Когда телега выехала на широкую площадку перед воротами, откуда расходились дороги на станцию, в деревню и к школе, Томчинский и Уриашевич различили знакомого мужика с женой. Жена крепко спала, мужик тоже клевал носом, но боролся со сном — подымал клонившуюся на грудь голову и понукал лошадей. И в одно из таких мгновений заметил учителей.
— Слава Иисусу Христу!
— Во веки веков!
— Откуда это вы ночью?
— Престольный праздник нынче. — Он придержал лошадей. — А после богослужения к дочке заехали.
Баба открыла глаза и вежливо поздоровалась с директором и Уриашевичем, которого уже знали в деревне.
— Опять! — Томчинский насторожился. — Слышите?
— Винтовка!
— А сейчас очередь. Пулемет. Кажется, «стен»! — определил по звуку Анджей.
— Верно, пулемет, — подтвердил директор.
Опять вдалеке лихорадочно застрочил пулемет. Потом еще и еще раз.
— Где это стреляют? — обратился Томчинский к мужику.
— Похоже, на фабрике, — высказал предположение Уриашевич.
— Э, нет, дальше, видать, — сказал мужик.
Все стихло. Напрасно они прислушивались. Стрельба не возобновлялась.
— Ну, прощенья просим, — мужик притронулся к шапке. — Нно, милые!
Директор и Уриашевич пошли обратно к дому. Но не успели отойти несколько шагов, как позади послышался голос мужика.
Соскочив с телеги, он бежал за ними вдогонку.
— Письмо у меня к пану учителю.
Томчинский протянул руку.
— Кажись, не вам, а тому пану.
— Мне? — удивился Уриашевич.
— Ну да. Чуть было не забыл, не увез с собой. Ночь была тихая, светлая — разобрать, кому адресовано письмо, удалось без труда.
— Действительно мне, — подтвердил Уриашевич. — От кого бы это?
Он вскрыл конверт, но почерк был слишком мелкий.
— От кого же письмо? — повторил он.
— Да вот… — Мужик замялся, но в конце концов ответил: — От его преподобия ксендза Споса.
— Спасибо.
— Завтра сын в школу принес бы, — прибавил мужик. — Да я подумал, может, срочно.
— Спасибо.
— Престольный праздник где был, в Струмене?
— В Струмене. — Мужик постоял в нерешительности и попрощался: — Спокойной ночи!
— Спокойной ночи.
Телега покатила по дороге. Томчинский и Уриашевич в молчании направились к дому. Директор за всю дорогу не проронил ни слова, только в вестибюле заметил:
— Вот уж никак не предполагал, что вы поддерживаете отношения с ксендзом Спосом.
— Я совсем забыл о нем, — ответил Анджей.
Ему было неловко и неприятно, он ругал себя, зачем в присутствии Томчинского допытывался у мужика, от кого письмо. Но в ту минуту, да и вообще в последнее время, мысли о ксендзе, о картине и Кензеле отошли куда-то далеко-далеко.
— Совсем о нем позабыл, — повторил Уриашевич. Томчинский посмотрел на него пристально.
— Жаль, что без взаимности, — буркнул он.
У лестницы они простились. Директор, как обычно, протянул Уриашевичу руку, тот пожал ее. У себя в комнате Анджей прочел:
«Зайдите ко мне. Можно завтра, только не очень рано, потому что у меня сегодня богослужение. Ксендз Спос».
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Утром Уриашевич проснулся позже обычного. Ночью ему не спалось, и в три часа он зажег свет и завел будильник. Но спал так крепко, что не слыхал звонка. Опаздывая на целых десять минут, в панике влетел он в учительскую за журналом. А там все оказались в сборе: и Жербилло, и Пахура, и чета Томчинских.
— Случилось что-нибудь? — спросил он.
— Да, случилось, — нервничая, процедил сквозь зубы директор. — В Мостниках на фабрике человека убили.
— На фабрике пенициллина?
— Ну да.
— Кого же?
— Если не ошибаюсь, какого-то Кушеля.
— Поручика Кушеля?
— Да, кажется, он поручиком был.
— Я знал его, — побледнев, сказал Уриашевич. Он словно оцепенел и некоторое время не слышал, о чем говорили вокруг, и не отвечал на вопросы. — Убит, — прошептал он и совсем тихо, точно разговаривая сам с собой, повторил еще раз: — Убит!
Тут он встретился глазами с Томчинский. Директор хлопнул себя по лбу.
— Выстрелы-то, которые мы ночью слышали, — обратился он к Анджею. — Это оно и было.
— Налет?
— Налет!
Новость только что привезла Томчинская: возвращаясь рано утром из Варшавы, она проезжала мимо фабрики.
— Бандиты, человек пятнадцать, — рассказывала она, — подкрались ночью к воротам и пытались проникнуть внутрь. Но не удалось. Во время перестрелки и погиб поручик.
— А с их стороны есть убитые?
— Кажется, нет.
У Анджея это просто не укладывалось в голове.
— Чего им нужно на недостроенной фабрике? — недоумевал он. — И продукции еще никакой нет! И денег тоже — ведь расчеты через банк производятся!
Тут ему вспомнился случай, рассказанный недавно Томчинским, — как напали на кооператив километрах в двадцати от Ежовой Воли: сначала ограбили его, а потом подожгли. Томчинский подумал, видно, о том же.
— Проникнуть на фабрику и в пепелище ее обратить — вот что им было нужно. Огонь и пепел! — Он стиснул зубы. Но тотчас овладел собой. — Однако, друзья, за дело! — обратился он к присутствующим. — Прошу по классам.
* * *
Время тянулось бесконечно медленно. В тот день у Анджея было всего два урока. С восьми до девяти — математика и с девяти до десяти землемерное дело, — занятия по нему проводились в поле. За двором бывшей усадьбы начинался небольшой лесок, сначала замерили его, потом сад и огород возле винокурни. Гомон и болтовня, обычные на этих уроках, проходивших на свежем воздухе, на этот раз унимать не пришлось. Весть об убийстве в Мостниках на первой перемене облетела всю школу, и настроение было подавленное. После урока Анджей велел отнести землемерные инструменты в канцелярию, а сам остался в саду. Посидев немного, он решительно встал и зашагал по направлению к Струменю.
— Как же так? Его преподобия нет дома? — удивленно спросил он на кухне, куда проник с заднего хода, после того как долго и безуспешно стучался в переднюю дверь.
— Нет.
Полная пожилая женщина, по виду экономка, испуганно уставилась на Уриашевича опухшими, покрасневшими глазами — было заметно, что она недавно плакала.
— Он уехал?
— Нет его.
— Если спит, я подожду.
— Нечего ждать — не дождетесь все равно.
Уриашевич направился к выходу, но у двери обернулся.
— Вчера поздно вечером я получил записку от его преподобия, — сказал он. — Он писал, чтобы я сегодня зашел в любое время, только не очень рано, потому что хочет выспаться после службы. А его уже нет. Когда он вернется?
— Ксендз уехал.
— Далеко?
Экономка полезла за носовым платком, но сунула его обратно в карман: он промок насквозь, и она поднесла к глазам фартук.
— К больному, что ли, поехал?
— Нет.
— Да ответьте же наконец вразумительно! — повысил голос Анджей. — Куда уехал ксендз Спос и когда вернется?
— Это никому не известно!
— Как это неизвестно? — Внезапно у него мелькнула догадка. — Его арестовали?
По спине у него пробежал неприятный холодок. Лицо побелело как полотно. Школа совсем вытеснила «Валтасаров пир» у него из головы. Но после вчерашнего письма мираж этот вновь ожил. И Анджей был сейчас не просто разочарован. Им овладел страх. Припомнилась записная книжка ксендза со вписанной в нее фамилией Греловича. И фотография, которую он оставил у него.
— Присядьте, пожалуйста! — раздался голос экономки. Она иным, благосклонным взглядом смотрела на его побледневшее лицо. — Обождите минутку!
И куда-то исчезла. Прошла минута, две, пять, прежде чем она появилась снова.
— Ступайте в костел и преклоните колени у исповедальни. Ксендз выйдет к вам.
— Ксендз Спос? — прошептал сбитый с толку Анджей.
— Ой, нет! — Нижняя губа у нее задрожала и отвисла. — Викарий!
— Спасибо! — поблагодарил Уриашевич и поклонился.
Но она даже не заметила, ей не до вежливостей было. С пылающими глазами воздела она к небу свои толстые, натруженные руки и, потрясая ими, в ярости прокричала:
— Кары божьей на них нет! Господи, смилуйся над нами!
Уриашевич не заметил, как очутился в костеле. И едва опустился на колени у решетки исповедальни, кто-то схватил его за плечо.
— Только не здесь! Исповедальня не место для подобных разговоров! — резко, повелительно произнес срывающийся молодой голос. — Идите за мной, в ризницу!
Небольшого роста, щуплый, почти наголо остриженный струменский викарий бросил на него недружелюбный взгляд; в чересчур просторной, ниспадавшей многочисленными складками сутане вид у него был нелепый, точно у птенца в оперении огромной птицы.
— Простите, — извинился Анджей, покраснев. — Мне экономка велела тут встать на колени.
— Где ксендз Спос вел с вами переговоры, я не желаю знать! — отрезал викарий. — Но прикрываться таинством исповеди и использовать исповедальню как ширму я не намерен.
Они пересекли безлюдный в этот час костел.
— Делаю это только ради ксендза Споса, — заговорил викарий возмущенно, входя в ризницу. — И прошу сюда больше не приходить. И в дом к ксендзу тоже не наведываться. Эти визиты плохо для вас могут кончиться, слишком много здесь всякого сброда шныряет. И в другой раз я не выйду к вам, запомните это хорошенько.
— Но…
Викарий не дал ему договорить.
— Ксендз уехал и, думаю, не скоро вернется в Струмень, поэтому нет смысла приходить сюда.
— Его сегодня ночью арестовали?
— Его не арестовали. Он сам покинул нас.
— Но что случилось?
— Это уж вам лучше знать!
Уриашевич проглотил слюну. Округлившимися глазами уставился он на викария, не в состоянии вымолвить ни слова.
— Это уж вам лучше знать, — повторил викарий. — А что до ксендза Споса, он убежал, и вовремя. Через час после его исчезновения нагрянула милиция.
Картина постепенно прояснялась.
— А перед тем как его преподобие решился уехать, не посетил ли его кто-нибудь? — спросил он.
— Вот именно, что посетил! — дернулся викарий. — Но только не дух святой!
— Вы полагаете, между событиями этой ночи в Мостниках и отъездом ксендза есть связь?
— Еще бы! — буркнул викарий и прибавил глумливо: — Нечего было под предлогом храмового праздника в Струмень вашу братию стягивать и в деревне на ночь оставлять. Вот тогда бы и связи не было никакой.
— Ваше преподобие! — умоляюще сложил руки Уриашевич. — Вы заблуждаетесь!
— Э, бросьте! — отмахнулся викарий. — Хватит с меня заверений ксендза Споса, будто он вас поддерживает, чтобы вы в бога веровать не перестали. Единственно ради этого. Как бы не так! Он заодно с вами был!
Уриашевич схватил викария за руку.
— Клянусь вам, я не имею к этому никакого отношения! — выкрикнул он. — Я обратился к ксендзу с просьбой помочь мне разыскать одного знакомого, о котором известно только, что он где-то недалеко от Мостников живет.
— Ах, вот что! — словно очнулся викарий.
— По некоторым причинам я не могу искать его открыто, обычным путем, но дело мое ничего общего не имеет ни с тайной организацией, ни с подпольной работой.
Викарий потер лоб рукой.
— Постойте, постойте, — прикрыл он глаза и наклонил набок голову. — Как его фамилия?
— Грелович. В настоящее время — Грелович.
— Он в Тушове проживает, — сообщил викарий невозмутимо. — На разбомбленном кирпичном заводе, который сейчас бездействует.
— Откуда вы знаете? — оторопел Анджей.
— По чистой случайности, — ответил викарий. — Вчера после службы на ужине для духовенства его преподобие расспрашивал о нем. И тушовский ксендз сказал, что знает такого. По-моему, та самая фамилия, Грелович?
— Совершенно верно. А деревня эта далеко отсюда?
— Километрах в десяти. На шоссе из Мостников в Вышегруд. Вторая или третья за Мостниками.
Когда Уриашевич выходил из ризницы, викарий тронул его за плечо.
— А то, что я, не подумав, наговорил вам тут по недоразумению про ксендза Споса, пусть останется между нами. Должно остаться, ведь так? — И уже без той решимости, с какой только что поносил Уриашевича, прибавил тихо, словно стыдясь своих слов: — Ксендз ведь все-таки.
* * *
Прикрыв за собой дверь ризницы, Анджей остановился.
— Черт возьми, что с Кензелем стряслось? — произнес он вслух.
Загадка, над которой ломал он себе голову еще в Варшаве — даже независимо от картины (в Ежовой Воле она, как и все прочее, отступила на задний план), — вновь завладела его мыслями.
— Ну, зачем понадобилось ему менять фамилию? И вообще скрываться?
Старого работягу Кензеля, всецело преданного делу и прежде всего владельцам фабрики Левартам, знал он много лет. Никогда в нем не было ровно ничего загадочного. Трудно его заподозрить в каких-то махинациях или сомнительных авантюрах.
«Рехнулся, что ли, старик? Или просто чудит?» Но он тотчас отверг эти предположения, вспомнив Рокицинского: как тот предостерегал его, колебался, открыть ли, где Кензель. «Нет, не то! Тогда что же?»
Он взглянул на часы — стрелка приближалась к двенадцати. Даже если подвезет кто, все равно не обернуться, чтобы к обеду поспеть в школу. Прикинув это, сбежал он с пригорка, где стоял костел. Но, выйдя на дорогу, повернул все-таки в сторону Мостников, решив безотлагательно повидаться с Кензелем. Любопытство все пересилило.
Он прошел километр, два по песчаной дороге, торопясь и нервничая. Солнце припекало, был как раз полдень, и Анджей выбился из сил. Время от времени, спохватясь, он замедлял шаг, но нервное нетерпение вновь им овладевало. Ни о Кензеле, ни о картине, ни о Левартах, ни о самом себе он больше не думал. Пропал и страх, вызванный догадкой во время разговора с экономкой, что ксендз арестован. Еще в ризнице страх этот нет-нет да и оживал опять. Но понемногу прошли и страх и любопытство. Разбуженное викарием, оно благодаря ему же и улеглось. Он, викарий, заставил Анджея задуматься о другом. А именно о ксендзе Спосе и самом его бегстве. О ксендзе и о роли его в событиях этой ночи в Мостниках, что ни говори, немаловажной, если, предупрежденный, почел он за благо улизнуть.
Утопая по щиколотку в песке, Уриашевич упорно шел вперед. Бессознательно морщил он лоб. Но мысль его бездействовала, он не способен был рассуждать, захлестнутый взбунтовавшимися чувствами. В душе нарастала ярость, отвращение к тому, что произошло. Из головы не выходил ксендз: его расплывшаяся фигура и плохо выбритое лицо, то нагло самодовольное и презрительное, то озабоченное. Ксендза вытеснял образ поручика Кушеля. Вначале такой непреклонный, он шутил потом с магистром — в конце разговора. При воспоминании о его белозубой улыбке, которую он силился удержать, Уриашевич до боли закусил губу. Не впервые испытывал он подобное чувство. Отдельные слова в скупом рассказе Хазы, по которым можно было догадываться, что они вытворяли, действовали на него точно так же. Нечто похожее он ощутил и при взгляде на фотографию жениха Климонтовой, убитого уже после войны. Но такого потрясения не испытывал еще ни разу. Все существо его восставало против этой подлости. Он лично знал ксендза Споса, знал поручика, и убийство было совершено в соседней деревне, нарушив неожиданно, казалось бы, столь естественный здесь покой. Все это, конечно, не могло не усилить его реакцию. Но главное — в нем самом произошли какие-то перемены.
В запруженных телегами, лошадьми и людьми Мостниках был базарный день. Анджей зашел в кондитерскую, где уже пил как-то кофе, поджидая Томчинского. И на этот раз он выпил чашку, а расплачиваясь, спросил, как пройти в Тушов. До деревни было шесть километров, до разрушенного, бездействующего кирпичного завода чуть больше, а до виллы бывшего его владельца еще чуть дальше.
— А живет там кто-нибудь? — спросил Уриашевич.
— Живут, а как же! — сообщила кассирша. — Там, где живая изгородь, увидите!
Живой изгородью в полном смысле слова назвать это было нельзя. Может, давным-давно тут и была изгородь. Но теперь, когда Анджей миновал деревню и развалины кирпичного завода, его взору предстал квадрат густых зарослей, которые подступали к самой вилле. Огород — не огород, сад — не сад, цветник — не цветник. Дорога к дому тоже вся заросла. Впрочем, поперек нее в несколько рядов была протянута еще и колючая проволока: так и так не пройдешь. В сторонке Анджей приметил, однако, просвет в чаще, на худой конец это могло сойти за тропинку.
Вблизи вилла выглядела еще неприглядней, чем с шоссе. Ни окон, ни дверей, ни мало-мальски целых стен. Во время военных действий неподалеку, видимо, разорвалась бомба, пошатнув здание, и с тех пор оно так и стояло. Вернее, с этого момента стало разрушаться. Деревянные части гнили, кирпичи и штукатурка крошились, обваливались. Однако здесь кто-то жил. Из-за дома доносился стук топора.
Анджей вошел в прихожую, приоткрыл следующую дверь. Какое запустение! Глянул направо, налево — ни души. Но именно в этих двух комнатах обосновались обитатели виллы, о чем свидетельствовали постели, кое-какая мебель, две печурки с конфорками для приготовления пищи, — впечатление жалкое, ничего не скажешь, но в других помещениях и вовсе ничего не было. Одни голые стены и те в пробоинах.
Он обогнул дом. И увидел в зарослях тропинку, она вела к развалинам кирпичного завода. Значит, можно было попасть туда и другим путем, минуя кустарник, а не с шоссе, как это сделал Анджей. Он пошел по тропинке и оказался на бывшем кирпичном заводе, до основания разрушенном тем самым взрывом, от которого пострадал и дом. Среди развалин возился какой-то человек. С размаху всаживая топор в извлеченную из кучи обломков балку, он колол ее на дрова для кухни. Рост, худоба, спина — все его выдавало. И Анджей сразу догадался: Кензель.
Но окликнуть его не решился. Слова застряли в горле. Нахлынули воспоминания. От сознания, что Кензель, которого он искал так долго, тут, рядом — позовешь и услышит, от волнения — а как еще встретит его этот скрывающийся ото всех человек — в голове у Анджея все перемешалось. Наконец он превозмог себя.
— Алло, пан Грелович здесь живет?
Топор, занесенный над головой, мягко опустился. Сюда, на разрушенный завод, видно, редко кто заглядывал. Прошло несколько секунд, и Кензель, который только что так лихо махал топором, теперь оперся на него и, сгорбясь, согнувшись, медленными шажками засеменил к Анджею.
— Это ты? — вскричал он, подойдя, и застыл от неожиданности на месте. — Анджей.
— Я.
— Ты здесь?
— Я вас несколько месяцев ищу. — И прибавил шепотом: — По поручению Франтишека Леварта.
— Он тоже приехал?
— Нет, остался в Париже.
— И ты из Парижа?
— Да, из Парижа, — понизил голос Уриашевич. — За «Пиром» приехал.
— Слава богу! Слава богу!
— Он уцелел?
— Уцелел! — кивнул головой Кензель.
— Где же он?
Кензель с легкостью поднял топор и, держа в вытянутой руке, указал на дом в зарослях. Он перестал прикидываться дряхлым, немощным дедом.
— Картина здесь, со мной, — сказал он.
— Я очень встревожился, не найдя ее там, где мы ее замуровали, — полушепотом произнес Анджей.
— Можешь говорить спокойно, — заметил Кензель. — Здесь никого нет. Хозяева мои до наступления темноты не вернутся.
— Я думал, она пропала, — продолжал Анджей. — Что немцы ее вывезли.
— Они только оборудование вывозили, — ответил Кензель. — И тогда я решил забрать оттуда «Пир».
— Но почему вы никого не поставили об этом в известность?
— А кого? Ты в Германии был, пани Роза — в Кракове, Фаник — за границей, пан Конрад — в концлагере. А такой случай мог больше не представиться!
— Ну конечно! Это замечательно, что ее удалось оттуда забрать, жаль только, что вы не сообщили никому.
— Сообщил, кому можно было сообщить, не рискуя. — И Кензель вдруг сам заговорил тихо, хотя минутой раньше уверял, что это излишняя предосторожность. — Сейчас я уже не способен расшибаться для Левартов в лепешку. Боюсь!
— Чего?
Кензель развел руками.
— Сил прежних нет.
— Рассказывайте! — засмеялся Анджей. — Вы само здоровье. Глаза сверкают, силы хоть отбавляй. Я видел, как вы дрова рубили.
Кензель побледнел. И невольно, в безотчетном страхе снова сгорбился, как вначале, когда принял Анджея за постороннего.
— Видел? — не успев еще прийти в себя и не скрывая испуга, спросил. — Вот так я и живу!
— Но почему?
— От собственной тени шарахаюсь, от каждого шороха вздрагиваю, от звука своих шагов! Носа никуда не высовываю, — пожаловался он. — И все равно гарантии нет!
— Случилось что-нибудь?
— Случилось, случилось!
— Но что?
Кензель поднял на Анджея глаза. И, встретив его вопрошающий взгляд, потупился. На вопрос он не ответил. Наступило неловкое молчание.
— Вначале я каждый день ждал, что кто-нибудь явится от Левартов за картиной, — уходя от щекотливой темы, первым нарушил молчание Кензель. — И раньше всего, конечно, тебя — ты ведь дружил с Фаником и столько сил вложил, чтобы спасти ее. Я в толк не мог взять, почему они тянут. И в конце концов сказал себе: видно, Фаник решил до лучших времен оставить ее у меня, вернее, у нас — у чужих людей, с которыми свела меня судьба. Безумие!
— А что это за люди, у кого вы живете?
— Бывший владелец кирпичного завода с женой. Такие же неудачники, как я.
— А чем они занимаются?
— Да ничем. По образованию он инженер, но на работу поступать не хочет. Надеется все это переждать, не вмешиваясь ни во что, в сторонке. Чтобы руки не запачкать.
— Неудачник, так сказать, по собственному желанию, — пожал плечами Уриашевич. — На что же они живут?
— Вещи продают.
— Вещи?! — удивился Анджей. Он представил себе нищенскую обстановку дома и повел глазами вокруг. — Хлам тот, что в доме стоит? — спросил он. — Или развалины вот эти?
— Ну да. Мелочи разные. И я вот еще…
— Что вы?
— Плачу им. Взаймы даю.
— Ах, вот как!
Лицо Кензеля залилось краской. Разговор опять принял нежелательный для него оборот.
— Что поделаешь! — сказал он, разводя руками. — Деваться-то мне некуда!
У инженера, владельца кирпичного завода, старого своего знакомого, Кензель поселился после восстания. Казалось, инженер спустил уже все, что можно. И все-таки до сих пор ему удавалось выудить что-нибудь дома или из обломков на заводе на продажу. И пунктуально, каждую неделю он отправлялся на базар. Это все, что узнал о нем Анджей.
— Вот и сегодня мой кожаный портфель понес продавать, — сказал Кензель.
— Ваш?
— Мой, а чей же! — Кензель вздохнул, не сознавая, что инженер все в более невыгодном свете предстает перед Уриашевичем. — На работу мне с ним все равно не ходить! — И сдавленным голосом прибавил: — Ни здесь, ни в Варшаве, ни сегодня, ни завтра. Вообще никогда!
Он разжал пальцы. Выпавший из руки топор со звоном ударился о камень. Глаза у Кензеля злобно блеснули.
— Еще полон сил, а приходится здесь торчать. Да еще бога надо за это благодарить. Могло и хуже быть, я со дня на день жду самого худшего. — И, придвинувшись вплотную к Анджею, он наконец выложил свою тайну. — Помнишь тот месяц, когда твоего отца расстреляли, дядю арестовали и из дирекции остался на фабрике я один. Вот и стали на меня наседать, чтобы я вошел в контакт с немецкими властями и спас положение. Иначе фабрике конец: немцы ее конфискуют. Или назначат уполномоченного, немца. И Леварты потеряют тогда над ней контроль. Наседали на меня, наседали, а ты ведь знаешь, я по происхождению немец.
Анджею сделалось не по себе от услышанного.
— Кто же на вас наседал? — спросил он упавшим голосом.
— Больше всех вдова Станислава Леварта, Роза.
Уриашевич был возмущен. Он вспомнил, какие сплетни ходили во время оккупации о ее связях с немцами. Но сплетни сплетнями, а налицо и бесспорный факт: ее брак с австрийским офицером, с которым она познакомилась накануне восстания.
— А почему же она сама не воспользовалась своими знакомствами? — спросил Анджей язвительно. — Не говоря уж о том, что с таким же успехом могла бы немкой себя объявить, если ей это казалось выходом из положения. Леварты тоже немцы по происхождению.
— Она компрометировать себя не хотела, — ответил Кензель. — Ни сотрудничеством, ни принадлежностью к ним. Ведь Леварты были люди слишком заметные.
Вся эта казуистика звучала нелепо. Особенно в устах Кензеля. Будто он с чужих слов это повторял, как затверженный урок. Уриашевич нетерпеливо махнул рукой.
— Ты молод еще, многого не понимаешь, — произнес Кензель с грустью. — А вот дядя твой Конрад не осуждает меня и Рокицинский тоже. Я с Рокицинским никогда не был в близких отношениях, но, когда началось январское наступление и у меня могли быть неприятности, он мне свою помощь предложил.
— Знаю. Он говорил.
— Он говорил с тобой обо мне? — встревожился Кензель.
— Благодаря ему я вас разыскал в конце концов.
Кензель побелел как мел.
— То есть как это благодаря ему? Только пану Конраду известно, где я, больше никому!
— Дяде Конраду?! — Уриашевич остолбенел от удивления. — Да ведь он клялся, будто вас в живых нет!
— Значит, не он послал тебя сюда?
— Куда же он мог меня послать, если врал, будто вы погибли? — горько рассмеялся Анджей. — На кладбище, что ли?
Потрясенные, смотрели они с минуту друг на друга, не зная, что сказать. Поведение дяди было для Анджея загадкой. Кензель, встревоженный тем, что его легко найти, думал о другом и молчал, тяжело дыша. Путь, который с таким трудом проделал Уриашевич, чтобы добраться до него, представился ему прямым и гладким. А несколько человек, чьи советы и помощь облегчили поиски: Рокицинский, Нацевич, ксендз Спос, викарий, Завичинский, — превратились в его воображении в целую толпу.
— Боже! — схватился он за лоб длинными, тонкими костлявыми пальцами. — Все кончено! — Но вдруг, вскинув голову, насупился. — Ты меня обманываешь! Ты от Конрада узнал.
— Если бы так, — повысил голос Уриашевич, — не пришлось бы мне тратить на поиски несколько месяцев и втягивать в это посторонних людей!
— Да, верно, — прошептал подавленный, окончательно сраженный Кензель. — Вначале ты упомянул, что долго искал меня, я даже хотел подробней порасспросить тебя, но мы торопились, с одного на другое перескакивали. Впрочем, в первую минуту я на это внимания не обратил. Настолько твердо я был убежден, что адрес мой знает только твой дядя. Теперь все ясно!
— Что? Дядин поступок?
— Да нет! — Кензеля одно только занимало, а почему Конрад Уриашевич поступил так, а не иначе, и с каким расчетом, ему было совершенно безразлично. — Пропал я! — простонал он и пошатнулся. От страха сердце у него замирало. И веки нервно подергивались. Даже губы и язык пересохли, оттого что дышал он быстро и часто. — Из дома никуда не выхожу, всяческие предосторожности соблюдаю, в глуши живу, в стороне от всего, каждый шаг свой рассчитываю, — запричитал он. — В Мостники только на почту хожу, когда перевод приходит от пана Конрада. Даже в столовую зайти боюсь, изредка выпью только что-нибудь на станции — там внимания не привлечешь, сойдешь за проезжего. И вот, несмотря ни на что! На все предосторожности!
— Перевод от Конрада? — переспросил Анджей, думая, что ослышался.
— Чего ты удивляешься, ведь должен я на что-то жить, — ответил Кензель. — Я оставил у него немного золота, и, когда мне нужно, он продает. Здесь я бы не рискнул. И от глаз людских не укроешься, и для грабителей соблазн.
— Уму непостижимо! — прошептал Уриашевич.
— Иной раз не рассчитаю, и деньги кончаются раньше, чем Конрад пришлет, — продолжал Кензель. — Приходится тогда какую-нибудь мелочь на месте продавать, вот как сегодня. Но, как правило, Конрад меня выручает.
— Значит, вы поддерживаете с ним постоянную связь?
— Только с ним и ни с кем больше! — уверял Кензель. — С самого начала, как только я тут спрятался. Через него же и Левартам пытался дать знать насчет «Пира».
— Вот оно что! — покачал головой Уриашевич.
О том, что он дал знать Левартам, Кензель упоминал уже. Но не сказал, через кого. Теперь картина взаимоотношений Кензеля с Конрадом постепенно прояснялась. Но почему тот лгал, по-прежнему было непонятно. Анджей молчал. Неловко и неприятно было глядеть, как здоровенный, долговязый Кензель, сгорбившись и побледнев, с искаженным лицом, с отвисшей нижней губой, от страха таращил глаза: живое воплощение старого, убогого, убитого горем человека. Когда попытался он направиться к дому, ноги отказались ему повиноваться, Анджею пришлось его поддержать.
Наконец Кензель сдвинулся с места. И тут новый прилив страха за свою шкуру придал ему сил.
— Забирай отсюда «Пир»! И немедленно! — закричал он. — Придут, обнаружат: лишнее доказательство, что я — Кензель! Хватит, намаялся я с этой картиной! Забирай, пока она меня не погубила! Не хватает еще только в тюрьму из-за нее угодить. Или чтобы меня в суд тягали! Позор, огласка — это хуже всего!
Единственное, чем Кензель мог облегчить свое положение, — отделаться от картины. Поэтому он так и ухватился за это.
— Забирай — и как можно скорее! Как можно скорее! — настаивал он. — Она в подвале под обломками лежит. Откопать ее пара пустяков.
— Хорошо, заберу, — сказал Анджей.
— Но когда? Когда?
— Сперва надо в Варшаву съездить, почву подготовить.
— Нет, нет! Немедленно забирай!
Последовало еще несколько таких коротких, бессвязных вспышек, — сбивчивых заклинаний Кензеля и попыток Анджея воззвать к его благоразумию. В разгаре перепалки выяснилось, что хозяева Кензеля не знают, почему он изменил фамилию.
— А о картине им известно что-нибудь? — спросил Уриашевич.
— Они думают, что в коробке архив.
— Чей архив?
— Какой-нибудь организации политической.
— В таком случае, кто же вы сами, по их мнению?
Глаза Кензеля опять округлились.
— Ведь, если придет милиция и окажется не то, они могут совсем голову потерять. Мою настоящую фамилию откроют, — забормотал Кензель. — Скажут, что мы были знакомы до войны. Если при обыске обнаружится, что в футляре, который они прятали, не документы, а картина, им самим это может показаться подозрительным. Струсят и сыпать меня начнут. Выдадут.
В приступе страха Кензель способен вынести картину, вышвырнуть ее на дорогу или в ближайшей речке утопить. Для Уриашевича это было совершенно очевидно.
— Пан директор, — сказал он, — завтра я еду в Варшаву. Потерпите денек-другой, и от картины я вас избавлю.
* * *
В Ежовую Волю Анджей вернулся только к ужину. Усталый, измученный, обессиленный от долгой ходьбы и потребовавших большого нервного напряжения разговоров — с Кензелем и еще раньше с викарием. Возле школы повеяло на него теплым запахом нагретого солнцем парка и огорода. От ворот направился он прямо к канцелярии. С каким удовольствием пошел бы прямо к себе и лег — не до разговоров сейчас, не до еды и мытья, — больше всего хотелось заснуть. Но надо с директором договориться. Анджей открыл дверь в канцелярию, она гудела, как улей. Смерть поручика, ночная перестрелка, нападение на фабрику не сходили с уст. О побеге ксендза Споса все уже знали, как и о том, что налет не случайно совпал с престольным праздником: это было подстроено заранее. Подтверждалось это разными фактами, которые только сейчас выплыли наружу. Смутные догадки, предположения, опасения местных жителей внезапно обрели твердую почву, озарились светом, как при вспышке молнии, — но светом зловещим, кровавым. Уриашевич примостился на подоконнике. Раздался удар гонга. Большинство педагогов питались с учениками. И канцелярия быстро опустела. Анджей, воспользовавшись этим, остановил в дверях директора и попросил отпустить его на несколько дней в Варшаву.
— А послезавтрашний вечер? — вскинулся директор. — Не будете присутствовать?
— К сожалению, не смогу.
— Что это вам так приспичило?
— Надо.
— Что ж, насильно не стану удерживать. Поступайте, как считаете нужным.
— Спасибо, — поклонился Уриашевич. — Спокойной ночи.
Они попрощались.
— Кстати, где это вы сегодня целый день пропадали? — вдруг спохватился директор.
— Да так, по делам ходил. — С этими словами Уриашевич поднял на директора глаза, слипавшиеся от усталости, воспаленные от ветра и попавших в них песчинок, проглотил слюну и, помедлив, прибавил: — Не по школьным, а по своим личным.
Испытующий взгляд директора Анджей выдержал. Но мгновение это показалось ему целой вечностью.
— Завтра в семь я посылаю лошадей на станцию за паном Смелецким, — заговорил тот наконец. — Поезд в Варшаву отходит в восемь, так что вам как раз хватит времени предупредить там, на курсах, если вы этого еще не сделали, что будете отсутствовать несколько дней. Спокойной ночи!
Еще не было шести, когда Анджей с портфелем спустился вниз и, к удивлению своему, наткнулся на директора.
— Что это вы сегодня так рано? — спросил растерявшийся Анджей.
— Что ж, не грех иногда и пораньше встать. — И спросил, взглянув на портфель: — Это весь ваш багаж?
— Весь.
Анджей поднял кверху портфель.
— Ну, желаю приятно время провести. Да не забудьте известить заблаговременно о приезде, чтобы выслать за вами лошадей.
— Непременно.
Анджей взгромоздился на повозку. Но, выехав за ворота, вспомнил вдруг, как Томчинский посмотрел на его портфель, каким тоном осведомился про багаж, и странным показалось ему, что директор вскочил ни свет ни заря. Все это не на шутку встревожило Уриашевича. Зачем? Что тут кроется? Двух мнений быть не могло: вскочил спозаранок, чтобы проверить, не берет ли Анджей вещи с собой, иными словами, не собирается ли улизнуть. Его бросило в жар при мысли, что его поведение в последние дни могло показаться директору подозрительным. Рассеялись ли его подозрения, когда он увидел Анджея с одним портфелем, или не совсем? И у одного ли Томчинского они зародились? «Лучше вернуться», — подумал он. В создавшейся ситуации надо быть на месте. Отъезд может ему повредить. Но минуту спустя он сам над собой посмеялся. И, решив, что все это бред, выкинул из головы свои страхи и сомнения и поехал на станцию.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Сойдя в Варшаве с поезда, Анджей сел в такси и первым делом поехал к своему кузену — оставить портфель и предупредить, что вернется ночевать. Дверь открыла женщина, приходившая к Хазе готовить и убирать. От нее он узнал, что Хаза уже ушел.
— Но пан барон дома, — прибавила она.
— Какой барон? — с недоумением спросил Анджей. — О ком вы говорите?
— Обо мне. — В дверях комнаты стоял смазливый, сухощавый брюнетик с коротко остриженными волосами. — Если по делу, можете ко мне обращаться. Я — компаньон Хазы.
Они представились друг другу, и Анджей узнал, что фамилия компаньона — Дубенский, а Дубенский — что перед ним тот самый родственник, недавно вернувшийся из-за границы, который ночует обычно у Хазы, бывая в Варшаве.
— Я думаю, что не нарушу желания Збигнева, если предложу вам располагаться, как дома. Я лично только на письменный стол претендую и то в первой половине дня. Вас это не стеснит?
Он был предупредителен, изъяснялся в изысканно-вежливой, хотя слегка иронической манере. Но Уриашевич, поглощенный своими мыслями, на поведение и тон его не обратил внимания.
— А я и не знал, что у Збигнева компаньон, — заметил он как бы между прочим.
— О, не сокрушайтесь понапрасну, — сказал тот с таким видом, будто спешил обелить Уриашевича с его же собственных глазах. — Вы и не могли знать об этом: ведь ни ваш кузен, ни я тоже этого не знали.
Он освободил столик для Анджея — вещи разложить.
— Вы подождете Збигнева? — спросил он.
— Нет, — ответил Анджей. Еще в поезде решил он прежде всего повидаться с Климонтовой. — Мне надо в город по делу. К трем я вернусь.
Он вынул из портфеля полотенце, мыло, щетку, но прежде чем пойти в ванную, бросил мимолетный взгляд на письменный стол: там разложены были бухгалтерские книги, тетради, листы писчей бумаги.
— У моего дедушки посредническая контора была в Белостоке, — пояснил Дубенский насмешливо, хотя никто его не спрашивал. — Пристрастие к цифрам у меня, как видите, наследственное. Занимаюсь в нашей компании бухгалтерией. Можно сказать, двойной. — Он взял лежащую с краю толстую тетрадь в зеленой обложке и потряс ею в воздухе. — Сюда заношу неприкрашенные жизненные факты! А тут, — показал он на приходные книги, — на основе упомянутых фактов создаю уже иную картину.
Он засмеялся. Но смех его был так же притворен, как и преувеличенно вежливые манеры. На сей раз Анджей почувствовал какую-то фальшь в его голосе, но едва очутился на улице во власти своих тревог, Дубенский попросту перестал для него существовать.
В поезде он всю дорогу обдумывал предстоящие в Варшаве дела, то мысленно возвращаясь к Кензелю и его тайне, то пытаясь разрешить возникшую перед отъездом из Ежовой Воли проблему. Проявленный Томчинским интерес к его особе, внимание, с каким оглядел он его багаж, ассоциировались в сознании Анджея с разговором у исповедальни, а потом в ризнице с викарием, который заподозрил его в принадлежности к банде. Перед викарием ничего не стоило оправдаться. И тот сразу ему поверил. Но Томчинский — другое дело. А ведь совсем не исключено, что и у Томчинского мог он пробудить такое же подозрение. А если не подозрение, то, уж конечно, недоверие к себе. Как-никак ксендз Спос посылал за ним в тот роковой вечер. А наутро, после событий, Анджей исчез на целый день. Хорошо еще, что милиция сразу на след напала. И, принимая во внимание то, что ксендз, даже предупрежденный, едва успел унести ноги, искала она не вслепую. Поэтому за себя Анджей мог не беспокоиться. Но не за репутацию свою у директора. Он понимал: если не объясниться с ним откровенно, доброе имя его будет запятнано. Но как совместить такую откровенность со словом, данным Рокицинскому, с обещанием не говорить никому о Кензеле? Допустим, он выложит все начистоту, но это еще не значит, что Томчинский ему поверит. Уж скорее поверит Климонтова, особенно если напомнить ей про лопаты, кирку и брезент, которые она обнаружила у себя в комнате в ту ночь. Уж скорее она, если объяснить, что все это значило, без утайки рассказать о «Пире». Картина, мол, на сохранении у одного человека, неподалеку от Мостников, старого чудака, который не хочет, чтобы об этом знали. И попросить замолвить за него словечко перед директором. Иначе нечего и думать дальше работать с таким человеком, как Томчинский.
Хотя дорога к Кензелю и обратно страшно его утомила, ночью он, хоть убей, не мог заснуть. В канцелярии даже при учителях глаза у него слипались, и потом, отпрашиваясь у директора в Варшаву, он едва дождался минуты, чтобы наконец уйти, повалиться на постель и заснуть. А лег — сна ни в одном глазу. Он вставал, пил воду, зажигал свет, пытался читать. Ничего не помогало — перед глазами стоял нравственно сломленный Кензель. В душе поднималось возмущение против Розы Леварт. То Кензеля становилось жалко. То на себя самого брала досада. Что ни говори, Кензель взрослый человек, отвечать должен за свои поступки. И тогда поднималось раздражение против Кензеля. Справки наводил, искал, расспрашивал всех о нем и вот нашел наконец! Только теперь сыт он по горло этим «Пиром» и прочими всеми открытиями. Что бы там они ни сулили — добро, зло, — безразлично. И вдобавок этот дядюшка с его странностями!
Чем дольше ломал он себе голову, стараясь объяснить загадочное отношение дяди к Кензелю и картине, тем больше запутывался. Левартов обокрасть хотел? Какая наивность! Кому бы он продал в Польше знаменитую эту картину, когда всем известно, кому она принадлежит. А за границей и подавно! Там в любой момент законный владелец мог перечеркнуть его расчеты. Скорей уж он сам вместо Анджея хотел стать посредником в этой сделке. Иначе зачем бы ему при каждой встрече намекать Анджею на отъезд за границу? Словно отделаться от него хотел и полновластно распоряжаться в Польше «Валтасаровым пиром». Но два года — срок достаточный: мог бы уже и заграбастать картину. Десятки раз успел бы списаться с Фаником, доверенность от него получить, свои условия продиктовать, заработать на этом, и дело с концом! На кой черт понадобились ему все эти уловки? Непонятно! Едва начинало брезжить что-то, приходилось отвергать очередную гипотезу как несостоятельную.
Несомненно было одно: Конрад Уриашевич знал, где картина, и сделал все возможное, чтобы скрыть это от Анджея. Он вспомнил, с какой готовностью дал ему дядя двадцать долларов золотом. В возмещение, так сказать, убытков.
Сердце у него в ту ночь колотилось от возбуждения. Он чувствовал, что не заснет, пока не отделается от мыслей о дяде, о картине и Кензеле, в чьей истории тоже было много путаного. Но едва прогонял их, как вспоминал убитого на фабрике поручика. Трудно было смириться с его смертью, еще трудней — справиться с собой. Он злился на себя, что принимает это так близко к сердцу. Все восставало в нем и против этой смерти, и против своего отношения к ней. После убийства Кушеля надежда обрести в деревне покой разлетелась вдребезги. Рассеялись и заблуждения, будто удастся на родине остаться в стороне, не вмешиваться ни во что. И раздражение против себя, а вместе — растущая ненависть к виновникам этого преступления и им подобным были достаточным свидетельством тому. Так прошла ночь перед отъездом. А утром — неприятный осадок от разговора с директором, будто тот его в чем-то подозревает. Наконец дорога и размышления, что предпринять и как получше использовать время и сделать побольше.
Но когда, обеспечив себе ночлег у Хазы, перешел он к второму пункту своей программы, его постигло разочарование. В отделе сельскохозяйственных школ за столом Климонтовой сидела ее подруга.
— Пани инспекторша вернется послезавтра, — повторил, как эхо, огорченный Уриашевич. — Только послезавтра?
— Она в Замостье.
— В Замостье? — Уриашевич воспрянул духом. — Не так уж и далеко отсюда.
— Сегодня, — продолжала подруга Климонтовой, — в Замостье состоится торжественное перенесение праха первого уполномоченного по восстановлению того района, убитого два года назад в одной из деревень и там похороненного. Это был ее жених.
— Ах, вот что, — прошептал Анджей. А он-то думал соваться к ней со своим делом. Расстроенный, собрался он уходить.
— Ну, значит, до послезавтра!
— Если у вас срочное что, можете мне передать, — остановила его подруга Климонтовой. — Я ее замещаю.
Поговорили немного о школе. Анджей рассказал, что произошло в Мостниках. До Варшавы вести об этом еще не дошли.
— Боже мой! — воскликнула заместительница Климонтовой. — Мало им было оккупации, сколько пришлось перенести. И опять убивают. Что за люди!
— Люди?! — Глаза Анджея вспыхнули гневом. — Много чести их так называть!
Выйдя на улицу, сел он в трамвай. Но не поехал, как наметил себе, ни к Любичу, ни к теткам — им он хотел сообщить, что картина нашлась и до передачи ее музею придется воспользоваться их подвалом. На площади Трех Крестов соскочил он с площадки и, словно его потянули за веревочку, послушно двинулся в сторону Аллеи. Страшная усталость его охватила. Сама мысль о картине вызывала у него отвращение. Отвратительна была и эта ложная ситуация: с одной стороны, нужно искать Климонтову, а с другой — как же с ней о своем деле говорить в день, когда она хоронит человека, чьи убийцы одной масти с теми, кто лишил его покоя в деревне, заставил расстаться с мечтами и косвенно бросил тень на него самого. Он направился к балетному училищу Тарновой.
— Моя фамилия Уриашевич, — сказал он вахтерше. — Я хотел бы видеть Иоанну Уриашевич.
— Ах, это ты… — протянула Иоанна, вызванная из класса.
В голосе ее послышалось разочарование. Он вспомнил, что однажды она уже отвечала ему так, когда, вернувшись из Кракова, узнала, что это он домогался ее по телефону.
— Да, опять я, — подтвердил он с искренним сожалением. — Не кто-нибудь негаданный, нежданный!
— А я как раз жду одного человека! — Она посмотрела на него свысока. Выглядела она великолепно: грива золотистых волос откинута назад, в глазах — холодный блеск, влажные губы строго сжаты. — Впрочем, и тебя тоже! — И, обратясь к вахтерше, распорядилась: — Мы будем в канцелярии. Если ко мне придут, вызовите меня, пожалуйста, я выйду сама.
Там Анджея встретили фотографии танцовщиц и танцоров, во множестве развешанные по стенам, — прославленных соотечественников и иностранцев. Были и снимки школьных спектаклей, показательных уроков. Наверно, была на них запечатлена и молодежь, которую он видел на вечере, куда привела его Иоанна. Он встал: хотелось рассмотреть их вблизи.
— Сядь! — потянула его за рукав Иоанна. — Знаю, кого ты высматриваешь, но сперва давай поговорим. Наконец-то ты вернулся из своих лесов!
— Из лесов?
— Ведь ты в лесничестве был под Познанью!
— Ну да…
— Впрочем, это не важно. Хорошо, что вернулся.
— На несколько дней…
— Этого должно хватить.
Он не узнавал ее. Она была спокойна, но отнюдь не подавлена. Горделива, но не заносчива.
— Я должна повидаться с мамой, — объяснила она. — Ты мне это устроишь до отъезда.
— Твои сестры ни за что не согласятся.
— Не сидят же они возле нее, как пришитые!
— Ах, вот ты как хочешь!
Из соседнего зала доносились звуки пианино.
— Я не могу больше ждать. Не могу, — настаивала Иоанна.
Он попытался отговорить ее, ссылаясь на здоровье бабушки.
— Шока боятся! Да что они смыслят в этом! — рассердилась она. — Выведай у них фамилию врача, который маму лечит. Ручаюсь, он скажет то же, что и я: радость больным никогда еще не вредила. А это не только мне, но и маме доставит большую радость. Неужели ты не понимаешь, она тоже хочет этого! — И лихорадочно, нетерпеливо повторила несколько раз: — Я не могу больше ждать! Не могу! — Она не просила, не убеждала. Тон у нее был решительный, требовательный. — Не могу! — повысила Иоанна голос. — Не могу!
В страстном желании повидать мать ничего удивительного не было. Но из дальнейших слов стало понятно, что настойчивость ее вызвана не одной лишь тоской по матери.
— Потом еще сложнее будет. Вот увидишь, сплетни начнутся.
Идти к матери тайком, вопреки желанию теток было, по его мнению, глупо. Это вконец бы их разозлило и поставило мать в трудное положение, узнай они об этом.
— Подумаешь, сплетни! Как будто ты людей не знаешь, Иоанна! — Он хотел ей открыть глаза на одно неприятное обстоятельство. — Уж много лет назад они твоей матери все сплетни про тебя пересказали, какие только дошли до Варшавы.
Иоанна покраснела до корней волос.
— Не старую глупую болтовню имела я в виду, а нечто совсем другое, — сказала она с достоинством.
— А именно?
Иоанна спохватилась. Не хотела выдавать себя.
— Ничего особенного, — уклончиво ответила она. — Просто я живой человек, а не мумия, у которой все позади. Да, живой человек!
Ей не понравился взгляд, какой устремил на нее Анджей.
— Что ты так смотришь на меня? Да, я живой человек! — И мгновенно, с молниеносной быстротой переменила тему: — Должна жить. Работать.
И рассказала, до чего ей некогда. Занятия в училище Тарновой не в счет. И постановка танцев для премьеры в одном из театров — тоже. А вот два новых балета, которые Опера готовит для варшавян к открытию сезона, — балеты в совершенно новой оркестровке и оригинальном оформлении силами лучших художников, — это работа настоящая.
— Тебя Венчевский в это втянул?
— И на коленях должен теперь благодарить своих марксистских богов! Как только разнесся слух, что хореография — моя, мигом слетелась вся балетная братия. Так что спектакли могут получиться первоклассные!
Пианино за стеной смолкло. Уриашевич глянул на часы.
— Уходишь?
— Да, мне пора. Но у меня просьба к тебе. Степчинская, с которой, помнишь, я на вокзале познакомился…
— Если ты на самом деле торопишься, — перебила его Иоанна, — длинные вступления ни к чему. Что тебе надо? С урока ее вызвать?
Он кивнул.
— Нет ничего проще, — повеселела Иоанна. — Я уверена, она обрадуется.
Сердце у него забилось.
— Обрадуется прежде всего потому, — продолжала она, словно ушат холодной воды на него выливая, — что можно занятия прервать. Да еще ради молодого человека, и вдобавок такого интересного, как ты.
Она позвонила вахтерше и отдала распоряжение. Минуты не прошло, как за вахтершей вошла Степчинская в тренировочном костюме, с обнаженными руками и ногами. Аккуратно причесанные блестящие черные волосы плотно облегали ее головку. Щеки слегка порозовели от напряжения.
— Сей молодой человек покинул дремучие леса, где он обретается, — сообщила Иоанна, — с единственной целью встретиться с тобой сегодня после обеда или вечером.
Слова ее вогнали Анджея в краску. Он испугался: вдруг Степчинская засмеется или бросит на него заговорщический взгляд и Иоанна что-то заподозрит. Но девушка отнеслась к дремучим лесам с полной серьезностью, только сильнее покраснела.
— Я не против, — ответила она чуть слышно.
— Как? Ты сегодня никому свидания не назначила?
Иоанна не верила своим ушам.
— Назначила, конечно.
— Вечером или после обеда?
— И вечером, и после обеда, — сказала она и обратилась к Уриашевичу: — А когда бы вы хотели? Вечернее я могу и отменить. А вот назначенное на первую половину дня уже не успею. Но в крайнем случае пусть подождет.
— Разве можно так? — с притворным возмущением всплеснула руками Иоанна.
Но Степчинская промолчала; они с Анджеем смотрели друг на друга, оба красные от смущения.
— Успеете еще друг на дружку налюбоваться, — прервала эту игру в гляделки Иоанна. — Давай-ка уславливайся и марш обратно на занятия. Чтобы не пришлось мне из-за тебя от пани Тарновой замечания выслушивать.
* * *
Место выбрала она. В пять часов в ресторане. Причем не обедать, а просто кофе выпить.
— Я всегда выбираю ресторан, если хочу с кем-нибудь спокойно поговорить, — объяснила она. — А вечером можно перейти в кафе, там тогда народа меньше.
Он не возражал, но, по его мнению, раз уж они выбрали ресторан, следует к кофе хотя бы спиртное заказать.
— В таком случае что-нибудь легкое, — решительно заявила Степчинская. — Больше одной рюмки я все равно не выпью и вам не позволю. Не люблю, когда мужчины пьют в моем присутствии. А вот когда на столе хорошее вино, это я люблю.
Поначалу разговор не клеился. Он помнил, что школьный спектакль — тема запретная; о письме своем, в ответ на которое она отделалась коротенькой, ничего не говорящей запиской, сам предпочитал молчать. О школе рассказывать, где он очутился вместо Познанщины и дремучих лесов, как выразилась Иоанна, тоже, наверно, не стоило.
— Будете в каком-нибудь балете выступать, которые ставит Иоанна? — поинтересовался он.
— В обоих. И в том и в другом главную партию буду танцевать. Одну меня выпускают дебютировать изо всей школы. Честное слово!
— Здорово! — обрадовался он. — Вот подруги-то небось вам завидуют.
— Позеленели от злости. Этим, к сожалению, все удовольствие и ограничивается.
— Что, трусите?
— Фи! Еще чего!
— Боитесь, не получится что-нибудь?
— Это у меня-то?! — фыркнула она.
— В таком случае ничего не понимаю! — воскликнул он. — Вас отличили, вы такая молодая, едва, можно сказать, ступив на сцену, уже на пути к славе. И вас это не радует. Чего же еще может желать балерина в вашем возрасте?
— Это я вам открою как-нибудь в другой раз!
Постепенно они разговорились. Беседа потекла совсем непринужденно, когда Анджей стал вспоминать о Париже, о довоенных временах, рассказал о своей семье и Левартах. Степчинская заинтересовалась, захотела узнать подробности.
— Да это все старые предания, — заскромничал Анджей.
— Расскажите еще о Париже, — попросила она. — И о Левартах.
Он говорил и смотрел на нее. Время от времени и она поднимала свои красивые глаза, пристально, с интересом вглядываясь в него. В такие минуты он замолкал, охваченный волнением под устремленным на него взглядом. Но она тотчас отводила глаза и спрашивала неизменно:
— А что потом?
Незаметно от старых преданий и давно минувших лет перешел он к настоящему. Посвящать Степчинскую в свои дела, тем более денежные, зависящие от продажи картины, он не собирался, испытывал только потребность изложить свои планы на будущее этой девушке, к которой его влекло, как ни к одной другой женщине.
— Сначала, разумеется, окончу институт. Потом? Город я, признаться, не люблю. У меня с ним связаны неприятные воспоминания. В деревне — я теперь узнал ее ближе — очень неспокойно сейчас. А вот поселиться бы где-нибудь в живописном месте да заняться разведением форели или черно-бурых лис. Есть такие фермы. Если вложить в это дело душу и труда не жалеть, — ого, каких результатов можно достичь. А главное, забыть обо всей этой суете.
Анджей смотрел, как перебирает она складки своего платья. Машинально, одну за другой. И молчит. И испугался, не упал ли в ее глазах, изобразив свое будущее в таком свете.
— Война многих сделала неврастениками, нелюдимами. Но, как правило, это со временем проходит, — иронически отозвался он о собственной исповеди. — Может, через год-два, после окончания института, мне самому покажутся смешными теперешние мои пристрастия, которые я вам обрисовал. И город на деревню я нипочем не променяю.
Она по-прежнему перебирала складки платья.
— Эти пальчики, — шутливо сказал он, — не для того, по-моему, созданы, чтобы кормить лисиц или сортировать рыбу. Даже если эти лисицы черно-бурые, а рыбки — золотые. Без общества жить вы, наверно, не могли бы.
Она подняла на него большие глаза — печальные и выразительные. Но прочесть в них Анджей ничего не смог. Тем не менее он не сомневался, что видит ее насквозь. Чтобы такая талантливая девушка, привыкшая к удобствам, согласилась похоронить себя в глуши — нет, это немыслимо. Никуда она из Варшавы не поедет. Вскоре разговор зашел об Иоанне. И ему стало ясно: дело обстоит куда хуже, чем он даже предполагал.
— Да, не хочу скрывать: пани Иоанна — мой идеал. Прославиться на весь мир — вот это я понимаю! — вырвалось у нее. — На ее месте я ни за что не стала бы возвращаться обратно. Ни за что. Это уж точно.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Уриашевич разделся, сдал вещи в раздевалку, надел позаимствованные у Хазы старые плавки и вместе с ним по коридору направился к бассейну.
— Не знал, что ты ходишь в бассейн, — сказал Анджей.
— Это он меня вытаскивает, — ответил Хаза, показывая на Дубенского.
Тот опередил их: успел уже окунуться, вылезти из воды и теперь, на трамплине, разминался, готовясь к новому прыжку.
— Ты ни слова не говорил мне ни о каком бароне Дубенском, а вы, оказывается, неразлучны. Давно знакомы?
Вчера он едва успел перемолвиться с Хазой; тот, наспех проглотив обед, уже помчался на свидание с Дубенским, хотя барон пригласил его вечером ужинать. А сегодня утром опять заявился Дубенский и потащил Хазу в бассейн.
— Товарищ по партизанскому отряду. Только что из тюрьмы. У него нет никого. Вот я и пригрел его.
— Из аристократической семьи? — продолжал расспрашивать Уриашевич.
— Кажется.
Дубенский тем временем, подброшенный трамплином, описал в воздухе красивый полукруг и головой вниз, с прижатыми к телу руками стрелой вонзился в воду.
— Отличный прыжок, — похвалил Уриашевич со знанием дела. — Как по-твоему?
Хаза, не спускавший глаз с Дубенского, неожиданно взорвался:
— Отстань ты от меня со своим Дубенским! Надоело!
— Ты что, взбесился?! — удивленно посмотрел на него Уриашевич.
— Расскажи лучше, как там, в тех лесах, где ты обретаешься? — И Хаза придвинулся поближе, обняв Анджея за плечи и явно стараясь загладить свою резкость. — Ну, — повторил он, — расскажи!
— Как? Красиво.
— Это что, — поморщился Хаза. — А спокойно ли там?
Уриашевич решил придерживаться старой версии, будто живет на Познанщине у приятеля, лесничего. Только конкретизировал ее. Лесничего поселил в бывшей усадьбе, в местах, похожих на окрестности Ежовой Воли, в знакомой ему обстановке. Что-то все равно надо говорить. А так меньше шансов запутаться.
— Да не очень спокойно.
— Они там, в лесу, деятельность какую-нибудь развивают?
— А как же.
— В деревни заходят или дороги перекрывают?
— В деревни. И не только в деревни. В нескольких километрах убили одного, начальника охраны на фабрике.
— Дома?
— Нет. Пытались на фабрику проникнуть.
— Поживиться хотели малость?
— Нет. Фабрика еще бездействует.
— Тогда это вдвойне глупо, — презрительно выпятил губы Хаза.
На это глубокомысленное замечание Уриашевич никак не отозвался. Он испытывал двойственное чувство, отвечая Хазе. Ему трудно было бы умолчать об этом происшествии, которое продолжало его мучить, но мешало чувство неловкости: приходилось изворачиваться. Хаза, однако, ничего не замечал. Он не считал, что разговор исчерпан, и продолжал расспросы. Уриашевич, упомянув перед тем, что в убийстве был замешан ксендз, обмолвился, что знал его.
— Откуда? — поинтересовался Хаза.
— Заходил как-то к нему.
— Хорошо, что ваше знакомство этим ограничилось.
— Потом он еще раз посылал за мной, но когда я пришел, его уже и след простыл.
— Вот так ксендз! — заржал Хаза. — Я тоже нарывался в свое время на таких вот казаков в сутане. А чего ему, собственно, надо было от тебя?
— Это секрет.
— Даже мне не скажешь?
Наступило неловкое молчание. Хаза так и сверлил Уриашевича своими черненькими глазками.
— Ну и ну! — подивился он. — В тихом омуте черти водятся. — И заглянул Уриашевичу в глаза. — А в милиции скажешь?
— Теоретически — нет.
Хаза издевательски захохотал.
— В милиции теорией не занимаются. Там, брат, сплошная практика. В милиции и в госбезопасности.
— Ни в милиции, ни где бы то ни было спрашивать меня об этом не станут! — Голос Анджея дрожал. — Милиция выследила преступников, а я с ними ничего общего не имею!
— Но к попу-то ходил все-таки, — настаивал Хаза. — А если тебя выследили и взяли на заметочку?
Он огляделся по сторонам, не подслушивает ли кто. Потом, сгорбясь, уставился на свои колени и зашептал так тихо, что Уриашевич придвинулся и тоже вынужден был к нему наклониться.
— Я не робкого десятка и, помню, смеялся над тобой, когда ты побоялся говорить в ресторане о «Пире», а потом не захотел возвращаться ночью и остался ночевать у теток во флигеле. Но в данном случае основания для беспокойства есть. Лучше тебе в лесничество не возвращаться.
— Это невозможно.
— Тогда хоть подожди немного.
— Это полнейшая бессмыслица.
— А влипнуть — это, по-твоему, не бессмыслица? — И Хаза своей большой холодной лапой стиснул повыше локтя руку Уриашевича. — В Варшаве найдется работа менее опасная, — искушал он. — Во всяком случае, стоит ради нее пойти на риск. Я как раз подыскиваю подходящих людей.
Он глянул искоса на Уриашевича. Накручивал он его не без тайной цели. И теперь проверял, насколько к ней приблизился. Но предложение было не ново, Анджей однажды уже отверг его, а сейчас ему, как видно, вообще было не до того. Он соображал, как бы дать понять Хазе, что тот преувеличивает опасность, не посвящая его при этом во все свои дела.
— Жалко, что не могу сказать тебе все начистоту. Иначе бы ты меня понял.
Сзади них прошел кто-то. Они подняли заговорщически склоненные головы. И в этот миг на глазах у них — Хаза по-прежнему смотрел равнодушно и неприязненно, а Уриашевич, отвлеченный разговором, уже без недавнего безраздельного восхищения — смуглый, стройный, невысокий Дубенский совершил еще один мастерский прыжок. Вверх, вверху кувырок и с прижатыми к туловищу руками вниз головой в воду.
— А в милиции ты сказал бы? — приставал Хаза. — Да или нет?
— У меня совесть абсолютно чиста, — ответил Анджей. — И из моих слов это было бы совершенно ясно. Но если б я выложил все, как есть, то выдал бы других.
Незаметно к ним подсел Дубенский — по телу его струйками стекала вода. Он расслышал последнюю фразу.
— А если вы захотите остаться в тени, сами угодите в тюрьму. Это, если можно так выразиться, закон светотени, на котором зиждется наше общество. — Он демонстративно развел руками, многозначительно глядя на Хазу. — А впрочем, иногда имеет смысл и самому сесть за решетку, чтобы других выгородить, дать им на свободе пожить. N’est-ce pas[10], Хаза?
Хаза встал и, не отвечая, с недовольной миной направился к воде. А Дубенский беспечным тоном, с напускной вежливостью, а в сущности, развязностью заговорил с Уриашевичем:
— В наше время надо реально представлять себе свое будущее. Нас, людей нашего круга, ждет тюрьма; да, это так. Всех, за небольшим исключением. Например, за исключением моей особы — с меня и одного раза вполне достаточно. Я буду сопротивляться всеми возможными средствами, лишь бы снова не угодить за решетку, inclusive[11] самоубийство, если прибегнуть к средневековой формуле, наставляющей монашек, до какого предела должны они свою добродетель защищать.
Хаза, стоя по шею в воде, ловил каждое его слово. Дубенский улыбнулся.
— Ему очень интересно, о чем это мы болтаем, — сказал он, указывая Уриашевичу на него. — Пересядем поближе, а то невежливо получается.
Они уселись на краю бассейна, свесив ноги в воду. Дубенский болтал без умолку.
— Люблю пофилософствовать, сидя у воды, — она зыбка, как и все вокруг. Как граница между самыми непримиримыми понятиями. Как граница меж бытием и небытием, между жизнью и смертью. Ты слышишь нас, Збигнев? — Не дождавшись ответа и удовольствовавшись лишь его миной, он продолжал: — Взять хоть тюрьму. Вроде бы существует человек и вроде бы нет. Вроде он жив, но разве назовешь это жизнью и вообще бытием. Разве это уже не начало умирания, которое распространяется на всю последующую жизнь. Даже на тот ее отрезок, когда человек окажется на свободе. — Он кинул на Хазу издевательский взгляд: на эти посиневшие губы, мокрые, облепившие лицо пряди, на его маленькие, близко посаженные глазки, в которых метался страх. — Ужасно Хаза не любит, когда я поминаю при нем, что в тюрьме сидел, а я вот люблю. Мне особое удовольствие доставляет говорить в его присутствии о подобных вещах. Пугается-то как, ну просто душка! Да посмотрите же, забавная какая рожа! — Улыбка сбежала с его лица. Дубенский плотно сжал губы, но заставил себя пошутить еще раз, как бы через силу: — Ну, чем не водяная лилия, оцепеневшая от ужаса, что ее вот-вот сорвут? — И, оставив Хазу в покое, он перевел взгляд на Уриашевича. — Вы не плаваете? Не признаете водного спорта?
— Признаю, — ответил Анджей. — До войны я все лето проводил на Хельском полуострове. С утра до вечера на парусной лодке. У меня собственная была. А в последние годы друг брал меня с собой на моторке, отличный был мотор у него, настоящий зверь: пятьдесят лошадиных сил!
— Ого! — с напускным восхищением воскликнул Дубенский. — Раньше у меня тоже имелось кое-что. А сейчас из всего необходимого для водного спорта осталась в моем распоряжении лишь вода. Пойдемте поплаваем в ее волнах.
Они подплыли к Хазе и втроем несколько раз вдоль и поперек пересекли бассейн. Потом присели отдохнуть.
— Чего так запыхался? — Дубенский окинул Хазу критическим взглядом. — Пловец ты неважнецкий. — Затем вернулся к постоянно волновавшей его теме, которую затронул в разговоре с Уриашевичем. — Ба! У меня и автомобиль был, и особняк, и конный завод, и сотни других великолепных вещей и все к чертям полетело из-за войны, немцев и демократии. Эта последняя и самое дорогое обесценила — герб моих предков. — Ему показалось, что Уриашевич слушает недостаточно внимательно. — Écoutes bien![12] — воскликнул он и напыжился. — Прадед мой был комиссионером, дед нажил состояние на торговле лесом, а отец землю купил, дворянское звание и титул. После чего женился в Париже на княжне, заметьте: испанской. Поистине перст судьбы. С той поры в высшем обществе, куда мы, Дубенские, получили доступ, восточная наша внешность уже больше никого не шокировала. — Он силился представить все это в комическом свете, но в голосе его и взгляде было нечто помешавшее Уриашевичу и Хазе улыбнуться. — И, однако, после революции мы остались в полном смысле на бобах. Вы только представьте себе, какой путь пришлось проделать моим предкам — от конторы до женитьбы на княжне! И все насмарку. Мы опоздали. Вскочили в последний момент в автобус, а он отправлялся в парк. — Он вздохнул почти без наигрыша. Но тотчас же опять взял насмешливый тон. — И вот я одинок, как перст. Родителей с братьями и сестрами украинские националисты убили в имении под Пшемыслом, дальних родственников со стороны отца гитлеровцы уничтожили, семью матери — испанские анархисты в гражданскую войну. Так что перед вами — круглый сирота. — С этими словами Дубенский поднял указательный палец и торжественно обратился к Хазе: — В случае моей смерти поручаю тебе разослать faire-part моим знакомым и друзьям. Подпишешь так: «С глубоким прискорбием извещает друг покойного»… Друг? А может, лучше товарищ по партизанскому отряду? И еще конкретней: по отряду, который действовал под Живцем, точнее — под Замостьем.
— Перестань! — оборвал его Хаза. — Чего ты ко мне пристаешь?
— Как? — изобразил барон недоумение. — Ведь идея засады, на которую я намекаю, и проведение операции принадлежит тебе. Я думал, ты гордишься ею.
— Тише! — зашикал Хаза. — Ведешь себя, как мальчишка.
— Дрейфишь? — спросил Дубенский. — Боишься, как бы не выдал тебя?
— И себя выдашь заодно, если будешь лишнее болтать. Не только меня, пора бы сообразить.
Глазки Хазы налились кровью. Дубенский наблюдал за ним с интересом.
— За нас двоих я и соображал. И не один раз. Прежде всего — в тюрьме, благодаря чему ты и вышел сухим из воды. Поэтому перестань, пожалуйста, меня преследовать и рот мне затыкать.
— Это я тебя преследую? — потерял самообладание Хаза. — Ты за мной по пятам ходишь, голову мне морочишь, тюрьму хочешь накаркать и в вечном страхе держишь своей дурацкой болтовней о нашем прошлом. Ты что, не в своем уме? Рубаху бы на тебя смирительную да в сумасшедший дом, а то еще натворишь делов, плохо кончишь. Но я тебя предупреждаю…
От волнения у него прервался голос, и он замолчал. Только руки его, дрожащие от бешенства, сами потянулись к Дубенскому. Тот лениво отодвинулся в сторону, за пределы досягаемости.
— Зачем преувеличивать, — воспользовался Дубенский наступившей паузой. — Но с твоей стороны очень мило так заботиться обо мне, о моей безопасности и здоровье. И о самом существовании моем тоже, Хазик, пекись. В тебе в последнее время заговорил инстинкт покровительства. И это твое счастье. Ведь я тебя знаю: погибни я, и ты жить без меня не сможешь. Вот какой ты друг! Ну, господа, хорошенького понемножку: поплавали — пора и пообедать.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
— Ты дал мне честное слово, — напомнил Рокицинский.
— Я своих обещаний не забываю, — ответил Анджей.
Они сидели в углу в пустом полутемном кафе. Встреча была случайной. На улице возле бассейна Уриашевич сразу же простился с Дубенским и Хазой, который снова стал его убеждать, что возвращаться в лесничество и вообще в те края в создавшемся положении равносильно самоубийству. Отделавшись от них, под каким-то предлогом уклонясь от совместного обеда, Уриашевич почувствовал непреодолимое желание выпить черного кофе. Но не успел сесть за столик, как из глубины зала навстречу ему поднялась какая-то фигура. Он и сам собирался зайти к Рокицинскому, но, когда тот вырос рядом, внутри у него все оборвалось. Сейчас больше всего на свете хотелось ему побыть одному, а тут как снег на голову — Рокицинский. Неудачнее момент трудно и выбрать. Предстояло еще раз, причем безотлагательно, не приведя после разговора с Хазой мыслей в порядок, возвратиться опять к тому же.
Рокицинский хотел знать все. Подошел он донельзя удивленный, что видит Анджея в Варшаве. Значит, нашел-таки Кензеля? Или отказался от своего намерения? Последнее ему, Рокицинскому, куда больше улыбалось. Часто вспоминал он их разговор и ругал себя за излишнюю откровенность; да, тогда он хватил через край. К чему было откровенничать? Ведь при неблагоприятном исходе это могло обернуться против него самого. И с затаенной тревогой подсел он к столу. По мере рассказа Уриашевича тревога эта возрастала. Внимательно, не перебивая слушал Рокицинский о Спосе, о событиях на фабрике, о разговоре с викарием — обо всем. Но когда Анджей дошел до признаний Кензеля, адвокат, спокойно выдержав его взгляд, решительно заявил:
— Да, я помог Кензелю, не отрицаю; но какие там у него на совести грехи, это дело не мое. Твое же дело — помнить о своем обещании.
— Я помню.
— Ты дал честное слово хранить в тайне все, что узнаешь о Кензеле, и ничего во вред ему не предпринимать. Так?
— Так.
— А между тем по твоей вине уже создалась ситуация, чреватая для него самыми неприятными последствиями. — Тонкими холеными пальцами в кольцах сжал он виски. — Достаточно тебе или тому ксендзу, попадись он им в лапы, произнести фамилию Грелович, и директору Кензелю конец. Явятся, проверят, существует ли такой, действительно ли приходил ты к нему за вещью, принадлежащей твоему другу, и дознаются, кто этот Грелович. Да, заварил ты кашу!
— Так что же мне делать, черт возьми? — в сердцах сказал Анджей.
— Это уж я не знаю, — ответил адвокат невозмутимо. — Я тебе просто о твоем долге напоминаю. — И вдруг у него вырвалось слово, которое его самого заставило побледнеть. — Беги! — прошептал он. — Беги! — И прибавил чуть слышно: — Пока еще не поздно. — Один за другим посыпались с его тонких губ доводы, аргументы в защиту побега. — Ты должен исчезнуть, — настаивал он. — Даже если тебя, по-твоему, не вызовут и не спросят, что ты делал у этого Споса, будь он неладен, все равно. Ни на минуту не забывай, что грозит Кензелю, если к нему нагрянет милиция. Главное сейчас — не привлекать к нему внимания. Надеюсь, тебе это понятно? И вообще — неужели тебе его не жаль? — воззвал он к чувствам Анджея. — Не жалко человека, который может пострадать из-за тебя, из-за того, что сберег чужое имущество; не для себя, не из корысти, а из дружбы, из привязанности. Ты не должен забывать об этом. — И добавил в заключение: — И обо мне тоже. Выстрел, который угодил бы в Кензеля, сразит и меня. В наше время ничего не стоит погубить человека моего положения. Даже если для этого никаких других оснований нет.
Глаза их встретились. У Рокицинского взгляд был испуганно-настороженный. Он с самого начала опасался прежде всего за себя. Быстрым движением снимая кольцо с одного пальца, надевал он его на другой и наоборот: верный знак, что он нервничает.
— Я помог ему раздобыть документы не ради денег. — Он судорожно глотнул. — Я полагал: надо спасти его от необузданной, варварской мести демагогов, а со временем, когда все утрясется, пусть предстанет перед судом обычным, непредвзятым, справедливым. Ну а если этого даже не произойдет, я, не кривя душой, скажу: тоже не беда. Не одному ему, многим помог я, кто оступился во время оккупации. Но оказались среди них и такие, кто, попав в тюрьму, теряли отчетливое представление о том, что можно говорить, а чего нельзя. К счастью, хоть не целиком. И все равно человек я почти конченый. Репутация у меня подмочена, и никуда от этого не денешься. Хорошо еще, если ограничатся только тем, что мне адвокатской практикой заниматься запретят. — Он с шумом набрал воздуха в легкие и воскликнул возмущенно: — Это мне-то! — Но тотчас поник и опять беспомощно сжал руками виски. — Не мой бы преклонный возраст, не раздумывая, уехал бы за границу. Поверь мне. Сейчас еще можно! Трудно, но все-таки можно! Но, увы, такая эскапада уже не для меня! — Важность, с какой он всегда держался, оставила его; в глазах, устремленных на Анджея, обычного добродушия и следа не было. — Да! Будь я помоложе, сто раз уж предпочел бы поставить все на карту. Пан или пропал! А то дрожишь, как мышь в щелке; как под вечным дамокловым мечом. И ты еще тут мне сюрпризы преподносишь. Я и так из одной неприятной истории еле выпутался.
И снова кольца на пальцах адвоката пришли в движение. Он осведомился, с кем вообще Уриашевич говорил о Греловиче, то бишь о Кензеле. Только с теми двумя ксендзами, о которых упоминал?
— Да, только с ними.
— А тот человек, который может на тебя донести, кто он? Учитель?
— Я не говорил, что может донести, — поправил Анджей. — Мое поведение, сказал я, могло ему показаться подозрительным.
— Кто он такой?
— Директор тамошней сельскохозяйственной школы.
— Народной? Донесет! Он красный и городскую интеллигенцию ненавидит лютой ненавистью. У таких от подозрения до доноса — один шаг. Представляю, что за тип!
Минута прошла в молчании. Рокицинский совсем пал духом.
— Скажи, пожалуйста, а что там у Кензеля на хранении? Драгоценности? И удалось ему сберечь их в целости для Левартов? А где ж он в Варшаве держит их?
Он так и обмер, узнав, что не драгоценности, а огромная картина, знаменитый «Валтасаров пир», за которым Анджей собирается еще раз ехать к Кензелю, причем на грузовике.
— На грузовике? — содрогнулся Рокицинский. — Да ведь все водители с милицией связаны! А у кого-нибудь из твоих знакомых нет грузовика, которым ты бы мог воспользоваться?
— Есть. У Хазы, — вспомнил Анджей.
Рокицинского передернуло.
— Этого еще не хватало! Он ведь двоюродным племянником приходится Конраду Уриашевичу! Я их постоянно вместе вижу. Вот бы ты свинью подложил — и нам с Кензелем, а заодно и себе самому! — При мысли об этом у него дыхание перехватило. — Слава богу, что встретился с тобой, — пробормотал он, придя немного в себя. — Слава богу!
— Бог тут ни при чем, — ответил Анджей. — Дяде Конраду известно, что я у вас был. И советовался, как поступить. За помощь, за то, что вы направили меня на след Кензеля, я обязался молчать и помню об этом.
— Однако отправился же к этому ксендзу, не посоветовавшись со мной!
— Я думал, все обстоит гораздо проще.
— С Кензелем?
— Вообще!
Рокицинский уставился в пространство, по-прежнему стиснув пальцами виски. Упрекать Анджея Уриашевича бессмысленно. Следовало подумать, как быть дальше.
— Что Хаза — родственник Конрада Уриашевича, это еще ничего не значит, — опроверг он свой первоначальный довод. — Ты с ним в таком же родстве, но под его дудку не пляшешь. Если ты ручаешься за Хазу, придется на это пойти. Только пусть Кензель не показывается ему на глаза, а Хазе ты уж наври что-нибудь.
Но ведь дядя Конрад, подумал Анджей, тоже замешан каким-то боком в историю с Кензелем, — во всяком случае, в курсе его дел. Дядя, которого Рокицинский ненавидел, с грязью смешивал, при упоминании о котором пришел в ужас: что будет, если Хаза ему о Кензеле проболтается! Горькая, нервная усмешка искривила губы Анджея.
— Тебе смешно? — укоризненно, с осуждением заметил Рокицинский. — А мне не до смеха!
Взгляды их снова скрестились. Уриашевич напряженно всматривался в адвоката и соображал. И в конце концов с отвращением и злорадством решил ничего не говорить о связи, существующей между Конрадом и Кензелем. «Сами пусть разбираются», — подумал он о дяде и Рокицинском с одинаковой неприязнью.
— Кстати, у тебя тоже нет оснований радоваться! — заключил Рокицинский холодно. — Ты должен за каждым своим шагом следить, пока не выберешься отсюда. А выбираться надо как можно скорей. И не только для моего и Кензеля спокойствия, но и для твоего собственного. И не только ради спокойствия. Вряд ли ты захочешь оказаться в таком положении, когда тебя вынудят нарушить данное мне слово. То есть под следствием.
* * *
— Ой, ну и вид же у вас! Еще хуже, чем тогда на вокзале после ночного кутежа. Что с вами?
— Со мной? Да так… — бормотал Уриашевич, через силу улыбаясь Степчинской. — Не обедал еще сегодня.
Так оно и было. Но не оттого ввалились у него глаза и лицо было землистого цвета. О еде он и думать забыл. Решил, правда, перекусить после встречи с Рокицинским; выговорившись и успокоясь, адвокат даже приглашал Анджея к себе закусить. От обеда с Хазой и Дубенским, а потом с Рокицинским он отказался не потому, что не был голоден, а потому, что хотелось побыть одному. Ему припомнился ресторан, где он впервые заговорил с Хазой о «Пире», там было тихо и царил полумрак. Сидели они тогда в угловой нише — из зала их почти не было видно. О таком вот укромном местечке мечтал он сейчас, забиться бы туда и подумать без помех. Стоя в дверях, Анджей обвел взглядом зал: нет ли случайно Хазы с Дубенским. Не видно. Зато он увидел Степчинскую. И ретировался. Не только из-за того, что искал одиночества: она была не одна. Очутившись на улице, он пошел куда глаза глядят. Сначала еще вспоминал, что надо бы зайти поесть, но потом это испарилось из головы. Он не ощущал ни голода, ни усталости, все вытеснило одно чувство. Запавшие ему в душу слова Рокицинского глушили, отравляли уже зревшие в ней новые ростки. Он мучительно искал выхода, но доводы адвоката казались все убедительней — почва для них была подготовлена разговором с Хазой. Смятение, охватившее его, усилилось. Стыд, смешанный с унижением, сменился бессильной злобой. Он злился на все и вся, на себя и других, на жизнь и на людей, на страну, где не могут без крови, где нет и, наверно, никогда не будет покоя. От всего этого пропадала охота жить.
Постепенно стало смеркаться.
Недовольство собой возрастало, едва Уриашевич возвращался к тому выводу, вокруг да около которого невольно ходил все время. Хорошо было в Ежовой Воле, и неужто не суждено туда больше вернуться? А ведь решение, которое подсовывал ему Рокицинский, вело к этому шагу. И по мостовым, по выщербленным тротуарам, сворачивая с освещенных улиц в темные закоулки, то спотыкаясь, то замедляя, то ускоряя шаги, неизвестно в который раз опять выходя под яркие фонари и щуря глаза, привыкшие к темноте, брел он и брел. Уезжая из Ежовой Воли, Анджей и представить себе не мог, что окажется в таком положении, — и вот нате! Еще утром в разговоре с Хазой все в нем возмутилось: как? Бросить школу, болтаться неведомо где, подвести людей? А сейчас это казалось ему неизбежным, — и придется еще дальше пойти по этой дороге. Он так задумался, что не заметил, как очутился около семи часов возле ресторана, где условился встретиться со Степчинской.
* * *
— До сих пор не обедали? Да как же это вы? — Такое пренебрежение к своему здоровью возмутило молодую балерину. — Так можно форму потерять.
Вот она, например, всегда в одно и то же время ест: в два обедает, в семь ужинает, о чем и не замедлила ему сообщить. В ответ он немного некстати, но лишь бы как-нибудь побороть свое плохое настроение, заметил, что видел уже ее сегодня.
— С одним блондином, — прибавил он.
— Ошибаетесь, с двумя!
И он вспомнил, что один действительно встал и пересел к другому столику.
Когда Анджей несколько часов назад увидел ее в ресторане, ему стало не по себе. Правда, Иоанна говорила, что Галина много времени проводит в обществе мужчин. Он не придал значения словам тетки, но, как видно, они запали ему в сердце, если сегодня при виде Степчинской его охватило даже не то что огорчение, а чувство безнадежности. Вспомнив об этом, он нахмурился. Это не ускользнуло от ее внимания.
— Что означает сие нахмуренное чело? — ничуть не смутясь, спросила она. — Вы ревнуете?
— Какое я имею право вас ревновать?
— Но вы на меня злитесь?
— Я злюсь на себя.
Она склонила набок голову. Во взгляде, брошенном на него, был скорее вызов, чем сочувствие. А он изо всех сил старался не раскиснуть.
— Не знаю, когда мы с вами опять увидимся. У меня тут кое-какие осложнения. И лучше мне, наверно, не появляться в Варшаве. Месяц, а может, даже больше.
— У-у!
— Так что делать вам замечания в этой ситуации было бы нелепо. Вы просто бы сказали: не вмешивайтесь не в свое дело!
— Тем не менее вы все-таки сделали мне замечание. Хотя молодые люди, с которыми я сидела в ресторане, мне совершенно безразличны.
— Зачем же тогда встречаться с ними?
— А если мне так хочется, — бросила она с надменной гримаской. — А хочется, потому что никого подходящего нет.
Он удивленно посмотрел на нее.
— Чего вы на меня так смотрите? Все люди разные, и я такая, какая есть. — И, оставив капризный тон, заговорила серьезно и взволнованно: — Будь у меня возможность путешествовать, выступать перед стоящей публикой, был бы красивый, изящно обставленный дом, как у артистов за границей, не стала бы я по ресторанам сидеть. Могу вам за это поручиться.
— У кого есть, а у кого нет, — буркнул Уриашевич.
— Есть! Есть! Я сама видела множество шикарных, сногсшибательных фотографий в журналах у пани Иоанны — французских, английских, американских!
Он упомянул о балетах, где ей предстоит танцевать.
— Вот, вот! — спохватилась она. — Теперь вы понимаете, почему я не придаю особого значения выступлениям в Варшаве. Меня не устраивает наша публика.
— Теперешняя?
— Да.
— А говорят, она замечательная.
— Знаю, знаю! — воскликнула она с раздражением. — Но в театр они приходят усталые. После целого дня работы, и вдобавок в городе, который разрушен и только восстанавливается. Разве можно в таком состоянии воспринимать искусство? Искусство требует особого отношения. А кому это доступно у нас?
Все это выложила она, слегка скривив губы. Смысл ее слов доходил до его сознания, и слушал он с неприятным чувством, но не перебивал, не возражал. И не потому, что не считал нужным, — просто вправе ли он объяснять ей, как она заблуждается, коль скоро сам принял такое решение? А Степчинская, убежденная в своей правоте, продолжала:
— Мне говорят: многое переменится, когда изменятся условия жизни. То есть когда новую Варшаву построят. Покорно благодарю! Меня тогда уже на сцене не будет!
— Но…
— Балерина танцует до тридцати лет. Я знаю, что говорю! Сбеситься можно, как подумаешь, сколько вложено труда, и все впустую. Вы представляете, чего мне стоило добиться таких результатов, каких я добилась?
Глаза у нее заблестели, щеки раскраснелись, она задышала прерывисто.
Уриашевич забыл про усталость. Когда они поели, он заказал кофе. Но Степчинская от кофе отказалась.
— Нет, не буду. Боюсь форму потерять. Я все-таки балерина — невзирая ни на что. А вы уже, наверно, решили, что я очень легкомысленная.
Он задумался.
— Я просто ничего о вас не знаю! Абсолютно ничего! Не знаю, когда вы бываете сами собой, а когда это просто поза. Тогда, в деревне, я не представлял себе, что вам написать. А написать очень хотелось. Но о чем? О вас? Но ведь я совсем вас не знаю. О себе? Неинтересно. У меня все в прошлом, а это мало помогает жить; настоящее — самое неопределенное и никаких видов на будущее. Так, во всяком случае, тогда обстояли дела. Сидел я, сидел над чистым листом бумаги, думал, думал…
— И чудесное написали письмо! — с улыбкой заверила она его. — Я всегда ношу его с собой. — И в подтверждение открыла сумочку, перерыла все, но письмо куда-то запропастилось. — В другой раз покажу. — Потом она вернулась к прерванному разговору: — Вы говорите, что не знаете меня? Но ведь я столько вам о себе рассказала. Что вы еще хотите знать? Где я родилась? В Варшаве. Чем занимаются мои родители? Отец преподает в гимназии, мать — шляпница, причем очень известная, а я единственная дочка, она души во мне не чает. Так что не думайте, будто я за границу из-за денег рвусь. Ничего подобного. Меня другая жизнь привлекает. Другая атмосфера. Иное общество. Люди, которые многое могут себе позволить в жизни. Теперь вы меня понимаете?
Сейчас Анджей еще меньше склонен был вступать с ней в спор, чем в начале разговора. Прислушиваясь к ее голосу, он думал, скоро ли его еще услышит. Может, через много лет.
— Понимаю.
— И согласны со мной?
— А зачем вам мое согласие?
Его ладонь коснулась ее руки. Она почувствовала, что он дрожит.
— Жалко уезжать. Жалко расставаться с вами.
Она ласково улыбнулась.
— Мне тоже, — сказала она тихо. — Мне с вами очень хорошо.
Она сжимала и разжимала пальцы, прикрытые его ладонью.
— Я не встречала таких людей, как вы. Побольше бы встречала, может, и не рвалась бы из Варшавы за границу.
Хотя ничего особенного Степчинская не сказала, слова ее тронули Анджея. Тем более что сопровождались они особенным взглядом. Нежным и проникновенным. Время близилось к десяти. Они разговаривали почти три часа. Уриашевича волной захлестывала нежность, нарастая с каждой минутой. Наружу рвались признания. Признания без будущего, без надежды на завтрашний день. Но тем сильнее хотелось высказать их сегодня: такая возможность могла больше никогда не представиться. И Уриашевич начал объяснять Степчинской, чем она стала для него в жизни.
— Всем. С самого начала. С момента, как вы появились на сцене и начали танцевать.
— А где это вы видели меня на сцене?
— Как где? — растерялся он. — На вечере.
Пальцы Степчинской замерли в его руке.
— На вечере, — повторил он, озадаченный ее вопросом и внезапной переменой в ней. — На школьном вечере, куда меня привела Иоанна.
— А что я тогда танцевала? — спросила она глухим голосом.
— «Умирающего лебедя».
Она покраснела от негодования.
— Это была не я! — Следующее мгновение она только тяжело дышала: гнев мешал ей говорить. — Спутать меня с такой дубиной! — прорвало ее наконец. — С этой бездарью! С идиоткой, которая готова скалиться всем и каждому. Из-за того только, что у нее такая же прическа. Из-за того, что она подражает мне во всем, как мартышка.
Но Анджей не сдавался.
— Тогда почему же после ее выхода в зале кричали: Степчинскую, Степчинскую. Хотим Галину!
— Очень просто: хотели, чтобы я выступила. А я поклялась пани Тарновой, что не буду, пока она эту кривляку не приструнит, не запретит ей подражать мне. Она не сочла нужным этого сделать, я пришла после ее выступления в бешенство и отказалась выходить на сцену. А мои знакомые меня вызывали.
— Ах, вот оно что!
Она бросила на него уничтожающий взгляд.
— А вы думали, ее на «бис» вызывают?
Эта история приводила ее в ярость. Вот почему не разрешила она упоминать об этом вечере. Это он уразумел. Но ему не все еще было ясно.
— Тогда почему же, когда я сказал на вокзале, что мы уже виделись, вы не возражали?
Вместо ответа она подвергла его короткому допросу.
— Были вы с Иоанной перед самым началом за кулисами, где мы столпились в ожидании выхода? Были или нет?
— Был.
— А меня видели или нет?
— …
— Вы же на меня смотрели!
— Не помню.
Это уже было чересчур. Она вскочила со стула. Кивком попрощалась.
— Неужели мы так расстанемся! — сделал он отчаянную попытку ее удержать. — Ради бога! Ведь я же завтра, может быть, уеду!
— Ну и уезжайте, — прошипела она. — Отправляйтесь в свою глухомань к лисам или рыбам, к кому угодно! Меня это не касается!
Оставшись один, он попросил счет, расплатился, но не двинулся с места. Провел рукой по лицу, протер глаза и, опустив голову, стал машинально сгребать в кучку хлебные крошки на скатерти.
«Итак, все кончено. Но все равно это было безнадежно, — размышлял он. — Что мог я ей дать или потребовать от нее в сложившемся положении? Ну, потянулось бы это еще какое-то время. День, два, неделю. А так, как ножом отсекло».
Он продолжал сидеть. На то, что Степчинская вернется, Анджей и не рассчитывал. Просто трудно было решиться уйти.
«Тем лучше! — утешал он себя. — Чем скорей, тем лучше. Меньше переживаний. И ничего такого я не совершил, за что пришлось потом бы себя упрекать. По крайней мере, совесть чиста».
Но никакие слова не помогали: боль, терзавшая его, не унималась.
— Только этого мне еще не хватало! — произнес он вслух. — Недоставало еще ее потерять ко всему прочему!
Наконец он решительно встал и вышел на улицу. Но там его снова стали осаждать мысли о предприятии, которое обсуждали они с Рокицинским. И Анджей окончательно помрачнел.
— И тоже нечего церемониться, — прошептал он с лицом угрюмым, ожесточенным. — Надо — значит, надо. Нет другого выхода, так нечего и тянуть.
Дверь открыл ему Хаза. Уриашевич не сразу заметил, что он пьян.
— Послушай, Збигнев, — стоя в дверях и не снимая пальто, спросил он. — Помнишь наш первый разговор о «Пире»? Ты сказал еще, будто знаешь одного иностранца, который может переправить картину за границу. Это по-прежнему в силе?
— А зачем тебе, раз картины нет?
— Есть.
— Нашлась?
— Нашлась.
Хаза, сделав над собой усилие, уставился мутными глазками на Уриашевича.
— Ну да? Так-таки и нашел? Врешь!
— Нет, не вру.
— Прямо вот сейчас, ночью?
Хаза замер на миг и, сосредоточив все внимание, напряженно всмотрелся ему в лицо.
— И правда, нашел! — заключил он. — Чего же ты злой такой, а? — И хлопнул его по плечу. — Эх, ты! — захохотал он громко. — На тебя не угодишь!
Пошатнувшись, Хаза свалился на матрацы в углу, которые служили ему постелью. И безуспешно старался вытащить из-под себя одеяло.
— С кем ты надрызгался так? — спросил Уриашевич: вид Хазы не располагал к тому, чтобы продолжать разговор о картине. — С Дубенским?
— Еще чего! С бабой!
— И, напоив, не привел к себе? Что за новая мода?
— Она стеснялась.
Уриашевич вспомнил: первое время после его возвращения из-за границы Хаза не приводил женщин на ночь и уступал ему свою тахту. Сделал он это и сейчас, потому что Анджей опять стал для него гостем, а не домочадцем или жильцом, которому сдали угол. Но Уриашевич не хотел ему мешать.
— Надеюсь, ты не меня постеснялся?
— Не я, а она.
— Мог бы с ней расположиться в комнате, как и раньше, — продолжал Уриашевич, — а мне в кухне постелить на полу. Я закрыл бы дверь и знать бы не знал, кто там у тебя и что у вас происходит.
— А, все равно! — пробормотал Хаза. — Говорил я. Да она законфузилась.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
— Подожди минуточку, — сказала Ванда извиняющимся тоном. — И, пожалуйста, не оборачивайся.
Семи часов еще не было, когда Анджей встал и поспешил к бабушке: хотелось прийти пораньше и побыть с ней подольше. Перед тем как позвонить, он постоял немного перед дверью. Задрал голову, прислушиваясь, не донесется ли какой-нибудь звук сверху, но что могло оттуда донестись, если Климонтова вернется только завтра. Тем не менее Анджей продолжал стоять в прежней позе. Он понимал: торчать здесь и прислушиваться бессмысленно, иного решения, кроме принятого, все равно быть не может. Но инстинктивно цеплялся еще за надежду, как утопающий за соломинку. Наконец позвонил. Сестры Уриашевич как раз кончали обмывать больную. Увидев в дверях племянника, да еще в такую рань, тетки оторопели и попросили его немного подождать. Но обе при этом страшно суетились и нервничали, уверенные, что он обижен на них — то ли из-за Климонтовой, о которой Ванда в свое время нелестно отозвалась, то ли из-за Иоанны. Чем же иначе можно объяснить, что он ни разу им не написал. Это часто им служило темой для разговоров. Поэтому они ни за что не соглашались оставлять его в коридоре: боялись, как бы не ушел. А в комнате попросили его отвернуться.
— Ты глазам бы своим не поверил, если б мамины ноги увидел. Никаких пролежней. Поистине чудо какое-то! — твердили они, напоминая поочередно: — Только не оборачивайся, пожалуйста!
Склонясь над больной, они совместными усилиями протирали дезинфицирующим раствором чисто вымытое тело. Ванда переворачивала мать на бок, на живот, поднимала ноги. Тося с тампоном ваты в одной руке, с пузырьком — в другой изредка выпрямлялась, переводя дух.
— Истинное чудо! — беспрерывно восклицала она, любуясь плечами матери. — Совсем другая спина! И кожа, какая здоровая, упругая!
— А скольких трудов нам это стоило! — вставила Ванда. — И хлопот каких! Ни один из врачей, бывавших у мамы, не ожидал ничего подобного. Наш доктор просто надивиться не может.
Время от времени они отрывались от своего занятия, чтобы полюбоваться делом своих рук и похвалить друг друга.
— Это Вандина заслуга, — сказала Тося. — Она узнала про новое средство от пролежней, — замечательное, швейцарское. Пришлось ей побегать, пока достала. Ты просто не поверишь, куда только она не обращалась!
— А ты? — перебила ее сестра. — Если бы не ты!
Голос у нее задрожал от волнения. Пока у матери были незаживающие раны на ногах и на спине, малейшее прикосновение причиняло ей страшную боль. И младшая дочь часами простаивала на коленях у ее постели, то умоляя со слезами, то сердясь и прибегая к разным уловкам, лишь бы уговорить больную дать промыть раны.
— Мне некуда торопиться, — пожала плечами Тося. — Поэтому я терпеливей.
Они снова склонились над матерью. Наступила тишина. Больной неудобно было разговаривать, лежа на животе, и она тоже молчала. В ожидании конца процедуры Анджей распахнул окно и сел на подоконник. Вблизи от дворницкой, где жили тетки, было тихо, но чуть подальше царило оживление. Там кипела работа: в нескольких местах сносили остатки домов, расчищая от развалин широкую полосу под будущую городскую трассу. Она должна была пересечь и территорию бывшей фабрики Левартов, но здесь уже нечего сносить. От фабричных корпусов, где проходила линия разметки, остались лишь пепелища да кучи щебня. Глядя на руины и ровные, расчищенные места, уже сейчас можно было определить, в каком направлении пройдет трасса. По бесчисленным красным пятнам битого кирпича устремится она к широкому лазурному просвету на горизонте. Анджей высунулся в окно. На всем протяжении будущей трассы виднелись телеги; одна за другой тянулись они издали, груженные щебнем, делали круг и возвращались обратно порожняком через вымерший фабричный двор.
— Вот и все! — объявила Тося, прикрыв матери ноги и подсовывая под спину подушки. — Милости просим.
Анджей слез с подоконника и направился к бабушке.
— Только притвори, пожалуйста, окно, — остановила его Ванда. — Оттуда пыль одна летит да сор.
Он придвинул стул к бабкиной постели. Она губами коснулась его лба, а он, поцеловав ей руку, не отпускал ее, держал, по своему обыкновению, в ладонях и думал, как тосковал по бабушке за границей и как они мало виделись после возвращения. А теперь опять разлука. Анджей молчал. Она тоже не произнесла ни слова. Ему казалось, она молчит, измученная неприятной процедурой, а она ждала, когда уйдут дочери. Старшая — в город, младшая — в лавочку поблизости.
— Посиди с мамой, — сказала Тося. — Я выйду на минутку.
Они остались вдвоем.
— Знаешь, они отобрали у меня подарок Иоанны, — шепотом пожаловалась старушка.
— Ей хочется зайти к тебе, — передал он вместо ответа просьбу младшей дочери. — Можно ее привести? Когда ты одна будешь дома.
Глаза в красных прожилках в упор уставились на него. Губы у нее дрожали, дыхание с хрипом вырывалось из груди. Внутренне давно к этому готовая, она не сразу нашлась, что ответить. И, лишь заслышав во дворе Тосины шаги, торопливо заговорила:
— И зачем они отняли все у меня? Из-за этого я только больше стала думать о ней. И у тебя хлопот прибавилось, сынок, а у тебя их и без того довольно.
* * *
Прошел час, два, больше он выдержать не мог. Они чувствовали: что-то он от них скрывает, уж очень лаконичны его ответы о друге, у которого живет, о местах, куда собирается вернуться. Разговор не клеился. Наконец он попрощался с бабушкой и Тосей, но, очутившись на улице, понял, что деваться все равно некуда. Еще не было десяти. С Хазой условились они встретиться в четыре, и как убить оставшееся время, он понятия не имел. Еще вчера корил он себя, что не умеет так распределить свои дни, чтобы все успеть. А сегодня вдруг делать нечего. В школьный отдел идти ни к чему, в кафе — тоже, а музей и подавно надо подальше обходить из-за Любича. Все по-старому! Все сначала! Опять то же самое! Разбитый, измученный после вчерашних скитаний, Анджей еле держался на ногах. Поплелся было домой, к Хазе. Но по дороге зашел закусить. В условленное место, на угол Иерусалимских Аллей и Нового Света, пришел он слишком рано. Но выдержать дольше в ресторанной духоте и гомоне был просто не в состоянии.
— Привет, Уриаш!
Рядом с Уриашевичем затормозила машина. Он видел ее, видел, как опустилось стекло и в окно высунулась рука, которая махала ему и делала знаки, но к действительности Анджея вернул лишь знакомый голос, окликнувший его, как когда-то в школьные годы.
— Привет, Венец! — ответил он машинально старым прозвищем.
Высунувшись из машины, полковник Венчевский щурил от яркого дневного света покрасневшие от бессонницы глаза.
— Наконец-то я тебя поймал! — вскричал он. — Теперь ты от меня так просто не отделаешься.
Он дружелюбно поглядывал на Уриашевича. Внимание Анджея привлекли многочисленные ордена на его груди.
— Ты чего на ордена уставился? На меня лучше посмотри.
Взгляды их встретились. И на душе у Анджея потеплело. В памяти всплыли прошедшие годы.
— Садись, — сказал полковник. — Места хватит.
Места и впрямь было достаточно. Фигурка полковника затерялась в просторном автомобиле.
— Куда подвезти?
— Никуда. Я условился встретиться с одним человеком тут, на углу, и пришел слишком рано.
— Это похвально. Пунктуальность — свойство, редкое у нас.
Он взглянул на часы — слишком массивные для его худого запястья.
— Успею, — прикинул он и предложил: — Если ты не против, я подожду с тобой.
— Ну конечно.
Уриашевич уселся поудобнее и вытянул ноги.
— Ведь я обыскался тебя, — сказал полковник.
Уриашевич вспомнил: Иоанна передавала ему просьбу Венчевского зайти.
— Спасибо за память обо мне, — сказал он. — Я тогда к тебе не зашел, потому что не собирался искать работу в Варшаве.
— А теперь передумал, коль скоро ты здесь? Говорят, ты в леса удалился, в глушь, в поисках душевного покоя? Я со слов Иоанны знаю, мы с ней часто о тебе говорим.
— Она очень ценит тебя и уважает, — ответил Уриашевич уклончиво.
— Взаимно. Хотя мне все труднее находить с ней общий язык, — докончил полковник серьезным тоном.
Уриашевич не обратил внимания на перемену в голосе.
— А, да, — засмеялся он, припоминая смутно рассказ Иоанны и намеренно его утрируя. — Ты потребовал, чтобы в балетных школах диалектический материализм преподавали, а ей это кажется чудным.
— Не в том дело, — буркнул Венчевский и вдруг глубоко задумался, позабыв даже сказать Анджею, в чем суть упомянутого спора. Борьба с Иоанной, вернее, борьба за нее, которая шла с того самого дня, когда Венчевский с ней познакомился, вначале успешная, зашла в последнее время в тупик, и полковник ничего не мог поделать со знаменитой балериной. И как будто без всякой связи с предыдущим, он немного погодя проговорил: — Хорошо, что я встретил тебя.
— Но я по-прежнему не намерен устраиваться в Варшаве.
— Сейчас речь не о тебе.
— А о ком же?
— О пани Иоанне. Не знаю прямо, что с ней делать.
Затруднения у полковника, видимо, и вправду были серьезные, если при одном упоминании о них он нахмурился. Анджей в первый момент даже испугался, решив, что у Иоанны плохо со здоровьем. Но оказалось другое.
— Такая первоклассная специалистка. — Глаза у полковника гневно сверкнули. — И так странно себя ведет.
— То есть? — не понял Уриашевич.
— Ну, — замялся полковник, подыскивая слова помягче. — Не так, как нужно.
— В личной жизни?
— Ее личная жизнь меня не касается. В школе.
— У Тарновой?
— И там, по-видимому, тоже. Но я имею в виду сейчас нашу школу. Школу при будущем Оперном театре.
И он заговорил о школе — с подъемом, обстоятельно, со знанием дела. Потом о театре. Об исключительной важности этого начинания как для строительства, так и для искусства. О колоссальных средствах, отпущенных на это. О работах, которые идут уже полным ходом, о планах — ближайших и на будущее, об их идейном и воспитательном значении, — словом, обо всем, что должно определить тонус будущего театрального коллектива, тонус самый высокий. Когда он рассуждал об этом, лицо у него даже просветлело, он оживился, нервное напряжение исчезло. Казалось, он забыл про Иоанну. Однако это было не так.
— А у пани Иоанны что ни слово, то заграница! — вспылил он вдруг. — В том, что она говорит, ни правды, ни пользы никому! Будоражит только своими разговорами, сомнения сеет, отнимает веру и желание работать. Особенно у нашей молодежи, но не только у нее. Она по собственной воле вернулась из-за границы, сама испытав все прелести тамошней жизни, вернулась, чтобы с нами сотрудничать, а теперь расписывает перед коллегами и учениками свои успехи на этом своем несравненном Западе. И никак не втолкуешь ей, что, перестань она с ним носиться, к худшему наше мнение о ней, как о специалистке, не изменится, а как человек она в наших глазах только выиграет. Она как будто очень считается с тобой. Поговори с ней. Вот какая у меня просьба к тебе.
Часы показывали четыре.
— А вон и Хаза! — сообщил Уриашевич.
— Это его ты здесь караулил? — поморщился полковник недовольно и откинулся в угол машины. — Поедем лучше со мной. Это недалеко. А потом тебя доставят обратно.
Машина тронулась.
— Прости, но никакие серьезные доводы до нее не доходят. Так сказать, общего, идейного порядка, — продолжал Венчевский. — Пусть она сама во всем разберется, на доступном ей уровне. Но надо быть логичной! И до конца честной! Помоги ей. В противном случае не успеет оглянуться, как авторитет потеряет — прежде всего у молодежи. Вред она принесет единицам, а большинство просто отвернется от нее. Как же сможет она тогда преподавать? — И, не дожидаясь ответа, Венчевский продолжал: — Да и что в конце концов привлекает ее за границей? Достижения в ее искусстве? Люди? Лоск их внешний, хорошие манеры? — пытался он понять ход мыслей Иоанны. — И то и другое она решительно отвергает. Сама же мне сказала, что искусство на Западе вырождается, загнивает, а что до балета, области, особенно ей близкой и дорогой, то не в Америке, не во Франции и не в Англии искать надо яркие таланты. Сама заявила как-то: человек на Западе себя исчерпал. Порядком ей, видно, осточертели люди, с которыми она там сталкивалась. Люди особого сорта, которые увиваются в капиталистических странах вокруг красивых, знаменитых балерин. Но в таком случае, какого черта ей надо? Комфорта, что ли, не хватает? Удобств разных и жизненных благ? Если в этом только дело, достойней бы побольше терпимости проявить, учитывая положение страны, куда она вернулась. Впрочем, это, к счастью, не играет для нее, кажется, решающей роли. Просто какой-то заскок. Поговори с ней. Вот и все!
Машина, сбавив скорость, въехала в ворота университета.
— Ты сюда? — не мог скрыть своего изумления Уриашевич.
— Сюда, — подтвердил полковник, уже поглощенный мыслями о предстоящем. — У меня лекция.
Уриашевич съязвил, сам не зная зачем.
— Так ты и профессорам лекции читаешь по марксизму?
— Лекцию читает мой профессор, — пропустив мимо ушей язвительное замечание Уриашевича, счел, однако, нужным рассеять недоразумение Венчевский. — Профессор, у которого я диссертацию пишу.
* * *
Последние дома Саской Кемпы остались позади, и, пройдя еще с километр, Уриашевич обернулся. Но это был автобус. Потом его обогнали грузовики, один с солдатами, остальные с досками. Потом — потрепанный фордик. Наконец, мотоцикл. Уриашевич больше не оглядывался. И ускорил шаг, чтобы не привлекать внимания. Было холодно, дул ветер с реки, день клонился к вечеру. Погода для прогулок неподходящая, да и по шоссе не время шляться. Уриашевич был в коротком кожушке и мерз. Засунув руки в карманы, он нащупал нечаянно письмо, которое дал ему Хаза. Анджей разозлился на себя: зачем было соглашаться брать. Произошло это в последнюю минуту. Хаза объяснил, куда идти и как себя вести, а напоследок попросил о небольшом одолжении. Уриашевич не сумел отказать. Снова мимо на большой скорости промчалась машина. На сей раз — шикарный двухместный серебристо-серый кабриолет. Доехав до ответвления дороги, он развернулся и, набрав скорость, стал быстро приближаться. Не успел Анджей нагнуться и поправить носок — это был условный знак, как кто-то с акцентом произнес по-польски:
— От пана Хаза?
— Да, я от моего кузена Хазы. Он велел здесь вас подождать, — ответил Уриашевич по-английски: этот язык он знал довольно прилично.
Иностранец, знакомый Хазы, был в больших темных очках с косо поставленными стеклами, которые закрывали виски. Лицо у него было того оттенка, как у людей не первой молодости, усики коротко подстрижены, красивые каштановые волосы аккуратно уложены.
Оторвав на миг от руля руку в толстой перчатке из свиной кожи, он нажал на дверную ручку, впустил Уриашевича и, не дожидаясь, пока тот усядется, сразу тронулся, проверив лишь, плотно ли закрыта дверь.
— В какую сторону прикажете? — спросил он.
— Мне безразлично, — ответил Уриашевич.
— Мне тоже. А машине моей тем более, — пошутил иностранец, сохраняя серьезное выражение лица. — Для нее все здешние дороги одинаково непригодны.
Несмотря на это, ехал он очень быстро. Езда целиком поглощала его, и он молчал. Несколько минут спустя, не снижая скорости и не говоря ни слова, достал он из кармана пачку сигарет и спички и положил на колени Уриашевичу.
— Спасибо, — сказал Уриашевич.
Он попытался закурить. Но пришлось от этого отказаться. Врывавшийся через поворотное стекло ветер гасил одну спичку за другой. Шоссе проходило неподалеку от Вислы, и в сгущавшихся сумерках она выглядела зловеще. Горизонт заволокло туманом. Иностранец снял очки.
— Мне нравится польский пейзаж. В нем есть что-то печальное. Это все, что осталось у вас от прошлого!
Заметив впереди боковую дорогу, он свернул на нее и стал разворачиваться.
— Значит, вы хотите нас покинуть, — заговорил он наконец о деле, ради которого согласился встретиться с Уриашевичем. — Это ваше окончательное решение?
Уриашевич откашлялся.
— Да, я так решил, — ответил он, — остается только придумать, как переправить картину через границу. Хаза говорил вам, наверно, о ней.
— Говорил. — Иностранец покосился на Уриашевича. — Интеллигентные люди вроде вас — у нас желанные гости. Хотя и здесь, внутри страны, мы с удовольствием имеем с ними дело. Но если вы решились и остановка только за картиной, охотно вам помогу. Что это за картина?
— Веронезе. «Валтасаров пир».
— Гм! Итальянская. Америка сейчас завалена всякой итальянщиной. А рассчитывать можно только на американский рынок. Большая она?
— Порядочная. Метр двадцать на восемьдесят.
— Это хорошо! Вещей для клетушек американцы не покупают. Но как ее перевезти, вот в чем вопрос. — И он стал соображать вслух: — С дипломатической почтой — исключено. Слишком велика. Лучше бы подождать, пока отзовут кого-нибудь из моих сослуживцев. Тогда он ее прихватил бы со своим багажом. Но вы, кажется, торопитесь?
— По некоторым причинам я предпочитал бы не откладывать отъезд.
— В таком случае поезжайте без картины. А картину оставьте у меня или у Хазы. И через некоторое время получите ее.
— Когда? От этого многое зависит.
— Ах да! Дело же в деньгах, не правда ли? Придется вам как-нибудь перебиться до прибытия картины. Соотечественники вас не оставят. И вообще за границей не пропадете. — Он остановил машину. Взял с коленей Анджея сигарету. — Только напрасно вы рассчитываете за Веронезе получить, как сказал мне Хаза, тридцать тысяч долларов. Это цена нереальная.
— Но такие цены в Лондоне!
— Да, но покупатели-то — американцы, которые, nota bene[13] много никогда не платят. А цены диктуют они, поскольку, кроме них, ни у кого денег нет.
Он стал скрупулезно подсчитывать.
— Допустим, дадут тысяч десять. Двадцать пять процентов антиквару, столько же — мне.
Уриашевич расстроился, услышав названную сумму.
— Пять тысяч? — упавшим голосом спросил он.
— За вычетом тысячи, которая причитается моему коллеге за услугу, если удастся переправить. В конце концов не обязан же он оказывать любезность постороннему человеку, ведь это хлопоты немалые да и риск. И наконец вот еще что. Продавать картину буду я через своего антиквара, а вы получите деньги на руки, наличными.
— То есть как это?
— А вот так.
— Что за идея?!
— За границей картина поступает в мое распоряжение.
— А законный владелец…
Несговорчивость Анджея не на шутку разозлила иностранца, и он решил пресечь этот спор:
— Вам известно, что я дипломат, человек с положением, которому можно довериться, а вы кто такой? Меня в любой момент каждый найдет, а вам взбредет в голову исчезнуть, и ищи ветра в поле: негра легче в джунглях поймать, чем кого-нибудь в вашей польской колонии. Я люблю вести дела с поляками, с людьми интеллигентными, вроде вас, но должен при этом и осторожность соблюдать.
Уриашевич пришел в бешенство.
— По-моему, осторожным следует быть мне, а не вам! — с возмущением воскликнул он. — Обойдусь как-нибудь без вашей помощи!
— Сомневаюсь. У меня опыт есть в этих делах, а вы новичок. Вот увидите, все равно ко мне обратитесь.
— Нет!
— Платить любому посреднику придется. Вопрос об издержках мы можем с вами еще раз обсудить.
— Это совершенно излишне.
— Навязываться не стану, — пожал плечами иностранец. — Одной сделкой меньше, одной больше — какое это имеет значение! Я и так неплохо зарабатываю на этой вашей всенародной распродаже.
Показались первые дома Саской Кемпы. Вдали виднелся мост Понятовского.
— Куда вас подвезти?
— Я выйду здесь.
— Как вам угодно.
На этот раз иностранцу не пришлось проверять, хорошо ли закрыта дверца. Уриашевич захлопнул ее с треском. Оставшись один на шоссе, он некоторое время неподвижным, злым взглядом провожал удалявшуюся машину. Потом, подавленный всем случившимся, опустил глаза. И тут под ногами увидел пачку заграничных сигарет: они выпали из машины, когда он вылезал. В ярости стал он их топтать, пока они не превратились в крошево. Не лучше обошелся он и с лежавшим в кармане письмом Хазы. Прежде чем отдал себе отчет в том, что делает, ветер уже нес клочки к серевшей внизу Висле, и они исчезли в ее могучих, неторопливо катившихся волнах, столь характерных для польского пейзажа, чью щемящую красоту изволил похвалить иностранец.
Но ни растоптанные сигареты, ни разорванное письмо не меняли дела. Уриашевич зашагал по шоссе. Возле моста остановил он шедшее в город свободное такси. На вопрос водителя, куда ехать, он ответил одеревеневшими губами:
— На почту.
Там, стиснув зубы, попросил он в окошке бланк для телеграммы и написал:
«Согласен работать Оликсне тчк Сообщи наличие вакантной должности Анджей Уриашевич».
* * *
На следующий день в полдень пришел ответ:
«Ждем распростертыми объятиями Биркут».
«Ждем? Он — это понятно, а кто еще?» — ломал голову Уриашевич над загадочным множественным числом в телеграмме.
Догадавшись, он покраснел до корней волос, но менять решение было поздно.
— Биркут порт имеет в виду, — прошептал он.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
— Решительно не советую забирать сейчас «Пир» с собой. Махни туда налегке, оглядись хорошенько, где бы пристроить картину до побега, потом дай мне знать, и я тебе ее доставлю. Откуда тебе известно, где первое время придется ночевать? Может, у Биркута! Как же ты заявишься к нему с этакой трубой с пушечный ствол величиною! Да он сразу заподозрит что-нибудь неладное.
Получив телеграмму из Оликсны, Уриашевич отправился в гараж, где и застал Хазу. Накануне же весь вечер напрасно прождал его дома. И вот Хаза разливался перед ним соловьем:
— Подыщешь в Оликсне жилье подходящее, устроишься; допустим, неделя на это уйдет, самое большое — две. Потом телеграммку мне отобьешь, текст мы заранее сочиним, липовый, конечно. Я тебе таким же макаром отвечу, чтобы ты знал, когда ждать меня. А пока заховай картину у теток, как ты и хотел. Только внуши им, пусть мне по первому же требованию отдадут. А в Варшаву ее хоть завтра можно перевезти. Я как раз свободен. Только и делов. Ну, как?
— Большое тебе спасибо, — ответил Анджей. — Значит, завтра?
— С утра.
— Хорошо.
— Вернемся с таким расчетом, чтобы ты в подвал успел картину снести, — рассуждал Хаза. — И на поезд в Оликсну не опоздал. Можешь сегодня же телеграфировать Биркуту. Покончим со всем этим одним махом. Значит, я за тобой заезжаю завтра утром.
— Опять дома не ночуешь?
— Нет. К восьми будь готов.
— Порядок.
— Волнуешься?
— Из-за завтрашнего? — переспросил Уриашевич, не понимая, о чем он.
— При чем тут завтрашнее. Вообще, — пояснил Хаза.
Уриашевич не ответил. После того как он расстался с навязанным ему Хазой иностранцем, он в двух словах сообщил только о принятом решении. Не утаил, что и письма не передал, уничтожил его. Хаза нисколько этому не удивился. На предложение Хазы, который во всем старался идти ему навстречу, отвечал он односложно. Не хотелось думать ни о чем. Зажмуриться, и как в воду. А главное, никаких оправданий — ни перед собой, ни перед Хазой: что это, мол, против его желания, что иного выхода нет. Его раздражало каждое слово, прямо не относящееся к делу, раздражал Хаза. Обыденный тон, каким тот рассуждал. Злился он на самого себя. Даже собака, которая беспрерывно лаяла, бегая взад-вперед вдоль проволоки, действовала ему на нервы. Хаза украдкой наблюдал за ним.
— Шаг, на который ты решился, безусловно, связан с риском, — проговорил он наконец, — но, с другой стороны, не надо и преувеличивать: страшного тут ничего нет. Поэтому возьми себя в руки и не дрейфь.
— И не думаю дрейфить.
— Тогда чего же у тебя такой бледный вид? Злишься, может, из-за вчерашнего типа? Все они из одного теста. Я тут ни при чем.
— Да, ясно.
— Но, признайся, допек-таки он тебя?
— Сам я во всем виноват. Нечего было связываться. — Анджей курил редко. Но сейчас был так взвинчен, что попросил у Хазы сигарету. И когда закуривал, у него дрожали руки. Он поймал тревожный, недоумевающий взгляд Хазы. — Тебе же известно, в каком настроении вернулся я из Парижа, — прорвало его вдруг. — Приехал, как на пожарище. Пожарище на веки веков! Я был убежден: нам и через сто лет не оправиться. Что уцелело после оккупации и восстания, доконают гражданская война и революция, думал я. Не найдя картины, осмотрелся и, как ты помнишь, решил было остаться. Даже если картина найдется. Меня это устраивало. Но что поделаешь, над нашей страной тяготеет какое-то проклятие. Придется отсюда удирать. Пусть это и свинство с моей стороны. Наплевать! — Голос у него сорвался. — Чья это вина? Ты прекрасно знаешь! — Уриашевич старался говорить потише: вокруг сновали люди. — Помнишь, наверно, как я относился ко всем таким проблемам после возвращения. Мне безразличны были и те и другие. Я дал себе зарок: до конца жизни не вмешиваться больше ни во что. Поклялся в этом, уходя из разрушенной Варшавы. Идеалы, борьба? Извините, на эту удочку меня больше не поймаете. Что поделаешь? Каждый имеет право выбирать. Я после всего пережитого выбрал покой. Хотелось ото всего отгородиться. Но должен тебе сказать, при воспоминании о том убийстве, в деревне, во мне все содрогается. Неужели перевелись у нас люди, которые бы их проучили! Что за несчастная страна! Человек должен гибнуть только за то, что охраняет, бережет строящуюся фабрику. В этом есть что-то ненормальное!
— Конечно, идиотство! — с готовностью подтвердил Хаза. — Одного укокошишь, на его место другого поставят. Смысла никакого.
Уриашевич поднял голову и, пораженный, в упор посмотрел в его маленькие глазки.
— Раньше я тоже считал, что без стрельбы не обойдешься, — продолжал Хаза. — Относился к этому положительно. Например, когда мы под Живцем были или еще раньше под Замостьем, я, честное слово, верил, что достаточно пристукнуть нескольких джентльменов, ну, десяток на худой конец, и вся машина остановится из-за недостатка людей. Но у них людей хватает! Хоть отбавляй! Теперь мы меняем отношение к таким проблемам, как твоя фабрика. Но что они там могут знать, в своих дремучих лесах!
— Ну, довольно об этом! — оборвал его резко Уриашевич.
Хаза свистнул сокрушенно.
— А знаешь, ты мне не нравишься, — расшифровал он значение своего свиста. — Можешь говорить что угодно, но я насквозь тебя вижу. У тебя на физии написано, что́ с тобой происходит и чего ты психуешь. Струсил! В Оликсну боишься ехать! Это зря. Надо взять себя в руки. Иначе не стоит и пробовать. — Схватив Анджея за отвороты кожушка, Хаза притянул его к себе. — А в общем, и не обязательно, — сказал он тихо. — Оставайся, возьму тебя под свое покровительство.
— Об этом не может быть и речи.
— Тогда не распускайся, — повторил Хаза свой совет. Но внезапно рассмеялся и прищурил один глаз. — Кажется, у меня средство есть для твоих нервишек. Держи! — и достал из кармана письмо в помятом конверте. — Пани Иоанна просила передать. Посмотри-ка, что там в середке.
Уриашевич протянул руку за письмом.
— А где ты ее видел?
— Как это где? Видел, и все! — пожал плечами Хаза, но тут же объяснил: — Случайно столкнулся, понятно? А что в письмишке, сразу догадался, хотя и не расспрашивал из деликатности.
Уриашевич разорвал конверт.
«Сегодня я кончаю в три, — прочел он, — и хотела бы перед вами извиниться. Галина С.»
— Ну как? Порядок? — загоготал Хаза, когда Уриашевич спрятал письмо в карман. — Ничего, приободришься перед отъездом, и поправится настроение. На мой непросвещенный взгляд, нет ничего лучше для поднятия духа, чем женщина.
* * *
Она стояла около школы с высоко поднятой головой, засунув руки в карманы пальто и безучастно глядя вдаль. А завидев Уриашевича, отвернулась.
— Простите, я, кажется, немного опоздал, — сказал он.
— Ничего. Пойдемте отсюда!
Он взглянул на нее удивленно. Получив письмо и уразумев, от кого оно, Анджей почувствовал, как смутная, робкая надежда шевельнулась в сердце, отягощенная разными обстоятельствами. Все помыслы его уже сосредоточились на Оликсне. А весточка от Степчинской отвлекала, ослабляла волю. Но радостное чувство все разрасталось, и, когда он увидел издали Степчинскую, его охватило глубокое волнение. Холодный прием сбил его с толку.
— Кажется, вы все еще сердитесь, — заметил он с упреком.
— Какое это имеет значение, — передернула она плечами. — Пойдемте отсюда.
Он сделал над собой усилие и, не подав виду, что огорчен, спросил:
— В наш ресторан?
— Нет.
— А куда же?
— Никуда! Во всех таких местах сейчас душно. Пошли гулять.
— В Лазенки! — воскликнул он.
— Нет! — отрезала она со злостью. — Не в Лазенки.
И повернула в противоположную сторону. Анджей молча последовал за ней, разговаривать не было никакого желания.
— Значит, уезжаете? — первая нарушила она затянувшееся молчание.
— Да, завтра.
— Это обязательно?
— На день я бы мог отложить отъезд.
— Зачем? Днем больше, днем меньше, какое это имеет значение. Я спрашиваю вообще: обязательно вам уезжать?
— Почему вы спрашиваете?
Он попытался заглянуть ей в глаза, широко открытые, надменно-безразлично устремленные в пространство. Но без всякого успеха.
— Почему вы спрашиваете об этом? — повторил он.
— Просто так.
На ней была та же, что и на вокзале, оранжевая шапочка, то же пальто, и так же оттягивала она руками карманы. Только сейчас насвистывала что-то. И шла с независимым видом впереди. Уриашевич то и дело толкал прохожих. Взгляд его, устремленный на Степчинскую, становился все нежнее. Ему очень хотелось, чтобы у нее переменилось настроение.
— Когда я вас увидел на вокзале, — не терпелось ему с ней объясниться, — меня поразило, как это можно в жизни быть совсем другим человеком, чем на сцене. Но я об этом не думал больше. И в памяти у меня осталась та наша встреча и короткий разговор. В деревне я вас представлял вот такой же, как сейчас. А тот фальшивый сценический образ, на вечере, совсем выветрился из головы. Так что обижаться на меня, правда же, не стоило!
Она промолчала.
— Не можете никак забыть нелепую эту истерию? — выждав немного, спросил он.
Она сделала презрительную гримаску и лишь потом удостоила его ответом.
— Эта история потеряла сейчас для меня всякое значение! — заявила она свысока.
Зачем же было тогда писать ему? Уславливаться о встрече? Ему стало обидно. И он дал себе слово ни за что не заговаривать с ней первым. Однако не сдержал его. Степчинская, схватив его за локоть, заставила остановиться перед пустой витриной.
— Что случилось? — спросил он.
Но едва задал вопрос, как в глубине витрины увидел зеркало, а в нем — их отражение. Степчинская придвинулась к нему поближе. С тем же угрюмым выражением, только перестав свистеть, смотрела она, не отрываясь, как выглядят они рядом. Прежде чем он понял, чего она хочет, Степчинская опомнилась.
— Пошли, — сказала она и внезапно, как перед тем остановилась, двинулась вперед. — Все равно никуда не денешься.
На углу она снова взяла его за локоть, увлекая в боковую улицу.
— Давайте выйдем из города. По улице Снядецких, мимо поселка Сташица и — в поле! Здесь дышать нечем. — И, понизив голос, прибавила: — И потом вы ведь не любите города.
Последние слова не дошли до его сознания. Миновав улицу Снядецких, они вышли на площадь как раз перед политехническим институтом. После возвращения из-за границы Уриашевич не раз проходил мимо сгоревшего здания своего бывшего института. Но сейчас его начали восстанавливать. Там и сям развалины были опоясаны лесами.
— А я и не знал, — прошептал он.
— Чего?
— Да вот! — показал он пальцем. — Восстанавливают!
Он поискал глазами Степчинскую. Она стояла сзади.
— Заглянемте туда на минутку, — попросил он. — Ладно?
Они вошли внутрь, поднялись в актовый зал, потом этажом выше, еще выше, где по лестнице, где по настилу, зашли в одну аудиторию, в другую, спустились во внутренний двор и завернули в другой корпус. Тот стоял чистенький, уже оштукатуренный, не то что главное здание, где только еще приступили к разборке кирпичного лома. Она вспомнила, что Анджей здесь учился.
— Воспоминания? — спросила она без особого интереса.
Да, воспоминания. Относящиеся к давно минувшим дням и недавнему прошлому, когда после падения Мокотова впервые увидел он на месте своего института пепелище. Но не только воспоминания. Наводило это и на некоторые размышления.
— Всё! — произнес он. — Всё.
Они снова оказались во дворе.
— А теперь еще вот сюда, — предложил он и, не дожидаясь ее согласия, направился к другому зданию во дворе. — Сюда — и конец!
По дощатому настилу вскарабкались они на второй этаж и завернули в первую же аудиторию. Она тоже была отремонтирована. Они остановились у окна.
— Вы чего такой хмурый? — спросила она.
Анджей заставил себя улыбнуться.
— Завидую я вам! И жизнь у вас нормальная, и возможность учиться есть, и дороги все перед вами открыты, — стал перечислять он.
— Хватит, хватит! — нетерпеливо перебила она. — Все это для меня ровно никакого значения не имеет!
Уже трижды слышал от нее Анджей эти слова, произносимые по разному поводу. Он вспомнил вчерашний разговор с Венчевским и то, что раньше Степчинская говорила ему о загранице, и заметил не без иронии:
— А что-нибудь имеет для вас значение?
— Имеет.
— Что?
— Не что, а кто, — поправила она его.
— Ну, кто?
Она нагнулась, подняла с пола обгоревшую щепку и тщательно вывела на стене:
— Вы.
Некоторое время они смотрели друг на друга. У нее дрожали губы, глаза подернулись влагой. Наконец Анджей шагнул к ней. Но она ускользнула от него. Только каблуки дробно застучали по заменявшему лестницу настилу из досок. Он устремился за ней. Она остановилась во дворе спиной к стене и развела руками.
— Видите, что вы наделали.
Оба позабыли, что собирались за город. Покинув двор политехнического института, они набрели на кафе и совершенно машинально туда завернули.
— Вот видите! — с сокрушением повторила она несколько раз. — Вот видите!
В возгласе ее слышались словно и грусть и удивление по поводу того, что произошло в ее жизни и чего Уриашевич до сих пор не заметил. Но оказалось, что произошло это совсем недавно.
— Когда вы сказали тогда про спектакль, я убить вас была готова, а потом как-то само собой все вдруг переменилось. И сейчас я просто не понимаю, что со мной…
— А когда-нибудь уже так бывало?
— Так — еще никогда! — с беспокойством призналась она.
Он наклонился к ней. И Степчинская услышала то, что отчасти ей было уже известно. Об огромном впечатлении, какое она на него произвела с первого взгляда, и о том, что он должен уехать. Она все следила за его руками, которые он то разжимал, то сжимал.
— Если бы я хоть знала, где вы будете, — вздохнула она.
Анджей задумался. Сказать ей, почему он уезжает, нельзя. В этом он никому не имел права признаться. Про Оликсну тоже лучше не говорить. Даже ей! Наверняка вообразит, будто он покидает родину, прельстясь заграницей. Какие доводы ни приводи в оправдание своего шага, она, несомненно, истолкует его именно так. А истолковав так, снова будет рваться отсюда. К чему это? Единственное, что он может сделать для нее, — это не смущать ее покой, такое у него было чувство. Тем более накануне выступлений, которые, надо полагать, ее успокоят, и она перестанет метаться. А главное, было еще одно соображение: он просто был не в силах сказать Степчинской про картину, про Оликсну, — посвятить ее в свои планы. Ему казалось, что он держит слово, но одновременно и чувствовал: в ее глазах это не сделает ему чести.
— Сплошные тайны! Ну что ж, — сказала она, видя, что Уриашевич мнется. — Давайте поговорим о чем-нибудь другом.
— Давайте.
Он спросил, как это она решилась написать ему.
— Сама не знаю. Была в школе. Явилась пани Иоанна и стала качать головой: как я плохо выгляжу да почему грущу. Вот и пришло в голову черкнуть вам записку, условиться о встрече. Так я и сделала, а записку передала пани Иоанне. Вот и все.
Попутно она призналась (это относилось уже ко временам более отдаленным), что замечание его тогда на вокзале насчет надписей на стенах показалось ей неумным.
— Да, страшно меня разозлило это ваше «некультурно»! — засмеялась она при этом воспоминании. — Ну ладно, думаю, сделаю что-нибудь такое, что заставит его переменить мнение.
— Мнения не переменил, — развеселился Уриашевич, — но очень обрадовался!
— Вот упрямец какой!
— А вы разве не из упрямства вздумали написать мне сегодня? — посмотрел он на нее невинными глазами. — Просто дурная привычка, не больше!
— Хорошо вам смеяться, — сказала она, становясь вдруг серьезной. И выглянула в окно на улицу. Надвигались сумерки. — Гулять уже поздно! — огорчилась Степчинская. — А у меня было намерение отправиться с вами за город на прощанье, вы говорили как-то, что любите уединение. Но сейчас уже темно.
Вдруг его осенила мысль, которая в первый момент ему самому показалась нереальной. Но, когда стал он ее развивать перед ней, ощущение невозможности пропало.
— Завтра я по делу на целый день еду за город. На грузовике, с кузеном своим Хазой. Вернусь с таким расчетом, чтобы на поезд не опоздать, который отходит около одиннадцати. Подумайте-ка: у нас есть возможность провести вместе целый день!
Она склонилась над столом и, подумав, сказала:
— Идет! Во сколько выезжаем?
— Часов в восемь.
— Отлично! Но пора в таком случае идти. Надо еще поесть и пораньше лечь спать.
Но лечь пораньше им не удалось. Они засиделись в ресторане, потом под руку бродили по улицам, прижавшись друг к другу, изредка останавливаясь и заглядывая друг другу в глаза. Наконец Степчинская почувствовала усталость.
— Пора расставаться. Еще только до дому меня проводите.
В подворотне Уриашевич начал целовать ей руку.
— Идите! — сказала она тихо. — Теперь уже правда пора.
Он готов был подчиниться и протянул руку к звонку. Но Степчинская удержала его за рукав.
— Нет, нет! Я не здесь живу, а в соседнем доме. Но наш дворник всегда подглядывает за мной, — объяснила она.
Анджей заключил ее в объятия. Ранка, невольно нанесенная вырвавшимися у нее словами, вмиг затянулась. У нее из рук выскользнула сумочка и упала. Он нагнулся поднять. Беря у него сумку, Степчинская побледнела. Судорожно дыша, приоткрыла она рот. И, словно не в силах была держаться на ногах, прислонилась к стене.
— Видишь, что ты наделал! — прошептала она, одной рукой прижимая к груди сумку, а другой заслоняясь от него. — Уходи, уходи!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Был чудесный весенний день, когда Уриашевич направился к разрушенному кирпичному заводу, оставив Хазу со Степчинской на шоссе. Он обогнул живую изгородь, пересек двор и перед домом в саду наткнулся на Кензеля: тот прислушивался, замерев от ужаса. Нервы у него были не в лучшем состоянии, чем в прошлый раз, когда он прощался с Уриашевичем.
— Это ты остановился на шоссе? — через плечо показал он на грузовик, на котором они приехали.
— Да.
— Из Варшавы?
— Да.
— Один?
— С товарищем. Не волнуйтесь, это все согласовано с Рокицинским.
Кензель не дал ему договорить.
— Только поскорей, поскорей! — и подтолкнул Уриашевича к полуразвалившемуся дому. — Надо с этим покончить.
На другой же день после посещения Уриашевича Кензель извлек из-под кирпичных обломков футляр с картиной. На случай приезда Анджея все было приготовлено и предусмотрено. По стремянке Кензель спустился в пустующий подвал — им не пользовались с тех пор, как в первую зиму после освобождения сожгли лестницу на дрова. Картина поставлена была на попа возле стремянки. Оставалось только подсунуть под нее руки и, медленно выпрямляясь, подымать ее кверху. Когда картина наполовину высунулась из подвального отверстия, Анджею пришлось принять всю тяжесть на себя, так как Кензель совсем уже обессилел. Но вот картина наконец в сенях. Немного погодя над полом показалось лицо Кензеля — багровое от натуги, с выпученными глазами. Синие губы зашевелились; прошептав что-то, он, цепляясь руками за перекладины, сполз обратно вниз. Анджей обнаружил его в подвале сидящим на земляном полу возле стены.
— Что с вами?
— Ничего. Почему ты здесь?
— Я не расслышал, что вы сказали, — проговорил Анджей.
Когда глаза немного привыкли к темноте, Анджей увидел сырые пятна на стенах, хотя вот уже несколько дней погода стояла сухая и теплая. А в углах, возле стен и в том месте, где сидел Кензель, были лужи.
— Уезжал бы ты поскорей, — прозвучало в ответ. — Я рассчитывал вдвоем донести ее до живой изгороди, чтобы не пускать сюда посторонних, да вот сил не хватило.
Он тяжело дышал.
— Может, помочь вам выбраться отсюда?
— Зачем? Сам вылезу, когда все будет кончено. А пока посижу лучше здесь.
Ему, видно, стало хуже: он переменил положение и лег.
— Я вас не могу так оставить!
Анджей опустился возле него на колени.
— Хозяева мои дома, — признался Кензель, — услышат, что я здесь, и придут за мной. Они тоже ждут не дождутся, когда вы уедете. Уезжайте поскорей!
Уриашевич выкатил картину во двор и направился было за Хазой, но, заметив у стены шезлонг, такой же ободранный, как и все здесь, снес его в подвал.
— Господи! — простонал Кензель. — Зачем это?
Но все-таки перелег с помощью Анджея на шезлонг, не переставая торопить его.
— Ну, сматывайся же наконец! Ну! — не скрывал он своего нетерпения. — Убирайся отсюда! Убирайся! Только тогда я почувствую себя лучше. — И когда Анджей притронулся на прощанье к его руке, процедил сквозь зубы: — И сносно себя буду чувствовать, пока опять не стрясется что-нибудь. — В голосе его слышался уже не страх, а отчаяние. — А стрясется, опять сердце не выдержит, и свалюсь. Вот так же меня подкосили неожиданный твой наезд и новое ожидание. От меня ничего уже не осталось — я сплошной комок нервов!
Анджей побежал за Хазой той же дорогой, какой пришел, — в обход. Но с картиной решил идти по садовой тропинке, через заросли и прямо к проходу в живой изгороди. С тяжелой ношей имело смысл продираться напрямик — это значительно сокращало расстояние. Время от времени они останавливались, переводя дух и отирая пот, поправляя один берет, другой — шапку и смахивая труху, сыпавшуюся с деревьев. Через несколько десятков шагов они почувствовали, что земля под ногами стала неровной, а вместо сирени и жасмина откуда-то взялся колючий кустарник, который царапал руки. Пришлось напрячь все внимание. А у Анджея из головы все не шел Кензель. Не давала покоя мысль, что вот он с сердечным приступом лежит один в подвале. Но Анджей понимал: одно лишь упоминание о враче добило бы того окончательно. Единственное, что мог он для него сделать, — это поскорее уйти, и тогда люди, с которыми он живет, окажут ему помощь. Эти размышления подгоняли его. Толкали по кратчайшей линии к грузовику, и в результате он налетал на кусты, забирал в сторону от тропинки и поминутно спотыкался.
Наконец, когда живая изгородь была позади, вернее, впереди — через ход в зарослях он пролез задом, — рядом раздался душераздирающий крик. Картина выпала у него из рук, он обернулся. Перед ним стояла Степчинская, которая при виде его лица закричала еще отчаянней. Она не знала, куда и зачем они пошли. И, услышав их шаги, соскочила с грузовика, но в руках у них увидела что-то тяжелое, неподвижное, с человеческое тело величиной. Расцарапанное в кровь лицо Уриашевича только подкрепило ее подозрения. И она кричала, не помня себя от страха, ни на минуту не замолкая и не подпуская к себе ни Уриашевича, ни Хазу. А тот старался ее поймать, забегая то с одной стороны грузовика, то с другой и расставляя свои длинные большие руки.
— Боже, что вы наделали! — беспрерывно повторяла она. — Кто там лежит?
Догадавшись, в чем дело, Анджей подскочил к цилиндру и столкнул его в канаву, которая отделяла живую изгородь от шоссе.
— Галинка, да посмотрите же сами! — вскричал он. — Ведь это просто картина в металлическом футляре!
Они отошли с Хазой в сторону, чтобы она сама, без принуждения и вмешательства, убедилась в этом.
— Ну, что? — спросил он немного погодя.
Она, не говоря ни слова, продолжала стоять у канавы, густо заросшей травой, однако не настолько, чтобы не разглядеть лежащий там предмет. Но девушка по-прежнему молчала. Нелепое недоразумение не позабавило ее. На душе не стало легче. Слова застревали в горле. Уриашевичу было тоже не до смеха. Он думал, какое жуткое впечатление произвел на Кензеля крик Степчинской. Громкий, пронзительный — не услышать его было невозможно.
— Ну что? — заглянул он ей в глаза.
— Простите, я так глупо себя вела, — все еще бледная, прошептала она. — Но почему вы сразу не сказали, за чем едете?
Анджей попытался обратить все в шутку.
— Во всяком случае, у вас не было оснований предполагать, что за трупом, — ответил он беспечным тоном.
— Конечно, нет! — возмутило ее такое предположение. — Но к чему эта таинственность? Все время тайны какие-то! — вырвалось у нее с обидой.
Наконец картину водрузили в кузов, прикрыли брезентом, и машина тронулась. Когда они проезжали Мостники, Анджей забился в угол кабины и остановившимися, остекленевшими глазами исподлобья смотрел на улицы и дома. На рыночной площади Хаза без предупреждения остановился.
— Вылезайте, господа хорошие, — сказал он.
— В чем дело? — подскочил от неожиданности Уриашевич.
— Перекусить надо! — возмутила Хазу такая недогадливость.
— Только не здесь, — сдавленным голосом попросил Уриашевич, — только не здесь.
— А, не привередничай! В такой дыре только на рынке и можно пожрать прилично, — пожал плечами Хаза. — А где ты рассчитываешь ресторан найти?
— Нигде я не рассчитываю, но здесь останавливаться нам нельзя.
— Не выдумывай!
— Я знаю, что говорю, — отрезал Анджей, — и из машины не выйду.
Вместо ответа Хаза соскочил с подножки и захлопнул дверцу, не дожидаясь, последует ли кто-нибудь его примеру. Через несколько минут он вернулся с большим свертком в руках. Из кармана куртки высовывались бутылки с водкой и пивом.
— Вот и фураж! — сообщил он. Его плохого настроения как не бывало. — Остановимся по дороге, подкрепимся, а там через часок-другой и до ближайшего кабака в Варшаве доберемся. Не знаю, как вы, а я иначе ноги протяну.
Когда городок остался позади, Степчинская спросила Анджея, понизив голос:
— А почему там нельзя было выходить?
Анджей чувствовал на себе ее взгляд.
— Что? — прошептала она снова.
Но Анджей не раскрывал рта.
— Опять секрет.
Она опустила голову.
Он попытался взять ее под руку, она не противилась, но рука была точно мертвая. Он избегал на нее смотреть. Тупо следил только, как бежит навстречу лента шоссе и исчезает под колесами. Точно так же исчезали постройки, телеграфные столбы и деревья на обочинах. Наконец по обеим сторонам замелькал лес. Хаза сбавил скорость и опустил стекло. В кабину хлынул живительный аромат. Маленькие глазки Хазы быстро бегали налево-направо в поисках ведущей в лес дороги. Наконец он нашел то, что искал. Но прежде несколько раз вылезал из машины, осматриваясь по сторонам: подходит ли место для стоянки.
— Всегда придерживаюсь одного старого правила, — похвалился он, круто сворачивая вбок, — не останавливаться и машину не оставлять на виду. Правильно?
Но ни Анджей, ни Степчинская не успели ответить. Все трое внезапно скатились влево. Дверца, не выдержав напора, распахнулась. Из кабины вывалился сначала Анджей, на него упала Степчинская, только Хаза удержался на месте, вцепившись в руль. Выключив мотор, он благополучно выбрался из машины, резко накренившейся на бок и готовой вот-вот перевернуться. Степчинская тем временем встала, Уриашевич тоже. Оба стряхивали с себя пыль и приставшие листья.
— Ну как? — гаркнул Хаза. — Живы-здоровы?
— Кажется, да.
Степчинская спокойно отнеслась к происшествию.
— Что мы живы, сомнений нет, — в тон ей ответил Уриашевич. — А ты-то как? Кости целы?
Встряска разрядила унылое, гнетущее настроение, в каком они ехали.
— Целы.
— А твой арсенал?
Хаза ощупал карманы. Бутылки оказались в целости и сохранности. Он обошел грузовик, проверяя, в порядке ли покрышки, колеса, рессоры. Поломок не обнаружилось. Анджей ему ассистировал.
— Вот видишь, кардан за что зацепился, — показал ему Хаза столбик, торчащий на обочине. — Тут шлагбаум был, и его не до конца срубил какой-то недоумок.
Анджей со Степчинской решили в машину больше не садиться, а пешком дойти до полянки, облюбованной Хазой. Подождав, пока он выровнял машину, они хотели уже углубиться в лес, как вдруг Галина вцепилась Уриашевичу в руку.
— Что это? — кивком указала она на шоссе. — Ведь это ваша картина.
— В самом деле! — Уриашевич глазам своим не верил. — Збигнев, стой! Хаза! Хаза!
Он припустил за грузовиком, так как вой мотора, работавшего на первой скорости, и дребезжание кузова заглушали голос. Степчинская, оставшись на месте, смотрела на картину, — ее вышвырнул на дорогу тот же толчок, из-за которого они оказались на траве.
— Вот это номер! — Случай показался Хазе забавным. — Еще минута — и прощай, картина! Первый же проезжий мужичок подобрал бы ее и — адью! Представляю себе, как вытянулась бы у тебя физиономия в Варшаве!
— А вот тут дырка, — сказала, наклонясь над футляром, Степчинская.
Картина лежала возле кучи клинкера, приготовленного для ремонта дороги. Вылетев из кузова, она, видно, упала прямо на клинкер, а потом скатилась на шоссе. Анджей осмотрел футляр — поврежден был он только в одном месте, если не считать отпаявшейся крышки. Анджей насадил ее на место.
— Ну, бери своего покойничка, — засмеялся Хаза, — а мы за тобой, как похоронная процессия.
Из дыры в футляре выглядывало полотно, в которое Любич зашил в свое время картину.
— Видите, вон и саван! — острил довольный собой Хаза. — Там, внутри, и правда мертвяк.
Отнюдь не желание рассеять у Степчинской последние подозрения заставило Анджея, едва они оказались на полянке, послушаться Хазы и вынуть картину из футляра. По мнению Хазы, простой здравый смысл требовал этого. Как-никак, а за четыре года картина могла истлеть, да и подменить ее тоже ничего не стоило. Но решающую роль сыграло отнюдь не то, что Уриашевич допускал такую возможность, и не то, что крышка отлетела при падении, значительно облегчив всю процедуру. Просто он почувствовал вдруг непреодолимое искушение взглянуть на картину. Мысли о ней не оставляли его и по дороге. И с самого разговора с Рокицинским, когда он решил бежать за границу, Анджея не переставала мучить вся эта история с «Валтасаровым пиром». Непрестанно мерещилось ему, как передает он картину кому-то, кто остается здесь, хотя бы тому же Любичу. Пускай, мол, займется этим, а деньги, вырученные от продажи, передаст бабушке Леварта, восьмидесятилетней старухе, которая уже много лет безвыездно живет в Кракове. Молодой Леварт не терял с ней связи, поручив выплатить деньги именно ей, если Уриашевич вынужден будет отказаться от первоначального плана и продаст картину в Польше.
Уриашевич не раз и не два, а десятки раз направлялся в Варшаве к Национальному музею, где работал Любич, но так и не решился зайти. Не раз и не два охватывало его неприятное чувство при мысли о своем решении; но сильней неприятных ощущений был страх с пустыми руками оказаться в Париже, где ему приходилось так туго. Ему стыдно было за себя. Но он старался внушить себе, что виноват не он, а судьба, и прежде всего — эпоха, исторический момент, в который довелось ему жить; время, сгибающее людей и посильнее. Слова Хазы пробудили в нем упрямое желание увидеть картину, требовательно, в упор посмотреть на нее, словно это и не предмет, а живой человек, которому решился он взглянуть прямо в глава, чтобы испытать, кто выдержит взгляд, и таким образом узнать, на чьей стороне правота.
— А сумеете вы засунуть ее обратно? — спросила Степчинская.
— Уриашевич сумеет, — заверил Хаза. — Он сам ее паковал.
В сумочке у Галины нашелся перочинный ножик, — можно было разрезать по швам полотно, в которое была зашита картина. Уриашевич надсек только те, которые позволяли извлечь картину из полотняного чехла. Решающий момент приближался. Но прежде чем он наступил, Анджей выпрямился и огляделся, ища, где бы разложить картину. Справа увидел он несколько растущих в ряд елочек. И ему пришло на ум воспользоваться ими как опорой для картины. Перед елочками барьером сложили они камни, чтобы картина не сползала, и общими усилиями развернули ее и установили. Но верхние углы загибались, поэтому двоим пришлось стоять по бокам и придерживать, пока третий смотрел. Меняясь, все по очереди взглянули на картину. Но это им скоро надоело, и они пожертвовали фрагментами в верхних углах ради возможности полюбоваться картиной всем вместе.
Взору Уриашевича представилось зрелище, памятное с детских лет. Колорит, фигуры, детали, увиденные скачала глазами ребенка, а потом студента. Все, начиная от главной фигуры этого библейского сказания, восседающего за пиршественным столом царя Валтасара, который навлек на себя гнев Иеговы тем, что дерзнул есть и пить из священных сосудов, похищенных из иерусалимского храма, от стоящего перед ним пророка Даниила — это он разгадал смысл таинственных слов Mene, Tekel, Fares[14], неведомой рукой начертанных на стене огненными письменами, и предрек царю смерть, вечные муки и гибель царства; от вельмож, придворных, танцовщиков, певцов и слуг в ослепительно-ярких одеждах вплоть до карликов, собак, попугаев на сверкающем, как зеркало, черно-белом полу, все до мельчайших подробностей было знакомо Анджею.
— Вот холера! — первым нарушил молчание Хаза, выражая свое восхищение хорошей сохранностью картины. — Ничуть не пострадала. — И хлопнул себя по ляжкам, развеселясь от внезапно пришедшей мысли. — А ведь могло быть и так: вытрясаешь ты из этой трубы свое сокровище, а на землю трухлявая гниль сыплется. — Он засмеялся, радуясь своей шутке, и продолжал: — Вот финал-то после всей этой чехарды с картиной? Ты что, брат? От одной этой мысли оглох или окаменел?
Но Уриашевич не оглох и не окаменел. До его сознания доходило каждое слово Хазы, и первое же вытеснило из головы пробужденные картиной воспоминания, заставив подумать, что́ ждет его в связи с «Пиром» в ближайшие и следующие дни. А ждали его вещи, с какой стороны ни посмотри, в сущности, не делающие ему чести. Он это ощущал, слушая болтовню Хазы. Настолько остро, что в какой-то момент взяла его злость: и зачем только она так хорошо сохранилась в этой своей коробке? Лучше б истлела совсем. Расползлась бы в руках. Вот бы здорово! О картине думал он так, будто не сам принял решение, а она его заставила; так, будто не он увозил ее с родины, а она — его.
— Ну, кончайте уже со своей Захентой![15] — решил Хаза положить конец затянувшемуся созерцанию и раздумью. — Пора и закусить!
Он вытащил из грузовика брезент, разложил на траве и вынул съестные припасы. Потом скинул куртку, закатал рукава рубашки, чтобы не запачкать. Проголодался он зверски, а в таких случаях не любил отвлекаться и собирался уже приступить к еде. Но вдруг что-то его остановило.
— Знаете что, — сказал он, — давайте-ка уберем сначала картину.
— Зачем? — удивилась Степчинская. — Будем есть и любоваться.
— Нет, нет, — заупрямился Хаза. — Сперва дело, а удовольствие потом. С полным животом несподручно будет.
В отношении него предположение это оправдалось полностью. Он плотно поел и изрядно выпил. Львиная доля купленных по дороге припасов — огурцов, курицы, нарезанной ветчины и грудинки — исчезла в животе у Хазы. За ними последовали сначала одна бутылка пива, потом вторая и, наконец, пол-литра водки почти целиком: Уриашевич со Степчинской выпили всего по стопке. Его пример их не вдохновил. Они поглядывали друг на друга, как тогда в ресторане, то поднимая глаза, то опуская, — им не до еды было.
— Ну, милые мои, — заявил Хаза, опустошив служивший столом брезент и с лихвой перевыполнив свою норму, — теперь и вздремнуть можно.
Он извлек откуда-то одеяло и улегся в тени грузовика, предоставив брезент в их распоряжение. Но они им не воспользовались. Не сговариваясь, встали и пошли дальше по той дороге, которая привела их сюда. Дорога с каждым шагом глубже уходила в землю, а росшие по бокам деревья подымались все выше. В этом сыром, глинистом овраге было неуютно. Помогая друг другу, они выбрались наверх. А там вдоль дороги вилась тропка. Вскоре она вывела их к обрыву. Внизу текла речка, а за ней на много километров тянулись леса.
— Присядем на минутку, — предложил Уриашевич.
Всю дорогу болтали они о том о сем. Но это нельзя было назвать настоящим разговором. И сквозившая в нем веселость тоже не была настоящей.
— О! — захлопала Степчинская в ладоши от восторга, вглядываясь в открывшуюся перед ними даль. — Вот где надо бы поставить «Пир».
— Да, красиво здесь, — согласился Анджей.
— Зеленое, желтое, голубое, — говорила Степчинская, — а на картине люди одеты в красное, фиолетовое, оранжевое. Вот было бы чудесное сочетание.
— Вам понравился «Пир»?
— Нет.
— Нет?
Она отвернулась. И он не заметил, что Степчинская смеется.
— Что за бескультурье, — изрекла она с притворным возмущением, намекая на его слова на вокзале и потом в ресторане, — какая-то рука что-то чертит на стене.
Но едва она кончила фразу, настроение у нее испортилось.
— Мы шутим только, — ни к кому не обращаясь, сказал Анджей. — Все только шутим.
— А разве это я избегаю откровенного разговора? — Голос у нее дрогнул от обиды. — Разве это я скрываю что-то?
Когда месяц назад прохаживались они по перрону, у него было мучительное чувство, что время уходит. Хотя он понимал тогда, что рано или поздно вернется в Варшаву, и Степчинская не была тогда для него тем, чем стала теперь. Кроме того, мысли ее были свободны от подозрений. Не то что сейчас.
— Если б речь шла о моих делах, я бы не стал ничего скрывать, — попытался он ее успокоить. — Но тут замешаны другие.
— Но что это за дела? Какого рода?
Она пристально посмотрела на него. И он опустил глаза.
— Сама небось знаешь, — буркнул он, — какие бывают в наше время дела.
Степчинской хорошо запомнилось: в последнюю и предпоследнюю встречу он говорил ей, что впутался в неприятную историю. Поэтому на время должен покинуть Варшаву, хотя ни в чем не виноват и совесть у него чиста. Но сейчас она почувствовала, будто ему стыдно в чем-то признаться.
— Не говори, если не можешь, — шепнула она.
— Не веришь мне?
Она поверила бы ему, будь он окружен хоть во сто крат большей таинственностью, но чувствовала, что Анджей сам не уверен в себе, и это мешало.
— Она мне не верит! — попытался обратить все в шутку Уриашевич.
— Ты сам в этом виноват! — выразила она как умела мучившую ее подспудно догадку.
— Тогда слушай! — крикнул он, задетый за живое ее справедливым упреком, полный решимости признаться ей во всем. — Слушай!
Но во всем он ей не признался. Не сказал всей правды о «Пире». И о загранице тоже умолчал. Она его не перебивала, с жадностью ловя каждое слово. Они сидели на куртке, расстеленной на густой высокой траве. Когда он кончил, она прижалась к нему, устремив неподвижный взгляд в пространство. Красота их окружала необыкновенная: высоких деревьев рядом не росло, а молоденькие дубки, терновник и шиповник не заслоняли далеких просторов, да и расположено место было высоко — на фоне синего неба четко вырисовывались листья, венчики цветов и стебельки. Но при виде всего этого у нее вдруг сжалось сердце.
— Пойдем отсюда. — Она оперлась рукой о плечо Уриашевича, пытаясь встать. — Пора.
Но он удержал ее. Опечаленная близкой разлукой, которая продлится невесть сколько, обескураженная беспочвенностью своих подозрений и вместе с тем потрясенная услышанным, она не могла вымолвить ни слова. До конца все это еще не уложилось в голове. Но сейчас для нее одно было важно: из-за какого-то рокового стечения обстоятельств ему угрожает опасность. Ее пронзила острая жалость, и Анджей стал ей особенно близок. А у него от близости любимой девушки помутилось в голове.
— Не надо, — защищалась она.
Но слова ее, как и руки, утратили силу. И лишь первые капли внезапно пролившегося весеннего дождя заставили их очнуться. Они пошли, но под первой же купой деревьев остановились, чтобы укрыться от дождя и еще немного побыть вдвоем. Капли падали реже — дождик затихал, а они все стояли, прижавшись друг к другу, точно под одним кровом. Только кров был, по правде говоря, не ахти какой, да и тот предстояло вот-вот покинуть.
— Я не все сказал тебе. — В нем заговорила совесть: соблазнить такую девушку, заранее зная, что придется расстаться с ней… Он отдавал себе отчет в своем поступке, и ему стало невыносимо тяжело. — Из Оликсны я должен ехать дальше.
Наконец-то она узнала всю правду.
— Возьми меня с собой, — прошептала она.
Он испугался.
— Как! И тебе не жалко бросить все?
— А ты? — ответила она. — Как же я останусь без тебя?
У него перехватило горло. Сердце бешено заколотилось. К вискам толчками приливала кровь.
— Не хочешь? — спросила она. — Это сложно для тебя?
Перед ними открывались знакомые виды, они проходили мимо знакомых уже деревьев и кустов, которые привлекли их внимание по пути сюда. Но сейчас оба ничего не замечали, будто брели по голой степи.
— Ну, ответь, — настаивала она. — Ты считаешь, это невозможно?
— Почему же? — буркнул он. — Возможности у нас с тобою одинаковые.
— Тогда решено.
Из его рассказа она усвоила, что в Оликсну собирается он без картины, которую обещал ему доставить Хаза.
— Скажи Хазе, пусть даст мне знать. Я буду ждать.
— Это безумие, Галина! Сама подумай!
Он вспомнил их разговор о загранице. Вспомнил, как избегал с ней говорить на эту тему. И свою встречу с Венчевским вспомнил. На сердце стало еще тяжелее: случилось то, от чего он хотел ее уберечь.
— Тебе что, жизнь не мила? — воскликнул он. — Там чужие люди, чужие обычаи, незнакомая обстановка. Здесь у тебя дебют, сценическая будущность и доброжелательное отношение, а там ждут тебя тысячи трудностей и тысячи препятствий.
Но, как видно, семена, зароненные в душу Иоанной, дали всходы. Если до того все мысли ее были об Анджее, сейчас Степчинская подумала и о себе.
— Какие еще трудности? Что за вздор! — огрызнулась она. — На Западе перед артистами все дороги открыты. — Но печальное, испуганное выражение глаз не вязалось с ее уверенным тоном. — А препятствий вовсе никаких! — Тут в ней заговорила уже строптивость. — Придумай мне лучше для заграницы сценическое имя поэффектней.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
— Дорогие товарищи и граждане, — повторил Биркут, переходя ко второй части доклада, — два года назад военные действия в Оликсне прекратились, и город начал мирное существование. Нас прислали сюда из Гдыни принимать порт. Было нас пятеро, первыми прибывших на исконно польские земли. Ни света, ни воды, ни хлеба не было. В городе железная дорога бездействовала. По улицам не проедешь — везде груды развалин, рытвины, воронки от бомб. Порт — точно мертвый, от него камня на камне не осталось.
Низкий спокойный голос капитана Биркута разносился по всему кинозалу. Произносил он речь, стоя за столом президиума; широко расставив руки и опершись на них, капитан замер в этой позе. Никаких жестов, никаких ораторских приемов. Он заметно волновался.
— Привез нас председатель горсовета из Кшенева, — продолжал он. — Вместе мы осмотрели все. Все, вдоль и поперек. От западного мола, что дальше всего вдается в море, до железнодорожного моста, соединяющего порт с городом. От управления порта до самого дальнего эллинга на том берегу залива, где начинаются дюны. Но ни управления, ни моста, ни эллингов — ничего этого не было. Не порт, а горе одно. Калека, у которого все кости перебиты. В ту пору разрушений хватало, и разрушенный порт был не редкость. Но Оликсна вся была как на ладони. Не то что в Гданьске или Гдыне — там можно было утешаться: зато, мол, в другой части порта кое-что уцелело. Здесь сразу было видно: ничего нет.
— Уселись мы рядком на набережной прямо на камни, — говорил Биркут. — Закурили, глядя в землю, разговаривать не хотелось, настроение подавленное. Человек всегда чувствует себя скверно, пока за дело не возьмется. «Ну как?» — немного погодя спрашивает председатель горсовета. «Да ничего, — отвечает боцман за всех. — А вам, пан председатель, уже пора». Вот это и было первое заседание портового совета. На другой день взялись мы за работу. Больше десяти дней провозились с затопленным рыбацким баркасом, а было их несколько десятков. На восьмой день вытащили его наконец на берег. А потом еще дня три пришлось ухлопать на этот баркас, потому что ночью какой-то мерзавец спихнул его обратно в воду.
Кто только не чинил нам препятствий. Самые разные личности. И немцы — офицеры или эсэсовцы из разбитых гитлеровских частей, застрявшие в городе. И поляки — шакалы, мародеры. Попадались и обыкновенные уголовники, эти с ломом, а то и с револьвером защищали награбленное добро. Но для нас опасней были враги тайные, замаскировавшиеся, которые засели на разных должностях и до последней минуты скрывали свое истинное лицо. Пострашней мародеров были вредители сознательные, злостные саботажники. Попадались и такие, кто пакостил без злого умысла, а просто по недомыслию, из наплевательства или непонимания своих обязанностей. Со всем этим мириться мы не могли. Ни мы, ни те, кто пришел позже, чтобы работать с нами. Шла борьба. Жестокая, иногда и кровопролитная.
Через две недели по приезде погиб наш друг и товарищ с первых же шагов Ганс Глёкнер, немец из местных жителей; это был не старый еще человек, но десять лет концлагерей подорвали его здоровье. В тот день была его очередь ехать за водой. А воду мы брали на вокзале: во всем городе только там колонки были исправные. У нас была бочка и лошадь из ближней деревни, где стояла советская часть. Накануне воду благополучно привез Сасин, перед ним — Смолджинский. Мы были как раз в управлении (в то время мы все жили там), когда совсем рядом прогремели выстрелы. В ту пору это было место глухое. Сасин схватил винтовку, кто-то — другую, и мы выбежали. Глёкнер лежал весь в крови, тяжело раненный в живот и в голову. Понесли мы его на двери от разбитого дома. Я шел сбоку и вел лошадь, запряженную в бочку. Глёкнер лежал, повернул голову в мою сторону, и все бормотал что-то. Но мы очень торопились, и я только возле дома расслышал: «Nicht durchgeschossen?»[16] Он о бочке беспокоился, не продырявила ли пуля. Все смотрел и смотрел на нее, хотя не видел уже ничего.
Похоронили мы его сразу за управлением, в парке у Замковой горы. Там он и покоится. Честный немец. Убитый за то, что руку помощи нам протянул. Лежит рядом с Николаем Овчаренко и Сергеем Мацейсой — беломорскими моряками: они погибли за несколько дней до нашего приезда при разминировании порта.
И там же могила нашего товарища — монтера Александра Кристоша из Быдгоща, который погиб в октябре сорок пятого: спасал во время шторма не изолированный еще, только протянутый ко входным огням кабель. Концлагеря, жесточайшие пытки, принудработы, карцеры — все вынесли они, в боях уцелели и вот пали, закладывая фундамент новой жизни в нашем городе.
Чего только не приходилось делать нам тогда. Товарищи Чечуга, портовый плотник Сасин, сторожа Смолджинский и Хейке немало могли бы об этом порассказать. Как своими силами прямо из-под земли добывали инструменты, механизмы, строительные материалы. Как, узнав о разбитых на пути в рейх немецких эшелонах, собирали разбросанные по откосам нужные материалы за много километров от Оликсны.
Люди только успевали поворачиваться. Едва покончив с одним, принимались за другое. Наладят инструмент — за проводку берутся; с этим кончат — катер надо ремонтировать, здание управления и мастерские готовить к зиме.
В Оликсне к тому времени было уже городское управление, были и разные уполномоченные. А главное, появились рабочие руки — с полсотни человек поначалу. Но с каждым днем людей прибывало. Ехали на работу в порт, хотя до нас очередь доходила не сразу: порт был на втором месте. Надо было сначала железную дорогу восстановить, газовый завод, привести в порядок канализацию. Восстанавливали и пускали в ход объекты, которые меньше пострадали и не требовали таких затрат.
Но и в порту работа не прекращалась. Мы продолжали трудиться, и в городе видели: дело не стоит на месте. А в знак того, что порт не брошен на произвол судьбы, над ним — над вымершей, усеянной руинами пустыней — с первых же дней реял на флагштоке перед управлением флаг. Мы его сшили из двух полотнищ, белого и красного. Красное принес Ганс Глёкнер — пожертвовал на это кусок знамени, старого знамени местной организации Коммунистической партии Германии: при Гитлере оно хранилось у него дома.
С той же целью отладили мы постепенно все портовые огни, а в свободное время подремонтировали свое здание, чтобы хоть внешне оно выглядело прилично. Чтобы глаз радовали белая штукатурка, яркая крыша, садик, разбитый вокруг. А если о делах посерьезней говорить, надо упомянуть, что мы подняли со дна в общей сложности семьдесят малогабаритных мореходных единиц, в том числе двадцать шесть баркасов, которые отремонтировали потом и передали рыбакам. Впрочем, не стоит время терять, все равно всего не перечислишь. Выступавший передо мной товарищ, представитель Морского управления в Гдыне, справедливо отметил, что в настоящий момент, когда наконец и до нас дошла очередь вплотную приступить к восстановлению и завершить его в ударном темпе, порт к этому подготовлен. И в том наша заслуга.
Капитан Биркут достал платок. Тщательно вытер лицо. В зале было душно, в дверях толпился народ. И хотя были они открыты настежь, никакого движения воздуха не чувствовалось.
— Теперь приступим к штурму! — гремел в зале его бас. — Мы торопимся, и трудностей еще хватает, и лихорадит нас. Но наконец-то сможем работать без помех! С сознанием, что мы у себя дома, в своем городе. Не опасаясь, что все это времянка. Недавнее еще прошлое, когда люди метались, не находя пристанища, устремляясь неизвестно — верней, известно куда: на вокзал, — больше не вернется.
Но мы его помним. Помним эти гнетущие вечера, дни, когда тосковала душа. Это все на себе испытали, даже самые сильные. И надо заметить: им как раз пришлось тяжелей всего. Им, кто был исполнен решимости работать в этом городе, кто осознал, что приехал сюда не на день, не на два.
Многим оставаться на посту поручила рабочая партия, обязав тем самым выполнить долг перед трудящимися страны. Но не всем. Не всем, кто, однако, не отступил перед трудностями, работал, не жалея сил, выстоял и не потерял веры. И это в городе, вся жизнь которого — давайте смотреть правде в глаза — связана с портом, а порт был мертв, и мы его лет двадцать не воскресили бы при наших тогдашних темпах.
Но мы не отступили, выстояли. Каким образом? Да кто как умел. Люди по-разному боролись — за себя и за других. Делали все возможное, чтобы мало-мальски облегчить существование в этом уголке нашей страны, пока жизнь не войдет в нормальную колею. Делали все, не пренебрегая никакими мелочами. В первые месяцы, когда почта доставлялась с перебоями, наладили регулярное поступление газет. В горсовете еще крыша текла, и во время дождя председателю вода лилась за шиворот, а мы отремонтировали в первую очередь все-таки кинозал, чтобы было, где фильмы смотреть и вместе собраться, если нужно, вот как сегодня.
Сил было много потрачено. Много проявлено инициативы, снизу и сверху. Люди изворачивались как могли. Теперь самое тяжелое позади. Кто верил в свою страну, в народное правительство, тот не обманулся: здесь, на воссоединенной, издревле польской земле, обрел нормальную, полнокровную, интересную жизнь. И нет больше ни у кого причин убегать отсюда туда, откуда приехал.
Причин не стало с тех пор, как восстановление пошло полным ходом. Вот уже несколько недель не видно на склонах Замковой горы смотрителя нашего маяка, гражданина Петра Батурского, который прибыл сюда с далекого Подгалья и с палкой, собакой и трубкой в зубах коз там пас по воскресеньям. Выкинул, надо полагать, овец, да пастбища, да горные луга из головы, коль скоро перестал устраивать для себя этот, по его собственному выражению, гуральский воскресный отдых. Значит, освоился здесь, значит, город наш перестал быть для него чужим.
И не будет чужим ни для кого. Кто сейчас приедет в Оликсну, тому не понять уже случая с одним нашим товарищем, которого направил сюда союз транспортных рабочих: увидел наш порт, вернее, пустое место и, чтоб не сбежать — а искушение это испытывали, как я говорил, даже самые сознательные, — пошел в ресторан и спустил все деньги: отрезал себе путь к отступлению.
Публика оживилась. В зале долго не прекращался смех. Биркут ждал, пока восстановится тишина. Посмотрел на часы, потом перевел взгляд на сцену, украшенную бело-красными бумажными гирляндами, красными и бело-красными флажками и буковыми ветками.
— Перемены к лучшему налицо. Достались они ценой тяжкого труда и огромного напряжения сил, — продолжал свою речь Биркут. — Руки, нервы, здоровье, умственные способности — все отдавали люди, не щадя себя. Все имена перечислить невозможно. Но нельзя не упомянуть в сегодняшнем выступлении тех, о ком весь порт говорит со вчерашнего дня. Думаю, никто не станет возражать, если я назову здесь боцмана товарища Чечугу, моториста товарища Будзеевского, плотника товарища Сасина, старшего матроса товарища Цируса, матроса товарища Чоску. Это они вчера вернулись, отбуксировав в гдыньский док землечерпалку, которую подняли со дна в нашем порту. Вы знаете, что хуже всего обстоят в Оликсне дела с очисткой дна. На побережье вообще не хватает землечерпалок. Каждый порт всеми правдами и неправдами старается их раздобыть. А про наш что же говорить: при нашем заиливании она нам особенно необходима. Поэтому, когда стало ясно, что корпус землечерпалки можно отремонтировать, решили не просто убрать ее оттуда, расчистив фарватер, а обязательно доставить в док. И названные товарищи, невзирая на неожиданную серьезную опасность, возникшую при переходе, с этим заданием справились. Больших повреждений там не было. Всего-навсего дыра в днище, но дыра знатная: метр на метр, а остальное в порядке — и котел и машина. Кстати, и построена она была недавно, перед самой войной, в тридцать восьмом году, — это тоже нас устраивало.
Но по пути все это кажущееся благополучие развеялось. Оказалось, в кингстоне была пробоина. Намертво забитая илом и глиной, она до поры до времени воды не пропускала. В море сначала была небольшая зыбь, но потом начался норд-вест, пошла сильная бортовая волна и вымыла набившиеся в пробоину песок и глину. Ночью вахтенный Чоска уловил доносящийся из машинного отделения подозрительный звук. Пошел заглянул: снизу так и бьет вода. Когда через несколько минут прибежали разбуженные Чечуга и Будзеевский, вода была уже по колено. Бросились искать течь и тут же обнаружили. Сначала пошел в ход бушлат Чечуги. Потом притащили впопыхах из рубки одно одеяло, другое — в ожидании, пока Сасин с Цирусом клинья выстругают.
Но тут уже настоящий шторм разыгрался. Работать несподручно, освещения почти никакого: одна «летучая мышь», да и та барахлит — внутрь попала вода. Землечерпалку валит с борта на борт, швыряет их, а в машинном отделении теснота, повернуться негде: трубы да разные приводы. И делать-то можно что-то, когда крен в сторону пробоины, когда она на воде. А ляжет землечерпалка на другой борт, и из пробоины с такой силой бьет, что не подступиться. Наконец готовы были клинья.
Тогда Будзеевский с Сасиным и Чечугой полезли наверх, чтобы помпы подтащить. Стояли они на корме — там под обнаруженное повреждение был подведен пластырь и можно было опасаться течи. Теперь надо было их передвинуть на середину судна. Две помпы, каждая со здоровенного мужика, а палуба ходуном ходит, из-под ног ускользает, волны перекатываются через нее. Это только сказать легко.
— Так целых семнадцать часов они вкалывали, — гремел голос Биркута. — А шторм не прекращался, и страшно мешал работать шквальный ветер — то стихнет, то налетит. Трижды приходилось начинать все сначала: выбивало клинья. Только знай поворачивайся! С того момента, как насосы перетащили, клинья забили, и решили надеть на всякий случай спасательные пояса, полтора часа прошло, а они и оглянуться не успели. Девяносто минут непрерывных усилий, один сплошной рывок!
А потом все сначала. И потом опять. И уж тут только поспевай напеременки воду откачивать. В общем, не позавидуешь! А в довершение всего волны до рубки добрались. В свое время она сильней всего от бомбы пострадала. Перекосило ее, сплющило: живого места не осталось. Перед рейсом мы подлатали ее как могли, досками обшили. Внутри печурку приспособили, койки, матрацы положили, там и запас провизии был. Но волна как стала бить — раз, еще раз, и пять, и десять, и двадцать, — обшивка не выдержала. И все смыло: постели, продовольствие, даже бочку с пресной водой, укрепленную на палубе.
Буксир не решался к ним подойти: опасно. Никакой ведь управляемости у такой посудины! Куда швырнет ее в следующую минуту, предусмотреть трудно. Буксир их запрашивал, настаивал даже, чтобы согласились на такой маневр: развернуть их и к берегу толкнуть. Остальное доделают ветер и инерция.
Но они даже слышать об этом не хотели. Если на берег выбросит, считали они, землечерпалке — конец; при самом благоприятном исходе еще несколько месяцев пройдет, прежде чем ее опять на воду спустят. Значит, и доставка в док отодвинется на несколько месяцев. С таким же запозданием и после ремонта она из дока выйдет. Так считали они и решили стоять на своем. С риском, но продвигались вперед. Даже по проходу в минных заграждениях — это в шторм, когда их в сторону заносило на длину пятидесятиметрового буксирного конца!
Да, намаялись они в эту страшную ночь, жизнью рисковали, потому что понимали: проклятую посудину обязательно надо доставить в док. Понимали, начнет она через месяц-другой работать в порту, и мы в Оликсне сразу получим большое преимущество. Тогда легче будет ставить вопрос, чтобы нам выделили и другие, уже действующие землечерпалки. Так они считали, и благодаря им землечерпалка сегодня стоит на стапеле в Гдыне.
— Труду, стойкости и самоотверженности таких вот товарищей и тех, кто отдал свою жизнь, — заключил Биркут, — обязаны мы всем, что имеем сейчас в Оликсне, в городе и в порту. Через четыре недели, считая с сегодняшнего дня, порт должен быть готов к приему первого судна. График работ на этот срок, надо признаться, у нас крайне напряженный.
Но справиться с заданием в установленные сроки мы в состоянии, ибо у нас есть главное — люди. Предстоит сделать еще немало. Не приведен еще в порядок западный пирс, не все благополучно с трамбовкой и бетонированием площадок для угля. То же самое — с железнодорожными путями, с подведением нескольких веток к побережью. Недостаточно у нас транспортеров. Не готовы погрузочные платформы и склады. Не усовершенствована осветительная и сигнализационная система. Оставляет желать лучшего и подготовка специалистов.
К нам в порт ведь придет около пятисот человек. А сколько среди них может оказаться специалистов? Ничтожное количество. Но людей даст нам Оликсна. А профессиональную подготовку получат они на курсах, организованных в порту. С неба не свалятся ведь ни грузчики, ни стивидоры, ни экспедиторы, ни шипчандлеры. Обо всем этом мы сами позаботимся. Так уже поступили в Гдыне, в Гданьске и Щецине, и результаты получились отличные. Здесь у нас тоже не должно быть осечки.
Но времени в обрез. Каждые сутки, каждый час на счету. Однако при правильной расстановке сил мы справимся. И порт, который мы застали мертвым, оживет, как ожили Гдыня, Щецин или Гданьск. В пустующие гавани войдут суда. Десятки моторных шхун и ботов, углерудовозов, берлинок будут приниматься изо дня в день, и в водах гаваней и каналов вновь отразятся трубы и реи. В строй вступит еще один объект. Это будет наш вклад в дело восстановления Польши. Еще один шаг к укреплению нашей страны и того лагеря, к которому мы принадлежим. Лагеря мира и справедливости. А мы будем готовы выполнить новое задание, которое нам поручат.
Биркут первым спустился с эстрады. За ним последовали остальные, сидевшие в президиуме; на лестнице, которая вела на сцену, разминулись они с музыкантами. И теперь на сцене прибавились новые цвета — золотой и серебряный. Торжественное заседание завершалось речью Биркута. С минуты на минуту должен был начаться концерт. Биркут остановился в дверях, выходивших во двор, и закурил. Тогда Анджей Уриашевич решился к нему подойти.
Приехал он час назад. И прямо с вокзала направился в порт. В управлении порта на вопрос, где Биркут, сторож указал на большую розовую афишу на воротах. Анджей вспомнил, что видел около вокзала кинотеатр — там толпился народ, и по дороге навстречу ему группами шли люди: тоже, наверно, спешили на торжественное собрание, объявленное в афише. Он последовал их примеру.
— А, приехал! — протянул ему руку Биркут.
Уриашевич молча пожал ее, дожидаясь, пока утихнут аплодисменты.
— Я прямо с вокзала, поезд запоздал, — сказал он наконец.
— Вот и здорово. — Капитан бросил сигарету и, расстегнув ворот рубашки, стал вытирать шею и голову, как перед тем на сцене — лицо. — Вот и здорово. — По голосу чувствовалось: Биркут еще не успокоился. — Правильно сделал.
Он мял в руках платок. Здоровался с проходящими мимо. И, щуря от внутреннего напряжения чуть косящие глаза, слушал похвалы своему красноречию, отшучиваясь в ответ:
— Э, бросьте, какой из меня, старого бормотуна, оратор! — Минуту спустя взгляд его остановился на Анджее, который отошел в сторонку. — Сейчас дам тебе адрес, где ты будешь жить, — поманил он его. — А разговор придется, к сожалению, до завтра отложить. Мы здесь чертовски закрутились.
— Знаю, — сказал Анджей. — Слышал твою речь.
Но он не успел ничего прибавить к этой сухой констатации, найти слова для выражения своих чувств: Биркут уже заспорил о чем-то с немолодой, высокой и худой женщиной. Ее густые каштановые волосы с проседью были собраны на затылке в большой пучок.
— От всей души рад бы помочь, да не могу! — крутил он головой. — Выше себя не прыгнешь!
В Доме ребенка, созданном в этом году в Оликсне, — через две недели туда прибывала первая партия детей, — не было еще ни полов, ни окон, ни дверей. Заведующая, панна Лещинская, рассчитывала, что порт придет на помощь, и объясняла, в чем у нее затруднения.
— Плохо, что так срочно, — вздохнул Биркут.
Бледные, увядшие щеки заведующей, которая была почти одного роста с Биркутом, порозовели.
— Вы только не отказывайте сразу. Поговорите об этом у себя!
— С кем поговорить?
— С людьми!
— С этим не к людям, а к природе надо обращаться, чтобы она их сверхчеловеческими силами и здоровьем наделила! — вскинулся Биркут. — У нас в порту ни поспать, ни поесть некогда. Да у меня совести не хватит еще и ваш дом на них взвалить!
Рядом с капитаном вырос вдруг мужчина лет пятидесяти, седой, с выразительным лицом и густыми кустистыми бровями.
— Пора, капитан, — тронул он Биркута за рукав. — Уже начинают.
— Иду, боцман! — Но, несмотря на это заверение, Биркут не двинулся с места. — У меня совести не хватит, — повторил он, — лишать людей тех нескольких часов, которые остаются им на отдых. Вы слышали ведь, что я сейчас в зале говорил о работниках порта?
— Конечно!
Биркут обернулся к боцману, призывая его в свидетели.
— Вот и ты скажи свое веское слово, как там у нас с людьми, — промолвил он. — Через все мытарства войны и оккупации прошли, а многие еще в довоенные годы хлебнули горя. И теперь вот горят на работе. Как свечка, подожженная сразу с обоих концов.
Чечуга слушал, сдвинув густые брови.
— Хоть бы попозже чуть-чуть, — прибавил Биркут. — Сейчас страшно измотаны все. Верно ведь, Чечуга?
— Верно, — согласился боцман, однако вывод сделал другой. — Но когда трудно, дети-то, они вроде утешение. И я думаю, наши товарищи не откажут помочь. Пускай ваши ребятишки приезжают. Мы в порту потолкуем, как быть.
— Не могу же я детей принять в дом без окон и дверей. Они замерзнут! Простудятся.
— Само собой, — подтвердил Чечуга. — Само собой!
— Да, ты еще, — взглянул Биркут на Анджея и, написав на бумажке адрес снятой комнаты, вручил ему. — Справишься сам?
— Конечно, — ответил Анджей с готовностью. — Ты обо мне не беспокойся.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
По окончании концерта Уриашевич вышел на улицу. Людской поток подхватил его и понес по направлению к городу. Но скоро поток иссяк. Кому пора было обедать, кому на работу. Четверти часа не прошло, и на Рыночной площади, откуда расходилось в разные стороны с десяток улиц, Анджей уже оказался в одиночестве. По пути ему попался ресторан. Поставив свой неизменный портфель к ножке стула и не глядя на официантку, которая принесла меню, заказал он первое попавшееся блюдо. Его одолевали мысли о Биркуте.
Ночь и утро предыдущего дня в поезде тянулись бесконечно долго, и он то задремывал, то просыпался, просыпался и опять задремывал. Заснуть по-настоящему никак не удавалось. Поезд уносил его все дальше, а он, привалившись на бок на скамейке, закрывал и открывал глаза, видя все то же окно перед собой. Сначала оно было совсем черное, потом посерело, поголубело и, наконец, зазеленело. Но на душе становилось все тяжелее. В голове беспорядочно мешались события последних дней.
На станциях и в открытом поле мимо проносились встречные поезда. И он едва удерживался, чтобы не выскочить из вагона. Особенно велик был соблазн во время остановок. Не столько желание вернуться подымалось в нем, сколько отчаянное сопротивление против того, что его ожидало.
Из ума не шли советы Хазы, которым он последовал, доводы Рокицинского, показавшиеся ему убедительными. Он обдумывал их так и этак. Возвращался к ним снова и снова. И не находил в них прежней бесспорности, той очевидности, которая заставила его пуститься в путь. «Чем ближе к Оликсне, — подумал он, — тем меньше меня привлекает вся эта операция. Отсюда и перемена».
Он твердо был убежден, готов был поклясться: случись ему сейчас ехать в Варшаву из сельской своей школы и вести эти разговоры, результат был бы иной! Но сделанного не воротишь. Он не в Варшаву едет на несколько дней, а уезжает из нее навсегда. И никому даже не сообщил об этом. Напрасно ждали его в Ежовой Воле, а теперь-то и ждать перестали, он окончательно себя скомпрометировал своим поступком.
А потом обрушилось на него выступление Биркута. Оно звучало у него в ушах, когда он стоял рядом с капитаном и теперь, когда сидел за столом, тупо уставясь в одну точку. Съел, что ему принесли, занятый своими мыслями, думая все об одном. Расплатившись, вышел из ресторана и наискосок, как сказала кассирша, пересек площадь. Однако плутать пришлось довольно долго, пока нашел он дом, где Биркуту удалось снять для него комнату. Это было далеко. За мостом, за городом — и еще порядочный кусок надо было пройти от последних приморских вилл. Рядом был пляж, но дом стоял, отступя от берега, в этом месте обрывистого, острым клином вдававшегося в море. Для защиты от ветра, который свободно гулял здесь, дом построили в лесу. Как и весь дачный поселок, задуманный в свое время с большим размахом. Но поселка не существовало. Он не уцелел. Только один-единственный дом пощадила война.
— Вам кого? — услышал вдруг Анджей.
Тут только заметил он на огороде возле дома девочку лет двенадцати; увидев его, она перестала полоть, но не выпрямилась.
— Здесь живет пани Зандова?
— Здесь.
— Можно с ней поговорить?
— Мамы дома нет.
Лицо у девочки было круглое, одутловатое, серые глаза беспокойно бегали.
— Я от капитана Биркута, — сказал Анджей.
— Насчет комнаты?
— Да. А когда мама вернется?
— Она завтра приедет из Кшенева.
— Завтра? — огорчился Анджей. — Как же быть?
Но девочка уже стояла рядом, листом лопуха вытирая руки, перепачканные мокрой землей.
— Сейчас я комнату покажу.
Комната была большая, на втором этаже, с видом на лес; как выяснилось из дальнейшего разговора, мать предупредила девочку о возможном постояльце. Но не ограничилась только предупреждением. Кровать была застелена чистым бельем. Рядом с жестяным умывальником стоял высокий кувшин с водой. А на кухне можно было подогреть обед или выпить чаю.
От чая Анджей не отказался. Он спустился с девочкой на кухню и выпил два стакана подряд. В приоткрытую дверь увидел он смежную с кухней комнату — большую, с тремя кроватями.
— С вами еще кто-нибудь живет? — поинтересовался он.
— Тетя. Она заболела.
Девочке она доводилась скорей двоюродной бабкой, а не тетей. Старушке было под восемьдесят, но до сих пор она чувствовала себя хорошо, помогала по хозяйству, все делала, когда пани Зандова была на работе, а девочка в школе. Только в последнее время стала хворать. И Зандова как раз с ней поехала в Кшенев, в больницу.
— А раньше вы где жили?
Оказалось, в Гарволине; там была у них лавочка, которая сгорела в первое же утро после начала войны. В следующие дни городок был разрушен почти целиком. Так что после освобождения не имело смысла туда возвращаться.
Да, по правде сказать, и некому было! Отца девочки убили еще в сентябре, братья его погибли в Треблинке, детей их при разных обстоятельствах постигла та же участь; из родни Зандовой в живых осталась только тетка — та самая, которая заболела сейчас. Здоровье девочки тоже оставляло желать лучшего. У нее была дистрофия сердечной мышцы. И нервы расшатаны. Из-за нее уехали они из Лодзи, где поселились было после войны.
— Ну а в Оликсне как? — спросил Анджей.
В Оликсне, по словам девочки, она поправилась, чувствует себя хорошо, а раньше бывало по-всякому. Она подразумевала не Лодзь, а все эти годы — войну, концлагеря, скитания, гетто; ей и хотелось бы это забыть, но нервы ее, сердце, серые пугливые печальные глаза забыть не могли.
— Как здесь хорошо, — прошептал Анджей.
В открытое окно ветерок доносил запахи леса. В небе, скрипуче вскрикивая, кружили чайки. Шумели деревья. Тягостное впечатление производили только разбросанные по поляне остовы небольших — однокомнатных или двухкомнатных — домиков, первоначально летних и лишь позднее утепленных и приспособленных для зимы, когда немцы, спасаясь от бомбежек, стали убегать из городов. Но война настигла их и здесь!
— Только пустынно очень! — дополнил Уриашевич свои ощущения. — А раньше жил у вас кто-нибудь?
— Жили.
— А почему уехали?
— Погрузили как-то ночью вещи на машину, и больше мы их не видели.
Уриашевича разморило от здешнего воздуха. И усталость давала себя знать, и выпитый чай. Он поблагодарил девочку и пошел к себе. Сняв костюм и белье, вытянулся он в чистой постели, но от возбуждения, как обычно после кофе, не мог заснуть. Едва задремав, опять просыпался. А когда под вечер с моря подул холодный, свежий ветер, Анджей понял, что все равно в постели ему не улежать. И спустя час уже был в городе.
Но в порт не пошел. Что-то его удерживало. На Рыночной площади он заглянул в несколько магазинов. Но, сделав необходимые покупки, сообразил, что очутился как раз на улице, ведущей к порту. Тогда он замедлил шаг и, не доходя до моря, свернул вбок. Широкая, красивая аллея минут через пятнадцать привела его к подножию холма, поросшего цветущим кустарником. По склонам зигзагами взбегали тропинки. На вершине вырисовывались две живописные старинные башни.
С места, где он остановился, открывался прекрасный вид. Направо — развалины замка на горе, налево — море. Прислонясь спиной к дереву, Анджей стоял и смотрел. Вокруг — ни души. Слышалось только, как волны разбиваются о берег да птицы распевают в кустах под этот глухой аккомпанемент.
Поблизости было кладбище, о котором Биркут упомянул в своей речи. Через несколько шагов Анджей прямо в него и уперся.
Могил оказалось мало, немногим больше, чем перечислил Биркут. На небольшой пологой площадке торчали незамысловатые кресты с деревянными табличками. Под ними — свежие венки. Но, видно, могил и в обычные дни не забывали, не только в такой, как сегодня. Об этом свидетельствовали увядшие и совсем засохшие букеты. Приносили их, значит, в разное время, и пролежали они здесь не один год.
Поднявшись выше, Анджей заметил скамейку. До войны скамеек, наверно, было значительно больше, и предназначались они для гуляющей публики, но сейчас ни в порядок их приводить, ни сидеть на них было недосуг. Тем же носовым платком, которым Анджей вытер лицо, смахнул он со скамейки сухие листья, песок, паутину и сел.
И тут неожиданно увидел порт. Он лежал слева, совсем близко, и теперь, когда заслонявший его бугор остался позади, виден был как на ладони.
Далеко в синее море, будто руки, протянулись два мола. За оконечностями их на волнах покачивались буи. С внутренней стороны западного мола у большой воронки не то от авиабомбы, не то от мины стоял водолазный понтон. На нем явственно можно было различить водолазную помпу и нескольких человек возле нее.
Противоположный берег весь так и кишел людьми. Ремонтировали железнодорожные пути; в другом месте бетонировали площадки для угля, а дальше, в глубине порта, монтировали транспортеры.
Связывавший берега паром дрогнул и поплыл. Потом от управления порта отделился небольшой быстроходный катер и, рассекая воду, устремился к понтону.
Что за зрелище! Птицы, умолкнувшие при появлении Уриашевича, опять запели в кустах, так как он не шевелился. Далекие людские голоса заглушались шумом моря и писком чаек, неутомимо круживших над берегом. Но до слуха доносились грохот испытываемых транспортеров, лязг рельсов, тарахтенье моторов. Анджею даже казалось, будто он различает тихий звон стального троса, по которому ходит паром, и позваниванье колоколов на буях от набегавшей волны, так напряженно он прислушивался. И, затаив дыхание, забыв обо всем на свете, засмотревшись, Анджей не заметил, когда и встал.
Встал и поплелся наверх. Шел, еле передвигая ноги, но не усталость была тому причиной. Нахлынувшие мысли, чувства, впечатления обременяли его, сковывая движения. Он все размышлял о том, что ему предстоит. Ночью в поезде поборол он страх, который нагнали на него Хаза и Рокицинский. Немного пришел в себя и успокоился. Но едва ступил на землю Оликсны, как на него обрушились, перевернув все внутри, слова Биркута; слова, в которых было его спасение…
А вдобавок еще лесные запахи, птичье пение и густая зелень. Они пробудили воспоминание о другом лесе, других зарослях — вчерашних. Прихлынув, оно тут же отступило, вытесненное другими, далекими воспоминаниями довоенных лет. Воспоминаниями о летних каникулах на море. Но их он тоже отогнал. И вернулся мыслями к делу, за которое так неудачно взялся в Варшаве. Надо было искать выход из создавшегося положения.
Наконец очутился он перед развалинами замка на горе. Разрушила его не война, а время и безразличие прежних хозяев этой земли. Судя по состоянию стен, заброшен он был уже лет сто, а то и все двести. Сохранились только две угловые стрельчатые башни с легкими ренессансными коронками. Окна на гладкой поверхности уцелевших стен располагались симметрично. Над нишей ворот, ведущих во двор, виднелся герб — это было уже чистейшее барокко. Вокруг огромного щита — пышнейший орнамент. А сам щит разделен был по вертикали на две клетки геральдическими зверями: грифом в одной и орлом в другой. Герб хорошо выделялся на стене еще и потому, что кто-то его отчистил. Кто? Отгадка не заставила себя ждать, едва Уриашевич успел подумать об этом.
— Милости просим! — послышался слабый, дрожащий старческий голос. — Пожалуйте к нам!
Анджей глянул вправо из ворот. С этой стороны стена была разрушена на всем протяжении. Кое-где торчали только камни, на которые можно было разве что присесть. Зато благодаря этому образовалось словно огромное, обращенное к морю окно. Основание его составлял едва выступавший над землей каменный фундамент замковой стены, а боковинами служили с одной стороны — башня, с другой — стена с арками, напротив ворот. Только сверху окно оставалось незамкнуто. Вид открывался отсюда такой же, как с вершины горы. Но благодаря этому обрамлению, этим обозначенным границам был он еще восхитительней. Бескрайний простор!
Посмотрев налево, Анджей увидел старика, который его окликнул. Высокий, в сандалиях, на голове — завязанный с четырех концов узелками носовой платок для защиты от солнца. Анджей подошел поближе. И тогда заметил второго человека: им оказалась заведующая детским домом Лещинская, которая осаждала сегодня Биркута. Она была занята тем же, что и ее сотоварищ: обирала гусениц с чахлых побегов дикого винограда и вьющейся розы, росших среди развалин.
— Пожалуйте к нам! Присоединяйтесь! — повторил старик свое приглашение.
И жест в сторону особенно чахлых и пожелтелых листьев указывал на то, что приглашение продиктовано не просто вежливостью. И не одним гостеприимством.
— Здесь что, такая плата за вход? — пошутил Анджей.
— Вот именно!
Затем последовал обычный в таких случаях вопрос. Задал его старик.
— Позвольте узнать, а давно вы в Оликсне? Что-то не припомню вашего лица.
Удовлетворив его любопытство, Уриашевич, в свою очередь, обратился к Лещинской и сказал, что видел ее сегодня: был свидетелем их разговора с Биркутом.
— Капитан уже побывал у меня после этого, — сообщила она.
— Как? — удивился Анджей. — Когда же он успел?
— Да вот успел, — ответила она. — У него всегда припрятана свободная минутка на всякий пожарный случай.
— А вы уже освоились здесь?
Оказалось, что это отец и дочь. Уже два года, как они в Оликсне. Она сначала работала в отделе здравоохранения, а несколько месяцев назад ее назначили заведующей вновь организованного детского дома. Отец — у дочери на иждивении.
— А откуда вы сами?
— Из Варшавы.
— Я тоже, — заметил Уриашевич. — До конца восстания там был.
В этом смысле судьбы у них были сходные. Однако немного поговорили они и о различиях в этой общей их доле. Потом представились друг другу. Обошлись без рукопожатий: руки были липкие от гусениц.
— Уриашевич? — напрягая память, наморщила лоб Лещинская. — Знакомая фамилия.
С минуту она стояла неподвижно, соображая, откуда она ее может знать.
— А не встречалась ты в обществе с двумя барышнями из этой семьи? — подсказал старик.
— Не с Вандой ли случайно и с Тосей? — вставил Анджей.
Так оно и было. Посыпались вопросы.
— Что они поделывают?
— Да так, прозябают.
— Как поживают?
— Помаленьку.
Разговор о паннах Уриашевич был исчерпан через какую-нибудь минуту, это стало ясно всем троим. Лещинская перевела разговор на другую тему.
От нее Уриашевич узнал, что замок, среди руин которого он находится, славянского происхождения. И относится он к той поре, когда Западным Поморьем владели еще польские князья — из дома Пястов. Впрочем, было это не так уж и давно, ведь князь Богуслав XIV из рода Грифитов, последний представитель этого дома, скончался в первой четверти семнадцатого века. Резиденцией его бывала также и Оликсна.
— Очень красиво здесь, — говорила Лещинская. — Только слишком голо и дико будет, если розы и виноград зачахнут.
— В прошлом году они уже было выправились, — посетовал старик. — Это в войну их забросили совсем. Никто не следил, не поливал, землю не унавоживал. — Он окинул взглядом зелень среди камней. — За каждое наше усилие они сторицей воздают!
— Лучше места, чтобы собираться на вольном воздухе, для детей и не сыщешь, — сказала дочь. — Например, в праздник можно устроить вечером костер. Не сравнить с поляной в лесу.
— Еще бы, — подтвердил Анджей.
— Вот вам и случай с историей этого края познакомиться, — прибавил старик. — И видом полюбоваться красивым.
С арок и сводов, которые, казалось, дышали, точно живые, — это ветер чуть колыхал покрывающий их зеленый полог, — перевели они взгляд на море, туда, где в голубовато-фиолетовой дали воедино сливались в свете угасающего дня вода и воздух.
— Ну, нам пора, — первой нарушила молчание Лещинская. — А то для отца поздно будет.
Тот стянул с головы ненужный уже носовой платок. Развязав узелки, сунул его в карман, а у ворот снял шляпу с крюка.
— А вы? — повел старик рукой в сторону Уриашевича.
— Я немного еще побуду здесь.
— Тем лучше для вас, — прищурился старик. — Я спутник плохой, особенно с горки. Потихонечку спускаюсь, полегонечку. — В воротах он обернулся еще раз. — Заглядывайте сюда. В это время! — крикнул он. — Если дочку не застанете, то застанете меня, а не меня, так уж гусениц наверняка.
— А вы надолго в Оликсну? — Лещинская тоже остановилась. — Мы забыли вас спросить.
— Надолго.
— В порт?
— Ясное дело!
* * *
Часа через два после их ухода Анджей проснулся и долго не мог сообразить, где находится. Озябший и разбитый, лежал он на камнях среди фантастических декораций, которые выхватывал из непроглядной тьмы луч света, скользивший также по его лицу.
Вытащив из-под головы затекшие руки, Анджей оперся, сел и тогда только очнулся окончательно. Он ведь в Оликсне! На Замковой горе! Прилег отдохнуть и попросту заснул. И разбудил его свет маяка. Соскочив со стены, он стал хлопать себя по бокам, чтобы согреться и размяться перед обратной дорогой.
Впрочем, что такое непроглядный мрак, понял он по-настоящему уже за городом, по пути к дому, где поселился. Ни маяка, ни уличных фонарей — они давно были погашены. Где по звукам, а то просто наудачу, полагаясь на инстинкт, добрался он кое-как до места. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить девочку, открыл ключом дверь. Но она не спала. Сидела одетая и ждала его.
— Ужин готов, — услышал он ее до неузнаваемости изменившийся, сдавленный голос.
— Нет, спасибо. А ты чего тут? — спросил он.
— Может, чаю тогда?
У нее стучали зубы. И едва подняла она глаза, он понял: ей просто страшно. «Боязно ребенку одному ночью, в пустом доме», — подумал он.
— Может, чаю выпьете? — повторила она.
— Поздно уже! — посмотрел он на часы. — Одиннадцать!
И, пожелав ей спокойной ночи, поднялся к себе. Но только налил воды в таз, как на лестнице послышались ее шажки.
— Что такое? — выглянул он за дверь.
На вытянутой ладошке она держала огромный ключ.
— От убежища, — объяснила девочка, не дожидаясь вопроса.
— От какого еще убежища?
— В лесу которое.
За год до конца войны бывшие владельцы дома выстроили бомбоубежище в лесу неподалеку от поселка. Анджей вспомнил: она уже упоминала об этом.
— Мужчина, который жил у нас, вещи там прятал, — прошептала девочка и, так как Анджей не брал ключа, положила его на столик у окна.
— Какие вещи? — поморщился он, недоумевая.
— Те, что увез потом.
Кровь бросилась ему в голову.
— Не нужно мне никакого склада! — повысил он голос. — Увозить отсюда я ничего не собираюсь.
Но она не сдавалась. Это был наивный план самообороны, как понял он из дальнейшего.
— Дорогу я вам завтра покажу, — пообещала она. — Сами ни за что не найдете.
Она и его боялась! Как множество чужих людей на протяжении всех этих лет, он тоже внушал ей страх. Ночью, в одиночестве больные нервы не выдержали, и страх этот темным эхом отозвался в ней. Как и раньше, заставлял он изворачиваться, быть начеку, не давая детски-безмятежно уткнуться в подушку.
Анджей сделал вид, будто попался на удочку.
— Хорошо, детка. Значит, до завтра. Иди спать. И я тоже лягу сейчас.
Однако не лег, пока писем не написал. Умывшись и разложив на столе покупки: блокнот, конверты и марки, со свежими силами принялся он за письма. Прежде всего написал Климонтовой. Письмо получилось длинное, в нем изложил он все, что хотел ей сообщить по приезде в Варшаву. Потом написал Иоанне. А под конец — Хазе и Степчинской.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
Дни летели, но Анджей каждый раз открывал для себя в порту что-нибудь новое. Освоиться здесь было не так просто, как в Ежовой Воле. Там коллектив был небольшой и слаженный, работа самостоятельная и уже привычная. А здесь множество людей на огромном пространстве в быстром темпе и в постоянно меняющейся обстановке выполняли десятки неизвестных ему операций.
К тому же Биркут все время перебрасывал его с места на место. Из мастерских в управление порта, оттуда — к водолазам на понтон. То требовалось вычертить недостающую деталь для транспортера, чтобы изготовить ее на месте, — транспортеры были допотопные, где их только откопали; то разобрать корреспонденцию из разных учреждений и организаций и отреферировать для руководства порта. А от рефератов приходилось отрываться снова для ремонта.
— Резерв главного командования, вот кто ты такой, — говаривал Биркут в благодушном настроении. А когда настроен был скептически, то выражался со штатской простотой. — Ко всем бочкам затычка — вот ты кто. — И обнимал его за плечи. — Нечего с приездом было тянуть. Теперь на себя пеняй!
Говорил он с укором, но о причинах задержки не спрашивал. Да и интересуй они его, слушать Анджея все равно было некогда. Так же, как и заняться им вплотную, всерьез потолковать, как обещал он в день приезда.
Но Анджей и без того многому у Биркута учился. У него и Чечуги, кратко пересказывая им выступления на конференциях или на закрытых заседаниях, излагая теоретические статьи из специальных журналов, которые читал для капитана и боцмана. Вопросы затрагивались там самые разные. О тенденциях развития морской торговли, о капиталовложениях в строительство портов, о квалификации портовых рабочих и подготовке кадров. Слушали они обычно внимательно, подавая лишь скупые реплики. Но кое-что вызывало у них и несогласие. Тогда Биркут пожимал плечами. Чечуга был менее сдержан.
— Курам на смех! — сердился Биркут в таких местах. — Давай дальше!
Как-то в душный жаркий день сидели они втроем над толстой, во много десятков страниц, стенограммой совещания о малых портах: Колобжеге, Устке, Дарлове, Оликсне и других. На совещании выступали люди с именами, крупные довоенные авторитеты, теоретики и практики. И среди них — определенная группа, прямо или косвенно ставившая под сомнение целесообразность самого существования таких портов. Разве что иностранный капитал ими заинтересуется.
— Валяй дальше! — В косых глазах Биркута появилось усталое выражение. — Скулы сводит слушать такое.
В другой раз в подобном случае он и впрямь зевнул.
— Вот ерунда!
— Я бы не сказал, — насупив густые брови, покрутил головой Чечуга. — Я бы не сказал! — Он запустил пятерню в свою седеющую шевелюру, провел по ней несколько раз растопыренными пальцами и замер так — с рукой в волосах и опущенными глазами. — Каждым удобным случаем пользуются, — сказал он в раздумье. — Чуть что — опять за свое.
Чечуга, когда Анджей читал, имел обыкновение записывать себе на листке, что его заинтересовало, — статьи, выступления, которые хотел прочесть целиком. И сейчас написал сбоку на своей бумажке несколько фамилий и протянул Биркуту.
— Смотрите, капитан! — сказал он. — Вот тут фамилии этих господ. Два года назад они то же самое пытались внушить рабочим Поморья. Только тогда речь шла о крупных портах: о Гдыне, о Гданьске, о Щецине! — Он опять запустил в волосы пятерню. — Когда вы упомянули в докладе здешних оликсинских работников, — стал развивать он свою мысль, — и, в частности, меня похвалили, и не только меня, я подумал о наших товарищах из Гдыни. Какой отпор они дали всем этим советчикам, спецам да практикам. Это в сорок пятом-то году! В сорок шестом! Еще прежде, чем через наши порты пошел экспорт, и после, — как решительно воспротивились они мнению, будто социалистическая реконструкция их из-за военных разрушений нерентабельна. Будто единственный выход — прибегнуть к помощи иностранного капитала. И мнение это высказывал не кто-нибудь, а все люди с именами. Знатоки! Авторитеты! Разжевывали, в рот клали, все цифры тебе тут, вся статистика: мол, так и так, упорствовать в сложившейся после войны ситуации бессмысленно. Портам все равно за добычей угля не угнаться, потому что шахты от военных действий пострадали значительно меньше. Без чрезвычайных мер тут, дескать, не справиться. Утверждение небезосновательное! И рабочий класс прибегнул к чрезвычайным мерам, но не таким. Рабочие не пошли на компромисс, казалось бы, неизбежный. Вот об этой их борьбе стоило бы упомянуть на торжественном заседании.
Он взял у Биркута бумажку и опять над ней склонился.
— Одну их концепцию разобьешь, — насупился он сердито, — другую подбрасывают: не отдали порты на откуп иностранному капиталу, они с заграничными фирмами вылезают. Вечно в наших собственных силах сомневаются! А вышибешь их с этих позиций, на другом фронте столкнешься. Теперь вот носятся с идеей: иностранных специалистов привлекать. И новые кадры тоже готовить только за границей: в Англии, Франции, Швеции.
Он стал читать вслух фамилии, сопровождая каждую характеристикой.
— Одними ненависть движет. Другими расчет, желание выслужиться перед Западом. — Он задумался. — Но всех, конечно, нельзя стричь под одну гребенку. Иногда тут и просто косность мысли у наших ученых и авторитетов. И неверие в собственные силы. В Польшу. Как вообще у интеллигенции. — И заключил коротко и веско: — Пуганая ворона куста боится. В буржуазии разочаровались, теперь рабочему классу не доверяют. В той буржуазии, которая даже через семь лет после первой мировой войны, — сделал он краткий экскурс в прошлое, — только за посредничество и транспортировку угля позволяла иностранным капиталистам класть в карман пятьдесят процентов причитавшейся народу прибыли. И это при благоприятной конъюнктуре! При возросшем спросе! Когда английские горняки бастовали… Я уж не говорю обо всем остальном, но ни за что ни про что половину прибыли отдавать: так даже в самые трудные времена у нас рабочие не хозяйничали! — И сожаление, злость, недоумение, звучавшие в его голосе, сменились гордостью.
Тут кто-то постучал тихонько в дверь.
Биркут сказал, обращаясь к Чечуге и Анджею:
— Это Юзек Конколь. — И предложил: — Сделаем небольшой перерыв.
Бумаги, а заодно стенограмма, которую они обсуждали, были быстро сдвинуты в сторону, чтобы светловолосый, черноглазый водолаз, самый молодой в Оликсне, мог положить на середине стола горелку для подводной резки.
— Давай сюда свой инструмент, — сказал Биркут и склонился над наконечником горелки. — Ага, — притворно удивился он, — вон ты что придумал!
Раз-другой крутнул он наконечник, отвинтил его и положил на стол соплом кверху. Теперь хорошо были видны пазы, которые делал Конколь, утверждая, что так горелка работает лучше.
— А что тебе это дает? — спросил Биркут.
Высокий парень в голубой шерстяной шапочке, какие надевают под шлем водолазы, не снимая и на поверхности, если снова предстоит спуск, перевел взгляд с наконечника на капитана.
— Так горелка без взрывов режет, равномерно.
— Поэтому он и перевыполняет норму на десять процентов. Это проверено, — дал пояснение Чечуга.
— Каждый на моем месте делал бы столько, кабы горелка без взрывов резала, — прибавил Конколь.
— Ты сварщик хороший, вот у тебя и без взрывов, — сказал Биркут. — Тебе атомную бомбу резать дай, и та у тебя не взорвется.
— Разве что меня только на тот свет шарахнет, — с коротким простодушным смехом обронил Конколь.
— У тебя еще все впереди, — в тон ему ответил Биркут.
Он присел на край стола и, вертя в руках усовершенствованный наконечник, задумался. У Конколя лицо тоже стало серьезным. Помолчав немного, сварщик повторил:
— Каждый на десять процентов норму перевыполнит, если пламя стрелять не будет.
— Ты откуда знаешь?
— Да моей горелкой и Головец уже варил и Батор.
— А ты?
— Я по-старому попробовал.
— Ну и что?
— Вышло, как я говорил.
— Выходит, твоей горелкой каждый из них работал, как юнак[17], — изложил по-своему ответ Конколя Биркут, — а ты, как слабак.
— Так точно, товарищ капитан! Как слабак!
— Стреляло у тебя?
— Когда резал не своей, стреляло.
Трудностей с подводной резкой и сваркой немало. И одна из них — в неравномерном движении горелки, которая по причинам известным и неизвестным начинает вдруг дергаться под водой и отклоняться в сторону. Устранить этот недостаток было бы большой победой.
С желобков на наконечнике Биркут перевел взгляд на молодого водолаза.
— А что в тот раз резали?
— Когда?
— Когда горелками менялись.
— Шаланду на лом в отстойной гавани, — ответил за Конколя Чечуга.
— Может, Батор и Головец лучше обшивку зачистили? — предположил Биркут самое простое.
— Чем я? — принял Конколь неприступный вид.
Он обиделся, вспомнив, как тщательно они перед испытанием отчищали ржавые, разъеденные морской солью, обросшие ракушечником борта шаланды. Ожило также в памяти, как уже с самого начала в ответ на жалобы, что горелка стреляет, ему неизменно говорили: значит, плохо поверхность очистил, А известно ведь: дело не только в этом.
— Нет, не лучше, — возразил он и прибавил с вызовом: — Между прочим, на ровной поверхности стрелять вообще не должно.
Конколь взял наконечник, провел по нему рукой и медленно, ища нужные выражения, стал объяснять, почему у него горелка работает ровней. Биркут внимательно слушал. В общих чертах идея ему была известна со слов Конколя и бригадира водолазов, которые вскользь уже упоминали об этом, при обсуждении разных неотложных дел. Но тогда показалась она ему чересчур уж простой. Так оно и было. Но цель тем не менее достигалась. И сейчас Биркут внезапно это понял.
— Ты прав, — сдался он и радостно зарокотал: — По-моему, неплохо придумано. Ты еще медаль за эту свою штуковину получишь.
Началось детальное обсуждение. Участие в нем принимали капитан, боцман, Конколь и Уриашевич.
— Когда горелка с таким наконечником соприкасается с металлом, она не стреляет, так как пламя через пазы устремляется в бок.
— Так, так, — соглашался капитан. — Точно!
Он весь взмок. И неизвестно в который раз вытер платком лицо. Несмотря на здоровый вид, сердце было у него не в порядке, и летний зной он плохо переносил.
— Ох, и жарища нынче! Просто невмоготу! — Веселые искорки вспыхнули в его чуть косящих глазах. — В такую погоду только водолазам хорошо.
Они посмеялись и снова заговорили серьезно.
— Наверху до этого не додумались бы, — заметил Конколь.
— Ах ты, чертов ныряльщик! — хлопнул его Биркут по плечу. — Вам, водолазам, сдается, у человека только под водой котелок варит!
— Я не о том, товарищ капитан!
Он и в самом деле думал совсем о другом. И не собирался противопоставлять людям, работающим на поверхности, тех, кто работает под водой, как это любят делать водолазы. Ему не до таких сравнений было. Он хотел сказать нечто прямо противоположное.
— А на что же ты тогда намекал?
Черные глаза молодого водолаза глянули из-под светлых бровей на Биркута.
— Я хотел сказать… — Конколь подумал немного и так выразил свою мысль: — Нам каждая минута дорога, потому все и должны мозгами шевелить.
* * *
— Н-но, Сивка! — взмахнул кнутом Томчинский. — Но!
Жаркий день сменился душным вечером. Над дорогой тучей висела и не опадала пыль. Уже смеркалось, но дышать было по-прежнему нечем. Лошадь еле тащилась — ни кнут, ни понукания не помогали. Слишком хорошо изучила она своего хозяина: заговорится и подгоняет просто так, для порядка, а есть ли прок, ему все равно.
— Говорите, в Оликсне он? — продолжал директор начатый разговор. — Ну, желаю ему удачи!
Он отвозил Климонтову на станцию. В конце учебного года на школу свалилось столько всякой писанины, что не до Уриашевича было. Климонтова сказала, правда, о письме от него и в двух словах, о чем оно. Но до подробного обсуждения этого случая дело дошло лишь по дороге.
— Что вы, — уверял Томчинский. — Мне и в голову не приходило, будто он замешан в преступлении. Будь у меня хоть малейшее подозрение, ни за что бы в Варшаву его не отпустил. А что Спос за ним присылал, меня нисколько не удивило и не насторожило. Он и раньше учителей к себе приглашал. Стоило появиться в школе новому человеку, и ксендз старался завязать с ним знакомство.
— Зачем?
— Чтобы против меня восстановить. Против школы. Против политики, которую мы проводим. Невзлюбил он нашу школу, невзлюбил. Ведь мы одними из первых начали педагогическую работу в здешних местах. — Томчинский помолчал и заговорил опять об Уриашевиче. — А что он из Варшавы не вернулся и подвел нас, это с его стороны нехорошо. — Он остановился. Не хотелось, чтобы Климонтова по голосу догадалась, что он сердится. Еще подумает, чего доброго, что он в претензии на нее из-за Уриашевича. А он знал: она тут ни при чем. — Пусть совесть вас не мучает, что вы его рекомендовали, — добавил он. — Людям надо доверять.
— Что я слышу! — удивилась Климонтова. — А не вы ли так подозрительно на него посматривали, увидев впервые в отделе народного образования в Варшаве?
Пыль, стлавшаяся над дорогой, забивалась в нос, в рот, от нее першило в горле. Томчинский откашлялся.
— Не спорю, — согласился он. — Я довольно прохладно отношусь к людям из этой среды. — И поспешил уточнить: — К старой интеллигенции, которая якшалась с буржуазией. Ну, да что ж? — вздохнул он и, поразмыслив, так определил свое отношение к интеллигенции: — Бдительность нужна, иначе плевелы старого из этой почвы нам не вырвать. Но, с другой стороны, не доверять тоже нельзя, а то новых всходов не дождешься. Вы согласны?
Они въехали в лес, который тянулся отсюда почти до самого Струменя. Речь зашла о Спосе.
— Говорят, он поблизости где-то скрывается, — поделился Томчинский местными новостями. — Приход его так и бурлит. Кто-то мутит народ по его указке.
— До сих пор?
— Такой не спустит обидчикам.
— А откуда известно, что это он?
— Больше некому, остальная компания в тюрьме.
В лесу ни легким, ни глазам не стало легче. Пыль тучами вздымалась над дорогой. В деревьях терялось малейшее дуновение ветерка.
— Он фанатизм разжигает в деревне, — продолжал Томчинский. — По его наущению молебны служат за возвращение пастве ее пастыря. И проклятия призывают на голову его преследователей.
Вдруг в лесу что-то зашумело. Среди окутанных пеленой пыли деревьев почудилось какое-то движение. Колеса повозки, поскрипывая, с трудом прокладывали колеи в глубоком песке. Но монотонные эти звуки заглушил нарастающий беспокойный шорох.
— Что это? — спросила Климонтова.
Но ответом было не слово, а камень. Один, другой, третий — целый десяток. Один угодил Климонтовой в щеку, оцарапав ее до крови. Другой попал в лошадь, и она рванулась вперед. Но песок цепко, с неослабевающей силой хватал за колеса. Томчинский и Климонтова тоже в нем увязли бы, вздумай они соскочить и бежать. Место было для этого неподходящее.
— Пригнитесь! — крикнул Томчинский. — Голову наклоните! Ниже! Еще ниже!
Но Климонтова вместо этого выпрямилась и встала в повозке во весь рост.
— Слышите? — воскликнула она. — Это Ежовая Воля!
В воздухе просвистел камень, за ним еще и еще. Но и бросавшие тоже, видимо, что-то услышали. Руки, сжимавшие камни, опустились.
Теперь и до слуха Томчинского донеслась далекая песня:
Вперед, не глядя на преграды, Врагов гони перед собой. В порыве юном все мы рады За новый мир подняться в бой.— Наши, — прошептал директор. — Школа!
Жара, духота, пыль — молодежи все нипочем. И усталости после целого дня, проведенного в походе по случаю конца учебного года, тоже как не бывало: голоса звучат в полную силу, охота петь ничуть не меньше. И в этом пении захлебнулась ярость богомольных старух и святош из Струменя. Тяжело дыша, отступили они, в панике поспешно выбрасывая камни из передников. А ребята шагали бодро, — песня с каждой минутой звучала все громче:
Несем освобождение Мы — авангард труда. Прошедшему — презрение! Мы — с будущим всегда!Томчинский и Климонтова слушали, закрыв глаза. Она — от переполнявших ее чувств. Он, чтобы слышать лучше. Ему даже показалось, будто он различает знакомые голоса. Бронека Кулицкого, парней и девчат из его группы — первых выпускников школы! Терезы Яблонской — нового члена их педагогического коллектива, и Смелецкого, который несколько дней как перешел на четвертый курс исторического факультета. И многих, многих других.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Уриашевичу по нескольку раз на день приходилось теперь бывать на понтоне. База водолазов, к которым перебросил его Биркут, размещалась рядом с отстойной гаванью, на той же восточной стороне канала, что и управление порта, но до понтона — он покачивался на якоре у оконечности западного мола — было не меньше мили.
Каждый раз, когда катер разрезал воды канала, Уриашевич ловил себя на том, что не может усидеть в каюте, хотя от беготни с утра до вечера порядком изматывался, уставал. Высунется в иллюминатор — но много ли оттуда увидишь; выскочит на палубу и стоит, широко расставив ноги: смотрит не насмотрится. Словно вчера только приехал.
Экипаж привез с собой снаряжение, инструмент, взрывчатку. Но запасы были не бесконечны, оборудование портилось, снаряжение нуждалось в замене. Хлопот у Анджея хватало! И за все был он один в ответе. С утра начальник экипажа подавал ему список всего необходимого для работы, излагал в письменном виде свои претензии и пожелания и в течение дня еще их дополнял. Уриашевич писал докладные, звонил по телефону, бегал по разным мастерским, заглядывал на склады других бригад. Иногда на часок-другой отлучался в Кшенев, иногда на целые сутки — в Гдыню или Щецин.
Сколько всякой всячины требовалось для одного только понтона, где работали Конколь с товарищами! И цемент, и пакля, и резиновые прокладки. Баллоны с ацетиленом, багры, крепь. Динамитные патроны, сигнальный линь, новый шланг. А сверх того в назначенный день и час то плавучий кран, то буксир надо было обеспечить, так рассчитав, чтобы это точно совпало с определенным этапом работы водолазов. Уриашевич терялся иногда, но брал себя в руки. И опять не знал, что делать, и опять выходил из положения.
Основная работа шла на волноломе, где зияла брешь. Оттуда извлекали поврежденные кессоны — огромные цементные ящики с песком, и опускали на их место новые. Монтировали кессоны на берегу. Потом сталкивали в воду, брали на буксир и, затопив, заполняли в нужном месте пустоту.
— Работа тонкая, как у дантиста! — щурил свои косые глаза Биркут, объясняя Уриашевичу суть операции. — Впору самому зубами этими воспользоваться, кабы пасть, как у бегемота, была.
На чертеже волнолом и в самом деле выглядел, как челюсть, кессоны, как вставные зубы, а пустоты, как отверстия для протезов и мостов. Так-то так. Но имея дело с реальными кессонами в десятки тонн весом, в несколько метров длиной и с двухэтажный дом высотой — тут не до сравнений. А под водой и подавно. Установленные на каменном основании, они казались еще больше. Водолазы их осматривали, обследуя один за другим, метр за метром.
Ясно, что кессоны у оконечности мола в непосредственной близости от воронки должны были потрескаться. Иногда это ничего не стоило установить. Из трещин шириной в дюйм, а то и больше сочился вымываемый водой песок. Но иные кессоны, хотя и подверглись действию того же мощного взрыва, казались на первый взгляд совершенно целыми.
А на большой глубине даже привычные глаза мало что могут разглядеть. С внутренней стороны волнолома всегда царит полумрак, который при каждом шаге, при малейшем движении сгущается: со дна подымается ил. Только возле самой воронки видимость получше. И то лишь в местах, где взрывом снесены обе стенки кессона.
На уцелевшей арматуре торчат куски железобетонных конструкций. Неясные очертания глыб по нескольку тонн весом, которые держатся неведомо на чем, маячат в мутной воде. Шаткие, уходящие из-под ног груды обломков с острыми краями и торчащими во все стороны стальными прутьями, представляющие опасность для снаряжения, преграждают доступ к кессонам. А иногда именно от этих обломков и надо в первую очередь очистить дно.
Только тогда можно приступать к промывке канала под кессоном и закладке крепи. Если дно песчаное да насосы мощные, дело идет быстро. Только мелкие камешки позванивают, попадая в трубы. Раз-два — и канал готов! Но в здешних условиях об этом нечего и мечтать. У поврежденных волноломов промывка то и дело застопоривается. То кусок бетона мешает, то железяка.
И вымытые за минуту перед тем ил, глина и гравий устремляются обратно. Песок возвращается туда, откуда его только что откачали. При долгом простое песка нанесет иной раз больше, чем за целый день удалось отсосать. И постоянно за ситом насоса надо следить. Чутье особое иметь. Но держаться в некотором отдалении. Не то, когда насос в полную силу работает, засосет руку, и перелом обеспечен. Однако слишком далеко тоже стоять нельзя. Прозевать можно. Дернешь за сигнальный конец, чтобы насос остановили, а он уже сломался.
Но самое неприятное — лезть в канал. Под обломки! Под кессон! Конечно, не всегда это возможно. К примеру, под поврежденный кессон — ни в коем случае нельзя. Но иной раз люди забывают об осторожности. Войдут в раж и сами не замечают, где опасность. Никого ведь нет рядом, кто бы остерег. Правда, в Оликсне начальство в этом отношении спокойно. Этот экипаж не рискует без нужды. И строго придерживается инструкций.
— Ну, как дела?
Ступая на понтон, Уриашевич каждый раз повторяет тот же вопрос. И не подозревает, что подражает Чечуге.
— Порядок, — машинально отвечает первый встречный водолаз.
Но сегодня после стереотипного ответа все находящиеся на понтоне сами вопросительно смотрят на Уриашевича.
— Как с подъемным краном? Придет?
— Придет, — заверил Уриашевич. — А у вас как работа, продвигается?
У кессона, с которым возилась бригада, только одна стенка треснула. Остальные целы. Значит, надо ее заменить, и дело с концом. Извлечь из воды куски старой плиты и поставить на ее место новую.
— Детская забава, — сказал Гарч, приятель Конколя. — К шести закончим.
Обстановка на понтоне непринужденная. Море спокойно. Ветра нет, солнце. Бригада работает четко, слаженно. Да и задание сегодня не слишком трудное и муторное. Никаких подкопов, каналов, пластырей, даже резать под водой не придется. Наложат крепь на куски стены, обмотают каждый тросом и свяжут концы. Подъемный кран подцепит за петлю, потянет кверху — и свободно место для новой стенки, которая уже несколько дней лежит на берегу. Ее поднимут и опустят бережно в воду. А для скрепления новой стенки со старыми пойдут в ход мешки с цементом. Потом песком заполнят середку. Вот и еще кессон готов!
— Отлично! — одобрил Уриашевич.
Он наблюдал, как помощники постепенно, по порядку одевают Конколя. Поверх нательного белья — шерстяное. На него — резиновый скафандр; тут уж не обойтись без посторонней помощи. Потом ноги всовывают в огромные сапоги на свинцовых подошвах, называемые калошами. На плечи кладут медный воротник для скрепления скафандра с шлемом. А напоследок на спину и грудь вешают свинцовые пластины, каждая по десятку килограммов с лишком.
— Теперь королю только короны недостает!
Конколь и Гарч — ребята совсем молодые; не намного старше их сигнальщик, два парня у насоса и сам Уриашевич. И все перекидываются шуточками: процедура одевания напоминает виденное в кино — торжественное облачение монарха, епископа перед богослужением или рыцаря перед битвой.
— Эй, ты, — смеется Гарч, — копье свое возьми!
— И корону!
Конколю, чтобы убрать разбитую стенку кессона, нужны багор и бухта каната. По короткой лесенке спускается он с борта понтона и погружается по пояс в воду. Смех и шутки смолкают. Конколь поправляет голубую шерстяную шапочку на голове. Помощники надевают на него шлем. А надев, проверяют, все ли в порядке, с особой тщательностью осматривая нижнюю кромку ворота. Потом с таким же вниманием один за другим все двенадцать винтов, которыми ворот крепится к скафандру. Они завинчены плотно.
— Стекло, — слышится из-под шлема приглушенный голос Конколя.
— Помпа, — подает знак рукой сигнальщик.
Оба маховых колеса тотчас начинают вращаться. Помощники навинчивают смотровое стекло.
— Скоба, — напоминает им Гарч.
Но те уже проверили. Убедился, что она опущена, и сигнальщик. Уриашевич наклонился над бортом: скоба, препятствующая отвинчиванию шлема, опущена.
— Муть-то какая, — говорит Уриашевич, глядя вниз.
— Да разве это муть? — возражает Гарч.
Пузырьки на поверхности указывают, где находится Конколь. Со дна поднимается ил, который и становится предметом разговора.
— Сейчас осядет, — замечает Гарч. — Здесь участок хороший.
Струйка пузырьков уходит от борта. Всхлипывает водолазная помпа. Муть постепенно оседает.
— Бывает, вовсе ничего не видать. Ну, ни зги! — разводит руками Гарч, увалень со скуластым лицом и живыми, смышлеными глазами. — А плывун еще попадется — пиши пропало! Пальцем шевельнешь — и тьма, хоть глаз коли. Тут уж или жди, пока вода очистится, или работай вслепую.
Сигнальщик не выпускал сигнального линя из рук, время от времени потягивал за него. Конколь в знак того, что все в порядке, резко дергая, подавал ответный сигнал.
— Ну, как там? — полюбопытствовал Уриашевич.
— Нормально.
Вода очистилась, стала прозрачной. Конколь работал на семиметровой глубине. Закинув трос в кессон, он пытался багром подцепить снаружи огон — петлю на конце троса — и протянуть ее в щель между стенкой и основанием. Стенка слегка наклонилась внутрь кессона: для водолаза такое положение не опасно. С виду держалась она прочно. И если б не широкая трещина внизу, вдоль фундамента, можно было принять ее за неповрежденную. Багор свободно проходит в трещину, и Конколь шарит им по дну кессона. Но подцепить огон не удается. И странно, что багор не натыкается при этом еще на остатки арматуры. Обычно бетон от взрыва осыпается, обнажая торчащие стальные прутья, но тут и их, наверно, порвало.
— Качай! — кричит сигнальщик, оборачиваясь к помпе.
Конколь дважды дернул за линь: это условный знак, что воздуха не хватает.
— Смотрите, не переусердствуйте! — вмешался Уриашевич. — Как бы не перекувырнулся!
— Это он-то? — успокоил его Гарч уверенным тоном. — Что вы!
Разве Конколь может вверх ногами перевернуться, хотя это и случается нередко, если водолаз забывает про клапан и воздуха поступает слишком много. Тогда он скапливается в скафандре, раздувая его, и в конце концов водолаз мгновенно переворачивается вниз головой. Иной раз это приводит к опасным последствиям. Но за Конколя беспокоиться нечего. Ритмично, точно автомат, нажимает он головой на клапан.
— Итак, на завтра подъемный кран, — сказал Анджей, подводя итог своего визита на понтон.
— Так точно.
Гарч отработал смену и теперь свободен. Сейчас скафандр его на Конколе. А он, чтобы обсохнуть и согреться как следует, растянулся на досках на самом солнцепеке. Но полежать ему не дала какая-то мысль. Повернувшись на бок, окунул он руку в воду и мокрым пальцем стал чертить что-то на палубе.
— Латаем, латаем этот волнолом, — сказал он, — а ведь он будет расположен совсем иначе. Вот так.
И пальцем, смоченным в воде, нарисовал план. Порт в Оликсне, как в Дарлове и Колобжеге, использовался до войны главным образом летом, а осенью и зимой при неблагоприятном ветре войти в него было задачей головоломнейшей. И теперь обстоятельство это висело, как гиря на ногах, останавливая его дальнейшее развитие. Поэтому уже принято решение: восстановив порт, приступить к его переоборудованию и модернизации.
— В Устку, — заметил Уриашевич, — и вообще не войдешь при сильном ветре от норд-веста до норд-оста.
Он был увлечен новыми для него познаниями.
— Вот когда водолазов-то понадобится, — проговорил задумчиво Гарч. — Целая армия!
— И Гдыню будем перестраивать. И Щецин! И Гданьск!
— В Гданьске до войны один водолаз в штате числился, — заметил сигнальщик. — Один-единственный, других по мере надобности нанимали.
— Довоенный Гданьск знал я хорошо, — повернулся к ним старший помощник. — Там, что сто лет назад построили в порту, так все и стояло.
— В Гдыне было по-другому, — сказал Уриашевич.
— По-другому, по-другому! — насмешливо сверкнул глазами Гарч. — У нас там много чего понастроили. Да только иностранные фирмы все.
Он стянул с себя рубаху, швырнул рядом на палубу и улегся навзничь, подставив солнцу скуластое лицо и мускулистый торс. Чтобы получше разглядеть, что рисует Гарч, Уриашевич присел перед тем на корточки, и теперь, вставая, уперся рукой в палубу. И вдруг ощутил сильный толчок. Гарч спиной почувствовал, как вздрогнул понтон. Сигнальщик и оба помощника — ногами. И сердце у всех замерло.
Гарч вскочил.
— Что это?!
Ответа и не потребовалось — все, не исключая Уриашевича, сразу поняли, что произошло. На поверхности, где до сих пор появлялись пузырьки, образовался водоворот. Со дна поднялись гравий и песок. Вода вспенилась и потемнела.
— Стена обвалилась, — помертвевшими губами вымолвил сигнальщик.
— Линь! — срывающимся голосом крикнул Гарч. — Линь как?
Подскочив к сигнальщику, он вырвал у него линь, дернул и побледнел. Линь не поддавался. Никакой упругости. Натянутый, но точно мертвый. Руке ни за что не удержать его так неподвижно.
— Заклинило, — едва слышно проговорил Гарч.
Уриашевич заметил, что стрелка манометра скачет.
— Шланг придавило! — переполошился он. — Проходит воздух?
Пока проходил, хотя с трудом. Маховые колеса крутились медленно, с усилием. По-видимому, воздушный шланг зажало той же тяжестью, что и линь. Но шланг, армированный стальной проволокой, был прочный. Сплющить его не так-то легко.
— Проходит воздух? — нетерпеливо спрашивал Уриашевич. — Проходит или нет?
— Проходит, — с трудом выдохнул один из парней у помпы.
— Еле-еле, — чуть слышно прибавил второй.
— А давление как?
— Бывает хуже.
На взбаламученной, местами рыжеватой, местами желтой воде пузырьков не было видно. Но если воздуха поступало недостаточно, Конколь мог его и не выпускать.
— Вон, вон!
На понтоне — впервые с тех пор, как ощутили толчок, — вздохнули с облегчением. Там, куда указывал Уриашевич, на поверхности появлялись характерные, хотя и редкие, слабые пузырьки.
— Надо ему трос с петлей бросить, — предложил сигнальщик.
Он не выпускал линя из рук, хотя тот висел совершенно безжизненно. Но мог ведь и ожить! Надежда не потеряна.
Гарч нагнулся за тонким тросом с петлей на конце.
— А вы весло берите, — бросил он на ходу Уриашевичу. — Главное, спокойствие. Спокойствие и спокойствие.
Он беспрерывно повторял это слово. Повторял, пока они плыли к месту, где должен был находиться Конколь. Бормотал, пока Уриашевич маневрировал веслом: мотор запускать было нельзя, чтобы не взволновать воду. Повторял для бодрости, опуская на дно канат.
— Как давление? — поминутно окликал Уриашевич парней у помпы.
— Дело дрянь.
— Дно, — одними губами проговорил Гарч.
Вытянув руку, водил он тросом по дну. Перегнулся через борт и тралил, тралил. Напряженно, словно прислушиваясь.
— Что там у вас? — спрашивали с понтона.
Ничего нового они сообщить не могли. Петля то и дело за что-то цеплялась. И Гарч тянул за канат. Выжидал. Но безрезультатно. Потом отцеплял петлю — это было не так-то просто — и снова шарил. На фут вперед. В сторону. И опять сначала. Петля задевала за камни, выступы, но Конколь пока не ухватился за нее. Между тем кусок стены, который намертво прижал ко дну сигнальный линь и защемил шланг, в любую минуту мог сдвинуться и придавить шланг окончательно. А заодно и Конколя. Если этого еще не произошло.
— Как дела?
Молчание. По-прежнему молчание. И вдруг — крик:
— Есть!
— Есть?
— Есть! Есть!
Гарч проверяет. Характерными короткими рывками подергивает за канат. И секунду спустя канат дергается в ответ точно так же. По всему телу до кончиков пальцев разливается тепло.
— Есть, — поднимает голову Гарч. — Отвечает.
Теперь все зависит от Конколя. Но Гарч спокоен: Конколь свое дело знает. Петлю в таких случаях обычно закрепляют и вместе с подавшим канат сдвигают преграду с места.
— Закрепил? — нервничали на понтоне.
И не без причины. А что, если он руками свободно действовать не может? Практика не всегда совпадает с теорией. Под водой всякое бывает.
— Закрепил!
Гарч закидывает конец троса за спину. И туго-натуго прямо по обнаженной спине обматывается им. Потом опускается на колени.
— А что теперь? — торопливо допытывается Уриашевич. — Запускать мотор?
Гарч хочет оттянуть тяжесть на себя. Это ясно. Но неясно другое: зачем в качестве кнехта использовать себя, когда можно закрепить канат на моторке.
— Нет, не надо, — говорит Гарч, — слишком резкий рывок будет.
И, весь напрягшись, поднимается с колен. Медленно, осторожно. В таких случаях легче испортить дело, чем поправить. А чуткая рука — от кисти до плеча — лежит на канате — наготове.
С понтона сообщают: воздух пошел легче. А еще через несколько минут, что сигнальный линь ожил. И, наконец, что сам Конколь зашевелился.
— Гарч, бросай! Хватит! — кричит сигнальщик. — Он вылез! Вылез!
Гарч ослабил натяжение троса. Встал с колен и смотрит на пузырьки, определяя, где Конколь. Теперь отчетливо видно, как пенистая полоска движется прямо к понтону. Вскоре и Конколь показывается из воды.
— Эх, Юзек, Юзек! — И Гарч с этими словами прыгает из моторки на понтон. — Что это ты выкидываешь, старик?
Конколь уже без шлема; ворот и балласт лежат рядом. Он стягивает голубую шапочку с головы. Уриашевич забирает ее у него из рук. Она мокрая и липкая от пота.
— Багор застрял, я дернул посильней. И тут как навалилось что-то на меня! Так и уложило на дно! Лежу и шевельнуться не могу, — закончил свой рассказ Конколь. — Действовал я вроде осторожно, — говорит он в раздумье. — Это трещина все, будь она неладна!
— Случается, и не заметишь.
— Всякое бывает!
— Придет время, когда без малейшего риска работать будем! Вот увидите, — говорит Конколь в ответ на замечания сигнальщика и старшего помощника. — Дай сигарету, — обращается он к Гарчу.
Тот сует ему сигарету прямо в рот: руки у Конколя мокрые. Потом дает прикурить и наклоняется при этом. Конколь замечает у него на спине багрово-синие полосы.
— Ах, Гарч, Гарч! — Конколю все ясно, и он морщится недовольно. — Хоть бы тряпку, бедняга, подложил.
Некоторое время прислушивается он к разговору, изредка вставляя словечко. Потом остается сидеть неподвижно, опустив голову и закрыв глаза. Но через четверть часа приходит в себя.
— Куда шапку мою девали? — ищет он ее глазами. И, натянув на голову, начинает одеваться. — Поговорили, и ладно! Завтра кран прибудет! — кратко дает он понять, что инцидент исчерпан.
* * *
Выйдя из такси, Иоанна Дюрсен-Уриашевич осмотрелась. Сердце у нее лихорадочно билось, все тело болезненно ныло. Горло сжимал спазм, мешая дышать, руки дрожали. Какое-то неведомое бремя тяготило плечи и спину, хотелось согнуться.
Но, сделав над собой усилие, Иоанна выпрямилась. И, откинув назад золотистые волосы, с гордо поднятой головой двинулась вперед хорошо отработанной, легкой походкой.
Климонтова ей сообщила, что сестер не будет сегодня дома. Тем не менее такси она остановила на Банковской площади, откуда до бывшей фабрики Левартов еще порядочный кусок. Глаза у нее беспокойно бегали. Увидев издали флигель, где жила мать, она остановилась и окинула взглядом лежащий перед ней пустырь.
Вправо, влево, на сотни шагов на месте улиц протянулась расчищенная от развалин полоса. Теперь здесь кипела работа: разравнивали грунт. Повсюду, насколько хватало глаз, люди рыли, копали; в землю вгрызались огромные экскаваторы, перенося ее с места на место или высыпая в телеги и вагонетки, которые увозили ее куда-то дальше по петляющей узкоколейке. Люди, животные и машины, казалось, трудятся плечом к плечу, прокладывая новую уличную магистраль в несколько километров длиной.
А прямо перед Иоанной была фабрика. Вернее, уцелевшая от нее дворницкая. Щебень и кирпич, оставшиеся от разрушенных складов, от жилого дома и фабричного корпуса уже вывезли. Из груды кирпичей — бывшей лаборатории — повыбирали целые и тоже увезли. Разобрали на кирпич и остатки подвалов, этих свалок мусора и хлама, где разлагалась дохлая кошка и куда в поисках «Пира» не решался спуститься Уриашевич, упросив Хазу подстраховать его веревкой.
Иоанна приблизилась к флигелю и взглянула на окошко мансарды.
— Можно? — спросила она.
— Пожалуйста, — послышалось в ответ.
Гордо выпрямясь, переступила Иоанна через порог. Но перед матерью было незачем притворяться. И она поникла, согнулась. Не для того, чтобы поцеловать у матери руку, а так, непроизвольно. По прошествии двадцати пяти лет друг на друга смотрели не моложавая, интересная дама и хорошенькая, совсем юная девушка с золотистыми косами, а старушка с пожелтевшей кожей, с глазами в красных прожилках и крупная зрелая женщина с поблекшим лицом. Такими сделало их время. Прошло несколько мгновений, прежде чем они обнялись.
Разговор не клеился, как всегда после долгой разлуки. Молчание затягивалось. Обе не знали, с чего начать. Верней, с чего ни начни, все бередит старое, раздражает, ранит. С похвалой отозвались о Климонтовой, которая согласилась устроить им встречу после письма Анджея, и замолчали опять. Да и как об этом разговаривать, не упоминая о Тосе и Ванде. Об их отношении к этому и упорном сопротивлении.
— Ты танцуешь еще? — спросила шепотом мать.
— Уже нет.
— И не будешь больше?
— Почему ты спрашиваешь, мама?
— Так просто.
Разговор подвигался туго, ведь каждая фраза могла быть истолкована превратно. Воспринята как намек, обида, упрек или жалоба. Мать скажет что-нибудь и тотчас пожалеет. Дочь вымолвит слово и поспешит смягчить впечатление. И так каждый раз. Но и молчать нельзя. Затянувшиеся паузы причиняют почти физическую боль.
В конце концов у артистки нечаянно родилось одно предложение. Наверху у Климонтовой лежал ее костюм. Голубой, расшитый белыми лилиями камзол и трико серебристого цвета. Все необходимое для партии Жанны д’Арк.
У матери задрожали губы, когда переодетая Иоанна спустилась вниз.
— О-о! Как красиво!
Застлавшие ей глаза слезы мешали смотреть. А Иоанне мешало волнение. Но не только оно. И не то, что была она не в форме. И давно не упражнялась. Она опять была больна и не береглась. Не просто не береглась, а гораздо хуже. И все из-за Хазы.
Наконец, сделав над собой нечеловеческое усилие, она в ритме танца двинулась от двери.
«Ну еще чуть-чуть, — твердила она про себя, воздевая кверху руки и пытаясь продемонстрировать матери знаменитую финальную сцену на костре, которая прославила ее имя. — Еще чуть-чуть».
Тело Иоанны Дюрсен-Уриашевич судорожно извивалось: оно должно было изображать страдание. Лицо — экстаз. Но выражали они одну лишь крайнюю усталость.
«Еще немножко! — закусила она губы, всеми силами борясь с искушением прервать танец. — Еще немножечко!»
Однако докончить его было ей не суждено. Кто-то внезапно стукнул в окно кулаком. За стеной послышались поспешные шаги. Рассердясь за что-то на викария, недавно назначенного помощником Завичинского, Тося вернулась домой на целый час раньше. И, возмущенная представшим ее взору неподобным зрелищем, объятая страхом за мать, с криком ворвалась в комнату.
— Господи Иисусе! — заломила она руки. — Что здесь творится!
Но не Тосин крик и не звон разбитого стекла прервали танец. А боль, гнездившаяся в локтях, ступнях, коленях и усилившаяся в последнее время из-за неправильного образа жизни, — боль, которая сейчас от мгновенной сильной перегрузки достигла невыносимой остроты. Суставы жгло, как огнем. Пронзало раскаленными иглами. Белее полотна, в холодном, едком поту Иоанна корчилась на постели Ванды, кусая подушку, ругаясь и проклиная себя, все на свете. Ее била дрожь, пульс почти исчезал.
Сбежавшая сверху Климонтова бросилась к теряющей сознание Иоанне и тотчас послала терзаемую противоречивыми чувствами Тосю за извозчиком.
Вечером пришлось отправить Иоанну в больницу.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
— Как — сорвало?
Чечуга встал со стула и, хмуря густые, седые, брови, уставился на Петра Батурского, который прибежал с этой недоброй вестью с маяка.
— На месте нет, — сказал Батурский. — В море, видно, унесло.
За последние недели работа в Оликсне значительно продвинулась вперед. Еще доделывали кое-что на волноломах, возились с внутрискладским транспортом, со шнековыми подъемниками, с угольными вагонетками. Зато добавочные пути были уже проложены, девять транспортеров отремонтировано, а две ковшовые землечерпалки, временно находившиеся в распоряжении порта, с утра до вечера подготавливали акваторию к навигации: расчищали рейд, главный канал и боковые гавани. Обставили и фарватер. Ярко. Эффектно. Радуя взоры и слух, у входа в порт красовались четыре новеньких, дорогих звуко-световых буя: гордость Оликсны. И вдруг является Батурский и докладывает, что один исчез.
— Который?
— ОЛИ-4, — уточнил Батурский. — Крайний западный.
Чечуга молча выдвинул ящик стола, достал бинокль и взялся за шапку. Дверь затворилась за ним бесшумно. Зато другая, из коридора во двор, захлопнулась с таким треском, что Батурский и Уриашевич, сидевший у боцмана, вздрогнули. Ветер, ночью немного поутихший, был все еще довольно сильный.
— А давно исчез? — прокричал Уриашевич на ухо Батурскому.
— Да нет, — переждав вой туманной сирены, ответил Батурский. — С час назад светил еще, — прибавил он уже во дворе.
— А может, просто лампа перегорела?
— Мы тоже сначала так подумали. А потом глядим — нет его.
— А в море не видно света нигде? — обернулся Чечуга.
Над сушей и морем, то сгущаясь, то расходясь, клубился туман. На километры кругом голубые просветы перемежались с молочно-белыми, не пропускающими света полосами. Купол маяка выплывал из мглы и снова пропадал. Появлялись и исчезали строения на берегу, гребни волн и оранжевый солнечный диск без лучей. Дул сильный ветер. Через равные промежутки времени раздавался вой сирены.
— Человека на катер, к мотору! — обращаясь к Уриашевичу, распорядился Чечуга. — А ты багор да линь давай, дорогой, — сказал он Батурскому. — Да поторапливайтесь. Я на минутку только на маяк заскочу, — услышали они из тумана, тотчас поглотившего его.
На наблюдательном пункте маяка Чечуга задал тот же вопрос: «Не видно света в море?»
Вахтенный — он смотрел в подзорную трубу, укрепленную на окне, — перевел взгляд на Чечугу. Нет, буя не видно нигде. Еще час назад горели все четыре, издавая характерное гудение. С тех пор как обнаружилось, что один не светится, прошло пятнадцать минут. А что он совсем исчез, заметили только сейчас, когда видимость стала получше.
— Разрешите, — сказал Чечуга, но к подзорной трубе не присел, а, встав рядом, высунулся в окно.
До самого горизонта в поле зрения — словно пестрые лоскутья. В просветы кое-где проглядывает чистая морская поверхность: замкнутые, бурлящие, вздыбленные озерца. Над самым ухом через равные промежутки взвывает сирена. Порывами налетает ветер, задувая с разных сторон. Едва он стихает и умолкает сирена, слышно гудение буев. Свет их слабо пробивается сквозь пелену тумана. Три еле различимые фосфоресцирующие точки. Ближе — сигнальные огни на башнях двух волноломов, но проку в этом молочном мареве от них тоже мало. И все. А четвертого буя нет. И вообще вокруг ничего и никого.
— В море сегодня никто вроде бы не выходил, — сказал вахтенный в раздумье.
— В эдакую непогоду! — ужаснулся Чечуга при одной мысли об этом.
Взгляд его по-прежнему был устремлен на море. Он обдумывал, в каком направлении плыть. Всякие расчеты в такой обстановке казались бессмысленными, но вслепую пускаться в море и того опасней.
— Ничего не поделаешь, — произнес он как бы в ответ на свои сомнения. — Смотри не смотри, а дело от этого с мертвой точки не сдвинется. — И в последнюю минуту, уже отчаявшись, вдруг увидел боковым зрением то, что искал и ради чего пришел на маяк, — исчезнувший буй. — Глянь-ка туда, — обратился он к вахтенному, направляя объектив на просвет в тумане. — В этой прогалине, а?
— Точно! — обрадовался вахтенный. — Он!
Вскочив, освободил он Чечуге место у подзорной трубы. Но того уже и след простыл. Посмотрев в свой бинокль, боцман помчался на мол, где возле сторожевой будки всегда стоял на причале катер.
— Вы? — глядя на Уриашевича в упор, удивился Чечуга. — А справитесь?
— Я не стал бы навязываться в помощники, — словно оправдываясь, сказал Уриашевич. — Но нигде никого нет ни в управлении, ни поблизости. До войны мне приходилось ходить на моторной лодке. И в последнее время — тоже.
— Видел, — подтвердил Чечуга. — А плавать умеете?
— Неплохо.
— Надевайте спасательный пояс.
За вторым поясом заскочил он в будку, к сторожу — пожилому, бывалому моряку с неизменной трубкой в зубах, потом отобрал у Батурского багор и линь, заявив категорически:
— А вы, Петр, давайте на маяк. Для такой посудины и двух человек больше чем достаточно.
Уриашевичу указал он на среднюю банку, а сам примостился на корме. В открытом море Уриашевич пересядет на его место, а он перейдет на нос, чтобы осуществить свой план. Они вышли в море.
— Итак, носом к волне и держать на буй, — наставлял он Уриашевича, передавая ему руль. — Остальное предоставьте мне.
И тут началось. Но самое страшное было впереди. Миновав башенку волнолома и оставив аванпорт позади, они пересекли фарватер и проскользнули мимо западного буя — точной копии того, что унесло. Бочкообразный, в три тонны весом, бело-красный, чтобы издали было заметно, он раскачивался, как тростинка, посверкивая огнем. Одно из четырех свободно укрепленных на нем бил при малейшем колебании ударяло по колоколу. А при такой волне и ветре колебания были — ого какие. И била колотили со страшной силой. Вблизи звук был резкий, оглушительный. Яркий свет слепил глаза. Четырехметровая тренога буя кренилась, почти ложась на воду и поворачиваясь то к югу, то к северу. Туман влажной плотной пеленою окутывал катер, высокие валы с пенистыми, загнутыми гребнями швыряли его из стороны в сторону, ветер завывал. Раскачивался на волнах буй, но утопленная в песке бетонная плита, к которой он был прикован цепью, держала его на месте.
— Право руля!
Расставив ноги, Чечуга стоял на носу, изредка поднося бинокль к глазам. Линь и багор лежали возле. При сильных толчках бинокль больно ударял по лицу, в объективы хлестало водой.
Так шли они десять, пятнадцать минут, полчаса. Уриашевич старался держать носом к волне. Иногда бросал он взгляд на Чечугу или на чаек, которые спали, спрятав голову под крыло и скользя то вниз, то вверх по волнам.
— Как дела? — оборачиваясь, спрашивал боцман время от времени.
— Ничего, — отвечал Уриашевич.
Им было не до разговоров: Чечуга вел наблюдение, стоя на носу, Уриашевич правил. Повторяемые, сводящиеся к одним и тем же приемам действия их, хотя и однообразные, целиком поглощали внимание.
— Право на борт! Круче!
Их обдало водой. Не в первый и не в последний раз! Болели глаза. Руки одеревенели. Зуб на зуб не попадал.
«И куда этот чертов буй подевался?» — ругался про себя Уриашевич, но на сакраментальный вопрос боцмана отвечал неизменно:
— Ничего, помаленьку!
Приходилось постоянно напрягать слух. Сквозь шум волн, вой ветра, тарахтенье мотора до них долетало гудение буя. Но ориентироваться по нему было невозможно. Едва уловишь, откуда доносится звук, как он уже тонет в общем гуле. И надолго пропадает. Потом слышится опять. И снова смолкает. То с севера долетит, то с юга, то вдруг, неизвестно почему, с востока. То кажется совсем рядом гудит, то очень далеко. За секунду звук словно огромное расстояние проделывает: только что вблизи слышался и вот уже унесся вдаль или наоборот. А это волна на била и на колокол обрушивается, заливая их или стекая, и приглушает звук.
— Вон там, — отнимая приставленную к уху ладонь, показал Уриашевич.
— Лево руля, — скомандовал Чечуга.
И они снова прислушались.
— Левей! Круче влево забирай! Еще круче!
— Опять не слышно ничего! Вот шут его дери! — нервничал Уриашевич.
Вдруг справа на траверзе увидели они буй: бочкообразный, похожий, как близнец, на тот, другой, раскачивался он, точно маятник, в тумане. Фонарь едва мерцал сквозь толстый слой стекающей воды. По той же причине, хотя била с невероятной силой ударяли по колоколу, звук раздавался глухой, стонущий, как со дна морского.
— Осторожно! — крикнул Чечуга. — Тише! Тише!
Они летели к бую, он — на них. Теперь требовались величайшее внимание, хладнокровие, готовность к любым неожиданностям. Дотянуться багром до одного из рымов — колец, приваренных по бокам буя; притянуть его, удержать и продеть канат в рым, не столкнувшись, было немыслимо. Но лишь бы столкновение не вышло слишком сильным. И не в лоб, а под некоторым углом.
— Прямо держи! Прямо!
Ударь буй по борту, он запросто мог перевернуть моторку. И в щепки разнести ее. Тут важно было и расстояние между ними, и положение относительно друг друга, и угол наклона, и сила волны, а все это менялось поминутно. Не облегчали положения и хлеставшая в лицо вода, туман, который то редел, то сгущался, звон — теперь он был совсем рядом, и от него раскалывалась голова. К тому же буй бросало из стороны в сторону, — невозможно предусмотреть, куда его понесет: он ведь не на якоре.
— Вот собака! — бранился Уриашевич.
Чечуга только крепче стискивал зубы. Из-под насупленных бровей глаз почти не видно. Раз десять, казалось, вот-вот достанет багром, но буй ускользал. Легкий, внезапный скачок в сторону, и он опять недосягаем. Багор только скользит со скрежетом по обшивке. Ткнется, царапнет, но безрезультатно. Чечуга совсем из сил выбился. Вдруг буй, резко накренясь, выбил багор у него из рук. Анджей успел его подхватить, и они поменялись с боцманом местами. Но проку было мало. То и дело верхушка буя погружалась в воду, и на поверхность выныривал огромный, круглый зад с напоминавшим хвост крюком, к которому крепится цепь.
— У, чтоб тебя! — изливал в кратком этом восклицании свою ярость Уриашевич после очередной неудачи.
Впечатление, будто перед тобой живое существо, — а в бурю в открытом море это нетрудно себе вообразить, — от усталости еще усиливалось, укреплялось. И Уриашевич с ожесточением наблюдал за неуклюжими, но словно бы преднамеренными движениями этого страшилища. Ни дать ни взять — пьяный, от которого лучше держаться подальше. Раза два рым промелькнул прямо над головой. Верхушка буя зловеще накренилась, но, к счастью, прошла за бортом.
— По башке огреет, и готов! — испугался Чечуга за Уриашевича, который стоял к борту ближе.
— Что за черт?! — недоумевал Анджей, теряя терпение.
Чечуга самую малость до рыма не дотягивался, а он — на добрых полметра. Уж лучше бы на своем месте оставаться. И он снова сел за руль, а Чечуга, расставив ноги, встал на носу. Они то сближались с буем, то расходились. И так много раз. Чечуга прицелился наконец багром: ноги точно приварены к днищу, корпус изогнут, как стальная пружина. Но буй еще раз вышиб у него багор.
— Держи! Держи его! — закричал боцман.
Багор плавал за бортом. Совсем рядом. Выловив багор, Уриашевич вдруг привстал. Сердце у него бешено колотилось. Он молниеносно выпрямился и, перегнувшись через борт, выбросил вперед руку с багром. Потянул — и ощутил тяжесть. Зацепил! Наконец-то! В ту же минуту Чечуга пинком свалил Анджея с ног. Острая боль пронзила его — это багор впился ему под мышку. Не успел он оглянуться, как металлическое острие — самая верхушка треноги — сбило с него фуражку. Но по голове, благодаря тому что он лежал, только царапнуло.
— Черт меня дернул с сопляком связаться! — дал выход пережитому страху Чечуга. — Таким манером бабочек только ловить!
— Я держу его! Вот он!
Лежа на животе, Уриашевич продолжал держать руку за бортом. Вылавливая перед тем багор, не сводил он глаз с рыма, потому и не заметил, как буй накренило в их сторону. Окрик Чечуги даже не дошел до него. Он сознавал только одно: багор попал в рым и он ни за что его не выпустит. И действительно, ему это удалось.
Чечуга подполз к нему, так как качка усилилась. Катер и буй слились на миг воедино. Это Чечуга железной хваткой вцепился в багор. А второй рукой продел трос в рым и оттолкнулся на безопасное расстояние.
— Ну, с этим покончено, — сказал он. — Теперь никуда не денется. — И, привязав канат, поднял глаза на Уриашевича: — А вы-то как? Синяк подставил я вам здоровенный.
— Не беда. Спасибо большое.
Уриашевич хотел протянуть боцману руку, но почувствовал такую боль, что опустил ее, невольно вскрикнув. Рука повисла, как плеть.
— Что? — склонился к нему Чечуга. — Задело?
И, взяв Анджея за локоть, отвел руку в сторону. Куртка и рубаха под мышкой были разорваны в клочья. Весь бок — в крови.
— Это багром меня, когда на нас его бросило, — пояснил Уриашевич. — Руль держать не больно, а вот поднять руку не могу.
— Сухожилие повреждено, — покачал головой Чечуга.
— Ничего, авось заживет, — улыбнулся через силу Уриашевич.
— Конечно, — ответил боцман.
Однако пересел за руль и помог Уриашевичу перебраться на свое место. Сойдясь, они обнялись и подержали друг друга в объятиях чуть дольше, чем нужно было для сохранения равновесия.
Рука у Анджея страшно болела. А Чечуга был словно в темных очках: это бинокль набил ему синяки на лбу, на висках, на носу и щеках. Синяки припухли и саднили.
Между тем, таща буй на буксире, катер медленно подвигался вперед. Входя в аванпорт меж двумя сигнальными вышками на волноломах, услышали они вой сирены. Прислушиваясь к ее жалобным стонам, они обменялись улыбками.
* * *
Отбуксировав буй в закрытую гавань, направились они прямо к управлению. У причала их уже поджидали Биркут и старший матрос Цирус.
Перекинувшись несколькими словами, они вошли в помещение; Биркут и Цирус помогли Уриашевичу привести себя в порядок, а Чечуга умылся тем временем и прижег синяки перекисью водорода. Когда эту бутылку за ненадобностью отставили в сторону, капитан оликсинского порта собственноручно достал другую из шкафчика за столом. Единственную алюминиевую стопку, пошутив по этому поводу, пустили по кругу и выпили трижды. Начинали каждый раз с Чечуги и Уриашевича. Они это заслужили. Водка пришлась очень кстати — не только им, но и Биркуту с Цирусом, которые извелись, поджидая их.
Когда Чечуга собрался уходить, Биркут взял Уриашевича за здоровую руку и подвел к креслу в углу комнаты.
— А ты здесь останешься. Надо врача вызвать.
— Не стоит, — встрепенулся Уриашевич. — Я тоже пойду.
— Сиди и не рыпайся! — рявкнул Биркут. — И не смей уходить, пока наш эскулап не явится. Сделай милость, позвони ему, чтоб пришел поскорей, — попросил он Цируса. — Больных, верно, навещает.
Уриашевич прикрыл воспаленные глаза. И только сейчас ощутил всем своим существом недавно пережитое. Его опять качало. В ушах стоял грохот волн, вой сирены. А Цирус названивал по телефону, называя разные номера. Наконец удалось установить, что доктор закончил визиты и сейчас в городе.
— На Рыночной площади небось, — буркнул Биркут, — в магазине или в библиотеке. А может, пива выпить зашел.
— Я его разыщу, — заверил Цирус. — Никуда он не денется.
— Надеюсь. Он не иголка в сене.
Когда за старшим матросом закрылась дверь, Уриашевич откинулся на спинку кресла.
— Ну, как лапа твоя? — спросил Биркут и подвинул к креслу стоявший в другом конце комнаты стул.
— Положи-ка ноги на него да вытянись, — посоветовал он.
— Чего ты цацкаешься со мной? Разреши мне уйти.
— А разве тебе здесь плохо?
— У меня дела есть.
И с этими словами Анджей попытался встать. Но Биркут взглядом пригвоздил его к месту.
— Сиди смирно! — погрозил он пальцем. — Не то, ей-богу, плохо будет. Возьму вот веревку да свяжу, как поросенка.
— Ты очень любезен, — засмеялся Уриашевич. — Но тебе столько хлопот со мной.
— Хочешь закурить?
— С удовольствием.
С минуту они курили молча. От усталости, недавнего напряжения, выпитой водки у Анджея туманилось в голове, и он блаженствовал, полулежа в кресле. Сказывалась и повышенная температура.
— Говоришь, хлопот много с тобой? — чуть погодя заговорил Биркут. — А я грызу себя, что совсем тебе внимания не уделяю. Ты вон когда приехал, а я все никак не соберусь по душам с тобой поговорить. Дел выше головы, телефонные звонки да совещания замучили, вот и откладываю разговор со дня на день.
— А работой моей ты доволен?
— Сойдет с горчичкой.
Уриашевич перегнулся через ручку кресла, поближе к Биркуту.
— Ты об обещанной работе не забудь, — сказал он. — Больше мне ничего не надо.
— Нет! — возразил Биркут. — Работа работой, а беседа беседой. Это тоже важно.
— Ты воспитательную беседу имеешь в виду?
— Вот именно.
Веселые искорки в блестевших глазах Уриашевича погасли. И голос стал серьезней.
— Ну так считай, что уже поговорил со мной. — Анджей вспомнил день своего приезда в Оликсну. — Когда на собрании выступал. До сих пор твой доклад в ушах стоит.
— Это-то понятно, — отозвался Биркут. — Речь ведь шла о вещах, совершенно тебе неизвестных.
Уриашевич вздохнул глубоко и произнес ясно, отчетливо:
— До такой степени неизвестных, аж стыдно!
Он устал и одновременно был возбужден. Лежать с закрытыми глазами было приятно, но хотелось и поговорить. Ни на минуту не покидавшее его и отравлявшее жизнь чувство стыда вдруг исчезло. Им овладел молодой задор. И недовольство собой, копившееся в душе, прорвалось наружу, и слова смело, откровенно полились с губ, которые уж не кривились больше в горькой усмешке.
— Ты со мной уже поговорил! Но со мной и до тебя говорили и после. — Фраза ложилась за фразой легко и свободно. — Говорили много недель и люди, и обстановка, и работа. Еще до приезда сюда влияли на меня разные факты и разные люди. Но, как видно, я тупица безнадежный, коли в Оликсну приехал таким дураком.
Он опустил голову и помолчал. Но, заговорив, опять поднял ее и, уже не отрываясь, смотрел Биркуту прямо в глаза.
— То, что произошло в Варшаве, было для меня страшным ударом. Дело даже не в поражении, это бы еще можно пережить. А в том, что ты и тысячи твоих сверстников — целый город, миллион людей — оказались ставкой в жестокой, сомнительной игре. Вера была потеряна, а мудрость на смену ей не пришла. Да и откуда ей было взяться? Кто мог наставить на ум? Домашние? Или, может, Леварты, перед которыми благоговела наша семья?
— Кто это?
— Фабриканты. У них отец мой и дядя работали.
— Валяй дальше!
— В те дни я просто возненавидел и близких своих, и весь мир, поступки, самые что ни на есть благородные, вызывали у меня отвращение. Презрение даже. Многие, чья участь схожа была, с моей, стали циниками, впали в отчаяние. Или, как я, в апатию. Я дал себе тогда зарок: никогда в жизни ни во что больше не вмешиваться.
— Чтобы за случившееся отомстить?
— Что-то вроде этого.
— Кому ж ты мстить-то хотел? — спросил Биркут. — Известно тебе, по крайней мере, кому это на руку?
— Известно. Я уже в себе это преодолел. Это пройденный этап.
— А ты уверен?
— Уверен. И теперь мне не терпится упущенное наверстать. Работа — вот что нужно мне.
Биркут взял сигарету, которую отложил, когда Уриашевич стал изливать перед ним душу.
— Ты, братец, вот что еще в толк возьми — и это, пожалуй, главное, — проговорил он. — Дело делом, работа работой, но все это яйца выеденного не стоит, если не устроится жизнь у нас так, чтобы не тянуло больше мотаться неприкаянным по свету. В Варшаве сражался ты неплохо, но не за новое, вот и скрутило тебя так. Сражаться надо ради нового, сознательно трудиться для этого, тогда только победишь. Вот наша цель — цель всех честных людей. Когда она будет тебе ясна, тогда с помощью друзей и дорогу найдешь к ней.
— Постараюсь.
Они помолчали.
— Есть вещи, которых ты никогда, пожалуй, не поймешь, — заговорил первым Уриашевич. — Что бывает, например, такое состояние, когда в дыру какую-нибудь хочется забиться, на край света уехать, так все опостылело. И родина и люди. Ну, ничего не мило. Ты даже отдаленного представления об этом не имеешь.
— Имею. И еще какое, — задрожал от волнения голос капитана. — Не отдаленное, а очень даже конкретное. Известно ли тебе, — спросил он, — что у меня брата убили? После войны уже. — Косые, узкие его глаза на землисто-сером лице и вовсе превратились в щелочки. — Воевал-воевал, а когда отвоевал свободу, выволокли его из машины и застрелили, как собаку. Где просьбами, где криком, а где угрозами раздобыл он малую толику денег для наших родных мест: всегда к ним слабость питал. И, счастливый, возвращался домой. Так вот, деньги отняли, а в сердце — пулю. Думаешь, легко мне было, когда я узнал об этом? — И добавил немного погодя: — Чего скрывать, пал я тогда духом. Что ж! Так уж устроен человек. Но, придя в себя, почувствовал: тверже стал у меня характер.
— А невесты у него не было? — перебил Уриашевич.
Когда Биркут упомянул о брате, в голове у Анджея мелькнула смутная догадка, требуя немедленного подтверждения и мешая слушать.
— Была.
Закрыв глаза, Анджей Уриашевич отчетливо представил себе комнату Климонтовой и на полочке — фотографию под стеклом, с орденскими ленточками в уголке. Вспомнил, как, зайдя в отдел сельскохозяйственных школ, не застал инспекторшу: она уехала, потому что переносили прах ее жениха, убитого два года назад бандитами под Замостьем. У него было чувство: между этими двумя фактами есть связь, и он все старался уяснить какая, но она от него ускользала. И, не ломая больше головы, Анджей спросил напрямик.
— Да, — ответил капитан, услышав фамилию Климонтовой, — это его невеста. — Он задумался, подперев голову рукой. — Испортил ей жизнь, — вырвался у него вздох. — А ведь заслуживала счастья. И достойна была такого жениха. Как и он ее. Из-за нелепой этой смерти все прахом пошло.
Анджей подумал о поручике Кушеле, убитом в Мостниках. И о том, как подействовала тогда на него эта смерть. Была она тоже звеном в цепи событий, благодаря которым стал он тем, кем стал. С бьющимся сердцем, преодолевая смущение, поделился он с Биркутом своими мыслями.
— Смерть твоего брата, — дрожащими губами произнес он, — способствовала, может быть, и чьему-то прозрению.
— Слабое утешение, — понизил Биркут голос почти до шепота. — За прозрение таких вот слепцов платить кровью лучших наших сыновей…
Движимый состраданием, Уриашевич хотел вскочить и подбежать к нему. Но рука резкой болью напомнила о себе. И он только втянул воздух сквозь стиснутые зубы.
— Ты что это, старик, вытворяешь! — прикрикнул Биркут с напускной суровостью. — Сиди-ка смирно.
И, сам подойдя к Анджею, потрогал ему лоб. Потом шагнул к окну, поглядел.
— Ветер стих, — сообщил он. — Но, похоже, знатный дождина собирается.
Он замолчал. И долго стоял спиной к Анджею, пристально всматриваясь в предвещавшую дождь серую мглу за окном. Но когда вернулся к письменному столу, глаза его, как обычно, излучали спокойствие. Он протянул руку к груде бумаг.
— Вот дилемма, — сказал он, потрясая пачкой писем. — Разговариваешь — работать некогда. Работаешь — некогда разговаривать.
— Наговоримся вволю, когда порт восстановим, — выразил надежду Анджей.
— Боюсь, что нет, — ответил Биркут. — Сдам порт и на другую работу перейду.
— Как? У тебя порт отнимут? Твое детище? — не поверил Анджей своим ушам.
— Он, видишь ли, у меня вроде как незаконнорожденный младенец у девицы, — снова зазвучали бесшабашно-веселые нотки в голосе Биркута. — На воспитание придется, приличия ради, в другие руки отдать.
— Но это же немыслимо!
— А как быть? Ведь я начальник порта по недоразумению. На время восстановления, на стадии начальной, партизанской еще кое-как гожусь, потому что инженер. Но, если говорить всерьез, для нормальной работы здесь требуется прежде всего человек, который смыслит в навигации.
— Назначат нового кого-нибудь?
— Думаю, министерство назначит на мое место Чечугу, — предположил Биркут. — Мужик он опытный и моряк что надо, свое дело знает.
— А ты?
— Мне тут, в Оликсне, довелось малость подзаняться. Вспомнил кое-что из того, что война вышибла из башки. Поработал над собой. Партия считает, в вузе я больше пользы принесу.
— Кафедрой будешь заведовать?
— Ну, не сразу, — засмеялся Биркут. — Со временем, может быть. И, в свою очередь, стал расспрашивать Анджея о планах на будущее.
— Это долгий разговор, — сказал Уриашевич.
— А коротко если?
— Институт закончить хочу… — Он поколебался. — В Варшаве.
— А почему тебе в Гданьск не податься? Как-никак ты уже связал свою судьбу с морем.
— У меня в Варшаве девушка, — слегка покраснел Уриашевич.
— Ну что ж, пробудешь здесь лето, подучишься. А осенью в Варшаву переберешься.
— Я так и хотел.
— Постараюсь тебе кое в чем помочь.
— Я и так перед тобой в долгу. И перед всеми вами.
Тут дверь тихо приоткрылась, и в комнату робко заглянул какой-то человек. Биркут не сразу сообразил, кто это.
— Мне передали, что вы за доктором посылали, капитан, — послышался незнакомый Анджею звонкий голос. — Я к вашим услугам.
— Ах, это вы, господин эскулап. Заходите, заходите! — Биркут встал из-за стола и поздоровался. — Ну как, устроились уже? А дети довольны?
— Чересчур даже! Чуть дом не разнесли.
Слова эти напомнили Анджею, что сегодня утром прибыла в Оликсну первая партия детей. Портовики успели-таки отремонтировать в свободное время дом к сроку. Детей должен был сопровождать только окончивший институт молодой врач, — поездка была для него заодно отдыхом и практикой. Это он и был. Как выяснилось, он встретил на Рыночной площади сослуживца Биркута, с которым тот приходил встречать детей на вокзал, и от него узнал, что в управлении порта кто-то ранен.
— Вот ваш пациент, — указал капитан на Уриашевича и подошел к телефону. — Да, доктор пришел как раз, — сказал он в трубку. — Спасибо, Цирус.
Осмотр продолжался недолго. Картина была ясна: задето сухожилие. Кроме бинтов и йода из подсобной аптечки, ничего больше не понадобилось. И два дня дома посидеть — только и всего.
— Как самочувствие? — спросил доктор у Анджея.
— Отличное!
— В таком случае пусть три дня дома сидит, — вмешался Биркут. — А то, чего доброго, явится в порт и натворит бед с этой своей культяпкой. Он, доктор, парень лихой!
Убрав лекарства, ножницы и остаток бинтов в белый шкафчик, доктор подал руку сначала Уриашевичу, потом капитану. И уже совсем собравшись уходить, вспомнил что-то.
— Ведь завтра, капитан, — поднял он палец, — у нас костер по случаю приезда.
— На Замковой горе?
— Да. Приходите обязательно.
— Приду! Приду! — пообещал Биркут. — Весь порт придет. И из города тоже.
— Только пациента моего не будет, — обернулся доктор к Уриашевичу. — Придется дома посидеть.
— Что же делать, коли угораздило меня как раз под воскресенье, — трунил Анджей над собой.
После ухода врача Биркут стал поторапливать Анджея.
— Дуй-ка ты, парень, домой да ложись в постель. — Наклонив голову, он посмотрел в окно. — Не то под дождь попадешь.
На улице холодный воздух хлынул в легкие. Ветер, раскачивая ветки кустов и деревьев, шелестел листьями. Уриашевич ускорил шаг. Но метрах в двухстах от дома его все же настигли первые капли дождя. Утираясь, размазывал он их по лицу, по разъеденным морской водой и запекшимся от жара губам. Его била дрожь. Лицо горело. Вдруг все хляби небесные разверзлись, и хлынул ливень. Он побежал, не разбирая дороги, в каком-то странном, необычном состоянии. Рука нестерпимо болела от быстрого бега. И досада разбирала, что вот он прикован теперь на несколько дней к дому. И в то же время его переполняло блаженство. На душе было тепло, словно внутри пылал животворный огонь.
— Эй! — услышал вдруг Анджей сквозь монотонный шум дождя.
От неожиданности он даже поскользнулся.
— Что такое? — оторопел он. — Кто здесь?
— Я, — повторил тот же голос. — Ну я же.
На расстоянии руки вырос перед Анджеем человек. Он стоял под дождем и молчал. Уриашевич все еще не узнавал его.
— Это я, ну я же, — как только мог тихо произнес незнакомец. — Хаза. — И вплотную приблизил к Уриашевичу свое лицо, уставясь на него неподвижными, близко посаженными глазками. — Конрад арестован.
Анджей ощутил на губах его дыхание.
— Мой дядя?
— Твой дядя.
— Ну и что? — недоуменно поднял брови Анджей.
— Арестован, пойми, — сказал Хаза, вздрогнув. — И ему уже не выпутаться.
— Почему? Что случилось?
— Всех забирают подчистую.
— Старая песня! — вспыхнул Анджей. — Вздор!
Глаза его загорелись гневом. Откровенным, неумолимым. Секунда, другая прошли в полном безмолвии. Наконец Хаза отпрянул от Уриашевича.
— У вас же одна фамилия, — не сдавался он. — Вот я и решил тебя предупредить.
— Напрасно трудился. С дядей Конрадом у меня ничего общего нет, — ответил Уриашевич. — Однако рассуждать здесь что-то мокровато. Пошли в дом. — Но у двери он спросил Хазу: — А к тебе это какое имеет отношение?
— Никакого, — ударил себя Хаза в грудь кулаком. — Вот тебе крест, никакого. — И неестественно засмеялся.
Страх, вызванный грозной для него новостью, уступил место настороженности при виде явной перемены, которая произошла с его приятелем.
— Чего задаешься? — сказал он.
— А ты чего трусишь?
— Я? Да бог с тобой! — уверенно, без запинки говорил Хаза. — Человек только с дороги, устал, а тебе невесть что в голову лезет.
— Входи, — отворил дверь Уриашевич.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Ванда Уриашевич шла по солнцепеку. Она запыхалась, глаза у нее застилало. На левом рукаве пестрого платья чернела широкая траурная повязка. С темно-синей соломенной шляпки свисала сзади черная вуаль. За спиной же болтался неизменный рюкзак, только в тот день довольно тощий. Тем не менее он оттягивал плечи гораздо сильнее обычного. Выйдя от сестер-грегорианок, Ванда взяла было его в руки, потом под мышку, потом — опять в руки. Нести рюкзак за спиной, когда ты в трауре, казалось ей неприличным. Но усталые руки совсем занемели, из-под мышки он тоже выскальзывал. И пришлось в конце концов надеть его на спину. Была не была!
Все равно одно только звание, что траур! Ни платья, какое полагается, ни чулок черных, ни черных туфель. Шляпы подходящей и той нет. Вместо полного траура — всего два метра крепа и то на двоих с Тосей. Ни «Caritas», ни сестры-грегорианки не смогли ничем помочь. Или не захотели, кто их знает. Милосердие капризно. Даже в лучшие времена с замиранием сердца приближалась Ванда к его вратам. А теперь положение изменилось к худшему. Хуже, кажется, и некуда.
Ванда остановилась: оглядеться, где она. Как-то так получилось, что после войны ни разу не пришлось ей бывать в этих местах. Здесь тоже строили. С лесов доносились крики. Земля от гигантских бетономешалок сотрясалась. Но Ванда даже в спокойном состоянии не обращала внимания на подобные вещи. А сегодня — и подавно. Взглянула только на номер дома и поплелась дальше. Идти еще порядочно. Здесь начало улицы, а нужный дом — на другом конце.
Но вот она позвонила у дверей. В приемном покое ей дали нужные сведения. На лифте поднялась она на указанный этаж. Однако отыскать палату в темном коридоре удалось не сразу. А отыскав, она немножко постояла перед дверью. Еще немножко, еще. С сердцем нет никакого сладу.
— Вы к пани Дюрсен?
Обернувшись, она увидела устремленные на нее глаза. Потом различила в полутьме чепец с красным крестом. Но не на чепец, не на белый крахмальный фартук воззрилась Ванда. Как завороженная, смотрела она на поднос с ампулами, шприцами, иглами, пузырьками в руках сиделки. У Ванды при виде такого изобилия болезненно сжалось сердце. Все хлопоты, все заботы ожили в ее памяти. Тысячи ухищрений припомнились, и прежнее беспокойство нахлынуло из-за этих нескончаемых нужд, теперь уже навсегда отпавших.
— Я родственница ее. С печальным известием к ней, — промолвила Ванда, притрагиваясь к трауру на шляпе. — Мама, — пролепетала она, запинаясь: с тех пор как это с младенческих лет привычное слово перестало обозначать живого человека, она не могла без дрожи в голосе произнести его. — Мать.
Склянки на подносе задребезжали.
— Мать больной и моя, — подумав, именно так сочла нужным выразиться Ванда.
— Может быть, с доктором сначала посоветоваться? — полувопросительно заметила сиделка.
— С ней говорили уже, — сказала Ванда. — Вчера наша соседка подготовила больную к возможности такого исхода.
— Ее выпишут скоро, — невзначай обмолвилась сиделка.
Ванда никак не отозвалась на это.
— Врачи сделали все возможное, — продолжала седенькая сестра. — Хотя до полного выздоровления еще очень далеко. Подвижность некоторых суставов у пани Дюрсен ограничена до такой степени, что сейчас она еще полуинвалид. Годы могут пройти, прежде чем наступит улучшение.
— Простите, я тороплюсь, — кивнула сиделке Ванда Уриашевич, не желая ничего про это слышать, и открыла дверь палаты.
Не поднимая глаз, стоя вполоборота к Иоанне, чтобы не глядеть на нее, попыталась она заговорить. Но сочиненное вдвоем с Тосей высокомерно-холодное вступление вылетело у нее из головы. Надлежало начать с того, что они с сестрой, не взирая на прошлое, сочли неудобным передавать это грустное известие через посторонних.
— Присядь, — попросила Иоанна.
Ванда села, как привыкла сидеть возле больных. На краешке постели, в ногах. И подняла опущенные веки. Все закружилось у нее перед глазами: эти золотистые волосы и бескровные губы, эта белизна и бледность, этот прямой, испытующий взгляд — знакомый и незнакомый одновременно, как во сне: упорно преследующий, не дающий покоя, мучительно кого-то напоминающий.
Она молчала, поджав губы. Прошла минута, другая. Иоанна, тоже не проронив ни слова, с трудом дотянулась до черной вуали на шляпе сестры и перебирала ее пальцами.
— Когда? — первая нарушила она молчание. — Скажи.
И закрыла глаза. Ванде стало от этого легче. Но говорить все равно было трудно. Теперь она смотрела на Иоанну, не в силах отвести глаз от ее лица. Слова застревали у нее в горле. Никак не удавалось сосредоточиться.
— А меня она вспоминала? — вернул Ванду к действительности голос Иоанны.
— Да, — прозвучал на этот раз твердый ответ. — Одну только тебя.
И Ванда присовокупила к своим словам кисло-сладкую сентенцию, которая служила им с Тосей утешением и которой в минуты ожесточения укоряли они при жизни мать.
— Новое сито на колышек, а старое — под лавку! — фыркнула она. — Сама знаешь!
— Перестань! — Не слова покоробили Иоанну, а как они были сказаны. — Перестань!
— Легко тебе говорить: «Перестань».
— А ты все только злишься да злишься.
— А на что еще можешь ты рассчитывать? — спросила Ванда ледяным тоном. — Ничего другого ты и не заслужила.
Но лед растаял, когда невзначай увидела она локти и полусогнутые колени сестры. Взгляд ее, скрестясь во время этой короткой перепалки со взглядом Иоанны, мимолетно скользнул по ним, и она уже не могла его отвести. При виде этих обложенных толстым слоем ваты, укутанных фланелью суставов в сердце Ванды вновь ожило горе. Эти огромные, легко различимые под одеялом выпуклости, чью мягкость она словно бы ощущала — недаром столько лет ухаживала за тяжелобольной, — вновь воскресили в ее памяти недавнюю неусыпную опеку над матерью, хотя и не совсем такую, как уход в больнице.
— А как с сердцем у тебя? — сорвалось помимо воли у Ванды с плотно сжатых губ.
— Неважно.
— Серьезное что-нибудь?
— Такие болезни, как моя, серьезно на сердце не отражаются. — Знакомая по прежним годам ироническая улыбка мелькнула на губах Иоанны. — Сердце, как выражаются медики, вне опасности!
Руку больной балерины словно притягивала к себе черная вуаль. Подсунув под нее пальцы, рассматривала она их, исхудалые, зловеще безжизненные под этой пеленой.
— Вот для чего я вернулась, — прошептала она. — Чтобы умереть здесь.
— Что за глупости, — возразила Ванда, как принято в таких случаях.
— Там плохо болеть. И умирать плохо.
— Зато жить хорошо!
— Оставишь ты этот тон?
Тихий низкий голос Иоанны, как и все в ней, попеременно вызывали у Ванды любопытство и раздражение. От одной крайности переходила она к другой: то слушала с жадностью, глаз не могла от сестры отвести, то становилась черствой, безучастной. Мысль о Тосе гнала ее отсюда. И она убежала бы без оглядки. Но нелегко встать, когда сидишь вот так, в ногах у больной.
— Коли так, — проговорила Иоанна с горечью, — послушай, чем была моя жизнь.
Она заколебалась. Даже себе не признавалась Иоанна в том, в чем собиралась признаться сестре. Обманывала себя. Обманывала других. В особенности имевших слабое представление о загранице. И особенно молодежь, которая вообще никакой жизни не знала.
— Мгновенной ослепляющей вспышкой, — сказала она наконец. — Испытать такое можно в шестнадцать лет повсюду, на любой географической широте. И сплошным, нескончаемым мраком, когда судорожно, с усилием, со смертельным напряжением хватаешь ртом воздух, чтобы не утонуть. Не пойти ко дну.
Сердце у Ванды сжалось.
— А говорили, ты пользуешься там огромным успехом.
— Это тоже была только вспышка, — вырвался вздох у Иоанны. — Я покорила Париж. На один сезон. А в следующем уже наскучила. Ты даже не представляешь, как мал и тесен на самом деле тот огромный мир, откуда я приехала. Раз увидели — и уже что-нибудь новенькое подавай. Там каждый вечер жаждут новых зрелищ. И если хочешь удержаться на поверхности, каждую ночь рассказывай новую сказку, иначе конец тебе. А не придумаешь ее вовремя, будешь отвергнута. Напрасно станешь ты мыкаться, из одного театрика переходить в другой, от антрепренера к антрепренеру, от мужчины к мужчине, рекламируя себя бесстыдно, унижаясь, соглашаясь на разные экстравагантные трюки, — ничего тебе не поможет. Ты уже обречена.
* * *
Услышав звонок, барон Дубенский, который сидел за столом и проверял счета, вскочил и в мгновение ока оказался у двери. Он стал еще живей и проворней и со вчерашнего дня без промедленья реагировал на все звонки в квартире исчезнувшего Хазы. Целая ночь, день и еще ночь прошли с тех пор, как Дубенский видел Хазу, с которым был в последние месяцы неразлучен.
— Здесь проживает гражданин Хаза?
Лишь на какую-то долю секунды Дубенский утратил дар речи, увидев перед собой трех мужчин — военного и двух штатских.
— Увы, поименованный отсутствует, — высоко подняв брови, проговорил он с показным сожалением.
У него потребовали документы. Он предъявил справку об освобождении из тюрьмы. Из угла, куда велели ему сесть, отпускал он время от времени замечания, которых пришельцы, однако, не оценили, — они им, видно, даже мешали, так как его попросили помолчать. Ничего другого не оставалось, как наблюдать за обыском.
— О, стоит ли драгоценное время тратить на мою жалкую писанину, — любезно и слащаво заметил барон, когда штатские наклонились над разбросанными бумагами.
Они не ответили.
— Вам дым не помешает? — спросил он спустя минуту.
Один из штатских, не глядя, махнул рукой. Он принял это за разрешение и сунул в рот сигарету.
— Квартиру эту я знаю как свои пять пальцев. Может, помочь вам в ваших поисках? — покурив, предложил он.
Страха он не испытывал. Просто соображал, есть ли связь между исчезновением Хазы и обыском. Вряд ли причиной ареста компаньона могла послужить его недавняя легализация. За такое короткое время не обнаружишь пробелов и неувязок в данных им показаниях. За себя он не волновался. Покойники не донесут, а единственный, кто мог бы это сделать, у него в руках. Прошел час. Попросив позволения пересесть со стула на диван, барон развалился поудобней — не только из желания порисоваться, а и от усталости.
Через некоторое время раздался стук в дверь, и он вскочил по привычке. Но открывать ему на сей раз не пришлось. Женский голос осведомлялся о Хазе. Он вытянул шею: не терпелось узнать, кто это. В щелку увидел он женщину среднего роста и средних лет. С рюкзаком за спиной, с крепом на шляпе и черной повязкой на рукаве пестрого платья. Он не знал Ванды Уриашевич, которая после визита к Иоанне, не взирая на поздний час и рискуя вызвать недовольство Тоси, отложила дела и решила еще сегодня с помощью Хазы (это избавляло ее от нежелательной встречи) исполнить неприятную обязанность — известить Конрада о смерти матери. У нее проверили документы и тоже задержали. До окончания обыска. Потом один штатский заглянул в рюкзак, другой задал несколько вопросов, и она была свободна. Убедившись, что между задержанными в квартире делаются различия, Дубенский вспотел — впервые после прихода милиции.
Во второй раз отер он лоб, когда его стали обыскивать. И в третий, когда ему задали несколько вопросов. Один-два, не больше! Видно, допрашивать обстоятельней было не место и не время. В четвертый раз прошиб барона пот, когда он услышал:
— Вы, гражданин, пойдете с нами.
— Дайте мне стакан воды, — попросил он.
Но когда воду принесли, пить не стал под предлогом, что она теплая. Из коридора, где они стояли, до раковины на кухне был один шаг. Он отвернул кран и пустил струю воды. И пока она лилась, краем глаза наблюдал, удастся ли привести в исполнение план, который давно вынашивал на такой вот случай. Что дела его плохи, сомнений нет. Нескольких слов было достаточно, чтобы понять: преступления под Живцем и особенно тяжкие — под Замостьем, которые удалось скрыть от суда, выплыли наружу. Это ясно, хотя совершенно непонятно, кто его мог выдать.
— Сейчас, сейчас, — твердил он, подставив палец под струю, словно проверяя, достаточно ли она холодна. — Сейчас, сейчас.
Наконец налил стакан и, отступя к окну, поднес его к губам.
— Жарко сегодня, — проговорил он. — Вот и хочется холодненького чего-нибудь.
Он пил, зажмурясь, но глаза из-под длинных ресниц так и зыркали по сторонам. Наконец подходящий момент выбран. Опершись рукой, вспрыгнул он на подоконник. Обернулся. Собирался сказать что-то, сострить, бросить им в лицо хлесткое, язвительное словцо, колкость какую-нибудь. Порисоваться хотел перед ними. Дать понять, что давно уже готов к тому, что произошло и произойдет через минуту; давно решил: если ему будет угрожать тюрьма, сопротивляться всеми возможными средствами — вплоть до самоубийства.
Но на разговоры времени не было. Он успел только прыгнуть. Как с трамплина, с прижатыми к бокам руками, выпрыгнул из окна и, описав в воздухе полукруг, головой вниз рухнул с пятого этажа на мощеный двор.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Збигнев Хаза толком даже не знал, что предпринять для своего спасения. Из Варшавы примчался он, окрыленный надеждой. Не потерял ее и во время краткого разговора с Анджеем под дождем. Но сделал вывод: за дело браться надо осторожно, с умом.
На кухне, за чаем, и потом наверху, в комнате, где Анджей уступил ему свою кровать, многое прояснилось. На Уриашевича, решил Хаза, рассчитывать нечего.
И поэтому отмалчивался. Только вопросы задавал, чтобы поддержать разговор, да слушал, так и сверля своими маленькими глазками Уриашевича. Крупными жилистыми руками в нервном возбуждении стискивал он колени. На вопрос, каким ветром занесло его в Оликсну, промямлил: каникулы себе, дескать, устроил. Странные, однако, это были каникулы, потому что тут же он проболтался, что планов у него никаких нет и сколько он у Анджея пробудет, неизвестно. Был он немногословен. И с каждой минутой становился все сдержанней. Даже Анджей, хотя у него был жар и мысли были заняты другим, обратил на это внимание и отпустил какое-то замечание насчет его неразговорчивости. Но тот отговорился усталостью. Они легли спать.
Первым проснулся Хаза. Спал он как убитый. Ни разу еще после того, как узнал он об аресте Конрада, сон его не был так крепок. Вдали от Варшавы спалось явно спокойней. Но сколько это продлится?
Услышав щебет птиц за окном, Хаза очнулся и сел в постели. Оглядел комнату, где провел ночь. И, сообразив, что он в Оликсне, почувствовал себя легко. Сладко потянувшись разок, другой, третий, увидел он у противоположной стены раскладушку, которую наполовину загораживал стол. А на раскладушке, взятой вчера внизу, — Анджея. Задумчивым взглядом уставился Хаза на спящего, и руки его бессильно упали на одеяло.
Наконец он встал. Оделся, спустился на кухню. В этот час внизу никого уже не было. Хаза покрутился на кухне, заглянул в комнату Зандовой. Потом вышел в сени. Он изучал обстановку. Но того, что искал, не находил. Из сеней наружу вела дверь. Она оказалась заперта и не на крючок или засов, а на ключ. Он поискал глазами, нет ли ключа где-нибудь на гвозде. Ключа не было. Тогда Хаза шагнул к окну и даже открыл его, собираясь вылезти, но раздумал. Еще заметит кто-нибудь, шум подымет: ведь здесь его никто не знает.
И он вернулся на кухню, а оттуда пробрался потихоньку наверх. Уриашевич, приоткрыв рот, лежал на боку лицом к стене. В той же позе, в какой Хаза оставил его четверть часа назад. На стуле возле раскладушки висела одежда Анджея. Хаза протянул руку и чуть было не похлопал по карманам, проверить, не там ли ключи. Но вовремя спохватился: они могли звякнуть. Тогда он запустил руку в карман и одновременно боковым зрением увидел ключ на столе. Прикинул на глаз, — пожалуй, великоват, но прихватил на всякий случай. А вернувшись к стулу, обнаружил ключи на никелированном кольце в кармане брюк — один поменьше, другой побольше. С добычей в руках на цыпочках прокрался он в сени и выбрался наконец во двор.
Первым делом обошел вокруг дома. Потом вдоль и поперек обследовал небольшой садик. Затем поляну. Возле каждой груды развалин останавливался. Совал нос в разрушенные постройки. И тут постоит и там. Каждый домик, в котором жили, пока не разбомбили поселок, привлекал его внимание. Но ни один не удовлетворял. Выражение лица у него по-прежнему было настороженное. Напряжение не ослабевало. Он бросал по сторонам быстрые взгляды. Мысль его усиленно работала. День был ясный, на небе — ни облачка, море — спокойное; погода стояла прекрасная. Но Хазу это мало трогало. Он поглощен был поисками. Глазки его перебегали от постройки к постройке. Но едва останавливались на чем-нибудь, как он тут же качал головой. Того, что нужно, не находилось. Ни каморки подходящей, ни закутка. Столько разрушенных, покинутых жилищ — и абсолютно ничего сто́ящего.
Другой бы на его месте давно отчаялся, но Хаза был не таков. Объяснялось это не упорством, а просто глупостью. И всегда-то он туго соображал, а сейчас, обуреваемый беспокойством, и подавно. Судорожно цеплялся он за первоначальный свой план, хотя возможностей для его осуществления не было.
Приуныв, покинул он поляну и углубился в лес. Тут внимание его привлек орешник. И опять не то! Редковат. Не спеша прошел он еще метров сто и неожиданно вышел к морю. Берег был здесь обрывистый. Воздух кристально чистый. Видимость отличная. Он устремил взгляд в пространство. Внизу резвились чайки. А далеко-далеко на горизонте виднелось судно. Хаза проводил его взглядом, пока оно не скрылось в голубоватой дымке. И выругался. Потом присел под ближайшим деревом, вынул из кармана блокнот и углубился в чтение. Но, видно, не вычитал ничего утешительного, потому что, закрыв его, помрачнел еще больше.
Лишь на обратном пути вернулось к нему хорошее настроение, когда, свернув с дороги, наткнулся он в лесу на бомбоубежище. При виде его он остолбенел от неожиданности. Но на секунду, не больше. Охваченный возбуждением, осмотрел он сидящее глубоко в земле сооружение из бетона, потом спустился вниз по ступенькам. Перед массивной, окованной железом дверью с бетонным навесом остановился. И в следующее же мгновение ключ, на всякий случай прихваченный из комнаты Анджея, уже торчал в замочной скважине. А когда он свободно, без усилий повернулся, сердце у Хазы запрыгало от радости.
— Ну что, — засмеялся он, — есть у меня нюх или нет?
Однако радоваться особенно было нечего. Нашлось, правда, то, чего он искал, но пригодиться это могло лишь в случае, если дело примет нежелательный оборот. Обезопасить себя от непредвиденных осложнений — еще не значит спастись. А ведь главное — это спасение.
Он положил ключ в карман и погрузился в раздумье. В рассеянности миновал Хаза лесную опушку и разбросанные по одичавшим садам остатки домов. Опомнился, только увидев Уриашевича, который, понурясь и закрыв глаза рукой, сидел в кухне за столом. Затаив дыхание, уставился на него Хаза. На чудно́го этого Уриашевича, чье поведение еще при встрече показалось ему странным, а еще больше удивило, каким он тоном говорил вечером о работе, о своих товарищах, о порте. В его присутствии Хазе было не по себе.
— Что, задремал? — подходя ближе и просовывая голову в окно, спросил он тихонько.
И тут, к неудовольствию своему, увидел на столе перед Уриашевичем телеграмму. Ничего хорошего это не сулило.
— Ты что, спятил? — встрепенулся Уриашевич при звуке его голоса и, не ответив на вопрос, сказал сердито: — Шаришь по чужим карманам! Запираешь меня!
Хаза покраснел.
— Пройтись захотелось, — пробормотал он, — а оставлять дверь открытой я не решился. — Он отпер ее и, положив ключ на стол, указал на телеграмму: — Хорошие вести или плохие?
— Прочти, — протянул ему Анджей только что полученную телеграмму, в которой сообщалось о бабушкиной смерти.
— О! — вскричал Хаза, и в его близко посаженных глазках появилось испуганное выражение. — Поедешь?
— Нет, — ответил Уриашевич.
— Не поедешь на похороны? — забеспокоился вдруг Хаза. — Почему?
Приняв было к сведению ответ Уриашевича и успокоясь, он опять переполошился, не понимая, чем это решение вызвано.
— Что, с работы не отпустят? — допытывался он.
— Я и так сейчас на работу не хожу, — ответил Анджей с раздражением. — Сижу вот дома, бью баклуши.
— Тогда в чем же дело?
— Есть у меня на то причины.
Руки у Анджея слегка дрожали, когда он складывал и прятал в бумажник телеграмму. Боясь, как бы в дороге не стало хуже, решил он никуда не ездить. Острая боль при малейшем неосторожном движении убеждала: молодой врач и Биркут не зря говорили, что руку надо беречь, иначе болезнь осложнится. А этого ему как раз и не хотелось. Сердце, разум, нервы, давние счеты с самим собой — все властно требовало в эти горячие для Оликсны дни быть на своем посту.
— Есть у меня на то причины, — повторил он. — Бабушка меня поняла бы.
— Да ты обо мне, пожалуйста, не беспокойся. Забудь о моем существовании, поступай, как находишь нужным.
Любезность Хазы продиктована была не столько благовоспитанностью, сколько желанием испытать Уриашевича.
— Ладно, — бросил Анджей небрежно.
Но забыть о госте ему не удавалось. После завтрака Хаза объявил, что пойдет осматривать город и, конечно, заглянет в порт, а Уриашевич прилег у себя наверху; но стоило ему закрыть глаза, как перед ним вставал Хаза. Чем дольше он лежал, тем тревожней становилось на душе. Он все старался представить себе, что делает кузен. И какая-то смутная, неотвязная мысль не давала ему покоя. Так или иначе, думал он, спокойней бы не спускать с него глаз.
Он пытался взять себя в руки, памятуя про данное Биркуту обещание не выходить. К тому же Анджей знал, — к чему обольщаться? — стоит ему только последовать за Хазой, и он будет ходить за ним по пятам, пока тот не уедет из Оликсны. Так и не удалось ему разобраться в своих ощущениях, отдать себе отчет, есть основания для беспокойства или виной всему просто нервы и небольшой жар. Да и полученное известие выбило из колеи, как тут можно здраво рассуждать.
Спустя час, сам не зная, правильно ли поступает, он вышел все-таки из дома.
«Что-то подозрительное есть в этом внезапном приезде, — оправдывался перед собой Анджей, торопливо шагая аллеей, по которой ежедневно ходил в порт. — Лучше не выпускать его из виду».
— Анджей! — Густой бас Биркута заставил Уриашевича мгновенно остановиться. — А я как раз к тебе.
Участливый голос и необычно сердечное рукопожатие удивили Уриашевича. Но еще больше удивили его слова Биркута: приписать их только тому, что в Оликсне, как в любом маленьком городишке, все быстро становится известным, было нельзя.
— Тебе и в самом деле лучше не ехать, — заявил Биркут. — Это ты правильно решил.
— А откуда ты узнал?
— Как откуда? — Теперь Биркут, в свою очередь, посмотрел на Анджея удивленно. — Ты же своего кузена присылал.
— Где он? — спросил только опешивший Анджей.
— Понятия не имею.
Хаза оказался в порту. Расставшись возле управления порта с Биркутом, который посоветовал ему возвратиться и лечь в постель, Анджей наткнулся у сторожевой будки на Хазу; тот внимательно разглядывал катер.
— А, вылез из постели, — такими словами приветствовал он Уриашевича. — Это хорошо.
— Кто тебя просил соваться к капитану? — оборвал его Анджей. — Чего тебя туда понесло?
— Так, зашел из любезности. А отчасти со скуки. В Оликсне этой иначе и делать нечего.
Маленькие его глазки не отрывались от моторки. Даже разговаривая с Уриашевичем, он все косился на нее.
— Может, пройдемся немного? — предложил Уриашевич.
— С удовольствием, — обрадовался Хаза. — Здесь, по порту!
— Не так-то это просто, — ответил Уриашевич. — И работающим мешать будем, и боцман наш не любит пропуска давать.
— Ну хоть по молу.
— По молу изволь, — согласился Уриашевич. — Но разве тебе интересно?
— А как же, — заверил его Хаза и спросил: — У вас что, один только катерок?
— Один, к сожалению.
— И неважнецкий.
— Да нет, ничего, — возразил Уриашевич. — Вполне своему назначению отвечает.
— А в открытое море на нем можно выходить?
— А какая нужда. Мы все здесь, в порту, крутимся. Самое большее к внешнему рейду подплываем.
— А к примеру, до Устки там или Дарлова доплыл бы ты на нем?
— Сегодня — наверняка.
— Почему именно сегодня?
— А посмотри, штиль какой.
Хаза взглядом последовал за его жестом. Лазурная, безупречно чистая даль приковала на миг его внимание.
— А сколько такая погода продержится? — поинтересовался он.
— Дня два-три.
— А до Устки или Дарлова миль двадцать, наверно, не больше?
— Не больше.
— Любопытно. — Катер не давал Хазе покоя. — А сколько на таком вот в час можно выжать? Семь? Десять?
— Что ты! — сказал Уриашевич. — Максимум пять.
Удовлетворясь этим ответом, Хаза замолчал. Он вообще становился все неразговорчивей. Но, когда кто-нибудь подходил к Уриашевичу поболтать, заметно оживлялся. Вмешивался, перебивал, угощал сигаретами. Но больше всего раздражало Анджея, что всякий раз норовил он под руку его взять или обнять по-свойски.
Никакими силами не удавалось увести Хазу с мола. Все доводы Анджея пропускал он мимо ушей. И возвращение всячески оттягивал. Вопросы он задавал, в сущности, невинные. Ни один в отдельности не вызывал подозрений. Но, вместе взятые, они настораживали. Даже в том интересе, какой проявил он к костру на Замковой горе, куда собирался весь порт и весь город, было что-то неприятное. И сам молодой врач, подошедший к своему вчерашнему пациенту осведомиться о здоровье, не мог насытить жадного любопытства Хазы.
Так провели они несколько часов — в порту и в ресторане, куда Уриашевич пригласил Хазу пообедать. Присутствие Хазы невыносимо тяготило Уриашевича. Загадочный его приезд и все поведение действовали Анджею на нервы. О прошлом Хазы он, собственно, толком ничего не знал, хотя догадывался, что это за тип и откуда вся эта таинственность. Ничего такого, к чему можно бы придраться, в Оликсне Хаза не совершил, но Анджея не покидало инстинктивное чувство, что положение серьезней, чем кажется, и что добром это не кончится.
— А теперь и вздремнуть не грех, — громко зевая, проговорил Хаза. Давала себя знать выпитая водка: скованность, не покидавшая его с самого приезда, исчезла. — Тебя устраивает такое предложение?
— Вполне, — произнес Уриашевич. — Тогда пошли.
— Погоди, я хотел спросить тебя кое о чем, — задержал его Хаза и безо всякой связи с предыдущим поинтересовался: — А с «Валтасаровым пиром» как ты решил?
— Любичу передам.
— Окончательно и бесповоротно?
— Бесповоротно, — отрезал Анджей.
— Почему же ты не написал ему до сих пор?
— Потому что лично хочу этим заняться, когда в Варшаву вернусь, через месяц, самое позднее через два, — объяснил Уриашевич. — Только ради теток: они со страха умерли бы, явись к ним Любич официально, по поручению музея.
— А сам-то ты заработаешь что-нибудь?
— Нет, не заработаю, — нахмурился Уриашевич. — И не желаю ничего зарабатывать.
Как ни хотелось ему поскорее отделаться от Хазы, он все-таки попросил разъяснить одну поразившую его подробность.
— Скажи, пожалуйста, — спросил он сухо, — откуда ты знаешь, что я не писал ему?
Получить вразумительный ответ так и не удалось. Впрочем, не только на этот вопрос.
Дома, когда Хаза снимал ботинки, у него лопнул шнурок, и он чертыхнулся. У Анджея оказались запасные. Выложив их на стол рядом с кроватью, он заметил, что у неизменно аккуратного и следящего за собой Хазы рваные носки.
— Збигнев, ты что, совсем без вещей? — поразился он вдруг тому, на что вчера не обратил внимания.
— Нет, — замялся Хаза, — кое-какие я прихватил.
— Где же они? — сделал презрительную гримасу Уриашевич, слыша эту явную ложь. — Ведь у тебя же ничего нет с собой.
— А я в гостинице оставил. Где и грузовик.
— В какой еще гостинице?
— В Кшеневе, не здесь.
— Ты из Кшенева в Оликсну поездом приехал?
— Ага.
— Это еще что за фокусы? — склонился над Хазой Уриашевич, но тот отвернулся к стене.
— Кончай допрос, — проворчал он и запричитал: — Человек выпил, в голове туман, а ты с ножом к горлу пристал.
Внизу щелкнул замок. Это Зандова вернулась с работы. Немного погодя пришла из школы ее дочка. С кухни доносились приглушенные звуки — там обедали, а порой отдельные бессвязные слова. Но все это не доходило до сознания Анджея. Лежа с открытыми глазами, прислушивался он к ровному, хриплому дыханию Хазы. И раздумывал, как быть. Соображал, как вывести его на чистую воду. Сомнений быть не могло: что-то тут неладно. С каким наслаждением выставил бы он его из дома! Но эту мысль пришлось сразу отбросить, и не потому, что сам он много недель пользовался гостеприимством Хазы, просто это ничего бы не дало.
В комнате постепенно стемнело. Когда сумерки сгустились и без света уже ничего нельзя было разглядеть, Хаза, словно только этого и ждал, вскочил и сел на постели.
— Что случилось? — поднял с подушки голову Уриашевич.
— Ничего. Мне пора.
— Куда?
Из куртки, валявшейся на стуле, Хаза достал сигареты, вынул одну, вставил в мундштук и закурил. И, отогнув рукав рубашки, посмотрел при свете спички на часы.
— Куда тебя черт несет? Отвечай!
— Все кишки из меня вымотал и так ничего и не понял?
— Нет.
Встав и подвинув стул к раскладушке, Хаза сел. Когда он затягивался, желтоватый свет разгоравшейся на миг сигареты освещал его мрачное лицо и беспокойно моргавшие, близко посаженные глазки.
— Мне нельзя возвращаться, — выдавил он и задержал дыхание. Напрягшись, ждал, как отнесется к этому Анджей. — Я сжег за собой мосты.
— Ах, вот как!
В голосе Уриашевича послышалась резкая, незнакомая нотка.
— Что «вот как»? — заерзал на стуле Хаза. — Что ты хочешь сказать?
— То, что ты дел натворил и попросту должен был, как говорится, сматывать удочки. Так ведь? Зачем в прятки играть?
Прошло несколько секунд, прежде чем Хаза запротестовал против такой версии.
— Вовсе не должен был, — заявил он. — Я сделал это по своей воле. — И, судорожно глотнув, прибавил с неподдельной ненавистью: — Из-за Дубенского. Не бойся, — сказал он и через силу улыбнулся, — я пальцем его не тронул. — Он засмеялся неестественно. — Просто поквитался с ним, прибегнув… — помедлил он, подыскивая слово, и договорил: — К своего рода faire-part, адресовав его в органы госбезопасности. — Сообщив это, он искренне развеселился. — Помнишь, он все подшучивал надо мной, говорил, что я единственный близкий ему человек и после его смерти разошлю знакомым извещения в траурной рамке? Вот я и известил, кого следует, о его персоне, о подвигах, им совершенных, не дожидаясь смерти. Опережая ее, так сказать. Чтобы не сказать большего.
Несмотря на чувства, которые возбуждал в нем этот рассказ, Уриашевичу на краткий миг подумалось, что опасения его относительно пребывания Хазы в Оликсне преувеличены. Сведение личных счетов — вот что явствовало первым делом из признаний Хазы. Это отвратительно, но его, Анджея, прямо не касается. Но вскоре он понял, что заблуждается.
— Подвиги-то совершал он, — сказал он с ударением на последнем слове, — а смылся-то ты.
И потянулся к лампе на столе. Хаза схватил его за руку.
— Не зажигай! — сказал он требовательно.
— Подвиги совершал он, а смылся ты! — повторил Анджей. — Но здесь-то почему ты оказался?
— Потому что… — запнулся Хаза. Месть Дубенскому должна была послужить плащом, которым он хотел прикрыться, но пола завернулась, приоткрыв грязную подкладку. В этой ситуации надо было действовать иначе: — Я привез тебе «Пир».
Уриашевич, сорвавшись с раскладушки, вскочил на ноги.
— Ради бога, успокойся! — вскричал Хаза. — Дело сделано, и ничего уже не переменишь. — И, не давая Уриашевичу рта раскрыть, выпалил заранее приготовленные для этого случая слова. — Дело сделано. Что ж, не потрафил тебе. Сейчас ты ее получишь. А там можешь, когда захочешь, в Варшаву везти.
— Я, кажется, ясно написал, что дело, о котором мы тогда договорились, отпадает. И требую доставить картину туда, откуда ты ее взял.
— Это исключено. Не могу я рисковать, — пробурчал Хаза. — Доставлю ее сюда. — Он встал со стула. — Она в Кшеневе. Сию минуту еду за ней. И самое большее через час она будет здесь.
— Никакой срочности нет.
— А по-моему, есть! Ты меня в каких-то грязных махинациях подозреваешь. И я ни одного дня не желаю больше нести ответственность за картину. Куда тебе ее привезти?
Уриашевич зажег свет: Хаза не возражал теперь против этого.
— Да вот сюда, — обвел Анджей комнату рукой.
— Ни за что на свете! — разыграл испуг Хаза. — Хорошо тебе говорить, коли у тебя совесть чиста. Но подумай обо мне! Что ты станешь отвечать, если тебя спросят, откуда взялась картина? А нет в доме или поблизости тайника какого-нибудь? — закинул он удочку.
— Нет, — ответил Уриашевич.
Но тут же вспомнил про бомбоубежище. Услышав об этом, Хаза заявил, что сам хочет взглянуть на него, прежде чем ехать за картиной.
— На тебя положиться нельзя, тебе ни до меня, ни до картины дела нет, — заявил он с горечью. — Заваришь кашу, а расхлебывать-то мне придется.
Они спустились вниз. На кухне дочка Зандовой преградила им дорогу.
— Как? Вы уже на костер? — всполошилась она. — А мама сказала, мы пойдем только через час.
— Нет, нет, — отстранил ее Хаза. — Мы просто так, проветриться немного.
Он вынул из кармана фонарик, вместе с другими вещами купленный сегодня на Рыночной площади в магазине морского снаряжения. Но никакой фонарик не помог бы Анджею отыскать нужное место, если бы не Хаза.
— Ключ от него у меня, — увидев убежище и указывая на него, сообщил Уриашевич.
— Я захватил его с собой, — сказал Хаза, спускаясь по ступенькам, и настежь распахнул дверь. — Смотреть так смотреть. Иди сюда!
— Как ты узнал, что это ключ от убежища?
Анджей был потрясен.
— Не все ли равно! Перестань приставать со всякой ерундой! — пожал плечами Хаза, становясь с каждой минутой все самоувереннее. — Поважней есть дело. — Стоя в дверях, он направил фонарик прямо в лицо Анджею, который находился внутри убежища. — Дело твоего дяди! — понизил он голос. — В комнате я боялся распространяться об этом. У стен тоже есть уши, а это не его одного касается. Ты заявил, что тебя не интересует, почему его арестовали. А по-моему, тебе небезынтересно будет узнать. Но сперва скажи, приходилось тебе слышать про черный список, куда заносит Вашингтон некоторые торговые фирмы в Европе?
— Нет.
— Так вот, в список этот попадают фирмы, которые вывозят из Соединенных Штатов стратегическое сырье якобы для западноевропейских стран — экспортировать его на Восток запрещено — и продают за железным занавесом. Твой дядя, используя очень ловко свое служебное положение, разоблачал эти фирмы. Договорится о поставке товаров — и сам же обрекает сделку на провал.
В памяти всплыл невольно подслушанный в «Польхиме» разговор. А также фабрика в Мостниках, защищая которую погиб поручик Кушель, — фабрика, где с таким нетерпением ждали американскую аппаратуру, твердо обещанную Конрадом Уриашевичем. Тем самым Конрадом Уриашевичем, который настаивал, чтобы и строительство велось в расчете именно на эту аппаратуру.
— Сволочь! — сжал Анджей кулаки. — Мерзавец!
— Вынес бы ему обвинительный приговор? — спросил Хаза.
— Глазом не моргнув!
— А ты не думал, — продолжал Хаза, — кого еще очень легко в это дело впутать?.. — И, в упор посмотрев на Уриашевича, прошипел: — Тебя! Помнишь письмо, — поспешил он объяснить, — которое взялся ты иностранцу передать на Медзешинском валу? Я всего лишь посредником был, письмо твой дядя написал. Нетрудно догадаться, что в нем содержалось. Теперь и сам ты можешь судить.
Фонарик, почти вплотную приставленный к лицу Уриашевича, слепил глаза.
— Ты сказал, что письма не передал. Допустим. Но как ты это докажешь? Деньги ты у дяди брал. Жил у меня. Положим, ты ни в чем не виноват, но попробуй-ка в твоем положении втолковать это органам госбезопасности. Не выйдет!
Уриашевич закрыл глаза. И увидел далекую Вислу, катившую свои свинцовые волны. А по ним, точно снежные хлопья, плыли клочки рокового письма и тонули безвозвратно. Не найти их, не предъявить в подтверждение своей невиновности.
— Нет, — произнес Анджей страдальческим голосом. История с письмом потрясла его. Еще чуть-чуть, и он стал бы соучастником преступления. — Никогда!
— Тогда тебя посадят. Вот и расхлебывай кашу!
— Ну и пусть. Это дело мое.
— Эх, ты! — выкрикнул Хаза. — Да разве твой прежний план не лучше? Плюнуть на Польшу и за границей счастья поискать?
— Предоставь уж мне судить, что лучше. Один раз послушался тебя и стыжусь теперь этого.
Анджей шагнул к выходу. Но Хаза резким движением остановил его. И, не церемонясь, с силой толкнул на ступеньки так, что тот упал. Сев рядом, Хаза притиснул его к стене.
— Анджей, опомнись! — настаивал он, под другим соусом выдвигая тот же аргумент в надежде сломить волю Анджея. — Может, дядя и забыл о твоем несостоявшемся, как ты говоришь, посредничестве и ничего не скажет на следствии. Я тоже буду молчать, пока не сцапают. Но зацапают — не ручаюсь за себя!
— Прекрасно! Теперь шантажировать меня вздумал. Можешь подавиться! — огрызнулся Анджей. — Сказал: нет. И еще раз повторяю: нет!
Но Хаза не сдавался.
— Лично мне нечего терять. — Он выкладывал теперь все без утайки. — Что дядя твой тайну сохранит, на это рассчитывать не приходится, тем более, как уже достоверно известно, вся наша сеть раскрыта. Мне, как всегда, просто повезло. Я в тот раз не ночевал дома. Из Варшавы смылся, теперь из Польши надо утекать. Единственное утешение во всей этой истории — что с Дубенским поквитался. Но, с другой стороны, из-за этого же надо и поторапливаться: когда Дубенского посадят, он всю подноготную выложит. А за мной числятся кое-какие невыявленные грешки. Особенно один, который дорого обошелся господам коммунистам. В сорок пятом кокнул я на шоссе одного пэпээровца, уполномоченного по восстановлению Замостья. Денжищ вез пропасть!
— Брат Биркута, — сорвалось с побелевших губ Анджея.
Вот оно, третье звено, которого недоставало ему в разговоре с Биркутом.
— Биркута? — склонил Хаза голову набок, и в голосе его послышалось нечто вроде облегчения. — Ах, вот оно что! А я еще подумал, откуда мне знакома физиономия твоего капитана? Семейное сходство, оказывается.
— Не наваливайся так! Отодвинься! — содрогнулся всем телом Уриашевич. — Руку больно.
Но не от боли вырвались эти слова, а от ужаса. Услышанное — все то, в чем был замешан Хаза, — привело в полное смятение мысли Анджея, и в первый миг им овладело непреодолимое желание как можно скорей от него отделаться и никогда больше его не видеть. Судорога перехватила горло, когда он представил себе, что придется провести ночь в одной комнате с этим человеком и, по всей вероятности, весь следующий день. Это еще в лучшем случае! Чуть было не бросил он Хазе прямо в лицо, чтобы тот поискал себе другое пристанище, но вовремя спохватился: после того, что он узнал, ни в коем случае нельзя спускать с него глаз! Выход решительный, радикальный не пришел ему в голову. Он стиснул зубы.
А за его спиной упиралась в стену сильная рука Хазы (он отодвинулся лишь на самую малость) и, вздумай Анджей пошевелиться, загородила бы выход.
— Смотри-ка сюда! — сказал Хаза и свободной рукой вынул из кармана блокнот, который просматривал утром. Фонарик зажал он между коленями. И, подсунув блокнот к свету, стал листать его, что одной рукой было нелегко. — Сегодня ночью, примерно без четверти двенадцать, по разминированному фарватеру в двадцати милях севернее Оликсны пройдет трансатлантический лайнер из Гданьска на Копенгаген и дальше. На нем возвращается на родину мой знакомый — после случившегося ему ничего другого не оставалось, — тот самый иностранец, с которым ты раз виделся, а я постоянно дело имел, выполняя поручения Конрада Уриашевича. Я его упросил, чтобы капитану дано было соответствующее указание. Да и он сам, думаю, за этим проследит. Только в море выйти, вовремя на пути лайнера оказаться, и мы спасены! За границей! Мой тебе совет — бежим вместе! Это же в твоих интересах: исчезну я из Оликсны, тебе одному за все придется отдуваться. Я за тебя ведь беспокоюсь, а мне-то что сделается. Хотя с тобой, признаться, надежней бы как-то было на этой чертовой посудине: ты с ней запросто управляешься, а мне, пожалуй, будет потрудней.
Воспользовавшись тем, что Хаза слегка ослабил руку, Анджей вдруг рванулся, вывернулся и, оттолкнувшись от стены, одним прыжком перемахнул через ступеньки. Главным, что его подстегнуло, был страх за катер: он слишком хорошо знал, что означает для порта его утрата. Но Хаза тотчас его настиг. Ему было ясно: если Анджей окажется на свободе, он погиб. И он повалил Анджея на землю. Но тот вскочил. Звать на помощь в этом безлюдье было бессмысленно. И все-таки Анджей закричал. Тогда Хаза снова сбил его с ног. Сильным, метким ударом нацелился под ложечку, и Уриашевич опять рухнул на землю. Боль в плече, позвоночнике, груди, диафрагме слилась воедино, причиняя невыносимые страдания.
Но Хаза не того добивался, ему нужно было, чтобы Анджей на время потерял способность говорить. Удар был мастерский: пригодилось уменье бить и обезвреживать жертву. У Анджея перехватило дыхание.
— Ты, — навалясь всем телом на Уриашевича, пытался Хаза его урезонить, — смотри, как бы плохо для тебя не кончилось. Дружба дружбой, родство родством, а собственная шкура дороже.
Они катались по траве. Хаза был, бесспорно, сильнее Уриашевича. Но исход борьбы предопределила неподвижная, причинявшая невыносимую боль рука Уриашевича. Медленно, но верно подвигались они к убежищу. В конце концов Хаза изловчился, столкнул Уриашевича вниз и затащил внутрь. Оба тяжело дышали.
— Надеюсь, ты одумаешься еще, — проговорил Хаза. — Со мной некая особа приехала, ее доводы покажутся тебе убедительней. Степчинская, — пустил вход он свой главный козырь. — Я сказал ей, что письмо твое недействительно и что ты просишь ее немедленно приехать. Она в Кшеневе ждет. Я обо всем ей расскажу, пускай она сама с тобой поговорит.
— Ты о себе ей лучше расскажи, — сказал Анджей брезгливо. — Пусть плюнет тебе в физиономию!
— Это еще бабушка надвое сказала!
С этими словами отскочил он к двери. Захлопнул ее и повернул ключ. Теперь он был спокоен. Ничего больше ему не угрожает — по крайней мере, со стороны Уриашевича. Тот словно заживо погребен в этом убежище. Даже крик не проникнет сквозь толстые стены.
Збигнев Хаза взглянул на часы. Плохо дело, времени в обрез. Поезд отходит через двадцать пять минут. Надо поспеть во что бы то ни стало. Как сумасшедший помчался он напрямик через лес. И прибежал вовремя. В вагоне было пусто. Но он даже не присел. И когда поезд прибыл в Кшенев, первым выскочил на перрон. В гостинице он расплатился и, вызвав Степчинскую, осведомился про картину. А спустя четверть часа уже выруливал со двора.
За городом развил он предельную скорость. Но на полпути между Кшеневом и Оликсной остановил грузовик. Сводить Степчинскую с Анджеем, не посвятив ее предварительно во все, не имело смысла. Иначе она узнает правду от Анджея. А это Хазу не устраивало. Хотел было поговорить он по дороге, но мотор перегрелся. Пришлось вылезти. Разглядев в темноте поваленный километровый столбик, Хаза указал на него Галине, а сам примостился рядом.
— Уриашевич на попятную пошел, — сказал он.
— Раздумал?
— Распсиховался, — объяснил Хаза. — Боюсь, как бы он и мне не помешал.
— Где он?
Хаза не ответил.
— Где он, я спрашиваю? — нетерпеливо топнула Степчинская ногой. — Дома?
Он рассказал ей все как есть.
— А ключ где? — поинтересовалась она и тотчас потребовала: — Отдайте мне.
Он выполнил просьбу. Она положила ключ в карман пальто. Потом проверила, не выпал ли, и застегнула карман на пуговицу.
Излагая суть дела, Хаза сбивался, отвлекался, опять возвращался к главному предмету разговора. Но время его поджимало, и он быстро закруглился. И так стало достаточно ясно, что он из себя представляет и какие у него на совести дела.
Когда он кончил, Степчинская похолодела. Ее не знобило, не била дрожь, но она была близка к обмороку. Оцепеневшая, обессилевшая, будто при смерти, обеими руками вцепилась она в камень, на котором сидела, чтобы носом не ткнуться в землю. К этому присоединилась еще тошнота, делая ее беспомощной, как новорожденный младенец; одурманенная, потерянная, впала она в полнейшую прострацию.
Но, оказалось, силы не совсем покинули ее. Когда Хаза, как бы подводя итог, наклонился к ней и спросил фамильярно и одновременно вызывающе: «Ну как, поможешь мне, куколка?» — Степчинская размахнулась и влепила ему звонкую пощечину. Этого показалось ей мало, и она попыталась добавить другой рукой. Но Хаза увернулся, и она только задела его по носу, оцарапав до крови. Хаза вскочил, позеленев от злости. Но терять нельзя было ни секунды. И он — то ли из мстительного чувства, то ли еще почему — ограничился лишь тем, что дернул Степчинскую за карман, оторвал его и, выхватив ключ, который дал ей в начале разговора, зашвырнул в темноту.
— Вот тебе! — крикнул он в бешенстве. — Ищи его теперь до утра!
* * *
Шоссе до самой Оликсны было пустынное. Хаза жал и жал на педаль. И не сбавлял скорости, пока не увидел огней впереди.
По улицам поехал он не слишком быстро, чтобы не привлекать внимания. Поблизости от управления порта затормозил. Проверил, все ли готово к решающему моменту, и неторопливым шагом приблизился к будке, возле которой сегодня все утро прокрутился с Уриашевичем. Сторожевых постов на территории все еще бездействующего порта было несколько. Дежуривший в этот час пожилой сторож сидел на лавочке спиной к будке с винтовкой между колен и курил.
В городе было спокойно. Как и порт, к вечеру он обезлюдел. Вокруг царила мертвая тишина. Лишь изредка со стороны Замковой горы долетал слабый звук, напоминавший не то звон бубенчиков, не то цыплячий писк, не то кваканье лягушек. Это дети пели у костра.
С детей Хаза и начал свою болтовню со сторожем; упомянул про пение, про едва видневшуюся над горой полоску зари. Поговорил ровно столько, чтобы жест, многократно повторявшийся утром в порту, получился естественным. Но на сей раз угостил Хаза сторожа необычной сигаретой. И после нескольких затяжек в голове у того помутилось. Наркотик, которым пропитан был табак, обладал столь сильным дурманящим действием, что сторож свалился бы со скамейки, не подоспей Хаза на помощь. Он удержал его в сидячем положении и прислонил к стенке, даже винтовку поправил, чтобы не выпала из рук. После этого кинулся к грузовику и минуты через две уже подъехал к будке. Погрузив футляр с картиной на моторку, он сунул в карман бутылку спирта, проверил, тут ли компас, купленный утром, кряхтя от натуги — даже жилы вздулись на лбу, — сбил замок с цепи, которой катер зачален был за кнехт.
Напоследок еще раз сел он за баранку, отогнал грузовик в сторону и выключил мотор. Теперь можно было устраиваться без помех. Окажись кто-нибудь в этот неурочный час между управлением порта и молом, человек, хозяйничавший на катере, не вызвал бы подозрений: ведь рядом сторож с винтовкой. Прежде всего Хаза поинтересовался, как с горючим. Вопреки его ожиданиям, в будке запасной канистры не оказалось. Но и в баке бензина было достаточно. Прихватив из будки немного пакли, отчалил он от мола.
Сначала тихим ходом пошел к понтону: сюда, случалось, заглядывали даже по ночам. Потом — к сигнальной вышке на волноломе. И наконец — к красавцам буям, выводящим на фарватер, в открытое море.
В голове вертелись обрывки сведений о порте, которые сообщил ему Уриашевич. Ими и определялись его действия. Чувство страха не покидало его. У ближайшего буя могла еще настигнуть и пуля. Когда он уразумел это, мурашки побежали по спине. В воображении уже рисовалось: вот подвезенная кем-то Степчинская врывается в управление порта и поднимает тревогу; вот Уриашевич, выбравшись каким-то чудом из бомбоубежища, собирает людей и пускается в погоню…
— Все чистоплюйство дурацкое, — укорял он себя. — Пулю б обоим в лоб — и вся недолга!
Благополучно миновав буи, он простил себе эту оплошность. Какое-то время идя полным ходом, почувствовал он себя вне опасности. Но вскоре страх вновь овладел им, теперь по другим причинам. Его беспокоило, как бы не отказал мотор; не возникло бы осложнений из-за картины, о которой он ничего не сказал своему иностранцу. Волновался, что опоздает. Отсутствие лага не позволяло определить скорость. Но, сопоставив свои сведения о судне с полученными от Уриашевича о катере, Хаза рассчитал, что успеет вовремя. Равномерный шум мотора действовал тоже успокаивающе. И из-за картины перестал он нервничать, сказав себе, что как-никак имеет дело с джентльменами. Берег с его разноголосицей давно скрылся из глаз. Оборачиваясь, Хаза уже ничего не видел. Ни света буев, ни городских огней. Впереди, позади, справа, слева была сплошная тьма. То и дело посматривал он на часы. Проверял по компасу, не сбился ли со взятого курса: на север. Нет, не сбился.
Так прошло четыре часа. Наконец он достиг пункта, в котором, по его расчетам, курс катера пересекался с курсом лайнера. Он остановился, но мотора не глушил. С минуты на минуту с юго-востока могло прийти избавление. Надо быть наготове и, едва судно покажется, пойти наперерез, чтобы не разминуться.
— Холера! — нервничал Хаза. — Ну и темень!
Пять минут прошло, пятнадцать, двадцать. Ничего. Еще десять. И тогда вдали показался сначала белый, потом красный огонек. Хаза замер, у него даже дыхание перехватило. Но спустя минуту почувствовал огромное облегчение. Сомнений быть не могло. Белый огонь наверху, красный пониже — значит, дождался, кого ждал. Теперь надо занять такое положение, чтобы видеть зеленый свет, не теряя из виду красный. И бортовые огни — правый и левый и белый на мачте. Тогда можно быть уверенным: судно идет прямо на него.
— Вот оно! — потирал он руки от удовольствия. — Идет!
Когда ему показалось, что он уже различает темную надвигающуюся громаду, Хаза фонариком стал подавать сигналы, как было условлено с иностранцем. Он чертил в воздухе круги, а черный силуэт все приближался. И вот в вышине замаячили уже две продолговатые, близко посаженные зловещие глазницы — носовые якорные клюзы. Тогда Хаза облил паклю спиртом, которого в пути почти вдвое поубавилось, так как для поддержания духа он прикладывался к бутылке. Уговора насчет сигнализации факелом, правда, не было. Но ведь и ответного сигнала с судна не поступало. Поджегши паклю, Хаза стал крутить ею над головой. Крутил, пока плечо не заболело. Но с лайнера не отвечали.
— Люди! — завопил Хаза. — Люди!
Судно продолжало идти своим курсом. И прошло мимо в нескольких метрах. Трансатлантический гигант, вне всякого сомнения, тот самый, о котором шла речь в Варшаве. Не захудалое какое-нибудь суденышко, где вахтенный носом клюет. Хаза понял: не заметить его на капитанском мостике не могли, значит, — чудовищная догадка возникла в голове, — получены специальные указания на сигналы не реагировать. Иначе там поднялась бы суматоха, еще бы: человек за бортом!
— Люди! — орал Хаза исступленно. — Люди!
Над головой величественно проплыл красный левобортовой огонь. Хаза не пожалел и вылил на паклю большую часть оставшегося спирта, потом — бензина. Взметнулось яркое пламя. А судно как ни в чем не бывало шло себе вперед, безучастное и к огню и к крикам. С шумом скользило оно мимо. Вот оставило катер позади, показав напоследок белый кормовой огонь внизу. Шло, покидая Хазу одного. Уплыло вдаль, бросив его на произвол судьбы.
— Больше я им не нужен! Но в глаза тебе они этого не скажут, сволочи, джентльмены! — ругался Хаза.
Тем не менее он сделал еще попытку. Опять стал чертить в воздухе огненные круги.
— Люди! — взмолился он. — Люди!
Но ответа по-прежнему не было.
— Скоты! — переменил он проклятье. — Скоты!
Но результат тот же. На маленьком катере догонять быстро удалявшийся гигант было абсурдно. К тому же бензин на исходе. Он знал это. Значит, продолжать плавание и думать нечего.
Он выключил мотор; сердце замирало от страха, по телу пробегала дрожь. Катер тихо покачивался на волнах. Затоптав тлеющий на дне огонь, Хаза плюхнулся на банку и с полчаса просидел, не шевелясь и ни о чем не думая. Потом потянулся к бутылке, в которой оставалось еще немного спирта. Сделав несколько глотков, вылил он остаток на руки и стал растирать лоб, затылок. Тер с остервенением, чтобы очухаться, прийти в себя. После этого запустил мотор и двинулся в обратный путь.
В двух километрах от берега он сбавил скорость. С трудом спустил на воду футляр с картиной и, закрепив руль неподвижно, направил катер в сторону порта. В расчете, что футляр с полым картонным валиком внутри заменит ему спасательный пояс, осторожно стал он погружаться в воду. Чем ближе к берегу, тем меньше шансов спастись, оставаясь на катере. А благополучно высадиться — и вовсе никаких. Он поникал: Степчинская за это время уже давно успела добраться до Оликсны, освободила Уриашевича, и сейчас они наверняка в управлении порта, откуда вот-вот выйдут в море — не столько даже для того, чтобы его схватить, сколько катер спасти.
«Пристукнуть надо было обоих, — с сожалением подумал он снова. — Память плохую, дурак, в семье не хотел оставлять по себе».
В создавшейся ситуации шум катера должен был привлечь внимание ближайших пограничных постов на берегу, а также охраны порта. Благодаря этому ему удастся добраться до выступающего в море мыса, с которого смотрел он сегодня вдаль, уйдя утром из дома, где провел свою последнюю на суше ночь. Доберется до берега и скроется под покровом ночи.
Но расчеты его не оправдались. Неважный пловец, раскисший вдобавок от выпитого спирта, в чем отдавал он себе отчет, Хаза все свои надежды возложил на «Пир». А тот подвел его. В футляр, поврежденный при повороте с дороги в лес, о чем он начисто забыл, стала просачиваться вода. Когда он это уразумел, было уже поздно. Все глубже погружаясь в воду, футляр почти не поддерживал его на поверхности. Хаза все цеплялся за него, но приходилось опускать в воду руки по самые плечи. Но и этого оказалось вскоре недостаточно, — уже и кончиками пальцев трудно стало дотянуться. В поисках опоры обхватил он его ногами. А руками бил по воде: балансировал, точно на канате, который ускользает из-под ног, раскачиваясь и дрожа. В конце концов в полутора километрах от мыса Хаза перестал ощущать футляр под ногами — треснутый, наполненный водой, отяжелевший, пошел он ко дну. Хазе удалось продержаться на поверхности еще минут десять.
Когда до берега оставался примерно километр, он почувствовал, что силы его на исходе. В ужасе стал звать он на помощь, но хриплый крик заглушила вода. Он захлебывался. Тонул. Последней промелькнувшей в голове мыслью было проверить, далеко ли еще до мыса, куда он стремился. Но сознание мутилось, и он ничего уже не мог различить. Вылезающие из орбит, широко раскрытые, близко посаженные глазки не увидели ничего, кроме сплошной тьмы.
* * *
На рассвете в оликсинское отделение милиции ворвалась девушка. Чулки, пальто и видневшиеся из-под него юбка и блузка были разорваны и все в грязи. Не в лучшем состоянии были руки, лицо и шея. Пропыленные, слипшиеся волосы торчали в разные стороны. Пошатываясь, она пробормотала что-то невнятное. И хотя по виду и бессвязному лепету можно было принять ее за пьяную или сумасшедшую, было в ее облике нечто, заставившее дежурного отнестись к ней со вниманием. Ей предложили сесть. Залпом выпила она два стакана воды. И только тогда, придя немного в себя, объяснила, что привело ее сюда.
В милиции знали уже об исчезновении катера. Возвращаясь поздно вечером с Замковой горы, Биркут с боцманом заглянули в порт. Им сразу бросилась в глаза неестественная поза сторожа. Стали тормошить старика, но тот не очнулся. В сознание пришел он только в управлении, куда вызвали доктора. Из рассказа его почерпнули немного. Обнаруженный возле будки грузовик тоже не объяснял ничего. По номеру установили, что он из Варшавы. Послали телефонограмму, однако ответа еще быть не могло. Всех, кого следовало, поставили в известность о случившемся. Но ни оликсинский порт, ни погранзастава ничего предпринять не могли, не располагая плавучими средствами, уничтоженными в войну. Только из Гданьска с наступлением дня должен был вылететь гидроплан.
Выслушав Галину, ее усадили на мотоцикл. В порту милицейским работникам сообщили адрес Уриашевича; разбуженные Зандова с дочкой, узнав, где их жилец, объяснили, как пройти в бомбоубежище. Галина сама хотела отпереть дверь, но руки у нее так дрожали, что пришлось отдать ключ милиционеру. Нежно, порывисто обняв Галину и едва выслушав несколько слов, Анджей заторопился в порт.
Там его буквально засыпали вопросами. Выложив самое главное, перешел он к детальному отчету о минувшем дне. Не менее интересные вещи сообщила и Степчинская. Немного погодя с маяка дали знать, что в полутора милях замечена в море дрейфующая и, как видно, брошенная шлюпка — верней всего, похищенный в порту катер. Через час пришло другое известие: катер уже в порту. Повреждений никаких не обнаружено, только ни капли бензина в баке. Из этого можно было заключить, что план Хазы провалился. Из управления сообщили об этом в другие инстанции.
Биркут и Чечуга по очереди кричали что-то в телефон. А в промежутках Уриашевич дополнял свой рассказ все новыми подробностями. Восстановил ход событий, сообщил, какие предпринимал шаги, как смутные опасения переросли постепенно в уверенность, но оказалось уже поздно.
Когда он выговорился и картина окончательно прояснилась, Чечуга сказал, запустив пятерню в седеющие волосы:
— В вашем положении вели вы себя не так уж плохо. Но если и в другой раз так же будете поступать, по головке вас за это не погладят. — Он насупил свои седые кустистые брови. — Когда имеешь дело с врагом, тянуть нельзя. Ваш долг — немедленно его разоблачить. И вообще надо действовать решительно. Да, решительно!
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
Рука Анджея внушала опасения. Она распухла и болела сильнее, чем в первый день. И Биркут попросил знакомого хирурга, который жил и практиковал в Кшеневе, принять Анджея.
Галина поехала с ним. Еще позавчера готовая навсегда бросить балетное училище, отказаться от ученья, она после всего, что пережила и передумала, после долгих споров с Анджеем у него дома и на Замковой горе, теперь нервничала, торопясь вернуться в Варшаву. Но сперва хотела все же узнать, что у Анджея с рукой. И окажись что-нибудь серьезное, она отложила бы свой отъезд.
Но хирург ничего страшного не нашел. После осмотра он подтвердил диагноз молодого врача из детского дома. И повторил: беречься и щадить руку в течение ближайших дней.
— Раз так, — сказала Галина, — я еду.
Когда на вокзале узнавали они расписание, она, поразмыслив немного, решила еще сократить и без того немногие часы, остававшиеся до разлуки. И купила билет на поезд, который отправлялся раньше, но шел из Щецина в Варшаву дальним, кружным путем через Кошалин, Слупск, Лемборк и Гданьск, так что имел спальный вагон.
— Мне надо хорошенько отдохнуть, — сказала она. — Чтобы завтра стоять у стенки в хорошей форме.
Репетиции балетов, в которых танцевала Галина, шли полным ходом. Однако премьеру из-за болезни Иоанны пришлось перенести. Они с Анджеем как раз об этом разговаривали. И о том, что Анджей, наверно, к началу ее выступлений будет уже в Варшаве.
— Постараюсь не осрамиться, — сказала она шепотом. — Чтобы ты был мной доволен. И ты, и мы с тобой, и все, кто отдал мне столько труда. — И, задумавшись, прибавила нечто для себя самой новое по смыслу и форме, еще не очень складное, но искреннее и прочувствованное, уже свое: — И зрители чтобы остались моими выступлениями довольны. Выступлениями и тем, что здесь я родилась, здесь росла и научилась всему тоже здесь, у нас!
Приближался час расставанья. Расставанья, впервые непохожего на прежние. Было грустно — как же иначе, — но горечи они не испытывали. Ее место заняли надежды, планы на будущее.
На перроне вспомнился первый их разговор, а потом другой. При воспоминании о нем, тоже на вокзале, перед отъездом Анджея в Оликсну, Галина содрогнулась всем телом. Тогда обсуждался побег и с ними был Хаза. Насколько все переменилось! И когда к перрону с грохотом, в клубах пара и огненных искрах подкатил огромный паровоз, они засмеялись, вспомнив, что и при каких обстоятельствах писала на разных стенах Галина. Поезд остановился. Они направились к спальному вагону.
Войдя вслед за Степчинской, Анджей носом к носу столкнулся с Антонием Любичем. Анджей гнал от себя мысли о картине, но при виде Любича все, что мучило его, ожило с новой силой. И сожаление, что такой шедевр навсегда потерян для родины, и укоры совести: как мог он, единственно ради спокойствия тетушек, откладывать дело, столь важное, пока не стало поздно. Но всего лишь несколько фраз, которыми они успели обменяться — на большее и не было времени, — сняли, как рукой, все сожаления и угрызения совести. Причем до того неожиданно, бесповоротно и ошеломительно, что Анджей, выскочив из вагона и остановясь у открытого окна, откуда высовывалась Галина, не видел ее, не слышал и, остолбенелый, не помахал ей даже рукой, когда поезд тронулся.
А вызвано это было примерно таким разговором:
— Ах ты, простофиля! — воскликнул Любич, когда они обнялись. — Ну и в историю влип я из-за тебя! Ничего нелепее со мной не случалось с тех пор, как я занимаюсь возвращением похищенных художественных ценностей. Помнишь некое полотно с изображением пира?
— Еще бы, — отозвался Анджей.
— Так вот, полгода назад заявляюсь я в Кобленце в городской музей. И как ты думаешь, что вижу на стене? — понизил Любич голос. — Левартовского Веронезе! Висит себе, и все тут! Я им закатил скандал: это из Польши, говорю. А они: нет, ошибаетесь, картина здесь уже сорок лет. Враки, говорю, я эту вещь в Варшаве видел! Они в ответ: это-де недоразумение, у нас сотни доказательств есть. Словом, крик, перепалка, взаимные обвинения. А тут еще один из музейных работников как ни в чем не бывало подтверждает: действительно, мол, картина раньше в Варшаве находилась. А когда я Левартов назвал, не отрицал, что «Пир» принадлежал им. Спор продолжался уже в архиве, где мне под нос разные акты совали, ведомости, описи. И из них явствовало: за несколько лет до первой мировой войны некий Леварт из Варшавы, не помню имени, загнал этот самый «Валтасаров пир» кобленцскому музею.
— Станислав?
— Возможно! Да, он самый!
— Что же, черт побери, прятали мы в Варшаве? — пришел в полное недоумение Уриашевич. — Что ж это было? Не «Пир»? Не Веронезе?
— Подделка — вот что! — скривился Любич презрительно и продолжал пренебрежительным тоном: — Там, в Кобленце, окончательно все и выяснилось. В музее старый работник нашелся, который отлично помнил эту аферу. Так сказать, закулисную сторону ее, подоплеку всего этого дела. Твоему Леварту нужно было зашибить деньгу, но и фасон хотелось тоже держать. Поэтому он поставил музею следующие условия: в печати о новом приобретении не сообщать, а в стоимость картины включить изготовление копии. Картину он отправил под предлогом реставрации за границу, огреб несколько десятков тысяч марок, а в Варшаве его по-прежнему почитали, как владельца бесценного полотна Веронезе!
— Всех сумел провести, — заметил Анджей. — Включая и собственное семейство.
— Думаешь?
— Знаю, — ответил Анджей. — Знаю наверняка!
Он задумался на минуту. Да, дело обстояло именно так. Ни жена Станислава, ни Фаник в тайну не были посвящены. Не знали об этом ни отец Анджея, ни родственники, ни близкие знакомые Левартов. И из дирекции или фабричных служащих тоже никто. Разве что Конраду Уриашевичу было это известно, товарищу холостяцких кутежей Станислава Леварта, который после смерти старика Яна Фридерика не постиг еще науки извлекать из фабрики большой доход, не доводя, однако, дело до полного банкротства. Коли так, понятно, почему Конрад врал Анджею и про Кензеля. Не хотел место выдавать, которое для себя приберегал, на случай когда земля начнет гореть у него под ногами! Нечего, мол, Анджею туда соваться, если вещь, которую сберегает Кензель для Левартов, ровно никакой ценности не имеет.
— Поразительно! — не мог прийти в себя Уриашевич. — Ты себе не представляешь, чем был для Левартов «Пир». Гордостью. Украшением гостиной. Честью их и славой!
— А оказалось — пшик! — пожал плечами Любич. — Еще один эрзац!
* * *
В доме сестер Уриашевич — большие перемены, но жизнь течет по-прежнему. Каждое утро Ванда с пустым рюкзаком отправляется в город за пайками, лекарствами, подачками. Перед тем как выйти, просматривает она список лиц и учреждений и намечает маршрут. Из министерства культуры и искусства направляется в Общество польских актеров, оттуда — в дирекцию балета Войска Польского или к самому полковнику Венчевскому. Место умершей матери заняла Иоанна. Ванда с Тосей живут теперь ради нее и на то, что она получает.
Большая, безвкусная фотография викарного епископа Крупоцкого исчезла со стены. За нею ксендз Завичинский прислал как-то своего викария. Невысокий, тщедушный, с коротко остриженными волосами, в чересчур просторной сутане с многочисленными складками, викарий напоминал птенца в оперении большой старой птицы. В Варшаву перевели его откуда-то из-под Сохачева. Ванды не оказалось дома. Тося поздоровалась с ним сдержанно; у них уже было в костеле несколько размолвок: он не осуждал того, что осуждала она, — окружающая действительность не представлялась ему в столь мрачном свете.
Повинуясь желанию ксендза, Тося сняла со стены фотографию, им, кстати, совершенно теперь ненужную. Только спросила вскользь, где ксендз Завичинский собирается ее повесить: дома или в ризнице. Оказалось, нигде не собирается. Тогда она поинтересовалась, зачем ему приспичило забирать у них портрет. Викарий не смог удовлетворить ее любопытства и от смущения покраснел. Вскоре он ушел и больше у них не показывался. Да они его и не приглашали. С тех пор как у сестер поселилась Иоанна, Завичинский ни разу их не навестил. Злопамятный и не прощавший ничего без покаяния, он от них отвернулся. Но они и с этим примирились. А на стену вместо епископской фотографии повесили большой цветной снимок Иоанны в знаменитой сцене балета, который ее прославил.
Мир за окном преображался. Каждую ночь в городе загорались все новые и новые окна. Новая, удивительно красивая городская магистраль рядом с их флигелем с каждым днем метр за метром все дальше оттесняла своим асфальтом и зеленью пустыри, руины и пепелища. Дорог был каждый час.
Только они ничего не видели, ни о чем не знали.
Все в доме шло исстари заведенным порядком. Даже любимый пасьянс покойной матери нашлось кому раскладывать.
— Разложи, разложи пасьянс, — говорила Ванда Иоанне, — быстрей время пройдет.
ЛАБИРИНТ Роман
Перевод Ю. МИРСКОЙ.
I
Поезд медленно подходил к вокзалу. С волнением я смотрел в окно. Хорошо помню все: огни, которых становилось больше и больше, толкотню в коридоре, перрон с толпой ожидающих. За Флоренцией на меня напала страшная сонливость, я не смог против нее устоять. Все-таки я попросил соседа разбудить меня у Орвьето. Мне хотелось увидеть этот городок. Путь следования я знал. Названия городов и городишек, мимо которых нам предстояло проехать, помнил наизусть. Я их вовсе не заучивал. Перед отъездом целыми часами я просматривал старый, довоенный путеводитель по Италии из отцовской библиотеки. Он теперь был со мной. Лежал в чемодане. Но и без его помощи названия одно за другим возникали в моей памяти. Когда итальянец дернул меня за локоть, говоря: «Вот ваше Орвьето», я знал, что теперь в течение ближайшего часа за окнами промелькнут Поджо-ди-Биаджо, Монтефьясконе и Витербо, а без десяти восемь появится наконец Рим.
Вот он и появился. Мне стало еще жарче. Пока мы ехали, я предавался мирному, блаженному созерцанию. Уже много часов крутилась эта лента. Я не отрывал от нее глаз с утра до конца дня. То ли с мистическим трепетом, то ли в опьянении я впивался затуманенным взором в мир, открывающийся за окнами. Он был голубой, кирпичный, оливковый. Все как на репродукциях из альбомов и учебников истории искусства. Чем дальше к югу, тем больше золотистых и желтых тонов. Это тоже как в альбомах. Колорит, архитектура и планировка городков, прилепившихся к скалам, в точности соответствовали репродукциям. Даже очередность их появления. Орвьето тоже был похож на мое представление о нем. Удивительный городок, раскинувшийся на гигантском плоскогорье с отвесными, крутыми стенами. Через мгновение и ультрасовременный римский вокзал напомнит снимки, которые мне тоже довелось видеть. Но для этого нужно выбраться из вагона, смешаться с толпой, выйти на вокзальную площадь, где стоят такси. Пустое дело. Но не в чужом городе, в незнакомом тебе мире.
Чемодан свой я не отдал носильщику, помню и это. Все отдавали, а я нет; это я тоже запомнил. Носильщики быстро передвигались на тележках, предлагали свои услуги. А я тихонько шел вперед, не обращая на них внимания. Я волновался. Не знаю, что меня пугало. Не знаю также, почему я стыдился своего волнения. Ведь в отсутствии житейского опыта нет ничего постыдного. Мимо меня проносились тележки, увозя горы великолепных кофров и чемоданов. Меня обогнали муж с женой, с которыми я ехал в одном купе. Итальянец, дернувший меня за локоть у городка Орвьето, тоже прошел мимо. Я поднес руку к шляпе, а он что-то прокричал на прощание. Я не расслышал, что именно. На какое-то мгновение мне показалось, будто из всего поезда я один остался на перроне. Нет. Вагоны второго класса были в конце. Теперь подходили их пассажиры — черная, шумная, бедно одетая толпа; они сами несли свой багаж. Эти тоже обогнали меня. Я не из слабых. Да и вещей я намеренно взял с собой немного. Но как-никак у меня позади было сорок часов путешествия.
Возбуждение мое не улеглось. То и дело меня кидало в жар. Посредине вокзала я остановился. Света здесь было — как в операционном зале. Алюминий, яркие краски. В Венеции и во Флоренции я выбегал на минутку из вагона — поглядеть на вокзалы. Они меня восхитили. Но римский вокзал все превзошел. У меня закружилась голова. Не знаю почему. То ли от ревности, то ли от зависти. А может быть, от глухой досады? В нескольких шагах от меня стояли столики и стулья целиком из металла. Вокзальное кафе. Я сел, заказал кофе, минут десять отдыхал, разглядывая все вокруг. Так я пришел в себя.
Вот и маленькая гостиница, адрес которой мне дали знакомые в Кракове. Неподалеку от отеля Борромини, где всегда останавливался отец. Но мой «Неттуно» скромненький, дешевый. Здесь я наконец выпустил из рук чемодан — ведь из такси я тоже сам его вынес. Когда чемодан притащили в номер, я вынул только самое необходимое, умылся, сменил рубашку. Потом спустился вниз и сказал портье, что еще сегодня к вечеру сообщу ему, оставлю ли за собой номер. Однако, подойдя к телефону, чтобы позвонить в пансионат «Ванда» и узнать, есть ли там свободные комнаты, я почувствовал, что слишком утомлен и что мне очень хочется есть.
Знакомые говорили мне, что ресторан в «Неттуно» хороший и недорогой. Я заглянул туда. Пусто. Портье из-за своей конторки заметил, что я растерялся. Он не ошибся. Пусто было только в этой части, под крышей. Дальше был садик, точнее, маленький дворик, загримированный под садик, — пергола[18], с которой свисали глицинии и дикий виноград, небольшой фонтан, освещенный цветными лампочками, обломок стены, украшенной каменными ракушками и табличками с латинскими надписями. Я остановился ослепленный.
Я долго наслаждался бы этой картиной, если бы меня не отвлек кельнер. Даже не один, а два или три. Все они были расторопные, самоуверенные, веселые. Тотчас отвели мне столик. А если я захотел бы сесть поближе к фонтану, то мог бы выбрать другой столик. Я сел. Кельнеры наперебой давали мне советы. Передо мной сразу же очутился графинчик. Я налил себе вина. Поглядел на свет, как всегда это делал отец. Выпил.
Я почувствовал себя счастливым. Сезон глициний прошел, ведь уже стоял июль. Но кое-где еще доцветали последние, измельчавшие кисти. Несколько цветочков валялось на гравии у меня под ногами. Я нагнулся за ними. Поднес к самому носу. Они почти не пахли. В них сохранился едва заметный след, далекое эхо того изумительного, дурманящего аромата, который запомнился мне с очень давних времен.
Мне было десять лет, когда отец повез меня в Италию. Это случилось за два года до войны. Отец обычно ездил в Рим позднее, чаще всего в июле, а возвращался в середине августа. Он почти каждый год так ездил. Только один раз поехал раньше и, видимо, не опасаясь, что я буду страдать от жары, взял меня с собой. Но от той поездки мне запомнился прежде всего зной. Душные ночи, нескончаемое лазанье по раскаленным руинам, гигантские, внушающие трепет церкви, море, в котором отец не разрешал мне купаться, и беседка в гостинице на самом верхнем этаже, терраса и беседка, обросшая цветущими глициниями. Вид с этой террасы открывался фантастический. Там был ресторан.
Я выпил еще вина. Оно было кисловатое, холодное. Вокруг стоял гул голосов. Я прислушивался. Приглядывался. Рядом за столиком сидели французы. Напротив — англичане. Но преобладали в ресторане итальянцы. Разговорчивые, шумные, как им и свойственно. Со всех сторон до меня долетали итальянские слова. Я мало что понимал, хотя знаю язык. Свободно читаю и разговариваю. Но только — как шутил отец — с одним итальянцем зараз. Разговариваю и понимаю. Он был прав. Впрочем, ему я обязан тем, что вообще изучил итальянский язык. Еще во время войны он следил за тем, чтобы я регулярно читал, и заставлял меня говорить по-итальянски. После войны он тоже время от времени занимался со мной. Но реже. В особенности с тех пор, как понял, что его планы, связанные с моим будущим, больше не устраивают меня.
Я ел спагетти вилкой и ложкой, низко склонившись над тарелкой. Получалось у меня нескладно. Однако не это было важно. Моим действиям придавали значительность различные воспоминания, и в особенности прощальные слова отца на вокзале в Торуни. «Съешь за мое здоровье большущую порцию спагетти!» — сказал он. Но ел я скорее по настоянию кельнера (он хвалил спагетти и всем их подавал). Я ел, и, по мере того как исчезал голод, во мне нарастало радостное чувство. Отец, воспоминания, Торунь, дело, ради которого я приехал, — все это заполняло мои мысли, но как-то мягче, ласковее. Прежде всего я испытывал радость оттого, что приехал, что нахожусь в Риме, что именно я здесь нахожусь. Нахожусь здесь и сижу как ни в чем не бывало, ем и пью в маленьком итальянском ресторане, красочном миниатюрном рае, где все напоминало о старине. Посредине бьет фонтан. Поднимается, взвивается, разбрызгивает тонкую, как карандаш, струю воды. Ее не слышно из-за шума, царящего вокруг. Можно только догадываться, что вода журчит. Она освежает всю беседку, как и всего меня освежает и очищает от усталости, тревог и беспокойства самый тот факт, что я сижу здесь.
На десерт я выпил кофе. И — в город! Я чувствовал себя усталым, таким же усталым, как в тот момент, когда пришел сюда, но мысль о том, чтобы запереться теперь в комнате, показалась мне нелепой. План города лежал у меня в чемодане. Я взял его у отца. Но подниматься наверх не хотелось. Впрочем, для чего, для чего план? Побродить, размять ноги, еще уверенней почувствовать себя в городе, куда ты приехал, — вот и все, что требуется. Где-то рядом, в нескольких шагах от «Неттуно», находился отель «Борромини». Он-то мне и нужен. Я свернул вправо. Еще одна узенькая улица. Еще одна и еще одна. Прижимаюсь к стене, чтобы пропустить машины. Их тут полно. Наконец Пантеон. Ну, значит, сейчас будет пьяцца Сан Андреа. Так и есть. Вот и «Борромини». Тот самый любимый отель отца, где его встречали как почетного гостя, оставляя для него всегда один и тот же номер. Номер, в котором и я спал на диванчике. Перехожу на другую сторону площади. Закидываю голову. Вот и терраса, обросшая глицинией. Та самая, с которой я часами любовался Римом. Видны столики, и на столиках лампочки с цветными абажурами. Были эти абажуры в то время или их не было? Не помню. Быть может, десятилетний мальчик ужинал раньше, еще до того, как темнело. И уж наверное, не было неоновых ламп у входа в отель. Замечательных неоновых ламп салатного цвета.
Я свернул вправо. Снова в узкие улочки. Здесь было темнее и более душно. С моря уже тянуло вечерним понентино[19], который нес прохладу и освежал воздух. Но до маленьких улочек ветерок не доходил. Воздух по-прежнему был насыщен запахами кухни и мочи. Я с трудом пробивал себе дорогу. Кругом было полно людей. Они болтали, стоя группками в воротах или сидя на низеньких плетеных стульчиках перед закрытыми лавочками. Осторожно проскальзывали машины. Кроме того, множество автомашин стояло вплотную у стен, баррикадируя улочки. Под автомашинами пробегали худые, облезлые кошки. В воздухе тоже пахло кошками.
На углах я останавливался и читал таблички с названиями площадей и улиц. Вдруг я застыл на месте. Пьяцца ди Сан Аполлинаре! Да, это здесь, конечно же! На этой площади находился знаменитый «Аполлинаре», где учился мой отец. Я увидел церковь, носящую имя того же святого. А рядом здание лучшей юридической школы, переведенной теперь в Латеран[20]. Я, наверное, был здесь в детстве. Ничего не помню. Теперь я не отрывал глаз от этого здания, прижавшегося к церкви. Фасад у него красивый, величественный. Мне он показался холодноватым, даже мрачным, хотя отец уверял, что здание это принадлежит к числу красивейших в Риме. Я подошел ближе. Заглянул через решетку во двор. Там виднелись какие-то аркады, а в центре — контуры фонтана, бездействующего или просто бесшумного. Теперь здесь помещается какая-то школа. Так говорил отец. Я поглядел в ту сторону. Так оно и есть. Но в темноте я разобрал на большой каменной доске только одно слово — «liceo»[21]. Стало быть, школа, как он и говорил.
Докторскую степень отец получил тоже в «Аполлинаре». Он провел в Риме семь лет, включая годы практики. Мне отлично знаком этот период его жизни. Отец столько о нем рассказывал! Не только мне — гостям, знакомым, ксендзам из нашей курии. В Торуни было мало людей, окончивших этот атеней[22], самое большее пять-шесть человек, но о его существовании знали все. Мне было известно, что тот, кто хочет как можно лучше изучить церковное право, кончает «Аполлинаре». Ну и что там учились люди, которые впоследствии сделали большую юридическую карьеру в церкви. Зная, что всем это известно, отец любил пошутить даже с теми, кто понимал, что к чему. Он смеялся:
«San Apollinare», «San Apollinare», Più si studia, meno si impara![23]Ксендзы возражали. Отец, впрочем, так же точно возражал бы, если бы кто-то посторонний сказал ему, что в «Сан Аполлинаре» «чем больше учатся, тем меньше узнают». Такую фразу он счел бы святотатством. Иное дело в своем кругу, когда он сам так говорил. С ним горячо спорили. А ему это нравилось. И было приятно, что собеседники могли убедиться, до какой степени он овладел всеми премудростями в «Аполлинаре». Постиг не только их содержание, но и предел.
Я пошел дальше. Ноги несли меня и несли. Все медленней и медленней. Однако я никак не решался прервать прогулку. Все время я чувствовал, что нахожусь в Риме. Что никогда в столь полной мере не буду в Риме, как именно в этот первый вечер. Я был поглощен Римом. Он менялся у меня на глазах. Теперь он сверкал все сильней и сильней, так, что приходилось даже щуриться. Он просто ослеплял меня светом, брызжущим из неоновых ламп и витрин магазинов. Я вышел на огромную, широкую улицу. Обыкновенную улицу, с тротуарами. По ним шли толпы людей, словно на демонстрации. Это было мучительно.
После целого часа изнурительной работы ног и глаз я сообразил, где нахожусь. Еще одна площадь с фонтаном. Я присел на его ограде. Не я один. Несколько человек, подобно мне, искали прохлады. Фонтан я узнал. Сколько раз я разглядывал на фотографиях тритона, сделанного по рисунку Бернини! Я знал также, как называется площадь: Барберини. Справа от меня, где-то здесь, должен находиться дворец Барберини. Его не было видно. Меня отделяла от него большая световая завеса кинорекламы. Слева тянулся квартал Лудовизи, который так нравился моему отцу, — квартал, выросший в более поздний период, построенный после семидесятого года, уже после падения папского государства, красивый, со множеством роскошных ресторанов и отелей. Отец охотно проводил вечера в этом квартале. Но жил он в старом Риме. Поблизости от различных папских учреждений и трибуналов. В Лудовизи ему жить не подобало.
II
На следующий день я позвонил в пансионат «Ванда», просил к телефону пани Рогульскую. «La professoressa è assente! Anche il professore è assente!»[24] Ее не было дома. Ее брата, пана Шумовского, тоже. Я не мог разобрать, когда они вернутся. Камерьера[25], которая мне ответила, трещала как сорока. Она подозвала кого-то, не выпуская из рук телефонной трубки. Таким образом я услышал, что звонит «uno straniero»[26] и невозможно понять, чего этот straniero хочет. Тогда к телефону подошла пани Козицкая.
Но час спустя, когда я добрался наконец, до виа Авеццано, меня приняла пани доктор Рогульская. Я намучился, пока доехал. Разыскать эту улочку было нелегко. Все было так, как мне говорили знакомые и Кракове. Пансионат находился далеко, район малопривлекательный. Я совершенно зря пошел в сторону железной дороги. Взобрался на виадук, не встретив ни живой души. И спросить не у кого, и самому не разобраться. Жарко; внизу, под мостом, грохочут поезда. Я повернул назад и, раз десять справившись, туда ли я иду, в конце концов нашел нужный мне адрес.
Зато самый пансионат произвел на меня приятное впечатление. Знакомые в Кракове предупреждали меня, что там грязно. Я этого не заметил. Чистотой, правда, он не поражал, но мне показалось, что и холл, и столовая, и комната, где мне предстояло жить, содержатся вполне прилично. Что касается цены, то в Риме, пожалуй, и в самом деле не удалось бы найти комнаты дешевле. По крайней мере мне, uno straniero в этом городе.
Я не мог судить, правильно ли мне советовали в Кракове не вести по телефону переговоров относительно комнаты. Но поступил я так, как мне рекомендовали: приехал, чтобы договориться. Признаюсь, если бы свободной комнаты не оказалось, я бы рассердился. Зря пропало бы целое утро. Но все сошло хорошо. Таким образом, я больше не раздумывал о том, действительно ли в пансионате с опаской принимают людей, приехавших из Польши. А если не с опаской, то с осторожностью и, прежде чем отважиться на это, предпочитают сперва поглядеть, с кем имеют дело.
Когда все было улажено, мы присели на минутку в столовой. Комната была светлая, скромно обставленная. Все ее украшение составляли горшки с бегониями, стоявшие на плетеных круглых столиках. А на стенах висели виды довоенной Варшавы в черной тонкой окантовке.
— Стакан чаю — предложила пани Рогульская.
— С удовольствием.
— Здесь не умеют хорошо заваривать чай.
— И верно, — сказал я. — Сегодня утром я попросил в отеле чаю. Слабый и на вкус ужасный!
Пани Рогульская улыбнулась. Губы у нее были тонкие, бледные, но улыбка милая. Должно быть, когда-то пани Рогульская была красива — благородный профиль и большие голубые хмурые глаза. И очень стройна, узка в кости, с прекрасными, почти бескровными пальцами. Она держала стакан, грея руки, хотя день был жаркий.
— Ну и как там теперь в Польше? Лучше?
Я ответил в двух словах, подтвердив, что теперь действительно стало лучше. Она слушала, но я почувствовал, что, хоть ей не безразличен вопрос, который она задала, мой ответ ее не интересует.
Потом она сказала:
— Выпустили вас?
Слова ее прозвучали не как вопрос, требующий пояснений. И даже не как констатация факта. Просто слова из разряда тех, которыми некогда отмечали возвращение из путешествия, сопряженного с известными опасностями.
— Вы надолго?
Об этом мы уже говорили, когда я снимал комнату. На месяц? На два? Все зависит от дела, ради которого я приехал. Что касается денег на расходы, то я рассчитывал на помощь адвоката Кампилли, помня о его обещании в письме к отцу. Об этом я, разумеется, ничего не сказал пани Рогульской.
— Думаю, что на месяц, — ответил я.
— В Риме впервые?
— Нет.
И я рассказал ей, как приезжал сюда в детстве. Добавил несколько слов об отце. О его связях с Римом.
— А мы здесь уже восемнадцать лет!
Я знал, что она говорит о себе и о своем брате. Они оба очутились здесь в конце тридцать девятого года. Я слышал об этом от знакомых в Кракове. Оба были мобилизованы, он офицер запаса, она врач. Они пробрались через Румынию в Югославию. А из Югославии в Италию. И отсюда уже дальше не двинулись. Ни во время войны, ни после.
Она спросила, чем я занимаюсь на родине.
— Наукой. Я ассистент на кафедре истории права. Докторскую степень получил в Кракове. Несколько моих работ напечатано в научных журналах, и отдельно издана докторская диссертация «Польский судебный процесс XVI века».
— Ну а как теперь обстоит с наукой в Польше?
До войны она была доцентом на кафедре стоматологии в Варшавском университете. Кажется, и здесь, в Риме, она где-то работала по своей специальности. Ее брат, магистр истории искусств, до войны тоже занимал какую-то должность в Национальном музее. Все это я знал от наших общих краковских знакомых. Следовательно, вопрос, который она теперь задала, мог заинтересовать ее больше, чем все предыдущие. Поэтому я ответил несколько подробнее. Однако вскоре понял, что все близкое мне в этом вопросе ей бесконечно далеко. Тем не менее она с любезным видом слушала мой рассказ.
— Что вы говорите! — вежливо удивлялась она. — Неужто? Неужто?
Таким образом мы поболтали еще с часок. Около двенадцати она напомнила мне, что надо позвонить в «Неттуно» и отказаться там от комнаты. А когда я объяснялся по телефону и она усомнилась, правильно ли портье меня понял, то сама взяла трубку и сказала все, что нужно.
Я вернулся в отель. Заплатил по счету. Чемодан оставил у портье, предварительно вынув из него письмо к синьору Кампилли и копию мемориала[27], который я должен был подать. Мы с отцом решили, что синьор Кампилли просмотрит мемориал и, возможно, внесет свои поправки. В конверт с письмом отца я вложил записку от своего имени, сообщая адрес и телефон «Ванды».
Дом синьора Кампилли я нашел без труда. Я вышел из троллейбуса возле замка Сан Анджело[28] и двинулся в сторону собора святого Петра. Солнце жгло. Так и обдавало жаром. Я шел весь мокрый от пота, оглушенный движением; меня толкали паломники и туристы, в этой части города их бродят тысячи. Из-за того, что меня толкали, я продвигался вперед зигзагами, как пьяный, но на душе у меня было легко, я восхищался небом, воздухом, светом, Тибром, платанами, мостом, замком святого Ангела. Вдруг я увидел впереди собор. Над ним купол из поблекшего серебра, такой четкий по своей форме и очертаниям на фоне неба, что сердце мое едва не выскочило из груди, словно я шел навстречу очень близкому человеку или чуду.
Я простоял там, пожалуй, с четверть часа. Однако становилось немыслимо жарко. У меня просто рябило в глазах. Я свернул направо. Укрылся в тени, под колоннадой Бернини. Потом пошел по виа делла Порта Анджелика и дальше и дальше — на виале Ватикано, окружавшей всю его территорию. На одной ее стороне высились каменные стены, в которых кое-где были пробиты ворота, а на другой — старые виллы, потускневшие от времени, окруженные вековыми садами с густо разросшимися деревьями и кустами, почти без цветов.
Миновав с десяток таких вилл, я остановился. Так и есть. Угловая, солидная, на пересечении виале Ватикано и кливо делле Мура Ватикане[29], откуда открывался вид на километры вокруг, — это их вилла, вилла семейства Кампилли, что подтверждала большая медная табличка, прикрепленная к столбу возле стены, отполированная, сверкающая, одна-единственная без патины, с надписью: «Prof. Marcantonio Campilli». И на другой строчке: «Avvocato del Sacro Concistoro»[30].
Я позвонил. Один раз, немного погодя другой. Наконец в дверях появился лакей, о чем я догадался по малиновой куртке в серую полоску; такую я уже видел на лакее в «Неттуно». Не дожидаясь, что я скажу, он сообщил:
— Il signor avvocato è uscito[31].
Через решетку калитки я показал ему конверт, адресованный адвокату. Тогда он решился привести в действие механизм. Решетчатая калитка отворилась. К вилле вела широкая аллея, усыпанная гравием, обсаженная кипарисами. Я отдал письмо.
Было уже около двух. Следовало поесть, ну и воспользовавшись случаем, переждать самые жаркие часы. Как ни был я восхищен всем, что увидел, восторженное состояние, сопутствовавшее мне с того момента, когда я очутился среди красот и чудес этого квартала, мало-помалу улетучивалось. Я отупел от усталости, но пока что не заметил нигде поблизости ни ресторана, ни бара. По одной стороне — только каменные стены, самое меньшее десятиметровые, отвесные, некогда служившие для защиты, с кое-где пробитыми в них воротами, а по другой — виллы разных церковных тузов, светских или духовных, которые селились здесь особенно охотно не только ради близости к ватиканским стенам, но и потому, что это считалось хорошим тоном. Обо всем этом я слышал от отца. Я понимал также, почему здесь нет никаких ресторанов или кафе. Они были бы неуместны в таком квартале.
Однако жаловаться у меня не было оснований. Едва миновав последний поворот, я увидел множество столиков с мраморными досками, накрытых скатертями. Столики стояли всюду — на тротуарах, отгороженные от улицы зелеными кадками с геранью и петунией, за большими решетками с украшениями из латуни, и еще во двориках — по образцу вчерашнего ресторана в отеле «Неттуно». Столиков было чересчур много, что затрудняло выбор. Наконец я зашел в один из ресторанчиков, расположенных во дворике. Ему не хватало очарования вчерашнего вечера — и потому, что обстановка была более убогой, и потому, что дело происходило днем, и, значит, не было того особого настроения, которое возникает от смешения черноты ночи с искусственным освещением. Прежде чем войти в ресторан, я запасся одним из тех еженедельников, которые манили меня чистыми яркими красками своих обложек из всех киосков на пути от Венеции до римского вокзала. Я намеревался после еды почитать, чтобы убить время, дожидаясь часа, когда спадет жара. Много прочесть мне не удалось. Как только я поел, выпив при этом графинчик, мне так захотелось спать, что буквы расплывались перед глазами, а итальянские слова не лезли в голову. Я отложил журнальчик. В пять — снова в «Ванде». Распаковал вещи и лег. И спал часа два! Быть может, я спал бы еще дольше, но меня разбудили к ужину.
В столовой было накрыто на пять персон. Мой прибор в конце стола. Рядом со мной с одной стороны стул, прислоненный в наклонном положении к столу, в знак того, что место занято, с другой стороны дама моего возраста с высоким лбом, маленьким носиком и крупным ртом; как я догадался — племянница хозяйки. Я слышал о ней от наших общих знакомых, но очень мало. Пансионатом, собственно говоря, занималась она. В то время, когда здесь были мои знакомые, она стряпала и даже стирала и, по целым дням привязанная к кухне, вовсе не показывалась в столовой.
Я обошел вокруг стола, поздоровался сперва с пани Рогульской, потом с ее братом паном Юзефом Шумовским — он сидел рядом с ней — и затем с их племянницей пани Козицкой. О Шумовском я тоже слышал одно хорошее. Он превосходно знал Рим. Отлично изучил памятники древности. В туристский сезон с утра до вечера водил по Риму различные группы. Когда мои знакомые — те, что дали мне адрес «Ванды», — были в Риме, он, даже усталый, измученный, всегда находил для них время. Поздоровавшись, я передал ему приветы от них и добавил, что они с восхищением и благодарностью вспоминают о нем.
Шумовский без улыбки поблагодарил за приветы. На нем был свитер, хотя вечером тоже было жарко, и Шумовский потел так же, как мы все. Лысоватый, жирноватый, даже тучный, он внимательно ко мне приглядывался. Красиво очерченные брови оттеняли его слегка покрасневшие глаза. Хотя мои комплименты Шумовский воспринял весьма сдержанно, сразу же выяснилось, что поговорить он любит. Из его слов и из тех фраз, которые вставляла его сестра, пани Рогульская, я сделал вывод, что они знают обо мне гораздо больше, чем можно было почерпнуть из нашего утреннего разговора в пансионате. Я догадался, что они обзвонили всю польскую колонию, собирая обо мне сведения. Вот так, из любопытства или от недоверия. А может, попросту из осторожности — об этом мне тоже немало рассказывали мои знакомые. Да пожалуйста! Мне нечего скрывать. Дело, ради которого я приехал, носит чисто личный характер. Впрочем, если бы даже кое-что до них дошло, то в хлопотах, которые я намеревался предпринять, тоже не было ничего зазорного. Однако, судя по их словам, они ничего не слышали о трениях между моим отцом и епископом Гожелинским. Разузнали только кое-что о моей семье, среде, интересах. Значит, одни только утешительные сведения.
В утренней беседе с пани Рогульской я упомянул о моем отце и его связях с Римом. Не дожидаясь, пока я сам об этом заговорю, пан Шумовский предложил повести меня в церковку святого Аполлинаре и, главное, показать здание бывшего папского института utriusque juri[32]. Попутно он блеснул познаниями — сообщил, что святой Аполлинаре был епископом Равенны и учеником святого Петра, что в церкви под алтарем лежат останки бессчетного количества святых и блаженных армян; рассказал о фасаде церкви — древнехристианском соборе, от которого, однако, ничего не осталось, — и о пристроенном к церкви здании, двух шедеврах Фердинандо Фуджи. Об «Аполлинаре» он тоже все знал, с уважением перечислил ватиканских сановников, которые окончили это учебное заведение.
Высказав все это, он задумался.
— Может, пойдем с вами завтра, а? — Но тут же спохватился. — Нет! Нет! С самого утра у меня испанские туристы. Потом группа монахинь, тоже испанских. А в четыре какие-то цветные туристы, кажется африканские. Послезавтра у меня тоже каторжный день.
— Ничего. От нас это не убежит, — сказал я.
— Будем надеяться.
Заговорив о своем Риме, он расстегнул ворот свитера. Теперь снова его застегнул.
— Самое скверное — группы, — продолжал он. — Собирают их с бору по сосенке. Тут торговец, а рядом парикмахер, а там народная учительница, — одним словом, мозаика. Разный уровень, разные интересы. Трудно с ними работать.
Ужин окончился. Стул, прислоненный к столу, никто так и не занял. От начала ужина и до самого конца пани Козицкая не подарила взглядом или словом ни дядю, ни тетку, ни меня. Мы встали.
— Может, зайдете ко мне покурить? — предложил пан Шумовский.
— Ты обещал не курить, — покачала головой пани Рогульская.
— Одну сигарету, — улыбнулся Шумовский.
Я поклонился дамам. Пан Шумовский повел меня к себе, отворил дверь и прошел вперед, чтобы зажечь свет. Комната была небольшая. Маленькая тахта, полка с книжками, большой письменный стол, заваленный путеводителями по Риму, одни раскрыты, в других закладки из разрезанных полосками газет. Над столом большая фотография Падеревского. На стенах снимки Варшавы, так же окантованные, как в столовой. Рядом с ними диплом магистра гуманитарного факультета Варшавского университета с вписанной готическим почерком фамилией Шумовского. Перед Падеревским — несколько белых астр в глиняной вазе, вероятно польской, в народном стиле.
Мы сели. Я достал из кармана сигареты.
— Польские? — поинтересовался Шумовский.
Он взял у меня из рук пачку и стал разглядывать ее, как антикварную редкость. В этот момент в дверях появилась горничная.
— Una telefonata per lei[33].
— Della parte di chi?[34] — спросил Шумовский, хотя было совершенно ясно, что горничная обращается ко мне.
— Della parte dell’avvocato Campilli[35].
— Это ко мне, — сказал я.
Так и было. Меня приветствовал по телефону барственный, но очень дружелюбный, задушевный голос. Мягко, медленно, нараспев адвокат сообщил, что счастлив узнать о моем приезде. Он будет рад меня принять в любое время, однако лучше всего в одиннадцать утра или в пять пополудни. Я предпочел одиннадцать.
— Я с волнением прочитал письмо вашего милого отца, — сказал Кампилли. — И мемориал.
— А как мемориал? — спросил я.
— Отличный. Отличный, — ответил он. — Но поговорим о нем завтра.
Я вернулся к Шумовскому. Он по-прежнему разглядывал пачку сигарет. Впрочем, вполне безотчетно, потому что его мысли, кажется, были заняты Кампилли.
— Он тоже из «Аполлинаре», — заметил Шумовский.
— Я знаю. Он ведь учился вместе с моим отцом.
— Женат на польке.
— Знаю, — ответил я. — Господа Кампилли до войны были очень дружны с моими родителями. Мой отец состоит с ними в постоянной переписке.
— И зять у него поляк.
— Я слышал об этом.
Дверь снова приоткрылась. На пороге появилась пани Козицкая, держа высокую рюмку для вина.
— Дядюшка, сироп.
Она присела на стул, ожидая, пока он выпьет. Как и раньше, Козицкая была молчалива и не поднимала глаз. Шумовский пригубил лекарство, поморщился.
— Мне приходится ухаживать за своим голосом, как Карузо, — объяснял он. — Сырые, холодные церкви вперемежку с раскаленными площадями и улицами — это ужасно. Ну и в автобусах все окна открыты — сквозняк. С одной стороны греет, с другой дует. И ко всему надо надрывать глотку. Если в автобусе — так из-за уличного шума, а если в церкви или, например, в Форум Романум — так мои туристы не стоят на месте, а расползаются кто куда.
Он жаловался и медленно пил сироп. Наконец он справился с ним и потянулся за сигаретами, лежавшими на столе, но Козицкая накрыла их рукой.
— Лучше не курите, дядюшка, — сказала она, а затем оставила нас одних.
Мы еще немного поговорили о том о сем. Вернувшись к себе в комнату, я долго не мог заснуть. Улица была шумная, поблизости гудели поезда; я прочитал от первой до последней строчки итальянский журнал, который купил после того, как вручил письмо лакею адвоката Кампилли.
III
Проснулся я рано, и сразу на меня дохнула жара и оглушил шум, тот же самый, что и вчера, еще умноженный на голоса уличных торговцев. Я выглянул в окно. У ворот дома стояла тележка с помидорами и зеленью, по мостовой тащился ослик, нагруженный корзинами персиков, чуть подальше угольщик толкал тачку с поблескивающими на солнце черными глыбами и смолистыми ветками для растопки, на которых искрились капли живицы. Было очень шумно. Отдельных голосов я не различал. Я видел только широко разинутые, кричащие рты. И всюду краски, до предела насыщенные светом. Краски, сплошной крик, жара.
Чтобы попасть в ванную, мне пришлось пройти через столовую. Возвращаясь из ванной, я увидел, что пустовавшее вчера место занимает пожилой господин с проседью, в роговых очках, погруженный в чтение газеты большего формата, чем наши, польские. Я не знал, кто он: поляк или итальянец. В зависимости от ситуации следовало сказать «добрый день» по-польски или по-итальянски «buongiorno». Пока я раздумывал, не зная, как поступить, неизвестный мне обитатель пансионата встал и поздоровался со мной по-польски. Он уже знал, кто я такой и когда приехал в Рим. Спросил, как я спал первую ночь на новом месте. Его удивило, что я спал хорошо, несмотря на температуру, и особенно, что днем меня не валит с ног жара.
Он приписал сон усталости после путешествия, а невосприимчивость к жаре объяснил тем, что я всего два дня в Риме и зной не успел еще истомить мое сердце. Все это он высказал еще до того, как мы друг другу представились. Наконец он назвал свою фамилию — Малинский, и при этом пожал мне руку как доброму знакомому. Хотя он держался очень сердечно и произвел на меня приятное впечатление, я не поддержал разговора. До встречи с Кампилли оставалось, правда, много времени, но я все-таки торопился. Как и всякий новичок в большом городе, я испытывал страх перед средствами передвижения, тем более что в Риме ими пользоваться очень сложно, в чем я уже успел убедиться. Таким образом, наш контакт оборвался на дружеском рукопожатии. По крайней мере на этот раз.
До виллы адвоката Кампилли я добрался вовремя. Даже смог передохнуть у излома колоссальных замшелых каменных стен — чтобы остыть. Здесь была тень, и, значит, в этом месте стена была холодная. Пустынно, тихо. Вдали, за несколькими поворотами, следовавшими после мощных защитных бастионов, был вход в ватиканские музеи. У ворот высотой в несколько этажей царило оживленное движение. Группы приезжих высаживались из больших туристских автобусов. Тянулись вереницы пеших паломников. Из-за потока машин возникали пробки. Все это происходило в пятистах метрах от меня, если идти вниз по улице. Но здесь, в верхней части виале, была полная тишина.
С адвокатом я, разумеется, был знаком. Однако, не будь у отца его фотографии, в моей памяти мало что сохранилось бы от встречи двадцатилетней давности. Я не узнал бы его. Но теперь, благодаря фотокарточке, я сразу догадался, что седоватый господин в синем костюме, осторожно тормозивший машину песочного цвета, — это адвокат Кампилли. Он еще разворачивался, ставя машину в гараж, а я уже подошел к калитке его дома. Он обернулся и тоже мгновенно узнал меня. Но, как мне кажется, вовсе не потому, что видел меня когда-то, а просто из-за моего сходства с отцом. Ворот гаража он не закрыл. Сразу бросился ко мне.
— Как приятно! — воскликнул он. — Ну наконец-то.
Вид у Кампилли был отличный. Волосы слегка вились. От него пахло лавандой. Из кармашка пиджака элегантно торчал светлый платочек. С минуту он держал меня за руки. Потом положил ладони на мои плечи.
— Как ты похож на отца! — несколько раз повторил он.
Он не мог надивиться этому. Больше того — нарадоваться. Не только глаза и улыбка, даже жесты у меня были отцовские. Даже мое итальянское произношение напоминало ему отца.
— Я словно слышу его, — уверял он.
— С той лишь разницей, что отец хорошо говорит по-итальянски, а я прескверно, — засмеялся я.
— Научишься. А впрочем, не в том дело.
Все это мы сказали друг другу до того, как он отворил дверь виллы ключиком, выбрав его из целой связки, хранившейся в изящном портмоне. Мы вошли в роскошный холл, где стояло множество бюстов и статуй. Тень от них падала на пол, выложенный черными и белыми ромбами. Прошли через маленький зал, где преобладали золотисто-розоватые тона. Я догадался, что это приемная. На столах и столиках лежали различные иллюстрированные издания. Следующая дверь вела из зала в кабинет адвоката. Здесь мы наконец уселись в удобных кожаных креслах, низких и очень глубоких, среди шкафов, заполненных так хорошо мне знакомыми томами «Bullarium», «Juris Canonici Fontes» и «Decisiones seu Sententiae»[36], лишь немногие из которых сохранились у отца.
Мы еще несколько минут поговорили о моем сходстве с отцом. Оно искренне растрогало адвоката. Я напоминал ему отца, что в свою очередь напоминало ему молодость. Годы учения и различные связанные с ними приключения. А также приключения, связанные не с учением, а с молодыми годами. Я же, глядя на Кампилли, размышлял о том, что и он мне напоминает отца. Не буквально, не физически. Однако в облике этого человека было нечто, заставлявшее меня думать об отце.
Вернее всего, сходство было в особого рода элегантности, покрое костюма, типе рубашек, хорошем вкусе при подборе тонов, что особенно бросалось в глаза в Торуни, где господствовал тяжеловесный стиль в одежде даже в наши дни, когда в город съехались люди с разных концов Польши. В том, что отец проникся духом Италии, нет ничего удивительного. Он увлекся ею смолоду, а потом в течение стольких лет ездил туда и, наверное, там все покупал для себя. Более удивительным было то, что и теперь он находил время и энергию и — прежде всего — деньги, чтобы одеваться так же, как в прежние годы. Я знал, что с тех пор, как епископ стал чинить ему трудности, он едва сводил концы с концами. Вероятно, ему приходилось во всем себя ограничивать, чтобы не отступать от своих привычек. Но так или иначе, мы оба с синьором Кампилли были растроганы. Меня растрогал он, его — я, а точнее — нас обоих растрогал отец, здесь не присутствующий, но какими-то своими чертами воплотившийся в каждом из нас.
Кампилли знал, что через несколько месяцев после вступления немцев в Торунь нас выселили и всю войну мы прожили в Кракове. Отец писал ему об этом. Но мне пришлось рассказать ему еще раз, как нас вынудили в течение получаса покинуть квартиру, разрешив взять с собой только по чемоданчику. С моей матерью он был знаком: она несколько раз ездила с отцом в Рим. Ему захотелось услышать подробности о ее болезни и смерти. Далекие дни, события пятнадцатилетней давности, словно живые, встали перед моими глазами. Мать в Кракове стряпала для нас. Однажды она рубила мясо — видимо, оно было не вполне свежее, — порезала палец, и у нее началось заражение крови. Болезнь развивалась молниеносно, спустя сутки вены на ее руке уже почернели. Я не отходил от матери. Отец носился по городу в поисках лекарства, но его нигде нельзя было достать. А без лекарства самые лучшие врачи, которых мы пригласили, ничем не могли помочь. Она скончалась неделю спустя, под утро, когда я спал в кресле возле ее кровати, а отец — на кушетке в соседней комнате.
В кабинете Кампилли было светло даже при опущенных жалюзи. Лучи проникали только сквозь узкие щелки. Но этого оказалось достаточно, чтобы победить мрак, — так велика была пробивная сила солнца. Кампилли встал и прошелся по комнате. Рассказ о смерти произвел на него впечатление не в силу своей исключительности. Ведь если учесть время и место, смерть эта не была особо героической. Она взволновала его так, как волновало все, касавшееся моего отца, а значит, их общей молодости. Он произнес несколько теплых слов, засуетился возле шкафчика со спиртными напитками, потом позвонил, чтобы принесли лед и кофе.
Теперь в свою очередь он рассказал мне о своей семье. Начал с себя, а именно с того, что он не воевал, так как его затребовал в свое распоряжение Ватикан. Много ездил, главным образом в Германию, Швейцарию, Испанию, ну и в Риме массу времени посвящал большому благотворительному учреждению, созданному Ватиканом. Жена работала в больницах, тоже ватиканских, рассчитанных на беженцев и лиц, пользующихся правом убежища. Дочка тоже работала, но только в последний год войны и после освобождения Рима; до этого она была слишком мала. Тогда-то она и познакомилась со своим теперешним мужем, польским офицером, который обратился к синьоре Кампилли с просьбой о постое для солдат. Она пригласила в дом этого человека — первого поляка из частей, вступивших в Рим вместе с союзниками, не предполагая, что приглашает будущего зятя.
Вошел лакей в полосатой куртке. На полированном, несколько великоватом подносе он принес две маленькие чашечки кофе, две рюмки и небольшую вазочку с кусочками льда. Синьор Кампилли предложил мне вермут, сказав, что для этого времени дня вермут незаменимый напиток. Бросил в рюмку лед. Залил его золотистой, мерцающей в полумраке жидкостью. Вермут действительно освежил меня.
— Жена, наверное, захочет тебя повидать, — продолжал он. — Теперь она в Остии. У нас там вилла, и мы туда перебираемся на лето. Жена, дочь, зять. Что касается меня, то, пока курия работает, я езжу к ним только на субботу и воскресенье.
Я потянулся за рюмкой.
— Ну как вермут?
— Отменный.
— Как долго ты думаешь пробыть в Риме?
— Зависит от обстоятельств.
— Понятно, — сказал он. — Прежде всего уладим финансовую сторону.
Моих денег могло хватить на неделю. Столько мне выдала валютная комиссия. Я сказал об этом Кампилли. Он внимательно выслушал, после чего заметил:
— Ты мой гость. О деньгах не беспокойся За неделю ты ничего не добьешься. В лучшем случае успеешь нанести несколько визитов, да и то, наверное, не самых важных, то есть не попадешь на прием к людям, которые могут помочь. Они заняты.
Затем он спросил, где я живу. Я ответил.
— Ах, правда, ты писал мне, — скачал он. — Ну что ж, это приличное место. К кому ты думаешь здесь обратиться?
— Я хотел бы посоветоваться с вами.
— А какие фамилии назвал тебе отец? Разумеется, рассчитывать можно только на тех, кто хороню его помнит.
Я достал блокнот, в котором у меня все было записано.
— Отец де Вос.
— Отлично.
— Отец Кордеро.
— Умер.
— Монсиньор Крешенци.
— Нунций в Лиссабоне.
— Монсиньор Риго.
— Отлично.
— Адвокат Куньяль, патрон отца.
— Фи!
— Слишком стар?
— В курии не существует такого понятия. А в твоем случае только очень старые люди смогут тебе помочь. Куньяль, бедняжка, болеет в последнее время и чаще всего находится вне Рима.
— Я мог бы к нему подъехать. Отец очень на него рассчитывал.
— А я бы не рассчитывал. Скажу тебе откровенно: Куньялю уже память изменяет. Кто у тебя там еще?
У меня больше никого не было. Я огорчился.
— Значит, остаются де Вос и Риго. Достаточно.
— Вы так считаете?
— Конечно. Дело несложное. Но деликатное. Не надо поднимать вокруг него слишком много шуму. Это могло бы только снизить шансы на успех. Ты куда-нибудь уже обращался?
— Нет. Только к вам.
Он предложил мне рюмку вина. Сам тоже выпил. Потом задумался.
— Напиши отцу де Восу, — сказал он наконец. — Так же, как мне. Это лучшая форма. Хотя нет. Ему можно даже позвонить. Или напиши, что ты находишься здесь и завтра с утра позвонишь. Да, так проще всего.
Придуманный им ход и вся эта тактическая схоластика рассмешили его. Но тотчас он снова заговорил с прежней серьезностью:
— И расскажи ему все. Он человек дальновидный и осторожный. Для меня, например, его мнение будет авторитетным. Однако пока я бы не относил мемориала.
— Он не годится?
— С чего ты взял? Очень хорош.
— Тогда почему же?
— Он по-своему хорош. Только, быть может — понадобятся другие аргументы. Ведь дело можно представить на тысячи ладов. Сперва надо знать, каковы там настроения и что монсиньоры в данном вопросе готовы считать истиной. Нам отнюдь не следует навязывать свое мнение. Мемориал твоего отца должен подтвердить их точку зрения, то есть точку зрения тех лиц, относительно которых у нас будет уверенность, что они к нему благоволят. Понимаешь?
— Не вполне. Но, разумеется, я подчиняюсь.
Он взглянул на часы.
— Гляди-ка, скоро час. Ну и заболтались мы!
Я встал, чтобы попрощаться. Он удержал меня. Объяснил, что обедает в городе, поскольку жена увезла кухарку в Остию. Посоветовал мне позвонить в пансионат и предупредить, что я не вернусь к обеду. А затем спросил, куда бы мне хотелось пойти. Я засмеялся, ведь я не знаю римских ресторанов. На это он возразил, что мой отец знал все рестораны, понятно из числа лучших, и, наверное, мне о них рассказывал. Я вспомнил несколько названий, которые отец чаще всего упоминал. Синьор Кампилли одобрительно кивал головой, когда я произносил эти названия.
— Превосходно! — говорил он. — Превосходно!
Он успокоился, со лба исчезли морщины.
Образ моего отца — любителя итальянских ресторанов — в данном случае тоже связывался с далекими временами и, должно быть, вызвал у Кампилли приятные ассоциации. Он пришел в хорошее настроение, выбор его пал на первый из названных мною ресторанов. Он позвонил лакею, сказал, что уходит. А когда тот исчез за дверью в приемную, синьор Кампилли протянул руку к лежавшему на письменном столе конверту, видимо заготовленному до моего прихода.
— Возьми, — сказал он. — У меня старые счеты с твоим отцом. Поэтому не смущайся.
Никаких счетов у них не было. Я хорошо это знал. Кампилли просто избрал такую форму. Я поблагодарил.
— Когда истратишь их, сообщи, — добавил он. — Если бы мое дитя оказалось без денег, твой отец тоже ему помог бы. Я надеюсь, что ты будешь смотреть просто на такие вещи.
Мы обнялись. Я спрятал конверт. Перед уходом мы пошли в ванную вымыть руки. Мы шли и шли, тогда только я понял, какая огромная вилла у семейства Кампилли. Ванная тоже была большая. В ней могла бы уместиться вся наша торуньская квартирка. Из окна, выходившего в сад, открывался бесконечно далекий ландшафт, тот самый, которым я вчера любовался с угла виале и кливо делле Мура Ватикане.
Ресторан поразил меня своим внутренним видом. Залы узкие и высокие, как церковный неф; в окнах витражи, пропускающие мало света. Среди этой непонятной архитектуры кружилась тьма кельнеров в ослепительно белых накрахмаленных пиджаках. Все они знали адвоката. Он долго раздумывал, какой выбрать столик. Наконец мы сели. Вино Кампилли выбирал так же старательно, как столик. Наполнив бокалы, чокнулся со мной, выпил за здоровье отца и за успех его дела. Но о деле мы больше не говорили. Он не хотел. Раза два я пытался возобновить разговор на эту тему, но Кампилли уклонялся. Обрывал меня, говоря:
— Теперь важнее всего побеседовать с де Восом; интересно, что скажет отец де Вос.
Мне хотелось использовать пребывание в Риме для моих научных занятий, и я намекнул на это. Работая над моим «Польским судебным процессом XVI века», я наткнулся во Вроцлаве на любопытный документ — послание Испанской Роты, адресованное вроцлавской курии. Послание, снабженное печатью, которая дала мне повод для размышлений. Я обнаружил, что некоторые ее детали могут разрешить спор, тянувшийся целые десятилетия, — спор о происхождении названия папского трибунала: Рота. Нужно было исследовать ее печати на самых старых документах. Из литературных источников я знал, что печати хранятся в Ватиканской библиотеке. Я вкратце рассказал об этом Кампилли и спросил, не может ли он оказать мне содействие, поскольку я слышал, что полякам, приезжающим из Польши, чинят препятствия. Он посоветовал мне и с этой просьбой обратиться к отцу де Восу. Сказал, что сам по себе вопрос пустяковый, но, если им займется де Вос, профессор, ученый, это будет выглядеть более естественно. Мы выпили также и за успех моих планов.
IV
Выспался я отлично. Проснулся, не чувствуя лихорадочной дрожи, не покидавшей меня со дня приезда, и без той слезинки, которая то и дело пробегала от сердца к глазам, щекотала веки и в любой момент готова была выползти наружу. Я думал, что это вызвано натиском воспоминаний и разных ассоциаций, а это была просто усталость. Исчезло также волнение, естественное в моем положении, но еще подхлестываемое усталостью.
Одевшись, я первым делом позвонил по телефону. Вчера, как и советовал мне Кампилли, я оставил письмо на пьяцца делла Пилотта, где находится университет Грегориана и где живут его профессора. Кампилли продиктовал мне письмо и подвез на пьяцца делла Пилотта. Он предложил подвезти меня до самой «Ванды». Я отказался. Передав письмо, я вволю погулял. Сперва решил обойти университет, а вернее огромный четырехугольник дворцов, церквей и садов, в которых он размещен. По пути то и дело встречались колоссальные лестницы. У меня спирало дыхание. От вида этих лестниц и от восторга, потому что весь ансамбль действительно очень внушительный. Особенно со стороны Квиринала. Нечто сказочное!
Я разыскал в записной книжке номер, который тоже дал мне Кампилли. Набрал. Пока я стоял у телефона, перед моими глазами высилось здание университета. Лестница, вестибюль и дежурная комната, где сидели два молоденьких иезуита: один в справочном окошке, другой — у телефонного коммутатора. Ему-то теперь я пытался по буквам назвать свою фамилию. Безуспешно.
— Скажите, пожалуйста, отцу де Восу, — сказал я тогда, — что звонит тот поляк, который вчера оставил ему письмо.
— Понимаю.
Наконец отозвался сам де Вос. Я смелей произнес свою фамилию, ему она была знакома. Молчание. Я упомянул о письме. Молчание. Затем я сказал, что привез ему привет от отца. Вместо ответа все то же молчание. И только спросив, может ли он меня принять, я услышал:
— К вашим услугам.
И тут же, прежде чем я успел поблагодарить и попросить назначить час, он добавил:
— В двенадцать. Вам удобно?
— Да-да. Я буду точен.
— Слава Иисусу Христу.
Он говорил тихо. А последние слова произнес еще тише. Если я их уловил, то скорее по наитию, чем на слух. Заканчивая разговор, он, вероятно, уже опускал трубку на рычаг. Я тоже положил трубку. Некоторое время я не отходил от телефона. Короткий диалог, только что оборвавшийся, все еще звучал у меня в ушах. Слова священника де Воса, скупые и лишенные интонации, приковывали внимание. Мой отец высоко его ценил. В «Аполлинаре» де Вос читал процессуальное церковное право. Вероятно, этот же курс вел и в Грегориане. Предмет свой он знал и, хоть это материя сухая, лекции читал интересно. Мне известно также, что он автор нескольких знаменитых публикации.
Но у студентов он заслужил добрую славу прежде всего своей сердечностью и искренностью. Его ученики всегда знали, как с ним себя держать. Он не юлил. Не обижался. Не чванился. Так мне его охарактеризовал отец, добавив, что у других священников нрав куда более крутой. По этим причинам отец и поместил де Воса в списке лиц, к которым мне следовало явиться в Риме. Я полагаю, что он поместил отца де Воса на первом месте еще и потому, что в курии считались с его мнением. Он входил в состав различных совещательных, научных и административных комиссии и органов. Отец прекрасно разбирался в их сложном переплетении и даже сообщил мне их названия. Они вылетели у меня из памяти. Во всяком случае, помню одно — они звучали внушительно. И следовательно, священник де Вос имел в курии влияние.
Спешить мне было незачем, и одевался я медленно. В задумчивости ходил по комнате, мысленно приводя в порядок все материалы для предстоящей беседы. За окном буйствовали краски, к которым я уже привык, и раздавались крики, которые теперь меня не отвлекали. Я раскрыл блокнот и набросал кратенький план беседы. Важнее всего было не растекаться, по возможности сжато и без отступлений показать различия в точках зрения, основу и историю спора. Это было важнее всего, но отнюдь не легко, хотя бы потому, что период идиллических отношений между епископом Гожелинским и моим отцом отошел в далекое прошлое. Потом начались трения и тот конфликт, из-за которого пострадал мой отец и который, помимо всего, материально разорял его.
Закончив заметки, я заглянул на кухню — предупредить, что опоздаю к обеду. Как и принято в Италии, обедали здесь рано, в половине второго, и я боялся, что не поспею вовремя с пьяцца делла Пилотта. На кухне я застал пани Козицкую. Рядом с ней — с одной стороны горничная, с другой — кухарка, а напротив — уличный торговец рыбой, который в соответствии с ритмом переговоров то закидывал на плечо корзинку с товаром, то снимал ее. В ответ на мои слова пани Козицкая кивнула головой, дав понять, что принимает их к сведению. Но повернулась ко мне, лишь когда заметила, что я не двигаюсь с места, ибо сценка заинтересовала меня. Во взгляде ее я не прочел одобрения. И поэтому поскорее удалился из кухни.
В передней — Малинский. Роговые очки. Портфель. И на поводке маленький бульдог, приветствующий меня рычанием.
— Вы куда?
— В город.
— Могу вас подбросить.
Я колеблюсь. Сам не знаю почему; ведь я звонил отцу де Восу из пансионата, а не из какого-нибудь бара. Вернее всего, я колеблюсь потому, что в предложении Малинского слышу тон превосходства. И когда Малинский спрашивает, куда меня надо доставить, отвечаю: к Квириналу. Мы спускаемся вниз. Синий фиатик у ворот, мимо которого я несколько раз проходил, оказывается, принадлежит Малинскому. Я сажусь. Черный как сажа бульдог, который перестал на меня ворчать еще на лестнице, теперь дружески располагается на моих коленях. Мы трогаемся. Малинский везет меня не той дорогой, по которой идет троллейбус, а более красивой. Но, оказывается, он выбрал этот маршрут не для того, чтобы любоваться памятниками старины (когда я его расспрашиваю про какие-то достопримечательности, он ничего мне не может объяснить), а потому, что ширина улиц здесь позволяет развить большую скорость. Наконец я узнаю, где мы находимся: Колизей, Форум, площадь Венеции. А потом вместо пьяцца Квиринале пьяцца делла Пилотта; уж и не знаю почему — то ли по интуиции, то ли по рассеянности: быть может, Малинский слышал мой утренний разговор по телефону и машинально отвез меня сюда, забыв, о чем я просил его. Но нет, это не так, по крайней мере не вполне так. С пьяцца делла Пилотта он едет дальше. Я высаживаюсь у Квиринала и как можно медленнее спускаюсь вниз. Останавливаюсь перед магазинами. Мне еще рано.
Время тянется бесконечно долго. Но вот пора идти. Я толкаю тяжелую дверь из стекла и железа и подхожу к окошечку дежурной комнаты. Узнаю молодого иезуита, которому вчера вручил письмо. Ему уже известно, что я условился с отцом де Восом, и он высовывается из окошечка лишь для того, чтобы указать мне, в какую приемную надо пройти. Их тут несколько. В каждую ведут двери из зала, напоминающего приемную адвоката Кампилли. Низкие кожаные кресла, столы, картины и бюсты. Это сходство. Но я замечаю также и отличие. У синьора Кампилли стоят бюсты цезарей и богинь, а здесь — прелатов; на столах разложены журналы без крикливых разноцветных обложек. Все это я отмечаю мимоходом, бессознательно. Сердце колотится. Во рту пересохло. Рука у меня дрожит, когда я отворяю дверь приемной. Пусто. Стол, диванчик, несколько стульев. На стене только распятие. Чисто. Душно. Немножко пахнет ризницей и немножко больницей или амбулаторией.
Я не решаюсь сесть. Подхожу к окну. Напротив — стена вышиной во много этажей. Достает до самого неба. А наверху виднеется зеленая полоса, кусты, деревья — наверно, какая-то терраса. Вокруг полная тишина. Я жду и жду, не шевелясь. Вдруг раздается голос, тот же самый, что утром в телефоне:
— Слушаю.
Я оборачиваюсь. Невысокий худой священник указывает мне на стул. Голова у него маленькая, остриженная по-немецки, он опустил ее так, словно ему докучает боль в затылке. Я быстро подхожу, чтобы поздороваться. Он едва прикасается к моей руке. После чего снова так же, как и минуту назад, тем же самым жестом приглашает меня сесть. Мы даже не глядим друг другу в глаза.
— Прежде всего, — говорю я, — позволю себе передать вам самые сердечные и почтительные приветы от моего отца.
Молчание. Поначалу весь разговор ведется в таком духе. Он молча принимает к сведению приветственные слова, а затем мои общие фразы и сообщение о здоровье отца и о его душевном состоянии. Ни разу даже не кашлянул. Вместе с тем не знаю почему, не знаю, на каком основании, но я проникаюсь уверенностью, что слушает он меня внимательно. Смотрит в сторону. Мимо меня. Когда я объясняю, что приехал вместо отца, так как он болен астмой, то внезапно слышу голос де Воса, лишенный всякого выражения, всякой теплоты:
— Вы, кажется, очень похожи на отца.
— Все так говорят.
— Я слушаю. Пожалуйста, продолжайте.
Он сам напомнил о нашем сходстве. Но, видимо, считая, что это не имеет отношения к делу, попросил меня вернуться к главной теме. И я в конце концов приступил к изложению самой сути. До этого я спросил только, дошли ли до него слухи о наметившемся в последнее время конфликте между моим отцом и его епископом. Он ничего мне на это не ответил и повторил:
— Пожалуйста, говорите.
Одно это я от него и услышал. И теперь, и позже, в течение всего разговора. Всякий раз, когда я останавливался или спрашивал, каково его мнение, он торопил меня, прося, чтобы я рассказывал дальше. Свое пожелание он выражал в нескольких почти одинаковых вариантах. Прошло немало времени, прежде чем я понял, что он ни в коем случае не выскажет свое мнение. Тогда я перестал задавать ему вопросы. Но по-прежнему время от времени прерывал свой рассказ, чтобы набраться духу. В такие моменты он тоже нарушал свое молчание стереотипными фразами: «Продолжайте, говорите дальше», или: «Я слушаю. Это уже все?» До самого конца — уравновешенный, невозмутимо терпеливый, полный решимости узнать все. Но — уже усталый. Я догадывался об этом по его произношению. Оно менялось. Вначале трудно было поверить, что мой собеседник не итальянец. А час спустя я уже ясно это чувствовал. Священник де Вос был голландцем. Он пятьдесят лет прожил в Риме. Отец рассказывал, что де Вос говорит по-итальянски превосходно. Но при иных обстоятельствах, после чрезмерно долгих торжественных церемоний или на затянувшихся научных заседаниях, его итальянское произношение становится более твердым. Я вспомнил об этом теперь. И даже сообразил, что злоупотребляю не только его временем, но и силами, и что-то пробормотал по этому поводу. Он ответил своим неизменным:
— Пожалуйста, говорите дальше.
Хотя я и заготовил план, но говорил бессвязно. И прекрасно это сознавал. Мне мешал мой итальянский язык, мое волнение, ну и то пассивное внимание, с каким священник де Вос слушал мой отчет. И прежде всего то, что я не мог разобрать, многое ли ему известно о моем отце и условиях жизни в Польше. До нашей встречи я предполагал, будто из ответов на мои вопросы кое-что выясню. Не получилось. Отсюда и длинноты в моих объяснениях. Понял я это только позднее. Мой отец, получив образование, сдав экзамены, пройдя практику и стажировку в Риме, был включен в список адвокатов, имеющих право выступать во всех папских трибуналах, и, разумеется, как в Роте, так и в Сеньятуре[37]. Во всех низших инстанциях также. А значит, и в судах каждой курии. К адвокатам этой категории принадлежал Кампилли, проживающий в Риме. Но сколько таких же адвокатов, как он или мой отец, выбирали для себя ту или иную провинциальную курию. Они выступали в ее судах чаще всего по делам об аннулировании брака и, когда «казус», выражаясь профессиональным языком, осложнялся и, согласно церковному праву, переходил на рассмотрение в Рим, — могли там выступать, не прибегая к помощи ватиканских адвокатов. От этого выигрывали их престиж и их финансы. Они обладали также привилегией передавать дело прямо в Роту, которая для других была апелляционным судом, а для них — судом первой инстанции. Они передавали дела, Рота для проведения следствия посылала их местной курии, а курия, считаясь с тем, что дела прибыли из Рима, относилась к ним с особым вниманием. Это опять-таки шло на пользу адвокату. Конечно, я совершенно зря объяснял это отцу де Восу, в таких вещах он разбирался лучше, чем я. В какой-то момент я сравнил адвокатов Роты и Сеньятуры с адвокатами, которые имеют право выступать в верховном суде, а обыкновенных, консисторских, — с теми, кому разрешается выступать только в административных коллегиях. Тут я прервал свою речь. Сперва до моего сознания дошло, что, пытаясь разъяснить вопрос, я затемняю его, так как пользуюсь терминами, которые незнакомы священнику де Восу. А потом я сообразил, что вообще напрасно его мучаю, поскольку все, что касается папских трибуналов, ему и без того великолепно известно. Я попросил извинить меня за ненужное отступление. На мои извинения он ответил так же, как на вопросы:
— Пожалуйста, продолжайте!
Зато я четко и связно изложил суть конфликта между епископом Гожелинским и моим отцом. Это уж верно. Без отступлений, без разбега, не касаясь предвоенного периода и лет оккупации. Самое важное — дать представление о нынешней ситуации. Об этом можно было рассказать в нескольких словах. А именно: епископ Гожелинский лишил отца возможности заниматься своей профессией на территории епархии. Отец перестал ходить в курию и выступать перед консисторией. Воспользовавшись полнотой власти, которой обладает епископ во всех церковных вопросах на территории своей епархии, Гожелинский фактически лишил отца не только положенных ему специальных привилегий, но и обычных прав консисториального адвоката.
Я сказал, что епископ человек злопамятный и темперамент у него кипучий. Он вернулся из лагеря Дахау физически надломленным, но психически и умственно не изменился. В первой же проповеди сразу наметил свою программу, объявив, что остаток сил, которые ему сохранил бог, использует для борьбы с его врагами. Он сказал также — и позднее не раз повторял, ибо эта формула, по-видимому, пришлась ему по вкусу, — что всегда мечтал о мученичестве, и в детстве и впоследствии, когда уже стал священником, но для того, чтобы принять мученический венец, ему пришлось бы бросить епархию. На старости лет, по божьей милости, ему не надо искать своих палачей где-то далеко, они найдутся совсем рядом. Епископ дышал ненавистью, произносил провокационные речи. Образ мышления у него был средневековый. Дипломатичностью он не отличался. Жил как святой. Пользовался у людей большим уважением, особенно у тех, кто его мало знал. Подчиненных он угнетал своей суровостью. С «мягкотелыми» был беспощаден. А к «мягкотелым» он причислял всех, кто не разделял его взглядов и не одобрял его тактики. Таких было много среди духовенства — и в приходах, и в его курии. Епископ их преследовал.
В конце концов ему предложил покиниуть Торунь и поселиться за пределами епархии. Он на это не согласился. Ослушался. Однажды перед его дворцом остановилась машина. Епископа интернировали. Он провел два года в маленьком городке на Люблинщине. После событий 1956 года он вернулся, ничуть не изменившись. Только еще сильнее возненавидел «мягкотелых», которых застал на разных постах в своей епархии.
Мой отец принадлежал к их числу. Пока епископ отсутствовал, власть осуществлял избранный капитулом каноник Ролле, который без помощи моего отца, наверное, растерялся бы в той обстановке. Он доверял отцу, а отец уважал его. Они очень отличались друг от друга: отец — немножко космополит, Ролле — человек простой, без взлета, но гуманный, здравомыслящий, что как раз и сближало его с отцом. Как и отец, он не был политиком. Как и отцу, ему не очень нравились новые порядки. Но Ролле, не в пример Гожелинскому, не считал все происходящее вокруг сплошным безумием и обманом, пустой видимостью, которую, по словам епископа, те или иные силы в один миг сотрут с лица земли. Напротив, по его мнению, новая действительность есть нечто устойчивое, с чем, хочешь не хочешь, надо считаться. За два года не было и дня, чтобы отец не посетил Ролле или не готовил у себя дома какие-либо материалы для него. Вот в чем состоял грех отца, за который он теперь расплачивался. Когда вернулся епископ. Ролле сразу отстранили от всех дел в курии, а перед моим отцом постепенно, мало-помалу закрылись двери канцелярий и управлений в епископском дворце.
Я кончил. Воцарилась тишина. Отец де Вос встал.
— Мне уже пора. — сказал он. — Оставьте, пожалуйста, в дежурной комнате свой адрес и телефон.
Я чувствовал, что нельзя больше его задерживать и о чем-либо спрашивать. На прощанье он быстро, легко прикоснулся к моей руке. При этом добавил:
— В случае чего я вас разыщу.
Я остался один. Настроение неуверенности еще усилилось, когда я очутился в первом зале. Один из многочисленных бюстов, стоявших здесь, изображал кардинала Эрле. Раньше, подходя к указанной мне двери приемной, я его не заметил. Теперь я сразу его узнал. Снимок этого бюста помещен в монографии Эрле, подаренной мне отцом. Крупный ученый, в свое время префект Ватиканской библиотеки, он был автором монументального труда о книгохранилищах апостольской столицы. В этом труде он исследовал также происхождение термина рота применительно к папскому трибуналу. Его трактовка получила признание. Мне же она показалась ошибочной. Теперь его бронзовое сухое лицо с глазами без зрачков, как у греческих скульптур, напомнило мне, что я забыл попросить у отца де Воса рекомендацию в библиотеку. Кампилли от этого увильнул. Пока я был у де Воса, мысль о библиотеке вылетела у меня из головы. Телефон и адрес я, по его совету, оставил в дежурной комнате, хотя без особой надежды, и вернулся в «Ванду» в подавленном настроении.
V
В пансионате меня ждало messaggio[38] от четы Кампилли с приглашением к чаю. Из приписки к messaggio следовало, что надо подтвердить свое согласие. Я позвонил и сказал, что приеду. Сообщил я об этом лакею, который взял трубку и от которого я узнал, что «господа отдыхают». Пообедал я в столовой один, так как опоздал, и тоже отправился к себе, чтобы, по итальянскому обычаю, лежа переждать самую жаркую пору дня. К пяти я уже был у Кампилли.
Лакей — на этот раз не в полосатой куртке, а в белой — провел меня в гостиную слева от холла. Это был огромный зал со множеством зеркал и подсвечников. На стенах полно картин, обивка стен золотисто-голубая. Такая же обивка на массивной мебели в стиле барокко, по крайней мере на тех диванах и креслах в одном углу гостиной, с которых сняли чехлы.
Проводив меня сюда, лакей сообщил, что господа сейчас спустятся, и ушел. Я принялся разглядывать гостиную и картины. На самой большой из них, современной, был изображен юноша на пороге костела, а вокруг него группа солдат в папахах. Солдаты с карикатурно-монгольскими чертами лица, стоявшие на первом плане, нацелили штыки в грудь юноши. В глубине костела виднелась дарохранительница с мерцающими серебряными святыми дарами. Знакомый мне аллегорический и слащавый жанр живописи. Табличка на раме объясняла содержание картины. «Il martirio d’Andrea Zgierski»[39], — прочел я. Да и без таблички я знал, о ком и о чем идет речь. Брат синьоры Кампилли, урожденной Згерской, погиб при тех обстоятельствах, что изображены на картине. Летом 1917 года, под Житомиром, его убили на ступенях деревенской церквушки солдаты, дезертировавшие с фронта в глубь страны. Я знал также, что синьора Кампилли уже много лет хлопочет о причислении к лику святых ее брата, чью недолгую, тихую и, кажется, очень благочестивую жизнь скрепила своей печатью смерть. Хлопоты ее продвигались медленно. Отец всегда справлялся об этом в письмах к Кампилли. Отец говорил мне также, что кандидатура Згерского вряд ли подойдет. У него были серьезные конкуренты с биографией, сходной в историческом и географическом аспекте, но более блестящие, чем Анджей Згерский.
Спустя одну-две минуты появились супруги Кампилли. Он держался сердечно, свободно, его жена — натянуто, величественно; но она всегда была такой. Я запомнил ее фигуру с детства — она выделялась среди других своим высоким ростом и тем, что сильно выпячивала грудь. Теперь, как и прежде, она держалась прямо. Однако рост ее не показался мне таким уж поразительным. Зато я не помнил ее глаз, очень больших, черных, с умным, хоть и неприветливым выражением. Она завела разговор по-французски. Произнесла несколько фраз и, заметив, что язык этот доставляет мне трудности, перешла на польский и в конце концов — на итальянский, после того как Кампилли сказал несколько теплых слов о моем итальянском.
С Кампилли я нашел правильный тон с первой минуты, а с синьорой Кампилли нет. Хотя разговор с ней пошел по тому же руслу, что ранее с ее мужем, но звучал по-иному, как бы повторял тот разговор в холодно церемонной форме. Она спрашивала про смерть матери, справлялась об отце, отмечала наше сходство, но так безучастно, словно едва их знала, а ведь это было неверно. В течение десяти лет, никак не меньше, всякий раз, когда отец приезжал в Рим на несколько недель — часто вместе с моей матерью, — он не расставался с четой Кампилли. Все четверо называли друг друга по имени. Об этом свидетельствовали старые и новые письма и то последнее, которое я привез синьору Кампилли от отца. Поэтому меня неприятно поразила ее холодность. В особенности потому, что я догадывался, в какой степени она исходит от характера синьоры Кампилли и в какой навязана принятой по отношению ко мне линией поведения. Видимо, опасаясь, как бы я не вообразил, будто она приехала специально ради меня, синьора Кампилли стала подробно перечислять, какие причины побудили ее именно сегодня явиться в Рим, хотя, казалось бы, нет ничего более естественного, чем время от времени заглядывать домой, если живешь в получасе езды от Рима.
Мраморный стол, за которым мы сидели, так и сверкал — столько на нем было серебряных чайных приборов, вазочек, тарелок и корзиночек для фруктов, печенья и конфет. Синьора Кампилли непрерывно меня угощала. Во всем, что касается питья и еды, она была очень любезна. Но когда от семейных дел мы перешли к вопросам общего порядка, она повела разговор в еще более неприятном тоне. В библиотеку Ягеллонского университета поступает немного эмигрантской прессы. Знакомые в Кракове и не в Кракове рассказывали мне кое-что о своих спорах с поляками, живущими на чужбине. Поэтому мне были известны их аргументы, взгляды и тон, с теми или иными оттенками, неизменно, однако, ставивший людей, приезжающих из Польши, в положение обвиняемых, ибо поляки-эмигранты осуждали все огулом. Хотя я ни словом не обмолвился о положении у нас в стране, Кампилли, видимо, с первой встречи понял, что я не осуждаю новую Польшу, и поделился своим впечатлением с женой, — и вот теперь, еще до того как я что-либо высказал на эту тему, в ее словах, адресованных мне, зазвучали едкие намеки. Еще до приезда сюда у меня голова распухла от горячих дискуссий, в которых у нас участвовали все поголовно. Сердце мое раздирали противоречия. Вероятно, поэтому, чем настойчивее синьора Кампилли распространялась о наших делах, тем менее я склонен был согласиться, что со своей предвзятой точки зрения она элементарно, по-своему, права; меня прежде всего раздражало то, что она рассуждает о Польше, как слепой о красках. Вначале я возражал, стараясь при этом скрыть раздражение. Мне очень не хотелось восстанавливать ее против себя. Отец мне говорил, что она оказывает влияние на мужа и вообще пользуется авторитетом в своей среде. Зная мою слабость к точной информации и мою объективность, отец просил меня соблюдать величайшую осторожность в этом отношении, поскольку тот мир, куда он меня посылал и где я должен был уладить его дело, верит, будто правда известна только ему. К счастью, синьор Кампилли пришел мне на помощь. Он сказал, улыбаясь:
— Все приезжающие из Польши немножко заражены. Они не такие, как мы, и не те, что были.
— Не все, — возразила синьора Кампилли. — Например, пани Весневич, мать моего зятя, — пояснила она мне, — — гостившая у нас весной. Я раньше не была с ней знакома, но уверена, что эта женщина осталась такой, как была.
— Я говорю о молодежи. — заметил Кампилли.
Они еще некоторое время спорили. Видимо, у них бывало много приезжих из Польши, по преимуществу принадлежавших к бывшей помещичьей среде или к католическим организациям. Одни, по терминологии синьора Кампилли, полностью зараженные, другие в меньшей степени. Во всяком случае, перевес был не на стороне тех, кто нисколько не изменился.
— Признаю, что это так, — согласилась синьора Кампилли. — Попросту ваши власти выпускают тех, кого считают надежными. Разве же это не правда?
— Оставь его в покое! — Кампилли явно надоела эта тема. — Люди меняются. Наступят другие времена, и они снова изменятся. — Тут он взглянул на часы и сообщил: — Шесть.
Синьора Кампилли встала. Она извинилась передо мной: ей уже пора ехать на заседание благотворительного общества. Мы вместе вышли в холл. Здесь выяснилось, что хозяйку дома отвезет лакей, который на этот раз был не в полосатой и не в белой куртке, а в серой с позолоченными пуговицами. Синьор Кампилли оставался дома и задержал меня. Мне стало неприятно, потому что сделал он это по знаку жены, не ускользнувшему от моего внимания. Я догадался, что ей не хочется со мной ехать или показываться на людях рядом со мной. Она предпочла подать мужу знак, вместо того чтобы, не глядя на меня, сесть в машину и уехать. Однако получилось еще неприятнее.
Мы перешли в кабинет. Кампилли понял, какие чувства я испытываю. Я сразу это заметил. Тон его стал еще более сердечным. Но во время первой беседы мы уже сказали друг другу все, что могли сказать, и теперь разговор не клеился. К счастью, мне на помощь пришел отец де Вос, вернее, мой утренний визит к нему, о котором я и принялся рассказывать.
— Ах, значит, он тебя сразу принял, — оживился Кампилли.
Он еще больше обрадовался, узнав, что я разговаривал с де Восом почти два часа.
— Это очень хорошо, — повторил он несколько раз. — Очень, очень хорошо.
Я пытался пересказать ему, о чем я говорил, но Кампилли слушал совсем невнимательно. Зато его интересовали любые подробности, касающиеся поведения де Воса, и он заставил меня как можно точнее их описать. То, что мне казалось случайным, мелким, для него было полно значения. И наоборот. Ни малейшего значения он не придал столь взволновавшему меня факту, что де Вос никак не комментировал мои слова. Де Вос ничего не сказал о моем отце, не выразил своего мнения о его деле. Кампилли считал, что это тоже не имеет значения. Важно то, что он велел оставить номер моего телефона.
— Знаешь, чего я боялся? — признался Кампилли. — Как бы он не отослал тебя в коллегию адвокатов Священной Роты или прямо в Роту, по уставу.
— К монсиньору Риго?
— Не к монсиньору Риго, а в Роту, не к определенному лицу, а в ведомство. И это означало бы, что он умывает руки.
Обе эти фразы он произнес медленно, ставя акцент на словах: «ведомство», «определенное лицо».
— Если бы он тебя направил прямо к монсиньору Риго, было бы еще лучше. Ты сослался бы на де Воса, и, таким образом, он как бы шефствовал над тобой во время беседы с Риго. Однако довольствуйся достигнутым. Он тебя не сплавил. Не отстранился от дела твоего отца.
Это разъяснение меня обрадовало. Но от дальнейших рассуждений Кампилли меня попеременно кидало то в жар, то в холод. Свои мысли он излагал без стеснения, полагая, вероятно, что его недавняя осторожность уже потеряла актуальность. Однако я нервничал, мне трудно было полностью разделить его позицию.
— Это хорошо, очень хорошо, — говорил Кампилли, — признаюсь тебе, что у меня были серьезные опасения. Дело твоего отца очень деликатного свойства. В игру вступает епископ, одного этого уже достаточно. И к тому же особое положение епархии — она находится не здесь, у нас, а по ту сторону! Да, закон, безусловно, на стороне твоего отца. Но что с того! Ведь на спор, о котором мы говорим, никто не станет глядеть под этим углом. Спор разыгрывается в вопиюще сложных условиях, тут примешана и политика, и не только политика; так что естественный импульс, импульс здравомыслящего человека, которого хотят втянуть в эту кляузу, побуждает его быть подальше от нее. Я такой же адвокат, как и твой отец; защищая твоего отца, я защищаю свои права согласно инстинкту профессиональной солидарности. И все же поверь мне, что, если бы не дружба с твоим отцом, старая, крепкая дружба, я поспешил бы отделаться от тебя, явись ты ко мне в качестве незнакомого молодого человека, сына неизвестного мне коллеги. У меня прочное положение в Ватикане, я не лишен адвокатского нерва, и, несмотря на это, я повел бы себя именно так, как сейчас откровенно тебе о том говорю.
На этом он закончил свое рассуждение, вероятно, потому, что заметил мою растерянность. Он полез в шкафчик с напитками и не поленился сходить на кухню за рюмками. А затем еще раз подвел итог своим впечатлениям.
— Ты поставил ногу в стремя. Ты пока еще не сидишь в седле, еще не едешь, и неизвестно, куда приедешь, но нога твоя в стремени.
Потом мы с четверть часа говорили о других вещах. О пансионате «Ванда», об отношении синьоры Кампилли к приезжим из Польши, в частности о том, как она отнеслась ко мне, и, наконец, о Ватиканской библиотеке. Что касается пансионата, который Кампилли в прошлый раз хвалил, то теперь он осудил мой выбор. В пансионате он никогда не был, однако слышал о нем, да и с его владельцами время от времени встречался. Кампилли советовал мне от них переехать, выбрать отель получше и не такой скучный. Его беспокоило, что из-за «Ванды» у меня сложится ложное представление о Риме и будет испорчено впечатление от поездки.
— У пансионата безупречная репутация, — говорил он. — Иногда даже полезно пожить под столь почтенной крышей. Но в твоем положении это не обязательно.
О жене он сказал:
— Она, безусловно, относится к тебе так же сердечно, как и я, и при обычных обстоятельствах показала бы тебе это. Но в твоем положении ты должен понять ее настороженность. Она и католичка, и полька. Впрочем, я передам ей наш разговор. Многого это не изменит, но по крайней мере она убедится, что я был прав, уверяя ее, что она может тебя принять в своем доме.
Затем он дал мне записку в Ватиканскую библиотеку — после того, как узнал, что я от волнения забыл попросить об этом отца де Воса. Я его от всего сердца благодарил.
— Нет ничего проще, — сказал он. — Дон Паоло Корси, от которого зависит допуск в библиотеку, мой хороший знакомый. Я направлю тебя лично к нему, — добавил он и весело рассмеялся, видимо вспомнив, что он мне говорил о разных способах обращения с просителями.
VI
«Дон — значит священник», — думал я, вспоминая, что в различных итальянских новеллах и романах это словечко присоединяется к именам приходских священников и викариев. Однако на следующее же утро, придя в библиотеку, я увидел в указанной мне комнатке пожилого господина в черном костюме, с розетками двух орденов в петлице, заметил большой перстень с печаткой на его пальце и решил, тоже на литературной основе, что, очевидно, передо мной сидит аристократ, которому по праву полагается титул «дон».
Я вручил ему записку от синьора Кампилли. Он взглянул на нее, прочитал, еще раз взглянул, наконец внимательно посмотрел на меня, что-то соображая. Комната, в которой мы сидели, была маленькая, стены ее, увешанные потемневшими картинами, по большей части изображавшими различных князей церкви, пап и кардиналов в старинных одеяниях, казались совсем темными. Дон Паоло Корси вертел в пальцах визитную карточку Кампилли. Голова у Корси была большая, сложение крепкое, только глаза подведены огромными синими полумесяцами.
— Ну, хорошо, — решил он в конце концов. — Мы не часто принимаем у себя ваших соотечественников. То есть таких, как вы, приезжающих из Польши, а не поляков из эмиграции.
— Теперь многие ездят за границу, — заметил я. — Несравненно больше, чем раньше.
Дон Корси пропустил мои слова мимо ушей. У него было свое мнение на этот счет. А может быть, он хотел определить свою позицию независимо от того, усиливается ли прилив путешественников из Польши или спадает.
— Бедная Польша. Народ — страдалец.
Он потянулся за одной из многочисленных регистрационных книг, лежавших перед ним. Внося в список мою фамилию, он немножко помучился с правописанием. Имя далось ему легче, и совсем легко — римский адрес. Однако он по-прежнему держался натянуто. Я чувствовал, как от него веет холодом, что, разумеется, было вызвано теми же самыми сложными причинами, которые заставили его так долго вертеть в пальцах визитную карточку Кампилли. Лед чуть-чуть растаял, когда, сообщая свой адрес на родине, я произнес слово «Краков». Дон Паоло Корси не видел Кракова, не был там, но знал о нем по научным работам, отчетам, фотографиям. Дону Корси было известно, что это красивый древний город, богатый памятниками старины. Мои акции поднялись на несколько пунктов. Он спросил меня, над чем я буду работать и как долго собираюсь пользоваться библиотекой. Внимательно все выслушав, он выписал входной билет. Потом подробно разъяснил правила пользования библиотекой. Попрощался он со мной очень любезно.
После бесконечно долгой консультации и переговоров в отделе каталогизации документов работники библиотеки обещали интересующие меня научные материалы только к понедельнику. Я прошел в читальный зал и, чтобы сразу, в это же утро, приступить к работе, заглянул в шкафы подсобного книгохранилища и взял несколько томов, но вплоть до часу дня, то есть до закрытия библиотеки, не продвинулся дальше Эрле. Я читал и по нескольку раз возвращался к тем страницам его основного произведения, озаглавленного «Historia bibliothecae Romanorum Pontificum tum Bonifatianae tum Avinionensis», где он излагает результаты своих розысков и, опираясь на них, устанавливает происхождение занимавшего меня названия папского трибунала.
Этимологически слово рота означает то же, что латинское circulus — круг, диск. Исследовав различные материалы, относящиеся к авиньонскому периоду, Эрле пришел к убеждению, что посредине зала, в котором на протяжении всей той эпохи заседали папские судьи, должен был находиться большой вращающийся пюпитр, на котором раскладывали папки с делами. Такой механизм известен был в средневековье и применялся в некоторых канцеляриях для удобства служащих: благодаря ему не нужно было вставать и перетаскивать тяжелые тома с подшитыми делами. Так как пюпитр вращался, его назвали рота. Это суждение Эрле я хотел опровергнуть. В своем труде он приводит старые-престарые счета за такие пюпитры, сделанные по заказу папской курии в Авиньоне. Но нельзя считать установленным, что их заказывали для судов. Более вероятно, что эти пюпитры устанавливали в других административных учреждениях, значительно меньших по составу, чем папские суды. В авиньонские времена в трибуналах заседало по двадцать аудиторов. Какой же неправдоподобной величины нужен был пюпитр, чтобы обслужить столько человек! Я сделал подсчет, и тогда во мне проснулось подозрение, что кардинал Эрле, выдвигая свой тезис, не подумал об этой стороне вопроса — назовем ее столярной, — ибо, вне сомнения, не стал бы настаивать на своем решении загадки, если бы представил себе колоссальные размеры такой махины и неудобства и сложности, связанные с ее размерами. Взвесив все эти обстоятельства, я вправе был считать гипотезу Эрле опровергнутой. У меня родилась собственная гипотеза, подсказанная силезским документом. Я был уверен, что найду здесь ее подтверждение. Я упивался книгой Эрле, отчаянно с ним споря и радуясь своей догадке. Домой я вернулся в отличном настроении.
В пансионате волнение, суматоха. Туристы, отбившиеся от бразильской группы, которая поселилась неподалеку, в монастырской гостинице, заняли все свободные комнаты. Мою также. Едва я вошел, горничная спросила, не соглашусь ли я перейти в другую, меньшую. Я согласился. Тут же в мою комнату внесли диванчик. Я как можно быстрее запихнул свои вещи в чемодан, потому что в коридоре уже ждали новые жильцы — дама с дочуркой, — готовые вторгнуться ко мне. Новая комната — это конурка напротив ванной и уборной, так что здесь, надо думать, будет шумно. Я не собираюсь, однако, переезжать в отель, как советовал синьор Кампилли. Не только потому, что через несколько дней, когда бразильцы двинутся на юг, я смогу вернуться в прежнюю комнату: живя здесь, я не чувствую себя в Риме одиноким. Мне есть с кем поговорить. По крайней мере в теории, так как за исключением пана Шумовского обитатели пансионата не очень разговорчивы.
Пока я разбирал чемодан, мне пришло на ум, что конурка кому-то принадлежит. А когда я открыл нижний ящик шкафа, чтобы уложить там белье, то обнаружил в нем дамские вещицы, и у меня возникло подозрение, что я теперь живу в комнате Козицкой, а ее, вероятно, переселили в другое место, к тетке или к кухарке. У стены стояла небольшая этажерка с книгами, несколько романов и стихи, преимущественно изданные в эмиграции. Я достал с полки несколько книжек. Конечно, комната Козицкой. На книжках надписана ее фамилия. Установив это, я заметил еще кое-что: этажерка закрывала большую фотографию. Я снял еще несколько книжек — мне хотелось разглядеть, что же изображено на фотографии, — и увидел часть разрушенного дома с вмурованной в стену табличкой, а на ней надпись, или, вернее, часть надписи, — однако этого было вполне достаточно, чтобы понять ее смысл. В польских городах сохранилось много таких табличек в тех местах, где немцы расстреливали заложников или повстанцев. Я положил книжки ни полку. Еще внимательнее оглядел комнату. На расстоянии метра от этажерки на стене четко отпечатались ее контуры. По бокам и над ними стена была темнее. Не подлежало сомнению, что до сих пор этажерка стояла там. Другие фотографии, маленькие сувениры или картинки — на это указывал размер гвоздиков — обычно висели над кроватью. Все это пани Козицкая сняла, а большую фотографию закрыла этажеркой специально от меня, непрошеного гостя; всегда ли она так делала, если ей приходилось уступать свою комнату, — этого я не мог знать. Но мне стало неприятно, особенно из-за того, что я шарил на ее этажерке; я действовал инстинктивно, без злого умысла, тем не менее в данных обстоятельствах не очень деликатно.
Едва я разложил свои вещи, стук в дверь — звонят из Остии. Адвокат Кампилли. Приветствует меня — и сразу:
— А почему бы вам не приехать к нам на море?
Это было приглашение, но так странно сформулированное, что я не понял, то ли он в самом деле хочет, чтобы я приехал, то ли бросил фразу мимоходом, собираясь сообщить мне нечто совсем иное.
— Ну?
— Очень охотно.
— У вас нет на завтра никаких планов?
— Ничего определенного.
— Значит, просим к нам. Мой зять за вами заедет. Пожалуйста, будьте готовы к девяти. Не слишком рано?
— Конечно, нет.
— А как с библиотекой? Все в порядке?
— Вполне. Я очень вам благодарен.
— Какие пустяки! Жена очень рада, что вы приедете. И дети, то есть мой зять и моя дочь.
Я положил трубку. «Насчет радости — это, наверное, ни к чему не обязывающая, любезная фраза», — подумал я. Кампилли по доброте душевной и из уважения к моему отцу старался, как мог. Отсюда и приглашение, на которое синьора Кампилли, разумеется, согласилась без всякого восторга. Ничего не поделаешь. Приглашение следовало принять. С Кампилли надобно поддерживать отношения. Если бы я не пошел к ним на чашку чаю, то до сих пор терзался бы из-за беседы со священником де Восом, не поняв ее положительного значения. Только Кампилли мог посоветовать мне, спустя сколько дней и в какой форме я должен напомнить о себе на пьяцца делла Пилотта. Значит, нужно подготовиться к поездке в Остию. Прежде всего внутренне — так, чтобы синьоре Кампилли завтра не удалось спровоцировать меня ни своей холодностью, ни своими колкостями. Ну и, так сказать, внешне подготовиться. Приобрести какие-нибудь сандалии для пляжа, купальный костюм.
Возвращаясь к себе в комнату, я наткнулся на Малинского.
— Как дела?
— Помаленьку.
— Весь день в городе?
— Преимущественно.
— Надо нам с вами как-нибудь поболтать. Но обычно труднее всего выбрать время, когда живешь под одной крышей.
— Действительно, — согласился я с ним.
— Может быть, завтра отправимся куда-нибудь вместе?
— Увы! Меня пригласили в Остию.
— К Кампилли?
— Вот именно.
— Хо, хо! Ну, желаю вам повеселиться!
Покупка вещей в чужом городе — дело хлопотное. А уж тем более в чужой стране, особенно в Италии, о которой мне столько наговорили знакомые в Кракове. Я спросил совета у Малинского. Он дал мне адреса нескольких больших магазинов, рекомендуя их следующим образом:
— Вы там найдете товар только невысокого качества. Но по крайней мере не переплатите.
Кажется, его так и подмывало поговорить об Остии, семействе Кампилли, а вернее, об их приглашении. Он вернулся к этой теме, сказав что-то в таком духе, будто, пригласив меня, они очень мило поступили. И ему явно еще больше захотелось оказать мне подобную же любезность.
— Так, может быть, послезавтра. В понедельник. Отвезу вас в Фреджене. Отличный пляж. И в будни там не так многолюдно, как в Остии. Разумеется, в первой половине дня.
— По утрам я работаю. Хожу в Ватиканскую библиотеку.
Он на мгновение онемел.
— Вы туда попали! Тоже благодаря Кампилли?
Секунду подумав, я ответил:
— Нет. Благодаря моему отцу.
Из коридора выбежал черный бульдог пана Малинского и яростно накинулся на меня. Малинский взял его на руки; песик, однако, по-прежнему рычал и вырывался. Пришлось закончить разговор, и мы попрощались.
Утром, захватив все, что требуется, надев защитные очки от солнца, тоже только что приобретенные, я ровно в девять спустился вниз. Было жарко, парило. К этому же часу должен был подъехать экскурсионный автобус за бразильцами. Они носились взад-вперед, одни выбегали на улицу, другие торопливо возвращались в пансионат за забытым фотоаппаратом или купальным костюмом. Наконец все сбились в кучу посредине мостовой, и на их головы посыпались проклятия из машин, с мотоциклов и мотороллеров, мчавшихся из центра в сторону моря или холмов к югу от Рима. Наконец подъехал автобус, уже набитый бразильцами. На улице стало еще шумнее, туристы кричали, громко окликали друг друга.
Одновременно с автобусом из боковой улочки внезапно выкатилась пианола — черный ящик на колесиках — и остановилась перед воротами нашего дома. Возле нее суетились двое мужчин, оба грязные, вспотевшие. Один торопливо вертел ручку, другой в большом волнении проталкивался между бразильцами и протягивал шляпу, стараясь выманить у них несколько лир, прежде чем им удастся втиснуться в автобус. Вернулся он ни с чем, едва дыша. Тогда-то и подъехал зять Кампилли в маленькой роскошной «альфа-ромео», линиями которой я уже не раз восхищался; по Риму кружило много машин этой марки. «Альфа-ромео» зятя Кампилли была красная как рак.
За рулем сидел Весневич, рядом с ним двое и двое сзади; все молодежь. Весневича я сразу узнал. После венчания дочери супруги Кампилли прислали отцу памятный альбом с описанием торжественной церемонии, списком гостей и фотографиями новобрачных. Мы поздоровались тепло, с размахом, словно только что заключили сделку или встретились после долгой разлуки. Тем не менее мы при этом назвали друг другу наши фамилии: он — свою, я — свою. Потом он весело познакомил меня с остальной компанией. Быстро, с воодушевлением. Все это происходило под аккомпанемент пианолы и мелькание шляпы, которая как бы превратилась в шапку-невидимку в руках бесплотного духа, потому что никто не потянулся за деньгами.
Впрочем, процедура знакомства длилась меньше минуты. Машина Весневича поразительно легко рванулась вперед. Он вел ее отлично. Выбравшись из города на автостраду, Весневич развил скорость, от которой у меня захватило дыхание. Поддерживать разговор не было никакой возможности. Я сидел впритык сзади, односложно отвечал на обращенные ко мне шаблонные вопросы и любовался пейзажем, его чарующими красками. Снова всем существом я почувствовал, что нахожусь в Италии. Доказательством тому служили совершенно особая синева неба, рыжеватый цвет земли, высокие стволы романтических пиний; ослики, впряженные в странные короткие повозки на огромных колесах; пригородные старые виллы-дворцы, расположенные на холмах; акведуки, появляющиеся в отдалении от шоссе, поражающие чистотой линии. Вдоволь насмотревшись на пейзаж, я переводил взгляд внутрь машины, на пассажиров, с которыми я ехал. Это были итальянцы, они весело смеялись, а по какой причине — я понятия не имел. Взрывы смеха вызывало любое словечко, содержавшее в себе, очевидно, либо намек, либо условный смысл, как это бывает в спевшейся компании. Самым старшим среди них был Весневич, широкоплечий, очень красивый. Он то и дело отпускал какую-нибудь шутку, приводившую всех в бурный восторг. Садясь в машину, я был твердо уверен, что моя соседка — это и есть Сандра, его жена. У нее был такой же прекрасный лоб, такой же чуть-чуть великоватый нос с подчеркнутой линией ноздрей, такие же изумительные продолговатые египетские глаза, что и у новобрачной на снимках в альбоме. Красавица, однако, объяснила мне, что она двоюродная сестра Сандры. Что касается остальной компании, то я не смог разобрать, кто они такие. Впрочем, это не имело значения. Я и на них смотрел отчасти как на окружавший меня пейзаж и природу; они служили еще одним доказательством того, что я действительно нахожусь в Италии, и от этого во мне росла та кипучая радость, которую я испытывал здесь всякий раз, как забывал о деле моего отца или почему-либо более оптимистически оценивал связанные с ним хлопоты.
VII
В Остии я мог о нем не думать или думать только хорошее. День был чудесный, а вилла семейства Кампилли, в современном стиле, восхитительна. Сами хозяева — сияющие, одетые во все белое — воплощение любезности. Синьор Кампилли — шумно общительный, его супруга — снисходительно улыбающаяся, Сандра — в брюках и майке, испещренной звездами и лунами, такая радушная, словно я был ее вновь обретенным братом, правда встреченным при обстоятельствах, не располагающих к разговорам, например, на беговой дорожке.
Пляж был недалеко, их собственный. Весневич сразу же увел нас, мужчин, в свою комнату. Сандра проводила женщин в комнату родителей. Все весело покрикивали друг на друга, поторапливали. В купальных костюмах мы сбежали на первый этаж, в большой застекленный холл, служивший одновременно столовой, читальней и гостиной. Нас угостили фруктами и замороженными напитками, после чего мы вышли в сад и двинулись к морю, осторожно ступая по усыпанной гравием аллейке: острые камешки кололи босые ступни.
Я совсем не запомнил моря. Отец как-то привозил меня сюда, но это было так давно! Он тогда не разрешил мне купаться, позволил только шлепать по воде у самого края пляжа. Зато от солнца он меня не оберегал, и я обжегся. Теперь я тоже сразу почувствовал мягкое тепло на плечах и лопатках — так, словно кто-то накрыл мою спину нагретой нежной фланелью. Из аллейки мы вышли на каменистую полосу, отделявшую виллу от моря. Камни были большие, отшлифованные, раскаленные. А дальше — темный сырой песок, совсем не такой красивый, как на пляже у нашего моря, — и вода.
Я неплохо плаваю; меня сразу понесло, и я стал удаляться от берега. Вода была приятно освежающая, в первый момент даже показалась холодной, температура ее была ниже температуры воздуха. Я перевернулся на спину и поплыл, выбрасывая кверху руки, а потом все дальше и дальше, но уже гребя понемножку и почти что одними ладонями. Я плыл все медленней и медленней. Ноги стало тянуть книзу. И тут, в полукилометре от берега, я вдруг почувствовал твердую почву. Я встал. Вода доходила мне до пояса. Справа море было еще более мелкое.
Между мной и берегом тоже было много больших светлых полос, выдававших отмели. Я не спеша двинулся в сторону остальной компании, бултыхаясь, падая в воду и ныряя. Слева, примерно в километре по прямой линии, виднелся главный пляж Остии. Там жарились на солнце и купались в воде тысячи разноцветных муравьев. А повыше, на твердой земле, пестрело множество огромных зонтиков и кабин самой яркой окраски. Я добрался до берега. Сандра и ее приятельницы, неподвижные, полусонные, разлеглись на узорчатых купальных полотенцах и старательно загорали, время от времени, смазывая себя кремом. Весневич и гости, которых он сюда привез, совместными усилиями выталкивали из узкого зеленого строения на воду чудесную моторную лодку каштанового цвета. Я тоже сел в нее.
С шумом и криком мы понеслись влево, в сторону главного пляжа, прошли перед скопившимися здесь толпами, а затем Весневич вернулся за дамами. Две из них отправились с ним. Третья осталась со мной и молодым итальянцем, который утром в машине сидел на переднем месте. Он, видно, чувствовал себя здесь как дома: вошел в зеленое строение у самой воды и выехал оттуда на двухместном водяном велосипеде, державшемся на трех плавниках. Мы попытались втроем взобраться на него. Велосипед под нами закачался, но мы не сдавались. Правда, недолго. Я первый свалился в море. Потом они. Мы снова взобрались на велосипед и после длительного балансирования снова очутились в воде.
Потом к нам присоединились Весневичи. Они тоже в конце концов со всего маху опрокидывались вместе с велосипедом. Сандра и ее кузина плавали отлично. На них были одинаковые чепчики, еще сильнее подчеркивавшие их сходство. Им и мне удалось дольше всех удержаться на велосипеде. Мы ушли от берега на изрядное расстояние. Миновали зону отмелей. За ней открывалась картина воистину прекрасного моря — лазурного, прозрачного, как кристалл. Мы ринулись туда, хотя по-прежнему в качестве опоры под нами был велосипед, и поплыли дальше в этой более холодной, но зато чудесной воде. Нам стали кричать с берега, что уже пора обедать. Сандра и не Сандра поплыли напрямик. А мне еще нужно было пригнать велосипед. На половине дороги я взобрался на седло. Нажимать на педали в одиночку оказалось нелегко. Мне помог Весневич. Не выходя из воды, он подталкивал велосипед, я крутил педали, и так мы в конце концов добрались. На пляже никого уже не было. Мы поспешили на виллу, переоделись и быстро спустились в столовую, заняв наши места последними. Весневич — в конце стола. Мне же выпала честь — рядом с синьорой Кампилли.
Когда попадаешь в незнакомое общество, то вначале оно представляется единым целым, нерасчлененным, связанным между собой неведомыми путями. Но уже за столом мне перестало так казаться. Общество распалось на отдельных людей. Даже кузина стала менее похожа на Сандру, чем мне это показалось в машине и на пляже. Итальянец, который выволок велосипед, был ее мужем. Другая пара тоже состояла в браке. Эти были моложе Весневичей, а кузина и ее муж — в том же возрасте. Наиболее шумно держал себя Весневич. Он острил и, если его острота вызывала возражения или никто ей не смеялся, немедленно предлагал новую. Меньше всего обращали внимание на его остроты члены семьи; кажется, они уже не раз слышали. Разве только, сочтя какую-нибудь шутку неуместной, они принимались громко ее осуждать, и тогда их голоса заглушали все остальные.
За время всего обеда Весневич ни разу ко мне не обратился, не задал мне ни одного вопроса. Но он ко всему прислушивался. Смеясь и разговаривая со своими соседками, я заметил, что стоило кому-нибудь меня о чем-либо спросить — и он сразу бросал на меня молниеносный взгляд и поворачивал голову в мою сторону. Это помогало ему уловить мой ответ, потому что за столом стоял шум. Он не комментировал мои слова в тех случаях, когда их принимали благосклонно или молча. Но если они вызывали хотя бы самое слабее возражение — вставал на мою защиту. Не всегда удачно, так как его насмешливый тон и резкие выражения только подливали масла в огонь. К счастью, присутствующие не особенно много занимались моей особой. А если уж занимались, то не столько разговором со мной, сколько моей тарелкой и рюмкой. В этом отношении первенство принадлежало синьору Кампилли. Но синьора Кампилли тоже не скупилась на знаки подобного внимания. Я охотно их принимал, тем более что еда и вино были превосходные и как небо от земли отличались от того, чем меня кормили в «Ванде». К тому же я сильно проголодался после купанья.
— А как дон Паоло? Ты застал его вчера?
— Застал. Все в порядке. Очень вам благодарен.
— Мне пришлось ему написать, что ты приехал из Польши. Вероятно, он был весьма удивлен. Правда?
— Пожалуй, — ответил я, немножко помедлив.
В конце концов долго ли, коротко ли вертел он в пальцах визитную карточку Кампилли, все-таки пропуск в библиотеку мне выдал. Незачем было ставить ему в вину его нерешительность.
— Он был очень поражен? — нажимал на меня Кампилли. — Долго раздумывал?
— Кажется, — сказал я.
Синьора Кампилли сухо заметила:
— Это совершенно естественно по отношению к людям, приезжающим из-за железного занавеса.
Тут вмешался Весневич:
— И пытающимся пробраться за занавес из ладана!
Кампилли поморщился. Его супруга пожала плечами. После секундного молчания тишину нарушила Сандра; она протянула медленно, в нос, голосом, совсем не напоминавшим ее красивый смех:
— Зачем ты так говоришь? Ты знаешь, что я этого не люблю.
Не дожидаясь, пока она кончит, Весневич засмеялся:
— Но все-таки жестоко направлять к Корси людей с такими просьбами. Сегодня он, наверное, лежит, заболел от страха.
Сандра:
— Он очень приличный человек.
— А какое это имеет отношение к предмету? Приличные люди всегда самые пугливые.
Кампилли поспешил с разъяснением:
— Никогда бы я не направил кого-либо в Ватиканскую библиотеку, не будучи вполне в нем уверен. Корси ни на мгновение не мог в этом усомниться. Но, разумеется, он был поражен.
Инцидент был исчерпан. За столом снова воцарился беззаботный шум. Я сидел лицом к большому окну, занимавшему половину стены. Глядя туда, я видел море и такое бессчетное количество дрожащих, ярко светящихся чешуек, что пришлось отвести глаза. Сандра Весневич сидела по той же стороне, что и я. Нас разделял младший из итальянцев. Синьора Весневич время от времени наклонялась в мою сторону и дарила меня улыбкой либо обращалась ко мне с каким-либо пустым вопросом, например:
— Отец мне говорил, что вы поселились в пансионате пани Рогульской. Вы довольны?
— Да. Конечно.
— Она очень симпатичная. Вы не находите?
— Несомненно.
— Ее брат тоже очень мил. Вы не считаете?
Под влиянием недавнего купанья, жары, вина я отвечал немножко сонно. Вмешался Весневич:
— Страшно скучные люди. Малинского, того, что живет у них, еще можно терпеть. Кстати, в последний раз на богослужении он сидел в одном конце церкви, а Козицкая в другом. Что-нибудь изменилось?
— То, что ты говоришь, отвратительно, — мягко возразила Сандра.
Несколько минут спустя она снова о чем-то меня спросила. У нее были очень красивые глаза. Продолговатые, чуть-чуть раскосые, коричневые. Я загляделся на них, вдобавок становилось все жарче, и, отвечая ей, я так спутал времена глаголов, что она ничего не поняла. Муж вполголоса объяснил ей, что я имел в виду.
— Я ужасно говорю по-итальянски, — смутился я.
— Да что вы! — возразила Сандра. — Мне пришлось бы десять лет изучать польский, чтобы говорить так, как вы по-итальянски.
— Сто десять, — засмеялся Весневич. Тон его голоса был слегка иронический.
Синьора Кампилли дотронулась до моей рюмки. Она делала это время от времени, безмолвно спрашивая, не хочу ли я еще вина. На этот раз она подкрепила жест словами:
— Как ты находишь это вино? Твой отец очень его любил. Называется оно «Орвьето».
Синьор Кампилли с самого начала называл меня по имени. Синьора Кампилли впервые обратилась ко мне на «ты». Я покраснел.
Ее холодность в Риме огорчила меня. Сегодня она не была со мной холодна, но и отнюдь не ласкова. Она относилась ко мне, как к нашалившему ребенку, которого теперь собирается простить.
— Благодарю вас, — сказал я.
Я протянул рюмку. Она ее наполнила. Еще некоторое время мы разговаривали об этом вине, о городке; по которому ему дали название и в котором я побывал проездом из Флоренции в Рим, и, наконец, об отце. Беседа наша длилась недолго, а содержание ее было довольно банальным, но, собственно говоря, в таком же тоне велся разговор в течение всего обеда, уже подходившего к концу. После кофе, который мы пили у окна, где стояли большие удобные кресла, супруги Кампилли ушли к себе наверх. Молодежь осталась. Мы по-прежнему разговаривали и шутили, но все более вяло. Мало-помалу сперва итальянки, потом итальянцы, а под конец и мы с Весневичем принялись листать иллюстрированные журналы. Целые груды их лежали на нижних полках столика, за которым мы пили кофе. С час мы лениво просматривали журналы, а потом Весневич поднял нас. Мы снова пошли на пляж. На этот раз к нам присоединились супруги Кампилли в купальных халатах — он в желтом, она в розовом. Тут я узнал от нее, что они проводят в Остии не все лето. С середины августа они переезжают в Абруццы, у них там еще одна вилла. Дети Весневичей — я также знал их по фотографиям, которые Кампилли регулярно присылали отцу, — уже несколько недель находятся там. В Остии для них слишком жарко.
— Для меня тоже слишком жарко, — вмешался в разговор синьор Кампилли. — Но пока курия действует, то есть пока монсиньоры не разъедутся на воды и не начнутся большие вакации, я должен сидеть в Риме.
Мы втроем шли медленнее, чем остальные.
— Ах да, — то ли он только теперь вспомнил об этом, то ли намеренно выбрал именно этот момент, — отец де Вос просил тебе передать, что завтра будет тебя ждать. Позвони ему с самого утра, чтобы уточнить время.
У меня забилось сердце.
— А что он думает о деле?
Кампилли остановился. Вытер платком пот с лица.
— Ничего не думает. На мой взгляд, он пока что пробует разобраться в том, что думают другие. И думают ли о нем вообще.
Увидев смущение на моем лице, он немного погодя добавил:
— Мы недолго разговаривали. Встретились вчера в Роте на консультативном заседании. Но в одном отношении я могу тебя успокоить: он твердо хочет тебе помочь.
Я не двигался с места. Он взял меня под руку и легонько потащил за собой.
— Я бы на твоем месте, — сказал он, — не падал духом.
Только-то! Я чувствовал, что больше он ничего не скажет. Жизненный опыт подсказывал ему, что надо придать мне бодрости именно в такой, а не в большей дозе. Быть может, даже не опыт, а инстинкт, регулировавший подобные вещи. И правильно. Но я сказал себе это только позднее, уже очутившись в воде. Я ожидал большего, поэтому в первый момент отпущенная мне доза показалась недостаточной и неопределенной. Однако она произвела действие. Нелепо было думать, что задачу можно решить с одного раза. Я все отчетливее понимал это. Завтрашний вызов к де Восу стал приобретать значение. И все большее значение после того, как я основательно это обдумал.
VIII
Отец де Вос на этот раз принял меня у себя. Молодой иезуит из дежурной комнаты, которому я доложил о себе, указал мне, где находятся лифты, и, видя, что я растерялся и не знаю, куда идти, вышел из-за своего окошечка и проводил меня. Я поднялся на пятый этаж и снова заблудился. Довольно долго я блуждал по лабиринту бесконечных, ярко освещенных коридоров, пока наконец не очутился перед нужной дверью. На ней значился тот номер, который я искал. Я не сразу постучал. У меня сильно билось сердце, и я хотел сперва успокоиться. Дверь была окаймлена широкой дубовой рамой. Справа, на высоте замка, ее пересекало своеобразное устройство, состоящее из десятка кнопок и маленьких табличек. Дожидаясь, пока у меня пройдет сердцебиение, я принялся их разглядывать. На табличках за слюдяной пластинкой виднелись отдельные слова: библиотека, трапезная, часовня, терраса, аудитория, зал 1, зал 2, зал 3 и так далее. На последней, нижней табличке я прочел надпись: «У себя». Она слегка светилась. Кнопка возле нее была вдавлена. Я постучал.
Дверь приоткрылась. На пороге стоял отец де Вос. Увидев меня, он молча отступил в сторону, чтобы дать мне пройти. На этот раз он мне показался еще меньше ростом, возможно, потому, что комната, куда он меня ввел, была огромная с высоким потолком. Заметив, что я не двигаюсь, он дотронулся до моего плеча, а потом указал на кресло, стоявшее в глубине, возле письменного стола. Я подошел к креслу, но не сел. Тем временем отец де Вос притворил дверь. Движения его были такие медленные и осторожные, словно он закрывал крышку драгоценной старинной шкатулки, а не самую обыкновенную дверь. Только теперь он поздоровался со мной — пожал мне руку, вернее — быстро к ней прикоснулся. И снова, не произнося ни слова, указал на кресло, приглашая сесть. Я сел. Тогда и он занял место за письменным столом.
Молчание тянулось несколько минут. Я должен был что-то сказать и чувствовал, что не могу начать с общепринятых банальных фраз. От фигуры священника веяло важностью. Обиходные пустые слова его бы оттолкнули, следовало сразу приступить к делу. Проще всего было бы задать вопрос, имеющий прямое к нему отношение. А именно: что отец де Вос думает, составил ли уже мнение. Или что-то в этом роде. Мне не удавалось перехватить взгляд отца де Воса. Он смотрел в мою сторону, но глаза его были прикованы к моему плечу или к какой-то точке на стене позади меня.
— Я вам очень признателен за то, что вы пожелали вызвать меня, — сказал я наконец.
Он кивнул головой и ничего не ответил, видимо, ожидая продолжения. Тогда я начал наобум:
— Побывав у вас, отец, я потом много размышлял о том, не пропустил ли я какого-либо существенного обстоятельства дела. Мне кажется, не пропустил. Но, может быть, я ошибаюсь. В таком случае буду благодарен за любые вопросы.
— Спасибо. Я понимаю.
Снова тишина. Но более терпимая. Не столь безгранично пустая. Священник де Вос теперь перевел взгляд на письменный стол, заваленный книгами, тетрадями, листочками бумаги. Потом, словно желая навести порядок в своем сложном хозяйстве, он прикоснулся к одному предмету, к другому, причем так осторожно, как будто располагал их по местам с точностью, рассчитанной до миллиметра. В действительности он что-то искал. Найдя наконец нужный листок, он положил его перед собой так, как хотел, — ровно и аккуратно, — и наклонился над ним.
В этот момент зазвонил телефон. Отец де Вос взял трубку. Он держал ее на большом расстоянии от уха. В трубке что-то быстро застрекотало. Продолжалось это довольно долго. Отец де Вос не шевелился. Я не отрываясь смотрел на его небольшую седую, красиво вылепленную голову. Если бы он не держал в руке трубку, могло бы показаться, что вот такой, как есть, усталый и вместе с тем внимательный, он выслушивает в исповедальной чьи-то признания. Наконец голос в телефоне замолк. Ждал. Священник де Вос ответил:
— Нет. Теперь не могу. Я занят.
Он положил трубку на место. Снова склонился над листком бумаги. Прежде чем он его изучил, вторично зазвонил телефон.
— Хорошо. Иду.
Отец де Вос извинился, что покинет меня на минутку. Я тоже встал, чтобы размять ноги. Но тут же почувствовал себя неловко оттого, что нахожусь один в комнате, а на столе лежит бумажка с заметками, вне сомнения касающимися моего дела. Я подошел к двери и выглянул в коридор. Отец де Вос медленно прохаживался там в обществе довольно рослого священника, и тот вполголоса что-то разъяснял внимательно слушавшему, слегка сутулящемуся де Восу. Я думал, что они исчезнут за поворотом, но, дойдя до конца коридора, они повернули назад. Когда они подошли ближе, я предложил отцу де Восу подождать его в коридоре, пока он у себя в комнате продолжит разговор со своим собеседником. Де Вос отказался.
— Зачем же. Пусть вас это не смущает. Пожалуйста.
Он отворил дверь. Я вернулся в комнату. Теперь я имел возможность разглядеть ее внимательнее. Справа, за занавесками, отгораживавшими целый угол, стояла железная кровать и рядом с ней — большой, вмурованный в стену умывальник. Занавески были раздвинуты посредине. У противоположной стены тоже висела занавеска, заслоняющая пюпитр со скамеечкой для молитв. Над ним дешевая литография с изображением какого-то святого, приколотая к стене кнопками, обтрепанная по краям, вся в пятнах. Чуть подальше двустворчатые книжные шкафы. И наконец окно. Я выглянул и увидел ту самую высоченную стену, которую рассматривал из окон приемной, но здесь ландшафт был более широкий — ведь смотрел я теперь с верхнего этажа.
Терраса с висячим садом. Глядя снизу, я мог об этом только догадываться; теперь я стоял как раз напротив террасы и видел деревья, кусты, беседки, бюсты и маленькие, изящные фонтаны. Все это уместилось на крыше одного крыла дворца. Я недолго восхищался этим чудом архитектуры, так как возвратился отец де Вос.
Он еще раз просит его извинить и склоняется над листком. Я отхожу от окна, иду на свое прежнее место и мельком бросаю взгляд на листок. Безусловно, это вопросник. Я не уверен, касается ли он меня. Если да, то беседа может затянуться. Вопросник с виду очень подробный. Весь листок исписан бисерным почерком. Но, быть может, это не вопросник, а, к примеру, выдержки из разговора со мной. Заметки, относящиеся еще к первой встрече, а вовсе не список вопросов, заготовленных впрок. Увидим. Священник де Вос складывает руки, словно для молитвы, и опускает их на свой листочек.
— Вы мне говорили, что ваш отец плохо себя чувствует, — начинает де Вос. — Меня это огорчило.
Я повторил то, что уже сказал во время первого посещения: отца мучают приступы астмы, особенно частые, когда он бывает утомлен или взволнован. Тогда ему трудно разговаривать, он становится раздражительным, напрягает голос, отчего его состояние еще больше ухудшается. Поэтому он и решился послать меня сюда. Рассказывая все это, я мысленно упрекал себя за то, что слишком обстоятельно отвечаю на вопрос, заданный из чистой вежливости. К тому же я не был уверен, правильно ли поступаю, не говоря священнику де Восу всей правды. Отец советовал мне ничего от него не скрывать. Однако у меня не хватило духу признаться, что астма, как она ему ни докучала, не удержала бы его от поездки. Унижения, ожидавшие отца в Риме, страшили его куда больше, чем приступы болезни. Священник де Вос выждал, пока я кончу, после чего задал следующий вопрос, тоже связанный со здоровьем отца. Из этого второго вопроса я понял, что священником де Восом движет нечто большее, чем светская любезность.
— Досадное недомогание для адвоката. Не мешает ли ему астма заниматься своей профессией?
— Отец не занимается своей профессией, — возразил я. — Епископ Гожелинский…
— Я уже слышал от вас об этом, — прервал меня священник де Вос. — Я хотел бы знать в принципе, может ли ваш отец выступать.
Меня ударило в пот.
— Конечно.
Священник де Вос продолжал спрашивать деловым, спокойным тоном:
— Таково ваше мнение или так считают врачи?
— Ни разу я не слышал от врачей даже намека на то, что отцу вредно выступать в суде или вести переговоры с клиентами.
— Понимаю.
Не расплетая рук, он передвинул их так, что приоткрылся листок. Наклонившись над ним, он сказал:
— Таким образом, если бы не конфликт с его преосвященством Гожелинским, ваш отец мог бы по-прежнему вести дела.
— Безусловно. Никогда раньше он не испытывал недомогания, о котором я упомянул. Я думаю, что приступы прекратились бы совершенно, если бы отец получил возможность работать и наконец перестал бы страдать.
Священник де Вос не отрывался от листка бумаги, лежавшего перед ним. Но он не читал его. С низкого кресла, на котором я сидел, мне хорошо было видно, что глаза священника устремлены в одну точку.
— Из ваших слов, сказанных во время нашей первой встречи, я сделал вывод, что ваш отец добивается моральной сатисфакции, для него это вопрос чести. А между тем, если я хорошо вас понял, он озабочен прежде всего своими конкретными интересами.
Я забеспокоился.
— И тем и другим.
— Ясно. Спасибо. Я понял.
В этот момент я расхрабрился и задал вопрос, касающийся непосредственно самого дела. Не знаю, впрочем, была ли это храбрость или просто я больше не мог выдержать неизвестности. Запинаясь, я спросил:
— Простите, как вы думаете? Все уладится?
— Вероятно, вы имеете в виду, все ли уладится так, как желательно вашему отцу?
Я не сводил глаз с его лица и заметил, что легкая гримаса искривила его рот, когда он поправил меня.
— Извините меня, — сказал я.
— За что?
— За мой вопрос. Я знаю, что он неправильный. Неуместный.
— Нет. Он объясняется вашей молодостью. И хорошо, что вы его поставили, иначе вы ушли бы от меня с ощущением, будто не раскрыли передо мной сердца и не были со мной откровенны.
— Вы понимаете меня!
— Разумеется. Но на заданный вопрос я ответить не могу. Вашего отца постигло большое несчастье. Он лишился доверия своего епископа.
— Ведь можно доказать, что обвинения, которые епископ Гожелинский выдвигает против моего отца…
— Епископ Гожелинский не выдвигает против вашего отца никаких обвинений.
— Как это? — удивился я. — Ведь…
— Прошу меня не прерывать. Торуньская курия ничего не писала в трибунал Священной Роты по поводу вашего отца. Из этого следует сделать вывод, что ваш отец не совершил никаких проступков, не нарушил ни одного постановления, ни одного правила; в противном случае декан трибунала, согласно соответствующим предписаниям, давно уже был бы об этом осведомлен. Зато неоспорим другой факт: епископ Гожелинский не питает к вашему отцу того доверия, которое необходимо таким людям, как ваш отец, чтобы заниматься своей профессией, столь тесно, столь нерасторжимо связанной с местной курией.
Я был весь мокрый от пота.
Должно ли это означать, что здесь, то есть в Риме, ничего не удастся уладить и все надо решать на месте, в Торуни?
Зазвонил телефон. Священник де Вос поднял трубку.
— Нет, нет! — сказал он. — Мы уже кончаем. Просто разговор наш несколько затянулся. Одну минуточку. — Он извинился и прикрыл трубку рукой. — Вы сейчас свободны? — обратился он ко мне.
— К вашим услугам, разумеется!
— Он сейчас свободен, — сообщил священник де Вос своему собеседнику. — Я сразу же его пошлю к вам, монсиньор. Он будет у вас через четверть часа. До свидания. До свидания.
Он положил трубку и дал мне следующие указания:
— Спуститесь, пожалуйста, сейчас же вниз. На площади стоят такси. Скажите, чтобы вас отвезли во дворец Канчеллерия. Там помещаются отделы Роты. Вы подниметесь на четвертый этаж к монсиньору Риго — заместителю декана этого трибунала. Я с ним разговаривал, так как синьор адвокат Кампилли сказал мне, что вы собираетесь посетить монсиньора Риго. Что касается меня, то я, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Не могу даже дать оценки правовой стороны конфликта, поскольку, с точки зрения церковного права, между вашим отцом и его епископом нет конфликта. А теперь поторопитесь. Я-то сейчас располагаю своим временем, ведь в университете каникулы, но Рота еще работает. Поэтому воспользуйтесь тем, что у монсиньора Риго оказалась свободная минута, и извинитесь перед ним — я виноват, что так долго вас держал. Дольше, чем следовало.
Я склонился к его руке и поспешно вышел. В данный момент меня занимало только одно — как бы поскорее попасть в палаццо делла Канчеллерия; от пьяцца делла Пилотта это было далеко. Но когда такси пробилось сквозь последний затор автомашин на углу корсо[40] Виктора Эммануила и палаццо Канчеллерия, все подробности моего визита к священнику де Восу внезапно сложились в единую картину. Пожалуй, я не обольщался относительно позиции отца де Воса; он принял меня у себя, наверху, чтобы подсластить пилюлю, и перевел стрелку на официальные пути Роты, когда понял, что фундамент у моего дела шаткий. Все это было мне ясно. Ясно как день. Меня охватило чувство безнадежности. Однако ни на мгновение я не допускал мысли о том, чтобы не пойти к монсиньору Риго. Не знаю, как объяснить, но если уж человек впряжется, так продолжает тянуть лямку, даже если это безнадежно и бессмысленно.
IX
Я вошел в здание Роты. Швейцар указал мне, как попасть на четвертый этаж. В канцелярию вела огромная лестница с широкими и низкими ступеньками. Поднимаясь по ней, я прикасался к каменной балюстраде, за которой раскинулся великолепный двор. Балюстрада была холодная, меня так и тянуло прильнуть к ней всем телом. Беспокойства я не испытывал, во всяком случае, в гораздо меньшей степени, чем накануне первого визита к отцу де Восу. Мне только хотелось бы лучше подготовиться к встрече с монсиньором Риго, посоветоваться с Кампилли, как вести разговор, чего остерегаться, на что нажимать. Я мало возлагал надежд на предстоящую встречу. И вместе с тем у меня не выходило из головы, что из списка лиц, составленного отцом, остались только двое: священник де Вос и монсиньор Риго. Я уже знал, какой помощи можно ждать от первого. Если и от второго будет такой же толк, то неясно, что же мне еще остается делать в Риме.
Двор больше не был виден. Внутри здания лестница стала у́же и с каждым этажом все круче. Наконец на светлой каменной стене появилась черная эбеновая дверь с большой медной табличкой «Sacra Rota»[41]. Я позвонил. Безрезультатно. Снова позвонил. Никакого отклика. Я нажал ручку. Дверь была не заперта. Небольшой вестибюль. В нише за черным столом — служитель, благоговейно складывающий выпуски каких-то ватиканских изданий. Несколько черных кресел — жестких, без обивки. Стены голые. Пусто и по-больничному чисто.
Я сообщил служителю, что меня вызвали к монсиньору Риго. Ничего не ответив, он встал и пошел по одному из двух коридоров, которые вели из вестибюля. Он не спросил, как моя фамилия, вообще ничего не спросил, поэтому я последовал за ним. Тогда я услышал его голос — вежливый, но явно недовольный:
— Синьор, вы, кажется, у нас впервые. — В голосе звучало скорее сожаление, нежели упрек. — Ждать надо здесь.
Он указал рукой на кресло, ушел и вскоре вернулся.
— Монсиньор просит вас к себе, — сказал он. — Третья комната направо.
Он подвинулся, чтобы пропустить меня, но, пока я не нашел нужной мне двери, не тронулся с места, наблюдая за каждым моим шагом. Я постучал:
— Avanti![42]
Я вошел в просторный, обитый зеленой материей кабинет, в котором всего было много — мебели, картин, канделябров и зеркал. Монсиньор Риго, массивный, с большим розовым лицом, лишенным каких-либо характерных черт, чуть тяжеловато поднялся из-за стола. Приветствовал меня он мило. Проще говоря — обычно, естественно. В Риме меня так встречали впервые. Без всякой скованности или подчеркнутого радушия, за которым скрывалось холодное безразличие, и без того пристального, недоверчивого интереса, который всегда так раздражал меня.
— Будем говорить по-итальянски или по-французски, как вы предпочитаете? — первым делом спросил монсиньор Риго. — А может, по-латыни?
Он не шутил, а выяснял. Только в веселой, легкой манере.
— У меня нет опыта в разговорной речи на латыни, и жаль, потому что меньше всего ошибок я делаю в этом языке.
— Как приятно, что вы так хорошо знаете латынь. А откуда, если не секрет?
Я ответил, что отец, мечтавший, чтобы я унаследовал от него адвокатскую канцелярию, с давних пор обучал меня латыни по разным древним сборникам булл и документов.
— О боже! — вздохнул с усмешкой монсиньор Риго. — Они написаны самой худшей в мире латынью!
Он слегка отодвинулся от стола. Выпрямился. Потянулся. Во время разговора он проделывал это несколько раз. Можно было подумать, будто такими движениями он хочет хоть немножко вознаградить себя за то, что постоянно прикован к столу. В противоположность священнику де Восу, он поминутно меня прерывал. Отчасти потому, что уже был знаком с делом, но прежде всего потому, что его интересовала не обстановка, не характеристики людей, а только юридическая сторона конфликта и уточнение ситуации с точки зрения права. Остальное для него не имело значения.
Первый раз он прервал меня, заметив, что я намереваюсь изложить всю историю с самого начала. Он выдвинул один из ящиков стола и достал оттуда печатный список адвокатов Сеньятуры и Роты, — такой же экземпляр я видел у отца.
— Молодой человек, — сказал он. — Вот список адвокатов, правомочных выступать во всех церковных трибуналах и судах. Начиная с высшего трибунала Сеньятуры и кончая низшими монастырскими судами. В этом списке значится фамилия вашего отца. На вашего отца не поступило никаких жалоб. Ничего такого не доходило ни до меня, ни до декана адвокатов Роты, то есть до единственно компетентных лиц в случае поступления упомянутых жалоб. И следовательно, с юридической точки зрения не существует никаких помех к тому, чтобы ваш отец выполнял свои обязанности.
Во второй раз он прервал меня, когда я заговорил о том, что состояние здоровья отца помешало ему приехать.
— Очень правильно сделал, что не приехал. Он доказал этим свою деликатность и понимание обстановки в курии. Не явился сюда в качестве пострадавшего, а скромно пытается через близких ему третьих лиц надлежащим образом восстановить пошатнувшееся положение.
В третий раз — когда, не ссылаясь на священника де Воса, я пробормотал несколько бессвязных фраз относительно того, что отец якобы утратил доверие епископа.
— Это случай неприятный, но, увы, не единичный. Не первый и не последний раз приходится мне вмешиваться в споры между епископами и нашей адвокатурой. Наши адвокаты пользуются известными привилегиями — я имею в виду прежде всего их право непосредственно сноситься с Римом, — а епископам это не по вкусу. Но покуда такие привилегии существуют, Рота обязана их защищать. И главное — ни в коем случае не допускать такого положения, когда на местах, пусть и на высокой в иерархическом смысле ступени, этих привилегий фактически не признают за теми, кто ими обладает. А что касается доверия, то достаточно того, что ваш отец как в профессиональном, так и в моральном отношении пользуется доверием Роты, в противном случае его фамилия не значилась бы в списке.
Монсиньор Риго четко формулировал свои мысли. Он высказывал их решительно и самоуверенно. Я слушал его со смешанным чувством. Сердце мое переполняла бурная радость, но вместе с тем меня пугало то, что он смотрит на вещи чересчур логически и потому чересчур односторонне. Теперь я, в свою очередь, позволил себе вторгнуться в ход его рассуждений, с дрожью в голосе напомнив о политическом аспекте дела.
— Политика? — удивился он. — А что же это такое? Ни церковное право, ни lex propria[43] Роты не знают такого понятия!
Широкоплечий, сильный, он снова распрямился. Взял список адвокатов и стал им обмахиваться.
— Я хочу, чтобы вы хорошенько меня поняли, мой молодой друг, — продолжал он. — Я не отрицаю большого значения и, если можно так выразиться, вездесущности некоторых политических соображений. Но я ими не занимаюсь, поскольку питаю доверие к различным органам курии, и прежде всего к статс-секретариату, и не сомневаюсь, что они зорко следят и в достаточной мере считаются с характером и весомостью этих соображений. Таким образом, по роду моей работы я не чувствую себя ни призванным, ни внутренне обязанным выступать с какими-либо политическими коррективами. В своей области я делаю то, что мне повелевает дух божий, ясно и вдохновенно взывающий ко мне со страниц Кодекса церковного права и Норм ведения судебного процесса Роты, торжественно утвержденных апостольской столицей.
Он говорил спокойно, слегка выделяя некоторые слова. А я, слушая его, то ежился, то вздрагивал так, словно он эти слова выкрикивал. Право может быть таким же слепым, как политика, и точно так же способно погубить человека. Поэтому меня пугало то, что он смотрит на дело отца исключительно с правовой точки зрения. Мне хотелось, чтобы он учел все побочные обстоятельства, взглянув на вопрос житейски, нормально, по-человечески. Я был уверен, что только тогда он сумеет дать совет и предугадать дальнейший ход событий.
— Простите за смелость, монсиньор, — прошептал я, — но поскольку вы сами упомянули об органах курии, в обязанности которых входит вмешательство в дела, приобретающие политический характер, то я не могу устоять перед желанием…
— Вас интересует отношение этих органов к вашему отцу?
— Да.
— Не будем этого касаться. И, стало быть, обойдемся без домыслов и гипотез. Хорошо? До меня частным путем дошли слухи о том, что в результате каких-то недоразумений вашего отца, адвоката Роты, лишили возможности заниматься своей высокой профессией. Я известил об этом нашего декана, кардинала Травиа. Его преосвященство передал дело в мои руки, согласно со сферой моих полномочий. Узнав, что вы находитесь в Риме, я позволил себе пригласить вас сюда. Из ваших уст я получил авторитетное, исходящее из первоисточника подтверждение упомянутого факта. А именно, что отец ваш лишен возможности заниматься своей профессией. Данное положение противоречит установленным правилам. Вот и все, что я знаю о деле. Ничего больше мне и не подобает знать, молодой человек. А теперь перейдем к выводам; вернее, не к выводам, раз вывод ясен и я вам уже сообщил, что отец ваш должен быть восстановлен в своей должности, а к вопросу о том, как навести порядок в этом деле.
— То есть?
— Епископ не жаловался нам на вашего отца. Ваш отец не жаловался нам на своего епископа. Мы можем только быть благодарны им за такую сдержанность и доказать нашу благодарность тем, что сами не станем преувеличивать значения конфликта. Но вследствие этого, разумеется, с точки зрения процедуры, вопрос становится довольно сложным. Мне кажется, что есть только один выход из положения: надо направить из Рима в торуньскую курию какое-нибудь дело с пометкой, что адвокат, ведущий процесс, назвал в качестве своего тамошнего представителя вашего отца.
Я ничего не понял, хотя имел некоторое представление о церковном праве и ведении процесса.
— Порядок довольно обычный. Предположим, что в Риме ведется какой-то процесс. Бракоразводный или любой другой. И, к примеру, оказывается, что кого-то из свидетелей нужно допросить на месте, а именно в Торуни. Адвокат, который ведет процесс, является к нам, в наш трибунал, просит, чтобы мы дали соответствующее распоряжение курии, и одновременно сообщает, кого на территории данной епархии он избрал в качестве своего представителя. Мы даем распоряжение. Местного адвоката вызывают, и он вступает в свои права. Будем надеяться, что, один раз преодолев трудности, в дальнейшем уже…
При мысли о том, что возможно нечто подобное, при мысли о том, как жестоко страдает отец, я вскочил со стула и принялся бессвязно благодарить. Я благодарил тем горячее, что поначалу несправедливо судил о монсиньоре Риго, и теперь корил себя за это. Правда, конфликт между моим отцом и епископом он рассматривал только с юридической стороны. Для того чтобы найти выход из тупика, он тоже обращался только к правилам и процедуре. Но он умно и по-человечески был чувствителен к оттенкам моего дела.
— Сядьте же, молодой человек! — произнес он наконец, скорей приглядываясь ко мне, чем прислушиваясь к моим словам, да и то в некотором роде удивленно, даже разочарованно. — Я не оказываю вам никаких благодеяний, а просто информирую вас.
Я задумался и стал рассуждать вслух:
— Но вот какое дело можно было бы передать в Торунь? И кто? И чье?
— Что-нибудь, наверное, найдется. У вашего отца есть в адвокатских кругах верные друзья, не правда ли? Впрочем, это уже полностью переходит границы моей компетенции.
Он встал, и я встал. Высокий, грузный, он несколько раз крепко тряхнул мою руку.
— Мне кажется, будет полезно, — сказал он, — если ваш отец обратится ко мне с письмом, в котором точно, но со всем уважением к епископу изложит подоплеку и ход развития конфликта.
Я упомянул о мемориале.
— Ничего похожего! — обрушился на меня монсиньор. — Никаких официальных документов! Никаких донесений. Частное письмо, коротко и ясно излагающее суть дела для моего сведения.
Он добродушно улыбнулся.
— Вы-то уж наверное привезли от отца различные варианты писем или прошений. Выберите наиболее подходящее. Тут вам даст самый лучший совет друг вашего отца.
Он взял меня под руку и проводил до дверей. Уже в дверях он добавил:
— Письмо вашего отца можете сразу же мне передать. Что касается дальнейших шагов, то ждите, пожалуйста, моего сигнала. А за это время вы вместе со своими друзьями подберите материал, который Рота могла бы переслать в Торунь.
— А мой адрес? Вы знаете мой адрес, монсиньор?
— Да уж как-нибудь разыщу вас. Пусть вас это не беспокоит!
И, догадываясь по выражению моих глаз, что меня это все-таки беспокоит, монсиньор пояснил:
— Рим, молодой человек, — это маленький городок! Я имею в виду настоящий, истинный церковный Рим. Тот, по дорожкам и закоулкам которого вы бродите. И, как бывает в маленьких городках, здесь все обо всех известно. Поэтому не бойтесь, что я потеряю ваш след в этом городке. И не проявляйте нетерпения, потому что, на мой взгляд, вся история очень простая и ее легко уладить.
В коридоре, в вестибюле, на лестничной клетке, во дворе я сдерживал себя, стараясь шагать медленно, с каменным выражением лица. Но, очутившись на площади перед дворцом Канчеллерия, я перестал притворяться спокойным. Если даже некоторые детали разговора были мне неясны, не вызывало сомнений, что монсиньор Риго решительно держит сторону моего отца. Сверх того, исход дела зависит от него, раз декан Роты поручил монсиньору заняться этим делом. И значит — мы победили! И значит — конец неприятностям!
Перед отъездом из Торуни мы с отцом составили род шифра, чтобы телеграфировать, как идут хлопоты. «Маленьким городком» был не только Рим, но и Торунь, — понятно, в том же самом смысле. Мы изрядно помучились над нашим шифром, чтобы торуньская курия не смогла разгадать его условных выражений, в случае если кто-либо доставит ей тексты моих телеграмм. Свернув на корсо Виктора Эммануила, я сразу попал на почту и составил телеграмму, извещавшую отца о благосклонном отношении Роты к его делу.
Время близилось к часу дня. Мне уже надо было возвращаться к обеду в «Ванду». Но я так сиял от счастья, что мне показалось попросту неприличным предстать в подобном настроении перед невеселыми обитателями пансионата. Это было бы неделикатно по отношению к ним, да и легкомысленно, поскольку мои хлопоты, пусть и продвигающиеся весьма успешно, требуют соблюдения полнейшей тайны. Поняв это, я вдруг заметил, что нахожусь на площади Сан Андреа делла Валле, обернулся и увидел фронтон отеля Борромини, любимого римского отеля моего отца. Ему было удобно останавливаться здесь, всего в двух кварталах от дворца Канчеллерия, где помещались оба апостольских трибунала, ради которых отец главным образом и приезжал. А кроме того, всюду вокруг находились папские учреждения, ведомства и архивы, не говоря уже о дворцах и апартаментах церковных сановников, с которыми отец поддерживал отношения. Я вошел в отель, поднялся в лифте на террасу, ту самую террасу ресторана, с которой связано столько воспоминаний, сел за столик, защищенный, как и все остальные, тентом с вьющимися растениями. Мне доставлял удовольствие вид зала, а в особенности радовало то обстоятельство, что еще вчера вид этот был бы мне неприятен. За столиками довольно заметно выделялись черные сутаны с фиолетовыми кантами или без кантов, их было немало, бросались в глаза и темные костюмы светского покроя. Глядя на них, я с радостью думал, что близится день, когда мой отец по-старому займет столик в этом ресторане, будет обсуждать и улаживать различные дела, вернув все свои давнишние права постоянного клиента отеля Борромини и вступив в свои обязанности. И я наконец избавлюсь от этого кошмара, — говоря откровенно, воистину смехотворного, если бы не мучил он так моего отца.
X
Заказав обед, я позвонил в пансионат и предупредил, чтобы меня не ждали. Потом набрал номер телефона адвоката Кампилли, но, еще до того, как мне ответили, повесил трубку. Я звонил из гардеробной, где полно было людей, которым могли быть известны фамилии священника де Воса и монсиньора Риго. Следовательно, не стоило отсюда сообщать Кампилли о моих разговорах. И я позвонил с почты, спустя два часа, так как помнил, что Кампилли спит после обеда.
За это время впечатления от обеих утренних встреч основательно перетасовались в моей голове; от священника де Воса я ушел полный сомнений, от монсиньора Риго — в приподнятом настроении. Мысленно восстанавливая картину первой и второй беседы, я по-прежнему прекрасно понимал, что добрых симптомов гораздо больше, чем дурных. По-прежнему мне было ясно, что ситуация складывается хорошо. Но понемногу я начал замечать в ней и теневые стороны. Они вырисовывались как из расхождений между высказываниями моих собеседников, так и из нескольких загадочных утверждений и пожеланий. По мнению священника де Воса, тот факт, что отец лишился доверия епископа Гожелинского, безнадежно усложнял дело. А монсиньора Риго факт этот тревожил не больше, чем песчинка, забившаяся в мотор. Нужно было лишь устранить песчинку, чтобы мотор продолжал работать.
Кроме того, я недоумевал, почему священник де Вос так подробно расспрашивал о состоянии здоровья моего отца, о том, сможет ли он или не сможет в случае чего вести дела. Я не усматривал также никакой логики в том, что монсиньор Риго пожелал получить письмо от отца. Если он считает, что никакого конфликта нет, то зачем нужно письмо? Если нее он согласен с тем, что конфликт существует, то в таком случае ничего ведь нельзя исправить с помощью частного письма. Я твердо знал, что за требованием монсиньора не кроется ловушки. Но по временам с беспокойством думал, что требование это необдуманное и высказано опрометчиво, в соответствии с психологией людей, которые имеют право принимать решения и инстинктивно всякий раз должны компенсировать каким-либо условием свое согласие поддержать вашу просьбу. Условие подчас бывает случайным, нелепым — отсюда новые осложнения. Так, по крайней мере, вытекало из моего опыта.
Я глубоко ошибался! Узнав по телефону мой голос, Кампилли приветствовал меня с обычным радушием. Он обрадовался, услышав, что утром меня приняли оба — и священник де Вос и монсиньор Риго. А когда я в двух словах изложил содержание бесед, он потребовал, чтобы я немедленно пришел. Итак, снова такси. Мы пробивались по корсо Виктора Эммануила через затор машин. Наконец широкая виа делла Кончилиационе. Мой любимый купол собора святого Петра, колокол-гигант, вызванивающий тишину. Объезд у ватиканских стен. Лакей в полосатой куртке. И наконец широко раскрытые объятия Кампилли. Поздравления и рукопожатия.
— Ci siamo! Bravo! — Кампилли хлопал меня по плечу. — Te l’ho fatta.
Означало это: «Мы у цели! Браво! Дело улажено!» Глаза у него блестели. Широко растопырив пальцы, он всей рукой пригладил свои густые седоватые волосы. Он сгорал от любопытства и так жаждал подробностей, что мы уселись сразу, в первой же комнате — в приемной, а не в смежном с нею кабинете. Он подробнейшим образом расспрашивал меня обо всем. Для него все было важно: не только слова, сопровождавшие их жесты, интонация, но любые, казалось бы второстепенные, обстоятельства обеих встреч, и прежде всего — сколько времени они продолжались. Священник де Вос принял меня у себя наверху, и адвокат Кампилли расценил это как доказательство великой милости. В равной мере его растрогало то, что монсиньор Риго проводил меня до дверей, вдобавок взяв под руку. Я подумал было, что Кампилли пересаливает, но тут же отогнал эту мысль, так как понял, что он владеет несравненным искусством извлекать наружу истинный смысл слов обоих моих собеседников. Кампилли быстро и безошибочно прояснял темные для меня места. Едва он проник в их подтекст, как мне пришлось согласиться, что он правильно оценивает аккомпанемент — все эти паузы и прочие мелочи, сопутствующие моим разговорам.
Уже по телефону я сказал Кампилли, что священник де Вос, собственно, ни о чем меня не спросил. Потом, когда мы стали подробно обсуждать мои встречи, я еще раз сказал ему об этом. Говоря «ни о чем», я имел в виду «ни о чем существенном». Между тем оказалось, что вопрос о здоровье моего отца был очень важным вопросом.
— Я думал, что он спрашивает из вежливости, — сказал я.
— Неправильно.
— А когда он начал на меня нажимать, допытываясь, сможет или не сможет отец при своей астме вести дела, я уж и не знал, что об этом думать.
— И что же ты ему ответил?
— Сможет! Потому что это соответствует истине. Однако я опасаюсь, не дурно ли я поступил.
— Почему дурно?
— Священник де Вос, видимо, считает, что отец беспокоится о деньгах, то есть о материальной стороне.
— Ты прекрасно ответил: священник де Вос так и должен считать. Пойми! Борьба из-за денег, доходов, материальных благ — это человеческое дело. Зато борьба за самый принцип, за справедливость или за престиж есть проявление гордыни. Там, где речь идет о принципах, никто в церкви не может выиграть ни одного спора со своим начальником. А в области материальной это вполне возможно. Священник де Вос, как и монсиньор Риго, оба понимают, что твоему отцу нужны средства для существования и, даже имея на что жить, он вправе добиваться лучших материальных условий. На этой почве давай и будем двигаться, ибо она не заминирована.
— А проблема доверия? — спросил я. — Кто из них прав?
— Прав отец де Вос. К сожалению. И запомни, что я этого от тебя не скрываю. Но его аргументация — это аргументация столь высокого порядка, что для обсуждаемого нами случая она не имеет решающего значения. Таким образом, ты можешь без всяких опасений и с чистой совестью придерживаться указаний монсиньора Риго.
— А хороша ли и осуществима ли предложенная им комбинация, удастся ли послать через Роту задание торуньской курии и в качестве исполнителя назвать отца?
— Комбинация реальная. В случае чего лично я и моя канцелярия к твоим услугам. И мы всегда сможем провести эту комбинацию. Но я считаю, что другая была бы лучше. Я имею в виду такую, в которой участвовала бы исключительно Рота и которая была бы предпринята по ее инициативе. При первой же возможности поговорю об этом с монсиньором Риго.
— А письмо? Зачем монсиньору Риго понадобилось письмо отца, если он-то как раз и считает, что никакого конфликта не существует? Вам не кажется подозрительным такое требование?
Синьор Кампилли покачал головой.
— Нет. Само по себе требование не вызывает треноги. А цель? Святой боже! Если, несмотря на все, ему нужен документ в форме письма, значит, он хочет кому-то его показать. Кому? Своему декану либо лицу, возглавляющему другое ведомство. Для чего? Чтобы они одобрили его решение или разделили с ним ответственность. Точнее, чтобы они одобрили или разделили ответственность письменно. Потому что еще до разговора с тобой он, наверное, устно обсудил вопрос, с кем счел нужным. Таким образом, попросту говоря, письмо твоего отца ему нужно для того, чтобы уладить некоторые формальности.
— Монсиньор Риго подчеркнул, что письмо должно носить частный характер.
— Разница формальная, но смысл тот же самый. Если бы письмо было официальное, десятки людей имели бы право прочитать его, а так — только избранные. Ну что, я разъяснил тебе?
— Любопытно! — сказал я.
— Тебе, быть может, кажется несколько старомодным такой порядок выполнения служебных обязанностей. Иными словами то, что вопрос одновременно рассматривается во многих планах. Но я как-никак вырос в этой атмосфере и считаю ситуацию вполне естественной и обычной. Признаюсь, что неожиданности и капризы такого порядка вещей по временам бывают невыносимы. Но тот, кто с ним сжился, не променял бы его ни на какой другой. При таком порядке ни одно дело не бывает заранее предрешено и окончательно утверждено так, чтобы не подлежать пересмотру. Человек никогда не может полностью быть в чем-то уверен, но зато его никогда не оставляют без тени надежды. Это прекрасно! Признайся!
— Но в моем конкретном случае? — воскликнул я. — Полная уверенность? Или только тень надежды?
— В данный момент ты можешь считать, что дело полностью и безоговорочно улажено. Я тебе это уже сказал и поздравил с успехом.
— В данный момент?
— Большего ты не можешь требовать! Неужели ты не чувствуешь, что дело выиграно?
Иногда я чувствовал, иногда нет. В отеле Борромини я не мог совладать с собой от радости, распиравшей мою грудь. Потом я поддался сомнениям. В начале нашего разговора адвокат Кампилли полностью их развеял. Затем повел себя так, что я снова заколебался. Но под конец, когда мы стали обсуждать содержание письма монсиньору Риго, оптимизм вернулся ко мне. Письмо, видимо, получится великолепное — то есть убедительное и тактичное. Но пока что Кампилли не разрешал мне писать.
— Вечером в Остии я набросаю черновик, — сказал он. — А завтра мы еще раз все обсудим и закончим письмо.
— Быть может, вы захватите с собой мемориал, который я у вас оставил?
— Правильно. Ты тоже его перечитай. Пригодится. Но мы не станем перегружать письмо чрезмерным количеством подробностей.
— Монсиньор Риго настаивал, чтобы письмо было подробное.
— Так только говорится. Письмо не должно быть длинным. Совершенно достаточно, чтобы в нем было четко выражено отношение твоего отца к данному вопросу. Нам с тобой оно хорошо известно. Мемориал мне отлично все разъяснил. Таким образом, с твоей помощью и в соответствии с правдой я смогу изложить дело так, как нужно. Помнишь, что я тебе сказал, когда ты первый раз пришел ко мне? Я сказал, что, прежде чем мы начнем бороться за какую бы то ни было правду о твоем отце, надо узнать, что монсиньоры в Роте и не в Роте готовы считать правдой. Из того, что ты здесь рассказывал, мне совершенно ясно, что эта правда должна быть обыкновенной и простой. Такой, какая годится для человека без претензий, желающего только спокойно жить и честно зарабатывать себе на жизнь.
— На отношение отца к этому делу влияют и другие мотивы!
— Я догадываюсь. Пожалуй, ты мне даже говорил о них. Однако, пока ты находишься в Риме, постарайся о них забыть. Ты приехал сюда не за тем, чтобы знакомить монсиньоров с психологией твоего отца, а только для того, чтобы выиграть его дело. Ты согласен?
— Согласен.
— А подпись твоего отца? Я полагаю, отец снабдил тебя чистыми бланками со своей подписью.
— Да. У меня есть его подпись и на служебном бланке, и на бланке для частных писем.
— Узнаю его! Он всегда был предусмотрительным и точным. И надо же было именно ему ввязаться в спор со своим епископом. Ведь он такой осторожный, тактичный!
— В котором часу я должен завтра прийти?
— В одиннадцать. Мы напишем и перепишем. Так, чтобы до часу дня ты успел передать письмо секретарю монсиньора Риго.
— Я несказанно благодарен вам за все.
— А как с пансионатом? Ты переехал в другой пансионат?
— Нет. По-прежнему сижу в «Ванде».
— Что тебе посоветовать? Спрошу у жены. Я что-то не могу вспомнить ни одного хорошего адреса.
Я попросил его не тревожиться, сказал, что охотно буду и дальше жить в «Ванде». Кампилли возразил: из всего, что он слышал, можно сделать вывод, что пансионат очень бедный и скучный. Тогда я ответил, что именно по этой причине мне было бы неприятно съехать оттуда, доставив огорчение людям, которым живется так тяжело.
— Избыток деликатности! — поморщился Кампилли. — Не можешь же ты из-за своей чувствительности портить себе пребывание в Риме. Я не заглядываю ни в чей карман, но знаю от жены, что они в общем сводят концы с концами. У пани Рогульской есть кое-какой заработок — она лечит зубы в амбулатории, которую содержат монахини; ее брат зарабатывает на туризме, работая в разных церковных учреждениях, занимающихся организацией паломничества и экскурсий в Рим. Те же учреждения поставляют и клиентуру для «Ванды». Рогульская и Шумовский на очень хорошем счету в этих кругах, и можешь быть совершенно уверен, что им не дадут погибнуть с голоду.
— Ну хорошо, тогда я подумаю, — ответил я.
— А я разузнаю у жены про какой-нибудь пансионат получше.
Мы стали прощаться. Теперь, после того как он дал мне необходимые разъяснения и указания и не ломал голову над формулировками отца де Воса и монсиньора Риго, я особенно хорошо понял, что и для синьора Кампилли, для него лично, были выгодны вести, которые я принес. Когда я к нему явился, он поздравлял меня и радовался одержанным успехам, имея в виду прежде всего отца, а чуточку и меня. Под конец, размышляя о деле, он подумал и о себе. Еще раз обнял меня и сказал:
— Признаюсь тебе, что у меня камень с души свалился. Я ведь вращаюсь в мире, неимоверно чувствительном к некоторым вещам. Чувствительном и памятливом. Но теперь на нашей стороне могучие силы. Никто не может поставить мне в упрек то, что я пришел вам на помощь, если от тебя не отвернулись ни на пьяцца делла Пилотта, ни в палаццо делла Канчеллерия. Меня в самом деле это искренне радует.
Я возвратился в пансионат к самому ужину, потому что, уйдя от Кампилли, еще некоторое время бродил по городу. Доехал до собора in Laterano. Заглянул внутрь. Все там очень величественно. Потом осмотрел площадь. Ошеломленный впечатлениями дня, усталый, я старался ни о чем не думать. Шел медленно, с широко открытыми глазами, но как в полусне. Шел по длинной, душной, шумной улице Таранто, липкий от пота, запыленный, но с таким легким сердцем, словно его обмыли и прополоскали.
В пансионате пусто. Бразильцы отправились на юг. За столом только домашние — Рогульская, Шумовский, Козицкая и Малинский. Заметив, что Козицкая и Малинский сидят рядом, я вспомнил намеки Весневича. Любовная пара. Разница в возрасте огромная. Ему, должно быть, под шестьдесят, ей, пожалуй, лет тридцать. Вероятно, и такое бывает. Впрочем, независимо от возраста, они, видимо, не очень подходят друг другу. Их дело. Но когда живешь рядом с такой парочкой, а в семье все знают об их отношениях, то это как-то неприятно раздражает. По крайней мере, когда смотришь на них.
Разговор за столом самый обычный, вялый. Поддерживает его Малинский. Чаще всего он обращается ко мне:
— Что же это вы целый день не были дома?
— Да так получилось.
— Библиотека?
— Нет, сегодня там не был.
— Осматриваете город?
— Главным образом.
Шумовский:
— Что вы сегодня осматривали?
— Латеран. Ну и окрестности. Я отлично прогулялся.
— А у меня завтра снова экскурсия. Ирландская. Послезавтра возвращаются бразильцы. И так без перерыва. А мне хочется пойти с вами вдвоем и по-человечески вам что-то объяснить, показать.
Я:
— Успеется! От нас не убежит.
Малинский:
— А пока что вы на весь день убегаете из дому. Не удивительно. Комнатка, в которую вас теперь запихнули, страшно тесная.
Рогульская:
— Может быть, перевести вас в прежнюю комнату?
Козицкая, не слишком вежливым тоном:
— Да ведь сейчас только дядя сказал, что бразильцы возвращаются. Что же, перевести на одну ночь? Или как?
Я:
— Ну разумеется, не стоит. Комнатка очень милая. А если я мало ею пользуюсь, так это в порядке вещей. Каким же я был бы туристом, если бы сидел дома!
Малинский:
— Весь день на ногах, а аппетит, я вижу, у вас неважный. Или вам не по вкусу?
— Ну что вы! — запротестовал я. — Я слишком много ходил и устал.
Но правда была на стороне Малинского.
Я отодвинул на край тарелки в самом деле очень неаппетитные ракушки, поданные в виде приправы к макаронам, которые от этого стали для меня почти несъедобными.
Козицкая снова заговорила — сухо и к тому же с явным намеком:
— Мне очень неприятно, что наша пища вам не по вкусу. В Польше теперь, наверное, великолепная кухня!
Я пристально поглядел на Козицкую. Она встретила мой взгляд холодно, не опустив глаз. Так мы смотрели друг на друга несколько секунд. Инцидент замял Шумовский, пустившийся в пространные рассуждения относительно различных блюд итальянской кухни. При этом я узнал, что злосчастные ракушки, из-за которых все произошло, называются «vongole». Их-то, во всяком случае, я буду избегать.
XI
Утром, за завтраком, обязательный в эту пору дня — Малинский. В аккуратно вычищенном костюме, благоухающий, тщательно выбритый. Чистая рубашка, воротничок накрахмален, но края потертые, как и у манжет. Костюм тоже поношенный. Бульдог, завидев меня, поднимает лай и заглушает первые приветственные фразы Малинского. В этот момент я решаю, по примеру некоторых других постояльцев, просить, чтобы мне подавали завтрак в комнату. Но после приветствий приходит очередь информации. Я слушаю со смешанным чувством. Но, во всяком случае, с любопытством.
— Не принимайте слишком близко к сердцу вчерашний выпад пани Иси.
— Пани Иси?
— Я имею в виду пани Козицкую.
— У меня к ней нет ни малейших претензий. Догадываюсь, что содержание пансионата — тяжелый и неблагодарный труд.
Малинский прерывает меня:
— Даже не в том дело. Но какое перед ней будущее? Конкуренция велика; иностранец, к тому же не специалист в данной области, не сможет тут чего-либо достигнуть. То есть добиться независимого положения. В первое время, сразу после войны, когда она приехала сюда из Германии, то надеялась, что ей удастся закончить образование. Ей тогда не было и двадцати лет. Сперва ее отхаживали. Вы представляете себе ее состояние после двух лет лагеря. С деньгами тогда было легче. Шумовский зарабатывал. Рогульская зарабатывала. Причем нормально, без всякой трепки нервов. Но времена эти кончились, когда польские воинские части ушли из Италии, а мы, поляки, на этой земле из категории победителей скатились в категорию эмигрантов. Теперь уж и думать не приходится, что пани Ися получит образование. У нас в пансионате дела идут то лучше, то хуже. Бывает и так, что приходится убирать и готовить без посторонней помощи. Не удивительно, что у пани Иси нервы развинтились. Особенно если мечтаешь о многом, строишь разные планы. Иногда это планы ближнего прицела, иногда дальнего, связанные с тем, чтобы бросить все к черту и уехать отсюда.
— Что вы говорите? — удивился я. — Уехать?
— Оставим это. Лучше не забегать вперед, чтобы не искушать судьбу. Особенно потому, что теперь шансы на отъезд слабые. По этой причине и раздражительность обостренная. Пример — вчерашнее настроение. Не удивляйтесь, пожалуйста, что я вмешиваюсь в чужие дела. Но я живу в пансионате с самого его основания. Мне жаль их всех. Пани Козицкую тоже. И я подумал, что вы вчера могли обидеться. Но, право, на некоторые вещи здесь надо смотреть сквозь пальцы и не придавать им значения. Поэтому я позволил себе посвятить вас в здешние трудности.
— Да я ни на минуту не был в обиде на пани Козицкую, — ответил я ему. — Однако я прекрасно понимаю ваши намерения. Вы все объяснили, спасибо. В случае чего, это мне пригодится в будущем. То есть при следующих колкостях пани Козицкой.
Мы оба рассмеялись и встали. Бульдог снова залаял.
Малинский:
— В город?
— В город.
— Подвезти вас?
— Я не могу так злоупотреблять вашей любезностью.
— Я еду в сторону палаццо ди Джустициа.
— А где это?
— Близ Ватикана.
— А я в библиотеку.
— Ватиканскую? Ну, тогда вы злоупотребляете моей любезностью в очень скромном размере.
Он высадил меня у ворот святой Анны. Я подождал, пока его машина исчезнет за углом, и двинулся в сторону виллы Кампилли, которая находилась в нескольких сотнях шагов отсюда. Синьор Кампилли уже подготовил проект письма. Один экземпляр черновика он вручил мне, а с другим сел за письменный стол.
— Читай! — сказал он.
Я начал читать про себя.
— Нет! Вслух. Фразу за фразой.
После первой или второй паузы он изменил метод.
— Нет. Лучше ознакомься с письмом в целом, а потом мы прочитаем по фразам.
Содержание письма меня поразило. Суть даже не в его смиренном и слащавом тоне и не в подходе к особе епископа Гожелинского, которого Кампилли превратил в добряка, источающего святость и великодушие. Хуже было, что оценка самого конфликта тоже не соответствовала истине. Так, например, распоряжение епископа, данное им своей курии, приобретало превратный смысл. В изложении Кампилли все выглядело так, будто мой отец только догадывался о неблагосклонности епископа. Ни слова о запрещении. Вместо точной информации о факте — жалоба: «Чувствую, что его преосвященство с неприязнью следит за моей работой». Место это вызывало у меня опасения. В письме не было никаких просьб, никаких пожеланий. В одной-единственной короткой фразе оно выражало сожаление. Будь я монсиньором Риго, то, прочитав такое письмо, пожал бы плечами. Чем же он мог помочь моему отцу победить неприязнь епископа? Предоставить дело течению времени, веря, что все постепенно образуется. Ничего больше.
— Ты кончил?
— Да.
— Ну, а теперь с самого начала, по фразам.
Я читал, останавливаясь после каждой точки. Он повторял фразу вслед за мной. Потом секунда тишины, размышления и вопрос, а скорее подтверждение с его стороны:
— Это правильно.
— Да, — отзывался я.
Таким путем мы дошли до центрального места, то есть до той фразы, которая мне не нравилась. Не дожидаясь, пока он одобрит ее, я высказал свои сомнения.
— Ты не прав, — возразил Кампилли. — В письме ни в коем случае не должно быть слова «запрет».
— Но я уже пользовался им в разговоре с монсиньором Риго и представил дело в истинном свете. Епископ издал запрет, и отца не впускают на порог курии, монсиньор это знает. Ведь нельзя же, чтобы устная версия расходилась с письменной!
— Должна расходиться! — с многозначительным видом возразил Кампилли. — Ты сообщил монсиньору Риго, каково положение в действительности, и это в порядке вещей. Но в письме нам нельзя так писать. Это сразу направит дело по ложному пути. Процессуальному. Правовому. Пойми же наконец, что верующий, католик, может жаловаться на обхождение, на холодность своего епископа, на то, что он его не понимает, но ни в коем случае не на какой-либо его поступок. Жаловаться на поступок, да еще на поступок епископа, — очень опасно, это дерзость!
— Однако в действительности, то есть фактически…
— Но не формально! — прервал меня Кампилли. — Не на бумаге! Для тебя это, быть может, условное различие, но в том мире, с которым ты имеешь дело, к написанному слову относятся с величайшей осмотрительностью, признавая между написанным и устным словом почти то же самое различие, что между действием и помыслом.
Мы закончили чтение. Прав он или не прав, установить было невозможно. Однако, несомненно, он обладал опытом. Следовательно, я должен был ему доверять. Кроме того, после всего им сказанного некоторые фразы при повторном чтении уже не резали мне глаза. Тон письма был смиренный — да, смиренный, но вместе с тем достойный и внушающий уважение.
— Письмо в целом кажется мне очень хорошим, — признался я.
— В целом — этого мало. Важнее всего отдельные фразы. Мне известна техника чтения в курии. Мы ее здесь применили. Будем надеяться, что с пользой.
Мы выбрали самый подходящий из принесенных мною бланков с подписью отца. Выбор был большой, на некоторых подпись стояла внизу, на других — с оборотной стороны, посередине или тоже внизу. Кампилли сел за машинку и сам все переписал. Еще раз перечитал. Аккуратно внес мелкие исправления пером. Затем написал адрес на конверте. Все это он проделывал старательно, осторожно, с серьезным видом. Я тем временем наблюдал за ним молча, чтобы не помешать. Как и отец, он за работой то надевал, то снимал очки. Меня это очень растрогало, — я был благодарен ему за доброту и отзывчивость. Когда все было готово, я потянулся за письмом.
— Сразу же отнесу, — сказал я.
— Конечно. Но прежде — рюмочку вермута. Мы с тобой ее заслужили!
— В таком случае я не стану пить. Я не приложил никакого труда к этому письму.
— Ничего подобного! Ты возражал. В нашем мирке за такой труд тебе причитается двойная порция!
Мы оба засмеялись. Синьор Кампилли позвонил лакею и распорядился принести лед и кофе. Затем достал из шкафчика бутылку. Все время он говорил без умолку:
— Ты отнесешь письмо. Оставишь его в секретариате монсиньора Риго. Полагаю, что через день, самое большое через два, монсиньор даст тебе сигнал. Скорей всего через меня. Мы видимся регулярно два раза в неделю, согласно с расписанием аудиенций. Я за это время разузнаю, нет ли у кого-нибудь из моих коллег поручений, связанных с Торунью. Либо выжму что-либо из собственной канцелярии. За этим дело не станет!
— А я пока что должен ждать звонка от вас или из секретариата монсиньора Риго. Правильно?
— Вот именно! Да, чуть не забыл! — воскликнул Кампилли, разводя руками. — Приношу тысячу извинений. Мы с женой как раз обсудили этот вопрос: почему бы тебе не поселиться у нас? Дом пустой, Ватиканская библиотека в двух шагах, каждодневный контакт между нами! Все говорит в пользу нашего плана, уж не считая того, что мне приятно оказать тебе гостеприимство.
В этот момент лакей внес поднос с рюмками, льдом и кофе. Он довольно долго их расставлял и наконец ушел.
— Мне не хотелось бы причинять вам беспокойство, — сказал я. — Право, вы слишком добры.
— Чепуха. Дом стоит пустой. Ты у нас поселишься. Это проще простого!
Я полез в карман за деньгами, которые в свое время дал мне Кампилли. Они по-прежнему лежали в том самом конверте, в котором он мне их вручил, — правда, не все, потому что какую-то часть я уже истратил. Кампилли возмутился, поняв, что я собираюсь их ему возвратить.
— Ты шутишь! — воскликнул он. — Что с того, если ты теперь не будешь платить за квартиру? Деньги тебе понадобятся. Хотя бы на еду. Ведь, кроме первого завтрака, тебе придется столоваться в городе. Так же, впрочем, как и мне, потому что кухарка вместе с моей женой в Остии.
— Поверьте, я и в самом деле не знаю, как мне вас благодарить!
— Пустяки! Совершенные пустяки. — Помолчав, он добавил другим голосом, немножко встревоженно: — У меня только одна просьба. Или, вернее, совет. Я не касаюсь того, был ли ты в прошлое воскресенье на мессе. В будущем лучше не пропускай! В особенности пока живешь у нас. Ты мне обещаешь?
— Со всей охотой!
— Отлично. А теперь еще одна мелочь: не рассказывай в своем пансионате, что переезжаешь к нам. Пани Рогульская и пан Шумовский люди очень почтенные, однако мы не поддерживаем с ними светских отношений. Тем более с пани Козицкой или паном Малинским. Понятно, что они немножко косятся на мою жену. Для чего раздражать их еще и тем, что двери нашего дома раскрылись перед тобой, едва ты очутился на римской земле. Эмигрантская судьба очень печальна. Комплексы! Обиды! Оскорбленное самолюбие! Моя жена полька, мой зять поляк — это верно. Не можем же мы, однако, допустить, чтобы нам на голову свалился весь этот мир обездоленных. Увы!
Он проводил меня до калитки.
— Заплати им за несколько дней вперед. Скажем, за три дня. И возвращайся сюда к пяти. Я помогу тебе здесь расположиться. Письмо ты взял?
— Взял.
— Ну, теперь поспеши в Роту.
Полчаса спустя, уже не стучась, помня, что эбеновые двери Роты в палаццо Канчеллерия открыты, я нажал красивую, медную, до блеска натертую дверную ручку. Тот же самый служитель точно так же сосредоточенно вкладывал в большие конверты синие выпуски каких-то изданий. Он поднял голову, поглядел на меня и сразу узнал.
— Монсиньор уже ушел, — сообщил он и вернулся к своему занятию.
— Я с письмом.
— Положите, пожалуйста, сюда. — Он дотронулся до конвертов, лежавших на столе, за которым он работал. — Я передам.
— Я хотел бы отдать письмо секретарю монсиньора. Мне так сказано.
— В таком случае, — он мотнул головой, указывая через плечо, — первая дверь налево.
XII
Меня принял невысокий молодой священник. Отвечая на мое приветствие, он встал из-за стола, заваленного папками. Должно быть, священник был близорук. Его глаза за сильными толстыми стеклами производили странное впечатление: они казались огромными и слегка деформированными. Когда я подошел поближе и он смог убедиться в том, что меня не знает, священник сел. Я протянул ему письмо.
— Монсиньору Риго, — сказал я и добавил: — В собственные руки.
Он поднес конверт к глазам и проверил фамилию. Кажется, мое замечание задело его.
— Письма, адресованные монсиньору Риго, — пояснил он, — попадают к монсиньору Риго. — Потом он спросил: — Вам угодно в связи с письмом выразить еще какие-либо пожелания?
— Нет, больше ничего, — ответил я.
— В таком случае — все.
Я вышел из комнаты. Сбежал по лестнице. На втором этаже я остановился. Опершись на балюстраду, я поглядел на широко раскинувшийся монументальный внутренний двор. Сегодня ничто мне не мешало им восхищаться — ни страх, угнетавший меня вчера, когда я шел к монсиньору Риго, ни радость, заполнившая меня, когда я от него возвращался. Мощь и гармония двора, этого шедевра эпохи Возрождения, теперь целиком захватили меня. Я нагнулся еще ниже. Двор был заставлен автомашинами. Те, что поменьше, — светлые, серые, а побольше — черные. Первыми пользовались лица светского звания, вторыми — духовенство, вернее, различные сановники курии и важные прелаты. Как раз из такой большой длинной черной машины вышел монсиньор Риго. Я сразу его узнал и оторвался от балюстрады, чтобы не стоять спиной к лестнице, которая вела в канцелярии Роты. Но монсиньор направился в угол двора к небольшой двери и отворил своим ключом. Там находился очень маленький лифт; вероятно, лифт большего размера нельзя было вмонтировать в стену ввиду технических трудностей или архитектурной ценности здания. Увидев монсиньора Риго, я обрадовался. Его секретарь произвел на меня впечатление человека, способного растеряться от обилия бумаг, особенно если вспомнить, как был завален папками и документами стол, куда он бросил мое письмо. Теперь я был уверен, что он не успеет забыть о нем и передаст монсиньору.
В пансионате я не застал ни пани Рогульской, ни пана Шумовского. Горничная сказала мне, что синьора Рогульская два раза в неделю ездит за город в амбулаторию, которую содержат какие-то монахини, и возвращается оттуда поздно вечером. Как раз сегодня ее нет. Синьор Шумовский обедал вместе с экскурсантами и должен вернуться только после пяти. Хочешь не хочешь, а пришлось пройти на кухню к пани Козицкой — сказать ей, что я отказываюсь от комнаты. Она внимательно выслушала меня, глядя мне прямо в лицо своими холодными голубыми глазами.
— Я работаю в Ватиканской библиотеке, — добавил я, запинаясь, — отсюда мне очень далеко.
— Разве я прошу у вас объяснения?
— Я условился с вашей тетушкой, что проживу дольше. А теперь так внезапно переезжаю. Мне хотелось бы заплатить за несколько дней вперед, чтобы возместить расходы…
— Вы нам ничего не должны, — прервала она меня.
— Вам не трудно будет передать пани Рогульской и пану Шумовскому, что я с сожалением покидаю «Ванду», где мне жилось очень хорошо, и приветствовать их от моего имени?
— Как вам угодно.
Она снова занялась салатом, который готовила к обеду, бросив мне еще через плечо:
— Насколько я помню, вы заплатили больше, чем следует. Счет я пришлю вам в комнату. Вы будете обедать?
— Да.
За обедом — искусственная, мучительная атмосфера. Я, Малинский, Козицкая. Она, кажется, не сообщила ему о нашем разговоре. Она сидела насупившись, сердито морща лоб. Я односложно отвечал на пустые вопросы Малинского: «Как дела?», «Ну и как вы переносите жару?». Наконец:
— Правда, в библиотеке вам прохладней.
— Я сегодня не был в библиотеке.
— Как не были? Я сам вас отвез.
Я совершенно забыл об этом. И о том, что утром солгал ему. Я покраснел. Козицкая отвела глаза от тарелки и устремила на меня слегка презрительный и иронический взгляд. Желая оправдаться, я сказал, что провел утро в ватиканских музеях. После обеда я сложил вещи и постучался к Малинскому. Нужно было с ним проститься. Он всегда был со мной так любезен. Малинский отворил дверь — и не сразу:
— Что случилось? Чем вызван ваш внезапный отъезд?
Теперь он уже знал. Я повторил то, что уже сказал Козицкой. Но он этим не удовольствовался. Сыпал подряд вопросами: «Что за внезапное решение! Убегаете?» Ну и прежде всего: «Куда?» И разумеется: «Адрес?»
Я не был готов к столь сильной атаке и пробормотал, что в данный момент переезжаю в маленькую гостиницу близ Ватикана, где мне обещали подыскать дешевый пансионат. И следовательно, нет смысла оставлять адрес — ведь это всего на несколько дней. Как только я где-нибудь прочно устроюсь — позвоню. И так далее и так далее. Но на этом не кончилось. Он пожелал меня подвезти. Я решительно отказался, сказав, что из гостиницы пришлют за мной машину.
— Не такая уж жалкая ваша гостиница, если рассылает машины за клиентами!
— Я в этом не разбираюсь. Во всяком случае, она дешевая.
Весь этот разговор происходил в дверях. Мне хотелось поскорее его закончить, и я схватил руку Малинского.
— Может, все-таки войдете на минутку?
— Увы. Сейчас за мной приедут. Сердечно вас за все благодарю.
Наконец я вырвался. Теперь еще Козицкая! Тоже необходимая формальность и тоже, хотя и по другим причинам, не предвещающая ничего хорошего. На кухне мне сказали, что я найду Козицкую в комнате тетки. Дверь в эту комнату была приоткрыта, и я заглянул туда. Козицкая сидела на узкой тахте, пододвинутой к окну. Вероятно, она спала на ней, с тех пор как я занял ее комнату. К тахте был придвинут столик. На столике лежали тетрадь и книжка, из которой Козицкая делала какие-то выписки. Видимо, она что-то изучала. Разумеется! Я кашлянул. Она вздрогнула. А потом встала и подошла к двери.
— Ах, это вы? — сказала она. — Уже уходите? Ну, тогда до свидания!
Сильно, по-мужски, схватив мою руку, так что ладонь вплотную прильнула к ладони, Козицкая несколько раз тряхнула ею. Подобную перемену по отношению ко мне я приписал влиянию умственного труда, который действовал на нее успокоительно, в отличие от занятий по хозяйству, выводивших ее из равновесия. Я грубо ошибся. Вот что я услышал:
— Поздравляю, вы очень чувствительны. Если я правильно угадала, вас обидели мои вчерашние замечания за ужином. Надеюсь, что у всех вас в Польше теперь так развито чувство достоинства. В вашем положении это самым лучшим образом свидетельствует в вашу пользу.
Я стремительно вырвал руку.
— Что за чушь! — воскликнул я.
В ответ она с размаху захлопнула дверь. Прощание вышло неудачное. Я вернулся в комнату за чемоданом и без дальнейших промедлений выбежал на улицу. Мне не хотелось, чтобы Малинский вдобавок ко всему еще и убедился в том, что за мной никто не приехал. Стараясь, чтобы меня не увидели из окон пансионата, я почти впритирку к стенам домов дошел до площади Фьорелли, где была стоянка такси. До пяти я просидел в какой-то таверне, совсем рядом с тем рестораном, где я обедал на второй день моего пребывания в Риме, после того как передал письмо синьору Кампилли.
Я остановился перед калиткой виллы, мокрый от жары и оттого, что нес чемодан. Я позвонил и, услышав скрип механизма, открывающего калитку, толкнул ее. В дверях появился лакей, который поспешил взять мой чемодан. Кампилли пришел за мной в холл.
— Привет! — воскликнул он. — Пусть тебе хорошо и спокойно живется под нашей крышей.
Затем мы поднялись на второй этаж в предназначенную мне комнату — огромную, высокую, со старомодной большой кроватью. Стены увешаны гравюрами с изображением римских руин и главнейших церквей города. Вид из окон замечательный. Я в восхищении переходил от окна к окну. Из одного я увидел вырисовывающийся в отдалении на фоне неба последний ярус купола собора святого Петра. Из двух окон в другом конце комнаты — целые километры разметавшегося пространства, заполненного холмами, парками и островками домов, стоявших почти вплотную.
— Какая красота! — сказал я. — Восхитительно!
— А тебе не будет здесь одиноко? — спросил Кампилли. — Я чаще всего езжу ночевать в Остию. Что ты будешь делать по вечерам?
— Найду себе занятие! Погуляю по городу, почитаю.
— В таком случае я тебе покажу библиотеку. Она в твоем распоряжении.
Прежде чем проводить меня туда, Кампилли сообщил, что рядом с моей комнатой находится отведенная для меня ванная. Он показал мне ее. Меня удивило, что она такая большая. Кампилли объяснил, что раньше здесь была жилая комната, которую он велел перестроить. Мы спустились вниз, прошли через холл, а затем через гостиную, обитую золотисто-голубой материей, где несколько дней назад синьора Кампилли угощала меня чаем. За этой гостиной была библиотека. В ней царил полумрак. Кампилли поднял жалюзи над одним из окон, и стало немножко светлее. Но еще до этого я успел разглядеть, что библиотека превосходит по размерам гостиную. Она была заставлена высокими палисандровыми застекленными шкафами. Все в них блестело и сверкало: красное дерево, стекло, медная арматура и ключи, позолота переплетов. Так же блестела и сверкала большая витрина, стоявшая в нише между двумя шкафами. В тени оставались лишь портреты, висевшие на стенах. На двух самых больших были изображены мужчины в придворных костюмах. Оказалось, что это отец и дед Кампилли, тоже консисториальные адвокаты, занимавшие, кроме того, какие-то высокие должности в Ватикане. Отсюда их пышный наряд.
Посредине зала стоял большой стол. И всюду у окон тоже столики и консоли. А на всех них тьма фотографий, вставленных в рамки из красного дерева или серебра. Синьор Кампилли наконец перевел взор с портретов на фотографии, взял одну из них и протянул мне. Это был большой групповой снимок — типичный и традиционный: молодежь и профессора, собравшиеся по случаю какого-то торжества. Этот снимок отличался от других тем, что и преподаватели и учащиеся по большей части были облачены в духовные одежды, то есть в сутаны или в рясы.
— Тысяча девятьсот двадцать седьмой год! «Аполлинаре»! — сказал Кампилли. — Приглядись. На этом снимке есть твой отец. Что? Нашел?
Он потянулся за лежавшей на столе лупой. Большая, тяжелая, в солидной эбеновой оправе. Но я и без помощи стекла нашел отца. Он стоял в последнем ряду. Прямой, серьезный. Я взял лупу. Маленькая голова стала теперь большой и выразительной, вынырнула из толпы мне навстречу. Я вспомнил в этот момент о телеграмме, которую послал отцу, чтобы успокоить его, и поднес еще ближе к глазам фотографию. Она дрожала, потому что у меня дрожала рука. Я улыбнулся отцу. Напрасно у него такое серьезное выражение лица.
— А это священник де Вос. Узнаешь?
— Он нисколько не изменился! — воскликнул я.
— А вот наш тогдашний ректор Чельсо Травиа, нынешний кардинал и декан Роты. А рядом монсиньор Риго.
— Быть не может! Какой худой!
— Да, он действительно немножко растолстел с тех пор. Что ж, склонность к тучности. Сидячий образ жизни.
Затем Кампилли подвел меня к витрине, стоявшей в нише. Над витриной большая цветная фотография папы с надписью — благословением для супругов Кампилли. В витрине — раскрытая тетрадь с тщательно выписанным стихотворением. А кроме тетради — молитвенник, карманные часы, перо, несколько карандашей и раскрытый на титульной странице экземпляр «О подражании Христу» Фомы Кемпийского. На середине страницы — дарственная надпись. Почерк неразборчивый. Только подписано четко: «Любящий Анджей», и дата: «10 июня 1917».
— За месяц до его мученической смерти, — сказал Кампилли.
Ему уже нужно было уходить. Он опустил поднятые жалюзи. Мы вернулись через гостиную в холл. Кампилли еще раз в сердечных, изысканных выражениях пожелал мне чувствовать себя здесь как дома, затем позвонил лакею, дал ему соответственные указания, касающиеся завтраков для меня, и ключи, после чего велел вывести машину из гаража. Я проводил его до калитки. Кампилли сел за руль. Тронулся. А мы, лакей и я, еще некоторое время смотрели, как он маневрирует, объезжая автобусы, набитые экскурсантами, кружащими по небольшому апостольскому государству, укрывшемуся за высокими каменными стенами.
XIII
В Ватиканской библиотеке меня ждали документы, которые я заказал по каталогу отдела архивов. Ждали с понедельника, а уже была среда. Поэтому я счел необходимым как-то оправдаться и сказал, что мне помешали прийти сюда срочные дела. После чего взял документы и отнес на мой стол. Документов было пять. Все они датировались XIV веком. С каждого свисала печать; ее оберегали от порчи металлические ободки той же эпохи. Несмотря на эти меры, воск печатей не всюду уцелел. Я огорчился: ведь меня интересовало не содержание документов, а именно печати.
Однако сперва я проглядел самые документы. Передо мною лежало пять судебных решений Роты. Два касались аннуляции[44], в третьем речь шла о диспенсации[45], четвертое и пятое были посвящены бенефициям[46]. Даты были отчетливо видны: 1330, 1335, 1337 и дважды 1350 год. Подписи аудиторов занимали много места. Я принялся их подсчитывать. На одном документе насчитал более двадцати. На остальных подписей было меньше, и все-таки не меньше двадцати. Установив это, я не совершил никакого открытия. Из научной литературы известно, что в авиньонские времена число аудиторов, то есть судий в папских трибуналах, было очень велико. У кардинала Эрле это не вызывало сомнений.
Он не рассчитал лишь, что при таком количестве судий вращающийся ротационный пюпитр с подвижной верхней частью, состоящей из покатых стенок, называемых «rodetae», на которых размещали папки с делами, должен иметь гигантские размеры. И, значит, от него было бы гораздо больше беспокойства, чем пользы. Если даже из найденного кардиналом счета следовало, будто папский двор в Авиньоне заказал для себя подобного рода вращающийся пюпитр, и по тем временам пюпитр стоил дорого, то кто же мог поручиться, что его заказали именно для суда? Если же согласиться с мнением кардинала, то кто же опять-таки мог поручиться, что этот неудобный гигант стоял в зале суда, и к тому же простоял там так долго, что его название рота присвоили суду, как это пытался доказать кардинал Эрле?
Я восстановил в памяти аргументацию кардинала, она не казалась мне убедительной. Силезский документ, — а вернее, не так самый документ, как его печать, — подсказывали мне другое решение. Но одной печати мало, не говоря о том, что она очень позднего происхождения. Теперь передо мной лежало пять печатей. Это уже было нечто внушительное, позволяющее строить научную гипотезу. Тем более что все печати относились к решающему для моей гипотезы периоду, к той эпохе, когда один из папских трибуналов стали называть трибуналом Роты.
Я склонился над первой из печатей. К сожалению, ее центральная часть, от которой зависела судьба моего открытия, не сохранилась. Что же касается начертания надписи, то, напротив, я имел возможность восхищаться и отличным состоянием литер, и их классической, типичной для XIV века формой. Строгой и красивой. Медленно вращая в руках печать, я прочитал название трибунала: «Sacri Palatii»; слова «рота» в нем еще не было. Наукой о печатях я специально не занимался, но в Кракове, где я учился, было несколько выдающихся сфрагистов. Как раз тот самый мой знакомый, который рекомендовал мне остановиться в пансионате «Ванда», избрал своей специальностью эту вспомогательную историческую дисциплину. Мы вместе посещали лекции и практические занятия по сфрагистике. Таким образом, я немножко усвоил ее методы, полностью оценив силу света, который наука эта может проливать на загадочные страницы истории, хотя и считал, что такие удачи случаются весьма редко. Но как раз в моем случае я мог надеяться, что сфрагистика расщедрится и даст необходимый толчок моим исследованиям, прольет на них свой яркий свет.
В центре второй печати — хорошо сохранившаяся эмблема. Две четкие фигуры — мужчина и женщина, окруженные сиянием. Это покровители трибунала — святая Катерина и святой Августин. Я достаточно нагляделся на них — у отца хранилось много иконографических материалов — и сразу узнал святую из Александрии и святого епископа, обратившего в христианскую веру Англию. Третья печать подобного же рода, и остальные тоже. По-прежнему те же две фигуры святых, иногда лучше, иногда хуже сохранившиеся. В надписях, окаймляющих эмблемы, тоже ничего нового. Зато на последней печати — след тайны, которую я пытался раскрыть. Увы, только след, потому что воск на середине печати сохранился лишь частично. Однако было ясно, что, помимо святых, выступавших на заднем плане, на печати были видны аудиторы во время совещания, разместившиеся по кругу. Нельзя было разобрать, сидят ли они на стульях или, как я предполагал, на скамье. Здесь изображение уже стерлось. Напрасно я вертел печать, стараясь, чтобы на нее падало как можно больше света, — мне не удалось извлечь из нее ничего нового. Нужно было принести лупу из библиотеки Кампилли. Ну и прежде всего заказать для себя на завтра следующую партию средневековых документов Роты, снабженных печатями. Мне подготовили так мало, предполагая, что я буду вчитываться в содержание документов, и тогда для одного дня занятий их было бы достаточно. Я встал, собираясь направиться в отдел каталогов.
Стол, за которым я работал, рассчитан на двоих. Однако ко мне никто не подсел. А за столом, стоявшим тут же рядом, изучал какие-то материалы священник, который появился в зале позже меня. Он прошел мимо моего стола и едва заметно мне поклонился. Я подумал, что таков здешний обычай, и поклонился ему в ответ, поначалу не обратив на него внимания. Впрочем, печати поглотили меня целиком. Но, когда раза два я на мгновение отрывал от них взгляд, глаза наши встречались, потому что священник больше размышлял над книжкой, которая лежала перед ним, нежели читал. Всякий раз, как взоры наши скрещивались, он улыбался либо многозначительно кивал головой. В библиотеках иной раз встречаются читатели, которые так себя ведут, — это значит, что они либо не освоились с обстановкой, либо же скучают. Однако мне вдруг пришло на ум, что священник не принадлежит ни к одной из названных категорий, но зато я его откуда-то знаю, мы знакомы, где-то уже виделись. И мысль эта немножко отвлекала меня от дела.
Где же? В Кракове у меня не было никаких знакомств в мире духовенства. В Торуни я знал немногих священников, но тех, кого я знал, знал хорошо. А не так вот — человек с тонзурой мне знаком, а фамилию вспомнить не могу. Нет! Не Торунь и не Краков. Придя к такому выводу, я снова склонился к печатям, забыв на долгое время о читателе, сидевшем за соседним столом. Когда я встал, намереваясь пойти в отдел каталогов, то сперва обнаружил, что священника нет на месте, а потом заметил оставленную им книжку. Чтобы попасть в отдел каталогов, надо пройти через маленький круглый зал с блестящими колоннами и большой лоджией. Там всегда прогуливаются читатели, уставшие от занятий. Мой загадочный священник возвращался из лоджии.
Высокий, рыжеватый, широкоплечий, он остановился как вкопанный, увидев меня прямо перед собой. Глубоко запавшие глаза, выступающие скулы, кривой нос. В зале, когда он сидел спиной к свету, я мог строить различные догадки. Теперь, однако, в непосредственной от него близости, ни одна из них не оправдалась. Безусловно, он совершенно мне незнаком. Однако, когда священник протянул мне руку, я ответил тем же. Он крепко пожал мою руку и при этом улыбнулся. Весело и широко, с радостным блеском в глазах, никак не подходившим к данной ситуации.
— Как вам работается? — спросил он.
Итальянец! Разумеется, незнакомый, как же иначе? Мое предположение сменилось полной уверенностью. Мои связи в мире итальянских священников были весьма ограниченны. И тех двоих, с которыми я столкнулся в последнее время, я узнал бы с первого взгляда, даже если бы меня разбудили среди глубокой ночи.
— Отлично, — ответил я. — Покой. Тишина. Превосходнейшие архивы.
Нам пришлось отойти в сторону. Мы стояли на дороге у тех, кто шел из читальни в отдел каталогов. Какой-то старичок метнул на нас грозный взгляд. Мы подошли к ближайшему окну. Священник теперь был освещен солнцем. Сам он от этого не изменился. Зато яркое освещение не пошло на пользу его сутане, так как выдало ее солидный возраст и плачевное состояние. Сутана была едва ли не серая, потертая, в заплатах.
— О да! — согласился со мной священник. Но мою мысль он обобщил: — В библиотеках всегда такая тишина и покой! Мой епископ часто говорит, что библиотеки тоже дома божьи. Мой епископ — это значит глава моей епархии.
Говоря это, он повернулся ко мне в профиль. Тогда я снова подумал, что его профиль мне все-таки откуда-то знаком.
— Глава епархии? — спросил я. — Значит, вы живете не в Риме?
— Нет, — ответил он. — Я нахожусь в Риме только временно.
— Учитесь?
— О нет. Образование я уже закончил. Я живу в Сан Систо, неподалеку от Орсино. У меня там приход.
— Но я вижу, что здесь, в библиотеке, вы над чем-то работаете.
Он нахмурился.
— Можно это и так назвать. Читаю всякую всячину. В Сан Систо никогда не находишь времени для чтения. А между тем надо читать, много читать, иначе не хватает слов и аргументов для доказательства своей мысли.
Я улыбнулся.
— У вас в Сан Систо недоверчивые слушатели, если вы должны свои мысли подкреплять книжными знаниями.
— Да почему же в Сан Систо? В Риме.
Тут он внезапно переменил тему разговора:
— А вы, кажется, приехали из-за границы?
— Ну да. Из Польши.
— Из Польши? Ах, из Польши! Я много слышал. Надолго?
— Еще не знаю.
— Значит, так же, как и я… А давно?
— Уже десять дней.
— О! А я уже пять месяцев.
— Что вы говорите! Так долго!
— Долго! Долго! Иногда так получается, когда нас вызывают в Рим.
В этот момент кто-то неожиданно протиснулся между нами. Одетый во все черное, высокий, большая голова, глаза обведены синими полумесяцами — дон Паоло Корси.
— Куда вы пропали? Я ищу вас по всей библиотеке. Вас к телефону.
— Меня? — удивился я.
— Звонит адвокат Кампилли. Пройдите туда!
Я увидел его руку с большим перстнем на пальце. Корси слегка подтолкнул меня по направлению к потайной дверке напротив лоджии. Я обернулся, чтобы поклониться священнику, с которым беседовал. Его уже не было возле нас. Однако он не исчез. Я разглядел его спину в глубине коридора, он возвращался в читальный зал. И только тогда я внезапно вспомнил, где мы с ним виделись. Этот священник в Грегориане вызвал отца де Воса в коридор и потом вполголоса что-то ему объяснял у двери комнаты, где я ждал. Ну ясно, тот самый.
— Осторожно. Ступеньки!
Сколько их! Узкий проход, полумрак, что ни шаг, то поворот и ступеньки. Две, три, пять. То вверх, то вниз. Сердце слегка сжимается. В голове пустота. Образ священника, едва я вспомнил, откуда его знаю, сразу потускнел. Я испытывал неловкость, словно меня вызвали к телефону из церкви во время богослужения. И все это из-за особой атмосферы, царящей в библиотеке, в ней действительно есть что-то от «божьего храма». Непонятно, как Кампилли решился меня вызвать. Я прибавил шагу. Тревога возрастала. Я начал машинально шептать: «Дурное известие! Дурное известие! Дурное известие!» Но я повторял это скорее из желания отогнать недоброе, чем от предчувствия его. «Дурное известие! Дурное известие!» Но для чего же звонить? Почему не подождать, пока я вернусь домой?
Наконец комната синьора Корси. Стены сплошь завешаны портретами духовных лиц в полном облачении. Письменный столик завален регистрационными книгами. На них преспокойно лежит телефонная трубка. Я схватил ее.
— У телефона! Это я! Слушаю вас!
Голос у Кампилли елейный, неестественный:
— Мой дорогой мальчик, я жду тебя. Возвращайся сейчас же.
— Но что случилось? — воскликнул я. — Дурные вести?
Пауза. Во время этой паузы он, видимо, изменил решение. Я это почувствовал. Сперва он не хотел сообщать по телефону то, что должен был мне сообщить. Теперь, заметив, что напугал меня, он сказал:
— В курию сегодня утром пришла телеграмма из Торуни. Понимаешь?
— Не понимаю! Что случилось? Ради бога!
У страха глаза велики. Прежде чем я успел сообразить, сколь нелепо мое предположение, будто в курию стали бы телеграфировать, если бы с отцом что-нибудь стряслось, я проникся уверенностью, что произошла катастрофа. Я все еще бессознательно прижимал к уху трубку, хотя ничего доброго уже не ждал.
— Вчера ночью в Торуни умер епископ Гожелинский. Я хотел немедленно поделиться с тобой этой вестью.
— Сейчас приду, — сказал я.
— Правильно! Мы побеседуем.
Я горячо поблагодарил Корси за его любезность. Отнес документы. Четыре возвратил. Что касается пятого, то попросил сохранить его за мной до завтра. Я поклонился священнику, которого видел у де Воса. Все делал в крайней спешке. Не прошло и четверти часа, а я уже стоял перед Кампилли. Он ждал меня в холле. Сам отворил мне калитку и входную дверь. Перед уходом в библиотеку я с ним не виделся. Мы крепко пожали друг другу руки. Молча. Кампилли не заговорил со мной, даже когда мы проходили через приемную в его кабинет. В кабинете он тоже довольно долго молчал. Только снова стиснул мои руки. Тряс их и тряс.
— Смерть всегда есть смерть, — произнес он наконец. — Ты, однако, понимаешь, что она означает для твоего бедного отца.
— Поверьте, отец скорбит об этой смерти, — ответил я. — Отца в равной мере огорчало и то, что он не может работать в курии, и то, что почитаемый им епископ Гожелинский не расположен к нему.
— Тем не менее после кончины епископа безусловно ничто не помешает твоему отцу вернуться к столь любимому им делу.
Он не отпускал мои руки. Сжимал их и тряс. А сила и упорство, с какими он это делал, передавали мне красноречивее слов, которые он ни в коем случае не мог произнести, все, что чувствовал Кампилли. Постепенно я стал лучше в этом разбираться. В особенности когда он отпустил мои руки и принялся хлопать меня по плечу, а затем раза два поцеловал. Так же как в тот день, когда я вернулся от де Воса и Риго. Тогда он оглушил меня восклицаниями, поздравляя с победой. Восклицаниям сопутствовали жесты вроде сегодняшних. Только по размаху и щедрости сегодняшние жесты значительно превосходили тогдашние.
— После разговора со священником де Восом и монсиньором Риго вы мне сказали, что победа за нами, — заметил я. — Что же в таком случае может изменить смерть епископа?
Он очень точно понял смысл моего вопроса.
— Даст более высокую степень уверенности, — ответил он. — А ее никогда не бывает слишком много!
Затем он добавил:
— Когда я сказал тебе о выигрыше, выигрыш уже был у нас в кармане. Но в таких делах, как у твоего отца, отсутствие дела еще лучше, чем выигрыш в кармане. А смерть епископа Гожелинского позволяет нам надеяться, что так оно и будет.
Из того, что он сказал, я усвоил одно: действительно, вместе со смертью епископа Гожелинского прекращался спор. Если это так, — а пожалуй, было ясно, что так оно и есть, — следовал вывод, что мне пора убираться из Рима. Я сообщил об этом Кампилли.
— Не согласен, — произнес он после некоторого раздумья. — Даже если признать, что дело как таковое больше не существует, существует ведь письмо твоего отца к монсиньору Риго, на которое он обещал откликнуться. Невежливо было бы не дождаться.
— Во всяком случае, из-за смерти епископа сократится срок моего пребывания в Риме. Быть может, самое большее, еще один-два дня.
— Вне сомнения, мы получим сигнал от монсиньора если не сегодня, так завтра. Кстати, я подобрал дела, которые можно передать твоему отцу в Торуни. У меня кое-что заготовлено. Два моих и несколько чужих. Но вернее всего, они вообще не понадобятся. Письмо твоего отца пойдет ad acta[47], и о нем больше не будут говорить. Что же касается твоего пребывания в Риме, то мы с женой не отпустим тебя так быстро. — Тут он засмеялся: — Мы должны теперь спокойно насладиться твоим обществом!
Затем он повез меня обедать. Мы поехали в тот же ресторан, что и в прошлый раз; теперь Кампилли не допытывался о вкусах отца и предложил ехать туда без предварительных церемоний. За едой мы, как и тогда, не говорили о деле. Вообще весь обед напоминал тот, первый. Кампилли, так же как и тогда, долго изучал карточку вин, точно так же не позволил мне есть то, что мне хотелось, а выбирал более дорогие блюда. В ритуале, однако, изменение — наша общая открытка отцу. Первая, которую мы то ли из Рима, то ли из Остии подписали вместе с Кампилли.
XIV
Прошло три дня. От монсиньора Риго — ничего. Я не волновался, объясняя его молчание смертью епископа, а иначе говоря — желанием монсиньора немножко выждать и лишь позднее известить меня о том, что он принял к сведению письмо моего отца, состоявшего в конфликте с покойным. На вилле я был один. Адвокат поехал в Абруццы проследить, все ли в доме готово к приезду остальных членов его семьи. В Риме становилось все жарче. С раннего утра до конца дня жгло солнце. Я возвращался с обеда отяжелевший и потный. По-прежнему ходил в тот же самый ресторан, в нескольких сотнях шагов от Ватиканской библиотеки. Поев, шел теневой стороной под стенами. Но и они были раскалены. Небольшой подъем по виале Ватикано становился мучительным. Всюду жара, зной, духота. Легче дышалось только в самой вилле. Лакей следил за жалюзи и отчитывал меня, если я забывал их опустить в моей комнате. Минуя холл, заставленный скульптурами, я поднимался по холодной лестнице к себе, принимал душ, а потом босиком возвращался в комнату, утопавшую во мраке. На всей вилле полы были каменные. Поэтому я с удовольствием ходил бы даже по всему дому босиком. Так все же прохладнее. После душа — кровать. Большая, как ладья. Я засыпал. В остальную часть дня: библиотека Кампилли, прогулки по памятным местам и опять тот же ресторан. А после ужина кино или снова библиотека.
Я усаживался с книжкой на огромном диване шафранового цвета, возле стола с фотографиями. Иногда я исправлял заметки, сделанные утром. Иногда разглядывал фотографии. Их было очень много. Больше всего на огромном столе в центре комнаты. Но и на столиках меньшего размера тоже было полно рамок. На фотографиях был запечатлен весь мир супругов Кампилли. Мир хозяйки дома, урожденной Згерской. По уверениям лакея в полосатой куртке, семья синьоры Кампилли была principesca[48], однако отец ничего мне об этом не говорил. Про то, что Згерские были люди богатые, я слышал. Что они были магнаты — знал определенно. Повсюду на стенах висели изображения их дворца в имении под Житомиром, помпезного здания с башнями по углам; изображения этого дворца, выполненные в различной технике — фото, литографии и акварели, — попадались мне и в других комнатах, помимо библиотеки Кампилли. На фотографиях род Згерских представлял не только бедный Анджей, которого убили солдаты, отступавшие с фронта, но и разные другие, близкие и дальние, родственники синьоры Кампилли. Кроме родственников, друзья. Многочисленные снимки политических деятелей, князей, премьеров, министров, послов; все это были важные персоны, выдвинувшиеся главным образом в начальный период формирования польского государства непосредственно после первой мировой войны.
Фотографии духовенства, кардиналов, архиепископов, приоров, монсиньоров — тоже с дарственными надписями — вне всякого сомнения составляли вклад синьора Кампилли в этот пантеон. Среди прочих я обнаружил отличный снимок монсиньора Риго. Как живой! У себя в Роте, за письменным столом, грузный, массивный, с умным, несколько ироническим взглядом, устремленным в объектив. Подпись мелким почерком, слегка стилизованным под готический, что, впрочем, как я слышал от отца, принято в курии. Я взял в руки снимок, вставленный в солидную серебряную рамку, и поднес к свету. Так я лучше мог рассмотреть лицо монсиньора, потому что тогда в Роте мне было неудобно это делать, да к тому же я очень волновался. И вот я вгляделся в него теперь: симпатичное лицо, внушающее доверие.
— Ну же, — обратился я к портрету, как бы поторапливая его, — монсиньор, пора! Где сигнал?
Остальные фотографии — это семейство Кампилли. Он — в обыкновенных костюмах или торжественных одеяниях, она — в домашних платьях или бальных нарядах, наконец Сандра — в детстве, в девичестве, замужняя дама; внуки, ну и на двух снимках Весневич: в польском мундире и в мундире какого-то рыцарского, вернее всего ватиканского, ордена — пелерина, большая шапка, роскошный пояс и высокие театральные сапоги. Наконец вилла в Остии, где я купался, и резиденция в горах, куда все Кампилли переселялись на август. Прекрасный каменный дом в стиле ренессанс на лесистом крутом склоне. Замечательное место, ничего не скажешь! Свободно там дышится после раскаленного, знойного Рима.
Даже в Ватиканской библиотеке становилось душно. Ранним утром еще ничего, но часам к одиннадцати совсем плохо. Поэтому я берег время и точно в половине девятого одним из первых садился за свой стол: раскладывал заметки, доставал из кармана лупу, взятую в кабинете Кампилли, а затем отправлялся в маленький зал с каталогами, где выдавали затребованные из архива материалы. С ними получилось не очень хорошо. Четыре исследованных документа, которые я уже сдал, вернулись ко мне. Следующие из заказанных мною доставили очень нескоро. Вдобавок ничего нового выжать из них не удалось. На печатях по-прежнему — лучше или хуже сохранившиеся фигуры патронов Роты, только и всего! В глубине души я досадовал. Разумеется, я ни в чем не винил ни документы и древние печати, которые не приносят мне ничего интересного, ни научную работу, которая подвигается очень медленно, ибо таков уж ее ритм. Скорее я сердился на работников каталога за то, что они не торопятся, когда мне так некогда. Однако я не проявлял нетерпения, о нет. Тем более что не они несли ответственность за то, что срок моего пребывания в Риме мог еще сократиться, а также за то, что приехал я летом, когда копаться в запыленных и душных хранилищах, наверное, очень мучительно.
Я сам это чувствовал, когда после маленького перерыва, который я себе устраивал между часами занятий, заходил в архив — в отдел каталогов. Я выписывал новые названия и присоединял их к прежним заказам, то есть к тем, которые еще не выполнили. Я разыскивал их в поте лица, едва не ослеп, роясь в различных указателях со списками документов. Прочитать их было трудно из-за темноты. Всюду опущены жалюзи и даже тяжелые шторы, так как окна выходят на южную сторону. Я подсовывал указатель под лучик света, которому удалось пробиться сквозь все препятствия, либо подносил к свисавшей с потолка лампе, которую то и дело кто-нибудь гасил, считая, что от нее становится еще жарче. Надо было бы с самого утра приходить сюда, рыться в каталогах и списках. Воздух с ночи еще свежий и шторы не задвинуты — значит, светлей. Но это также и лучшие рабочие часы, и жаль тогда отрываться от своего стола в читальне. Однако придется. Проклятая спешка! Если бы я знал, что еще с месяц посижу в Риме, то ко всему относился бы спокойнее. Научная работа не терпит торопливости. Розыски документов тем более. К тому же в такой фантастически богатой библиотеке, в которой за многие века ее существования выработалось особое отношение к понятию времени. И, значит, в данных обстоятельствах нужно быть терпеливым и не распускать нервы!
В перерывах, то есть между часами, проведенными в читальне, и часом в отделе каталогов, — лоджия, а в ней священник из Сан Систо. Его имя и фамилия дон Евгений Пиоланти. Он представился мне, а я ему. Я прихожу в библиотеку раньше, чем он. Пиоланти появляется значительно позднее. Вскоре он объяснил мне почему: живет далеко. Ему приходится ехать до Стационе Термини поездом, а оттуда автобусом. Дорога отнимает полтора часа. Уйдя из библиотеки, он выпивал кофе с молоком, съедал булку и какие-нибудь фрукты — он привозил их с собой, — после чего пускался в обратный путь. Обо всем этом он мне рассказал. А когда я пригласил его обедать, он даже продемонстрировал сверток с булкой и фруктами и термос с кофе. Произошло это на третий день после отъезда Кампилли. Я чувствовал себя немного одиноким, и мне было бы приятно общество Пиоланти, но он не принял приглашения. Извлек свои запасы в доказательство, что еда у него есть.
В первый день, когда я разговаривал с Пиоланти, еще не вспомнив, откуда его знаю, он показался мне загадочным, а его слова не лишенными намеков. Высказывался он тогда сдержанно, спрашивал кратко. Но назавтра, после того как я первый ему поклонился, а потом, в лоджии, подошел к нему и он разговорился со мной, таинственность исчезла. Должно быть, он был из робких и безусловно такой же одинокий, как и я. Он нуждался в собеседнике, встретил меня и, однажды себя переломив, стал обыкновенным священником из глухой провинции, который застрял в городе на более долгий срок, чем предполагал, и уже начинал томиться. Тогда же он упомянул, что торчит здесь уже пять месяцев. Столкнувшись с ним в лоджии и поздоровавшись как с добрым знакомым, я произнес какую-то пустую фразу относительно жары, а затем спросил, не надоело ли ему в Риме. Он покраснел. Развел руками. Однако на мой вопрос не ответил. Вместо этого он сказал:
— Я остановился в Ладзаретто. Вы слышали о Ладзаретто?
Я не слышал.
— Это бывший лепрозорий, старый поселок для прокаженных. Расположен он прямо к северу от Рима, на склонах холма Агуццо, высота небольшая, но все-таки воздух там лучше, чем здесь.
О причинах, удерживающих его в Риме, он не упоминал и не сказал больше ни слова о Сан Систо под Орсино. Разве только что его приход находится в гористой местности. Зато о своем Ладзаретто говорил много. В средние века каждого подозреваемого в том, что у него проказа, загоняли в такие поселки, их было много на территории Италии, да и в других странах. Сегодня одно только Ладзаретто сохранило старое название, хотя вот уже несколько веков, как оно не служит прибежищем для прокаженных. Из прежних сооружений там сохранилась церковь Лазаря из Евангелия от святого Луки и монастырский приют для странников. Даже местные жители не помнили его происхождения. Они называли приют монастырем, добавляя, что монастырь был строгого устава; этим, по их мнению, объяснялось то, что из приюта не было хода в церковь, — ничего, кроме узкого отверстия в метр длиной, через которое священник давал причастие зараженным.
— Да и то не всякий священник, — сказал дон Пиоланти, — а только такой, у которого хватало на это смелости.
— В «Декреталиях» Григория Девятого, — заметил я, — есть абзац, посвященный прокаженным.
— Значит, вы человек ученый, если это знаете, — похвалил он меня. — Я только в связи с Ладзаретто собрал сведения, которыми делюсь с вами. Проказа была страшно заразная. А попытки бороться с ней или помешать ее распространению тоже ужасны. Зараженного не впускали в церковь, над ним, как над усопшим, служили панихиду. Он слушал ее, лежа, как труп, со скрещенными на груди руками. Потом вставал, стряхивал с головы и ног землю, которой их посыпали, но домой, к своим, больше не возвращался. Был ли он родом из города или из деревни, его вычеркивали из списка живых. Имущество его переходило к наследникам. Он не имел права наследования, не мог выступать свидетелем, не мог составить завещания, поскольку прокаженных причисляли к умершим внезапной смертью. С течением времени обычай смягчился, и прокаженному даже разрешалось выходить за пределы лепрозория. Но при этом больной обязан был носить специальную одежду, чтобы каждый издалека видел, с кем имеет дело, и стучать колотушкой, предостерегая здоровых, что приближается человек, тронутый заразой. Все отчаянно боялись прокаженных, потому что в средние века суровая кара грозила и тому, кто сознательно или по неведению к ним прикоснулся. Иногда, особенно во время особой паники, такой человек был вынужден впредь разделять судьбу прокаженных.
— Какая жестокость! — содрогнулся я.
— Минувшие, давние дела, — заметил священник Пиоланти. — Сегодня у нас в Ладзаретто большая, современного типа больница сестер святого Спасителя. От прежних времен остались только церковь и приют, в котором я как раз и живу. Церковь сохранилась в неприкосновенности с четырнадцатого века. Приют внутри немножко перестроили. Там останавливаются священники, находящиеся проездом в Риме, вот такие, как я.
На следующий день мы снова в то же самое время сошлись в лоджии. Отсюда открывался прекрасный вид на узкий и интересный по архитектуре двор библиотеки. Но со двора несло жаром, как из кратера. Дышать нечем. Воздух плотный, давит сверху, потому что здесь властвует сирокко. Бедный Пиоланти задыхается в сутане, вероятно, одной и той же для зимы и лета. С лица у него стекает пот. Он вытирает его то платком, то рукавом. Увидев меня, протягивает руку. Она мокрая.
— А может, вы поехали бы со мной сегодня в Ладзаретто? — предлагает он. — Вам полезно провести несколько часов вне Рима.
Он складывает на груди свои большие руки и надувает щеки. Это должно означать, что и я в Ладзаретто буду дышать полной грудью.
— Сердечно благодарю, — говорю я. — Возможно, и в самом деле как-нибудь воспользуюсь приглашением.
— Ох нет, сегодня! — настаивает дон Пиоланти. — В приют сестер святого Спасителя приезжает религиозный хор и труппа, которая даст спектакль. Разумеется, религиозного содержания: средневековую мистерию. Мне сказали, что и хор и труппа пользуются доброй славой. Ну что, поедете?
— Согласен! С удовольствием. Но, пожалуйста, примите мое приглашение на обед.
— Нет! Нет! — Он молитвенно сложил руки. — В ресторан я не могу!
Я пытался его уговорить. Но он упорно твердил, что не пойдет. Тогда мы условились встретиться прямо на вокзале. Чтобы успеть пообедать, я ушел раньше обычного и не много потерял, потому что от жарищи голова шла кругом и о дальнейшей работе в тот день не могло быть речи.
XV
Мы очутились на вокзале в тот самый момент, когда подали поезд. Толпа ожидающих подхватила нас и, толкая из стороны в сторону, впихнула в вагон. Нас разлучили, но и священник и я — оба нашли себе место. Он в одном отделении, я в другом. Пиоланти сидел спиной ко мне. Время от времени он оборачивался в мою сторону и, щурясь от света, проверял, как я себя чувствую, а в моем отделении становилось совсем уж тесно и душно. В старом вагоне с жесткими скамейками не было перегородок между отделениями. Когда поезд наконец тронулся, повеяло прохладой. На первой станции — новая волна пассажиров. Из окна ничего не было видно, его загораживали пассажиры. Пиоланти больше не оборачивался. В моем отделении была такая давка, что он все равно не смог бы меня разглядеть. Зато я иногда видел в щелке между напиравшими со всех сторон людьми его большую рыжую голову. Она беспомощно покачивалась. Священник, видимо, дремал. Я тоже попытался закрыть глаза. Но заснуть было невозможно. Отслуживший свой век вагон трясся и скрипел. Поезд медленно тащился. Останавливался на всех станциях. В эти минуты я задыхался и не мог дождаться, пока он снова тронется. Поезд трогался, и я опять дышал. Он снова тормозил, и снова прекращался приток воздуха. И так в течение получаса.
Наконец Ладзаретто. Маленький городишко, пустынный в эту пору дня. Мы прошли через весь город за десять минут. По другой его стороне сразу склон горы. Несколько вилл, сады, виноградники. Мы сворачиваем влево. Еще десять минут. Над нашей головой возникает огромное здание. Это больница святого Спасителя. Мы взбираемся по удобным откосам. Еще немного — и я вижу здание во всем его величии. Оно новое, шестиэтажное, с окнами на юг. Мы обходим больницу. Справа прекрасная аллея больших конусообразных пиний. Высокая каменная стена. Ворота закрыты. Рядом калитка. Мы входим. Необычайно красивый готический храм с высоченной колокольней. За храмом по обеим сторонам две стены бывшего лепрозория, двухэтажные, без окон. Можно подумать, что это кладбище. Пиоланти подводит меня к узкой небольшой двери. Ее пробили в стене позднее: я сужу об этом по прямоугольной форме двери. Наконец-то прохлада. Наконец-то тень!
— Вы очень устали? — спрашивает священник Пиоланти.
— В поезде немножко, — признаюсь я. — Нечем было дышать.
— Может, выпьете кофе?
— С удовольствием.
— А вам не хочется полежать?
— Превосходная идея, — отвечаю я.
— В таком случае пожалуйте за мной.
Мы проходим через одну залу, попадаем в другую, побольше, с длинным столом посредине; наверно, здесь столовая. Окна ее выходят на склон горы за церковью. Склон голый. Деревья на нем выкорчеваны. В те времена, когда прокаженных отправляли в лепрозорий, на этом склоне были огороды. Они тянулись вверх, почти к самой вершине горы. Теперь сохранились только остатки узких, как полки, некогда обрабатываемых террас. Их размыло дождем. Все заросло. Пиоланти толкует мне об этом. Я стараюсь внимательно его слушать. Но его слова будто проплывают сквозь мое сознание. Я прихожу в себя только час спустя, когда, к моему удивлению, просыпаюсь на узкой железной кровати в пустой, беленной известью комнатке. В течение секунды ничего не могу понять. Но потом вспоминаю, как я, еле волоча ноги, тащился за Пиоланти, а он открывал двери в поисках свободной кельи. И нашел ее, как раз в ней-то я и нахожусь, но уже совсем отдохнувший. Не осталось и следа противного до тошноты ощущения, вызванного духотой и жарой. Я вскакиваю. Приоткрываю дверь в коридор. Появляется Пиоланти — он услышал, что я зашевелился.
Теперь наконец доходит очередь до кофе. Мы пьем его у Пиоланти. Его комнатка в точности похожа на ту, в которой я спал. Железная кровать, стол, стул, этажерка. На табурете медный таз. Ведро. Только здесь в углу комнаты стоит чемоданчик. На этажерке разложены кое-какие вещи. Ну и на столе — машинка для варки кофе и две чашки.
— В котором часу спектакль? — спрашиваю я.
— В восемь. После кофе я вас отведу на гору. Повыше прежних огородов. Увидите, какой там открывается пейзаж! И подышите. Вот где чистый воздух.
— И здесь тоже замечательно. Дышится легко. Не то что в эти часы в Риме.
Пейзаж с горы и в самом деле был необыкновенно красивый. Древние огороды, через которые вела дорога, совсем заросли сорняком, вьющимися растениями и кустами, почти лишенными листьев из-за засухи, — вид у них был жалкий. Но и от них приятно пахло травой и лесом, запах этот стал еще ощутимее, когда мы с Пиоланти присели на вершине под пиниями. Я поглядел направо. Где-то далеко-далеко сверкает гладкая стеклянная поверхность — это море. Вон там, прямо, едва различимое пятно — Рим. Пиоланти объясняет мне, что сегодня слабая видимость. Обычно и море и Рим видны более отчетливо.
Мы мало разговаривали. Он немножко рассказывал о своем Сан Систо — «красивейшем, но и печальнейшем», как он выразился. Кажется, в его приходе, в горной деревушке, условия жизни тяжелые. Он это имеет в виду, когда говорит, что Сан Систо «печальнейшее» место. Упомянул он об этом просто так, мимоходом, когда речь зашла о красоте пейзажей. Из его слов получается, что Сан Систо лежит «в настоящих горах». Но на отшибе. Поэтому и нищета. Я слушал, не поддерживая разговора. Вскоре и он умолк. Только изредка поворачивал голову в мою сторону, так же как в поезде.
— Хорошо здесь? А? — спрашивал он. — Можно наконец дышать.
— Действительно, — соглашался я. — Ванна для легких!
— О, как вы хорошо сказали! Ванна для легких!
И затем он время от времени повторял эту фразу. Так мы просидели два часа. В семь мы начали спускаться. Оказалось, что до спектакля нам еще дадут поужинать. В столовую мы попали в момент общей молитвы перед трапезой. Пиоланти обо всем позаботился: поставил передо мной жестяную тарелку с макаронами и горошком, стакан вина и несколько абрикосов, которые он положил на бумажную салфетку. В окошечке, где выдавали еду, он взял такую же порцию для себя и сел возле меня. В столовой собралось человек десять, причем только один я мирянин. Мы сидели за огромным столом, но не в ряд, а по двое или по трое, небольшими группами, поодаль одна от другой. Общего разговора не вели, но и не молчали. Сидевшие рядом беседовали размеренно и не очень громко. К восьми все встали.
Я полагал, что мы отправимся в больницу, но ошибся. Мы прошли в церковь, где, как в средние века, должно было состояться представление. Сцену — небольшое возвышение — установили между ступенями алтаря и балюстрадой. Больничное начальство и врачи уселись на передних скамьях, больные — подальше. Сбоку, слева сестры-монахини, справа — санитары. Мы с Пиоланти и остальные священники, вместе с которыми я ужинал, заняли места рядом с санитарами. Но они стояли, а для нас приготовили маленькие плетеные стульчики. Места были не очень хорошие. Часть сцены заслоняла колонна. А когда церковь заполнилась людьми, пришедшими из городка и из окрестностей, мне тоже пришлось встать, иначе я ничего бы не увидел. Никто из священников, сидевших рядом со мной, не последовал моему примеру. Один только я прислонился к колонне и так простоял до конца представления.
Само по себе оно не производило сильного впечатления. Хор действительно отличный. Ему придавало еще больше очарования царящее в церкви настроение, своды, арки, полумрак. Я раза два наклонялся к Пиоланти, спрашивая, что они поют. Он не знал. Повторял только то, что один раз уже мне сказал: хор очень знаменитый. Таким образом, я сосредоточенно слушал неизвестные мне монотонные, медленные мелодии, линия которых степенно, не меняя темпа, поднималась и снижалась; лишь изредка в ней прорывались, словно жалобы, судорожные, спазматические ноты.
После выступлений хора — спектакль. Надолго затянувшаяся мимическая история двух нищих. Один из них не владеет ногами, другой слеп, они как бы дополняют друг друга, поэтому не расстаются, и каждый цепляется за свое увечье, кормится им. Сперва они выступали только и исключительно в качестве нищих. По сцене проходили разные фигуры: важные господа, горожане, крестьяне. Нищие осаждали их. Слепой протягивал руки и вертел головой в знак того, что не различает дороги и направления. А хромой, подобно большой подстреленной птице, подскакивал и опрокидывался на бок. К ногам у него были прикреплены деревянные культи. Они стучали о подмостки. Слепой тоже стучал по сцене палкой. Все остальное происходило в тишине, ибо это старинное моралите было мимическим.
Когда прошла вереница людей, к которым нищие обращались за подаянием, на сцене появился паренек в стихаре. Он хлопал в ладоши и подпрыгивал, обращая к зрителям сияющее лицо и источая улыбки. Пиоланти потянул меня за рукав и объяснил, в чем дело. Паренек возвещает радостную новость: сюда идет великий святой, чудотворец. Паренек, весело прыгая, догонял нищих, прикасался к ногам первого и глазам второго, давая понять, что идущий сюда святой вернет первому способность двигаться, а второму зрение. Но после длинной мимической сцены нищие в страхе удалялись, они не хотели выздоравливать, так как им выгоднее оставаться калеками.
Не все в церкви понимали аллегорию. Как и я, они нуждались в пояснениях. Мне их давал Пиоланти; средневековую литературу он, видимо, знал лучше, чем музыку. Я наклонялся к нему всякий раз, как от меня ускользал смысл событий, происходивших на сцене. Так же поступали другие зрители — и те, что сидели на скамьях, и те, что стояли по бокам, в группе монахинь и санитаров. Позади нас плотной толпой держались жители окрестных деревушек. Они не вели между собой никаких разговоров, не требовали пояснений. Им это не было нужно. Я полагаю, что они попросту знали пьесу, входившую в репертуар, который на протяжении веков ставили в церквах и приходских залах. Они все понимали раньше, чем остальные зрители, громко смеялись там, где полагалось, — например, в тот момент, когда оба нищих, испугавшись, что они лишатся своих увечий, в панике убегают со сцены.
В последней картине нищие снова появляются, богатый хозяин нанял их сторожить сад. На сцене яблоня — ее внес помощник режиссера в синем комбинезоне, — она усыпана яблоками, которые слепой не может сорвать, потому что не видит их, а хромой не в состоянии до них дотянуться, потому что его не держат ноги. После безуспешных попыток им приходит в голову хитроумная мысль — соорудить своего рода тандем. Они рвут и едят плоды. Приходит хозяин. В доказательство своей невиновности один ссылается на свою хромоту, другой на слепоту. Но богатый хозяин разгадал их маневр. Он приказывает слепому посадить себе на плечи хромого. Разоблаченные хитрецы просят прощения. Хозяин велит отстегать их и выгнать из сада: яблоня исчезает со сцены, ее уносит помощник режиссера в комбинезоне. Слепой и хромой возвращаются к своему прежнему промыслу — побираются. Слепой вертится во все стороны в тщетных поисках дороги, хромой пробует встать и всякий раз опрокидывается. Потом они застывают в неподвижности — в знак того, что представление окончено.
Церковь пустеет. Уходим и мы. Вдруг я слышу за моей спиной, совсем рядом, польскую речь. Оборачиваюсь. Мимо нас проходят монахини и санитарки, занимавшие левую часть нефа. Я прислушиваюсь. Кто-то в этой группе явно говорит по-польски. Я инстинктивно останавливаюсь и, еще не успев принять какое-либо решение, здороваюсь с дамами из пансионата «Ванда», с пани Рогульской и пани Козицкой.
— Как вы сюда попали? — восклицает пани Рогульская.
— Ага, значит, вы ради Ладзаретто покинули «Ванду», — пани Козицкая с ироническим удивлением разрешает (правда, неверно) загадку моего исчезновения из пансионата; тон голоса для нее весьма любезный.
— Вовсе нет! — говорю я. — Я, так же как и вы, приехал только на спектакль.
Пани Рогульская:
— Я бываю здесь два раза в неделю. Работаю у монахинь в больнице.
— Ну да! — вспоминаю я. — Вы, вероятно, были именно в этой больнице, когда я уезжал из «Ванды». Поэтому я с вами не попрощался. Надеюсь, ваша племянница передала вам, как мне это было неприятно.
Пани Козицкая:
— Передала! Передала! Можете быть совершенно спокойны: никто вас не упрекнет в несоблюдении светских приличий.
Пани Рогульская:
— Загляните как-нибудь к нам. Мой брат тоже будет очень рад. Ну хотя бы завтра. Например, к чаю. Что вы делаете завтра? Или еще лучше послезавтра, в воскресенье, в пять.
Я ответил, смеясь:
— В пять? Буду иметь честь присутствовать у вас на файвоклоке.
Разговаривая, мы вышли из церкви и остановились у двери. Площадь перед церковью опустела, только Пиоланти беспомощно бродил по ней; он то приближался к нам, прислушиваясь к незнакомой ему речи, то удалялся всякий раз, как я поворачивался в его сторону, желая познакомить с дамами. Пани Козицкая заметила его.
— Вы, кажется, не один, — сказала она. — До свиданья. Не будем вас задерживать.
— До воскресенья, — уточнил я.
— До воскресенья, в пять, — добавила пани Рогульская.
В этот момент на площади перед церковью стало темно. Погасли теперь уже ненужные фонари в четырех углах площади. Я извинился перед Пиоланти и объяснил ему, почему я от него отстал и с кем разговаривал. Затем мы прошли в сад за церковью. Там стояли скамейки. Мы легло их обнаружили, потому что сад раскинулся по ту сторону приюта, где окна уже были раскрыты настежь, так как к вечеру похолодало. Свет из окон падал в сад. Со стороны холма — приятная, душистая прохлада. Мы еще с полчасика поговорили. Главным образом о спектакле, то есть о моралите с нищими. Священник рассуждал о глубоком значении аллегории, в особенности ему не давала покоя последняя картина. Та, которая, по его определению, «клеймила ложное милосердие».
— Какое же милосердие? — удивился я.
— На протяжении веков это моралите толковали следующим образом: слепой хочет помочь хромому, хромой хочет помочь слепому, они образуют единое целое, но провидение, обострив догадливость богатого садовника, раскалывает их единство, ибо милосердие, которое они друг другу оказывали, было ложным.
— Не понимаю, — ответил я. — Но это и не удивительно, ведь моралите существует несколько столетий. Мы за это время изменились.
— Это правда, — подтвердил священник.
— Хотя музыка, которую мы слышали, — добавил я, — тоже старая, а, признаюсь, я ведь проникся ею. Она мне очень понравилась.
— И это правда, — согласился священник.
Потом он проводил меня на станцию. На перроне я вспомнил о дамах из пансионата «Ванда» и огляделся по сторонам. Их не было. По мнению священника Пиоланти, они уехали автобусом, более удобным, но немного более дорогим средством транспорта. Сказав это, священник забеспокоился: может, и я предпочел бы ехать в автобусе. Он, однако, привык всегда выбирать для себя и своих знакомых то, что подешевле. Я успокоил его, заметив, что меня вполне устраивает поезд и мне это как раз по карману.
XVI
В Ватиканской библиотеке снова нет ничего! Пожалуй, это уже чересчур. Утром, после поездки в Ладзаретто, я проспал и пришел значительно позднее, чем обычно, а тут не оказалось не только новых документов, но и старые, которые я просил отложить, вернули в хранилище. Таким образом, все утро пропало. Работники архива хоть и признают свою ошибку, но нужные мне документы доставят не быстрее, чем это у них принято, то есть либо к концу дня, либо, что вернее, только на следующее утро. Свою оплошность они объясняют тем, что однажды я уже пропустил несколько дней, а сегодня, увидев, что я не пришел, они решили, что со мной опять что-либо приключилось, и отослали в хранилище документы, которые я оставил за собой. Сверх того, я услышал, что в помещении, где хранят научные материалы, над которыми в данный момент работают читатели, очень тесно, а количество посетителей велико, — значит, необходим строгий порядок, жертвой которого я и стал. Это неверно! В читальне вовсе не так уж много народу. Как раз напротив. Жара, лето, мало кому хочется, подобно мне, корпеть здесь. Могли бы нарушить свои строгие правила. Но, видимо, в полном соответствии с характером этих правил, их применяют, не рассуждая.
Каждый день работы в Ватиканской библиотеке у меня на счету, очень для меня важен. Я ведь знаю, что мне здесь не вековать. А между тем как часто бывает, когда веревочка спутается, ты ее дергаешь, и от этого узел затягивается еще крепче. После одного погубленного дня работы погублен и второй день! В Ладзаретто я был в пятницу, о том, что произошло в субботу, я рассказал, а в понедельник опять неудача, уже по другой причине: документов, которые я просил, нет. Мои требования затерялись. В субботу я появился в библиотеке поздно, в понедельник — одним из первых, едва пробило полдевятого. Документов — ни следа, мои карточки с требованиями невозможно разыскать. Меня просят зайти через час. Час спустя то же самое. Я прошу дать мне каталоги и списки документов, из которых я выписал нужные названия — хочу повторить заказ. Каталоги и списки я получаю, но меня заверяют, что я напрасно тружусь, вновь рыться в них не к чему, потому что мои требования не могли пропасть.
Я возвращаюсь на свое место и, так же как в субботу, убиваю время, перечитывая в книге Эрле страницы, посвященные Роте, хотя знаю их почти наизусть, либо же читаю другие книги, взятые с полок подсобной библиотеки, новые для меня, но не связанные с изучаемой мною проблемой. В одиннадцать я снова справляюсь о моих документах и карточках. Ничего! Ни слуху ни духу! Библиотекарь сообщает мне это с явным беспокойством. Утешение слабое, но все-таки утешение, ибо я полагаю, что он, по крайней мере, постарается вознаградить меня за потерянное время. Час спустя, порывшись в каталогах, я возобновляю заказ и вручаю ему. Тогда я узнаю, что нужные документы я получу только в среду, потому что завтра состоится какое-то ватиканское торжество: музей и библиотека закрыты. Вот тебе и на! Это означает, что за целую неделю моя работа не продвинется вперед ни на шаг. В прошлую среду, когда Кампилли вызвал меня из библиотеки, чтоб сообщить о смерти епископа Гожелинского, я подумал, что в связи с этим срок моего пребывания в Риме очень сократится, и мечтал остаться еще на неделю, твердо веря, что недели мне будет достаточно для завершения архивных розысков. А между тем моя работа почти не подвинулась. Топчусь на месте и тем не менее рассчитываю, что будущая неделя окажется более удачной. Разумеется, у меня нет никакой уверенности, что в ближайшую среду в мои руки попадут хорошо сохранившиеся печати, которые подтвердят мою гипотезу и увенчают мою голову лаврами столь желанного открытия. Во всяком случае, задержки с доставкой материала больше не будет. Мне с таким озабоченным видом сообщили, будто мои старые требования затерялись, и так торопливо приняли новые заказы, что я вижу в этом известную гарантию на будущее.
Со священником Евгением Пиоланти — обычные разговоры. Мне наконец удалось затащить его на чашку кофе в маленький бар напротив входа в Ватикан. Он отбивается от угощения, но я побеждаю его упорство веским аргументом: раз я был его гостем, он не вправе мне отказывать. Тогда он приносит из гардеробной свой термос и пакетик с едой и возобновляет борьбу в баре, пытаясь утолить голод принесенными запасами. Тихим голосом он спорит со мной. Но в конце концов, когда перед ним ставят свежий, горячий кофе и хрустящие рожки, которые я заказываю для нас обоих, он пьет и ест, а я завинчиваю крышку его термоса и снова заворачиваю распакованную еду. Мы оба смеемся, я торжествую, он смущен.
Я ему не рассказываю о своих библиотечных заботах; он хоть и священник, но я по всему вижу, что в библиотеке он чувствует себя чужим и ничем мне не сможет помочь. Работников библиотеки он пугается. Несколько дней назад, когда к нам подошел разыскивавший меня дон Паоло Корси, Пиоланти исчез в одно мгновение. Даже в гардеробной, забирая свои вещи, он от волнения покрывается потом. Если бы я взял его с собой в отдел каталогов, Пиоланти не смог бы выдавить из себя ни слова в мою защиту. Поэтому я не рассказываю ему о моих неприятностях. И вообще о том, над чем я работаю. Над чем он сам корпит, я тоже не знаю. Что-то читает. Заметок не делает. Только очень медленно одолевает то один, то другой толстый том. Я заметил также — мы сидим близко друг от друга, и волей-неволей я наблюдаю за ним, — что время от времени он возвращается к уже прочитанным страницам.
Он часто задумывается, застывает, читая какое-нибудь место. Но все это, быть может, попросту результат жары. Зной, духота. Ничего не лезет в голову. Даже мне, натренированному в научной работе. Тем более ему, рядовому сельскому священнику, далекому, я полагаю, от занятий подобного рода. И вот он сидит над страницами печатного текста, тупо в них всматриваясь, свесив над ними рыжеватую голову либо подняв ее, и смотрит в пространство глубоко запавшими глазами, которые от этого бесплодного труда, кажется, запали еще глубже.
Выясняется, однако, что при всем том он написал книжку. Проговорился он случайно, спрашивая, не подготавливаю ли я какую-нибудь научную работу.
— Да, — ответил я, — но, даже если все пойдет удачно, получится самое большее статья для специального издания.
— А у вас уже есть какие-нибудь публикации?
— Несколько. Я написал также книжку.
— Она доставила вам удовлетворение?
— Скорее да.
— Какой вы счастливец!
— До счастья далеко! — засмеялся я.
— Я тоже напечатал одну вещь, — сообщил он тогда.
— Статью?
— Целую книгу.
— Я обязательно должен прочесть. Большая книга?
— Не особенно. Двести страниц.
— Нет ли ее у вас случайно при себе? В перерывах между работой над документами я охотно бы ее проглядел.
— Ох нет, нет ее у меня.
— Ну тогда я выпишу на нее требование. В библиотеке она, разумеется, есть. Скажите, пожалуйста, как она озаглавлена?
— Нет, нет, нет, пожалуйста, не делайте этого!
— Авторская скромность? — Я снова засмеялся.
— Нет, нет! Но решительно прошу вас этого не делать! Обещайте мне, пожалуйста, что вы ни под каким видом этого не сделаете.
Я дал ему слово. По этому случаю я пожал его большую, сильную руку. Я запомнил это потому, что обычно мы только кланялись, здороваясь и прощаясь. Священник кланялся мне, если приходил позднее и заставал меня уже за столом. Всякий раз, когда я уходил раньше, разморенный жарой да вдобавок и вынужденным бездельем, я тоже только кланялся ему.
— Торжественно обещаю! — сказал я.
Но в тот же самый день, несколько часов спустя, я спросил про эту книжку в большой ватиканской книжной лавке на виа делла Кончилиационе. У меня в кармане был билет в кино, сеанс начинался только через двадцать минут, и, вместо того чтобы торчать в фойе, я вышел на улицу. За углом я увидел огромную ярко освещенную книжную лавку. Прогуливаясь по вечерам близ собора святого Петра, я не раз обращал на нее внимание, но в те часы двери лавки были закрыты и свет в ней не горел. А вот теперь я заглянул внутрь. Какие великолепные книги лежали на массивных длинных прилавках! Различные жизнеописания, художественные монографии, альбомы, посвященные религиозному искусству, богато иллюстрированные литургические справочники. Обслуживали лавку люди в сутанах. Видимо, они не принадлежали к преуспевающей части духовенства и здесь немного подрабатывали. Но прежде чем я понял, что передо мной стоит такой же продавец, как и все остальные в этой лавке, я с удивлением поглядел на седого священника, который обратился ко мне с вопросом:
— Чем можем служить?
— Дайте мне, пожалуйста, книгу священника Пиоланти, — сказал я тогда.
Хотя книжная лавка тоже находится в Ватикане, все-таки это не Ватиканская библиотека, и, следовательно, я не нарушил своего обещания. Впрочем, однажды сказав себе, что Пиоланти, видимо, очень чувствителен ко всему, что касается его книги, я в дальнейшем придерживался этой версии. И не считал, будто поступаю неделикатно, спрашивая про его книгу.
— Вы желаете книгу отца Пиоланти. — Седой священник внимательно посмотрел на меня. — Нет, у нас нет этой книги.
— А где я могу ее достать?
— Не скажу вам, — покачал он головой.
— А как она называется?
Священник не сводил с меня глаз и не переставал качать головой. Его «не скажу вам» в равной мере могло означать «не сумею вам сказать» и «не хочу». Однако, когда на вопрос о заглавии он в точности повторил ту же фразу, я понял, что должен толковать его слова в другом значении.
Я спросил:
— Значит ли это, что книга священника Пиоланти не отвечает вашим требованиям?
— Ее нет в продаже. Чем в таком случае мы можем вам быть полезны? Если вас интересуют исследования об отсталой в своем развитии итальянской деревне, то у нас имеются превосходные и очень серьезные книги на эту тему.
— Спасибо, — ответил я. — Может быть, зайду в другой раз, а сейчас мне уже пора.
Я взглянул на часы. В самом деле! Нужно немедля бежать, иначе я опоздаю. «Бедный Пиоланти, — подумал я, — так вот в какое затруднительное положение он попал!» Фильм был неплохой, американский, остросюжетный. Следя за ходом действия, я забыл о собственных заботах, что уж говорить о чужих. После кино я пошел прямо домой. Лакей еще не спал и сообщил мне, что синьор Кампилли вернулся из Абруцц, но тут же уехал на воскресенье в Остию. Вспомнив о его просьбе или, вернее, предостережении, я сказал, что хоть завтра и воскресенье, я позавтракаю в обычное время, так как потом пойду к мессе. Я выбрал расположенную неподалеку церковь святого Онуфрия, от которой начинается чудеснейшая прогулка по Яникулуму; обычно, когда я проходил мимо, церковь бывала закрыта. Я провел там полчаса, тихонько, чтобы не мешать молящимся, переходил от часовни к часовне, разглядывая фрески Доминикино и Пинтуриккио, а также памятник и надгробье Тассо, который последние месяцы перед смертью жил при этой церкви и здесь умер.
Во второй половине дня — чай в пансионате «Ванда». Сердечно и просто здороваюсь со всеми домочадцами. Помимо них присутствуют дама с дочерью и священник. Дама с дочерью доброжелательная и веселая, из разговора выяснилось, что она бывшая помещица. Священник сухощавый, оживленный, великосветские манеры, сутана с лиловыми кантами — значит, прелат. Время от времени он нарушал молчание, бросая короткие, чаще всего саркастические замечания, которым все благоговейно внимали. Если он высказывал их с улыбкой, впрочем, всегда иронии ческой, — смеялись. Когда же он высказывал их серьезным тоном, никто не смеялся, даже если замечания были забавные. Он постоянно жил в Риме, где руководил эмигрантским научным центром. Услышав слова «научный центр», я сообразил, кто такой этот священник и как его зовут: Кулеша — историк восточных церквей, солидный ученый; перед войной его перевели из Люблинского католического университета в Рим, в Институто Орьентале при конгрегации пропаганды веры. Со времен войны он ничего не публиковал. В Кракове мне говорили, что Кулеша поглощен политикой. А дама с дочерью попали в Рим в первый год войны. Кажется, у них тут была близкая родственница в монастыре, где и они как будто жили. По крайней мере, так получалось из разговора.
Моя особа не вызывала у них особого интереса. Когда меня представили священнику и дамам, старшая из них, мать, сказала:
— О, я вижу, кто-то новый!
— Это и есть наш молодой гость из Кракова, о котором я вам говорила, — пояснила пани Рогульская.
— Ах, правда! Вы, наверное, приехали навестить родных?
Прелат Кулеша пошутил:
— У них стало очень модно посещать родных за границей. Правительство тратит на это огромные деньги. Трогательная забота!
Все засмеялись. Кроме меня. Мы сидели в комнате пани Рогульской. Было тесновато. Отсюда уже вынесли кровать Козицкой — она, вероятно, вернулась в свою комнату. Со всего пансионата притащили кресла. Я узнал кресло, которое стояло в моей комнате, когда я жил в пансионате. Кусок обивки справа на внутренней стороне оторван — значит, то самое. Для гостей сюда внесли три-четыре столика. Надо было следить за каждым движением, как бы что-нибудь не опрокинуть. Но, конечно, здесь нам было лучше, чем в столовой, через которую то и дело проходили постояльцы пансионата.
— Трогательная забота! — повторил Кулеша и продолжал: — Сперва опасно было признаваться, что у тебя есть связи с заграницей, а теперь наоборот: чтобы числиться на хорошем счету, надо иметь за границей родственников. И даже получается так, что если нет у тебя рассеянных по свету отца, матери, сестры или брата, то никуда тебя не пустят. Дудки, сиди дома!
— Преувеличение! — сказал я.
— Метафора, — отпарировал прелат и добавил с деланной важностью: — Простите, я специалист по истории восточных церквей. Мне вы можете верить!
Теперь я засмеялся. Но так как выражение лица у Кулеши было суровое, все приняли его злорадное замечание насупившись, даже Малинский, который в обществе прелата держал себя свободнее, чем остальные. Он не возражал ему, но иногда подхватывал слова Кулеши и развивал его мысль. Остальные же внимали речам Кулеши как абсолютной истине, к которой ничего нельзя добавить. Несколько раз они встречали замечания прелата деликатным смехом, поэтому я сперва не понял, до какой степени все здесь считаются с его мнением и сколь трепетный страх вызывает у них его личность. Это обнаружилось лишь немного позднее. При всем его светском лоске и даже изяществе как в движениях, так и в способе выражения мыслей, характер у священника был вспыльчивый, бурный.
— В одном только этом пункте не соглашусь с вами, — возразил я прелату в тоне легкой, светской пикировки. После чего чистосердечно и с полной убежденностью добавил: — Зато в других вопросах, и в первую очередь во всем, что касается вашей научной специальности, буду считать для себя честью принять мнение историка и исследователя, которого знают и ценят в научных кругах всей Польши.
— Пожалуйста, без комплиментов! — холодно и резко заявил Кулеша. — Я стреляный воробей, меня не проведешь на такой мякине.
— Я говорю от чистого сердца! — воскликнул я.
— Быть может, и чистого, но разрешите заметить вам, сударь, — наивного! Вы приезжаете сюда, чтобы расколоть эмиграцию. Вашим хозяевам не удалось с помощью агентов сломить наше сопротивление, а теперь пришел черед для сознательных или бессознательных действий через друзей и родных!
Он отвернулся от меня, дав понять, что его не интересуют мои контрдоводы, и тут же завел оживленный разговор с пани Рогульской по поводу организуемого им в ближайшее время польского богослужения. Племянница хозяйки, пани Козицкая, не сводила глаз с прелата. Чувствовалось, что она восхищается им, его словами и тоном. Когда прелат напал на меня, в ее глазах блеснули радость и ирония. Она сидела поблизости от меня. Перехватив ее взгляд, я ей предназначил свой ответ. Напрасный труд! Было ясно, что она глуха ко всем другим мнениям, кроме мнения священника Кулеши. К счастью, Малинский прервал мои никому здесь не нужные рассуждения.
— Ну, а вообще как дела? От жары не страдаете?
— Вы были правы, — ответил я. — Чем дольше, тем тяжелее. Совершенно нельзя привыкнуть!
— Вот видите! Это сердце! Его сопротивление слабеет.
Он пододвинул ко мне свой стул. Снял большие роговые очки. Вытер платочком глаза, обведенные множеством морщинок, и, вновь вернувшись к моим словам о том, будто Кулеша известен у нас как историк, начал вполголоса расспрашивать меня, как мы, молодые научные работники, вообще относимся к ученым, находящимся в эмиграции. Мы немного поговорили об этом.
— А как складывается в настоящее время ваше отношение к католическим ученым? — спросил он затем.
— К находящимся в эмиграции?
— Нет. По обе стороны границы.
Я пустился в подробные рассуждения. Мы сидели совсем рядом и разговаривали тихо. Дама с дочкой беседовали с пани Рогульской, Шумовский что-то объяснял Кулеше. В комнате было шумно. Все-таки священник услышал, о чем мы говорим, потому что внезапно он повернулся к нам. Огонь, который в нем только тлел во время короткой стычки со мною, теперь наконец вспыхнул. Священник говорил быстро. Голосом своим он владел, но за содержанием и порядком слов не следил. Ясно было, что он страдает, что он не может привыкнуть к мыслям, которые, наверное, сотни раз высказывал. Боль, злоба, отчаяние, упрямство мешали ему четко их выразить. Он говорил, что смешно предполагать, будто нам разрешают уважать католических ученых. А если нам действительно разрешают, так это подвох и мы попадаем в ловушку. А почему? Потому что согласились стать коллаборационистами. Вернее, пошли на это, стремясь к миру и восстановлению страны. В казуистике такого сотрудничества с властью суть всей опасности. Только преданность великому, фанатическому католическому движению может спасти нас от всей двусмысленности понятия «восстание из пепла». Это касается ке только нас, но всех народов, отсеченных красным кордоном. Они состоят из людей, которые хотят жить, и это свойственно человеку. А закончил он так:
— Но пусть они живут с пламенем в груди! А кто же лучше поможет разжечь его в вашей груди, чем великий человеческий пример святости и страдания, на который церковь укажет вам своим перстом? Пример, взятый не из давнего прошлого, а из последних горьких лет, рожденный новыми ужасными гонениями. Годы эти отмечены бесконечным количеством жертв. Многие из них, наверное, уже сегодня увенчаны на небе ореолом святости. Нужно, чтобы как можно скорее достойнейшего из страдальцев украсил нимб и на земле.
Он встал. Вспышка утомила его. Он был бледен. Начал прощаться, легко поворачиваясь всем корпусом к каждому по очереди. К дамам, к Малинскому, к Шумовскому и наконец ко мне. Мы подходили к нему. Он ничего не говорил. То ли он устал, то ли ему были неприятны банальные фразы после всех высказанных им и столь важных для него слов. Но если бы не его молчание, то, глядя со стороны и наблюдая только жесты священника Кулеши, можно было бы подумать: вот прелат, человек из высшего общества, прощается с хозяевами и гостями, покидая гостиную. На самом деле все обстояло не так. Об этом свидетельствовала не только тишина в комнате, но и рукопожатие Кулеши — слишком крепкое и продолжительное, пальцы у него при этом дрожали. Мою руку он задержал особенно долго. Я чувствовал, что этим пожатием он как бы продолжает незаконченный разговор. Когда он наконец ушел, мы вернулись на свои места. Никто ни словом не упомянул о его вспышке. Мне кажется, что при всем почтении, с каким к нему здесь относятся, все уже привыкли к его речам. Что касается меня, то я предпочел бы даже в мыслях к нему не возвращаться. Я думал о нем, как о раненом. Его ранили. А он теперь бередит и бередит свои раны. И даже самую эту боль ставит в вину только нам.
XVII
В воскресенье, покидая пансионат «Ванда», я не предполагал, что спустя сутки вернусь сюда с чемоданом на новое жительство. Мне отвели мою прежнюю комнату. Я расположился там. Распаковал вещи и разложил их так же, как раньше. С той лишь разницей, что теперь я занял также ящик столика, поместив в нем заметки, сделанные в библиотеке, а также лупу Кампилли. Я с ужасом обнаружил ее в кармане пиджака, который сегодня утром был на мне. Не знаю, когда отнесу Кампилли его лупу, если в доме на виале Ватикано до конца лета никто постоянно жить не будет. Хозяйка с дочерью вместе с кухаркой завтра переедут из Остии в Абруццы. Хозяин с зятем до каникул в курии останутся в Остии вместе с лакеем из римской виллы, а сама вилла в связи с этим окончательно опустеет и, по сути, будет наглухо закрыта.
Обо всем этом мне сегодня после полудня самым любезным тоном сообщил Кампилли. Ему было неприятно, что так получилось. Особенно потому, что, когда мы прощались перед его отъездом в Абруццы, он ни словом не обмолвился относительно такой возможности. Он объяснял, что жаркие дни в этом году наступили раньше обычного времени, что жена плохо себя чувствует у моря, что в Абруццах у них, правда, есть прислуга, однако она не справится с работой, когда съедется вся семья. Он без конца извинялся передо мной, я же, в свою очередь, уверял его, что ничего особенного не случилось, ведь я поселился на вилле просто потому, что так вышло, а вообще-то меня вполне удовлетворял пансионат, где я поначалу устроился.
— Теперь в Рим наехало столько народу! Куда ты денешься? — огорчался Кампилли.
— Вернусь в «Ванду».
— Ты считаешь, что это правильно?
— Почему бы нет?
— А не проехаться ли тебе по Италии?
— Поеду, но позже. Пусть сперва монсиньор Риго ответит нам на письмо. Мы осуществим задуманную комбинацию — перешлем в Торунь дело для передачи отцу. И вот тогда наконец-то я разрешу себе поездку по стране.
В начале нашей встречи я вскользь упомянул, что монсиньор молчит как проклятый. Кампилли сделал неопределенный жест рукой — я решил было, что он хочет успокоить меня, — и тут же заговорил о том, что мне придется покинуть виллу. А затем сказал:
— Боюсь, что, дожидаясь ответа в Риме, ты потеряешь много времени.
Я напомнил ему, что именно так он советовал мне поступить. Ведь он, как и я, был уверен, что монсиньор нам ответит очень скоро, и тогда необходимо будет сразу же подыскать бумаги для Торуни, чтобы ковать железо, пока горячо.
— Разумеется! Но позволь тебе напомнить, что со времени нашего разговора умер епископ Гожелинский.
— Как? — удивился я. — Ведь мы уже после его смерти снова обсуждали, по вашим словам, блистательные прогнозы, и вы целиком одобрили весь дальнейший план действий.
— В таком случае, — согласился Кампилли, — быть может, и в самом деле не стоит уезжать из Рима.
«Он просто забыл», — подумал я. Множество обязанностей, жара, путешествие — не удивительно, что подробности, касающиеся моего дела, вылетели у него из головы. А у меня была только одна эта забота. Значит, он мог вполне доверять моей памяти.
— А кроме того, — добавил я, — меня удерживает в Риме библиотека.
— Ватиканская?
— Разумеется. Жара жарой, но я посещаю ее аккуратнейшим образом!
Он снова:
— Да бросил бы ты все! Покатался бы немного. Отдохнул.
Я засмеялся:
— Что же это вы меня гоните из Рима!
Тогда он вскипел:
— Я! Да я бы ради тебя горы переворотил! Ради тебя и твоего отца. Но я вижу, ты торчишь здесь и собираешься дальше торчать. И сам уж не знаю, что тебе посоветовать!
— Я думаю, надо придерживаться однажды намеченной линии поведения. Что? Разве не правда? А может быть, вы считаете, что мы допустили какую-нибудь ошибку?
— Ни малейшей! Я дал правильный анализ положения. Особенно исходного, в том виде, как оно мне представлялось непосредственно после твоего приезда.
Обычно веселый, шутливо любезный и даже преувеличенно ласковый со мной, Кампилли сегодня явно был не в своей тарелке. Нервный, напряженный. Мы сидели у него в кабинете в двух шагах от шкафчика с напитками, но, вопреки своей привычке, Кампилли не потянулся за бутылочкой. Я думал, что, по натуре человек отзывчивый и деликатный, он глупо себя чувствует, отказывая мне в гостеприимстве, и считает более тактичным придержать свои улыбки и любезности, опасаясь, что в данной ситуации они покажутся фальшивыми. И вдруг я понял, что он чувствует неловкость передо мной и по другим причинам. Оценивая наше исходное положение, — как он выразился, — Кампилли уверял меня, что монсиньор даст о себе знать в ближайшие дни, а между тем от него ни слуху ни духу. Значит, Кампилли оказался в дураках. Так я подумал.
— Может быть, вы считаете уместным, чтобы я зашел к монсиньору Риго и напомнил ему о себе? — спросил я.
— Нет! Это бесцельно.
Тогда я рассказал ему, что в Ватиканской библиотеке вот уже несколько дней наталкиваюсь на всяческие трудности при розыске нужных документов, и добавил:
— Стоит жара. Проклятая жара. Люди переутомились. Легко можно представить себе, что монсиньор уже поручил кому-то меня вызвать и дело затормозилось по вине секретаря и курьера.
— Ничего подобного! Таких вещей в курии не бывает! — обиделся Кампилли. — Риго тебя не ищет. Я видел его сегодня.
— Ну и что? — воскликнул я. — Что он сказал? Ничего вам не говорил? Ничего не просил мне передать?
— Нет.
— Вы полагаете, что он помнит о моем деле?
— В этом можешь быть уверен.
Немного переждав и, признаюсь, довольно для меня неожиданно, он сказал:
— В конце концов я полагаю, что ты, в сущности, мог бы возвращаться домой и предоставить дело собственному течению. Поскольку епископ Гожелинский отошел в иной мир, есть надежда, что запрещение, обязательное при его жизни, утратит силу. Все постепенно утрясется, в особенности если преемник епископа Гожелинского на торуньской кафедре проявит терпимость к твоему отцу.
Я весь кипел. Вот передо мной типичный итальянец! Отец, впрочем, предупреждал меня о некоторых свойствах этого народа. Легко воспламеняющегося, расточающего обещания и — даже более того — готового горы своротить. Лишь бы немедля! Лишь бы сразу! В противном случае они теряют всякий интерес, обо всем забывают. Образцовый пример минутного увлечения. Я был в бешенстве.
— Нет-нет, так я не согласен! — возразил я. — Мой отец стар и не может долго ждать. Если бы со смертью епископа Гожелинского все само собой уладилось, он сообщил бы мне. Разумеется, смерть эта делает положение менее щекотливым, но автоматически ничего изменить не может. Вы знаете, с какой легкостью во всех куриях становится несокрушимой традицией любое указание, любой однажды изданный приказ. Значит, отступать нельзя. Не говоря уже о другом, — ведь вы сами дали мне понять, что было бы неправильно уехать из Рима, не дождавшись ответа монсиньора Риго. Неправильно, потому что неуважительно! После нашего предыдущего разговора я все это хорошо продумал!
Тогда он встал, быстро подошел ко мне, присел на ручку кресла, на котором я сидел, и прижал к груди мою голову. На меня повеяло целым букетом запахов: туалетного мыла, крема для бритья, помады для волос.
— Боже мой! — вскричал он. — Как ты похож на отца! Тянешь-тянешь, а потом ни с того, ни с сего взрываешься, как граната. Если ты полон столь твердой решимости, то…
— Мы будем дальше ждать, — закончил я.
— Ну и жди! — сказал он.
— А контакт с вами? У меня, кажется, нет номера вашего телефона в Остии, — задумался я.
— Лучше пиши на римский адрес. Я часто буду заезжать на виллу.
На этом мы расстались. Я пошел наверх, в свою комнату, уложить вещи. Мне пришлось торопиться. Оказалось, что Кампилли очень спешит и уже сегодня увозит с собой лакея. Едва я успел закрыть чемодан, лакей подхватил его, отнес в холл и вызвал по телефону такси. С Кампилли я попрощался весьма сердечно. В конце концов я не мог его осуждать за то, что у него такой характер: увлекается, но ненадолго. Тем более что в тот период, когда он увлекся делом отца, то действовал очень энергично. Я не говорю уже о том, что он дал мне тогда деньги, благодаря которым я мог еще неделю-другую ждать в Риме!
На следующий день, во вторник, с утра — Ватиканская библиотека. Дорога с виа Авеццано до площади святого Петра отнимает у меня много времени. От виллы Кампилли до библиотеки было два шага. Я уже привык к этому. А теперь я бесконечно долго еду через весь город. Вдобавок надо пересаживаться, потому что из района, где я живу, нет прямого сообщения с Ватиканом. Таким образом, я переступаю порог библиотеки значительно позднее, чем обычно. Следовало встать раньше. Я сержусь на себя. Но настроение мое исправляется оттого, что погода сегодня бодрящая, свежая, жара наконец спала, — значит, можно будет дольше посидеть над документами. На столе, за которым я работаю с тех пор, как начал посещать библиотеку, нахожу записку. Дон Паоло Корси просит меня тотчас к нему явиться.
Иду. В кабинете его нет, вернется через полчаса. Несколько минут топчусь в коридоре. Но так как мне жаль терять время, захожу в отдел архивов за материалами. Работника, который всегда меня обслуживает, нет. Его вызвали к префекту библиотеки, — сообщает мне его коллега.
— Надолго?
— На минутку. Подождите, пожалуйста.
Ничего не поделаешь, я жду, но так как в общем зале каталогов ждать удобнее, я усаживаюсь там. Чтобы занять руки, выдвигаю из шкафа с карточками ящик, обозначенный буквами Пи. Перебираю, перебираю. Наконец: «Пиоланти Евгений, дон. La mia piccola parrocchia[49]. Орсино. 1957». Я быстро засовываю карточку на прежнее место. Она перечеркнута! Гм! Что же он написал о «своем маленьком приходе», если это вызвало такую реакцию? Заглавие совсем невинное! Я задумываюсь. Вдруг вспоминаю, что уже пора проверить, не вернулся ли дон Корси. Да. Вернулся.
Я поздоровался. Дон Корси встал. Черный. Очень высокий. Губы поджаты. Под глазами синие круги. Широким, медленным жестом он указал мне на кресло, после чего тоже неторопливо обошел письменный стол и сел в напряженной позе. Крепко сплел руки, даже суставы пальцев у него хрустнули. Сплетенные таким способом руки он то опускал на стол, то подносил ко рту, словно брал размах перед разговором со мной. Наконец:
— Должен сообщить вам неприятную новость. Вы больше не сможете пользоваться нашей библиотекой.
Я замер.
— Не смогу? — прошептал я.
— К сожалению.
— Но что случилось? Что произошло?
— Абсолютно ничего! Попросту мы вынуждены отнять у вас пропуск.
— Значит, произошло нечто новое! Наверное, меня в чем-то обвиняют. Но я ни в чем, совершенно ни в чем не могу себя упрекнуть и уверен, что это недоразумение.
Выразительно шевеля губами, словно обращаясь к глухонемому, дон Корси вежливо сказал:
— Вы приехали из Польши, не правда ли?
— Это было известно с самого начала. Я приехал из Кракова. Мы даже разговаривали с вами об этом городе. Вы вспоминаете?
— Вы приехали из Польши, не правда ли? — повторил он.
Не я был глух. Глухим был он! По крайней мере — он был глух к моим доводам.
— Из страны, которой управляют враги церкви, — продолжал дон Паоло. — Значит, по логике вещей гражданин такой страны не может пользоваться гостеприимством библиотеки святой римской церкви. Я огорчен и прошу вас верить, что не только понимаю ваши чувства, но в известной мере их разделяю. Я с радостью вас принял, когда вы пришли ко мне по рекомендации моего друга Кампилли. Мне в самом деле приятно было приветствовать вас здесь. Мы согласились ради вас нарушить наш обычный распорядок. К сожалению, для такого исключения из твердых правил, для такой привилегии нет никаких оснований. Абсолютно, абсолютно никаких!
Все во мне восставало против подобного решения.
— Но что я скажу синьору Кампилли? — воскликнул я. — Он никогда не поверит, что только по этим причинам вы изгоняете меня из библиотеки!
— Поверит! Поверит! А точнее говоря, уже поверил. Я вчера разговаривал с ним.
— Вчера? — удивился я. — В котором часу?
— В котором? — Теперь он удивился столь обстоятельному допросу. — В двенадцать или в час. Примерно в это время.
— В таком случае все кончено! — вскричал я.
— Почему так драматично! Вы человек молодой, можете подождать, пока времена изменятся. В тех строгих правилах, о которых я говорил, тоже могут произойти изменения. Ведь это не догматы!
Утешая меня таким манером, он едва заметно кисло улыбался. А мою голову и сердце сверлила одна мысль: меня отрывают от моих печатей, мешают установить истину или, если угодно, сделать научное открытие, на след которого я напал! Движимый досадой, упрямством, я унизился до просьбы о мелкой в конце концов любезности: я попросил, чтобы мне разрешили поработать в библиотеке сегодня до часу.
— Раз я уже здесь, — сказал я.
— Хорошо, — без всякого энтузиазма согласился он и добавил: — Но à propos. Верните, пожалуйста, входной билет в библиотеку, который я вам выписал. Для порядка.
Я положил билет на стол. Дон Корси встал. На прощанье мы оба низко поклонились, причем у нас обоих не было охоты смотреть друг другу в глаза. Не теряя ни минуты, я отправился к работнику, который выдавал мне документы. Он уже был на месте. Но документов не оказалось!
— Как? — возмутился я. — Архив снова ничего для меня не разыскал!
— Да нет же! Для вас разыскали затребованные материалы. Но я отослал их назад, так как мне сообщили, что вы больше не будете пользоваться нашей библиотекой.
Я молча повернулся. Побежал в читальню. Взял заметки. Пиоланти не было за его столом. Я не стал его искать. Я больше не был в силах кого-то или что-то здесь искать.
XVIII
Быстрым шагом я прошел дворы и улочки внутри Ватикана, ведущие к воротам святой Анны, и вскочил в троллейбус. Мне хотелось как можно скорее очутиться подальше от этих мест. Близ площади святого Андреа, и, значит, совсем рядом с дворцом Борромини, у меня была пересадка. Сердце мое сжалось при виде этого отеля, любимого отеля отца, где недавно я пережил минуты надежды и даже твердой уверенности, что все образуется. Я чувствовал, что произошли новые события, нарушившие наши расчеты. Я не подозревал Кампилли в неискренности и вовсе не думал, что он сказал мне неправду. Да, его семья в этом году, наверное, раньше обычного перебралась в Абруццы, а он — в Остию. Но почему он не передал мне своего разговора с Корси? Почему не избавил меня от невыносимо неприятной сегодняшней истории? Не объяснил мне ее настоящие причины? Струсил! Без сомнения, струсил! Горечь, досада, бешенство душили меня, когда я въехал на железнодорожный мост неподалеку от улицы Авеццано. Мост дрожал. Поезда гудели. Со всех сторон меня оглушали шум, крик, звучавшая по радио музыка. И я сразу отказался от намерения прогуляться пешком, чтобы успокоить нервы. Перспектива одинокого затворничества в комнате тоже меня не привлекала. Поэтому, наткнувшись в холле «Ванды» на Малинского, я с благодарностью принял его предложение прокатиться за город. Быть в движении, не смотреть все время в одну точку, развлечь себя каким-нибудь разговором — вот в чем я нуждался! Малинский вернулся в свою комнату за собакой, а я со злостью швырнул на кровать ненужные мне больше заметки и лупу. Увидев меня, бульдог заворчал, но в машине он успокоился и уселся у меня на коленях. Машина тронулась.
— Куда мы направимся? — спросил Малинский. — К морю?
— Лишь бы не в Остию! — воскликнул я.
— А почему?
— Не знаю!
— Там слишком людно? Вы этого боитесь? Но сегодня ведь будни.
— Остию я видел, — сказал я. — Лучше поедем туда, где я еще не был.
— Очень разумное решение, и, кроме того, вы очень разумно поступили, решившись провести день в праздности.
Я не понял. Он пояснил:
— Я вижу, что сегодня вы наплевали на свою библиотеку.
При слове «библиотека» я вздрогнул. Собака начала ворчать. Я со злостью возразил:
— Да нет, я там был. Только ушел раньше обычного.
Малинский снял руку с руля и погладил собаку.
— Вы сегодня очень взволнованы, — отметил он.
— Не спорю, — согласился я.
— У вас неприятности?
На этот вопрос я не ответил. Немного погодя Малинский сказал:
— Мы мало знакомы, но, поверьте, у нас в пансионате все относятся к вам с симпатией. А что касается меня, так я, сверх того, с полным удовольствием окажу вам помощь. Вы всегда можете рассчитывать на мое сочувствие, и я умею хранить тайны.
— Искренне благодарю.
— В таком случае жаль, что вы не хотите мне сказать, что произошло. Но если случились неприятности деликатного свойства, то я, естественно, не настаиваю. Деликатного и, скажем, оскорбительного для вас.
— Меня выставили из библиотеки, — вырвалось у меня. — Вот что случилось. Я не чувствую себя оскорбленным. Я только возмущен. Кому это нужно, кто может быть заинтересован в том, чтобы меня, начинающего ученого, который…
Малинский прервал меня:
— Минуточку. Начнем по порядку. Вам дал рекомендацию для библиотеки адвокат Кампилли. Не правда ли?
— Да.
— Я догадался об этом. Он человек с большими связями в курии. Я не допускаю, чтобы у вас отобрали пропуск, не сообщив ему об этом заранее. Вы должны с ним сейчас же переговорить и выяснить, в чем тут дело.
— Бесцельно, — возразил я.
— А почему?
Тогда я ему объяснил, почему я уверен, что Кампилли ничего тут не сделает. Его заранее обо всем уведомили, а он при встрече со мной словно воды в рот набрал. Значит, не хочет вмешиваться. Вероятно, кому-то, с чьим мнением он считается, не понравилось, что я хожу в библиотеку. Например, прелату Кулеше или другому высокому лицу из среды польской белой эмиграции.
Услышав это, Малинский пожал плечами.
— Чистая фантазия! — иронически заметил он. — Кампилли имеет больше весу, чем десять Кулеш! Я очень хорошо знаю курию и кто как в ней ценится и не бросаю слов на ветер. Могу вас также заверить, что дело не в вашей особе. Кампилли это Кампилли, его рекомендация — своим чередом, но он вас не рекомендовал бы, если бы ваша биография вызывала у него сомнения, да и в библиотеку вас бы не допустили, не проверив, все ли в порядке. У него не было сомнений, библиотека проверила, и примите как абсолютную истину, что тогда вы были чисты, как стеклышко. До сегодняшнего дня или до вчерашнего — безразлично. За эти дни, за это время, вероятно, случилось нечто новое, и отношение к вам сразу изменилось. Вот почему забили отбой. Вот почему поднялась паника. Но что такое? Что это такое?
— На моей совести нет ничего. Я ни в чем не виноват. Ручаюсь вам.
Он поморщился.
— Вы все принимаете на свой счет. А между тем, представьте, что сами по себе вы в порядке, а вокруг вас ведется какая-то темная игра. Я держусь в стороне от курии, так что не знаю, в чем там дело. Но люди, которые стоят к ней ближе, уже что-то почуяли. Это ясно!
Мы въехали в маленький городок. Замусоренный, грязный. Одна улица, другая, третья, площадь. Еще один поворот, и вдруг открывается вид на десятки мачт, белые корпуса кораблей, барки: порт.
— Это Фиумичино, — объяснил Малинский. — Рыбацкий порт и весьма захудалый пляж. Мы можем здесь спокойно побеседовать. Знакомых не встретим.
Он остановил машину возле большой беседки с видом на море. Мы вошли в беседку. Малинский заказал какую-то рыбу и подробно описал мне ее достоинства. К рыбе вино, по его мнению — тоже необыкновенное. Он обстоятельно обсуждал с кельнером все заказанные блюда. Я слушал краем уха. Когда же он закончил разговор с кельнером, вернулся к теме, которую уже частично осветил, и снова сказал, что старается держаться подальше от курии, хотя она фактически его кормит, — я стал слушать внимательней. Оказывается, он помогает благотворительным учреждениям и монашеским орденам обменивать товары, получаемые ими в дар из-за границы, — всякие ненужные предметы роскоши — на разные полезные вещи первой необходимости, а иногда и продавать эти товары, сообразуясь с тем, что в данный момент диктует положение на рынке.
— Помимо этого, я ни во что не вмешиваюсь. Тружусь. Зарабатываю. В течение тридцати лет я был офицером, к старости стал коммивояжером. Как говорится: ничего не поделаешь. К счастью, я несколько лет занимался дипломатией. До войны был советником в Риме. Пришла война, меня прогнали. Потом, когда перестали травить людей моего типа, я после смерти Сикорского вернулся на заграничную работу. На этот раз консульскую. Побывал в разных местах, пока наконец снова не попал в Рим. Благодаря этой службе познакомился с коммерцией. После сорок пятого года пустил в ход свои наличные деньги и знакомства и занялся торговым посредничеством, о котором вам уже говорил. Не сую нос, куда не следует. Не гоняюсь за ватиканскими сплетнями. Склоками не пробавляюсь. Не подглядываю и не подслушиваю. И все же я знаю среду.
— Курию? — спросил я.
— Курию, — подтвердил он.
А потом:
— Вы согласны поговорить со мной откровенно?
— Разумеется!
— Правда ли, что ваш отец был врагом епископа Гожелинского?
— Нет.
— Вы можете это категорически опровергнуть?
— В последнее время они не питали друг к другу симпатии.
— Значит, все-таки?..
— Мне кажется, что враждебность и отсутствие симпатии — вещи совершенно различные. Уверены ли вы, что здесь именно так оценивают отношение моего отца к епископу? Не скажете ли, кто вам это сообщил?
— Я уверен, что говорили о враждебности. О враждебности или ненависти, да, да! А что касается того, кто говорил, то, увы, я должен сохранить тайну. Скажу только, что я слышал об этом в одном монастыре. Даже уточню — в польском. Я как-то сказал, что у нас в «Ванде» остановился симпатичный молодой человек, приезжий из Польши. Там это было известно, речь зашла о вашем отце, и мои собеседники выразили сожаление именно по тому поводу, о котором я говорил.
У меня бешено заколотилось сердце.
— Это и есть, разумеется, источник всех интриг, — прошипел я сквозь зубы. — Монастырь и его сплетни. А между тем, если кто кого ненавидел, если кто кого преследовал, так это епископ моего отца, а вовсе не наоборот! Можете от моего имени сообщить об этом своим монахам!
— Монахиням! — мягко поправил меня Малинский. — Старым добрым женщинам. Тихим и не имеющим никакого голоса в курии. Если они и насплетничали на вашего отца, так только богу в молитвах, прося его смилостивиться. Источник другой!
Теперь я с напряженным вниманием слушал, что он говорит. К сожалению, он отвлекся. Сперва потому, что кельнер подавал вино, салат, рыбу, и каждое новое блюдо Малинский встречал шутливым афоризмом. Затем куда-то запропастился бульдог. Нашелся. Потом нужно было отведать рыбу, пока она горячая. Наконец я не утерпел:
— Но где же первоисточник? Кто? Почему?
— А если предположить, что причина в епископе Гожелинском?
— Ведь он умер! — воскликнул я.
— Но память о нем жива. Разве нельзя предположить, что в курии решили создать культ его памяти и сам по себе этот факт стал помехой на вашем пути?
— Создать культ! — испугался я. — О чем вы говорите?
— Разве не понятно? — возразил он. — Вы, как сын консисториального адвоката, должны в таких вещах разбираться куда лучше, чем я — офицер, консул и коммерсант.
Он заплатил по счету и взял своего бульдога под мышку. Мы сели в машину и поехали в сторону Рима. Его слова душевно парализовали меня. Они меня испугали, хотя им не хватало точности и отчетливой связи. Вопреки его предположениям, я вовсе не был специалистом по церковным делам, однако я был достаточно в них сведущ, чтобы отвергнуть его гипотезу. Это правда, что епископа все уважали. Человек он был упрямый и злопамятный, но, несомненно, порядочный. Допустим, что даже больше того, намного больше, но ничего сверх заурядных достоинств и заурядных добродетелей. Разумеется, если применять к его личности не обычную меру, а такую, какая применима по отношению к священнослужителям и прелатам на руководящих постах. Он был выше своего окружения. Согласен. Против этого нельзя было возражать. Поэтому-то многие люди и считали епископа человеком выдающимся. Я тоже, всякий раз как о нем заходила речь, особенно в Риме, называл его выдающимся. Так мне советовал отец. Впрочем, я и сам не возражал. В моем положении было бы некрасиво принижать достоинства епископа. Но это все! Все!
— Епископ умер в прошлую среду, — в конце концов я заставил себя ответить Малинскому. — Шесть дней тому назад. Я слышал, что в Ватикане решения принимают исподволь, после зрелого размышления. Почему же вдруг такая спешка?
— А кто же говорит о решениях! — вскричал Малинский. — Ничего подобного! Пришло сообщение о смерти. В некоторых монастырях и церквах организовали богослужения. Заупокойные обедни, скажем, более торжественные, чем обычно. Только и всего.
— Но почему же как раз в данном случае более торжественные? — напирал я на него, требуя объяснения. — Ведь для Ватикана такая смерть не в новинку. Масштабы церкви так велики, что в Рим чуть ли не каждый день должны приходить скорбные вести. Вероятно, только очень немногие из них вызывают здесь особый отклик, в таком духе, что могут всерьез возникнуть разговоры о культе.
— Не знаю, — ответил Малинский. — Я вас уже предупредил, что не разбираюсь в этих вопросах. Вы заметили, что к вам стали относиться настороженно: вас выставили из Ватиканской библиотеки; адвокат Кампилли, хоть он и человек влиятельный, не вступился за вас… Услышав об этом непосредственно из ваших уст, я поставил диагноз: вокруг вас ведется игра! Затем я вспомнил, что мне довелось услышать о вашем отце и покойном епископе и какой шум вызвала в Риме его смерть. Сопоставив одно с другим, я предложил диагноз самого общего характера. На этом моя роль кончается.
Я закрыл глаза и раза два потер влажными руками вспотевшее лицо. Чувствовал я себя скверно. Был измучен, разбит. Могу сказать, что в этот прекрасный день с кристально чистым, прохладным воздухом даже физически я чувствовал себя хуже, чем во все последние знойные дни с таким низким давлением, что сердце едва не лопалось. Я старался пересилить себя и поддерживать беседу, но Малинский сказал уже все, что знал, и теперь повторялся. Он выражал сожаление по поводу того, что мы раньше не беседовали, у него ведь с самого начала было такое намерение, и он мне предлагал свою дружбу с первого же дня. Малинский подчеркнул, что мне это было бы полезно. Внимательней прислушиваясь к тому, что говорят в разных кругах и в разной среде, он, к примеру, сегодня намного больше знал бы о деле и, опираясь на более богатую информацию, пришел бы к более веским выводам.
— Подумаем! Подумаем! — твердил он в ответ на мои дальнейшие расспросы. — Подумаем, что все это может означать. Попробуем разузнать. Но вы своим путем тоже ведите розыски. Может быть, ваши дела вовсе не так плохи, как нам кажется. Не знаете ли вы в Риме, помимо Кампилли, какого-нибудь важного солидного человека, с кем вы могли бы откровенно поговорить? И который захотел бы и смог бы вам помочь?
— Я знаю одного влиятельного иезуита, — нерешительно заметил я.
— У каждого здесь найдется такой знакомый, — без энтузиазма встретил мое сообщение Малинский. — Где его резиденция? В их главном штабе на Борго Сан Спирито или в канцеляриях Вилла Мальта?
— Нет. На пьяцца делла Пилотта. В университете.
— Гм! Ну так бегите туда.
Я попросил его остановить машину поблизости от Грегорианы; расставшись с Малинским, купил в первом попавшемся киоске почтовую бумагу и конверты. Затем в баре написал несколько слов священнику де Восу, таких же точно, с какими уже однажды обращался к нему: просил о встрече и предупреждал, что позвоню на следующий день с самого утра — справлюсь, может ли он меня принять и когда. Потом я отнес письмо. К обеду в «Ванду» я не поехал. У меня не хватило сил. Впрочем, после рыбы в Фиумичино я не был голоден. Я выпил только кофе. А потом направился вниз, в сторону Колизея. Затем по лестнице — к Эксвилину. Здесь, в садах, провел несколько часов, бродя среди руин и памятников древности. Наконец я успокоился и за ужином в «Ванде» уже запросто принимал участие в общем разговоре. Когда же я очутился в комнате один, нахлынула новая волна раздражения и горечи. Однако я еще раз пересилил себя. Ведь Малинский мог ошибаться. Его уравнение в значительной мере строилось на неизвестных. Необязательно все из них идут вразрез с моими интересами. Следовало крепко взять себя в руки и, пока еще полностью не сдаваясь, дождаться разговора со священником де Восом. Я твердил это про себя, твердил до тех пор, пока наконец под утро, бог знает в котором часу, не заснул.
XIX
Тяжелые, железные двери. В верхней их части массивные кованые решетки с причудливым орнаментом защищают толстые пласты стекла. Ручка двери похожа на кирпич — большая и неуклюжая. Нажимаю ее и тяну уже в третий раз. Раньше она легче поддавалась. Упираюсь ногами и дергаю. Я знаю, что должен вести себя спокойно, и не могу. Полчаса назад я позвонил священнику де Восу. Тихим голосом, лишенным всяких интонаций, он сообщил, что может меня сейчас принять. Звонил я без всякой уверенности, сомневаясь, согласится ли он, а если согласится, то не станет ли откладывать встречу. Услышав, что он согласен, я поблагодарил его. Во время разговора крепко прижимал трубку к уху.
— Благодарю, от всего сердца благодарю, — повторял я.
Его молчание длилось одну, две, пять, десять секунд. Потом:
— Итак, я жду.
Выбегаю из пансионата. Минуту спустя я уже на площади Вилла Фьорелли. Автобус уходит у меня из-под носа. Мчусь на площадь Рагуза к стоянке такси. Нет ни одной машины. Поворачиваю назад. Наконец что-то едет. Троллейбус. Вскакиваю. Возле Главного вокзала спрыгиваю. Ловлю такси. Взбегаю по парадной полукруглой лестнице перед входом в Грегориану. Пытаюсь открыть эти двери. Наконец они уступают. Вестибюль. Направо дежурная комната, где сидят два молодых иезуита: один — у коммутатора, другой выдает справки. Я вижу его. Он — меня. Мы здороваемся. Я подхожу.
— К отцу де Восу? — спрашивает он.
Я утвердительно киваю головой.
— Он уже ждет вас.
Я направляюсь к лифту.
— Нет. Он ждет вас в приемной. Пожалуйте за мной.
Я сжимаю в руке карманный календарь со списком вопросов, которые нужно задать священнику де Восу. Я собирался еще раз их просмотреть по дороге. Теперь уже поздно. Главное: как можно меньше говорить самому, слушать. Я про себя повторяю это условие, хотя и знаю, что оно совершенно нереальное. Ведь известно, что священник де Вос неразговорчив, а я от волнения становлюсь болтливым. Молодой иезуит отворяет небольшую белую дверь в конце коридора. Значит, меня ведут в какую-то другую приемную, не в ту, что раньше. Вхожу. Комната другая, но мне сразу бьет в нос прежний, знакомый уже, запах пыли и дезинфекции. Священник де Вос сидит посредине комнаты за маленьким столиком, оперев на него руки, сложенные словно для молитвы. Он не встает. Не здоровается. Не поворачивает головы. Указывает мне стул с противоположной стороны столика. Он держится так, словно нам предстоит вернуться к прерванному разговору, с той лишь разницей, что мы перешли в другое помещение.
— Слава господу нашему, — говорю я.
— У вас неприятности.
Это не вопрос, а утверждение.
— Да. Вы уже о них слышали? В Ватиканской библиотеке…
Он остановил меня движением руки.
— Об этом я тоже слышал.
— И о чем еще?
— И о том, что, конечно, внушает вам наибольшее беспокойство.
— Значит, вам известно, что в курии внезапно решили превратить моего отца из пострадавшего в агрессора!
Я снова увидел перед собой маленькую, худую руку де Воса. Рука дрогнула — это означало, что он возражает против моей формулировки. Но опровергать ее он не стал.
— Вот как! — воскликнул я. — Значит, это верно, что таким образом восстанавливают общественное мнение против моего отца!
— В вас говорит горечь, — сказал священник де Вос.
— А что же иное должно говорить, — с раздражением ответил я. — Я в курсе дела, хорошо знаю обоих противников — и моего отца и епископа. Я приехал сюда, в Рим, полный надежды. Приехал, воодушевленный мыслью, что тому злоупотреблению властью, какое допустил епископ в отношении моего отца, будет положен конец. Как можно тактичнее, как можно деликатнее — согласен, но все-таки в соответствии с правом и справедливостью. А между тем ничего из этого не получилось! И вдобавок еще мои хлопоты обернулись во вред отцу!
— Ваши хлопоты не имели и не имеют ни малейшего влияния на то, как складывается ситуация. Они не принесли плодов. Это не подлежит сомнению, как не может подлежать сомнению и то, что они не принесли плодов потому, что никто теперь в курии не решит ни одного вопроса, к которому причастен священной памяти епископ Гожелинский, не в его пользу. А все по той причине, что образ усопшего, выдающегося князя церкви, растет на глазах. В данных условиях вы должны с этим примириться! Никому не удастся прийти вам на помощь.
— Я хочу понять, — прошептал я. — Если я не в состоянии помочь моему отцу, то, по крайней мере, хочу объяснить ему, почему так получилось. Но я и этого не смогу сделать. Потому что я не понимаю! Не понимаю!
— Такой простой вещи? — удивленно спросил де Вос после затянувшейся паузы. Видимо, не вполне она была проста, если он так долго размышлял, прежде чем ответил: — Ведь мертвые живут!
— Живут! Живут! — жестко возразил я. — Живут, когда их оживляют! Я хорошо знал епископа Гожелинского. Коль скоро сегодня его «образ растет», как вы говорите, и к тому же так вот сразу, так быстро, то происходит это не в силу его собственной святости, а по воле людей, которые это затеяли.
Священник де Вос нахмурился и повторил:
— В вас говорит горечь. Напомню вам, однако: когда мы в первый раз беседовали о покойном, вы иначе о нем отзывались. Разве вы не сказали, что он ведет жизнь святого?
— Признаюсь! — воскликнул я. — И отнюдь не собираюсь оспаривать того, что он был чистый, достойный уважения человек. Среди духовенства таких очень много. И поэтому, по моему глубочайшему убеждению, одних хороших качеств епископа Гожелинского не хватило бы для того, чтобы так отличить его, как это делают теперь в Риме. Значит, ясно, что кому-то это выгодно! Кто-то в этом заинтересован!
— Может быть, церковь, — прошептал де Вос. — Вы произнесли некрасивое слово. Вы сказали: затеяли. Вы повторяете инсинуации: кому-то, кто-то. Такими выражениями вы еще больше себя взвинчиваете. Зачем? Слова ваши неуместны и звучат фальшиво. Произошло событие, которое смешало расчеты — ваши и вашего отца. Вас оно возмущает, вы подозреваете злой умысел и корыстные интересы. Неужели вам ни разу не пришло в голову, что природа этого события может оказаться неземной?
Я раздраженно ответил:
— Не верю и никогда не поверю в святость епископа Гожелинского.
— А если церковь ее признает, вы и тогда будете отрицать? — спросил он.
Я больше не владел собой; забыв о предостережениях отца, о правилах тактики и даже о простой вежливости, я повысил голос:
— Но это же бессмыслица!
— Или, совсем наоборот, полно глубокого смысла, сын мой. Ведь часто мудрость, которую мы не понимаем, кажется нам глупостью. Смирение, смирение, сын мой. Вам нужны смирение и воля, самая искренняя, добрая воля, чтобы понять непонятные вам вещи, которые вы должны, даже обязаны понять, если действительно, несмотря на неудачу, хотите морально поддержать отца, правильно осветив истинные причины постигшей его неудачи.
— Да, — сказал я. — Ничего другого мне не осталось.
Мне было бы куда легче, если бы минуту назад, чуть ли не крича от возбуждения, я вскочил бы и убежал прочь от того места, где мне вполне официально сообщили о поражении и где мне больше нечего было делать, разве что еще час или два переливать из пустого в порожнее. Но я не убежал. Я остался из уважения к священнику де Восу. Меня не интересовало, что он мне скажет. А в моем взволнованном состоянии я определенно не годился для роли человека, оказывающего другому ту моральную поддержку, о которой упомянул де Вос. Да и пререкаться с ним было бы так же нелепо, как пререкаться с почтальоном из-за того, что доставленное им письмо содержит дурные вести. И все-таки я не двинулся с места. Я не смог. Именно из уважения к отцу де Восу. Я хорошо понимал, что ему тоже невесело. Не мог я забыть и того, что вначале, когда это было возможно, он обещал мне помочь. И даже еще сегодня принял меня, не откладывая неприятной для него встречи.
— Я жду. Жду этой моральной поддержки, — сказал я, стиснув зубы.
Священник еще ниже опустил голову. Некоторое время он сидел неподвижно и молчал, прижимая сплетенные руки к столику, разделявшему нас. То ли он размышлял, то ли молился, то ли собирался с духом — не знаю. Пожалуй, верно последнее! Вне сомнения, он тоже охотнее всего ушел бы отсюда, он не привык, чтобы такие люди, как я, незначительные люди, которых не пускают дальше приемной, возражали ему и к тому же крикливо, саркастически. Но вот его маленькая, красиво вылепленная голова состриженными по-немецки седыми волосами шевельнулась. Сперва вправо, потом влево. Он несколько раз повертел ею, глубоко втягивая в себя воздух.
— Нет, нет, нет, — услышал я наконец. — В таком настроении вам не следует внимать моим словам.
Я прикоснулся к его рукам, лежавшим на столе. Я хотел их пожать, но он их отдернул.
— Простите меня, пожалуйста, — сказал я. — Тон мой был неуместный. Но ведь вы понимаете, что со мной происходит. Я знаю, что вы не такой, как все прочие здесь. И еще раз прошу простить меня, поскольку я в обиде не на вас, а только на курию.
Священник де Вос выпрямился.
— Я ее частица. А теперь выслушайте меня спокойно. Не прерывайте меня. Вы курите? Если да, пожалуйста, курите. Здесь можно.
Итак, я закурил, крепко прижимая сигарету к губам. Голову я повернул в сторону, уставившись в одну точку на полу, в один черный квадрат отполированной каменной шахматной доски. Мне казалось, что в такой позе мне легче будет соблюсти приличия, вяло, не протестуя, принять все разъяснения, без дальнейших ненужных возгласов выслушать до конца его выводы, хотя бы и самые казуистические. Пусть говорит, пусть выскажется, выболтается! У него есть на это право. Я от всего сердца наделю его этим правом в обмен за проявленную ко мне доброжелательность. Без возражений все проглочу. И даже более того: пообещаю передать отцу все, что услышу. Но что касается лично меня, то никакая аргументация не убедит меня, поскольку мне известна ее цель, она должна обосновать неприемлемый для меня исход. Я докурил сигарету. Достал из пачки другую. Все это время священник де Вос говорил. Разумеется, по-итальянски. Но по мере того как его рассуждения затягивались и усложнялись, в его итальянской речи все заметнее пробивался северный, голландский акцент. Иногда я даже с трудом понимал его. Правда, только изредка, некоторые фразы. Зато мало-помалу мне становилось все более ясной его основная идея. Он старательно, подробно развивал ее минут пятнадцать, а может, и двадцать. Сводилась она, собственно говоря, к тому же, что высказывал прелат Кулеша в воскресенье за чаем у пани Рогульской: церковь уже много-много лет горячо ищет великую святую фигуру, фигуру-символ, символ мученичества и борьбы с той силой, которая в наши дни воплощает основное заблуждение эпохи и является главным врагом бога на земле.
— Великой тоске по идеальному образу, — говорил он, — нужна ось, вокруг которой она могла бы кристаллизоваться. Она лихорадочно пульсирует кровью и огнем в сердцах верующих, в сердцах миллионов, миллионов людей, любящих религию. Это не выдумка курии и не чей-либо — если пользоваться вашим ужасным выражением — злой умысел. Это мистический зов неисчислимой массы человеческих душ, зов, на который может откликнуться одно лишь небо.
Он замолчал и после паузы спросил:
— Теперь вы все поняли? Если нет, спрашивайте, пожалуйста.
— А если небо еще не откликнулось? — начал я размышлять вслух. — Откуда можно знать, что это действительно отклик неба?
— Да, это пока еще неизвестно. Вы знаете, что процедура в вопросах канонизации или причисления к лику святых тянется годами. Таким образом, теперь можно говорить только о некоем первом порыве. О первом предчувствии.
— Предчувствие может оказаться ошибочным!
— Может. Но если оно не окажется ошибочным, то, как вы думаете, ваш отец ему подчинится?
— Епископ ненавидел моего отца, — напомнил я де Восу. — Как же отцу уверовать в святость епископа, от которого он видел только ненависть?
— А вы не думаете, что покойный ненавидел не вашего отца, а то зло, которое в нем заключено? И разве вам не кажется, что в таком случае отец ваш должен поступить так, как поступила бы церковь, то есть отнестись с уважением к этой ненависти и склонить перед ней главу?
— Не знаю, как поступит мой отец, — ответил я. — Во всяком случае, если он и проглотит горькую пилюлю, отнесется к ненависти епископа с уважением, как вы говорите, это не окажет никакого влияния на дело, ради которого я приехал.
— Никакого, — подтвердил священник де Вос. — Если образ покойного и дальше будет расти, то все более плотная тень начнет окутывать вашего отца. На годы.
— До конца жизни, — сказал я.
— Да. Я знаю это. Искренне о том скорблю. Я люблю вашего отца, как и всех моих учеников. Я искренне стремился оказать ему помощь. Меня лишили такой возможности. Надо нам, однако, с этим примириться, и мне надо, и вашему отцу.
— Вам-то легко. Для вас это только неприятный инцидент.
— Нет, это тернии! Не первые. Не последние.
Взгляды наши встретились. Ненадолго. На несколько секунд. Единственный раз в ходе всего разговора. Во время предыдущих бесед он если и глядел мне в глаза, то лишь мимолетно и словно по рассеянности. Сегодня же это был иной взгляд — тоже быстрый, но явно умышленный. Я прочел в его глазах, что у него на самом деле тяжело на душе.
— И, значит, больше ничего, ничего не удастся сделать, — прошептал я.
— Я так полагаю.
— Нет таких дверей, в которые я мог бы постучаться? К монсиньору Риго мне, пожалуй, не стоит снова обращаться…
— Безусловно.
— Но, может быть, существует еще кто-то, кто…
Он прервал меня:
— Кто, где, через кого?
И развел руками.
— С нашей помощью, то есть через синьора Кампилли и через меня, ничего уже здесь не сделаешь. А кроме нас, у вас нет никого…
— Но я спрашиваю: стоит ли? Вообще стоит ли еще пытаться?
— Скитаться здесь еще месяц, два, пять, год, чтобы вернуться к исходной точке? Вы должны сами ответить себе на вопрос: стоит ли? Курия — это лабиринт. Механизм с сотней, с тысячей неизвестных. Я ведь не один размышлял о вашем деле. Я советовался. Приглашая вас сегодня к себе, я знал, что перед нами возникнет дилемма, важнейшая для вас в данный момент: пробовать ли еще или уже возвращаться? И я продумал мой ответ. На вашем месте я вернулся бы. Но это не совет; таково лишь мое мнение. Если вы, однако, его разделите и покинете Рим, вы покинете его на собственную ответственность. По собственному решению, никем не принуждаемый.
— Спасибо. Понимаю. Ну, я пойду.
Но все-таки еще несколько минут я не двигался с места. Я молчал. Священник молчал. Ждал, пока я успокоюсь. Наконец я встал и крепко пожал худую, сухонькую руку священника. Мне очень искренне хотелось его поблагодарить за проявленную ко мне добрую волю. Но я не знал как. Поэтому я только низко поклонился.
— Я знаю, что ничего не могу, — прошептал священник. — И не обманываю вас насчет каких-то моих возможностей. Если, однако, у вас будет тяжело на душе, прошу помнить, что есть в Риме старый, преданный вам священник. Я говорю это на тот случай, если вы останетесь.
— Не думаю, — ответил я.
XX
После обеда я рассказал Малинскому о моей беседе со священником де Восом. Я начал с того, что дальнейшее мое пребывание в Риме считаю теперь бесцельным. И под конец вернулся к первоначальному тезису. Но я еще не принял окончательного решения. При мысли об отъезде из Рима мне становилось тошно. И в особенности при мысли о том, что, например, завтра или послезавтра нужно зайти в какое-нибудь бюро путешествий и прокомпостировать обратный билет до Кракова на определенный день. Однако надо это сделать. И к тому же сразу, как можно быстрее. Если действительно ничего нельзя добиться, надо отсюда удирать. Сидеть сложа руки в комнате или бродить по городу, утратившему для меня свой вкус и цвет, было бы невыносимо, мучительно. Все это я сказал Малинскому. Он терпеливо выслушал. Не прерывал. Не утешал. Не старался поддержать мой дух, уверяя, будто еще не все потеряно. Я был ему искренне за это признателен. Под конец разговора я добавил еще фразу о том, что сохраню о нем благодарную память.
— Обо мне? — удивился он. — А нельзя ли узнать почему?
— Вы мне раскрыли глаза, — ответил я.
— Неужели? По-моему, это сделал не я, а священник де Вос.
— Вы мне посоветовали еще раз к нему пойти. И оказалось, что это единственный разумный поступок, который я мог сделать. Разговор с де Восом положил конец делу. А то бы я еще много недель слонялся по Риму, как идиот.
Я встал. Мы пожали друг другу руки. В дверях Малинский задержал меня еще на минутку.
— Вы едете прямо в Краков или с остановками в пути?
— Не знаю. Не думал об этом.
— А не прокатиться ли вам со мной на машине в Болонью? Я еду послезавтра.
— Ох нет! — вздохнул я.
Внезапно все во мне восстало против его проекта. Против того, чтобы уже сегодня принять решение, чтобы уже сегодня назначить срок отъезда. Конечно, нужно было ехать. Но какая-то сила внутри меня еще противилась тому, чтобы сразу, теперь же, назначить день. Малинский затащил меня назад в комнату.
— Кажется, — сказал он, — вы намерены продолжать свои попытки.
— Нет. Даю вам слово, я и не собираюсь.
— Даже даете слово! — засмеялся Малинский. — Искренне говоря, я бы больше не пытался. Но это не значит, что новые попытки совершенно лишены смысла.
— К сожалению, отец де Вос ясно дал мне понять, чтоб я не обольщался никакими иллюзиями.
— Ничего подобного! Он вам сказал — по крайней мере, это вытекает из того, что вы мне передали, — что через него и через Кампилли, как и через других видных деятелей университета или юристов, вы ничего не добьетесь. Но одновременно он подтвердил, что существуют разные другие двери и вам вольно решать, хотите ли вы туда стучаться или не хотите.
Он пододвинул ко мне кресло, то самое, с которого я только что встал, когда мы начали прощаться.
— Я вас отнюдь не уговариваю, — сказал он. — Но если позднее, вернувшись в Польшу, вы будете упрекать себя, что не использовали какие-то шансы, то лучше, пока есть возможность, еще раз попытайте счастья. Тем более что вы ничем не рискуете.
Затем он перешел к подробностям.
— Я вам сказал вчера, что в Риме каждый человек имеет доступ к какому-нибудь влиятельному иезуиту. Я тоже. Даже к двум. К счастью, это фигуры не такого масштаба, как ваш священник де Вос. К счастью, потому что не являются светилами, к которым приковано всеобщее внимание. Так вот, к счастью, мои иезуиты иной формации. Стало быть, их не смутит, что де Вос уже поставил на вас крест. Их это ни к чему не обязывает. Они люди иного типа. Что вы скажете? Вас это интересует?
Я утвердительно кивнул головой, после чего добавил:
— Лишь бы этот тип не оказался слишком… — я не сразу нашел подходящее определение и наконец шепотом произнес: — скользким.
Малинский понял и иронически засмеялся.
— Ни в коем случае. Всякие скользкие типы в курии — не моя специальность. А даже если бы это было иначе, я никогда не позволил бы себе шутить с человеком в вашем положении. Ведь вы безусловно согласитесь, что только в порядке дурацкой шутки я решился бы направить к таким типам человека — простите меня, — столь оторванного от практической жизни, как вы.
Я его обидел! Надо было объясниться.
— Извините, — сказал я. — Но вы так загадочно выразились. Вы говорите: «иной тип», «иной формации», не давая им точного определения. Отсюда мое предположение.
— Ничего. «Иной» означает попросту: конкретный. А иной формации — значит также, что они твердо ступают ногами по земле. Без всякой мистики или тому подобных абстракций. Даже скажу грубее — они корыстны: если мои священники — не один, так другой — усмотрят в вашем деле хоть какие-нибудь выгоды, то сразу его уладят. Только вы опять-таки не вздумайте их заподозрить в материальной корысти. Например, будто им нужны взятки или уж не знаю, что еще вам может взбрести в голову!
Он все еще был раздражен. Тогда я ему объяснил, почему не надо обращать внимания на мои необдуманные слова.
— Разговор со священником де Восом вывел меня из равновесия. Надеюсь, вам это понятно. Я мог сморозить какую-нибудь глупость. Не правда ли? Забудьте об этом, и давайте перейдем к делу.
Он протянул руку и положил ее мне на плечо.
— Хорошо. Перехожу. Теперь, пожалуйста, подумайте, а вечером зайдите ко мне. Или даже завтра утром. Во всяком случае, так, чтобы я до отъезда в Болонью успел предупредить ваших предполагаемых собеседников, что вы к ним явитесь. Разумеется, в том случае, если вас заинтересуют мои предложения.
Я постучался к нему час спустя. Он был прав. Следовало все испробовать. Пусть и без веры, даже без той скромной, глубоко запрятанной веры, с какой я вошел в первый раз к священнику де Восу и к монсиньору Риго. Но — следовало. Следовало покинуть Рим, только исчерпав все возможности, не раньше того. Я так и сказал Малинскому. Он как раз собирался ехать в город. Вернувшись, он сообщил мне, что переговорил по телефону со своим знакомым из генеральной курии Общества иезуитов на Борго Сан Спирито священником Дуччи, и тот, узнав, что я приезжий, согласился принять меня вне очереди.
— Мы должны у него быть ровно в половине девятого, — закончил Малинский.
Однако на следующий день священник Дуччи заставил нас долго ждать. У него был секретарь. Приемная. Просторная, как в большой конторе. В приемной полно посетителей. Толчея. Непрерывное движение. Телефонные звонки. Быстрый темп. Секретарь, тоже священник, то и дело появлялся в дверях. Все присутствующие устремлялись к нему; движением руки или легким наклоном головы он вызывал к своему шефу очередного просителя, и часто тот сразу же возвращался на прежнее место, так как звонила междугородная и начинались долгие разговоры по телефону. В приемной — мягкие, удобные стулья и кресла, только их слишком мало. Сперва я вставал всякий раз, как кому-нибудь из ожидающих, монаху или священнику, — впрочем, сюда приходили преимущественно такие посетители, — негде было сесть. Но Малинский меня удерживал. Наконец, после очередной моей попытки, он рассердился и прошептал:
— Зачем? Сидите спокойно. В эти часы здесь бывает только очень скромная клиентура.
Как раз тогда-то и подошел к нам секретарь.
— Священник Дуччи просит извинить его за задержку и приглашает к себе.
Мы вошли. Прекрасная, светлая, большая комната; красное дерево. Священник — среднего роста, красивый, молодой. Глаза голубые, острые. Взгляд проницательный, устремленный прямо на вас, не такой уклончивый, как у де Воса. Голос звучный, приятный, решительный и вместе с тем словно снисходительный.
— Никаких телефонных звонков. Абсолютно. Пока не побеседую с господами.
Но едва он отдал это распоряжение, раздался звонок. Долгий разговор. Потом еще один, потом другой. Так что приказ приказом — вернее всего, только из любезности к нам, — а звонки звонками. Наконец минута спокойствия. Легкий наклон головы в направлении ко мне и поощрительное движение руки. Наклон и жест те же, что и у секретаря, который, видимо, перенял их от своего шефа. Я откашлялся. А заговорил Малинский. Я не очень хорошо изъясняюсь по-итальянски — объяснил он, вот почему слово берет он, а не я. Это был предлог. А самая идея правильная. Потому что я никогда не смог бы решиться так кратко изложить дело, подведя ему итог без длительной аргументации. Поначалу его речь показалась мне слишком лапидарной. Я вмешивался, пытаясь добавить какую-то подробность. Но Малинский так же решительно, как недавно в приемной, осадил меня.
— Спокойно, — сказал он. — Я вчера уже говорил об этом священнику.
Когда Малинский замолчал, священник Дуччи снова подарил мне характерный для него и заразительный для его подчиненного жест — наклонил голову и взмахнул рукой. Затем перешел к вопросам:
— Ваш отец, разумеется, превосходно владеет латынью. И устной и письменной.
— Он окончил «Аполлинаре».
— Знаю. Но это было тридцать лет назад. Он не утратил беглости?
— О нет. Отец свободно говорит по-латыни и даже выступает с речами.
— А по-английски?
— Не так, как по-латыни или по-итальянски. Но этот язык он тоже хорошо знает.
Священник внимательно слушал мои ответы. Вопросы задавал отчетливо. Не торопясь. Но и без пауз. Следующая серия вопросов касалась темы, которой интересовался также и де Вос: физическое состояние отца. Теперь я сказал правду.
— Значит, он не приехал в Рим только потому, что не хотел толкаться в прихожих?
— Не очень это приятно, — прошептал я. — Во всяком случае, уверяю вас, что состояние здоровья моего отца вполне хорошее.
— А может быть, известную роль здесь сыграл вопрос о паспорте? Может быть, вам легче было получить паспорт, чем вашему отцу?
— Нет, — возразил я, — ему получить паспорт совершенно так же легко или трудно, как и мне.
— Значит, ваш отец в любой момент может выехать из Польши?
— Не в любой момент, но, разумеется, может.
Зазвонил телефон. Священник Дуччи протянул руку. Не к трубке, а к звонку. В дверях появился секретарь. Священник Дуччи быстро, резко сказал:
— Меня нет. Договорились. Ни для кого! — Потом обратился ко мне. — В таком случае, — сказал он, — я предлагаю следующее решение: наше общество возьмет дело вашего отца в свои руки. Ваш отец на три года покинет Торунь. Получит кафедру церковного права в указанном нами университете. Наше общество в последнее время основало несколько высших учебных заведений на территории бывших колониальных стран. Профессоров для этих университетов мы охотнее всего подбираем из представителей народов, не имеющих колонизаторского прошлого. До отъезда вашего отца из Торуни мы, разумеется, полностью уладим конфликт между ним и курией. Он уедет из Торуни, получив полное удовлетворение. А три года спустя даже сможет вернуться в свою канцелярию и к своим консисториальным обязанностям и делам.
Я развел руками. Не обратив внимания на мой жест, священник Дуччи спросил:
— Вы уполномочены принять решение за отца?
— Это вещь невозможная, — воскликнул я.
— Ну, тогда постарайтесь как можно быстрее связаться с ним.
— Невозможно! Невозможно! — повторил я. — Мой отец никогда не согласится на такую сделку!
— А почему?
— У моего отца ничего нет на совести. Зачем же ему обрекать себя на изгнание? На новую несправедливость!
Сдавленным голосом я выдавил из себя еще несколько фраз на эту тему. А вернее, одну, только в нескольких вариантах. Я не мог вырваться из заколдованного круга и упрямо повторял столь ясную для меня мысль: отец должен получить удовлетворение без всяких уступок с его стороны, потому что санкции епископа Гожелинского по отношению к нему были необоснованны. После недолгого колебания священник Дуччи положил конец моим рассуждениям:
— Хорошо, согласен, совершена несправедливость. Могу также заверить вас, что раньше или позже Рим ее исправит. Рим не обидит вашего отца. Но что с того! Время его обидит. Годы неуверенности и ожидания. Вот почему прошу вас еще подумать.
После этих слов мы ушли; кажется, Малинский дал сигнал к отступлению. А может быть, священника снова вызвала междугородная, и звонок, видимо, был важный, если секретарь, невзирая на формальное запрещение, подозвал своего шефа к аппарату. Не помню. На улице я немножко остыл. В разговоре со священником я отверг его план из принципиальных соображений. Я знал, что план Дуччи неприемлем для отца. Даже если бы ему предложили покинуть Торунь на самых почетных условиях, он считал бы себя оскорбленным. Я не сомневался в том, что в курии найдутся длинные языки, и в Торуни сразу обо всем станет известно. Иными словами, все узнают, что запрещение, наложенное покойным епископом, снято, но с известными оговорками. Пока я сидел у священника Дуччи, соображения эти проносились в моей голове сплошным потоком, теперь они возникали раздельно и в результате стали еще более четкими и убедительными.
В машине короткий разговор с Малинским. Он не понимает моей позиции. Уговаривает подумать, обсудить, дать телеграмму отцу. Подозревает, будто я что-то скрываю. Например, что я отказался от предложения Дуччи потому, что меня тревожит физическое состояние отца и вызывают опасения климат, санитарные условия, болезни, которые легко могут обрушиться на пожилого человека, не подготовленного к жизни в колониях. Спрашивает, сколько лет отцу.
— Шестьдесят, — говорю я.
— О, значит, он даже немного старше меня!
Потом он интересуется тем, какого отец сложения, крепкого или слабого.
— Примерно как я, — отвечаю я.
— В таком случае действительно надо подумать о чем-то другом.
Мы расстаемся сразу за Тибром.
— Остановитесь здесь, пожалуйста, — говорю я.
— А что тут такое? — спрашивает он.
Я указываю рукой на вывеску, которую только что заметил. Малинский читает.
— Ах, бюро путешествий! — И наставительно добавляет: — Для этого у вас еще есть время.
Однако мы прощаемся, я благодарю его и остаюсь один.
XXI
Еще один визит. Уже последний! На этот раз на Вилла Мальта. Огромный дворец стоит в саду, примыкающему к парку Боргезе. Во дворце помещается много учреждений, подведомственных Обществу Иисуса. Разные редакции, комиссии, комитеты. С четверть часа я блуждал по этажам и коридорам, прежде чем разыскал священника Мироса, к которому меня направил Малинский. Наконец нашел его в небольшой, почти пустой комнате. Нависшие брови, крупный нос, очки в тонкой золотой оправе. Возраст определить трудно: с одинаковым успехом ему можно дать и тридцать лет, и шестьдесят. Улыбающийся, любезный. Если он грек, то, во всяком случае, давно живет в Риме. Безупречная итальянская речь. Без акцента. Быть может, он попросту итальянец греческого происхождения. Я рассказал ему свою историю. Я уже научился ее излагать. По возможности кратко и, что важнее всего, выделяя только существенные обстоятельства. Священник поглядывал в окно, в парк. Время от времени он закрывал глаза, и лицо его приобретало сосредоточенное выражение, а иногда, в такт моим словам, он слегка покачивал головой, как бы подчеркивая этим, что прекрасно все понимает. Когда я кончил, он сказал:
— Не будем строить иллюзий. Дело не из легких. Я слышал от нашего общего друга, Малинского, что вы решили покинуть Рим. Это очень нехорошо! Les absents ont toujours tort, что значит: отсутствующие всегда не правы.
Я возразил. Мое дело по характеру своему было не из тех, которые следует подталкивать. Просто оно приняло дурной оборот. Что изменится оттого, что я буду торчать в Риме и ждать? Время тут ни при чем. Помочь моему делу может исключительно акт доброй воли, решение восстановить правду. Вот и все, чего я добивался, и как раз теперь в последний раз пытаюсь добиться. А сидеть здесь? Зачем? Что еще я могу здесь сделать?
— Ничего. Быть на месте! — вернулся к предыдущей мысли священник Мирос. — Держать руку на пульсе.
Некоторое время мы оба молчали. Нарушил молчание священник.
— Я корю себя, — сказал он, — за то, что дал согласие на нашу встречу и тем самым ввел вас в заблуждение, пробудил в вашем сердце надежду. Выходит, что не следовало вас приглашать. Обманывать ближних не только жестоко, но и грешно. И все-таки, быть может, грех этот мне простится, потому что мной руководило важное соображение. Вы приезжаете к нам из стран, по существу, так мало нам знакомых. Мы плохо в них разбираемся. Теряемся в массе документов, которые прибывают от вас, тонем в потоке материалов, которые вас касаются.
По мере того как он говорил, голос его смягчался, а фразы становились все более внятными и точными. Я понимал, что мысль эта запала ему в душу и тревожит его не первый день. То и дело с уст его срывались политические или научные термины, с которыми я давно освоился, поскольку у нас, в Польше, они вошли в повседневный обиход; здесь, однако, странно их было слышать. Мне даже показалось на какое-то мгновение, что священник ими щеголяет. Нет, совсем наоборот! Поразив меня целой гаммой научно-политических терминов, он стал жаловаться, что путается в них, не ухватывает во всем объеме их значение.
— От этого в равной мере страдаю и я сам, — добавил отец Мирос, — и все мои сотрудники. — Впрочем, это не самое худшее, — продолжал он. — Я имею в виду, что такой беде еще можно помочь. Хуже всего то, что за терминологическими или лексическими изменениями скрываются и другие изменения. Они совершаются в ваших душах и в вашем разуме! В вашем обществе. В комиссии, которой я руковожу, мы изучаем все: вашу прессу, литературу, научные публикации, специально для нас подготовленные отчеты, разработки. Но нам не хватает ключа.
Я предположил, что все сказанное до сих пор было вступлением к долгому разговору о положении в нашей стране.
— Пожалуйста, — сказал я, — если мои разъяснения могут вам пригодиться, я к вашим услугам. Однако попрошу вас задавать конкретные вопросы.
— Да нет же! — воскликнул священник. — Меня интересует не случайный обмен мыслями, а принципиальная постановка вопроса. Судьба нам посылает вас. Человека, выросшего в вашей атмосфере. И вместе с тем человека науки, интеллектуалиста. Скажу больше: судя по характеристике Малинского, вы человек беспристрастный, здравомыслящий. Благодаря этому, благодаря всему этому ваша помощь была бы для нас бесценной. Здесь, в Риме. На месте.
— Но ведь я возвращаюсь домой!
— Значит, не надо возвращаться.
И добавил:
— Мы вас устроим.
— Но меня это не устраивает!
— Можно спросить почему? Разве жизнь в Риме для вас недостаточно заманчива?
— В Польше я занимаюсь научной работой.
— Будете здесь заниматься научной работой.
— То, что вы предлагаете, не научная работа.
— А что же особенное я вам предложил?
Я покраснел.
— То, что вы мне предложили!
Тогда он спокойно спросил:
— А почему вы не хотите это делать?
Я ответил нервно:
— Да разве я знаю! Не хочется, и конец.
Священник снова устремил взор к окну. Вдоволь насмотревшись, он возобновил прерванный разговор.
— Не спорю, — сказал он, — что занятие, которое я вам предлагаю, находится на известном рубеже… Полагаю, однако, что та область, в которой действуем мы, я и моя комиссия, не должна ни у кого вызывать рефлексов самозащиты. В особенности же та роль, которую я для вас отвел. Роль интерпретатора. Попросту сотрудника, разъясняющего нам как материалы, так и факты.
Тут я попытался вставить слово. Он помешал мне.
— Еще одно, — продолжал он. — Не думайте, что вы столкнулись с человеком, консервативно настроенным. Мне близки многие ваши идеалы. Признаю также, что в понимании общественных тенденций церковь допустила ошибки. Значит, мы найдем общий язык. Да и цели наши и средства, если вы решитесь в них вникнуть, окажутся близкими вам. Я в этом тоже уверен. Мы не куем в нашей комиссии никаких орудий борьбы. Не стремимся раздувать конфликты. Мы ищем правду. Хотим изучить вашу действительность. Действительность эта является фактом, образует новый компонент мира. Мы это поняли и хотим извлечь отсюда окончательные выводы. Но прежде чем к этому приступить, нам надо выяснить многие детали, осмыслить свершившиеся перемены — и в первую очередь те процессы, которые происходят на территории чисто католических стран, таких, как ваша. От должного объективного анализа явлений зависит будущее всего лучшего, что есть в человечестве.
Мирос умолк. Я думал, что он хочет перевести дух. Нет. Теперь он ждал, что я отвечу. Не желая обидеть Мироса, потому что в его рассуждениях звучали искренние ноты, я подхватил взятый им тон и начал ему поддакивать. Щеки священника покрылись легким румянцем. Однако, когда ему стало ясно, что, несмотря ни на что, я не согласен с его планом, он поднял брови, так и застыв с выражением удивления и неудовольствия на лице. Анализ, конечно, нужен, только я дал ему понять, к чему у меня не лежит душа. Ведь те доклады и материалы, о которых он говорил, следовало — как он сам признал — организовать. Их нужно заказывать. Прямо или косвенно воздействовать, чтобы у нас искали людей, которые будут их составлять.
Голова священника Мироса снова пришла в движение. Он отрицательно помотал ею.
— По этой части вам ничего не придется делать, — сказал он.
— Нет, право, не могу, — повторил я.
— Жаль, — заметил священник. — Помимо всего, это было бы свидетельством доброй воли. Вы ожидаете ее от нас, а со своей стороны не стараетесь пойти нам навстречу.
Он сразу заметил, что я смутился, и догадался о причинах моей растерянности.
— Содержание нашей беседы, — сказал он, — я сохраню в тайне. Никому не передам. Ни о чем не тревожьтесь. Если наша беседа ничем не помогла вашему отцу, то она ничем ему не повредила и не повредит.
Он проводил меня до двери. На пороге попрощался, дружески пожав мне руку. В коридоре я оглянулся, так как нетвердо знал, куда идти. Священник Мирос стоял в дверях. Он помахал мне рукой. Я поклонился. Очутившись на улице, я повернул налево. Потом пошел вниз до пьяцца Барберини, посредине которой красуется фонтан Тритона. Здесь, у фонтана, я отдыхал в конце первого дня моего пребывания в Риме. Сейчас я вспомнил об этом. Ровно три недели назад! Либо, если угодно, столетия! Я вошел в бар — выпить кофе. Теперь я часто испытываю в нем потребность. Иногда мне кажется, что без кофе я не смогу сделать ни шагу. Двенадцать часов. Площадь забита автомобилями. Воздух стал синим от перегара бензина. Да и без того почти нечем дышать. Я пью кофе и думаю. Вчера в бюро путешествий мне заявили, что на спальное место Рим — Варшава я могу рассчитывать не раньше чем через десять дней и самое меньшее — через неделю. Обратные билеты я купил еще в Польше. Но без указания определенной даты. Попал я сюда в самый разгар туристского сезона. И следовательно, вынужден ждать. Но как быть: ждать или не ждать? Я мог бы махнуть рукой на спальное место. Выйти в Катовицах. Тогда я провел бы в вагоне только одну ночь. День, ночь и день. Но как раз днем-то и тяжелее всего. Томиться с утра до вечера в раскаленном вагоне, в давке — да для меня ничего хуже не придумать при моем нынешнем состоянии! Что представляет собой такое путешествие, я могу судить по нашей поездке со священником Пиоланти в Ладзаретто, а ведь это под самым Римом, езды-то, кажется, всего полчаса. Пожалуй, все-таки надо ждать спального места. А если ждать, то обязательно ли в Риме? Не лучше ли где-нибудь на пути, во Флоренции или Венеции? Осматривать эти города у меня нет охоты. В моем настроении меньше всего меня привлекает туризм. Однако я знаю, что дурное настроение пройдет. И едва оно пройдет, я начну упрекать себя, почему не использовал удобной возможности, почему пренебрег удовольствием тогда, когда оно мне не доставляло ни малейшего удовольствия. В таком случае надо уехать через день, через два. Ну и, останавливаясь по пути в разных городах, добраться до Кракова. Прежде чем пуститься в путь, самое главное — остыть! Физически перестроиться, восстановить силы. Забыть о своем поражении, о стоящей за ним нелепости, отвлечься от любых мыслей об отце. Еще хватит времени на обдумывание того, как ему объяснить, что, собственно говоря, произошло. А пока — точка! Ничего не желаю знать! Спокойствие любой ценой. Тогда я покину Рим хоть и злой, но сохраняя ясное сознание и способность вбирать в себя впечатления внешнего мира. Не могу же я ехать в моем теперешнем состоянии, забившись, как собака, под лавку железнодорожного вагона!
В пансионате «Ванда» мне не больно хорошо. Но убираться оттуда не стоит. Было у меня такое намерение, но я его отверг. Можно было бы вернуться в «Неттуно», где я поселился вначале. Я и от этого отказался. Паковать вещи, потом распаковывать, чтобы снова, день спустя, запихивать все в чемодан, — бессмысленно. С виду пустячное дело, тем не менее требует усилий. Даже на такую малость мне теперь трудно отважиться, невзирая на то, что я замечаю резкую перемену в отношении ко мне обитателей «Ванды», и меня это раздражает. Только Малинский относится ко мне так же, как прежде. Для остальных я нуль. Пани Рогульская при встрече в коридоре или в передней ускоряет шаг. Здороваясь, едва кивнет головой, и уже след ее простыл! Кидается к двери на кухню или к двери в свою комнату, притворяется, будто очень озабочена чем-то или рассеянна. Манеры ее слишком ясны, чтобы я их не заметил, и вместе с тем она держится в таких границах, что причиняет боль, не обижая. Она и не думает грубить, по крайней мере, я так считаю. Избегает меня, вот и все. Точно так же, как и ее брат Шумовский. За столом он молчит. Мое присутствие лишает его дара речи. На этот счет у меня нет сомнений. Благодаря своему хорошему воспитанию или из деликатности он не желает слишком обострять ситуацию и не разговаривает ни с кем. О посещении «Аполлинаре» нет и речи. Раньше, когда я бывал занят, он несколько раз предлагал составить мне компанию, теперь у меня сколько угодно свободного времени, однако он молчит.
В какой мере тут сказывается влияние прелата Кулеши, не знаю. Я готов поверить, что не он навредил мне в курии. Но здесь, в пансионате, по всей вероятности, именно он поносил моего отца. Несомненно, наша история широко обсуждается во всей эмигрантской общине. И следовательно, во всех комнатах постоянных обитателей пансионата «Ванда». Все здесь подчиняются мнениям прелата. Должно быть, он наговорил с три короба, поэтому-то они и так холодны со мной, и так сторонятся меня. К счастью, они знают от Малинского, что я уезжаю. Ну и терпят.
Меньше всего изменились наши отношения с пани Козицкой. Они никогда не были хорошими, могли, однако, стать еще хуже. В ее взгляде и так сквозило немало иронии, она могла стать еще более колючей. Ничего этого не произошло. Без крайней необходимости пани Козицкая не заговаривает со мной, из любезности не улыбается, но, увидев меня, не удирает из комнаты. Не вскакивает со стула, притворяясь, будто что-то вспомнила. Малинский тут ни при чем. Так я полагаю. Если бы она считалась с его мнением, то с самого начала вела бы себя иначе. Я думаю, она только из духа противоречия проявляет свое отношение ко мне иначе, чем ее родственники. В сущности, она осуждает меня так же, как и они, считая, будто я приехал в Рим по неправедному делу. Стадный инстинкт толкает ее в ту же сторону, что и всех остальных. И если она повернулась ко мне не спиной, а профилем — велика ли для меня разница!
Впрочем, и в отношениях с Козицкой напоследок произошла заметная перемена. Не по моей вине. Как раз вчера. Расставшись с Малинским после визита к священнику Дуччи, я вошел в первое попавшееся бюро путешествий. Небольшое помещение полно народу; американцы, англичане, испанцы и, что хуже, руководители какой-то большой немецкой туристской группы — в течение получаса они занимают всех служащих множеством своих проектов и дел. Наконец от окошечка, к которому я устремился, меня отделяет только одна женщина. Узнаю Козицкую, к сожалению, слишком поздно, чтобы отступить. Она оборачивается и густо краснеет. Хотя она держит себя в пансионате любезнее, чем ее тетка и дядя, я не знаю, как вести себя в данных обстоятельствах, чтобы выдержать светский тон. По правде говоря, мы друг с другом не разговариваем. Наконец она получила все справки. Я вздыхаю с облегчением. Сейчас Козицкая уйдет. Нет, она оборачивается. Тогда я смотрю на часы и, желая что-нибудь сказать, сообщаю:
— Боюсь, что опоздаю к обеду.
Она:
— Нет. Мы не опоздаем.
Служащий объясняет мне, что теперь очень трудно достать спальные места на Вену и Варшаву, а я уголком глаз наблюдаю за Козицкой. Она меня ждет. Сперва разглядывает огромные плакаты, призывающие вас посетить разные страны или соблазнительные для туризма местности. Морщит свой высокий лоб, поджимает большой чувственный рот. Она красива. Ее маленький вздернутый носик не гармонирует с ее вечно мрачным, нелюбезным настроением. Вдруг наши глаза встречаются. Я подаю ей знак, что сейчас освобожусь. Она кивает головой, подтверждая, что поняла меня. Но тут же исчезает из помещения бюро. Теперь я ее вижу через огромное окно витрины. Козицкая не сводит глаз с макета трансатлантического парохода, красующегося за стеклом. Получив от служащего нужные сведения, я выхожу. Мы быстрым шагом идем к остановке. Смотрим, не подъезжает ли троллейбус. Да, подъезжает. Вскакиваем. За все время мы не произнесли ни слова. Но в троллейбусе нас так стиснули, что мы смотрим прямо в лицо друг другу. Дальше хранить молчание нам неудобно. Я спрашиваю:
— Вы уезжаете?
— Ведь вы слышали!
— Я не слышал.
— Стояли позади меня и ничего не слышали? Ну и ну!
Я уверяю ее, что говорю правду. Но мои слова до нее не доходят, потому что троллейбус делает поворот и дуга его со скрежетом трется о провода. Я вижу, как шевелятся губы Козицкой. Начала фразы не слышу. А конец звучит так:
— …и, значит, уезжаю.
— В Польшу? — спрашиваю.
— Нет! В противоположную сторону.
Новая остановка — новая волна пассажиров, нас окончательно разъединяют. Мы снова находим друг друга только возле собора святого Креста в Иерусалиме, уже неподалеку от дома. В троллейбусе теперь пусто, и мы занимаем свободные места. Садимся друг против друга. Козицкая нагибается и вдруг дотрагивается до моей руки.
— Я знаю, что вы все слышали, — говорит она. — И вам отлично известно, куда я уезжаю. Если вы из деликатности отрицаете, будто слышали, спасибо, и прошу вас продолжать в том же духе.
Из ее слов я сделал вывод, что не следует с ней говорить об отъезде. Я ответил, что, разумеется, не буду, и добавил, что мне нетрудно сдержать обещание, поскольку мы все равно никогда друг с другом не разговариваем. Тогда она уточнила свою мысль:
— Я имею в виду, чтобы вы не говорили другим. Абсолютно никому.
— Обещаю.
— Руку?
— Руку.
Минуту спустя мы уже выходили на площади Вилла Фьорелли. На пути к пансионату мы обменивались, да и то изредка, замечаниями в таком духе: «Жарко», «Мы все-таки поспели вовремя», «В обеденные часы ужасно работает транспорт». После этого случая Козицкая тоже изменилась — подражает пани Рогульской и пану Шумовскому. Из самолюбия. Злится из-за того, что ей пришлось меня о чем-то просить. Боже мой! Здесь, в «Ванде», меня сторонятся. Меньше ли, больше — мне-то совершенно безразлично.
XXII
Не знаю, каким образом я вспомнил об этом письме. Отец дал мне его, когда я приехал к нему в Торунь. Я взял у него тогда пакет для синьора Кампилли и мемориал, а на третьем конверте стояла фамилия кардинала Чельсо Травиа — декана трибунала Священной Роты. После долгих колебаний отец вручил мне это письмо. Он не сомневался, что кардинал помнит его. Травиа в свое время руководил «Аполлинаре». Приезжая в Рим, отец всегда являлся к нему с визитом. Монсиньор Травиа тогда еще не был кардиналом. Теперь именно его кардинальское звание смущало отца. Смущало до такой степени, что позднее, когда я вернулся из Торуни в Краков, отец мне телеграфировал, что «письмо к Травиа недействительно», а вскоре письменно объяснил причины. В двух словах: кардинал Травиа слишком крупная фигура, и в Риме не принято затруднять таких людей частными делами; к тому же само по себе рискованно обходить тех, кто занимает более низкие должности.
В Торуни отец несколько раз повторил, что я обо всем должен советоваться с Кампилли; поэтому в ответном письме я спросил, не стоило ли на месте узнать мнение Кампилли. Отец ответил, что вопрос этот он еще раз продумал и твердо стоит на своем.
Тогда я решил, что отец и монсиньор Травиа, вероятно, недолюбливали друг друга. У отца была чувствительная струнка: ему хотелось всем нравиться. Даже убедившись в чьем-то недружелюбии, он неохотно в этом себе признавался. Если моя догадка верна, то письмо не имеет никакой ценности. Если же неверна — я имею в виду, что кардиналам действительно ни при каких обстоятельствах не следует надоедать, — то письмо может принести вред. Таким образом, я совершенно забыл о нем.
Я захватил его в Рим случайно, просто оно лежало вместе с другими материалами. Поселившись в «Ванде», я брал письмо с собой всякий раз, когда уходил в город. Я давно бы уже его уничтожил, оно сохранилось только потому, что я засунул его в конверт с различными черновиками, служебными бланками отца с его подписью и первым экземпляром мемориала, касающегося спора с епископом Гожелинским. Вначале, готовясь к визитам, я заглядывал в мемориал. Потом перестал, потому что знал почти наизусть все десять страниц машинописного текста. Но, конечно, мемориал еще мог пригодиться. По крайней мере, до вчерашнего дня!
Письмо к кардиналу было короткое. Оно занимало три четверти страницы и содержало просьбу принять меня и выслушать. Просьбу свою отец изложил витиевато и раболепно. Ни единым словом не упоминал о деле. Глагол «выслушать», дважды повторяющийся в письме, однако, не оставлял сомнений в том, что отец имеет в виду нечто весьма для него существенное. После разговора со священником Миросом я часа два просидел в баре на пьяцца Барберини, размышляя обо всем, с чем столкнулся в Риме, но не вспомнил о письме. И всю остальную часть дня тоже. А вечером, уже собираясь лечь, я, как обычно, выложил содержимое моих карманов на столик у окна, взял в руки бумаги, которые постоянно ношу при себе, чтобы не вводить в искушение обитателей «Ванды», — и вот тут стал внимательно разглядывать письмо к кардиналу, проверяя, в каком оно состоянии, не слишком ли истрепалось.
И уже лежа в кровати, вплоть до рассвета я думал: пойти или не пойти? Запрет отца уже не имел значения, раз отпали все предпосылки, с которыми стоило считаться: будто в Роте обидятся, будто я задену Кампилли, будто так поступать не принято! Ну и что? Хуже того, что случилось, ничего быть не может. Другой вопрос: захочет ли кардинал меня принять? Согласится ли на аудиенцию, коль скоро он с самого начала передал дело моего отца в руки монсиньора Риго? Я знал, что кардинал очень стар, ему далеко за восемьдесят, такими стариками чаще всего управляют домочадцы или подчиненные, а для них мой отец, наверно, некое отвлеченное лицо, не пользующееся в курии доброй славой. Эти люди встанут мне поперек дороги. Что касается кардинала, то у меня тоже не могло быть никакой уверенности, что он заинтересуется моей особой. На каком основании? Только потому, что я приехал из Польши? По мнению Малинского, это имело свое значение. Он уверял, что людям из курии редко предоставляется возможность непосредственно столкнуться с кем-либо из нас. Он даже высказал предположение, что священник де Вос или монсиньор Риго не приняли бы меня так быстро, если бы их не побуждало к тому любопытство. Допустим. Но разве из этого следует, что кардинал Травиа тоже проявит любопытство? Не говоря уже о том, что сам по себе такой взгляд на вещи не очень приятен, да и мало что хорошего сулит.
Утром я встал, надел темный костюм, взял такси и попросил отвезти меня к палаццо делла Канчеллерия. Туда, где помещается Рота и трибунал Сеньятуры. Я знал, что второй этаж дворца занимают кардиналы. По всей вероятности, там живет и кардинал Чельсо Травиа. Держа перед собой письмо, я постучал в маленькое окошечко к швейцару. Он открыл окошечко и протянул руку за письмом.
— Нет, я должен передать письмо лично, — сказал я. — Здесь ли живет его преосвященство кардинал Травиа?
— Да. Письмо надо передать секретарю.
— Я прошу аудиенции. В Риме ли находится теперь кардинал?
— Да. Но уезжает. Послезавтра.
Я помертвел. С утра я боролся с собой, через силу заставил себя сюда идти. Единственный смысл предполагаемой аудиенции был в том, что я смогу вернуться в Польшу с чистой совестью, исчерпав все возможности. Раз кардинал уезжает, то эта последняя возможность отпадает сама собой, избавляя меня от унижений, от угрозы нарваться на отказ. Мне не нужно затрачивать усилий — либо напрасных, либо окончательно запутывающих дело. Значит, я должен почувствовать облегчение. А между тем как раз напротив. Внизу мелькнула сутана. В ворота вошел высокий, широкоплечий священник. Я прижался к окошечку швейцарской, с перепугу решив, что сюда идет монсиньор Риго. Но это был не он. Тем временем швейцар поднес к уху трубку телефона, докладывая обо мне. Я услышал:
— Пришел иностранец с письмом к его преосвященству.
А мгновение спустя он обратился ко мне:
— Вас просят наверх.
Мы поднялись в лифте на второй этаж. Лифт был маленький, темный, находился в углу того самого монументального по размерам двора, который привел меня в такой восторг после удачного разговора с монсиньором Риго. Наверху у дверки лифта меня ожидал человек, одетый во все черное, в коротких штанах и чулках. Я представился и, здороваясь, протянул ему руку. Он смутился и едва к ней прикоснулся. Тогда я сообразил, что это служитель.
— У меня письмо к его преосвященству, — сказал я.
— Знаю, пожалуйте. Сейчас вас примет секретарь его преосвященства.
Он указал мне на кресло. Большое, музейное. Письмо, не выпуская из рук, я держал на коленях. В просторном зале, где я очутился, было холодно, но меня прошиб пот. В моих вспотевших руках конверт, и без того уже не первой свежести, еще больше измялся. Я опустил руки на поручни кресла, изо всех сил сжимая пальцами эбеновые львиные головы. Служитель неподвижно стоял поодаль. Я тоже сидел не шевелясь в своем кресле и смотрел вперед, в гигантское окно, до половины заслоненное тяжелыми малиновыми портьерами. Здесь царила тишина, как и в соседнем зале, — дверь туда была приоткрыта. Несколько минут спустя до нас донесся нежный звон колокольчика. Я понял, что меня вызывают, и посмотрел на служителя. Он кивнул головой.
Зал, куда я вошел, был больше, чем первый. Его заполняла рассчитанная на такие масштабы мебель. Я огляделся. У одного из окон стоял письменный стол. За ним сидел священник с красивым, молодым лицом и ничего не выражавшими глазами и не сводил с меня взгляда все время, пока я проходил через гигантские покои, стараясь держаться по возможности ровно и естественно. Наконец я у цели. Я назвал фамилию и должность отца, сообщил, что привез от него письмо, и пояснил, что в связи с содержанием письма я со всем смирением решаюсь просить его преосвященство об аудиенции.
— Будьте любезны вручить мне это письмо, — сказал священник.
Я протянул ему конверт. Он оглядел его с обеих сторон.
— Письмо открыто, — заметил он. — Не хотите ли его запечатать?
— Нет, нет, — возразил я. — В письме содержится только просьба об аудиенции.
— Вы, кажется, прибыли в Италию из-за границы. Откуда именно?
— Из Польши.
Священник записывал мои ответы. Перед ним лежал блокнот. Писал он шариковой ручкой, которую держал за самый кончик, как кисточку, едва прикасаясь к бумаге. Он спрашивал, слушал и аккуратно вносил в блокнот все нужные данные. Вопросы он ставил так, что на них приходилось отвечать кратко и по существу, не иначе. Когда я сообщил о себе сведения общего порядка и стал по буквам произносить свою фамилию, как всегда поступаю, сталкиваясь с итальянцами, он прервал меня, сказав, что знает мою фамилию. Я перешел к изложению сути дела, и он отложил перо в сторону. Тогда я понял, что и это все ему известно. Я отвечал стоя. Священник не попросил меня сесть, хотя два кресла для посетителей были придвинуты вплотную к столу. Последний вопрос звучал так:
— Когда вы намереваетесь покинуть Рим?
— Меня задерживает в Риме только надежда на аудиенцию.
Я пояснил, почему пришел сюда так поздно, и рассказал, как трудно мне было решиться просить аудиенции, но я превозмог себя, убедившись в бесплодности ранее предпринятых мер. Тем не менее я по-прежнему понимаю, сколь дерзкой является моя просьба, и знаю, как дорого время кардинала. Священник так же спокойно выслушал мои объяснения, как и мои ответы. Он не сказал ничего сверх того, что было необходимо, и ничего, ни единого словечка от своего имени. Только в этом месте нашего деловито-сухого диалога он перебил меня таким замечанием:
— У его преосвященства найдется время для всего, что он сочтет нужным. Вопрос не во времени.
Молодой священник смотрел на меня стеклянным, пустым взглядом, в его глазах не было ничего живого, ни искорки сочувствия. У меня не могло быть сомнений в том, что он не выскажется в мою пользу. Я чувствовал, что мне откажут. Сам не знаю, то ли потому, что я хотел, чтобы мне подсластили пилюлю, то ли совершенно машинально, я напомнил себе и ему:
— Его преосвященство послезавтра уезжает!
Тогда я увидел, что плечи священника слегка вздрогнули. Он едва-едва, почти незаметно, повел ими и протянул руку к небольшому изящному колокольчику. Взял его ручку за самый кончик так, как брал перо, собираясь писать, и — позвонил. В дверях показался служитель.
— Проводите, пожалуйста, синьора к лифту. Синьор явится к нам за ответом в пять часов. — Только после этого он обратился ко мне: — В пять.
Он кивнул головой. Я ответил тем же. За дверью, уже направляясь к лифту, я на мгновение еще раз его увидел. Он не тронулся с места. Сложил руки, осторожно шевеля пальцами, и ничего не выражающими глазами поглядывал в мою сторону. Вряд ли он меня видел. Казалось, он о чем-то задумался. Вернувшись сюда в пять, я его не застал. За тем же письменным столом сидел другой священник — плотный, подстриженный ежиком. Услышав мой вопрос, он тут же потянулся к изящному колокольчику, ручка которого изображала нераспустившуюся лилию. Оказалось, что колокольчик служил также прессом. Под ним лежало несколько листков из того блокнота, куда молодой священник сегодня утром заносил данные обо мне и о моем деле. Священник, сидевший теперь за столом, порылся в бумажках, достал один листок и показал мне. Увидев свою фамилию, я сказал:
— Да, это я.
Тогда священник сообщил, что кардинал Травиа примет меня.
— В котором часу? — спросил я.
Священник внимательно просмотрел все листки, которые извлек из-под колокольчика. Потом уложил их веером, как игральные карты. Он долго раскладывал их, меняя порядок. Мой листок к ним не присоединил.
— Очевидно, уже не сегодня, — сказал он наконец. — Но на всякий случай загляните к нам, пожалуйста, около семи. А если сегодня ничего не выйдет, пожалуйста, справьтесь завтра в десять.
Тогда я спросил, нельзя ли позвонить к нему по телефону. Поступил я так из опасения, что в конце концов встречу монсиньора Риго, если слишком часто буду здесь вертеться.
— У нас не принято, чтобы просители по телефону добивались аудиенции, — наставительно заметил священник. — Зайдите, пожалуйста, сами.
Я был уже в дверях, когда он окликнул меня. Таким образом, я второй раз прошагал через гигантский зал и снова встал перед письменным столом. Священник только теперь внимательно поглядел на меня, потому что раньше был поглощен исключительно листками.
— Пожалуйста, тщательно подготовьтесь к аудиенции, — сказал он. — Постарайтесь говорить сжато, ясно и не волнуясь.
— Понимаю, — ответил я. — Буду держать себя как надо.
Однако на следующий день, уже далеко после полудня, когда меня наконец вызвали к кардиналу Травиа, сердце у меня бурно заколотилось. В пансионате я записал все, что надо сказать, и выучил наизусть. Мой взгляд на аудиенцию не изменился. Я не обольщался, ничего от нее не ждал. И все-таки мне хотелось, чтобы и это осталось позади. Сердце у меня стучало. Ожидание аудиенции, тянувшееся уже сорок часов, было для меня немалым испытанием. Когда я исправлял стиль и уточнял текст подготовленной мною речи, по телу моему пробегали мурашки. Меня била дрожь, когда я приближался к дворцу Канчеллерия, и холодело сердце всякий раз, как я переступал порог апартаментов кардинала Травиа. Более всего я опасался встречи с монсиньором Риго, но так и не наткнулся на него. Ни в воротах, ни здесь. В обоих залах почти всегда было пусто. Один только раз я увидел в том, первом зале, где находился служитель, двух посетителей, одетых, как и я, в темные костюмы. Они неподвижно сидели друг подле друга на диванчике и молчали. Впрочем, я едва разглядел их на большом расстоянии, с другого конца огромного зала. Да и длилось это одно мгновение, пока служитель выпроваживал меня, так как час аудиенции еще не был назначен. А так, кроме священников, которые меня принимали, никого. И всегда та же самая мертвая, застывшая тишина.
Молодой священник, с которым я говорил в первый день, проводил меня в покои кардинала и тут же удалился. Здесь было довольно темно. Обыкновенная конторская лампа с зеленым абажуром освещала столик, похожий на больничный, — такой, на котором подкатывают к кроватям еду. Незнакомый мне священник как раз теперь его отодвинул. Сам кардинал сидел в большом удобном кресле, обитом цветным кретоном. Человек очень преклонного возраста, он был худ старческой, птичьей худобой. На голове — остатки волос, желтоватые, вьющиеся. Отодвинув столик, незнакомый мне священник стал возле кардинала. А по другую сторону стал второй, которого я видел раньше, — плотный, остриженный ежиком. Я подошел и склонился к руке кардинала, лежавшей на поручне кресла, он не пошевелил ею; и только после того как, коснувшись губами большого перстня, я выпрямился, кардинал поднял руку и сухим, искривленным пальцем указал на что-то находившееся позади меня. Табурет. Его придвинули поближе к кардиналу. Я сел.
Священник, стоявший слева от кардинала, типичный итальянец с юга, черноволосый и смуглый, дотронулся до моего плеча и произнес несколько слов, но так тихо, что я ни одного не расслышал. Однако я угадал смысл сказанного: надо начинать.
Ну, я и начал. Первые фразы прозвучали нескладно. Но только первые, потому что я взял себя в руки. В дальнейшем я говорил гладко, спокойно. И все-таки черноволосый священник раза два прерывал меня. Он отрывался от кресла и, нагнувшись, шептал: «Немножко громче». К счастью, его замечания не сбивали меня. Я читал свою речь, как урок, чувствуя на себе взгляд всех троих. А я смотрел в глаза кардинала, усталые и сонные. Он слушал меня. Голова у него была слегка скошена и рот чуть приоткрыт. Священники, стоявшие возле его кресла, тоже внимательно вслушивались в мои слова. Вдруг старший из них — тот, плотный, с подстриженными ежиком волосами, — сложил руки на груди и, выпрямившись, вскинул голову и устремил взгляд в потолок. Длилось это всего несколько секунд. Потом он принял прежнюю позу и снова посмотрел на меня. В заключение я сказал:
— Вот и все дело, которое я позволил себе предложить милостивейшему вниманию его преосвященства.
После этой ничего не значащей фразы я встал и низко опустил голову. Когда же я ее поднял, то увидел, что кардинал шевелит губами. Сперва они у него шевелились совсем беззвучно. Потом я услышал голос — высокий, чистый, детский. И слова. Обращенные не ко мне, а к смуглому темноволосому священнику:
— Он учится в Риме?
— Нет, ваше преосвященство, он приехал только по своему делу.
— Но в Риме изучает церковное право.
— Его отец учился у нас. В «Аполлинаре».
Затуманенный взгляд старых коричневых глаз кардинала устремился ко мне и на мгновение задержался на моем лице.
— Ага, вспоминаю. Он даже похож.
Он снова повернулся к священнику, которому задавал вопросы:
— А отец где? Жив?
— Жив, ваше преосвященство, прислал к нам сына по своему делу.
— Откуда?
— Из Польши, — сказал я. — Я приехал из Торуни.
Священник, стоявший справа от кардинала, жестом попросил меня помолчать. А сам уточнил мои слова:
— Из торуньской епархии, подчиненной познанскому архиепископату.
— Да, да, — прошептал кардинал, — вспоминаю.
Он умолк. После данного мне указания я тоже молчал. Священники ждали. Прошло секунд пятнадцать тишины. Никто не шевельнулся. Наконец кардинал тем же жестом, что и раньше, пригласил меня сесть.
— И скажи мне еще, дитя, как там у вас?
— Стало лучше, — ответил я.
— А почему? — спросил кардинал.
Я снова почувствовал на себе его взгляд. Впрочем, кардинал почти неотрывно смотрел в мою сторону. Но не всегда меня видел. Только время от времени глаза его приобретали сосредоточенное выражение. Тогда мне казалось, будто он снимает очки с мутными, дымчатыми стеклами и пытается проникнуть взором в самое мое нутро. Я тоже постарался сосредоточиться, чтобы ответить на его вопросы точно и понятно. Едва я заговорил, оба священника пододвинулись ко мне. Теперь они стояли по обе стороны от меня. Кардинал не шевелился. Несколько раз он прерывал меня. Один раз он сказал:
— Прекрасная страна. Хорошая страна. И столько, столько ей выпало страданий!
А в другой раз он пытался вспомнить, когда же это он был в Польше, но не смог, пока ему не пришел на помощь один из священников, видимо, большой знаток его биографии. Кроме того, кардинал время от времени повторял: «Понимаю, понимаю». Но лишь изредка. Я говорил с трудом. Как я ни стремился излагать свои мысли ясно и логично, это не всегда мне удавалось. Я догадывался, что плохо объясняю некоторые вещи, пользуясь терминами, непонятными на Западе, либо же затрагиваю темы, касаться которых необязательно. Тогда мне на помощь приходили священники. Едва слышным голосом они советовали мне выразить яснее ту или иную мысль или тихо подсказывали недостающие слова. Священники ловко вмешивались в дело и в тех случаях, когда я отклонялся от темы, — они слегка сжимали мне плечо. Не знаю, как бы я выкарабкался без их помощи, особенно важной в те моменты, когда взгляд кардинала терял остроту и затуманивался. Меня это смущало. И добавлю, что смутить меня было нетрудно. После вступительного диалога кардинала со священником относительно моей особы я поддался чувству полнейшей безнадежности. Чего я мог ожидать от этого старого человека, в голове которого все спуталось? Сосредоточенный взгляд кардинала на минуту-другую придавал какой-то смысл нашему разговору. Но только на минуту-другую. Когда я кончил, кардинал слегка выпрямился в кресле и опустил глаза. Священники вернулись на свои прежние места. А он сидел в одной позе, ничего не говоря, не шевелясь. Наконец снова раздался его голос — детский, звонкий. Вопрос, обращенный к смуглому священнику.
— Он возвращается на родину?
— Возвращается. Приехал к нам лишь ненадолго.
— Хорошо. Хорошо. Но с чем он вернется от нас в свою далекую, далекую страну, которая так много, так много пережила?
Кардинал оторвал взгляд от пола. Во второй раз глаза наши встретились: мои — полные ожидания, его — внимательно сосредоточенные.
— Неужели он вернется ни с чем? Неужели он вернется с пустыми руками в страну, где бушуют идеи и страсти, которые мы не способны даже понять? Пламя этих страстей по нашей вине захватило молодежь, ибо мы оттолкнули ее. Пламя разгорается, восстанавливая молодых против нас, стариков, и, признаюсь, с горечью бия себя в грудь, восстанавливает вполне справедливо. Но, целясь в нас, они одновременно целятся в самые святые идеалы. В сладостный мир на земле и взаимную любовь между людьми, в благую весть, возвещенную нам две тысячи лет назад, которую мы, старики, в последние годы не отстояли, ибо мы отстаивали ее эгоистически, трусливо.
В первый момент, в особенности когда кардинал выразил тревогу по поводу того, как бы я не вернулся домой с пустыми руками, я слегка привстал с табурета. Какое-то мгновение я думал, что сейчас он скажет нечто такое, после чего я кинусь его благодарить. Но, услышав следующие фразы, я понял, что старый кардинал далек от мысли о моем отце и моем деле. Я понял, что старец этот привык все видеть в широкой перспективе и мне не удалось привлечь его внимание к частному случаю, который так для меня важен. Я чувствовал, что один мой вид вызвал у него скорбную рефлексию, и то, что он говорит, имеет для него первостепенное значение. Я слушал его слова в замешательстве, с уважением, но и с обидой. А он еще долго говорил, развивая мысли, мучившие его, наверное, не первый день, рассуждая о великом эгоизме, который владеет уже многими поколениями христианского общества и который сперва заставил миллионы людей отречься от самых святых идеалов, а потом довел христианский мир до катастрофы.
— Это происходит не впервые, — сказал он в заключение. — Великие раны, нанесенные христианству в ужасные времена реформации, не зарубцевались по сей день. Будем молиться и доверимся высочайшему милосердию, в надежде, что хоть частично зарубцуются те раны, которые нанесены церкви, ибо мы не стояли на высоте задачи. Мы — старые пастыри. Несмотря на это, вы, молодые, которым принадлежит будущее, должны объединиться вокруг нас. Церковь требует от вас сегодня того же, что требовала в ужасные времена смуты, о которой я упоминал. Не потому, что мы считаем, будто наше поведение должно служить для вас примером. А потому, что таково строение христианского мира, во главе которого основатель церкви поставил нас, пастырей. Сознавая вашу горечь и разочарование, церковь, так же как и в те далекие времена, укажет вам на образец святой жизни, который захватит вас. Захватит своей молодостью! Своим мученичеством! Тем фактом, что он жил почти на вашей памяти, а не века назад. Вот прекрасная весть, с которой ты сможешь вернуться на родину, сын мой. Возвращайся же с миром!
Нелепо было думать, будто что-то еще может измениться в моем деле. Последние высказанные им слова означали, что он прощается со мной. Следовало встать. Однако прошло еще несколько долгих секунд, прежде чем я решился на это. Я поднялся, услышав вопрос, который кардинал тихим голосом задал старшему из священников. Тот же самый вопрос, на который уже один раз получил ответ.
— Он возвращается на родину, не правда ли?
Я прикоснулся губами к перстню. Кардинал не пошевелил рукой. Младший из священников поставил табурет на прежнее место. Не оглядываясь, быстрым шагом я прошел через зал. В следующем зале, том самом, где я вчера подал письмо, сидел священник, который у меня его взял и подготовил для кардинала заметки. Увидев меня, он потянулся к колокольчику. Тихо, молча мы обменялись поклонами. Еще одна дверь, а потом дверь лифта. Я спустился вниз злой, но не разочарованный, ведь я не связывал с аудиенцией никаких особых надежд. Во время беседы с кардиналом я еще во что-то верил. Я чувствовал, что если он захочет, то сможет все изменить. Но я не смог его заставить. Не сумел как следует задеть его внимание. Взгляд кардинала скользнул поверх моей головы и сразу унесся ввысь. Я виноват, но виноваты и эти пороги, слишком высокие пороги, которые я неведомо для чего переступил. На низших ступенях ничего не могут. На высоких — не видят. Я с горечью пережевывал эту мысль, я был раздражен, но вместе с тем испытывал облегчение от того, что наконец и последняя попытка осталась позади. Взглянув на часы, я удивился. Половина седьмого! Значит, все вместе — ожидание, разговор, возвращение — не продолжалось даже получаса. Я проголодался, и мне хотелось как можно скорее очутиться в своей комнате. Я купил несколько иллюстрированных еженедельников, которые вполне уместны в момент душевного расстройства, так как помогают отвлечься, и сел в такси, чтобы поспеть к ужину. В «Ванде» нововведение! Камерьера сообщает, что в пансионате полно и ужин подают в две очереди. Я должен ужинать во вторую очередь. Она мне это говорит в тот момент, когда я уже стою в дверях столовой и вижу, что все домочадцы сидят за столом. Ничего не поделаешь, отступаю. А после ужина, который я провожу в незнакомом обществе, я не сразу сажусь за журналы. Укладываю вещи. По этому случаю натыкаюсь на злосчастную лупу, взятую у Кампилли. Пишу письмо, прошу извинить меня и добавляю несколько банальных фраз на прощанье. Пишу и другое письмо, более сердечное, — Малинскому, который уехал в Болонью. Я заклеиваю конверты, и в этот момент мне вдруг становится скверно. Пот, боль в груди, головокружение, перед глазами черные точки. Не знаю, что это такое, должно быть, сердце, — никогда в жизни со мной ничего похожего не бывало. К счастью, через четверть часа все проходит. Тогда я принимаюсь за журналы.
XXIII
Я в Ладзаретто! Возможно, это разумный выход, хотя и неожиданный. После бессонной ночи я раненько вскочил, чтобы доставить Кампилли пакетик с лупой еще до того, как начнется дневная жара. Однако, когда я сел в такси, мне внезапно пришла в голову мысль разыскать Пиоланти и попросить его отнести письмо и лупу на виллу Кампилли. Легко понять, как мне не хотелось самому идти туда. Но другого выхода не было, что оставалось делать? Теперь выход нашелся. По крайней мере, я придумал, как избавиться от неприятной необходимости являться в дом, где мне, деликатно говоря, отказали в гостеприимстве. Я взглянул на часы — восемь. Если Пиоланти по-прежнему посещает Ватиканскую библиотеку, то в это время уже должен спешить к поезду, шагая через весь городок от своего лепрозория до станции. Я попросил шофера такси отвезти меня на Стадионе Термини. Там я вышел и разыскал перрон, к которому прибывают пригородные поезда с севера. Потом уселся в тени на каменной скамье, прислонившись к колонне из железобетона. От холодной скамьи и холодной колонны на меня повеяло приятной свежестью. Я, конечно, не был болен. Просто немножко расклеился. Нервы в постоянном напряжении, к тому же жара, духота. Отсюда вчерашнее полуобморочное состояние, да и теперешняя стесненность в области сердца. Спать мне не хотелось, однако я отчаянно зевал. Непрерывно, целых двадцать минут, пока пришел поезд, которого я ждал. Весьма удачно. Так и есть! Мне повезло. Один из первых пассажиров, высаживающихся из битком набитого, серого от пыли вагона, следующего сразу за локомотивом и остановившегося совсем рядом с моим наблюдательным постом, — священник Пиоланти.
— Целая вечность! — удивленно восклицает он. — Каким чудом вы здесь?
Объясняю, откуда я взялся. Затем — почему не показываюсь в библиотеке. Внезапно он перебивает меня и с тревогой в голосе, искренне взволнованный, говорит, что вид у меня такой, будто я сбежал из больницы. Наконец кончается крытый перрон. Из тени мы выходим на яркий свет. Я пожимаю плечами.
— Я вижу, что вам не нравится моя физиономия, — смеюсь я.
Он:
— Вы страшно похудели! Что случилось?
— Долго рассказывать.
С этого и началось. Мы сели в баре на вокзале. Полчаса спустя священник уже более или менее был в курсе событий. Ни на кого и ни на что не жалуясь, я кратко описал свои мытарства. Он не высказал своего суждения, но, видимо, так же хорошо, как и я, понял, что все кончено, потому что спросил, когда я уезжаю. Тут я признался ему, что чувствую себя не очень хорошо и вернусь в Польшу не прямо, а с остановками в пути. После чего я попросил его оказать мне услугу: отнести письмо и пакет Кампилли. Он согласился. И тогда — вертя в пальцах письмо — Пиоланти ни с того ни с сего робко стал меня уговаривать поехать в Ладзаретто.
— Вы отдохнете, придете в себя, — повторял он.
В конце концов я сказал:
— Может быть, это идея!
Он понял, что я согласен, и тотчас встал. Обрадовался. Веки его глубоко посаженных глаз задрожали.
— Я пойду и сейчас же вернусь, — сказал он. — Встретимся здесь через час. У нас поезд в десять.
— Ах, что вы! — возразил я. — А библиотека?
Ведь он приехал не за тем, чтобы увезти меня, он приехал ради своих занятий. Когда я ему об этом напомнил, он на мгновение растерялся, но не пожелал отступать от своего плана. Я думаю, что он чувствовал себя одиноким в Ладзаретто в обществе других священников. Кстати, Пиоланти был уверен, что они не станут возражать против моего пребывания в бывшем лепрозории. Мы и об этом поговорили. И еще о том, согласится ли начальство монастырской гостиницы, чтобы я там жил. В этом он тоже нисколько не сомневался. Итак, мы в конце концов расстались на час. Пиоланти никого не застал в доме Кампилли и оставил письмо и стеклышко на соседней вилле. Что касается меня, то, пока я доехал в такси до «Ванды», мне снова стало нехорошо, и отчасти поэтому я решил взять с собой только сумку и попросить, чтобы чемодан поберегли до моего возвращения. С этой просьбой я обратился к пани Рогульской. С нею же уладил счета и вручил ей письмо для Малинского.
— Благодарю вас за все, — сказал я. — Передайте, пожалуйста, мой прощальный привет брату и племяннице. Я прощаюсь, так как не уверен, увидимся ли мы еще, я ведь только на минутку забегу за чемоданом от поезда до поезда.
— А на случай, если кто-нибудь про вас спросит или захочет узнать ваш адрес, что сказать?
— Ничего. Дело в том, — запнулся я, — что я собираюсь немножко попутешествовать и нигде надолго не задержусь.
Я почему-то удержался и не сказал ей, что еду в Ладзаретто. Вернее всего потому, что в моем положении соблазнительно было этак вот провалиться сквозь землю, скрыться от всех, исчезнуть. Так или иначе, я промолчал.
На вокзале я нашел Пиоланти за тем же самым столиком, где мы сидели раньше. Мы улыбнулись друг другу. Впервые за все утро, потому что во время недавней беседы нам было невесело! Теперь настроение резко изменилось, и мы стали даже шутить. Пиоланти твердил, что я не должен опасаться, будто соседи, которым он передал пакет, украдут его, ибо «на виале Ватикано живут исключительно люди, достойные доверия». А я, смеясь, его успокаивал: пусть не боится, что я перееду к нему на долгие времена. И приводил доказательство — малое количество вещей в небольшой сумке.
Первые два дня в Ладзаретто меня не покидало чувство усталости. Ложился я рано и после обеда спал часа два. Зато вставал я тоже рано, потому что с утра воздух тут свежий и прохладный. Кроме того, я считал, что священнику Пиоланти было бы неприятно, если бы я не заглядывал в церковь, когда он отправляет мессу. От причетника я узнал, что служат мессу отнюдь не все священники, пользующиеся гостеприимством монастыря. Рядом со мной, например, жил священник, которому это запрещено. Он вставал раньше нашего и до полудня не показывался на территории бывшего лепрозория — уходил в горы или, вернее, на холмы, тянувшиеся за монастырем. Другой священник, который за трапезой сидел особняком, на все остальное время запирался в комнате.
После мессы и завтрака я провожал Пиоланти до городка. Здесь мы расставались. Он шел к вокзалу, а я сворачивал влево и, проделав огромный крюк, обходил больницу и лепрозорий, а затем поднимался на вершину Монте Агуццо, где и оставался до обеда. Я брал с собой газеты и полотенце, крепко его скатывал и подкладывал под голову. Спустя какое-то время солнце сгоняло меня с облюбованного места, и приходилось искать новой от него защиты. Воздух — изумительный. Чистый, освежающий. Особенно в ранние часы. Позднее — немножко дурманящий. Эвкалипты, пинии, кипарисы да еще множество трав, среди которых я различал только знакомый мне чабрец, нагревались и испускали целый букет бьющих в нос ароматов. От такой ингаляции в голове мутилось, мысли теряли четкость. Уже не хотелось читать. Лежать бы и лежать, лениво, равнодушно, хоть от моря, которое отсюда было видно, вдалеке правда, дул освежающий ветерок.
Море простиралось справа. Я узнавал его не по яркой синеве, сгущавшейся в том направлении, а по серебристым бликам, игравшим вдоль всей линии горизонта. Под прямым к ней углом — Рим; он ближе от нас, чем море, сказал священник Пиоланти, примерно километрах в двадцати. С этого расстояния Рим похож на гигантскую серо-розово-лиловую цветочную грядку. Иногда яркие блики появлялись и в этой стороне, то в одном месте, то в другом; вероятно, это сверкали купола соборов. Но лишь изредка. В мыслях я почти не возвращался к дням, проведенным в Риме. Об отце я тоже не думал. Я понимал, что обязан ему написать, но все откладывал. Не потому, что не стоило спешить с дурными вестями. Просто я еще не чувствовал себя в силах написать такое письмо как следует, без горечи, дельно.
На второй день я заснул на вершине холма. А проснулся с тяжелой головой и в дурном настроении. И все из-за того, что сон, как непрошеный утешитель, извлек на поверхность то, о чем я почти не думал уже около двух суток. Сперва мне приснился вращающийся пюпитр, о котором я читал у кардинала Эрле. Только это был пюпитр-гигант — еще больших размеров, чем тот, который смастерил бы столяр, всерьез принявший данные, приведенные в книге Эрле. Каждая из сторон верхней части в отдельности — так называемые rodetae — была величиной с крыло ветряной мельницы. На одном крыле вращался я, на другом — отец. Мы вращались так без конца в тишине и в пустоте, не привлекая к себе ничьего внимания. Потом, по странной логике сна, мы пробирались через подземелье, заполненное статуями с живыми, бегающими глазами. Я шел все вперед и вперед и вдруг заметил, что мы вернулись к тем самым статуям, возле которых уже один раз были. Тогда я понял, что на самом деле мы не двигаемся, а только вертимся на одном месте. С этим чувством я и проснулся — удрученный, с тяжестью на сердце, долго еще докучавшей мне. Но в конце концов она прошла бесследно.
К часу я спускаюсь обедать. Это самые неприятные минуты в моем расписании дня. Пиоланти возвращается только около трех, и за обедом я сижу один. Я стараюсь прийти за минуту до молитвы и стою в неподвижности за своим стулом, опустив глаза. После Benedicite я, как и все, беру тарелку и стакан и становлюсь в самый конец очереди. Все тут относятся друг к другу весьма предупредительно. Так, например, священник, сидящий напротив меня, заметил, что мне мешает солнце, и опустил шторку на окне. Я поблагодарил его на здешний манер: наклонил голову, едва заметно улыбаясь. Такая улыбка здесь очень принята. Мы улыбаемся при встрече за пределами территории монастыря или у входа в церковь, когда каждый из нас уступает дорогу другому. Однако никто со мной не заговаривает. За столом слова роняют скупо и никогда беседа не бывает общей. Разговор ведут только с соседом или с соседями. Всегда с одними и теми же. Вот так, как я с Пиоланти. В общем, настроение тяжелое. Как в доме, где за стеной кто-то опасно болен или с кого-то снимают допрос. К счастью, мы не засиживаемся за столом. И кроме того, тягостное настроение, по крайней мере у меня, бывает только тогда, когда я сижу за столом один, то есть во время обеда. За завтраком и за ужином рядом со мной находится Пиоланти.
Он возвращается из Рима, когда я сплю, и ложится в своей келье — напротив моей. Около четырех я просыпаюсь и захожу к нему выпить кофе. Затем ненадолго мы идем в церковь. Священники, которым запрещено служить обедню, могут служить вечерню. Соблюдая вежливость по отношению к ним, мы присутствуем на богослужении, которое они отправляют. А потом неизменная прогулка, вплоть до самого ужина, на Монте Агуццо. Здесь красиво в любое время. Красивее всего к концу дня. Море, видимое с запада, блестит тогда сильнее и переливается красноватыми тонами. Далекие контуры Рима приобретают фиолетовый оттенок. Испарения над ним сгущаются. А выше — безмерно длинная гряда фантастических медно-розовых облаков с мягкими, расплывчатыми очертаниями.
Мы не слишком много разговариваем. И в особенности избегаем того, что угнетает меня и что угнетает его. Если уж говорим, то скорее о деревне, где у него приход, чем о причинах, по которым он временно ее покинул и засел в Ладзаретто, чтобы находиться поближе к Риму. Из сказанного им я делаю только один вывод: как я и догадывался, все действительно произошло из-за книги. Он издал ее год тому назад с одобрения своего епископа, того самого, который часто говорил, что и библиотеки являются домами божьими. Однако сочинение, которым священник Пиоланти обогатил эти дома, пришлось не по душе разным важным церковным ведомствам в Риме. Пиоланти туда вызвали. То обстоятельство, что епископ дал согласие на издание книги, ухудшало положение Пиоланти. Считалось, что он ввел епископа в заблуждение. Пиоланти поехал в Рим, пытался защищаться, просвещал себя чтением разных трудов, а кроме того, искал помощи у людей, которые знали его с тех времен, когда он кончил семинарию, и позднее. Но пока безрезультатно. Департамент, который занимался делом Пиоланти, все реже вызывал его из Ладзаретто в Рим. Однако бедняга не терял терпения. Держался, как мог. Только тосковал о своем приходе.
И получалось так, что чаще всего мы говорили с ним о его приходе, о деревушке Сан Систо, лежавшей в горах под Орсино. Мы располагались в тени. Удобнее всего нам было не на самой вершине, а чуть пониже, там, где когда-то были огороды прокаженных. В давние времена весь склон был изрезан такими огородами, большие террасы громоздились здесь одна над другой. В наши дни их частью размыло, а остальные густо заросли. Но кое-какие следы еще сохранились. Осторожно, чтобы не уколоться и не запачкать платье, мы раздвигали ветки одичавшей малины или крыжовника и вытягивались на уцелевшей террасе, как на широкой скамье.
— Как здесь чудесно, — говорил Пиоланти.
— О да, чудесно, — вторил я, как эхо.
— А в Сан Систо!.. — начинал он тогда. — В Сан Систо воздух в сто раз чище. И поэтому видишь все кругом, как сквозь сильные оптические стекла. Уверяю вас: кристалл!
С этого начиналось. А потом он рассказывал, что провел в Сан Систо пять лет, и объяснял мне, что если исчислять время священнической мерой, по которой духовному лицу случается всю жизнь провести на одной должности, то пять лет это немного. Но Сан Систо — его первый самостоятельный приход, и потому это большой и важный период в его жизни. К этой мысли он возвращался всякий раз. Высказывая ее, он понижал голос, опускал рыжеватую голову и довольно долго вглядывался в кончики своих истоптанных башмаков, густо покрытых овальными грубыми заплатами. Из этого я заключал, что этот важный период был, кроме того, и трудным. А когда он вновь поднимал голову, тусклое выражение его глубоко посаженных глаз убеждало меня, что это был равно и период горьких испытаний, из-за которых и мыкался Пиоланти. В первый раз, когда мы заговорили о его приходе и он так загрустил, я спросил, движимый простейшей ассоциацией:
— Я слышал, что здесь в горских деревушках царит нищета. Значит, и ваш приход очень бедный?
— Бедный. Очень бедный, — ответил он.
— Оттого-то, вероятно, и тяжело там работать духовному пастырю? — сказал я.
— Тяжело, но тяжелее всего не из-за бедности прихожан.
— А из-за чего?
— Из-за их недоверия, — прошептал священник. — Из-за недоверия.
Я удивился и попросил объяснить. Он с готовностью согласился и изложил свои мысли с непривычным для него многословием. Правда, в первый раз я не совсем понял, что он имеет в виду. Но поскольку мы изо дня в день возвращались к этой теме, я в конце концов разобрался.
— Они не доверяют мне по моей вине, — твердил Пиоланти. — Держатся со мной настороженно. Считают, что я вмешиваюсь не в свои дела. А как же не вмешиваться, если мне известно, что вокруг свершается великое множество преступлений, а в исповедальной я о них ничего не слышу. Сперва я думал, что люди стесняются меня и предпочитают исповедоваться у других. Да нет. В другие приходы они тем более не пошли бы. Спустя некоторое время я понял почему. Это было бы равносильно полупризнанию, означало бы, что у них есть тайны, в которых они не хотят исповедаться своему приходскому священнику. Разобравшись в этом, я стал поучать с амвона, что, исповедуясь у меня и утаивая свои грехи, они избирают наихудшее зло. Я сказал: «Если вы собираетесь и впредь так поступать, то лучше не исповедуйтесь вовсе». Но они по-прежнему приходили. Хотя с этого времени еще меньше доверяли мне, потому что приняли мои слова за ловушку, расценили их как коварный прием, с помощью которого я пытаюсь установить, кто из людей втайне от меня пребывает не в ладах с законом. А зачем? Разве я не исповедник, а судебный следователь, что они так остерегаются меня, боятся открыть передо мною душу?
Жалуясь, он сплетал руки. Сжимал их все крепче, потом широко разводил. И снова печально опускал голову.
— Сперва я считал, — продолжал он, — что так обстоит дело только у меня в Сан Систо. Но то же самое происходит и в соседних приходах, только большинство священников к этому привыкли и самый факт умолчания объясняют темнотой населения. А я не думаю, что это результат темноты. Я думаю, что вначале, в ту пору, когда в этих краях распространилось христианство, люди, хоть, наверное, еще более темные, чем в наши дни, были откровенны со своими духовными пастырями. Я думаю, что только позднее они мало-помалу стали другими. По мере того как и мы, священники, становились другими. То есть такими, что откровенничать с нами могло быть опасно.
После такой беседы мы спускались в трапезную и быстро ужинали, но потом уже не возвращались на вершину холма или на наше излюбленное месте. Для этого было слишком темно. А кроме того, у самого подножья горы, между застроенным участком и террасами, тянулась широкая полоса земли, в которой некогда хоронили прокаженных. Днем об этом не думалось, но по вечерам все мы избегали прогулок в том направлении. Одни священники, пользуясь вечерней прохладой, отправлялись в городок за газетами или в лавки, которые летом здесь не закрывались допоздна. Другие шли в больницу сестер святого Спасителя за лекарствами или навещали знакомых. Мы с Пиоланти проводили последние часы дня на внутреннем дворике. Там стояла широкая скамейка, на которую падал свет из окон трапезной. Я садился на скамейку верхом. Пиоланти следовал моему примеру, хотя и несколько смущаясь, потому что для этого ему приходилось задирать сутану. Но в такой позе удобнее было играть, повернувшись лицом к доске, расчерченной на десять клеток, согласно с условиями старой итальянской игры, называющейся сальта, правилам которой священник Пиоланти обучил меня сразу, в первый же вечер. Сам он играл великолепно: бил меня, стало быть, как хотел.
XXIV
Сегодня последний день в Ладзаретто. Двинусь отсюда завтра утром, ровно через неделю после приезда. Физически чувствую себя замечательно. Прошла постоянная сонливость. Сердечное недомогание тоже. Если и заколет в сердце, то лишь при мысли об отце. Никак не могу заставить себя написать ему, а следовало бы. Письмо должно прийти до моего возвращения, в Краков. Высчитываю, сколько это займет времени, и получается, что больше нельзя медлить. Напишу завтра.
Вчера, провожая Пиоланти в городок, я купил малый путеводитель по Риму. Большой, привезенный из Польши, остался в чемодане, который ждет меня в «Ванде». Он сейчас пригодился бы мне, но в то утро, когда я дважды встретился на вокзале с Пиоланти, мне было не до того. По новому путеводителю я проверяю, какие достопримечательности Рима я уже видел и какие не видел. Пробелов много, но что поделаешь. На завтра у меня намечен такой план: заехать в пансионат за чемоданом, отвезти его на вокзал в камеру хранения, в час — Ватиканский музей, потом обед на Пинчио, письмо и снова вокзал. Уже в последний раз. В семь часов вечера — Орсино, там я переночую из уважения к моему хозяину, священнику Пиоланти. В его приход я не потащусь, слишком это далеко от города, и, кроме того, я чувствовал бы себя там неловко. Но в самом городе Орсино мне приятно будет побывать. Пиоланти там родился, окончил семинарию. Напишу ему из Орсино. Я знаю, что открытка, присланная оттуда, доставит ему удовольствие. Хоть таким путем я отблагодарю его за доброе отношение ко мне. К тому же мне известно, что в Орсино находятся знаменитые фрески Рафаэля. В этом отношении я ненасытен. Мне хочется еще до возвращения в Польшу многое увидеть. Лишь бы не в Риме. Теперь Рим угнетает меня. Это глупо, но я с облегчением оттуда уеду. В завтрашний план, вопреки моей горькой обиде, я сознательно включил Ватиканский музей, потому что не хочу, чтобы мною управляли нелепые импульсы. Но мысль о том, чтобы снова пойти туда, вызывает у меня глухое сопротивление.
Образ моей здешней жизни, в общем, все тот же. С той лишь разницей, что теперь — по крайней мере, так было третьего дня и вчера — я провожаю Пиоланти до самого вокзала, затем сажусь в автобус, разумеется, предварительно составив план поездки. И вот в первый день я побывал во Френджене, на чудесном пляже среди пиний, а во второй — в Витербо, замечательном средневековом городе, расположенном на скалах. К обеду не поспеваю. Возвращаюсь только к пяти, к кофе, который мы выпиваем вместе с Пиоланти в его келье перед прогулкой на Монте Агуццо, весь южный склон которой некогда занимали огороды. Усевшись так, чтобы вдыхать свежий морской ветерок, мы, не сговариваясь, неизменно возвращаемся к одному и тому же. Он — к своему конфликту с ватиканскими инстанциями; я — к своей неудавшейся миссии. Мы даже не пытаемся беседовать о чем-либо другом — все равно нам это не удается. Самое большее, на что мы способны, — кружить какое-то время на ближних подступах к главной теме. Да и то не дольше четверти часа.
Вчера зашел разговор о тех двух священниках из Ладзаретто, которые имеют право служить только вечерню. Я спросил:
— Их отстранили от обязанностей?
— Да.
— Они в чем-то провинились?
— Можно и так сказать.
— Нарушили шестую заповедь?
Пиоланти покраснел, как девушка.
— Да нет же, — сказал он, — таких здесь нет. Священники, которые согрешили плотски, или те, что из корыстолюбия нарушили заповеди господни, не останавливаются в Ладзаретто, когда Рим вызывает их для объяснений.
— В чем же их вина? — заинтересовался я.
— В толковании доктрины, — прошептал Пиоланти. — Может, мы лучше оставим этот разговор…
Но сам же продолжал об этом говорить. Он рассказал, что много лет назад, однако в те времена, когда в лепрозории давно уже не было больных, священники, оказавшиеся в его положении, останавливались в Ладзаретто, потому что в римских монастырях и домах, принадлежавших орденам, где обычно находит приют приезжее духовенство, их боялись и неохотно к себе пускали. Считалось, что общение с такими людьми может бросить тень на наивных, или неосторожных, или на тех, у кого есть враги.
— Так было когда-то, — сказал он. — В наши дни и это изменилось. Но обычай сохранился, и многие из тех, кого вызывают в Рим по тем же причинам, что и меня, по-прежнему держатся за Ладзаретто.
— Из смирения?
— Вероятно. А кроме того, не хотят навязываться. Потому что хоть и смешно в наши дни предполагать, будто общение с нами для кого-то опасно, удовольствия оно никому не доставляет.
— Почему? — спросил я. — Неужели из-за вашей репутации?
— В известной мере. Но мы сами находим способ к тому, чтобы не замарать чью-либо репутацию. Мы избегаем, тех, кому встречи с нами могут повредить. Вообще стараемся быть от них подальше. Даже здесь, в Ладзаретто, как вы заметили, мы держимся друг от друга на расстоянии. Значит, главная причина, по которой мы выбираем Ладзаретто, не в этом. Мы попросту в тягость некоторым людям. Наподобие того, как голодные тяготят сытых. Мы это понимаем.
— Но меня вы не избегали, — напомнил я ему. — Вы даже пригласили меня в Ладзаретто.
— Я ничем не могу повредить вам, потому что вы не принадлежите к нашей среде, — ответил Пиоланти. — И мое общество не тяготит вас, ибо присутствие наше тягостно в том смысле, в каком я употребил это слово, — только для тех, кто мог бы нам помочь.
— Но не приходят к нам на помощь, — закончил я его мысль.
— Не могут, — поправил он меня. — Не всегда могут.
— А отец де Вос? — спросил я. — Вы ему тоже были в тягость?
— Не думаю, — ответил он. — Он проявил ко мне столько доброты!
— Ко мне тоже, — заметил я. — Только ничего из этого не вышло.
— Потому что таких, как он, мало, — сказал Пиоланти. — И слишком много таких, как мы. Нуждающихся.
— А какой же он? — размышлял я вслух. — Чем же он отличается от других?
Пиоланти снова покраснел. Но на этот раз совсем по другой причине. Пожалуй, испугался, как бы его слова не показались бы мне слишком наивными. В конце концов он тихо сказал:
— Добротой.
— Ну, а что такое доброта? — рассмеялся я.
Пиоланти помрачнел и слегка от меня отодвинулся. Я увидел его лицо в профиль. Выступающие скулы, выразительный кривой нос и стиснутые зубы.
— Ну? — повторил я.
— Это значит думать о другом человеке, — услышал я наконец. — Люди по преимуществу думают только о себе, и это исключает понятие доброты. Некоторые думают о всех, и это тоже не есть доброта. И только люди исключительные думают о других, иначе говоря — о том или ином человеке в отдельности, и это и есть доброта.
— То есть любовь к ближнему, — отметил я.
— Зачем же так иронически? — возмутился Пиоланти. — А во имя чего вы обращаетесь к отцу де Восу или даже к его преосвященству, если не во имя любви к ближнему?
— Во имя справедливости, — возразил я.
— Нет, сударь, — твердо сказал Пиоланти. — Вы обратились к ним не потому, что рассчитывали, будто они вознегодуют, узнав, что нарушено право. Вы обратились к ним, рассчитывая тронуть их сердца вестью о том, как пострадал ваш отец!
— Возможно, — согласился я.
— Вот видите!
Если до сих пор мы затрагивали темы, лишь косвенно связанные с нашими невзгодами, то после этих слов заговорили о них впрямую. Первым не выдержал священник Пиоланти.
— У вас были некоторые шансы, а у меня, пожалуй, никаких, — сказал он.
— А в чем же, собственно, разница? — спросил я.
— Вы приехали сюда, — ответил он, — чтобы заступиться за одного человека. А я — за многих, очень многих. Лишь в Риме я понял, что участь всех моих прихожан разделяют сотни, сотни тысяч людей. Потому-то и безнадежно их дело. А значит, и мое. Либо же мне надо отречься от них, от правды о них и от моих мыслей об этой правде.
— Как это понять?
— Я должен отречься от моей книжки. Но разве мое отречение от книги изменит действительность хоть на самую малость?
— А что же такое ужасное вы написали в своей книге? — заинтересовался я.
— Ничего сверх того, что каждый заметит у нас, если захочет раскрыть глаза. Следовательно, ничего сверх того, о чем я вам говорил вчера или позавчера. А говорил я о том, что люди у нас боятся своих священников и лгут им.
Но из дальнейших его слов я понял, что в сочинении, которое мне не захотели продать в ватиканской книжной лавке и даже отказались сообщить заглавие, священник Пиоланти пошел дальше: не ограничиваясь описанием фактов и статистикой, он углубился в исторические параллели и занялся их анализом. Рассказывая историю Сан Систо, Пиоланти напомнил, что селение это принадлежало церкви, а его епархия в течение целых столетий входила в состав церковного государства. Это кое-кому не понравилось. Не понравились также страницы, где говорится о страхе, внушаемом церковью, а более всего формула (в ее достоверности он сам теперь усомнился), обращенная против слепого фанатизма священников, из-за которого духовное начало жизни становится чисто формальным, а посему и лживым.
Но самое худшее было в заключительных страницах книги. Кажется, там приводилось нечто вроде письма или воззвания, в котором содержалось поучение, а это само по себе уже было оскорбительно. Состояло это поучение из двух частей. В первой Пиоланти говорил о нищенских условиях существования в Сан Систо, о разящем контрасте с жизнью богачей, помещиков и фабрикантов, обитающих в роскошных особняках. Во второй части он обращался к священникам, работающим в таких же приходах, как Сан Систо, и призывал их любой ценой вернуть доверие бедняков, ибо может настать день, когда они пойдут на своих пастырей, а те, против кого бедняки возмутятся и на кого поднимут руку, ни в какой мере не могут стать мучениками, ведь мучениками становятся только малые сии, против которых пошли богатые, а вовсе не богатые или их пособники, против которых пошли убогие. Письмо заканчивалось прямой скобкой с латинскими словами: «Sanguis iste non est venerandus».
— Это значит, — пояснил он, излагая мне смысл своего рассуждения, — «Крови той не может быть воздана честь».
— Кровь всегда есть кровь, — ответил я. — По-моему, в наши дни одно только это и верно.
Пиоланти еще больше загрустил. Он не сводил глаз со своих больших натруженных рук.
— Я вовсе не призывал к кровопролитию, — сказал он. — Никогда бы мне и в голову не пришло что-либо подобное. Я написал лишь, что если бы настал день подведения итогов, то у нас не было бы права на это столь возвышенное утешение, поскольку не всякая пролитая нами кровь есть кровь мученическая. К тому же я написал об этом всего несколько фраз в моей книге. В основном из-за этих фраз да еще из-за десятка других и возник разговор. А не из-за того, что исповеди у нас неправдивые. С этим даже здесь, в Риме, соглашаются, считая, что так оно и есть и нужно это исправить.
— Где вы издали книжку? — спросил я.
— В Орсино.
— Имея imprimatur[50] своего епископа?
— Да. Мой епископ одобрил ее содержание и подписал к печати. Его епархия одна из беднейших у нас. Я полагаю, что о многих наших делах он думает то же, что и я. В моей книжке, впрочем, нет никакой ереси. Даже в Риме ее ни в чем таком не обвиняют. Ее осуждают за другое.
— За что?
— За несвоевременные мысли.
Вчера я спросил еще, надеется ли Пиоланти вернуться в Сан Систо.
— Пожалуй, да, — ответил он. — Куда же они меня денут? Нелегко им найти приход более убогий, чем мой! И к тому же мое возвращение в Сан Систо отнюдь не будет победой. Меня предупредили, что я в любом случае буду обязан, вернувшись в приход, обойти людей, которых оскорбил моей книгой, и заявить, что полностью от нее отрекаюсь. Через несколько лет люди обо всем забудут, однако вначале мне будет весьма несладко.
Речь зашла о нашей первой встрече у отца де Воса, а затем о встрече в Ватиканской библиотеке. Я вспомнил, с каким упорством он вчитывался в книги, всякий раз другие, и заговорил об этом, предположив, что чтением столь разнообразных трудов он, вероятно, старался обосновать свои аргументы.
— Только вначале! — возразил он. — Теперь ищу в книгах обоснование тех аргументов, которыми желал бы руководствоваться.
Я спросил Пиоланти, когда он увидит отца де Воса. Он ответил, что зайдет к нему проститься перед отъездом, когда он посетит всех тех, у кого бывал по своей воле, и тех, к кому его официально вызывали. В последнее время, впрочем, он не виделся ни с кем, ни с первыми, ни со вторыми, и только ждал.
— Долго ли еще? — спросил я.
— Это еще протянется, — ответил он.
Сегодня — отступление от нашего обычного круга тем. Да и вообще мы беседуем недолго. Спускаемся со склона горы к семи часам, потому что ужин подадут раньше обычного. В сумерки состоится ежегодное торжественное шествие. Древний обычай, связанный по традиции с теми временами, когда лепрозорий заселяли прокаженные. Их нет здесь уже несколько веков, но обряд сохранился. Торжественная церемония происходит уже в полной темноте. Тогда на вершине Монте Агуццо появляется головная колонна первой процессии, рядом — передние ряды второй и третьей. Всего их десять. По числу соседних приходов и храмов. Одним идти до нас недолго, другим подольше. Они выходят из дому в разное время, с тем чтобы одновременно окружить нас. Эхо их песен разносится по всей околице. Первые, далекие-далекие голоса мы с Пиоланти услышали, когда еще сидели на горе. Пока мы ужинали, звуки поплыли уже со всех сторон. Наступают сумерки, и тогда все мы, обитатели монастырского приюта, собираемся во внутреннем дворике, со стороны огородов. Каждый из нас держит в левой руке дощечку, а в правой палочку. Поднимаясь в гору, мы время от времени ударяем палочкой по дощечке. Столетия назад наши предшественники, населявшие лепрозорий и принимавшие участие в церемонии, держали в руках предписанные правилами колотушки, чтобы предупреждать здоровых о своем приближении. Наши дощечки и палочки — это символические подобия тех колотушек.
Когда священник Пиоланти во время нашей сегодняшней беседы стал уговаривать меня пойти на церемонию, я вначале отказался, опасаясь, что встречу пани Рогульскую и пани Козицкую, как в тот раз, когда я впервые попал в Ладзаретто. О встрече с ними я вспомнил, впрочем, спустя несколько часов после того, как второй раз приехал в Ладзаретто, и все дни, пока здесь жил, старательно обходил больницу, в которой бывала Рогульская. Мне не хотелось, чтобы Пиоланти подумал, будто меня смущает характер церемонии, и я признался, почему у меня нет охоты сопровождать его. Однако он меня успокоил.
— Не придут! — уверенно сказал он.
— Но ведь в прошлый раз на выступлении хора и труппы, которая давала спектакль, они были. Как же можно знать, что они сегодня не придут?
— Да на эту церемонию никто не приходит. Даже сестры из больницы. Потому что шествие давно уже утеряло всякий религиозный смысл. Осталось суеверие. Рим мало-помалу отменяет все эти, уже несколько выродившиеся, ритуалы. Церемония в Ладзаретто пока еще сохранилась из-за упорства простых людей, которые живут в окрестных приходах. Ручаюсь, что, кроме них и нас, никого не будет.
Он оказался прав. Из монастыря тропинками на гору нас поднималось самое большее человек пятнадцать. Священники, вместе с которыми я столовался, кухонная прислуга, церковный сторож, причетники из нашей церкви, я — вот и все. Что касается процессий, то они тоже были немноголюдны, по крайней мере, если судить по доносившимся сюда голосам. Когда все уже собрались, хор зазвучал более мощно, теперь пели на одну ноту — ноту скорбного псалма, который исполняют, опуская останки в могилу:
«Chorus angelorum vos suscipiat et cum Lazaro quondam paupere aeternam habeatis requiem».
— «Дабы вас, — шепотом начал переводить Пиоланти, — хоры ангельские приняли, и дабы вас, яко Лазаря, убогого сына сей земли, ожидал вечный покой…»
— Я понимаю, — перебил я его. — Я знаю латынь.
В свете факелов, фонарей и маленьких лампадок мелькали перед нами образа или фигуры святых. Участники процессии принесли их из окрестных приходских церквей и часовен. Они изображали покровителей или покровительниц этих церквей и часовен, построенных в их честь. Люди, несшие святые образа, наклоняли их в нашу сторону — мы находились значительно ниже — так, чтобы мы могли их получше разглядеть, и, вероятно, для того, чтобы святым, изображенным на образах, легче было подарить нам свой милосердный взор. А мы — теперь согласно ритуалу и, конечно уж, не для того, чтобы отпугнуть от себя, а, напротив, чтобы привлечь к себе внимание святых, — непрерывно, как огромные черные сверчки, громыхали в темноте деревяшками.
XXV
На следующий день, еще утром, я вернулся в Рим. Встал я, как обычно, уложил свои вещи в сумку и вместе с Пиоланти отправился на вокзал. Я был благодарен ему за гостеприимство, и мне было тяжело с ним расставаться. В поезде я еще раз попытался уговорить его пойти со мной в Ватиканский музей. Тщетно. Пиоланти тоже было жаль расставаться со мной. Я чувствовал это. В вагоне он сел в угол, то и дело поглядывал на меня оттуда и печально улыбался. Всякий раз при этом он молча кивал своей большой рыжеватой головой, но ни пообедать со мной, ни пойти в музей не захотел. На первом я не настаивал, помня, по каким соображениям он всегда отказывается посещать рестораны. Однако музей — иное дело. Да и причины, по которым он отказывался сопровождать меня, оказались совсем другого порядка. Так как я от него не отставал, то в конце концов ему не без труда удалось их изложить. Сперва он признался, что привык ежедневно бывать в библиотеке и без обычной порции чтения чувствовал бы себя плохо. А затем эту психологическую мотивировку подкрепил другой, более существенной. Оказалось, что через несколько дней библиотека вместе со всеми другими ватиканскими учреждениями, как и каждый год в это время, закрывает свои двустворчатые двери на целых шесть недель.
— Вы хотите насытиться разными мудрыми текстами на шесть недель вперед? — спросил я.
— Даже не в том дело, — ответил он. — Но перед большими каникулами в курии принимают множество решений. Я хочу быть готов на тот случай, если курия предложит мне вернуться в мой приход. А я еще многое не успел проштудировать.
Я выглянул в окно и увидел разбегающиеся рельсовые пути. Стационе Термини. Стремительно пронесся экспресс, шедший в противоположном направлении. Длинные синие вагоны — значит, поезд дальний, или, точнее, международный. Он промелькнул, грохоча, и исчез, напомнив мне, что и я через несколько дней в Венеции или в Удино сяду в такой же поезд и помчусь назад в Польшу. Я пожалел, что момент этот уже так близок. Но, быть может, меня встревожил не только вид мчащегося поезда и мысль о скором отъезде. Я все еще был в обиде на Ватиканскую библиотеку, не позволившую мне закончить мою работу. Упомянув о библиотеке, Пиоланти задел мое больное место, до такой степени чувствительное, что, несмотря на всю нашу дружбу, я никак не смог искренне огорчиться из-за того, что библиотека вскоре закроется для всех.
Заскрежетали тормоза. Раз, другой, третий, десятый. Наконец — в окнах тень. Это мы из залитого солнцем пространства въехали под широкий навес над перроном. Я взял сумку. Пиоланти протянул мне руку.
— Спасибо за компанию, — сказал он.
— Да за что меня благодарить! — ответил я. — Это я должен выразить вам самую искреннюю и глубокую благодарность. Мне хотелось бы поддерживать с вами связь. Вернувшись домой, я напишу вам.
Мы стояли посредине купе, загораживая дорогу нашим попутчикам. Поэтому мы вышли в коридор, а затем на перрон. Здесь мы снова обменялись рукопожатием, таким же крепким и продолжительным, как и все предыдущие. Раньше, в коридоре и в купе, мы сократили церемонию прощания потому, что на нас напирали люди, теперь ее оборвал сам Пиоланти.
— Что касается писем, — сказал он, — лучше пока не пишите. Если я вернусь в мой приход, люди там темные, письма из-за железного занавеса могут вызвать нежелательные толки. Но вы как-нибудь за меня помолитесь, как и я за вас, хотя вы, кажется, не очень в бога веруете, а я после всего, что случилось, не очень ему мил. Все-таки вздох, обращенный к нему, всегда останется вздохом. А теперь поспешите и используйте каждое мгновение своего последнего дня в Риме. А я пойду помаленьку, у меня как-никак есть время.
Но он проводил меня до такси. Я больше не предлагал подвезти его, зная наперед, что ничего не добьюсь. Прежде чем машина сразу за вокзалом свернула влево, мы еще помахали друг другу рукой. За углом — улица Джолитти, арка Порта Маджоре, фронтон собора святого Креста Иерусалимского, дорога, по которой я столько раз ездил на всех видах транспорта, и наконец — виа Авеццано, пансионат «Ванда».
Звоню. Мне открывает камерьера с возгласом:
— Ах, синьор профессор! Где вы пропадали столько времени?
До сих пор, обращаясь ко мне, она довольствовалась титулом «доктор». Я не возражал, зная местный обычай, по которому все титулуют друг друга, не разбирая, есть к тому основания или нет. Впрочем, что касается камерьеры, то она вообще разговаривала со мной крайне редко. Мое произношение и мой синтаксис пугали ее, вызывая на ее лице беспомощную гримасу. Помня об этом, я стараюсь строить простые фразы и задавать несложные вопросы.
— Так, немножко путешествовал, — отвечаю я. — Дома ли синьора Рогульская?
— Нет, она в больнице.
— А синьор Шумовский?
— Ездит по Риму с туристами.
— Ну, может быть, есть синьора Козицкая?
— Тоже в больнице. Все вернутся к обеду. Не подождете ли, синьор профессор?
— Увы. Я очень спешу. Передайте от меня всем сердечный привет. Я только возьму чемодан и тут же умчусь.
Она не двигается с места.
— Господа будут очень, очень огорчены!
Она стоит, как столб, и, кажется, твердо намерена удержать меня. Тогда я сую ей в руку деньги, которые заготовил, чтобы вручить перед самым уходом, Я прошу ее также на минутку отворить любую из комнат для постояльцев, если есть незанятая, либо указать мне место, где я мог бы уложить чемодан, потому что я хочу впихнуть в него вещи, которые привез с собой. Но камерьера словно приросла к полу.
— А вы знаете, синьор профессор, что вам тут звонили без конца? — спрашивает она.
— Кто? — говорю я. — Откуда?
— Dappertutto, — отвечает она. — Dappertutto!
Отовсюду! Значение этого слова широкое и для данного случая преувеличенное, но само известие, конечно, потрясающее. Я еще раз пытаюсь добиться от нее чего-то более конкретного.
— Вы не помните ни одной фамилии? — допытываюсь я. — Никаких подробностей?
— C’è anche una lettera per lei[51], — отвечает она на это.
— Письмо! Ну так дайте его!
Камерьера исчезает. Немало времени спустя она возвращается, неся обеими руками чемодан. На чемодане письмо, засунутое под перевязывающий его ремень. Я тянусь за письмом, а камерьера с гордостью сообщает:
— Вспомнила! Вам звонили от одного адвоката,-а еще из одного учреждения в курии.
Разрываю конверт. В передней темно. Зажигаю свет.
— Ваша прежняя комната не занята, — говорит камерьера. — Я туда отнесу чемодан.
— Чудесно! Сейчас иду!
Теперь я, в свою очередь, не двигаюсь с места. Руки у меня дрожат, буквы пляшут перед глазами. Все то, что я старательно усыплял в себе в течение недели, проведенной в Ладзаретто, просыпается, оживает. Факты, обиды, душевные муки. Только что я был за сто миль ото всего этого и вот попадаю в самый центр прежней мути. А буквы все пляшут и пляшут. Бумага из канцелярии синьора Кампилли, его почерк, знакомая подпись, слов немного, все понятны, а я стою и стою, читаю и читаю и ничего не могу понять. Смотрю на письмо, как на клочок земли за окном самолета, садящегося на крыло. Абсолютно ничего не могу ухватить. Целое состоит из сотни раз виденных частиц, но они странно вращаются вокруг неуловимой оси. Кампилли пишет, чтобы я сразу по приезде позвонил ему. Беспокоится, успеем ли до столь близких уже каникул в курии осуществить намеченные нами действия, необходимые для завершения дела. В этом месте он не поскупился на нежные упреки: почему я так легкомысленно затянул свою туристскую поездку за пределы Рима. Затем он сообщает все номера телефонов: виллы в Остии, своего клуба в Риме, домашний. Стандартная формула вежливости в конце письма — самая сердечная. Прячу письмо в карман. Но почти сразу же снова его достаю. В течение четверти часа не могу прийти в себя. А когда ясность сознания наконец ко мне возвращается, я снова извлекаю письмо. Звоню по очереди по всем указанным телефонам. В Остии мне говорят, что он уехал в Рим, дома сообщают, что ушел в город, в клубе — что обычно приходит около часу. Смотрю на часы — девять.
Беру сумку и перехожу в мою прежнюю комнату. Открываю чемодан, но, едва прикоснувшись к нему, застываю в неподвижности. Вдруг мне приходит в голову, что Малинский может кое-что мне объяснить. Прохожу мимо столовой и останавливаюсь у его двери. Стучу раз, другой. Бульдог заливается за дверью, но никто на мой стук не откликается. Иду на кухню, чтобы узнать, когда вернется Малинский. В кухне — камерьера. Спрашиваю:
— А когда будет дома синьор Малинский?
— Он в больнице.
— Что же такое? — говорю я. — Почему сегодня все ваши понеслись в больницу?
— Он болен, — отвечает девушка. — Как только вы уехали, его забрали в больницу.
— Ах так! Что-нибудь серьезное?
— Сердечный приступ.
— Вот как!
Возвращаюсь к своему чемодану, но попутно у меня возникает еще одна идея. Отыскиваю в записной книжке номер телефона священника де Воса, который когда-то мне дал Кампилли. Звоню. Его тоже нет дома. Спрашиваю, когда можно его застать. В ответ слышу:
— Его нет в Риме. Будет после каникул.
Я отхожу от телефона и в темной передней сталкиваюсь с камерьерой. Она пришла посмотреть, уложил ли я уже вещи, а то ей надо сбегать в город.
— Минутку, — говорю я, — минутку. В какой больнице находится пан Малинский?
— При монастыре святого Варфоломея, на острове.
Я догадываюсь, о каком острове идет речь. В Риме есть только один — на Тибре. Там помещается старинная больница, которую содержит монашеский орден бонифратров.
— Сегодня не уеду! — решаю я. — Можно у вас переночевать?
— Хозяева, наверное, согласятся! Не знаю только, может, они кому-нибудь сдали вашу прежнюю комнату. Кажется, нет.
— Значит, согласятся! Во всяком случае, найдется ведь свободная комната?
— Есть комнаты. Есть!
— Тогда, если понадобится, вы, может, перенесете мои вещи, а то я сейчас очень спешу?
Сбегаю по лестнице, беру такси и еду на этот остров. Заставляю себя усесться поудобнее, однако поминутно спохватываюсь, что сижу подавшись всем корпусом вперед и напряженно слежу за мостовой, где перед нами то и дело возникают какие-нибудь препятствия. Я вспоминаю во всех подробностях последний этап моего пребывания в Риме, начиная от первой беседы с Малинским, прояснившей положение в самых общих чертах, и вплоть до последней беседы — с кардиналом, когда я уже капитулировал. Логика их была железной, и вывод следовал только один. Я чувствовал его мощь и смысл даже тогда, когда не мог с ним примириться и метался в отчаянии по всему Риму. В Ладзаретто, постепенно набираясь сил и успокаиваясь, я еще отчетливее видел, что, на мое несчастье, обстоятельства, так или иначе связанные с делом моего отца, в Риме могли привести к одному-единственному исходу, — именно к тому, к которому привели. Чувствуя это, я хоть и по-прежнему с болью думал об отце и возмущался обрушившейся на нас несправедливостью, но как-то привык к своему поражению, и главным образом потому, что за ним стояла логика, чуждая мне, но до сих пор скреплявшая все звенья в моем деле очень по-своему последовательно и точно.
Но, видимо, я был не прав. Это доказывало письмо Кампилли, не оставлявшее никаких сомнений! Да, это доказывало содержание письма, и прежде всего — его тон, звучавший так, словно хлопоты, ожидавшие нас в курии и необходимые для завершения дела, были непосредственно связаны с ранее принятыми мерами, вытекали из предыдущего положения вещей, а их целесообразность не стояла ни в какой связи с неким обозначившимся переломом. Само собой понятно, что адвокат сумел бы найти нужный стиль, если бы возникло нечто действительно новое. Именно таким новым, например, был факт смерти епископа Гожелинского. Я отлично помнил все обстоятельства того дня: Кампилли вызвал меня к себе домой из библиотеки и с энтузиазмом говорил о важном для нас событии. Но это его письмо было выдержано совсем в другом тоне. Я ничего не понимал, и мне стало страшно. Если новых фактов нет и сохраняет силу прежняя ситуация, то не означает ли это, что Кампилли затеял всю игру попросту потому, что ему захотелось приложить целительный бальзам к моей ране?
Такой поступок был бы в его духе. Правда, кроме Кампилли, в пансионат звонили из курии, вероятно, из секретариата Роты, но, возможно, и здесь дело не обошлось без его участия. Могло случиться и так: после моего отъезда Кампилли одумался, поговорил с монсиньором Риго и с кем-нибудь еще и решил, что его не осудят, если он позволит себе красивый жест. Отсюда письмо и, разумеется, заранее подготовленное предложение. К примеру, посоветует мне подать прошение, заявление или выполнить другую формальность, которая по существу, ничего не изменит, но зато я уеду из Рима в уверенности, что все здесь стремились мне помочь — и та инстанция, куда я обратился, и мои покровители. Добренькими всюду любят быть! Убедив себя, что рассчитывать мне не на что, я пришел в ужас. Едва ли полчаса назад я получил письмо. Все это время меня томила неуверенность, я напрягал все свои умственные способности, силясь понять, что же скрывается за словами Кампилли. Но и несмотря ни на что, как видно, мои старые надежды ожили, потому что у меня даже в глазах потемнело при мысли, что письмо нисколько не меняет положения.
Такси сворачивает на мост, въезжает во двор больницы, останавливается. Я вхожу в ворота и звоню в дежурную. Никто не открывает. Я заглядываю в дверь на противоположной стороне. Меня посылают из флигеля во флигель и с этажа на этаж, пока наконец я не попадаю в большую палату, душную, темную. Я медленно иду вдоль кроватей. Их много. У правой стены один ряд, у левой — другой, а потом еще поперек палаты — третий и четвертый. Сущий лабиринт. Я плутаю довольно долго. Наконец нахожу кровать Малинского. Глаза у него закрыты. Бескровные руки лежат на сером потертом одеяле. На маленькой табуретке, втиснутой между кроватями Малинского и его соседа, сидит Козицкая. Я дотрагиваюсь до ее плеча. Она оборачивается. В этот момент Малинский открывает глаза.
— О, — улыбается он, — вот и наша пропавшая душа! — И обращаясь к Козицкой: — Видишь, я все время говорил, что он явится!
— Я приехал сегодня утром и только в пансионате узнал, что вы больны.
Пауза. Малинский с трудом произносит:
— Ну вот, удалось вам добиться своего. Я никак не предполагал!
— Ничего еще не знаю. Я вернулся час назад.
Он на это:
— Добился и смотал удочки! Все уверяли, будто вы к нам даже не заглянете, чтобы попрощаться. Не станете тратить время.
Мы явно не понимаем друг друга, и мало того, что не понимаем, — он-то в курсе событий, которые произошли за время моего отсутствия, а я нет. Значит, что-то все-таки случилось. Я упорно смотрю ему в глаза. Выражение их изменилось из-за болезни, да к тому же он снял роговые очки, в которых я привык его видеть. Малинский мерно дышит. Рот у него открыт. Иногда из горла вырывается короткий спазматический вздох. Неудобно спрашивать о моем деле. Да и сердце у меня сжимается, когда я гляжу на Малинского. Справа и слева — кровати, на одной из них больной стонет, на другой хрипит. И какая духота!
— Может, вы сядете, — говорит Козицкая. — На минуточку, потому что его утомляют визиты.
Малинский смотрит на нее, а потом, когда я отвечаю, переводит взгляд на меня.
— Я сейчас уйду, — успокаиваю я Козицкую. — Мне хочется только узнать, как себя чувствует пан Малинский.
Она:
— Теперь уж лучше.
Он:
— Лишь бы мне позволили домой вернуться, тогда все будет хорошо.
Я мимоходом упоминаю, что был в пансионате и попросил оставить за мной комнату, а кстати выражаю надежду, что с этим все будет в порядке.
Козицкая:
— Все-таки лучше предупреждать заранее. Неужели так трудно прислать открытку?
Малинский:
— Ах, не приставай к нему!
Я — Козицкой:
— Уже вернувшись в Рим, я изменил свои планы. А пока ехал, мне и в голову не приходило, что я здесь еще задержусь! — И тут же к Малинскому: — Вы помните, какое у меня было плохое настроение, когда мы в последний раз виделись. Впрочем, я описал вам мои переживания в письме.
— Да, но настроение изменилось после визита к кардиналу! Скрытный вы человек и настойчивый. Во всяком случае, поздравляю! Поздравляю!
Я онемел. Меня охватило то же самое чувство, что и при чтении письма Кампилли. Опять все закружилось. Видение, которое сперва лишь промелькнуло передо мной, теперь снова возникло и на этот раз приняло более отчетливые формы. Нахлынувшая на меня радость напоминала то блаженное состояние, которое я испытал после первого визита к монсиньору Риго. Я по-прежнему не понимал, что же произошло, но все сигналы, полученные мной с утра, говорили об одном и том же. Надежда превращалась в уверенность. Я не мог дольше ей противиться и вдруг почувствовал, как что-то нежно щекочет мои глаза; я сразу взял себя в руки и встал.
— Я загляну к вам, — сказал я, — если не завтра, так послезавтра. А пока пожелаю скорейшего выздоровления.
XXVI
В час дня мне удалось наконец созвониться с Кампилли. Он был в своем клубе и просил меня тотчас туда прийти. Я уже разбирался во всех интонациях голоса адвоката, во всей их гамме, начиная от сердечной, отеческой и кончая равнодушно-отчужденной, прячущей неловкость, как было во время нашего последнего разговора, когда он отказал мне от дома и уговаривал предоставить дело, ради которого я приехал в Рим, своему течению. Теперь он снова очень тепло и с дружеским нетерпением приветствовал меня.
— Мне передали ваше письмо, — сообщил я. — Поэтому я звоню.
Он секунду помолчал, но тут же заговорил с радостным оживлением:
— Как же я доволен! А я уже тревожился! У тебя стальные нервы, если ты способен в самый разгар наших хлопот уехать из Рима и вернуться к последнему звонку.
Мне стало стыдно за него. Как легко, без тени смущения, он искажает правду. Если бы у меня хватило времени на размышления, я не стал бы с ним спорить, не старался бы уточнять факты. Ведь значение имело только то, что дело ожило и Кампилли снова хочет и может мне помочь. Но, не успев еще сообразить, как мало для меня толку в том, чтобы прижать его к стенке, я уже сказал:
— Я не предполагал, что мы еще увидимся. Разве вы не получили мое письмо?
Снова секунда тишины, а затем:
— Ах да, получил. Разреши тебе сказать: ты немножко погорячился. Забудем об этом. А теперь бросай все дела и беги сюда как можно скорее. Я жажду тебя увидеть и так же сильно хочу есть. А без тебя не буду завтракать.
Таким образом, прямо из бара, откуда я звонил, я поехал на такси по адресу, указанному Кампилли. Палаццо Шара-Колонна на Корсо, вход со двора направо, второй этаж. Название клуба «Чирколо Романо». Вот и он! Высокая, украшенная резьбой дверь. Медный звонок в большой вогнутой и вмурованной в стену оправе. Звоню. Швейцар в ливрее. Гардеробщик в ливрее. Метрдотель во фраке, как и кельнеры, — впрочем, они стоят без дела, потому что в зале почти пусто. Справляюсь о Кампилли. Он сидит в углу. Верен себе — легко вскакивает, едва завидев меня. Следуют приветствия, как в лучшие времена: сияющие улыбки, долгие рукопожатия.
— Ты чудесно выглядишь! — говорит Кампилли. — Загорелый, веселый. Точная копия твоего отца. Он, как и ты, великолепно восстанавливал силы, пробыв всего несколько дней вне Рима. Тебя словно подменили! Небось зарылся где-нибудь у моря, не думая ни о каких великих достижениях туризма. Иначе ты бы так не отдохнул. Признавайся.
— В известной мере, — отвечаю я.
— Очень умно! Очень умно! В эту пору года любая поездка — пытка. Рим — тоже пытка. Водить машину по Риму — пытка. Рестораны, набитые туристами, — пытка. Хвала всевышнему, у нас хоть есть клуб; у нас — значит, у ватиканских адвокатов и высших светских чиновников. Здесь просторно и прохладно. Ну и, как видишь, пусто, потому что каждый, кто только мог, уже сбежал. А через несколько дней мы вообще закрываем…
— Клуб?
— Прежде всего — курию! Остаются только дежурные, а прочие, от кардиналов до референтов, разъезжаются на большие каникулы. Трибуналы тоже закрывают свои врата.
Я уже слышал о наступающих каникулах. Совсем недавно о них упомянул священник Пиоланти. Возможно, даже сказал, когда они начинаются, но тогда все связанное с курией меня уже не интересовало, и я пропустил его слова мимо ушей. Теперь я живо спросил:
— Через сколько дней? Сколько дней у меня еще осталось?
— Пять, а точнее — четыре, потому что монсиньор Риго покинет свою канцелярию днем раньше.
— В пансионате говорят, будто мне звонили из курии. Как вы думаете, это он меня вызывал? — тихо спросил я.
— Конечно! Только не он лично, а его секретарь. Впрочем, так мы и договаривались, он, ты и я.
— Значит, теперь можно без всяких препятствий отправить из Рима в Торунь какое-нибудь дело с пометкой, что вести его поручено отцу?
— Разумеется! Но, поскольку ни в моей канцелярии, ни у близких мне коллег не нашлось ни одного дела, которое можно было бы со сколько-нибудь веским основанием переслать для частичного доследования в Торунь, мы с монсиньором Риго пришли к выводу, что здесь лучше применить другой метод, ведущий к той же цели. Я тебе уже говорил о нем. Я имею в виду так называемое подтверждение места жительства. Ты представляешь себе, в чем тут суть?
— Да, — ответил я.
Конечно, я все представлял себе и, зная, в чем тут суть, знал и нечто другое: в той мере, как менялись интонации голоса адвоката Кампилли, менялись и методы, которые он избирал. Одни в большей степени требовали участия его собственной канцелярии или канцелярии дружески расположенных к нему коллег, другие — в меньшей. Я понимал, кроме того, что все дела, которые можно было передать в Торунь, разом исчезли, хотя уже после смерти епископа Гожелинского, в день нашей полной оптимизма беседы в канцелярии одного только Кампилли их было полным-полно. Что касается метода, о котором теперь упомянул Кампилли, то он заключался в следующем: по просьбе отца Рота должна подтвердить тот факт, что он поселился в пределах определенной епархии и приступил к выполнению своих обязанностей в местной курии. Адвокаты, связанные с Ротой, каждые несколько лет должны получать новые справки. Следовательно, с бюрократической точки зрения, метод был хорош для того, чтобы узаконить положение отца. Но изо всех методов, которые мы обсуждали, этот, единственный, лично никак не затрагивал Кампилли. Меня это поразило.
— У тебя найдется еще пустой бланк с подписью отца?
— Да.
— Зайдешь ко мне, я тебе продиктую стандартную латинскую форму. Ты ее перепишешь и обязательно сегодня же отнесешь письмо, теперь уже каждый час на счету.
Он наклонился над тарелкой, старательно накручивая на вилку макароны. В огромном зале, где мы сидели, царил полумрак. Плотные драпировки на окнах не пропускали солнца. Время от времени к нам подходил кельнер и справлялся, не нуждаемся ли мы в его услугах. В зале по-прежнему было пустовато. Кроме нашего столика, были заняты еще три, а может, четыре. За каждым — солидные господа в возрасте Кампилли или даже постарше. Кампилли всех знал: с каждым входящим он обменивался поклонами. Кельнеры сразу обступали нового посетителя. Но едва он выбирал себе столик, большинство кельнеров, утратив к нему интерес, исчезало. В центре зала снова становилось пусто. Тогда, глядя прямо вперед, я видел только две колоссальные кариатиды, подпирающие мраморную плиту над камином, тоже гигантским — в него можно было бы войти не сгибаясь. Кампилли ел макароны, я тоже. Молчание затягивалось. Я подумал, что, быть может, неправильно его осуждаю. Допустим, он не хочет впутывать себя в это дело. Но ведь он по-прежнему готов мне помочь, и это следует ценить. Только теперь всякая приподнятость тона вызывала у меня внутренний отпор. Не мог же я после всего, что перенес, оставаться по-прежнему наивным и доверчивым.
— Благодарю вас, — сказал я. — Я приду в четыре, не раньше, чтобы не испортить вам послеобеденный отдых.
— Но и не позднее. Письмо надо передать в секретариат монсиньора Риго до шести. Так, чтобы он успел его прочесть еще сегодня вечером.
— А ответ?
— Дадут тебе в руки. Но ты должен нажимать на секретаря.
— Благодарю, — повторил я. — Разрешите все-таки задать вам несколько вопросов?
Кампилли покончил с макаронами и как раз в это мгновение отодвигал от себя тарелку. Руки его замерли; не снимая их со стола, он повернулся ко мне, и лицо его растянулось в улыбке, которая показалась мне несколько искусственной.
— Безусловно, — сказал он. — Спрашивай! Спрашивай! А потом и я допрошу тебя по всей строгости: почему ты написал мне такое нелюбезное письмо и почему тебе так не терпелось удрать из Рима?
Тогда я выложил все, что так тяготило меня. Отец настаивал, чтобы я обо всем советовался с Кампилли и ничего от него не скрывал, ну вот я и поступил так! Я напомнил ему, при каких обстоятельствах мы виделись в последний раз и какие советы он тогда давал. Напомнил и о том, что он, зная, какие неприятности ждут меня в библиотеке, ни о чем меня не предупредил, не спас от унизительного разговора с Корси, ничего не объяснил. Мне пришлось от посторонних лиц узнать правду.
В этом месте Кампилли, не спускавший с меня своих голубых внимательных глаз, вставил:
— Ты не должен называть священника де Воса посторонним лицом.
— Я говорю не о нем. О других! Я ходил ведь и к другим!
— Жаль!
— Значит, не следовало ходить и к кардиналу Травиа? А ведь теперь даже посторонние люди говорят мне, что ситуация изменилась именно потому, что я пошел к кардиналу, в то время как вы стараетесь мне внушить, будто дело продвигалось своим естественным ходом и только я ни с того ни с сего потерял терпение.
Кампилли достал платочек, светлый кончик которого торчал из кармана пиджака, и вытер лицо. От платочка запахло лавандой.
— Мой дорогой мальчик, — сказал он, — в нашей курии всегда все идет естественным ходом! Ты проведешь с нами еще несколько дней, и я прошу тебя помнить об этом прежде всего в интересах твоего отца. Я считал, что после наших многочисленных бесед ты научился разбираться в вещах достаточно глубоко, чтобы сразу отбросить всякую мысль о том, будто твой визит к кардиналу направил дело по должному руслу.
— Да я этого и не думал, — ответил я. — Твердо знаю, что ничего не добился от кардинала и разговор с ним не имел ни смысла, ни значения. Но вместе с тем мне известно, что, когда я уезжал из Рима, дело мое было проиграно; возвращаюсь — и вы мне говорите, будто все идет наилучшим образом. Бога ради, объясните, что же случилось?
— Тише, тише, — попросил Кампилли, а затем продолжал: — Ты ошибаешься, полагая, будто твой разговор с кардиналом не имел значения. Кардиналы не ведут пустых разговоров! Хорошо ли ты помнишь, что тебе сказал священник де Вос, когда ты у него был в последний раз? Помнишь ли ты, что он тебе говорил о некоторых планах относительно блаженной памяти епископа Гожелинского? Так вот, в курии об этих планах больше не говорят. С тебя достаточно?
Я с удивлением прошептал:
— Как же так, а весь тот шум вокруг имени покойного? Значит, в курии покончили с его культом?
— Да.
— И больше не собираются причислять его к лику святых?
— Нет. Говорят даже, что он был человеком мелочным и мстительным.
— Это преувеличение! — сорвалось у меня. — Сперва перегнули в одну сторону, а теперь в другую!
— Тише, — снова осадил меня Кампилли. — И, пожалуйста, без рефлексий! Не высказывай никаких суждений по этому поводу. В те немногие дни, которые ты еще с нами проведешь, владей собой и сдерживайся. Обещаешь мне?
— Самым торжественным образом! Признаюсь, все-таки мне легче было бы владеть собой, если бы я смог уразуметь, что же случилось.
Кампилли потянулся к бутылке с вином. Налил мне и себе и после недолгого размышления сказал:
— Хорошо ли ты запомнил содержание твоей беседы с кардиналом? А главное, помнишь ли ты, что он сказал тебе по поводу примера святости и мученичества, который должен поднять дух у вас, живущих на востоке? Вспоминаешь ли ты, что он особенно настаивал на возрасте, утверждая, что таким примером должен служить кто-то молодой и в силу этого способный повести за собой вас, молодежь?
— Отлично помню, — ответил я. — Он высказывался довольно туманно, но мысли о возрасте мученика, который должен осветить нам путь своим примером, выразил четко. Кардинал вполне вразумительно сказал, что такую фигуру обязательно надо искать среди молодых.
— И, значит, он имел в виду отнюдь не епископа Гожелинского?
— Похоже, что не его! — Слова эти я произнес медленно: меня в равной мере поразило и то, что Кампилли так хорошо известно содержание моей беседы с кардиналом Травиа, и то, какие он извлек из нее выводы.
— Вот что произошло, — сказал он. — Твоя беседа с кардиналом по сей день комментируется в курии.
— Стало быть, это я своим визитом к кардиналу все повернул вверх дном, — удивился я, и факт этот, особенно потому, что я до сих пор не придавал ему значения, показался мне до смешного нелепым.
— Ах нет! Помилуй бог, какие глупости ты болтаешь! — возмутился Кампилли. — Кардинал случайно в твоем присутствии высказал мысли, которые раньше или позже высказал бы и без тебя. Вбей себе это в голову, мальчик! Вдобавок ко всему ты, кажется, готов усвоить наипревратнейшее мнение, будто, споря с кардиналом, ты отстоял так или иначе проигранное дело твоего отца. Подобное представление было бы пагубным для дела и оскорбительным, ибо курия является гармонически слаженным организмом, и ни один ее член, пусть самый почитаемый, не станет прекословить другому.
— Пусть будет так, — согласился я.
— Так есть, — многозначительно сказал Кампилли.
Кофе нам подали в другом зале. Не то в читальне, не то в курительной. Здесь было светлее. Посредине стоял огромный стол, заваленный газетами и журналами. Мы утонули в широких кожаных креслах. Я достал сигареты. Кельнер тотчас поспешил ко мне со спичкой. Когда он отошел, я, перегнувшись в сторону Кампилли, заговорил тихо и чуть запинаясь:
— Простите меня за мой подчас резкий тон. В последнее время мне было здесь нелегко. Ну и у меня слегка разыгралась желчь. Простите меня также за некоторые, быть может, несправедливые слова. Вы были ко мне так внимательны, что я должен был бы вас избавить от неуместных выпадов. Это больше не повторится!
Кампилли подарил меня улыбкой и лишь кивнул головой в знак того, что понимает меня. Мы заговорили о его семье. В Абруццы еще не все переехали. Сам он кружил между виллой в горах, домом в Остии и Римом. Затем Кампилли спросил про моего отца и обрадовался, услышав, что я ничего окончательного ему не написал. Потом Кампилли потребовал, чтобы я взял у него еще денег. Но я решительно отказался. Неделя жизни в Ладзаретто почти не отразилась на моем кармане, стоила гроши.
— Во всяком случае, если тебе понадобится, скажешь откровенно, — настаивал Кампилли.
— Я всегда с вами говорю откровенно, — возразил я.
— И не откладывай! Сегодня еще подсчитай, сколько денег тебе может понадобиться. Я ведь тоже через несколько дней уезжаю.
— Нет! Нет! — убеждал я его. — Я уверен, что мне хватит. Зато у меня к вам другая просьба.
— Говори!
— Библиотека.
Он нахмурился. Я подумал, что ему неприятен этот разговор потому, что меня выгнали из библиотеки, а он, зная о том, не предупредил меня, — оказывается, нет. Он снова извлек из кармана пропитанный лавандой платочек. Наконец сказал:
— Оставь. Смирись. Правда, теперь, в сущности, с твоим делом все обстоит по-старому, так, как было перед этим, назовем его застоем, но не все в курии сразу забудут, что был такой застой. Ты понимаешь меня?
— Ничего не поделаешь, — грустно сказал я. — Надеюсь только, что монсиньор Риго уже забыл о застое и сдержит данное вам обещание положительно решить мое дело.
— Ты слишком много хочешь зараз! — возразил Кампилли. — Мы вернулись к исходному положению вещей, это означает всего лишь, что твоим делом снова занимаются в служебном порядке. Ты знаешь, что такое служебный долг в нашем понимании? Это анализ элементов, из которых состоит дело, анализ, продолжающийся вплоть до последней минуты. Так в теории. На практике же, на мой взгляд, не может случиться ничего такого, что снова спутало бы твои расчеты.
Мы вышли во двор. Там стояла машина Кампилли. Мы сели, но я не захотел, чтобы он подвез меня до «Ванды». По забитому машинами Корсо, то и дело останавливаясь, мы доехали до пьяцца Венеция. Здесь я вышел, не желая злоупотреблять любезностью Кампилли. Он свернул влево, за Тибр, к своему дому, а я пешком дошел до самого Колизея. Зной мучил меня. Однако я испытывал потребность в движении, чувствовал себя счастливым, все услышанное сегодня давало надежду на успешный исход моей миссии, к тому же было приятно, что я все-таки немножко отвел душу, хотя Кампилли, вероятно, меньше всех был повинен в этом — позволю себе повторить его определение — застое.
XXVII
Ровно в четыре, как мы и договорились, я подошел к воротам виллы Кампилли и позвонил. Открыл мне лакей. Тот самый, которого я у них постоянно видел, и всякий раз на нем была куртка в другую полоску. Он с улыбкой поздоровался со мной, а на моем лице отразилось удивление. Когда Кампилли отказывал мне от дому, он сказал, что усылает лакея в горы. Очевидно, это было не так. Просто ему нужен был предлог, чтобы со мной расстаться, и он придумал, будто запирает дом на лето. Убедившись теперь в его лжи, я был изумлен, но не испытал досады. Я понимал, почему Кампилли тогда так встревожился и был вынужден изворачиваться. Теперь в этом уже не было необходимости. Ветер изменил направление, быть может, даже подул в мою сторону, вот и нашелся лакей! Провожая меня до кабинета, он сказал:
— От вас приходил к нам священник. Я тогда как раз ушел в город, и он оставил письмо и пакет у соседей. Но адвокат все получил в полном порядке.
— Знаю, — ответил я, — он мне говорил.
— Жарко, не правда ли? У нас всегда так в августе.
— Да, действительно.
Кампилли дружески приветствует меня, причем так, словно мы видимся впервые после моего возвращения. Клуб есть клуб, публичное место — это публичное место. Я не говорю уже о том, что во время нашей утренней встречи Кампилли чувствовал себя неловко. Теперь всякая скованность исчезла. Он понял, что те упреки, которые можно было ему предъявить, я уже предъявил, а те, что по первому разу не сорвались у меня с языка, никогда уже не сорвутся, и я забуду о них. Увидев меня, он встал из-за стола и раскрыл объятия; потом велел лакею подать кофе, потянулся к шкафчику за вином, а мне вручил листок бумаги, над которым как раз и сидел, когда я вошел.
— Возьми. Я для тебя приготовил. Вот эта стандартная форма.
Я прочитал. Она действительно была краткой. В бумажке говорилось, что такой-то адвокат папских трибуналов считает для себя честью уведомить «достопочтеннейшую канцелярию Священной Римской Роты», что избрал местожительство на территории торуньской епархии, о чем уведомляет также епископа той же торуньской епархии. Слова «епархия toruniensis»[52] повторялись еще раз внизу стандартной формы, ниже подписи, как бы подчеркивая, что заявление подано от лица адвоката папских трибуналов, проживающего на территории именно данной епархии.
— Уф! — сказал я. — Кратко, а в общем, все одно и то же.
Кампилли с улыбкой возразил:
— Такова уж по традиции эта форма. И радуйся, что краткая, не переутомишься в жару.
Тем не менее из-за жары я просидел над ней с полчаса. Кампилли поставил на письменный стол пишущую машинку и потребовал, чтобы я сперва написал начерно — тогда получится чище. Затем посмотрел письмо, переписанное набело, похвалил. Я тоже был доволен — главным образом потому, что канцелярский бланк с подписью отца, после того как я заполнил его текстом, казался менее измятым, чем раньше.
— Ну, ступай с богом, — сказал Кампилли. — И поточнее узнай в секретариате монсиньора, когда тебе надо прийти за ответом. Да поторопи их!
Перед виллой стояла роскошная «альфа-ромео» Весневича. За рулем — он. В машине — никого.
— О, вы вернулись! — говорит он. — А мы все тут вас разыскивали.
— Вы тоже? — недоверчиво спрашиваю я.
— По поручению тестя, да и тещи. Я пытался до вас дозвониться. Куда вы теперь направляетесь?
— С письмом в Роту.
— Я вас подвезу. А когда отдадите письмо, какие у вас планы?
— Никаких.
— В таком случае предлагаю прокатиться к морю. Страшно жарко! Все порядочные люди давно уехали из Рима. По городу слоняются только слуги церкви, полиция да туристы.
— Ну и люди вроде нас с вами, — засмеялся я.
— Правильно! То есть вроде вас, вы ведь клиент церкви, а я отлично подхожу под одну из трех названных категорий. Причисляю себя к слугам церкви!
— Это что-то новое. Я не знал.
— Никакая работа не унижает человека.
Он остановил машину. Огромный дворец Канчеллерия отбрасывал тень на площадь. Я вбежал в ворота, после чего, свернув влево, поднялся по большим ступеням, лестничным площадкам, коридорам и постепенно сужающейся лестнице на знакомый мне четвертый этаж. В приемной тот же самый служитель. В секретариате тот же самый невысокий молодой священник у заваленного папками стола. Я подал священнику конверт и прерывающимся от волнения голосом спросил, когда могу рассчитывать на ответ. Он словно не расслышал и лишь после того, как вынул письмо из конверта и поднес его к своим близоруким глазам за толстыми стеклами, встал и сообщил, что за ответом я могу явиться послезавтра.
— На всякий случай все-таки сперва позвоните мне, — сказал он. — Чтобы не утруждать себя зря в такую жару. Вот мой номер.
Он дал мне номер своего телефона и проводил до дверей. На прощание протянул руку. Памятуя, что Кампилли рекомендовал мне нажимать, я сказал:
— Через несколько дней вы закрываете свою канцелярию, а я, как вам, быть может, известно, приехал в Рим специально по этому делу из очень далеких краев.
Он перебил меня:
— Я знаю. Понимаю. Не для того монсиньор Риго поручил мне разыскивать вас по всему Риму — и в вашем пансионате, и через синьора Кампилли, — чтобы отпустить с пустыми руками. Будьте спокойны.
— Спасибо, — сказал я. — Не откажите также передать монсиньору Риго мою нижайшую благодарность.
— Обязательно, — пообещал молодой священник.
Внизу стояла машина, но Весневича не было. Я огляделся вокруг. Нет и нет! Зато на противоположной стороне я увидел вывеску бара, которая мгновенно вызвала у меня одно-единственное желание: кофе! кофе! После чистого, освежающего воздуха Ладзаретто у меня уже начинала кружиться голова от римской духоты. К тому же день выдался исключительно знойный. В глубине бара сидел возле телефона Весневич. Как только я появился, он сразу закончил разговор.
— Вот и он! Так спускайся. Мы сейчас за тобой заедем.
После чего, обращаясь ко мне:
— Захватим с собой одну девочку. Будет веселее.
Затем:
— Вы долго меня искали?
— Нет. Совсем недолго. Мне только хотелось бы выпить кофе.
Он — кассирше:
— Один кофе для этого синьора.
Я:
— Нет, не надо. Дама, которой вы звонили, ждет.
— Ну и пусть ждет.
Я залпом выпил кофе, и мы вернулись к машине. Я шел, обгоняя Весневича, он не торопился. Зато, сев за руль, сразу развил скорость, от которой душа холодела, и так яростно срезал повороты, что шины издавали протяжный визг. Мы неслись вдоль Тибра, проскочили мимо больницы на острове, где лежал Малинский, а потом свернули налево через Палатинский мост и помчались в обратную сторону. Одна улочка. Другая. Наконец на третьей, самой узкой, мы внезапно остановились. Сандра! Нет, не Сандра, а ее кузина, так на нее похожая. Мы усадили ее между нами и — в путь.
— Это Антонелла, — сказал Весневич, когда мы уже двинулись.
Она:
— Мы знакомы.
Весневич:
— Откуда же?
— Мы вместе были в Остии. Ты привез синьора. Не помнишь разве?
— Ах, правда.
На этот раз, однако, мы не поехали в Остию. Весневич не пожелал. Скучно! Толкотня! Впрочем, он не стал подробно объяснять, почему принял такое решение, и вез нас, куда хотел. Мы только заехали на виа Авеццано за моим купальным костюмом. Полчаса спустя — Фиумичино, я узнал его! Мы переоделись в кабинах и наняли лодку. Так снова вздумалось Весневичу. Он не собирался утомлять греблей ни нас, ни себя. Просто предложил отплыть подальше от берега.
— Будет тише, спокойнее, чище, — сказал он.
Чище было в самом деле. А что касается тишины и спокойствия, то не вполне, потому что Весневич купался весело. Баламутил вокруг себя воду или бил по ней руками, обдавая нас фонтаном брызг. Вскоре он бросил эту забаву и занялся другой: давал уроки плавания Антонелле. В конце концов Весневич помог ей влезть в лодку, а мне предложил пуститься с ним дальше вплавь. Я охотно согласился. Вода была чудесная, и я забыл здесь о раскаленном, душном городе. Спустя двадцать минут, оставив берег позади на добрый километр, мы задеваем ногами песок, вода доходит до икр. Садимся.
— Здесь человек возрождается, — говорит Весневич. — Чертов Рим надоел мне до колик. Летом тут жить невозможно! К счастью, через несколько дней конец. Вы, кажется, тоже заканчиваете свое дело и трогаетесь из Рима?
— Да.
— А что слышно в «Ванде»? Малинскому лучше?
— О, вы знаете, что он болен?
— Мы все знаем. Скверная история. Очень тяжелая.
— Болезнь?
— Причина болезни.
— Не понимаю, о чем вы говорите.
— Я говорю о том, про что трубит весь наш эмигрантский мирок: Малинскому не повезло в делах, и от волнения его свалил сердечный приступ.
Тогда я вспомнил, что Малинский рассказывал мне о своих торговых операциях. Церковным учреждениям, главным образом монашеским орденам, присылали из разных стран многочисленные дары: предметы одежды и продовольствие, не подлежащие обложению пошлиной при условии, что их используют только данные учреждения. Но им больше нужны были деньги — вот причина нелегальных торговых сделок, которыми занимался Малинский на положении посредника.
— Засыпался, бедняга, — сказал Весневич, — на какой-то большой партии зерна. Теперь ведется следствие.
— Церковное?
— Нет. Обычное. Прокурорское.
— Пора возвращаться, — сказал я. — Нас зовет кузина вашей жены.
Я поднялся, но Весневич не шевелился. Он встал только после того, как увидел, что к лодке приблизились какие-то мужчины и пытаются ухватиться за борт. Мы пробежали часть дороги по отмели. А когда она кончилась, стали соревноваться, кто доплывет первым. Незнакомцы, осаждавшие Антонеллу, исчезли. Я запыхался, и Весневич подсадил меня в лодку. Зато к веслам он не рвался, и мне с итальянкой пришлось грести. Через несколько минут мы доплыли до берега, оделись. В машине посовещались, куда же теперь ехать. Весневич и слышать не хотел о том, чтобы провести вечер в Фиумичино — шумно, никакого блеска.
— Другое дело купанье, — сказал он. — Мне тем нравится этот пляж, что здесь не встретишь знакомых, если у тебя нет к тому охоты, но ужинать мы можем где угодно.
— Для ужина еще слишком рано, — заметила Антонелла.
— Ну так двинем на Монте Каво. Там роскошный ресторан! Вы там бывали?
Я прекрасно помнил эту тысячеметровую гору, находившуюся километрах в пятидесяти от Фиумичино. Отец однажды возил меня туда. Даже в летнюю пору на ее вершине было холодно и зябко; там стояла церковь, перестроенная из бывшего храма Юпитера, монастырь и развалины замка, среди которых примостился ресторан с большой террасой. Вероятно, о нем и говорил Весневич.
— Да, — ответил я. — С террасы ресторана открывается фантастический вид.
— А мы не замерзнем? — встревоженно спросила Антонелла. — Заедем по дороге ко мне, я возьму из дому теплые вещи!
Мы заехали. Квартира была огромная. Мы с Весневичем расселись в гостиной на большом удобном диване, Антонелла ушла в другую комнату, чтобы переодеться, оставив нас с бутылкой крепкого, настоянного на травах ликера, который, по ее мнению, должен был укрепить наши силы после купанья. Вернулась она немного погодя, красиво причесанная и в вечернем платье, причем страх перед холодом в Монте Каво явно не повлиял на выбор ее туалета. Однако она не забыла о низкой температуре. Как выяснилось, Антонелла приготовила в передней меховую накидку для себя, а для нас по свитеру и шарфу из гардероба мужа, который, кажется, находился в служебной поездке. Захватив все это, мы спустились.
В ресторан мы пошли не сразу, а сперва немножко погуляли по лесистой вершине горы. Наконец-то терраса, та самая, куда меня некогда водил отец. Я, однако, подумал не о нем. Любуясь видом с горы, я вспомнил о священнике Пиоланти и о Ладзаретто, откуда я вернулся всего двенадцать часов назад. Мысль о том, какие перемены произошли в моей судьбе за такой короткий срок, почти лишала меня дара речи.
Весневич, указывая рукой на пейзаж, раскинувшийся перед нашими глазами, сказал:
— Фантастика!
— Фантастика, — согласился я.
Пейзаж пейзажем, однако теперь нам здорово захотелось есть. О меню позаботился Весневич. Нам принесли закуски, а к ним крепкую итальянскую водку, от которой Антонелла сперва было отказывалась. Но в самом деле стало холодно, особенно с того момента, когда солнце скрылось за поросшей деревьями вершиной горы. Подул холодный ветерок. В долине, где почти совсем стемнело, появились огоньки. По мере того как менялся пейзаж, Весневич все настойчивее угощал нас спиртными напитками. Действовал он упорно, однако с большим юмором. После закусок — извечные макароны. Потом мясо, салат, фрукты, все замечательно вкусное. Я отведал каждое блюдо, тем более что в Ладзаретто я немножко изголодался. Еду запивали вином, которое Весневич то и дело подливал нам да и себе. К фруктам он заказал итальянское шампанское. В этот момент мы услышали звуки музыки. Оказалось, что в другом зале, из которого не было выхода на террасу, играет оркестр, и там танцуют. Мы перешли туда и откупорили еще одну бутылку шампанского. Я пригласил Антонеллу танцевать. Теперь она почувствовала себя в родной стихии, танцевала чудесно, быть может, только чересчур важничала. И так вот, не улыбаясь, соблюдая полную серьезность, она снова стала похожа на Сандру. Когда мы возвращались к столику, я сказал ей об этом.
— Пожалуй. Мне часто об этом говорят, — ответила она.
— О чем? — спросил Весневич.
— Что мы с Сандрой похожи друг на друга.
По этому поводу Весневич довольно весело заметил по-польски:
— Все они друг на друга похожи.
— Что он сказал? — заинтересовалась кузина.
— Что Италия страна красивых девушек, — улыбнулся Весневич.
Небольшой квадрат паркета постепенно заполнялся. Все больше народу приезжало из далекого Рима. В городе духота, здесь холод. Мы продолжали танцевать, но больше уже не пили. Вдруг Весневич поднял пустой бокал и, обращаясь ко мне, воскликнул:
— Ну и разиня же я! Не поздравил вас с победой!
— Смотрите не сглазьте, — засмеялся я.
Антонелла спросила:
— А какую победу он одержал?
— Над монсиньорами, моя прелестная Антонелла, — пояснил Весневич.
Он встал, подозвал кельнера, который заменил наши рюмки другими — с широким дном и узким горлышком — и налил в них до половины коньяку.
— Ой, от этого я отказываюсь! — запротестовала Антонелла. — Неужели будем еще пить?
— Мы-то, во всяком случае, выпьем, — сказал Весневич, чокаясь со мной.
А потом, обращаясь ко мне:
— Семейство Кампилли должно вас озолотить.
— За что? — удивился я.
— За столь чтимого ими брата синьоры Кампилли, убиенного Анджея, к которому они много лет стараются привлечь внимание тех священных конгрегации и трибуналов, в чьем ведении находятся будущие святые. Вы содействовали тому, что в курии снова всерьез заговорили о Згерском.
— С чего вы взяли? — удивился я. — При чем здесь я?
— Во всяком случае, там зашевелились после вашего очень смело задуманного визита. Я уверен, что теперь у покойного Анджея опять шансы выросли.
Он чокнулся со мной и прошептал:
— За нового святого!
Антонелла надулась:
— Постыдись! Какое богохульство. Сандру это возмутило бы!
Тогда Весневич перегнулся через столик и слегка прикоснулся губами к уголку ее рта.
— Не только это, — тихо сказал он. А потом громко: — В таком случае выпьем за молодость! У молодых, живые они или мертвые, теперь, оказывается, всюду широкие возможности.
Мы выпили коньяк и решили возвращаться. На дворе нас прохватило холодом, и хотя мы к тому были готовы, в первый момент растерялись. Щелкая зубами, мы на ходу одевались. — Антонелла накинула меховую шубку, а мы с Весневичем натянули свитеры и укутали шеи шарфами, которыми она нас снабдила. Наконец мы добрались до машины.
— Пресвятая дева, настоящий мороз! — не переставала жаловаться Антонелла, а Весневич при спуске с Монте Каво так стремительно срезал многочисленные повороты, что ей никак не могло стать теплее.
— Вот видишь, не надо было брезгать коньяком, — приговаривал всякий раз Весневич.
Мысль эта так крепко запала ему в голову, что, едва мы очутились в Риме, он остановил машину перед первым попавшимся баром, но не нашел там желанного коньяка. Мы двинулись дальше и неподалеку от святого Иоанна Латеранского попали в затор. Море фонариков, подвешенных на проволоке вширь улиц, бесконечные ряды столов, расставленных прямо на тротуарах, масса людей, валом валивших по мостовой, орущих, едящих, пьющих. Весневич обрадовался.
— Вот так история! Ведь сегодня здесь местный праздник! Попразднуем и мы!
— Поздно уже! — сказала Антонелла.
— Какое там поздно! — отрезал Весневич. — Последние сутки твоей свободы. Выспишься, когда вернется муж.
Мы смешались с толпой, одетой легко, по-праздничному. А мы-то — в свитерах и шарфах. Люди удивленно на нас поглядывали, что еще больше веселило Весневича. Он нашел коньяк, который так настойчиво искал, но не захотел вернуться в машину и тянул нас за собой то в одну сторону, то в другую. Когда становилось тесно, он шел впереди, а мы за ним гуськом. В тех местах, где было чуть просторнее, он брал нас под руки и пускался в пространнейшие рассуждения. Обращался главным образом ко мне. Пьян он не был, но алкоголь, конечно, на него подействовал.
— Если я, — говорил он, — и позволяю себе шутить, это вовсе не означает, будто я не уважаю церковь. Мне с нею очень хорошо. Как я вам уже докладывал, я даже являюсь слугой церкви. По долгу службы совершаю замечательные путешествия, выполняя поручение одного очень древнего рыцарского ордена, призванного к жизни церковью во времена крестовых поводов. С разных концов мира приходят к нам заявления о приеме в орден с приложением самых лестных рекомендаций тамошних епископов. Ну я, значит, еду и проверяю на месте семейные связи и, если так можно выразиться, светские качества кандидатов, что нам высочайше предписано, поскольку принадлежность к ордену в равной мере означает принадлежность и к папскому двору, а там, помимо всего, что о нем говорят, не терпят никакой вульгарности.
Теперь он уже перешел на польский. Антонелла устала и не требовала перевода. Она оживилась, когда мы свернули в ту сторону, откуда доносилась музыка, и увидели площадь, освещенную фонариками еще ярче, чем улицы, а в центре площади — большую разноцветную вертящуюся карусель с лодками, то уносившимися в небо, то почти касавшимися земли. Мы подошли ближе и принялись подзадоривать друг друга. В конце концов мы с Весневичем сели в одну лодку, предварительно сняв шарфы и свитеры, потому что нам стало жарко. Антонелла смеялась и что-то кричала, но музыка и скрип карусели заглушали ее голос. Мы проделали всего несколько кругов, и нам пришлось вернуться к Антонелле, потому что ее уже начали задевать мужчины. Потом мы еще немножко побродили и, внезапно наткнувшись на машину Весневича, не говоря ни слова, сели в нее, считая вечер законченным. Меня довезли до «Ванды». Здесь мы попрощались.
— Спасибо за компанию, — сказал Весневич. — И желаю успеха.
— И вам успеха! И вам! — ответил я. — Это мне надо вас благодарить.
В комнате — нераспакованный чемодан. Но у меня уже не хватило сил, чтобы за него взяться. Я вытащил только пижаму и, даже не умываясь, нырнул в постель, сразу заснул и проснулся около десяти, свежий и отдохнувший, совершенно не чувствуя себя разбитым, как это обычно бывает, если выпьешь лишнее. Алкоголь пошел мне на пользу, потому что я двигался, когда пил, а может быть, и оттого, что у меня было легко на сердце. Весь вечер мне было весело. Сны у меня тоже были веселые. Особенно один сон, похожий на тот, что так угнетающе подействовал на меня в Ладзаретто, когда я как-то днем заснул на вершине Монте Агуццо. Теперь мне тоже приснился огромный вращающийся пюпитр, разумеется, все из той же книги Эрле. Однако на этот раз пюпитр напоминал и карусель. Она вращалась, я то съезжал, то взлетал, а за моими эквилибристическими упражнениями, как и в том сне, следили люди из курии. Лица у них были не страшные, а скорее испуганные. Они что-то кричали, но их слова не доходили до меня. Пролетая мимо них, я смеялся, размахивал руками и отпускал всякие шутки, пока в конце концов и они не развеселились.
XXVIII
Следующие несколько дней в ожидании документа, подтверждающего, что мой отец избрал местом своего жительства торуньскую епархию, я осматривал Рим. Уходил после завтрака, возвращался к обеду, снова уходил. После ужина допоздна слонялся по площадям, улицам и переулкам центра либо шел в кино. В первый день я до полудня писал письмо отцу. Это заняло у меня все утро — первоначальный вариант получился неудачный. Перечитав письмо, я понял, что о некоторых подробностях лучше умолчать. И не только о подробностях, но также и о всех разговорах, которые я вел перед тем, как уехал из Рима в Ладзаретто. Я упомянул только о визите к кардиналу Травиа, опасаясь, что известие об этом могло уже дойти до Торуни. Если верно, что визит мой имел значение для нашего дела и что его обсуждали в местных канцеляриях, то, пожалуй, о нем прослышали и в той далекой курии, куда, следуя закону сообщающихся сосудов, доходят все слухи. Однако в подробности аудиенции у кардинала я тоже не вдавался. Написал только, что она оказалась полезной и что кардинал хорошо меня принял.
Вообще второй вариант письма изобиловал формулировками такого рода, в равной степени оптимистическими и загадочными. Что касается моих хлопот, то я сообщал, что следует рассчитывать на добрый результат, ибо, несмотря на некоторые трудности, нашелся такой выход из запутанной ситуации, который люди, благоволящие отцу, признали самым лучшим. Отправив письмо примерно такого содержания, я успокоился. Оно не исчерпывало вопроса, полно было недомолвок. Я чувствовал это и знал, что, читая письмо, отец тоже это почувствует и в первый момент разволнуется. Но, поостыв, он, конечно, поймет, что у меня, очевидно, были причины, чтобы написать именно так, и будет терпеливо ожидать моего возвращения в уверенности, что тогда он узнает все, что ему не удалось вычитать в письме.
Во второй половине дня, отправив письмо, я бродил по городу без всякой цели. От парка Боргезе до Палатина, от замка Святого Ангела до Квиринала. Душно, болят ноги, в глазах рябит, а остановиться не могу! У меня легко на сердце, приятно, что я свободен. Я сознаю, что дело мое не решено и мне нужно ждать. И что ради того я и сижу еще в этом городе, чтобы ждать. Но мне это не мешает. К новому ожиданию я отношусь словно к неопасному, поверхностному рецидиву, только по названию напоминающему прежнюю болезнь. Тем не менее всякий раз, как я приближаюсь к местам, связанным с жизнью отца в Риме, я чувствую легкое покалывание в сердце. Возле отеля Борромини я не останавливаюсь. А когда пан Шумовский трижды в день за едой просит его извинить, так как он все еще не может сопровождать меня в бывший «Аполлинаре», я искренне его утешаю и говорю, что это не имеет значения.
В пансионате, разумеется, никаких делений на две очереди, мы все едим в одно и то же время и беседуем, как и в дни, предшествовавшие «застою». Однако некоторых тем не касаемся. Никто не спрашивает, где я пропадал целую неделю. Ни слова о причинах, побудивших меня изменить первоначальный план, по которому я предполагал сразу по возвращении в Рим двинуться дальше. Ни звука и о том, из-за чего я снова задерживаюсь, хотя уже попрощался со всеми обитателями пансионата. Такая сдержанность понятна: они все знают! Когда я им называю дату отъезда, не упоминая, что она связана с последним днем работы в курии, Шумовский вздыхает:
— Увы, все туристские бюро, даже церковные, продолжают действовать.
На эту шутку я отвечаю вполне искренним смехом; забавно, что Шумовский невольно выдал себя. К тому же я пользуюсь случаем разрядить атмосферу, потому что за столом в «Ванде» обычно невесело. Козицкая не отрывает от тарелки своих потемневших глаз. Пани Рогульская всякий вопрос задает дважды. К счастью, Шумовский для таких случаев и вообще на любой случай держит про запас множество занятных подробностей о современном Риме и его истории и всегда умудряется выбрать из них такую, которая уместна в данной ситуации или же позволяет о ней забыть. Поэтому я охотнее всего обращаюсь к нему, рассказываю, где я был либо куда собираюсь пойти. Тогда он поддерживает меня своей эрудицией и полезными указаниями. Расспрашивает. Вполне естественно, что он — историк искусств — так хорошо знает город, по которому уже лет пятнадцать водит экскурсии. Меня удивляет другая особенность его памяти. Я перечислил все места, где побывал, и он это твердо запомнил. Обсуждая со мной план новых прогулок, он вспоминает все, что я видел в предыдущие дни. Мне осталось провести в Риме совсем мало времени, и он не советует мне посещать те или иные достопримечательности, поскольку я уже видел похожие. Я выражаю удивление: каким образом он это запомнил?
— Что ж, дорогой мой, уродство, связанное с профессией, — отвечает он. — Я вечно вожусь с туристами, которые требуют, чтобы я все за них помнил: то, что они видели и чего не видели, как это называлось и что им напомнило. В противном случае — жалобы и недоразумения. Ах, наказанье божье!
— А как у вас с голосом? — спрашиваю я. — Кажется, прошла хрипота, на которую вы как-то жаловались.
— Да, неплохо.
Вмешивается Козицкая:
— Было бы еще лучше, если бы дядя и дома берег голос и не ораторствовал без конца.
Ее присутствие тяжело действует на окружающих. К счастью, Козицкая не всякий раз появляется за столом. Она много времени проводит в больнице. Встает рано, первые утренние часы вертится на кухне, помогает кухарке, потом спешит к Малинскому. После обеда тоже сидит возле него до тех пор, пока это разрешается больничными правилами. Я знаю расписание Козицкой и стараюсь опередить ее. Навещаю Малинского до того, как она туда приходит. Я хожу к нему каждое утро; таким образом, начало дня у меня невеселое. Но мне жаль Малинского, и я не могу забыть, что в самые тяжелые минуты он изо всех сил старался мне помочь. Я не вдаюсь в некоторые аспекты предложенной мне помощи. Достаточно того, что Малинский проявил добрую волю.
В его палате с самого утра стоит тошнотворный, противный запах. На второй день после моего возвращения в Рим я зашел к Малинскому под вечер. Духота невыносимая; спасаясь от жары, в больнице целый день держат окна закрытыми, даже не чувствуется, что утром проветривали палаты. От застойных запахов лекарств, дезинфекции, пропитанной потом постели кружится голова. У Малинского чистая постель, Козицкая за этим следит и моет его, однако я догадываюсь, что с гигиеной большинства больных дело обстоит неважно. В тот раз я попрощался с Малинским уже спустя четверть часа, но моя одежда еще долго сохраняла больничный запах — от Козицкой постоянно им несет. Так что и по этой причине я благодарю бога за то, что она не всегда сидит с нами за столом. А в больнице мне ее не хочется видеть совсем по другой причине. Я не пытаюсь что-то вытянуть из Малинского. Расспрашивать его неловко, он болен и поэтому ведет себя, как капризный ребенок. Добиваться от него откровенных признаний неприятно. Другое дело, когда он начинает первый и ему самому хочется что-то сказать. Случается это, когда мы остаемся с ним вдвоем. Тогда я слушаю.
Я скольжу глазами по его осунувшемуся лицу или перевожу взгляд на коврик, который Козицкая прибила у него над головой. К коврику она приколола английскими булавками военные награды Малинского и несколько фотографий: дом, где он родился, дом, в котором у него была квартира в Варшаве, а на третьем снимке — Пилсудский награждает орденами польских офицеров. В их числе Малинский.
— Мой музей! — говорит он. — Мои святыни!
В комнатке Козицкой я подглядел другие святыни. У Шумовского и у Рогульской тоже. У каждого из них и у всех им подобных есть свой маленький алтарь, пантеон, разрозненное собрание реликвий. Шумовский хранит их для себя и не носится с ними. Козицкая скрывает от чужих глаз. В этой больнице, предназначенной для бедноты, святилище Малинского выставлено для публичного обозрения. Может быть, только для престижа, а может быть, с практической целью: эти реликвии напоминают, что некогда он был фигурой более значительной и заслуживает лучшего отношения и со стороны больных, и со стороны персонала больницы.
— Как вы чувствуете себя сегодня? — Я неизменно каждый раз начинаю с этого вопроса.
— Неплохо. Неплохо.
— Ну и не повезло вам! — сочувственно говорю я. — В разгар лета!
— Именно, это хуже всего. Потому все так тянется. Если бы не жарища, я намного раньше поднялся бы.
Он, в свою очередь, справляется, что я поделываю. Мои туристские походы его не интересуют. Поэтому я не обременяю его подробностями и перечисляю только самые важные из достопримечательностей, которые я посетил.
— Вчера, уйдя от вас, я пошел в Ватиканский музей, — говорю я, например.
— Ага, знаю. Был там, — коротко обрывает он меня.
Тогда мы переходим к более интересным темам. Я рассказываю, что все покидают Рим. Синьора Кампилли с дочерью и внуками уже переехала в Абруццы. С Кампилли я еще увижусь до отъезда, но ни вчера, ни позавчера не видел его, потому что перед отпуском он все время занят. Упоминаю о Весневиче, с которым провел приятный вечер.
— Очень симпатичный тип, — говорю я.
— Э, шут! — морщится Малинский. — И к тому же сноб.
— Вероятно, эти черты объясняются характером его занятий, — защищаю я Весневича.
— Инженер по образованию, а занимается такими глупостями!
— Он, кажется, считает эти глупости интересными.
— Потому что здорово на них зарабатывает. Не говоря уж о том, что много путешествует. Занятие у него очень двусмысленное. Он ездит и собирает сведения о миллионерах, которые добиваются ватиканских почестей, и привозит из своих путешествий чеки для разных учреждений. Ну, и процент для себя!
— Собирает пожертвования, — говорю я.
— Торгует, — Малинский понижает голос, — рыцарскими званиями того ордена, для которого он работает. В зависимости от обстоятельств с одних берет больше, с других меньше. И на этом он когда-нибудь влипнет, если его клиенты спохватятся.
Мы спорим. Если он даже прав, осуждая занятие Весневича, то ошибается, предполагая, что ему придется в будущем за все расплачиваться. Я знаю из истории, что испокон веков людям давали различные звания в обмен на материальные ценности и что на это нет твердой таксы. Но Малинский сердито отводит мои аргументы.
— Я не говорю, будто он ворует! Я не говорю, будто он мошенничает! Будто потихоньку, незаметно откладывает какие-то суммы в свою пользу. Допустим! Что с того? Рано или поздно от него отступятся, отстранят его от работы, как только эта коммерция — в весьма растяжимом смысле слова — станет привлекать к себе слишком много внимания. Торговлю не прекратят. Слишком доходный промысел, чтобы от него отказываться. Только для отвода глаз на низшей ступени лестницы сменят одного человека. Пешку! Слепого исполнителя!
Говоря о Весневиче, он явно думал и о себе. Я спрашиваю:
— А что его тогда ждет?
— Карантин. Пока не утихнет шум, вызванный его делом. А потом тесть снова что-нибудь для него подыщет.
— А если бы у него не было такого тестя?
— Много всяких неприятностей и унижений. Все, кроме тюрьмы. Разумеется, если такая слепая пешка честно трудилась на своего работодателя. Тюрьма — это единственное, от чего его избавят. Чтобы не раздувать скандала, его уж как-нибудь вызволят, спасут от худшей из возможностей.
Возле Малинского нет ни книг, ни газет. В его углу, хоть он и неподалеку от окна, в течение всего дня темно. Окно занавешено от солнца. Мне хотелось сделать Малинскому что-нибудь приятное, и я купил ему цветы. Он попросил больше этого не делать: цветы привлекают мух. Я спросил, играет ли он в шахматы или в шашки, может, принести их ему. Не захотел. Ни с кем в палате он не познакомился. Вокруг полно людей, но он ко всем равнодушен, никем не интересуется. Когда я прихожу, глаза у него обычно закрыты; я наклоняюсь над ним, и тогда он их открывает. Малинский часто жалуется на больницу. Действительно, если судить по той палате, которую я посещаю, хорошего там мало. Малинский жестоко страдает из-за недостатка воздуха, однажды, когда он, неведомо в который раз, начал ругать больницу, я не выдержал и спросил, нельзя ли его перевести в другое место. Разговор был при Козицкой.
— Меня тут держат бесплатно, — ответил Малинский.
Козицкая одновременно:
— Конечно, можно.
Он упрямо повторил:
— Я же говорю, меня тут держат бесплатно.
Она:
— Ну и что с того! Лучше платить, чем задыхаться без воздуха.
Спор продолжался еще некоторое время. Ясно было, что они спорят по этому поводу уже не в первый раз. Но по каким причинам он так настаивает на своем, я понял только на следующий день. Я пришел к Малинскому ранним утром, в то время когда Козицкую еще задерживали дела в пансионате. Видно, его задело, что я спросил о больнице, и он сам вернулся к этой теме.
— Ися, — он так ее называл; теперь и в моем присутствии он обращался к ней по имени, чего раньше никогда не делал, — не разбирается в обстоятельствах. Правда, у меня есть сбережения, но как только об этом пронюхают, у меня их из рук вырвут.
— Кто?
— Суд. Адвокаты.
— Но все-таки…
Он перебил меня:
— К тому же не знаю, сколько времени продлится мой карантин. Возможно, я никогда больше не вернусь на ринг!
— На ринг?
— Не войду в милость! И мне придется довольно долго жить на эти жалкие накопленные гроши. Очень долго! То есть до самого конца. А кроме того, по некоторым соображениям мне удобнее дольше болеть, чем раньше времени выздороветь. Ися и этого не понимает.
— Ваша болезнь очень ее волнует, — говорю я, — и ей хочется поскорее поставить вас на ноги.
Он на это:
— Для того чтобы смотать удочки! Чтобы с чистой совестью бросить наконец Рим, не оставляя тут без присмотра тяжело больного человека!
Я притворился, будто не понимаю, не слышу. Напрасно. Он хотел довести до конца начатый разговор, углубить тему, которую лишь слегка затронул. Я вспомнил, что мне говорили о Козицкой знакомые из Кракова, — она потеряла мужа в Варшаве за месяц до восстания, а сама сразу после войны, прямо из лагеря, попала в Рим.
— Я поддержал ее, — дополнил теперь мои сведения Малинский. — Выходил ее. Но с годами наше положение перестало ее удовлетворять. Из Рима уехало большинство ее знакомых. Остались только такие, как мы, это верно; и, быть может, она действительно права — пользуемся мы немногим, а больше используют нас…
Тут он запнулся, стал задыхаться, лоб у него покрылся капельками пота. На столике стоял флакончик с одеколоном. Малинский не мог до него дотянуться. Я помог ему и постарался его успокоить.
— Пожалуйста, не утомляйте себя, — сказал я. — Я более или менее разбираюсь в ситуации. Понимаю.
— Ее или меня?
— Обоих, — ответил я.
Он мне поверил. А может быть, устал. Во всяком случае, больше не возвращался к разговору о Козицкой, к теме взаимных расчетов, о которых мне неловко было слушать. По крайней мере, не говорил об этом прямо, а только с помощью метафор. Например:
— Такова наша судьба, судьба хромых и слепых, связанных друг с другом. Раньше я ее нес, теперь она меня ведет. Вы понимаете, в каком смысле я это говорю? — Или: — Ей всегда кажется, что везде, помимо Рима, нас только и ждут. Что везде, помимо Рима, мы добудем независимость. А между тем я знаю, что нам уже поздновато ждать ее. Мне, ей — одним словом, всем, кто попал в здешние условия.
— Ну, ну, да неужели?
Я отвечал на афоризмы Малинского в таком духе, иногда вступал в спор, но чаще старался его пресечь. Потому что спор-то был пустой и никчемный. К тому же я не имел намерения задерживаться у Малинского. Не говоря уж о том, что с каждой минутой дышать здесь было все трудней. Особенно когда солнце, миновав башню святого Варфоломея, шпарило прямо в окна больничного флигеля. Тогда я уходил от Малинского. На дворе в эти часы уже было жарко и знойно. Но после душной больницы даже раскаленный воздух улицы казался мне благоуханным.
XXIX
У меня осталось еще два дня. Предпоследний и последний день работы курии. В первый из них, за час до завтрака, меня будит стук в дверь: к телефону! Накидываю халат, причесываюсь. Это длится мгновение, но камерьере за дверью не терпится, она снова стучит. Выхожу в коридор, и тогда она мне сообщает, что звонит междугородная. Подношу к уху трубку. Звонят из Польши. Отец!
— Это я! — кричу. — Здравствуйте, отец! Как я рад!
Я говорю чистую правду, хотя к моей радости примешиваются укоры совести, и я боюсь упреков, потому что так долго не писал.
— Вы получили мое последнее письмо? — глупо спрашиваю я.
— Нет. Уже две недели от тебя нет писем!
Объясняю, почему оборвалась наша переписка. Осторожно подбираю слова, так как знаю, что отец будет волноваться, хотя главные трудности преодолены.
— Мы топтались на месте. Поэтому я и не отзывался, со дня на день ожидал, когда смогу сообщить что-нибудь конкретное. Едва только это оказалось возможным, я тотчас написал.
— Мне знакомы такие вещи, — слышу я голос отца. — Знаком этот порядок.
Затем я перехожу к информации, содержащейся в письме, которое он не получил. Он одобряет метод, предложенный Кампилли и утвержденный монсиньором Риго. С первого слова отец понимает, в чем тут суть.
— Чудесно, — говорит он. — Это положит конец моему делу.
— Жаль только, что хлопоты заняли столько времени, — говорю я. — Догадываюсь, как дорого для ваших нервов обошлось ожидание.
— Не важно. Я вооружился терпением.
— Во всяком случае, хорошо, что вы позвонили, отец. Теперь вы можете быть более спокойны.
Тогда он:
— Я не за тем звоню. Скажи, ты в Риме не слышал, кого прочат в преемники Гожелинского?
— Нет.
— А у нас считают твердо решенным, что назначение получит каноник Ролле.
— Вот здорово! — говорю я, памятуя о дружбе отца с каноником. — Если это верно, я зря ездил в Рим!
— О нет, Рим — это Рим! К тому же неизвестно, насколько достоверно то, о чем я тебе говорю. Попросту так говорят здесь люди, обычно хорошо осведомленные.
— А как само заинтересованное лицо? Что он говорит?
— Со дня смерти Гожелинского каноник Ролле находится в Познани, которой, если ты помнишь, подчинена наша епархия. Самый этот факт дает повод для размышлений. Во всяком случае, сразу же сообщи Кампилли относительно Ролле. Такая информация может иметь кое-какое значение.
— Конечно, сообщу, если вы того хотите, отец. Только это мало что даст: Кампилли сегодня во второй половине дня уезжает в Абруццы.
Отец на это:
— Знаю. Я разговаривал с его слугой. Сперва я позвонил на виллу Кампилли — ты ведь писал, что там живешь. А слуга дал мне номер телефона твоего пансионата…
Нужно было разъяснить положение, и я произнес еще несколько слов, разумеется, далеких от правды и соответствующих версии, выгораживавшей Кампилли: дом закрыли на лето, и даже сам Кампилли ночует не в римской вилле, а в Остии. Наконец последний вопрос отца:
— А когда ты получишь для меня документ?
— Сегодня после полудня, а самое позднее завтра с утра. Я поддерживаю постоянный контакт с секретариатом монсиньора Риго, и меня торжественно заверили, что я получу документ прямо в руки.
— Ну, так спасибо за все, и как только он будет у тебя в руках, дай телеграмму, сынок. Приветствуй от моего имени Кампилли и до свидания!
— До свидания! До свидания!
Я вернулся в комнату, оделся, позавтракал, и — в город. Ролле я знал, он человек рассудительный и в большом долгу перед отцом, — ведь без его помощи каноник не справился бы в тот период, когда ему пришлось управлять курией. Если бы действительно назначили Ролле, он с легким сердцем принял бы римский документ, восстанавливающий права человека, обиженного покойным Гожелинским именно за то, что он старался помочь нынешнему епископу. В такого рода делах позиция нового епископа имела неоценимое значение для отца: ведь случается, что и в куриях саботируют волю Рима. А так документ и воля нового епископа были в полной гармонии. Взвесив все это, я обрадовался. Только я предпочел бы уже иметь документ в кармане.
На площади Вилла Фьорелли я сажусь в автобус. Он идет отсюда прямо за Тибр, с остановкой на мосту Гарибальди, в двух шагах от острова, где находится больница святого Варфоломея. Возле моста в киоске с фруктами я купил Малинскому на прощанье корзинку с персиками, а в парфюмерном магазине, по пути, флакон лавандовой воды. С этими покупками я забежал в больницу только на минутку. Попрощались мы очень сердечно.
Времени впереди было много, по мере того как приближался момент отъезда, мне все сильнее хотелось узнать тот Рим, который я вскоре собирался покинуть.
В меру моих сил я выполнил задачу, ради которой сюда приехал. Места, которые следовало посетить в первую очередь, посетил. Теперь все это уже было позади, нервное напряжение улеглось, и я собирался провести последние часы как вздумается, ничем и никем не тревожимый. Я двинулся прямо вперед, выбрав себе маршрут вдоль реки, шел, любуясь платанами и дворцами на противоположном берегу и садами, воротами и каменными стенами по правой стороне. Так я добрел до моста Кавура. В этот момент взгляд мой упал на скамейку, я тут же на нее опустился и просидел почти до одиннадцати. Потом встал, чтобы поспеть на свидание с Кампилли.
Мы условились встретиться в книжной лавке, торгующей художественными изданиями на пьяцца ди Спанья. Кампилли пришел раньше меня и уже рассматривал великолепный альбом, посвященный архитектуре и музейным коллекциям Ватикана. Он выбрал альбом мне в подарок. Уславливаясь о часе встречи, он сказал, что хочет купить мелочи для отца. Оказалось, что щедрость Кампилли распространяется и на меня, причем ее размах меня смущал, принимая во внимание цену подарка. Тем более что Кампилли ведь мне помог деньгами. Он прервал поток моей благодарности в тот момент, когда я намекнул на последнее обстоятельство.
— Оставь! Мне приятно, что у тебя будет такой альбом. В особенности потому, что, так или иначе, ты не без горечи покинешь нас. Я много думал о нашем последнем разговоре и о твоих упреках и укорах. Ты приехал к нам из другого мира, и тебя поразили некоторые особенности нашей жизни. Поразила наша осторожность, нерешительность, оглядка друг на друга и всякие наши цепные реакции и рефлексы. Все это нам надо простить, — ведь мы находимся в центре стольких скрещивающихся влияний и действуем под бременем великой ответственности.
— Я все это понимаю, — ответил я, — и со временем всякая горечь — или, точнее, неприязнь к явлениям такого рода, — поверьте, у меня исчезнет. Но, искренне говоря, я легче справился бы со своими сомнениями, если бы не чувствовал, что последнее из соображений, которые здесь принимают в расчет, — это соображение справедливости.
— А понимаешь ли ты, — сказал Кампилли, — о сколь многом надо помнить, когда принимаешь любое серьезное решение на такой высокой, венчающей целые миры ступени, как наша курия? Помимо справедливости, о которой ты говоришь, существуют десятки других соображений, и ни одно из них нельзя упустить. В этом и заключается сущность нашей работы и наше призвание.
Мы вышли на улицу. Кампилли взял меня под руку, я понес альбом. Мы свернули вправо, на улицу Кондотти, где расположены самые красивые и дорогие магазины, которые расхваливал мой отец. Диалог наш продолжался.
Я:
— Но ведь и жизнь, и история, и опыт каждого из нас в отдельности доказывают, что люди прежде всего добиваются справедливости. Разве это ничему не учит?
Он, полушутя, полусерьезно:
— Нас — нет! Мы ничему не учимся, а если уж учимся, то перестаем верить в смысл своего существования, и тогда наше место занимают другие.
Сразу за углом пьяцца ди Спанья, Кампилли вошел в магазин мужской галантереи. Поздоровался с хозяином, видимо, своим постоянным поставщиком, и, обо всем со мной советуясь, выбрал несколько галстуков, два шарфа — один шелковый, другой шерстяной, пояс для брюк из крокодиловой кожи, коробочку с носовыми платками. Это были подарки для отца. Нагрузив меня ими, он взглянул на часы и сказал, что у него еще есть время, можно выпить кофе. Мы пошли вниз по улице Кондотти и свернули влево, во дворец Шара-Колонна, — там помещался клуб Кампилли, тот самый «Чирколо Романо», где мы встретились несколько дней назад. По большим плоским ступеням мы поднялись на второй этаж, а здесь вступили в прохладу и тишину знакомого уже мне большого зала — не то читальни, не то курительной, — где в тот раз мы пили кофе после обеда. Мы уселись в тех же самых великолепных удобных креслах, что и тогда. Нам сразу подали кофе. Я закурил.
— Я много думал о нашем последнем разговоре, — повторил Кампилли. — Не спорю, кое в чем ты, возможно, прав. Взглянув со стороны, ты замечаешь те аспекты, которых мы в силу привычки уже не замечаем. Но в то же время я опасаюсь, что ты не ухватил самого существа дела, главного смысла действий того великого механизма, с которым ты соприкоснулся. Он сам по себе является внушительной действительностью, превосходя все другие механизмы того же рода своей глубиной, чистотой и размахом мысли, многомерностью. Ибо знай, что, помимо всех иных земных и людских измерений, он учитывает еще одно: мистическое!
Тогда-то и зашел разговор об Анджее Згерском, брате синьоры Кампилли, убитом в 1917 году, и о том, что мне сказал Весневич: будто после моего визита к кардиналу Травиа шансы Згерского на ореол святости резко поднялись, а кандидатура епископа Гожелинского отпала. Пожалуй, я сам направил разговор по этому пути. В тот вечер я не придал особого значения информации Весневича. Только теперь, после слов Кампилли о разных измерениях, меня поразило одно обстоятельство. Если все так и происходило на самом деле, то почему один кандидат сменил другого, какое измерение принималось тут в расчет? Услышав мой вопрос, Кампилли беспокойно заерзал в кресле, но, несмотря на это, после паузы ответил:
— Не знаю, какое измерение. Нет, этого я не знаю. Однако тебя не должно удивлять, что у нас все принимается в расчет, что план на текущий день пересекается с планом, обращенным к бессмертию. Твердо известно одно: каждый из этих планов действует в своей области, хотя всюду и всегда учитывается весь комплекс, все измерения и все планы, ибо ведомство, о котором мы говорим, можно уподобить искусственному мозгу, решающему одновременно сотни уравнений.
— Но так или иначе, независимо от всех этих сложностей, — сказал я, — ваша жена должна была пережить безмерно волнующие минуты, когда узнала, что в курии переменилась точка зрения.
— Она привыкла, — ответил он. — Такие перемены происходят не в первый и, я полагаю, не в последний раз.
— Ах, вот как! — удивился я.
— Колебания! Колебания! — сказал Кампилли. — Если надо слишком много учитывать, то легко растеряться и трудно принять решение. Конечно, когда до нас дошла весть о происшедшей перемене, мы обрадовались, прежде всего жена, в особенности потому, что в той области, с которой связаны ее надежды, давно царил застой.
Я, как эхо, повторил вслед за ним:
— Застой!
— Да, застой, — сказал он, раздраженный тем, что я его прерываю, и забыв, что совсем недавно употребил это слово применительно к моему делу. — Следовательно, мы обрадовались, но тотчас поразмыслили и пришли к выводу: скромность и спокойствие, спокойствие и скромность.
После паузы он продолжал:
— Поскольку ты дружески к нам расположен, прими как должное наш вывод. Мне важно, чтобы ты зря не называл фамилию нашего мученика, не говорил о его возрастающих возможностях и уж ни в коем случае о том, будто Травиа симпатична именно такая кандидатура. В нашем деле надо ко всему подходить с тактом, соблюдая осторожность.
И вдруг переменил тему.
— А у тебя что? — спросил он. — Когда ты получишь документ в Роте?
— Сегодня или завтра, но самое главное: звонил отец!
Я изложил в общих чертах содержание нашего телефонного разговора и передал сообщение о канонике Ролле. Я сказал, что отец сперва звонил на виале Ватикано и только потом, услышав, что я там не живу, в пансионат «Ванда».
— О, боже мой! — вскричал Кампилли. — Как охотно я поговорил бы с ним. Какая жалость! Я ничего не знал! По приезде из Остии я даже не заглянул домой. И вот такая новость!
— А что вы думаете относительно известия, которое сообщил отец? — спросил я. — Пожалуй, оно хорошее? Вы помните, это тот самый каноник…
Он перебил меня:
— Конечно. Ты однажды уже рассказывал о нем и о том, какую роль он сыграл в жизни отца. Подожди. Я соберусь с мыслями. — Он потянулся к чашке с кофе. — Да, — заявил он наконец. — Сообщение, вероятно, достоверное. Скажу даже больше: правдоподобное.
— Что это значит?
— Достоверное, — пояснил Кампилли, — ибо я вспоминаю, что в последнее время о Ролле стали говорить как о преемнике покойного Гожелинского. А правдоподобное, поскольку имя покойного больше не пользуется здесь таким авторитетом, как вначале. Отсюда стремление к перемене.
— Курса? — спросил я.
— Или хотя бы стиля. Не знаю. У меня слишком мало данных, чтобы высказывать точное суждение.
Я:
— Во всяком случае, у этого человека есть обязательства по отношению к моему отцу.
Он:
— Прежде всего по отношению к церкви.
Я:
— Ну и старый долг благодарности.
Он:
— Не всегда можно об этом помнить, если подымаешься на столько ступеней выше.
Высказав эту истину, Кампилли улыбнулся.
— Ну, не будем каркать, — продолжал он. — Ты говоришь, что он человек добрый и рассудительный. Следовательно, у твоего отца одним шансом больше. Разумеется, уже в Торуни. После того как в Риме наконец примут решение.
— Лишь бы его в конце концов приняли! По временам меня одолевает страх, мне кажется, будто все, что теперь происходит, это только игра на промедление.
— Боишься, что уедешь ни с чем?
— Вот именно!
— Ах нет, невозможно. Это было бы слишком просто. Недостойно курии.
— Почему же все так затягивается?
— По многим причинам! Потому, что возникают новые точки зрения! Потому, что природа их разнообразна. А поэтому трудно прийти к окончательному выводу.
Он поглядел на часы. Удивился. Было больше двенадцати.
— К сожалению, мне уже пора, — сказал он. — Обними от всего сердца твоего отца. Можешь вполне откровенно ему рассказать о наших хлопотах, о наших победах и провалах, ничего от него не утаивай. Он все поймет. Ничего дурно не истолкует. Передай ему от меня подарки, которые мы вместе с тобой купили. Это безделушки. Но он как раз писал мне недавно, что у вас особенно не хватает красивых мелочей.
— В некотором смысле.
— А тебе ничего не нужно, дорогой мой мальчик?
— Абсолютно ничего. Спасибо.
— А деньги?
— Тоже не нужны. Вполне достаточно тех, что вы мне дали. Спасибо. И за чудесный альбом тоже большое спасибо. И за все! За все!
Но настоящее волнение охватило меня лишь после того, как мы спустились по лестнице во двор, где Кампилли в прошлую нашу встречу оставил машину, и я наконец перестал твердить, как попугай, о своей благодарности. Машины на этот раз не было. Она с утра ждала его в мастерской, куда он ее поставил для осмотра перед сегодняшней поездкой в Абруццы. Я проводил его до такси. Он уже закончил все дела. Оставалось только взять машину и заехать домой за слугой и чемоданами. Кампилли рассказал мне об этом, пока мы шли до ближайшей стоянки такси за углом. А на меня все время волна за волной накатывало задушевное, теплое чувство. Я вытирал со лба пот, он тоже. Я подумал о том, что из-за меня он задержался и теперь поедет в самую жару. Но я не смог найти слов, чтобы объяснить, как я ценю его доброту. Жестами я тоже ничего не мог выразить, так как руки у меня были заняты, и я старался, по крайней мере, улыбкой и взглядом передать то, что чувствую.
— Не вспоминайте обо мне дурно, — прошептал я.
— А ты о моей помощи, — попросил он.
— Да что вы, никогда! — вскричал я.
— Ну вот и хорошо, — ответил он.
Он снял очки. Сунул их в карман пиджака, где у него торчал платочек. Какое-то время мы с глубокой сердечностью глядели друг другу в глаза. И улыбались. Длилось все это недолго. Он торопился. У меня замлели руки. Кроме того, нужно было следить, чтобы публика на стоянке не перехватила такси, как обычно бывает в это время дня, да еще в центре.
XXX
Сегодня уезжаю. Вчера прощался с Кампилли и звонил в Роту. Документ не готов. Брожу по городу до семи, возвращаюсь в пансионат к ужину и снова ухожу. Это мой последний вечер в Риме. Мне дорог каждый час. Улицы и площади центра искрятся огнями. Жара не спадает. Почувствовав усталость, я захожу в кафе и заказываю апельсиновый или лимонный сок. Отдыхаю, но недолго, жаль терять время. Да мне и не сидится. Нервы взвинчены. По разным причинам, но прежде всего в связи с отъездом.
Секретарь монсиньора Риго посоветовал мне звонить с самого утра. Звоню. Никто не отзывается. Звоню четверть часа спустя. К телефону подходит служитель. Говорит, что секретарь поехал на вокзал проводить монсиньора Риго и вернется через полчаса. Раз так, я иду в столовую завтракать. Там полно. Рогульская уже ушла в амбулаторию, Козицкая — к Малинскому, Шумовский поторапливает группу англичанок, которые приехали позавчера и намереваются осматривать замки под Римом. Обмениваюсь с Шумовским несколькими фразами, как всегда, на одну и ту же тему — об «Аполлинаре». После моего возвращения из Ладзаретто вновь ожил его давний план — показать мне бывшую школу отца и стоящую с ней по соседству церковь. План так и не удалось осуществить: ведь Шумовский занят с утра до вечера.
— Так, может быть, завтра или еще лучше послезавтра, — утешает он себя.
— Я сегодня уезжаю, — напоминаю ему.
— Ах, правда! Вот она, моя жизнь в Риме! Ни одной свободной минутки для себя или для друзей.
— Во всяком случае, сердечно благодарю вас за доброе намерение.
Он не отвечает. Его внимание отвлекла от меня группа англичанок. Они разбредаются по пансионату в тот самый момент, когда надо садиться в автобус. Наконец во главе с Шумовским они исчезают. Я доедаю завтрак и еще раз пытаюсь соединиться с секретарем в Роте. Он уже вернулся. Приглашает меня к двенадцати.
— Значит, все в порядке? — спрашиваю я. — Документ будет?
Он на это:
— Жду вас между двенадцатью и половиной первого. Не позднее, потому что я заканчиваю работу.
Это не ответ на мой вопрос. То ли он его не расслышал, то ли в последний день у него нет времени для разговоров. Я кладу трубку, захожу в свою комнату, ставлю чемодан на стол и начинаю укладываться. Бумаги и книги вниз, альбом ватиканской архитектуры положу сверху: буду рассматривать его в дороге. В течение десяти минут очень старательно пакую вещи. И вдруг бросаю. Я не чувствую тревоги, у меня нет никаких сомнений относительно того, что дело улажено, но я не могу сидеть дома.
Девять часов. Сбегаю по лестнице и в маленьком баре на углу виа Авеццано и площади Вилла Фьорелли стоя выпиваю чашку кофе. За углом остановка. Я вижу, как приближается троллейбус. Расплачиваюсь, бегу и вскакиваю в вагон. Уложить вещи всегда успею. Вчера вечером, слоняясь по городу, я неожиданно заметил, что нахожусь в двух шагах от вокзала. Отправился туда, отыскал столик, за которым мы в последний раз сидели с Пиоланти, выпил еще одну порцию лимонада, а потом подошел к доске с железнодорожным расписанием и выбрал наиболее удобные для меня поезда. Теперь, в троллейбусе, я заглянул в календарик, куда все записываю. Один поезд уходит в час, на этот мне не поспеть. Следующие в четверть третьего, в три, в половине четвертого. Все они идут по маршруту, для которого мой билет действителен. Я составил список расположенных на этой трассе городов, которые мне хотелось посетить. Рассматриваю теперь мой список и радуюсь. Названий много, и поездов много. Есть из чего выбрать! От всего, вместе взятого, у меня возникает ощущение, будто я преодолел сопротивление пространства и наконец наслаждаюсь полной свободой. Наглядевшись на свои записи, я прячу календарик и смотрю в окно. Троллейбус как раз сворачивает на корсо дель Ринашименто, на площадь перед зданием бывшей школы моего отца и церковью святого Аполлинаре. Мы проезжаем мимо. На ближайшей остановке я схожу.
Сперва заглядываю в церковь, оттуда веет холодом. Я сажусь на скамейку. Мерцает лампадка перед алтарем, под которым, по мнению Шумовского, покоятся останки святых армян. У этого алтаря молился мой отец, трепеща от страха перед приближающейся examinum sessio[53]. Академический год начинался торжественной мессой в этой церкви. Отец не раз мне ее описывал. Теперь в церкви пусто и темно, стены, обезображены украшениями в стиле барокко. Я встаю и выхожу на площадь перед церковью, чтобы посмотреть оттуда на ее фасад, которым так восторгался отец. Линии тяжелые и строгие, но очень красивые. Большое сходство с фасадом самого «Аполлинаре». Я долго рассматриваю здание, потом иду к воротам, ведущим во двор, и, так же как в первый вечер моего приезда в Рим, опираюсь руками на решетку и любуюсь фонтаном, — теперь, как и во времена отца, кажется, будто вот-вот иссякнут последние запасы его воды. Кроме фонтана, кроме его анемично стекающей струи, двор мертв, ничто там не шелохнется. Я делаю один шаг и читаю надпись на прибитой сбоку табличке, заменившей прежнюю — с названием юридической школы «Аполлинаре», ныне присоединенной к латеранскому атенеуму. Новая табличка безупречно позолочена и ярко сверкает. Отец, наверно, нашел бы, что она не подходит к потускневшему от времени фасаду. В особенности потому, что это табличка рядового лицея.
Я еще раз обхожу площадь. За углом маленькая книжная лавка «Libreria S. Apollinare». И о ней я тоже слышал от отца. Здесь студенты «Аполлинаре» приобретали учебники и печатные лекции. К концу года они продавали одни книги, покупали другие, а в течение года, случалось, и закладывали их. Маленькая, заставленная книгами витрина манит меня. Я пробегаю глазами названия. Хотя бывшая юридическая школа переехала далеко отсюда, книжная лавка не изменила своего характера. На выставке по-прежнему полно книг, посвященных исследованию utriusque juris[54], гагиографии[55], истории церкви и вспомогательным дисциплинам. Некоторые труды я знаю — не потому, что изучал их, просто они попадались мне в библиотеке отца. Во время войны она сильно поредела. В ней образовались серьезные пробелы, отец часто на это жаловался. Перед отъездом я не составил списка недостающих книг, так как не рассчитывал, что у меня окажутся свободные деньги в Риме. А между тем как раз теперь я мог бы кое-что купить для отца. Вспоминаю, что у него даже нет полного комплекта «Sacrae Romanae Rotae Decisiones seu Sententiae»[56]. Я не запомнил, каких именно выпусков недостает, однако последних, изданных после войны, у него, наверное, нет. Я вхожу в лавку, чтобы спросить о них. Книготорговец, очень старый, медлительный и глуховатый, дает мне четыре тома, самые последние. Они стоят дорого, я довольно долго в задумчивости разглядываю их. Вдруг старый книготорговец говорит:
— Lei, signor dottore, non mi sembra straniero!
В переводе это значит, что я не кажусь ему иностранцем. Отвечаю, что я все-таки иностранец. Тогда он говорит, что я его не понял. Дело в том, что мое лицо кажется ему знакомым.
— Давно у вас эта книжная лавка? — спрашиваю я.
— Она мне досталась в наследство от отца, погибшего во время первой мировой войны.
— А мой отец учился в «Аполлинаре», — говорю. — Наверное, он покупал у вас книги.
— Un Polacco?
— Bravo! Что за память! — восхищаюсь я.
Мой восторг трогает его. Разговор оживляется. Старый книготорговец вспоминает минувшие годы и сокрушается, что многое изменилось с тех пор, как он лишился столь ценного для него соседства «Аполлинаре». Все это время я перебираю лежащие на прилавке тома «Decisiones seu Sententiae». Перекладываю их, откладываю, никак не могу решить, сколько на них потратить.
— Вы берете их для отца? — спрашивает книготорговец.
— Для отца.
— А как ему живется?
— Да так, не слишком, — говорю я.
Книготорговец отворачивается и слабыми старческими руками тянется к полке. Кладет передо мной четыре тома, как раз те, которые мне нужны, только в переплете. Я возражаю. Но оказывается, что переплетенные стоят дешевле — они подержанные. Разница в цене значительная. От радости я покупаю все четыре тома. Старичок принимается их паковать. Процедура для него тяжелая и длится долго, а я тем временем разглядываю книги на полках. Название одной из них вызывает у меня интерес: «Santa Caterina d’Alessandria nella legenda e nell’arte»[57]. Беру книгу, перелистываю: полно иллюстраций. У меня бешено колотится сердце: ведь это и есть та самая святая, сопокровительница Роты, чей портрет я безуспешно искал на старинных печатях в Ватиканской библиотеке. Среди иллюстраций попадаются репродукции картин Ван-Эйка, Мемлинга, Корреджо и снимки церквей, построенных в честь этой мученицы. Она жила в четвертом веке, но ее чудесную историю прославили лишь крестоносцы.
Листаю первые страницы книги, самые ранние иконографические материалы, — и замираю. Есть! Есть печать! Фотография замечательная. Эмблема в центре печати сохранилась великолепно. Читаю пояснения под иллюстрацией. Печать заимствована из ватиканских коллекций. Документ, который она сопровождает, относится к авиньонской эпохе. Это приговор Роты. На эмблеме изображены оба патрона Роты: Катерина и Августин. Одной рукой они поддерживают миниатюрную скамью, очевидно, судейскую, а другой рукой на нее указывают. Скамья в форме круга. Сцена, изображенная на эмблеме, может иметь только один смысл. Круглая скамья — символ трибунала, который в ту эпоху стали называть трибуналом Роты, то есть как бы трибуналом круга или диска, ибо таково значение слова рота и в классической и в средневековой латыни. Значит, подтверждается моя догадка, родившаяся во Вроцлаве, где я напал на адресованное тамошней курии послание Испанской Роты — довольно позднее, с поврежденной печатью. Я обрадовался, но радость моя тут же остыла. Я не мог считать свою гипотезу документально обоснованной, для этого недостаточно было прекрасной второй печати, которую я теперь разглядывал. С методологической, научной стороны, система доказательств была слишком шаткой. Я разозлился. Тот факт, что новая печать подкрепляла мою версию, только раздражал меня. Ибо много ли толку было мне как научному работнику от собственной уверенности, если я ничем не мог обосновать ее? Все мои прежние притязания были теперь бессмысленны. Я так разволновался, что весь вспотел. Я взял книгу и присоединил ее к уже запакованным томам. Я понимал, что любой человек, интересующийся историей Роты, вернее, происхождением ее загадочного названия, взглянув на снимок, который я только что рассматривал, задумается над ним и сможет пойти дальше по тому пути, откуда меня столкнули. Таким образом, я купил себе книгу вовсе не для того, чтобы завершить свой труд, а сам не знаю зачем. Разве что как доказательство нелепости того, что произошло со мной, и моей обиды. Я снова вытер свое вспотевшее лицо.
— Какая жара, — сказал я.
— Что поделаешь, близится самый разгар лета, — заметил книготорговец. — Теперь пора покинуть Рим.
— Правильно, — сказал я.
— И я тоже закрываю магазин. Мои покупатели разъезжаются.
Мы попрощались. Я вышел на улицу. Меня обдало жаром. Зной плывет с неба. Лучи солнца режут глаза. Я посмотрел на часы. Еще целый час! Я провел его в баре напротив дворца Канчеллерия. В том самом баре, где несколько дней назад я пил кофе, а Весневич вызывал по телефону кузину Сандры. Я выбрал самый дальний угол. Здесь было душно. Тогда я перебрался на свежий воздух, сел за столик на тротуаре, под сенью оранжевого тента. Но солнце проникает и сквозь него. Чтобы убить время, я распаковываю купленную мною монографию. Читать неудобно, а тем более рассматривать иллюстрации. От блестящей меловой бумаги, на которой они напечатаны, лучи отражаются, как от зеркала.
Наконец бьют большие часы на церковной башне возле дворца. Они приносят мне освобождение. Двенадцать. Я могу уже идти в Роту. Расплачиваюсь. Пересекаю площадь. По лестнице поднимаюсь медленно, не от жары и не потому, что мне трудно дышать, а просто от волнения. Вот и эбеновые полированные двери. Медная начищенная ручка. Служитель. Столик перед ним пуст. Исчезла кипа печатных изданий, и служителю не надо вкладывать их в большие конверты. Он уже закончил свои обязанности! Я справляюсь о секретаре. Служитель молча отводит руку назад, показывая, куда идти. Впрочем, мне не нужно объяснять. Я знаю, в какой коридор следует пройти, а что касается комнаты, так я тоже хорошо помню: первая налево. Стучу. Вхожу. Секретарь, молодой невысокий священник, на мгновение впивается в меня близорукими глазами за сильными стеклами. Узнает меня. Стол перед ним тоже чисто прибран. Никаких папок. Только какое-то письмо, священник его дописывает. Сбоку, на блестящей доске стола, — конверт. Рядом свеча, палочка сургуча, спички. Священник отрывается от письма. Берет конверт. Вручает мне. Я держу его, и рука у меня слегка дрожит.
— Можно прочесть? — спрашиваю.
— Я жду этого, чтобы запечатать письмо, — отвечает священник.
Конверт большой, твердый, адрес напечатан на машинке. В левом углу большими буквами проштамповано полное название Роты. Священник указывает мне рукой на стул. Но я стоя извлекаю из конверта документ. Прочитываю его раз, другой. Я задыхаюсь, крепко зажмуриваю глаза и только тогда сажусь. В документе все правильно: имя отца, фамилия, даты. Только не совпадает название епархии, которую Рота подтверждает как местожительство отца.
— Произошла ошибка, — говорю я.
Священник смотрит на меня. Я на него. Глаза у священника из-за толщины стекол огромные, деформированные. Взгляд рассеянный. Я настойчиво твержу свое. Он глядит на меня. Не отвечает. Я упрямо еще раз повторяю те же два слова. Но я уже догадываюсь, что говорить об искажении в тексте наивно. И, несмотря на это, почти кричу:
— Не «dioecesis tarnoviensis», а «dioecesis toruniensis»! Ведь мой отец живет не в Тарнове, а в Торуни. В документе ошибка!
Подношу бумагу к самым глазам секретаря. Но он не обращает на это внимания либо не хочет лицемерить. Я так взволнован, что меня всего трясет. Дрожат колени, а я положил на них конверт. Он падает на пол. Священник встает, нагибается, поднимает конверт, кладет на стол.
— Вы знакомы с моим делом? — спрашиваю я.
— Полагаю, что да.
— Тогда вам должно быть понятно, что означает изменение в тексте. Оно означает, что отцу дают возможность работать по специальности, но предлагают убраться из своего города. Почему с ним так поступают? За что?
Священник по-прежнему молча выжидал. В силу привычки или из человеколюбия. Я чувствовал, что терпение его неистощимо, и вместе с тем я понимал, что торчать здесь и что-то ему объяснять бессмысленно. Теперь ничего уже нельзя изменить. Итог подведен. Я протянул руку за письмом, которое формально признавало права моего отца, но только формально и не полностью, ибо открывало не ту дверь, которую раньше несправедливо перед ним захлопнули, а совершенно другую. Увидев документ в моих руках, священник решил, что я наконец справился с собой и примирился с фактом, но все-таки он спросил:
— Итак, я могу рассчитывать, что вы отдадите письмо своему отцу?
— А что же еще мне с ним делать?
— В таком случае верните мне его на минутку. Я должен его запечатать.
Я протягиваю ему документ. Священник открывает ящик стола и достает оттуда печать. Зажигает свечу. Разогревает сургуч. Я молчу. Чувствую себя скверно. А в голове настойчиво вертится один и тот же вопрос: за что, почему? Один вопрос, а может быть, два, поскольку казус отца — это одно, а причины, побудившие курию принять свое решение, — нечто иное. Наконец печать готова. Современная, из одних литер, без фигур. Кладу письмо в карман. Мы со священником кланяемся друг другу. Я выхожу. Спускаюсь по лестнице шаг за шагом, медленно, медленно. Вдруг голова у меня так кружится, что я останавливаюсь и прислоняюсь к стене. Минутку отдыхаю. Спускаюсь ниже. Снова кружится голова. К счастью, я нахожусь на втором этаже с широкой балюстрадой и колоннами, к ним можно удобно прислониться, а кроме того, они загораживают меня и со стороны лестницы, и со стороны двора. Впрочем, опасаться, будто меня увидят, нелепо. Во дворе совершенно пусто. Так же, как и на лестнице. Так же, как и во всем дворце Канчеллерия. Так же, как и на вилле четы Кампилли. Так же, как в здании Грегорианы. Нигде никого, ни живой души: ни спросить, ни попросить, ни поговорить нельзя. Во всех канцеляриях такая же чистота и порядок, как и на том столе, наверху, с которого теперь исчезли последние бумажки, поскольку со мной покончено.
Голова моя не перестает кружиться. Но в преследующем меня хаосе я внезапно вижу причины, по которым принято данное, а не иное решение. Причины все множатся, сталкиваются друг с другом. Одни — мистического порядка, другие — чисто земные. Одни затрагивают большие проблемы, другие — мелочные. Среди них немало и таких, которые связаны лично со мною, потому что я водил дружбу с отстраненным от дел Малинским или с неблагонадежным Пиоланти. От жары смятение в моих мыслях усиливается. Стараюсь прийти в себя. Положить предел догадкам и подозрительности. Отбросить все неправдоподобное и пустое. В конце концов доводы и мотивы, которые курия могла принять во внимание, вихрем проносятся передо мной, движутся по кругу, обретя зримые формы, вращаются, распятые на крыльях гигантского пюпитра, и в определенный момент меняют очертания; теперь они кружатся в пестрых, разноцветных лодках карусели. Взгляды и точки зрения олицетворяют люди, живые и умершие, занимающие важный пост либо собирающиеся занять его. Среди них нет только одного человека, ни на одном крыле, ни в одной лодке я не вижу моего отца. Вероятно, потому, что в этом ведомстве соображения, связанные с личностью моего отца, не сыграли никакой роли в его собственном деле.
Мало-помалу я все-таки прихожу в себя. В последний раз пересекаю площадь перед дворцом Канчеллерия. Снова бар. Снова кофе. Обязательное такси. Опускаю стекло. Струя воздуха, хоть и теплого, освежает меня, действуя, как вентилятор. Подъезжаю к пансионату уже с просветлевшей головой. Скоро час. Я еще поспею на поезд в два пятнадцать. От обеда отказываюсь. Я не в состоянии ничего проглотить. Разворачиваю пакет с книгами. Все кладу теперь на дно чемодана. Монография о святой Катерине выскальзывает у меня из рук. Я поднимаю ее с пола и тоже запихиваю вниз. Вещи укладываю спокойно. Уже с более ясной головой подвожу итог событиям за месяц пребывания в Риме. Я приехал сюда прежде всего ради отца, а попутно и ради себя. Я не добился ничего. Не решил научной проблемы, которую, как мне кажется, вскоре решат и без моего участия. Отец мой не будет исполнять в Тарнове те самые обязанности, которые ему не дозволено исполнять в Торуни. Не думаю, чтобы при сложившихся обстоятельствах, и особенно в его возрасте, он решился бы покинуть свой город. Вот итог достижений в этом порочном круге!
Наконец чемодан уложен. В пансионате нет никого, кроме Рогульской. Мы прощаемся в ее комнате. Пожилая дама с благородным профилем и большими мрачными глазами — когда-то она, вероятно, была красива — протягивает мне бескровные тонкие пальцы. Силуэт ее вырисовывается на фоне стены, сплошь увешанной фотографиями города, покинутого ею двадцать лет назад. Снимки эти — ее музей. Она взволнована тем, что я уезжаю в Польшу, и держится несколько патетически. Просит, чтобы я «передал привет нашим общим знакомым и поклонился незнакомой родине». Целую ей руки и еще раз благодарю. Все вместе отнимает у меня немного больше времени, чем я предполагал. Но все-таки мне удается поспеть к поезду. Чемодан кидаю в сетку, встаю у открытого окна — и в конце концов пускаюсь в обратный путь. Невзирая ни на что, я, как и решил, разобью этот путь на этапы. И, значит, еще сегодня побываю в Орвьето, переночую в Орсино, завтра с утра осмотрю город, пошлю открытку Пиоланти, письмо отцу, а в двенадцать двинусь дальше.
Примечания
1
Делегатура — конспиративное представительство реакционного эмигрантского правительства на территории Польши.
(обратно)2
«Милосердие» (лат.). Здесь название благотворительной католической организации.
(обратно)3
Эвакуационная команда (нем.).
(обратно)4
Подрывная команда (нем.).
(обратно)5
Войдите (франц.).
(обратно)6
Сообщение, уведомление (франц.).
(обратно)7
Привет, старина (франц.).
(обратно)8
Способ сосуществования (лат.).
(обратно)9
Хитро и осторожно (лат.).
(обратно)10
Не правда ли (франц.).
(обратно)11
Включая (лат.).
(обратно)12
Слушайте хорошенько! (франц.)
(обратно)13
Заметьте (лат.).
(обратно)14
Взвешено, сосчитано, измерено.
(обратно)15
Название картинной галереи в Варшаве.
(обратно)16
Не пробита? (нем.)
(обратно)17
Член польской молодежной организации «Служу Польше».
(обратно)18
Садовое строение типа беседки (итал.).
(обратно)19
Западный ветер (итал.).
(обратно)20
Дворец в Риме, до начала XIV века служивший резиденцией пап.
(обратно)21
Лицей (итал.).
(обратно)22
Академия, университет (итал.).
(обратно)23
«Сан Аполлинаре», «Сан Аполлинаре», чем больше учишься, тем меньше узнаешь! (итал.)
(обратно)24
Профессорши нет, профессора тоже нет! (итал.)
(обратно)25
Горничная (итал.).
(обратно)26
Иностранец (итал.).
(обратно)27
Докладная записка, вручаемая вышестоящим властям.
(обратно)28
Замок святого Ангела (итал.).
(обратно)29
Холмик у стены Ватикана (итал.).
(обратно)30
Проф. Маркантонио Кампилли. Адвокат священной консистории (итал.).
(обратно)31
Синьор адвокат ушел (итал.).
(обратно)32
Обоих прав (лат.) — гражданского и церковного.
(обратно)33
Вас зовут к телефону (итал.).
(обратно)34
Кто просит? (итал.)
(обратно)35
От адвоката Кампилли (итал.).
(обратно)36
«Сборник папских булл», «Материалы и документы по церковному праву», «Решения и приговоры» (лат.).
(обратно)37
Папский суд (итал.).
(обратно)38
Весточка, послание (итал.).
(обратно)39
«Мученичество Андрея Згерского» (итал.).
(обратно)40
Широкая улица, проспект (итал.).
(обратно)41
«Священная Рота» (итал.).
(обратно)42
Войдите! (итал.)
(обратно)43
Частное право (лат.).
(обратно)44
Объявление недействительным какого-либо акта, договора или прав.
(обратно)45
Освобождение от соблюдения некоторых правил или постановлений.
(обратно)46
В римско-католической церкви церковная должность, связанная с определенными доходами.
(обратно)47
В архив (лат.).
(обратно)48
Княжеская (итал.).
(обратно)49
Мой маленький приход (итал.).
(обратно)50
Можно печатать (лат.).
(обратно)51
Есть еще для вас письмо (итал.).
(обратно)52
Торуньская (лат.).
(обратно)53
Экзаменационная сессия (лат.).
(обратно)54
Обоих прав (лат.) — гражданского и церковного.
(обратно)55
Описание священных предметов.
(обратно)56
«Решения и приговоры Священной Римской Роты» (лат.).
(обратно)57
«Святая Катерина Александрийская в легенде и в искусстве» (итал.).
(обратно)
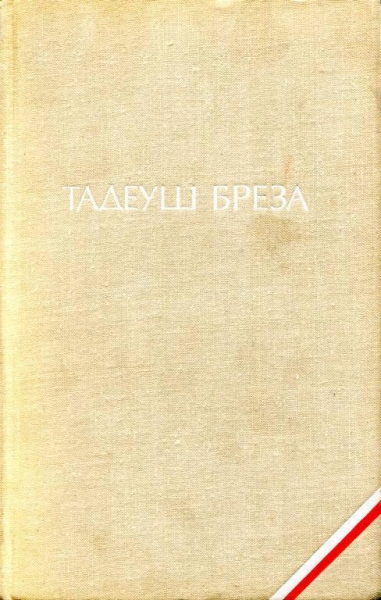

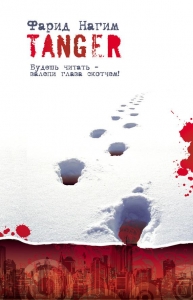
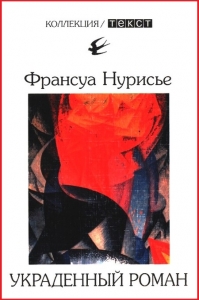

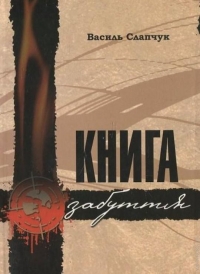

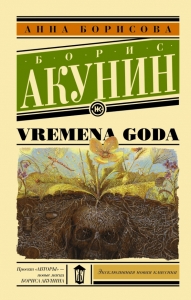


Комментарии к книге «Валтасаров пир. Лабиринт», Тадеуш Бреза
Всего 0 комментариев